Артур Мейчен - Тайная слава
Метью Филипс Шил. Артур Мейчен (перевод Н. Новичковой)
Из всех известных мне ныне живущих людей ни о ком я не размышляю больше и глубже, чем о подлинном художнике, каковым является Артур Мейчен; под этим именем я подразумеваю певца истины, заключенной в том, что мир безудержен, неистов и заслуживает душевного волнения, истины, которую в скрытности своей он прячет от нас, чтобы, пребывая во мраке неведения, мы не могли понять его внутреннюю суть.
Эта «перевернутая Чаша», в коей мы все «закупорены», — вовсе и не чаша; звезды не крохотны, а Луна отнюдь не глупый сыр — то полная, то ущербная, уныло плывущая в истине, и скорость ее столь же безумна, сколь и она сама; дерево внутри — это Уолл-стрит, истоптанная тысячами спешащих ног; разглядывая лепесток через микроскоп, мы обнаруживаем колонны грузовиков — отпечатки шин и пыль бесчисленных путей-дорог, мир вокруг ублажает слух соловьиными трелями, плачет навзрыд подобно скрипкам, и мы чувствует единение с Плеядами, пронизывающими пространство светом, взрывами солнц, видим, как сталкиваются звезды в суете и дыме, и луны подвергаются «разрушительному сближению», бросаясь в лоно огненной западни; пока я пишу, радиоволны беспорядочно проносятся сквозь мои руку и сердце, я не вижу их, но чувствую, и, о жалкий я человек, кто спасет меня от этого проникающего осквернения?
Все погребено в секретности! — за исключением, разве что, метеоритов, стремительных всполохов пламени, которые расшвыривает в своем полете величавая планета, которые лишь слегка приоткрывают суть вещей, насмехаясь надо мной в своем огненном танце. Но даже об этом я не ведал и половины известного им, и как скучен должен быть я, если ученый не повысил голос, дабы поведать мне: «Вселенная есть хаос! Хаос!» — восклицательный знак здесь мой.
Он не располагает временем, он слишком занят наблюдением, чтобы прислушиваться к чувствам, и именно в эту минуту я получаю неожиданную помощь — художник слышал, что сказал ученый, у него достаточно времени, чтобы восхищаться, чтобы объяснить мне намеками: «Это не мрак! Я кое-что знаю, Я знаю, где скрыта истина!» А когда кто-то спросит его: «И это все?», он, подмигнув, ответит: «Вполне достаточно; даю вам подсказку: глаз не увидит — сердце не почувствует; мелодия колокольного звона терзает душу гремит раскатами; волшебная! хмельная! Сказано довольно». Но что это — истина? Выдумка? Если это фантазия, то возникшая отнюдь не из простого любопытства или важности; ученый произносит «да, факт», и художник, заливаясь слезами, призывает Бога в свидетели.
Научная сторона искусства, однако, не оценена Мейченом, полагающим, что искусство предшествовало науке, что «поэзии не место рядом с научными истинами»; Мейчен и правда не понимал, что такое наука, считал факт «А любит Б» научным, а потому и не знал, что наука — мать искусства, или, скорее всего, знал, но не осознавал, что знает. «Искусство, — говорит он, — восхитительно; но перед тем, как восхищаться чем-либо, необходимо быть осведомленным, надо хоть что-то знать из мирового порядка вещей; ибо, зная больше, большим восхищаешься. Впрочем, Мейчен представляет собой тип эрудированного художника, милтоновский тип, с мышлением, основанным на таком свойстве, как память, но ни в коем случае не тип ученого художника, настроенного только на восприятие (каковым был, например, Гёте), который стремится переправить все, созданное предшественниками — Уэллсом, Верном и другими, бывшими всего лишь тенями до его прихода. Но именно из-за своей эрудированности Мейчен предстает перед нами цитирующим заметки Россетти с одобрением: „Меня не волнует, вращается ли земля вокруг солнца“ — это первая фраза, которую произнесла бы корова, если бы имела дар речи. Главная мысль Мейчена заключена во фразе: „Прекрасно золото той земли“ — и это вовсе не „поэтическая вольность“, а отсутствие осторожности, бдительности и недоверия, коими только наука наделяет разум.
Тема Мейчена — это тема художника, заключающаяся в том, что „мир есть хаос и требует эмоционального восприятия“, но он допускает некоторые совершенно неожиданные исключения из этого восприятия, утверждая, что высокое искусство должно не оплакивать или высмеивать Вселенную, а лишь вздыхать по ней. Он различает „чувства“ и „ощущения“, хотя, конечно же, в физиологии такого различия нет: чувства и есть ощущения. Если кто-то отправляет женщине телеграмму о смерти ее мужа, и безутешная вдова не может сдержать слез, то это, восклицает он, художественная литература? Да ведь такое рыдание во Вселенной зависит только от веры женщины в то, что ее муж действительно умер! А если я смогу заставить ее рыдать над выдумкой, скажем, о Гекторе, чьем-то чужом муже, в существование которого она не верит, насколько же велик будет мой подвиг и художественная моя „литература“?!
Однако Мейчен полон „убеждений“, предубеждений, гиперчувствительности, подходящих скорее тому жирному доктору Джонсону, что суеверно ударяет „на удачу“ элегантной тростью каждую рельсу всех железных дорог, встречающихся на его пути. Половину мира он отринул, другую страстно прижимает к сердцу: благосклонность его — всего лишь фаворитизм, ненависть — лишь предрассудок; и невозможно предугадать, что он вознесет, а что освистает. И он никогда не изменится: скорее горы сойдут в море. Многие люди, поймав себя на том, что думают так же, как шесть лет назад, просто покончили бы с собой; Мейчен же слишком восхитителен, чтобы меняться. И любит поспорить, идя по стопам Сократа: его великолепные аргументы под давлением современной логики лопаются подобно мыльным пузырям, как, впрочем, и прекрасные доводы создателя майевтики; на самом деле, в своем настрое души и устройстве ума он намного ближе к Платону
Мейчен уверенно заявляет, что „литература — это выражение догматов католической Церкви“, и кто-то может на мгновение предположить, что именно это и имеется в виду; но не тут-то было: писатель имеет в виду нечто совершенное, нечто истинное, а совсем не то, что произносит вслух. В своей „Иероглифике“ он говорит: „Рационализм заявит: либо приведите конкретную причину для чего посещать мессу, либо нечего ее посещать. Предпосылка такова: ничего не следует делать без определенной причины — ни наслаждаться „Одиссеей“, ни восхищаться гравировкой ножа. Тем не менее признается правомерным мое утверждение, что мне нравятся эти вещи. Вот я и доказал противоречие предпосылки: коль скоро допускается, что человеку могут нравиться вещи, но он не способен привести этому никакой определенной причины, ergo, нельзя недооценивать призывный глас церковного колокола“.
Фрагмент жизни (перевод В. Бернацкой)
A Fragment of Life
Перевод осуществлен по: Machen A. The House of Souls. New York, 1923.
Повесть
Перевод с английского В. Бернацкой
Во сне Эдварду Дарнеллу снился древний лес и родник с прозрачной водой; сероватая дымка пара вилась над источником в плывущем мерцающем зное. Открыв глаза, он увидел, что яркие лучи солнца заливают комнату, играя на полировке новой мебели. Место жены в постели рядом пустовало. Эдвард поднялся, все еще находясь в изумлении от сна, и принялся торопливо одеваться: он встал позже обычного, а нужный омнибус останавливался на углу ровно в 9.15. Несмотря на монотонную деятельность в Сити[1], подсчет купонов и прочую нудную работу, которая длилась уже десять лет, в этом высоком темноволосом мужчине с черными глазами все еще оставалось что-то природное, диковатое, словно он действительно родился в первозданном лесу и видел источники, бьющие из заросших мхом скал.
Завтрак был накрыт на первом этаже, в задней комнате со стеклянными, выходящими в сад дверями; перед тем как сесть за стол и воздать честь поджаренному бекону, Эдвард с чувством поцеловал жену. У его жены были каштановые волосы и карие глаза, и хотя лицо ее обычно сохраняло серьезное и спокойное выражение, можно было представить, как она ожидает мужа под вековыми деревьями в древнем лесу или плещется в воде, скопившейся в углублении меж скал. У них было время поговорить за кофе и когда Эдвард ел бекон и яйцо, которое принесла ему глуповатая служанка с выпученными глазами на землистом лице. Супруги были женаты уже год и прекрасно ладили; редко когда проводили они больше часа в молчании, а последние две недели вообще только и делали, что обсуждали подарок тетушки Мэриан. Миссис Дарнелл была в девичестве мисс Мери Рейнольдс, дочерью аукциониста и торговца недвижимостью из Ноттииг-Хилла, а тетя Мэриан была сестрой ее матери, которая, по мнению семьи, поступила неразумно, выйдя замуж за мелкого торговца углем из Тернем-Грина. Мэриан не простила родным их отношения к ее замужеству; что же касается Рейнольдсов, то они со временем пожалели о некоторых своих опрометчивых словах и поступках, потому что пресловутый торговец накопил деньжат и приобрел земельные участки под застройку в окрестностях Кроуч-Энда — к большой для себя выгоде, как выяснилось со временем. Никому и в голову не могло прийти, что Никсон может так многого добиться, однако они с женой давно уже жили в красивом доме в Барнете, с эркерами, живой изгородью и огороженным пастбищем; оба семейства мало общались между собой: ведь мистер Рейнольдс не очень-то преуспел. Конечно, тетю Мэриан и ее мужа пригласили на свадьбу Мери, но они не приехали, прислав извинения и сопроводив их подарком — изящным комплектом серебряных ложек. Все шло к тому, что ничего другого за этим не последует. Однако ко дню рождения Мери тетя прислала ласковое письмо, вложив в него чек на сто фунтов от "Роберта" и себя, и с этого времени чета Дарнеллов не переставала обсуждать, как лучше этими деньгами распорядиться. Миссис Дарнелл хотела было вложить всю сумму в государственные ценные бумаги, но Дарнелл напомнил жене, что там платят смехотворно низкие проценты, и после довольно долгих уговоров убедил-таки ее поместить девяносто фунтов в другое надежное место, где давали пять процентов годовых. Это было неплохо, но оставались еще десять фунтов, которые по настоянию миссис Дарнелл никуда не вложили и которые жгли им руки, пробуждая разные мечты и вызывая бесконечные споры.
Поначалу Дарнелл предложил обставить наконец "пустую комнату". Спален в доме было четыре: супружеская спальня, маленькая комнатка для служанки и еще две, выходящие окнами в сад, в одной нз которых хранились пустые коробки, обрывки веревок, разрозненные номера журналов "Тихие деньки" и "Воскресные вечера", а также поношенные костюмы самого Дарнелла, которые аккуратно свертывали и хранили здесь, не зная, что еще можно с ними сделать. Последняя же спальня была совершенно пуста; но однажды, когда Дарнелл возвращался домой на омнибусе, мысленно пытаясь разрешить трудный вопрос: что же все-таки делать с десятью фунтами? — перед его внутренним взором вдруг предстала эта комната, и Дарнеллу пришла в голову мысль, что теперь, благодаря тете Мэриан, ее можно обставить. Весь оставшийся путь он не без удовольствия думал об этом, но дома ни слова не сказал жене, считая, что мысль должна вызреть. Сославшись на неотложное дело, он снова покинул дом, пообещав миссис Дарнелл прийти к чаю точно в половине шестого; что касается Мери, то она вовсе не возражала побыть дома одна: ей предстояло навести порядок в семенной бухгалтерии и в хозяйственных записях. Дарнеллу же, преисполненному благих намерений привести в порядок пустую комнату, хотелось посоветоваться с другом Уилсоном, жившим в Фулеме и часто дававшим ему разумные советы, как лучше распорядиться деньгами. Уилсон был связан с торговой фирмой "Бордо", и Дарнелл волновался: вдруг тот не окажется дома?
Все, однако, сложилось как нельзя лучше. Дарнелл сел в трамвай, идущий по Голдхок-Роуд; сойдя с трамвая, прошел оставшийся путь пешком и был очень рад, увидев Уилсона, который копался в цветочных клумбах перед своим домом.
— Давненько тебя не видел, — приветливо встретил он Дарнелла, уже положившего руку на калитку. — Заходи. — И видя, что Дарнелл тщетно возится с ручкой, прибавил: — Прости, запамятовал. У тебя ничего не получится. Я должен объяснить.
Стоял жаркий июньский день. Уилсон был одет в то, во что поспешно переоделся, вернувшись из Сити. На нем была соломенная шляпа с пагри[2], защищающим шею от солнца, свободная куртка с поясом и спортивные штаны из пестрой ткани.
— Вот посмотри, — сказал он, впуская Дарнелла, — видишь это хитрое приспособление? Ручку совсем не надо поворачивать. Просто толкни посильнее, а потом тяни на себя. Я это сам придумал и хочу запатентовать. Такая штука спасает от нежелательных гостей, а это немаловажная вещь, когда живешь на окраине. Теперь я не боюсь оставлять миссис Уилсон дома одну. Ты даже не можешь представить себе, как ей докучали.
— Ну, а как насчет остальных? — спросил Дарнелл. — Как они к тебе попадают?
— Знают этот трюк. Кроме того, — прибавил Уилсон несколько нерешительно, — кто-нибудь из нас всегда поглядывает в окно. Миссис Уилсон — та почти всегда торчит у окна. Сейчас ее нет дома — пошла навестить каких-то друзей. Вроде у Беннетов приемный день. Ведь сегодня первая суббота месяца, так? Ты, конечно, знаешь Дж. У. Беннета? Он член парламента; преуспевает в датах. Однажды он мне очень помог.
— Скажи, — продолжал Уилсон, когда они шли к дому, — зачем ты облачился в эту черную одежду? По всему видно, что ты здорово взмок. Посмотри на меня. Хоть я и работаю в саду, но чувствую себя превосходно. Думаю, ты просто не догадываешься, где можно купить такие вещи? Это мало кому известно. Где, как ты думаешь?
— Наверное, в Уэст-Энде[3], — ответил Дарнелл, желая быть вежливым.
— Так ответит каждый. И это хороший ответ. Но тебе я скажу правду — только никому больше не говори. Меня надоумил Джеймсон — ты его знаешь, он еще продает китайские товары на Истбрук, 39, — так вот он говорит, что не хотел бы, чтобы кто-то еще знал об этом в Сити. Захочешь купить что-нибудь в этом роде, поезжай к Дженнингсу на Оулд-Уолл, сошлись на меня, и все будет в порядке. А сколько, по-твоему, стоит такая одежда?
— Понятия не имею, — ответил Дарнелл, никогда не покупавший себе ничего подобного.
— А ты догадайся!
Дарнелл внимательно осмотрел Уилсона.
Куртка сидела мешковато, брюки некрасиво пузырились на коленях, а в тех местах, где они обтягивали тело, ткань выцвела и поблекла.
— Думаю, не меньше трех фунтов, — ответил он наконец.
— На днях я задал тот же вопрос Денчу, когда он зашел к нам. Он назвал четыре фунта десять шиллингов, а ведь его отец работает в крупной фирме на Кондуит-стрит. Признаюсь, я заплатил всего тридцать пять шиллингов шесть пенсов. Ты спросишь, сделан ли этот костюм на заказ? Конечно. Это сразу понятно, стоит только взглянуть на крой.
Дарнелла поразила такая низкая цена.
— Кстати, вот еще, — продолжал Уилсон, указывая на свои новые коричневые ботинки. — Знаешь, где продается лучшая кожаная обувь? Только в одном месте — "У мистера Билла" на Ганнинг-стрит. Всего девять шиллингов шесть пенсов.
Они пропаивались по саду, и Уилсон то и дело привлекал внимание Дарнелла к цветам — на клумбах и бордюрах. Распустившихся бутонов почти не было, но растения выглядели исключительно ухоженными.
— Вот здесь туберозы, — говорил он, показывая на растущие в ряд чахлые сухие цветы, — здесь — настурции; вот это новинка — молдавское апельсиновое дерево, а это — флоксы.
— А когда они цветут? — спросил Дарнелл.
— В основном в конце августа или в начале сентября, — кратко ответил Уилсон. Он был недоволен собой, что втянул Дарнелла в разговор о цветах: ведь Дарнелл ими совсем не интересовался; и действительно, гость с трудом скрывал нахлынувшие на него смутные воспоминания о некоем старом, источающем ароматы, запущенном саде за стенами серого цвета и о свежем запахе травы рядом с ручьем.
— Я хотел бы посоветоваться с тобой по поводу мебели. — сказал наконец Дарнелл. — Ты ведь знаешь, что у нас есть пустая комната, и мне захотелось ее хоть как-то обставить. Вот я и подумал, может, ты что-нибудь посоветуешь — сам я полон сомнении.
— Пойдем в мою берлогу, — сказал Уилсон. — Нет, иди сюда… к черному ходу. — Так он получал возможность продемонстрировать гостю еще одно хитроумное приспособление: стоило дотронуться до щеколды на боковой двери, как оглушительный звон разносился по дому. Сейчас Уилсон коснулся ее мимоходом, но и этого хватило, чтобы раздался звук, подобный сирене, и служанка, примерявшая без разрешения одежду хозяйки в спальне, подлетела, как бешеная, к окну, а потом пустилась в истеричный пляс. Кроме того, в воскресенье днем на столе в гостиной обнаружили кусок штукатурки, о чем Уилсон не замедлил написать в "Фулем кроникл", приписав этот феномен "потрясению сейсмического характера".
Но в тот момент Уилсон еще не знал о столь серьезном ущербе, причиненном его изобретением, и потому спокойно продолжал идти дальше, к задней части дома. Тут в окружении кустарников располагался небольшой газон, трава на котором начинала рыжеть. Посреди газона с важным видом стоял мальчик лет девяти или десяти.
— Мой старшенький, — сказал Уилсон. — Хэвлок. Ну, что поделываешь, Локи? И где твои брат и сестра?
Мальчик был не из робких. Напротив, он, похоже, горел желанием рассказать, как обстоят дела.
— Мы играли, и я был Богом, — рассказывал он с подкупающей откровенностью. — Я послал Фергюса и Дженет в плохое место. Вон туда, где колючие кусты. Они оттуда никогда не выйдут. Будут гореть там во веки веков.
— Ну, что ты на это скажешь? — восхищенно произнес Уилсон. — Неплохо для девятилетнего мальчугана, а? Его очень хвалят в воскресной школе. А теперь прошу в мою берлогу.
"Берлога" оказалась небольшой пристройкой к задней стороне дома. Изначально она задумывалась как летняя кухня и баня, но Уилсон задрапировал печь расписным муслином, а мойку забил досками, и теперь та служила верстаком.
— Правда, здесь уютно? — спросил Уилсон, предлагая гостю один из двух плетеных стульев. — Здесь я сам но себе, мне здесь спокойно. Так что ты говорил про обстановку? Хочешь сделать все как можно шикарнее?
— Да нет. Совсем наоборот. По правде говоря, я даже не уверен, что той суммы, которой мы располагаем, достаточно для этого. Та пустая комната выходит на запад, площадь ее двенадцать на десять футов, и если бы нам удалось ее меблировать, то она бы выглядела гораздо уютнее. Кроме того, приятно пригласить к себе гостей — хотя бы нашу тетю, миссис Никсон. А так просто ее не пригласишь — она ведь привыкла к комфорту.
— А какой суммой ты располагаешь?
— Не думаю, что мы можем намного превысить десять фунтов. Этого, наверное, мало, да?
Уилсон встал и со значительным видом закрыл дверь "берлоги".
— Послушай, — сказал он. — Я рад, что ты пришел ко мне первому. А теперь скажи, куда ты сам хотел обратиться?
— Ну, я подумывал о магазине на Хэмпстед-Роуд, — ответил Дарнелл несколько неуверенно.
— Я так и думал. Но скажи, какой толк в этих дорогих магазинах Уэст-Энда? Там за большие деньги ты получаешь вещь не лучше, чем в других местах. Просто переплачиваешь за то, что эго модное местечко,
— У "Самюэля" я видел вполне приличную мебель. В этих престижных магазинах у товаров особый шик. После свадьбы мы частенько заходили в такие места.
— И платили, естественно, процентов на десять больше разумной цены. Все равно что бросать деньги на ветер. Сколько, говоришь, ты намерен потратить? Десять фунтов. Хорошо, я подскажу, где можно купить отличный спальный гарни-тур, — по-своему, даже изысканный, за шесть фунтов десять шиллингов. Что ты на это скажешь? Заметь, сюда входят и фарфоровые украшения; а что до ковра, то он обойдется тебе всего в пятнадцать шиллингов шесть пенсов — и цвета великолепные. Послушай меня, иди в любую субботу днем в магазин "Дик" на Севен-Систерс-Роуд, сошлись на меня и вызови мистера Джонстона. Гарнитур ясеневый, его еще называют "елизаветинским". Всего шесть фунтов и десять шиллингов вместе с фарфором, и один из восточных ковров на выбор — размером девять на девять по цене пятнадцать шиллингов и шесть пенсов. Не забудь название магазина: "Дик".
Вопрос меблировки вызвал у Уилсона необычайный прилив красноречия. Он также обратил внимание Дарнелла на то, что времена изменились и старинная громоздкая мебель вышла из моды.
— Теперь не то что раньше, — говорил Уилсон, — когда люди покупали вещи на века. Помнится, перед нашей с женой свадьбой скончался мой дядя, живший на севере страны, и завещал мне всю свою мебель. В то время я как раз подумывал о том, чтобы обзавестись собственной мебелью, и, казалось, все складывается как нельзя лучше. Но, поверь, мне не подошел ни один предмет. Вся эта мебель красного дерева была тусклая и выцветшая: необъятные книжные шкафы и бюро, стулья и столы с ножками в виде лап. Как я сказал тогда будущей жене (она вскоре ею и стала): "Не хотим же мы с тобой открыть палату ужасов?" И я продал за бесценок большую часть наследства. Признаюсь, я люблю светлые, радостные комнаты.
Дарнелл заметил, что, как он слышал, художники предпочитают старинную мебель.
— Это так. Вроде "демонического культа подсолнечника", а? Читал об этом в "Дейли пост"? Сам я ненавижу всю эту нечисть. В этом нет здорового начала, и я не думаю, что англичане поддержат такое. Но раз уж разговор зашел о разных антикварных вещицах, то и у меня есть одна штуковина, которая стоит кучу денег.
Он нырнул в пыльную коробку, стоящую в углу комнаты, и извлек оттуда небольшую, источенную жучками Библию, в которой не хватало первых пяти глав "Бытия" и последней страницы "Апокалипсиса". Она была издана в 1753 году.
— Не сомневаюсь, что она дорого стоит, — сказал Уилсон. — Только взгляни на эти червоточины. Книга, как говорится, "с изъяном". А ты, наверное, обратил внимание, что книги "с изъяном" на аукционах оцениваются выше других?
Разговор вскоре подошел к концу, и Дарнелл поспешил домой, где его ждали к чаю. Он серьезно подумывал, чтобы последовать совету Уилсона, и после чая поделился с Мери своими планами относительно пустой комнаты, а также той информацией о "Дике", что получил от Уилсона.
Услышав от мужа о его плане во всех подробностях, Мери тоже им увлеклась. Цена на мебель показалась ей вполне приемлемой. Супруги сидели но разные стороны от камина (скрытого за красивой картонной ширмой, расписанной пейзажами); Мери подпирала ладонью щеку, а ее прекрасные темные глаза заволокла мечтательная пелена, словно она созерцала какие-то необычные видения. На самом же деле она обдумывала план мужа.
— Это было бы неплохо, — наконец проговорила она. — Но надо все хорошенько обдумать. Боюсь, в конечном счете десятью фунтами не обойтись. Ведь надо принять во внимание столько вещей! Например, кровать. Если купить обычную кровать без медных набалдашников, это будет выглядеть убого. Нужны также постельные принадлежности — матрац, одеяла, простыни, покрывало, и это влетит в копеечку.
Когда она принялась подсчитывать стоимость всех необходимых вещей, ее глаза вновь приняли мечтательное выражение, а Дарнелл смотрел на жену с беспокойством: он очень считался с ее мнением и с нетерпением ждал, к какому выводу она придет. На какое-то мгновение нежный румянец ее щек, изящество линий тела, каштановые волосы, струящиеся вдоль лица и падающие мягкими завитками на плечи, казалось, заговорили на неведомом ему наречии, но тут жена вновь произнесла на привычном языке:
— Боюсь, постельные принадлежности будут нам дорого стоить. Даже если в "Дике" все гораздо дешевле, чем в "Буне" или у "Самюэля". И не забудь, дорогой, о каминных украшениях. Я видела на днях очень красивые вазы за одиннадцать шиллингов три пенса в магазине "Уилкин и Додд". Для комнаты их нужно не меньше шести и еще что-то, чтобы поставить в центре. Знаешь, как это увеличит расходы?
Дарнелл молчал. Он понимал, что жена выдвигает аргументы против его плана, и хотя тот уже завладел его сердцем, не мог не видеть ее правоты.
— Речь может идти, скорее, о двенадцати фунтах, а не о десяти, — сказала она. — Пол вокруг ковра придется покрасить (девять на девять, ты сказал?), и еще нам понадобится кусок линолеума к умывальнику. А если не повесить картины, стены будут выглядеть голыми.
— Я тоже подумал о картинах, — сказал Дарнелл и продолжил с жаром, чувствуя, что но крайней мере тут он неуязвим: — Помнишь, в углу комнаты, где хранятся коробки, стоят две картины в готовых рамах: "Скачки" и "Вокзал"? Может, они слегка старомодны, но для спальни это не так важно. Можно еще повесить и несколько фотографий. В Сити я видел славненькую рамку из натурального дуба, в нее войдет с полдюжины фотографий, — и всего за шиллинг и шесть пенсов. Мы могли бы вставить в нее фото твоего отца, твоего брата Джеймса и тети Мэриан, и твоей бабушки в ее вдовьей шапочке, и еще кого-нибудь из семейного альбома. А потом есть ведь старый фамильный портрет — тот, что хранится в войлочном чемодане, — его можно повесить над камином.
— Ты говоришь о портрете твоего прадеда в позолоченной раме? Но он очень уж старомодный, разве нет? Дедушка выглядит так нелепо в таком парике. Не думаю, что портрет будет хорошо сочетаться с остальной обстановкой.
Дарнелл на мгновение задумался. На поясном портрете был изображен молодой джентльмен, великолепно одетый по моде 1750 года; Дарнеллу смутно припомнились старинные истории, которые отец рассказывал ему об этом предке; в памяти всплывали обрывки отцовских рассказов о далеких лесах, полях и тайных тронах, а также о некой затерянной стране где-то на западе.
— Согласен, — признал Дарнелл. — Портрет действительно безнадежно устарел. Кстати, в Сити я видел неплохие и довольно дешевые гравюры в рамках.
— Однако, если все сложить, наберется изрядная сумма. Надо хорошенько все обдумать. Нам надо быть осмотрительнее, сам знаешь.
Служанка принесла ужин — печенье, стакан молока для хозяйки, пинту пива для хозяина, немного сыра и масла. После ужина Эдвард выкурил две трубки, после чего супруги отправились на покой. Мери вошла в спальню первой, муж же, согласно ритуалу, сложившемуся в первые дни их совместной жизни, обычно присоединялся к ней через четверть часа. Двери парадного и черного хода были заперты, газ выключен, и когда Дарнелл поднялся наверх, жена уже лежала в кровати, повернувшись к нему лицом.
Она мягко заговорила, как только он вошел в спальню.
— Приличную кровать не купить меньше чем за один фунт одиннадцать шиллингов, да и хорошие простыни нынче дороги.
Раздевшись, Дарнелл осторожно забрался в постель, задув свечу на столике. Жалюзи были по всей длине аккуратно опущены, но стояла июньская ночь, и за стенами, над этим одиноким миром, над запустением Шепердз-Буш плыла над холмами в волшебной дымке облаков огромная золотая луна, окрашивая землю чудным светом — чем-то средним между багряным закатом, зацепившимся за вершину горы да так и оставшимся там, и тем изумительным сиянием, что, ниспадая с холмов, пронизывает лес. Дарнеллу казалось, что он видит слабое отражение этого колдовского света в их спальне — на светлых стенах, на белой кровати и на лице жены в обрамлении каштановых кудрей; ему чудилось, что он слышит коростеля в полях, и странную песнь козодоя, доносящуюся из тишины тех диких мест, где растут папоротники, и трель соловья, звучащую как эхо волшебной мелодии, соловья, поющего всю ночь напролет на ольхе у ручья. У Дарнелла не было слов, чтобы выразить свои чувства, он только осторожно высвободил руку из-под шеи жены и стал перебирать ее каштановые локоны. Она не шевелилась, а просто лежала, неслышно дыша и уставившись в потолок своими прекрасными глазами, и в голове ее, несомненно, тоже бродили мысли, которые она не умела выразить в словах. Она послушно целовала мужа, когда он просил ее об этом, заикаясь от волнения.
Они почти погрузились в сон, во всяком случае, Дарнелл уже засыпал, когда жена тихо произнесла:
— Боюсь, дорогой, мы не сможем себе этого позволить. — Эти слова донеслись до него сквозь журчание воды, стекающей с темной скалы вниз, в кристальный водоем.
Воскресное утро всегда давало возможность слегка понежиться. Они, похоже, остались бы без завтрака, если бы миссис Дарнелл, в которой был силен инстинкт домашней хозяйки, не проснулась от яркого солнечного света с ощущением, что в доме подозрительно тихо. Минут пять она лежала неподвижно подле спавшего мужа, внимательно прислушиваясь, не копошится ли внизу Элис. Сквозь жалюзи пробивался золотой луч солнца, он играл на ее каштановых локонах, а сама миссис Дарнелл созерцала комнату — обтянутый атласом туалетный столик, разноцветные туалетные принадлежности и две фотогравюры, висевшие на стене в дубовых рамках: "Встреча" и "Расставание". Не до конца проснувшись, она старалась расслышать, ходит ли внизу служанка, но вдруг какое-то смутное воспоминание всплыло в ее сознании, и ей на мгновение представился другой мир, где все пьянило и приводило в экстаз, где можно было беспечно бродить в глубоких долинах, а луна над лесом была багрового цвета. Тут мысли миссис Дарнелл вновь вернулись в Хэмпстед[4], который воплощал для нее весь мир, а потом она подумала о плите, что вернуло ее мысли к выходному дню и, соответственно, — к Элис. В доме стояла полная тишина; можно было бы подумать, что ночь все еще продолжается, если б неожиданно тишину не разорвали протяжные крики продавцов воскресных газет, начавших своеобразную перекличку на углу Эдна-Роуд; тогда же, одновременно с их гвалтом, раздалось сначала упреждающее звяканье, а потом послышался зычный крик молочника, развозившего свой товар.
Миссис Дарнелл села в постели и, теперь уже полностью проснувшись, прислушалась более внимательно. Служанка, несомненно, крепко спала; ее следовало поскорее разбудить, иначе в дневном распорядке произойдет непоправимый сбой; миссис Дарнелл знала, как ненавидит Эдвард суету и разговоры о хозяйстве — особенно по воскресеньям, после утомительной рабочей недели в Сити. Она бросила нежный взгляд на спящего мужа: она очень сильно его любила, и потому тихонько, стараясь его не разбудить, выбралась из кровати и прямо в ночной рубашке пошла будить служанку.
В комнате у служанки было душно: ночь была очень жаркой; миссис Дарнелл остановилась на пороге, задавая себе вопрос: кто та девушка, что лежит здесь на кровати? Чумазая служанка, которая день-деньской копошится по дому, или то чудом преобразившееся создание, наряженное в яркую одежду, с сияющим лицом, которое появляется воскресным днем, когда приносит чай чуть раньше, потому что у нее "свободный вечер"? У Элис были черные волосы и бледная, оливкового оттенка кожа, и сейчас, когда она спала, положив голову на руку, то чем-то напомнила миссис Дарнелл ту удивительную гравюру "Уставшая вакханка", которую она давным-давно видела в витрине на Аппер-стрит в Ислингтоне[5]. Раздался надтреснутый звон колокола; это означало, что уже без пяти восемь, а ровным счетом ничего не сделано.
Она мягко коснулась плеча девушки и только улыбнулась, когда та открыла глаза и, моментально проснувшись, смущенно поднялась. Миссис Дарнелл вернулась к себе и неторопливо оделась, пока муж еще спал. Только в последний момент, застегивая лиф вишневого платья, она разбудила мужа словами, что, если он не поторопится, бекон пережарится.
За завтраком они вновь обсуждали, что делать с пустой комнатой. Миссис Дарнелл заверила мужа, что целиком поддерживает его план, хотя не представляет, как его можно осуществить, истратив всего десять фунтов; будучи людьми благоразумными, они не собирались посягать на сбережения. Эдварду неплохо платили: в год он зарабатывал (с учетом надбавок за сверхурочную работу) сто сорок фунтов; Мери же унаследовала от старого дядюшки, ее крестного отца, триста фунтов, которые супруги предусмотрительно положили в банк под четыре с половиной процента годовых. Так что их годовой доход, считая и подарок тети Мэриан, составлял сто пятьдесят восемь фунтов в год; к тому же у них не было никаких долгов: мебель для дома Дарнелл купил на деньги, которые когшл лет пять-шесть до женитьбы. В первые годы работы Дарнелла в Сити доход его был, разумеется, меньше, да тогда он и жил гораздо легкомысленнее, ничего не откладывая на черный день. Его тянуло в театры и мюзик-холлы, и он редкую неделю не посещал их (беря билеты в партер), иногда покупая фотографии понравившихся актрис. Обручившись с Мери, он торжественно сжег эти фотографии; тот вечер ему хорошо запомнился: сердце его переполняли радость и восторг. Когда на следующий день он вернулся домой из Сити, квартирная хозяйка горько жаловалась на обилие грязи в камине. И все же деньги были потеряны — десять-двенадцать шиллингов, насколько он помнил; и это не давало ему покоя: ведь, отложи он их, они быстрее купили бы восточный ковер изумительной расцветки. В юности он позволял себе и другие траты, покупая сигары за три или даже за четыре пенса — за четыре пореже, но за три довольно часто; иногда он покупал сигары поштучно, а иногда в упаковке по двенадцать штук, платя полкроны. Однажды он шесть недель мечтал о пенковой трубке; хозяин табачной лавки извлек ее из ящика стола с таинственным видом в то время, когда Дарнелл покупал пачку "Лоун стар". Тоже бессмысленная трата — покупка американского табака, всех этих "Лоун стар", "Лонг Джадж", "Оулд Хэнк", "Салтри Клайм" по цене от шиллинга до шиллинга и шести пенсов за пачку в две унции. Теперь же он покупал отличный табак всего за три с половиной пенса за унцию. Тогда же хитрый торговец, приметив склонность Дарнелла к дорогим модным товарам, быстро выдвинул ящик и открыл его восхищенному взору пенковую трубку. Чашеобразная ее часть была вырезана в виде женской фигурки — головки и торса, а мундштук изготовлен из настоящего янтаря; торговец сказал, что отдаст трубку всего за двенадцать шиллингов и шесть пенсов, хотя один янтарь, по его словам, стоил больше. Никому, кроме постоянных покупателей, сказал продавец, он не показал бы эту трубку, ему же он готов продать ее по дешевке. Сначала Дарнелл боролся с искушением, но трубка не шла у него из головы, и наконец он ее купил. Какое-то время ему нравилось похваляться ею в офисе перед более молодыми сотрудниками, но трубка плохо раскуривалась, и он расстался с ней как раз перед женитьбой — тем более, что само резное изображение не позволяло курить трубку в присутствии жены. Однажды, отдыхая в Гастингсе, Дарнелл купил за семь шиллингов тросточку из ротанга — абсолютно бесполезную вещь; а как часто он отказывался есть жареную котлету, которую готовила хозяйка, и отправлялся flaner[6] по итальянским ресторанам на Аппер-стрит в Ислингтоне (сам он жил в Холлоуэе), ублажая себя разными дорогими лакомствами: котлетками с зеленым горошком, тушеной говядиной под томатным соусом, вырезкой с картофелем фри, и часто заканчивал пиршество кусочком швейцарского сыра за два пенса.
А получив прибавку к жалованью, он выпил четверть бутылки кьянти, но не остановился на этом, а заказал себе бенедиктин, кофе и сигареты; это и без того постыдное мероприятие он завершил, дав шесть пенсов на чай официанту, что довело расходы до четырех шиллингов вместо одного, который он бы потратил, если б предпочел съесть дома полноценный и сытный ужин. Да, Дарнелл позволял себе много экстравагантных выходок, о чем теперь часто жалел, понимая, что, веди он себя поосмотрительнее, годовой доход у них с женой вырос бы на пять-шесть фунтов.
Вопрос, поднятый в связи с пустой комнатой, с новой силой пробудил в Дарнелле чувство вины. Он убеждал себя, что лишние пять фунтов решили бы эту проблему, хотя тут он, несомненно, ошибался. Но Дарнелл отчетливо понимал, что при теперешних обстоятельствах нельзя посягать на их скромные сбережения. Аренда дома стоила тридцать пять фунтов, местные сборы и государственные налоги еще десять — почти четверть того, что они платили за дом. Мери вела хозяйство исключительно экономно, но мясо всегда было очень дорого, и еще она подозревала, что служанка тайком отрезает ломтики мяса от целого куска и потом ночью поедает их у себя в комнате с хлебом и патокой. Такое предположение основывалось на беспорядочных и эксцентричных вкусах девушки. Теперь мистер Дарнелл больше не помышлял о ресторанах — ни о дорогих, ни о дешевых; на работу он брал с собой завтрак, а вечером за ужином ел с женой отбивные, или бифштекс, или оставшееся после воскресного обеда холодное мясо. Сама миссис Дарнелл в середине дня подкрепляла силы хлебом и джемом, запивая их молоком; и все же, несмотря на такую строгую экономию, им с трудом удавалось жить по средствам и немного откладывать на черный день. Супруги порешили ничего не менять в своей жизни, по меньшей мере три года, потому что медовый месяц, проведенный в Уолтон-он-зе-Нейз, потребовал больших расходов; на этом основании они, не совсем, впрочем, логично, оставили себе десять фунтов, мотивируя такое решение тем, что, раз уж они не могут позволить себе поехать отдохнуть, то хотя бы истратят эти деньги на что-то полезное.
Именно это соображение о необходимости потратить деньги с наибольшей пользой оказалось роковым для плана Дарнелла. Супруги считали и пересчитывали расходы, связанные с покупкой кровати и постельных принадлежностей, линолеума, украшений, и путем больших усилий общая сумма расходов была наконец установлена: ее определили как "несколько превышающую десять фунтов". И вот тогда-то Мери вдруг сказала:
— Но, Эдвард, ведь мы на самом деле не так уж и хотим обставить эту комнату. Я хочу сказать, что в этом нет необходимости. Стоит только начать — расходам не будет конца. А как только об этом узнают другие, жди наплыва гостей. У нас есть родственники в сельской местности, и, будь уверен, все они, особенно Маллингсы, станут намекать: неплохо, мол, их пригласить погостить.
Довод был сильный, и Дарнелл сдался. Но скрыть своего разочарования все же не мог.
— А все-таки это было бы здорово, — произнес он со вздохом.
— Не расстраивайся, дорогой, — сказала Мери, которая заметила, что муж расстроен. — Нужно просто придумать что-нибудь другое, не менее приятное и полезное.
Она часто говорила с ним таким тоном — тоном умудренной и доброй матери, хотя на самом деле была на три года его моложе.
— А сейчас мне пора в церковь. Ты идешь?
Дарнелл сказал, что, пожалуй, сегодня не пойдет. Обычно он сопровождал жену к утренней службе, но сейчас у него было тяжело на сердце, и он предпочел остаться и посидеть в тени огромного тутового дерева, росшего посередине крошечного садика; оно было свидетелем еще тех времен, когда здесь простирались бескрайние луга, поросшие густой зеленой и душистой травой, и не было унылых улиц, составляющих вместе безысходный лабиринт.
Итак, Мери отправилась в церковь одна. Собор Св. Павла находился на соседней улице; готические элементы его конструкции могли заинтересовать любознательного зрителя, задавшегося вопросом: в чем причина этою неожиданного возврата к готике?[7] В принципе все было как надо: геометрические Здесь и далее формы декора, типичный каменный ажур оконных проемов. Неф, боковые приделы, просторный алтарь — все выдержано в разумных пропорциях; и если говорить серьезно, то единственное, что нарушало гармоничность целого, — это замена низкой алтарной стенки с железными вратами крестной перегородкой[8], где наверху располагались хоры, а внизу висело распятие. Скорее всего, таким образом старую идею приспосабливали к современным требованиям, и было бы довольно трудно объяснить, почему это здание, начиная с обычного цементного раствора, скрепляющего камни, до освещения в соответствии с готическими традициями, было тщательно спланированным богохульством. Гимны пелись в си-бемоль мажоре, кантаты были англиканскими, служба сводилась к проповеди, обращенной к сегодняшнему дню, и произносилась священником на современном и изящном английском языке. И Мери ушла а домой.
После обеда (отличный кусок австралийской баранины, купленный в магазине из сети "Всемирные товары" в Хаммерсмите) супруги еще некоторое время сидели в саду, в тени тутового дерева, почти скрытые от взоров соседей. Эдвард курит трубку, а Мери смотрела на мужа с немым обожанием.
— Ты никогда не рассказывал мне о своих коллегах, — заговорила она после долгого молчания. — Среди них, наверное, есть приличные люди.
— Да, конечно, очень приличные. Надо будет пригласить на днях кого-нибудь к нам, — ответил Эдвард.
И тут же с острой болью подумал, что в этом случае потребуется купить виски. Нельзя же приглашать гостя и угощать дешевым пивом по два пенса за галлон.
— И все же кто они такие? — спросила Мери. — Думаю, они могли бы преподнести тебе свадебный подарок.
— Ну, не знаю. У нас это не принято. И тем не менее все они славные люди. Например, Харви… За глаза его зовут "нахалом". Он просто помешан на велосипедах. В прошлом году выступал в соревнованиях спортсменов-любителей на дистанции две мили. И победил бы, если б мог больше тренироваться… Потом еще Джеймс, он тоже увлекается спортом. Но тебе он бы не понравился. От него разит конюшней.
— Какой ужас! — проговорила миссис Дарнелл и, сочтя замечание мужа слишком уж вольным, опустила глаза.
— А вот Дикинсон тебя бы позабавил, — продолжал Дарнелл. — У него всегда наготове шутка. Но враль он ужасный. Когда что-нибудь рассказывает, никогда не знаешь, чему можно верить. Как-то он клялся, что видел, как один из управляющих покупал устрицы прямо с лотка у Лондонского моста, и новичок Джонс, который только что постуши на работу, ему поверил.
Вспомнив этот смешной случай, Дарнелл громко расхохотался.
— Неплохая выдумка была о жене Солтера, — продолжал он. — Солтер — менеджер, ты знаешь. Дикинсон живет неподалеку от него, в Ноттииг-Хилле, и как-то утром рассказывал, что видел, как миссис Солтер в красных чулках плясала под шарманку на Портобелло-Роуд.
— Этот Дикинсон немного вульгарный, правда? — отозвалась миссис Дарнелл. — Не вижу в этом рассказе ничего смешного.
— Ну, мужчины все воспринимают иначе. Тебе мог бы понравится Уоллис — он замечательный фотограф и частенько показывает нам фотографии своих детей. На одной — девчушка лет трех в ванночке. Я спросил, как он думает, понравится ли дочке эта ее фотография, когда ей будет двадцать три.
Миссис Дарнелл снова опустила глаза.
Несколько минут они молчали, пока Дарнелл курил трубку.
2-1131
— Послушай, Мери, — заговорил он наконец, — а как ты смотришь на то, чтобы взять жильца?
— Жильца? Никогда об этом не думала. А куда мы его поселим?
— Все в ту же свободную комнату. Это снимет все твои возражения. Многие в Сити берут жильцов и делают на этом хорошие деньги. У нас появятся дополнительные десять фунтов в год. Редгрейв, кассир, полагает, что игра стоит свеч, и даже снимает для этой цели большой дом с площадкой для тенниса и бильярдной.
Мери какое-то время размышляла, представляя, что из этого может выйти.
— Не думаю, что у нас получится, Эдвард, — сказала она. — Возникнет много неудобств. — Мери замолчала на мгновение, колеблясь, продолжать или нет. — Не уверена, что мне понравится присутствие в доме постороннего молодого человека. Домик слишком мал, да и удобства у нас, как тебе известно, далеко не удовлетворительные.
Она слегка порозовела, а во взгляде Эдварда, хоть он и был несколько разочарован, отразилось неповторимое чувство, какое, наверное, испытал бы ученый, столкнувшись с неизвестным иероглифом, который мог обозначать как нечто чудесное, так и вполне заурядную вещь. В соседнем саду играли дети, они вели себя очень шумно, смеялись, галдели, ссорились, носились взад и вперед. Внезапно из окна верхнего этажа послышался чистый приятный голос.
— Энид! Чарльз! А ну-ка домой!
Тут же воцарилась тишина. Детские голоса затихли.
— Миссис Паркер следует лучше смотреть за детьми, — сказала Мери. — Элис как-то рассказывала мне о том, что у них творится. Она знает это от служанки миссис Паркер. Я слушала ее рассказ без комментариев: не стоит поощрять слуг в стремлении сплетничать о хозяевах. Они всегда преувеличивают. Лично мне кажется, что дети часто нуждаются в наставлениях.
Теперь детей совсем не было слышно, словно их громом поразило.
Дарнеллу послышался из дома какой-то странный крик, но он не был в этом уверен. Повернувшись, он стал смотреть в Другую сторону, туда, где в глубине своего сада расхаживал пожилой, ничем не примечательный мужчина с седыми усами. Встретившись глазами с Дарнеллом и заметив, что и миссис Дарнелл смотрит на него, мужчина очень вежливо приподнял твидовую кепку. Дарнелл с удивлением отметил, что жена при этом залилась краской.
— Мы с Сейсом часто ездим в Сити на одном омнибусе, — сказал он, — и так случилось, что не так давно мы два или три раза сидели рядом. Кажется, он работает коммивояжером в кожевенной фирме в Бермондси. Мне он показался приятным человеком. Это ведь у них хорошенькая служанка?
— Элис рассказывала мне о ней — и о Сейсах тоже, — отозвалась миссис Дарнелл. — Я знаю, что соседи к ним относятся не очень хорошо. Однако пора пойти посмотреть, готов ли чай. Элис захочет сразу же уйти.
Дарнелл смотрел вслед жене, быстро идущей по направлению к дому. Смутно осознавая это, он ощущал очарование ее тела, прелесть каштановых кудрей, собранных на затылке, и вновь ощутил прежнее чувство ученого, столкнувшегося с загадкой. Эдвард не смог бы объяснить своих эмоций, но по сути задавался вопросом, сумеет ли он когда-нибудь разрешить эту загадку, хотя что-то подсказывало ему, что прежде чем жена сможет по-настоящему заговорить с ним, должны разомкнуться его собственные уста. Мери вошла в дом через ведущую в кухню заднюю дверь, оставив ее открытой, и он слышал, как она говорит служанке что-то о воде, которая должна "действительно кипеть". Дарнелла поразило, и он даже рассердился на себя за то, что ее голос показался ему странной, пронзающей сердце музыкой, звуками из иного, прекрасного мира. Он был ее мужем, они были супругами почти год; и все же, когда бы она ни заговаривала с ним, ему приходилось напрягаться, чтобы понять смысл сказанного и не думать, что Мери — вовсе не его жена, а некое таинственное существо, знающее тайны невыразимого блаженства.
Сквозь листву тутового дерева Дарнелл осмотрелся вокруг. Мистера Сейса больше не было видно, но сизое облачко дыма от его сигары все еще медленно плыло но воздуху. Дарнелл вспомнил, как странно вела себя жена при упоминании имени Сейса, и задумался о причинах этого; потом стал размышлять, что могло быть нехорошего в семействе такого уважаемого человека, но тут в окне столовой показалась жена и позвала его пить чай. Она улыбалась ему. Дарнелл поспешно поднялся и пошел в дом, спрашивая себя, не свихнулся ли он ненароком, слишком уж странными были эти все чаще возникающие у него странные ощущения и еще более странные порывы.
Принесшая чайник и кувшин горячей воды Элис сверкала и благоухала. Что касается миссис Дарнелл, то пребывание на кухне вдохновило ее на новый план траты пресловутых десяти фунтов. Кухонная плита всегда была для нее источником беспокойства. По ее словам, когда она заходила на кухню и видела, как огонь "полыхает вовсю, поднимаясь чуть ли не до половины дымохода", то всегда стыдила служанку за неэкономность и излишнюю трату угля. Элис соглашалась: действительно, нелепо разводить такое сильное пламя, чтобы всего лишь приготовить (они говорили "поджарить") кусок баранины или сварить картофель и капусту; но при этом утверждала, что причина вовсе не в ее расхлябанности, а в неправильной конструкции плиты: без такого сильного пламени "не нагревается духовка". Чтобы приготовить отбивную или бифштекс, надо было приложить не меньше усилий: весь жар уходил в трубу или в комнату. Мери не раз говорила мужу о том, как непродуктивно расходуется уголь: ведь самый дешевый уголь стоил не меньше восемнадцати шиллингов за тонну. Дарнелл даже написал письмо хозяину дома и получил в ответ безграмотно написанное, раздраженное послание, в котором говорилось, что плита находится в идеальном состоянии, а все кулинарные просчеты надо отнести на счет "вашей доброй супружницы", то есть хозяин намекал на то, что у Дарнеллов нет служанки и вся работа по кухне лежит на миссис Дарнелл. Таким образом, плита продолжала оставаться постоянным раздражителем, а деньги, в прямом смысле слова, вылетали в трубу. Элис каждое утро с большим трудом разводила огонь, а когда уголь наконец загорался, то "весь жар выходил в дымоход". Миссис Дарнелл всего несколько дней назад очень серьезно говорила об этом с мужем; она поручила Элис взвесить уголь, который пошел на приготовление картофельной запеканки с мясом — их ужина в тот вечер, а потом вычесть вес ящика, в котором хранился уголь. Результат был ошеломляющим: проклятая топка потребляла угля вдвое больше, чем было необходимо для приготовления такого простого блюда.
— Помнишь, что я говорила тебе недавно о нашей плите? — спросила миссис Дарнелл мужа, заваривая чай. Такое вступление она сочла необходимым: ее муж, конечно, был очень доброжелательным человеком, и все же его могло расстроить настойчивое сопротивление его плану меблировки свободной комнаты.
— О плите? — переспросил Дарнелл. Его рука, потянувшаяся было за джемом, замерла в воздухе, и он задумался. — Что-то не помню. А когда это было?
— Во вторник вечером. У тебя еще была сверхурочная работа, и ты поздно вернулся домой.
Она на мгновение замолчала, слегка зарумянившись, а затем стала перечислять многочисленные недостатки плиты, упомянув про катастрофический расход угля при приготовлении в тот день картофельной запеканки с мясом.
— Да, теперь припоминаю. Как раз в тот вечер мне показалось, что я слышал соловья (говорят, они водятся в Бедфордском парке), а небо тогда было восхитительно синим.
Он помнил, как шел пешком от остановки Аксбридж-Роуд, где останавливается зеленый омнибус, а в воздухе, несмотря на зловонные испарения в районе Эктона, непостижимым образом пахло лесом и летними травами. Дарнеллу даже показалось, что он чует аромат красных диких роз, идущий от живой изгороди. Подойдя к калитке, он увидел жену, стоявшую в дверях дома с* фонарем, и при встрече неожиданно крепко ее обнял, шепча что-то на ухо и целуя душистые волосы. Уже через мгновение он смутился, боясь, что его глупый порыв мог испугать жену; она вся дрожала и выглядела растерянной. Как раз в тот вечер она и рассказала ему, как они со служанкой взвешивали уголь.
— Да, теперь припоминаю, — повторил он. — Ужасная неприятность, правда? Ненавижу выбрасывать деньги на ветер.
— А как ты смотришь на то, чтобы купить на тетины деньги по-настоящему хорошую плиту? Так мы сэкономим много денег, да и еда будет вкуснее.
Дарнелл передал жене джем со словами, что эта мысль кажется ему превосходной.
— Она лучше моей, Мери, — сказал он совершенно искренне. — Я так рад, что ты это предложила. Но мы должны все обдумать: не годится покупать вещи в спешке. Существует множество плит самых разных конструкций.
Каждый из супругов видел плиты, которые казались им чудесами техники: он — в окрестностях Сити, она — на Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, посещая дантиста. Они обсуждали этот вопрос за чаем и позже, прогуливаясь по саду и наслаждаясь вечерней прохладой.
— Говорят, что в "Ньюкасле" можно использовать любое топливо, даже кокс, — сказала Мери.
— А "Глоу" получила золотую медаль на Парижской выставке, — парировал Эдвард.
— А что скажешь про "Утопию" Китченера? Видел ее в работе на Оксфорд-стрит? — спросила Мери. — Говорят, там совершенно уникальная вентиляция.
— Как-то я был на Флит-стрит, — сказал Эдвард, — и видел там плиты фирмы "Блисс". Они меньше прочих потребляют топлива — так, во всяком случае, утверждают производители.
Эдвард нежно обнял жену за талию. Она не отстранилась, а только тихонько шепнула:
— Мне кажется, миссис Паркер смотрит на нас из окна.
И Эдвард неспешно убрал руку.
— Да, надо все не раз обсудить, — сказал он. — Спешить некуда. Я зайду в несколько мест поблизости от Сити, а ты сделай то же самое в районе Оксфорд-стрит, Риджент-стрит и Пикадилли[9], а потом мы сопоставим наши наблюдения.
Мери была довольна реакцией мужа. Как мило, что ее план не вызвал у него возражений. "Как он добр ко мне", — подумала она; именно это она часто повторяла своему брату, который недолюбливал Дарнелла. Они сидели на скамейке под тутовым деревом, тесно прижавшись друг к другу; Эдвард робко взял Мери за руку в темноте, и она, чувствуя его нерешительное пожатие, сама так же нежно ответила на него; муж любовно гладил ее руку; она ощущала на шее его дыхание и слышала страстный и прерывистый шепот: "Моя дорогая, дорогая", а потом его губы коснулись ее щеки. Она затрепетала на мгновение и замерла. Дарнелл ласково поцеловал ее и отпустил руку. Когда он заговорил, его голос дрожал.
— Нам лучше пойти в дом, — сказал он. — Сегодня обильная роса. Как бы ты не простыла.
Теплый, пропитанный ночными ароматами порыв ветра охватил их. Дарнеллу страстно хотелось, чтобы жена осталась с ним под деревом на всю ночь, чтобы они шептались, и он вдыхал бы дурманящий запах ее волос и ощущал ногой колыхание ее платья. Но он не мог найти слов для такой нелепой просьбы: ведь Мери так добра, что сделает все, о чем он ее попросит, выполнит его любую, самую глупую просьбу только потому, что она исходит от него. Нет, он недостоин касаться ее губ — и Эдвард, склонившись, поцеловал лиф ее платья, вновь почувствовав дрожь ее тела, и смутился, решив, что напугал жену.
Они медленно, рука об руку, направились к дому; Дарнелл зажег газовый свет в гостиной, где они обычно проводили воскресные вечера. Миссис Дарнелл почувствовала себя немного усталой и прилегла на диване, а Дарнелл расположился в кресле напротив. Некоторое время они молчали, а потом Дарнелл неожиданно спросил:
— А что такого с семейством Сейсов? Думаешь, там что-то не так? Их служанка не выглядит болтливой.
— На сплетни служанок вообще не стоит обращать внимания. Они часто болтают невесть что.
— Тебе что-то рассказала Элис, правда?
— Да. Как-то на днях, когда я зашла днем на кухню, она мне кое-что шепнула.
— И что же?
— Я бы предпочла не рассказывать, Эдвард. Некрасивая история. Я отругала Элис за то, что она сплетничает.
Дарнелл встал с кресла и пересел на стул рядом с диваном.
— Расскажи, — попросил он снова с непривычным для него упрямством. Не то чтобы ему было интересно знать, что происходит у соседей, но он помнил, как покраснела жена днем, и теперь ждал ответа, глядя ей в глаза.
— Правда не могу, дорогой. Мне стыдно.
— Но я ведь твой муж.
— Да, конечно. Но это ничего не меняет. Женщине не пристаю говорить о таких вещах.
Дарнелл наклонился. Сердце его колотилось; он приложил ухо к губам жены и попросил:
— Тогда шепни.
Мери мягким движением пригнула его голову еще ниже и прошептала, густо покраснев:
— Элис говорит, что у них наверху… только одна меблированная комната. Их служанка ей это сказала.
Непроизвольно Мери прижала голову мужа к груди, а он потянулся к ее алым губкам, но в этот момент в доме раздался ужасный грохот. Супруги разом выпрямились; миссис Дарнелл торопливо поспешила к двери.
— Это Элис, — сказала Мери. — Она всегда приходит вовремя. А сейчас как раз пробило десять.
Дарнелл раздраженно поежился. Он так и остался с полураскрытым ртом. На полу валялся хорошенький платочек Мери, который она надушила подаренными подругой духами, и Дарнелл, подняв платок, прижался к нему губами, прежде чем положить на место.
Разговоры о плите продолжались весь июнь и перекочевали в июль. Миссис Дарнелл при каждом удобном случае посещала Уэст-Энд и изучала характеристики последних моделей, внимательно присматриваясь к разным новшествам и слушая, что говорят продавцы; в то время как Дарнелл, употребляя его выражение, "приглядывал" за тем, что продается в районе Сити. Они собрали много литературы о плитах, принося из магазинов иллюстрированные брошюры, и с удовольствием рассматривали вечерами картинки. С интересом и почтением взирали они на изображения огромных плит, предназначенных для гостиниц и общественных учреждений; в этих могущественных агрегатах было по несколько духовок — каждая для определенной цели, а также гриль и множество прочих приспособлений, пользуясь которыми, повар был похож, скорее, на главного инженера. Супруги с презрением смотрели на изображения небольших плит для коттеджа по четыре фунта и даже три фунта десять шиллингов за штуку: ведь сами они собирались купить более мощную плиту за восемь-десять фунтов.
Долгое время фаворитом у Мери была плита "Рейвен". При большой мощности она гарантировала наибольшую экономию, и супруги уже несколько раз чуть было не купали ее. Но у "Глоу" тоже было много достоинств, и одно из них — цена: плита стоила всего восемь фунтов пять шиллингов, в то время как "Рейвен" — девять фунтов семь шиллингов. И хотя "Рейвен" стояла на королевской ку хне, "Глоу" могла предъявить самые положительные рекомендации от других европейских монархов.
Казалось, спорам не будет конца; они длились день за днем до того самого утра, когда Дарнелл пробудился после сна, в котором ему снился древний лес и источник, над которым клубился на солнце пар. Эта мысль пришла ему в голову, когда он одевался, и он ошарашил ею Мери за завтраком, когда торопился в Сити, боясь опоздать на омнибус, который останавливался на углу в 9.15.
— Кажется, я могу улучшить твой план, Мери, — сказал Дарнелл торжествующе. — Взгляни-ка. — И он бросил на стол небольшой буклет. — То, что здесь написано, напрочь опровергает твои аргументы. Ведь основные расходы — уголь. Дело не в плите — во всяком случае, не на ее содержание идут деньги. Дорог уголь. А теперь взгляни. Видишь эти керосиновые плиты? В них сгорает не уголь, а самое дешевое в мире топливо — керосин; и за два фунта десять шиллингов ты приобретешь плиту, на которой можешь готовить, что только пожелаешь.
— Оставь мне книжку, — сказала Мери, — и мы все обсудим вечером, когда ты вернешься. Ты ведь уже должен идти?
Дарнелл бросил беспокойный взгляд на часы.
— До свидания. — Супруги обменялись сдержанным и почтительным поцелуем, но глаза Мери напомнили Дарнеллу озера, затерянные в глуши древнего леса.
Вот так, день за днем, жил он в сером призрачном мире, ведя существование, мало чем отличавшееся от смерти, которое большинство из нас принимает за жизнь. Настоящая жизнь показалась бы Дарнеллу безумием, и когда время от времени его посещали тени и смутные образы из другого, прекрасного мира, он испытывал страх и старался поскорее укрыться в том, что он называл "здоровой реальностью" повседневности, в привычных заботах и интересах. Абсурдность его существования была особенно наглядной: ведь его "реальность" сводилась к тому, чтобы купить кухонную плиту получше, сэкономив при этом несколько шиллингов; однако еще абсурднее была жизнь владельцев конюшен со скакунами, паровых яхт, которые выбрасывают на ветер тысячи фунтов.
Да, так вот и жил Дарнелл день за днем, по странному заблуждению принимая смерть за жизнь, безумие за здравомыслие, а никчемных, заблудших призраков за живых людей. Дарнелл искренне верил, что он клерк, работающий в Сити и живущий в Шепердз-Буш, совсем позабыв про тайны и блистательное великолепие царства, которое принадлежало ему по праву наследования.
И
Весь день над Сити висел тяжелый, удушающий зной; возвращаясь домой, Дарнелл видел, как туман устилает низины, легкой дымкой тянется по Бедфорд-Парк к югу и восходит к западу, так что казалось, что Актонский собор поднимается из свинцовых вод озера. Глядя из окна омнибуса, медленно тащившегося по улицам, Дарнелл обратил внимание, что трава на скверах и лужайках выгорела и была теперь какого-то особенно пыльного цвета. Район Шепердз-Буш-Грин был страшной глушью, весь исхоженный и затоптанный; с обеих сторон улицы выстроились однообразным рядом тополя, их листья безжизненно повисли в душном неподвижном воздухе. Пешеходы устало брели по тротуару; Дарнелл задыхался от здешнего воздуха, в котором смешались духота уходящего лета и пыль с кирпичных заводов; ему казалось, что вокруг атмосфера затхлой больничной палаты.
Он лишь слегка притронулся к украшавшей стол холодной баранине, признавшись, что из-за погоды и тяжелого рабочего дня чувствует себя из рук вон плохо.
— У меня тоже был трудный день, — сказала Мери. — Элис весь день была просто невыносимой, и мне пришлось с ней серьезно поговорить. Видишь ли, мне кажется, эти воскресные выходы выбивают ее из колеи. Но тут уж ничего не поделаешь!
— У нее есть дружок?
— Конечно. Он работает у бакалейщика на Голдхок-Роуд. Фамилия бакалейщика Уилкин, ты его знаешь. Я поначалу к нему ходила, когда мы только поселились здесь, но мне там не понравилось.
— А что они делают воскресными вечерами? Она ведь отсутствует с пяти до десяти, так?
— Да, пять часов, иногда чуть меньше — когда вода для чая долго не закипает. Мне кажется, обычно они гуляют. Раз или два o*i водил ее в Темпл, а в позапрошлое воскресенье они прогуливались по Оксфорд-стрит, а потом сидели в парке. В прошлое воскресенье их, кажется, пригласила на чаи его мать, живущая в Патни. Хотелось бы мне сказать этой старой леди, что я о ней думаю.
— Почему? Что случилось? Она плохо обошлась с девушкой?
— Не в этом дело. Еще до последней встречи она несколько раз была нелюбезна с Элис. Когда молодой человек впервые привел ее к матери — это было в марте, — Элис вернулась домой в слезах; она сама мне об этом сказала. И еще сказала, что больше никогда не пойдет к миссис Марри; и я заверила Элис, что понимаю ее чувства, если только она не преувеличивает.
— А в чем дело? Почему она плакала?
— Похоже, эта пожилая дама (она живет в крошечном домике на задворках Пагни) такого высокого о себе мнения, что почти не удостоила Элис разговора. Позаимствовав у кого-то из соседей юную девушку, она нарядила ту под служанку. По словам Элис, нельзя было выглядеть глупее этой малютки, когда она в черном платье, белом чепчике и фарту ке открывала дверь, с трудом управляясь с ручкой. Джордж (так зовут друга Элис) еще раньше говорил ей, что дом у них маленький, но с очень уютной кухонькой, несмотря на всю скромность и старомодность ее обстановки. Но вместо того, чтобы вести гостей прямо на кухню и гам спокойно посидеть подле большой старинной печи, вывезенной из деревни, эта малютка спросила, как их представить (слышал ли ты что-нибудь нелепее?) и провела в небольшую, убого обставленную гостиную, где у камина, полного цветной бумаги, восседала, "словно герцогиня", старая миссис Марри, а в комнате было холодно, как на улице. Миссис Марри держалась очень надменно и почти не говорила с Элис.
— Ей, наверное, было не но себе.
— Бедняжка ужасно себя чувствовала. Старуха начала так: "Рада познакомиться с вами, мисс Дилл. У меня очень мало знакомых среди прислуги". Элис хорошо показывает ее жеманную манеру разговаривать — у меня так не получится. Затем старуха перешла к рассказам о семье: как они фермерствовали на своей земле пятьсот лет — такая ерунда! Джордж уже рассказывал Элис о прошлой жизни: у семьи был старый коттедж где-то в Эссексе с садовым участком и два луга, но его мать представила все так, будто они были помещиками, похваставшись, что их часто посещали приходский священник, доктор Такой-то и сквайр Такой-то, хотя было ясно, что если они это и делали, то только из жалости. По словам Элис, она с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться миссис Марри в лицо: ведь молодой человек прежде рассказывал ей об этом местечке и о том, каким крошечным было владение и как благородно со стороны сквайра было его купить после смерти старика Марри, когда Джордж был еще очень мал и мать не могла одна управляться с хозяйством. Однако глупая старуха продолжала, как говорится, "заливать", а молодой человек чувствовал себя все более неловко, особенно когда мать заговорила о том, что жену надо брать из своего круга и как несчастливы те молодые люди, которые взяли себе жен из более низкого сословия; говоря это, она недвусмысленно поглядывала на Элис. А затем случилась очень забавная вещь. Элис обратила внимание, что Джордж удивленно оглядывается, словно чего-то не понимает; наконец он не выдержал и спросил, не приобрела ли мать у соседей кое-какие декоративные вещицы, потому что вот эти, например, вазы из зеленого стекла он видел на каминной полке у миссис Эллис, а восковые цветы — у миссис Тервей. Мать тут же остановила его сердитым взглядом и нарочно свалила на пол несколько книжек, которые ему пришлось поднимать. Однако Элис уже успела понять, что старуха позаимствовала эти вещи у соседей так же, как и девчушку, изображавшую служанку, — и все для того, чтобы казаться значительнее. Потом они пили чай — слегка подкрашенную водичку, и ели тонюсенькие ломтики хлеба с чуточкой масла и дешевое иностранное печенье из швейцарского магазина на Хай-стрит, замешанное на прогорклом жире и прокисшем молоке. И все это время миссис Марри продолжала хвастаться своим происхождением и унижала девушку, отпуская обидные замечания на ее счет, пока та не ушла разгневанная и обиженная. И меня это не удивляет. А что ты думаешь?
— Да, ничего хорошего в этом нет, — ответил Дарнелл, задумчиво глядя на жену. Он не очень внимательно следил за всеми подробностями этой истории — ему просто нравилось слушать голос жены, звучавший для него музыкой, и ее интонации вызывали в нем картины волшебного мира.
— И что, мать этого молодого человека всегда так себя ведет? — спросил он после долгого молчания, желая, чтобы музыка ее голоса зазвучала вновь.
— Всегда, до самого последнего времени, точнее, до прошлого воскресенья. Конечно, Элис сразу же поговорила с Джорджем Марри и сказала, как разумная девушка, что, по ее разумению, молодой семье не стоит жить со свекровью — особенно, если та не очень любит невестку. Он, естественно, ответил, что у матери просто такая манера общаться, на самом деле она вовсе так не думает и так далее; Элис же какое-то время его избегала и однажды намекнула, что, возможно, ему придется выбирать между ней и матерью. И так все тянулось без перемен весну и лето, а затем как раз накануне твоего отпуска Джордж вновь поговорил с Элис на эту тему, сказав, как ему жаль, что ее отношения с матерью не сложились, и как бы ему хотелось, чтобы они поладили, — ведь мать всего лишь несколько старомодна и чудаковата и в отсутствие Элис хорошо о ней отзывается. Наконец Элис согласилась пойти с ними в понедельник в Хэмптон-Корт[10] — она часто говорила, что мечтает туда пойти. Ты помнишь, какой это был прекрасный день?
— Дай-ка вспомнить, — рассеянно проговорил Дарнелл. — Да, конечно… Весь тот день я просидел под тутовым деревом; помнится, мы там и ели — устроили что-то вроде пикника.
Немного досаждали гусеницы, но в целом мы прекрасно провели день. — Он был околдован величественной, божественной красотой мелодии — такой, наверное, была древняя песнь первозданного мира, где сама речь была песней, а слова — символами могущества, обращенными не к разуму, а к душе. Откинувшись в кресле, Дарнелл произнес: — И что же у них произошло?
— Дорогой, ты не поверишь, но эта злобная старуха вела себя еще хуже, чем обычно. Они встретились, как и договаривались, у Кью-Бридж, и с большим трудом уселись в омнибус; Элис надеялась, что ее ждет день, полный удовольствий, но не тут-то было. Не успели они поздороваться, как миссис Марри принялась расхваливать Хью-Гарденс — уж так там хорошо, гораздо удобнее добираться и никаких расходов — перешел мост, вот и все. Пока они дожидались омнибуса, она продолжала ворчать: дескать, все говорят, что в Хэмптоне и смотреть-то нечего, всего и есть, что множество уродливых и потемневших от времени старых картин, некоторые из них такие непристойные, что порядочной женщине на них и глядеть нельзя, не говоря уж о девушке; она удивлялась, как это королева разрешает выставлять такие вещи на всеобщее обозрение, ведь девушки узнают там такие ужасные вещи, — впрочем, в наши дни они и так много чего знают. Говоря все это, ужасная карга выразительно поглядывала на Элис — та мне потом говорила, что не будь миссис Марри такой старой да еще вдобавок матерью Джорджа, она отхлестала бы ее по щекам. Старуха еще не раз возобновляла разговор о Хью-Гарденс, вспоминая, какие там прекрасные оранжереи, пальмы и прочие восхитительные вещи, вроде лилий размером с журнальный столик или прекрасного вида на реку. Как говорит Элис, Джордж держался молодцом. Сначала он растерялся: ведь мать твердо обещала ему быть любезной с девушкой, но потом собрался с духом и сказал вежливо, но твердо: "Матушка, мы обязательно как-нибудь пойдем туда, но Элис уже настроилась на Хэмптон, да и я тоже!" Миссис Марри оставалось только фыркнуть, бросив на девушку кислый взгляд;
тут как раз подошел омнибус, и они стали пробираться на свои места. Миссис Марри всю дорогу до Хэмптон-Корта что-то бубнила себе под нос. Элис не слышала всего, но иногда до нее долетали обрывки фраз вроде: "Пришла беда — открывай ворота". "Ночная кукушка дневную перекукует", "Почитай отца и матерь свою…" Элис подумала, что старуха бормочет только пословицы (кроме одной заповеди), ведь Джордж всегда говорил, что мать старомодна, но в словах старухи каждый раз слышался намек на их с Джорджем отношения, и тогда Элис решила, что многие та придумывает сама. Элис говорит, что это вполне в духе матери Джорджа, которая одновременно и старомодная, и вредная, и болтливая, как мясник в субботний вечер. В конце концов они добрались до Хэмптона, и Элис подумала, что, может быть, старухе там понравится, и все они хорошо проведут время. Но та ворчала все громче и громче, и на них уже поглядывали, а одна женщина во весь голос (чтобы они услышали) заявила: "Что ж, и они когда-нибудь состарятся". Эта реплика очень рассердила Элис, потому что, по ее словам, они с Джорджем ничего плохого не делали. Когда старуху привели к каштановой аллее в Буши-парк, она заявила, что та слишком прямая и длинная и на нее скучно смотреть, а олени в парке (сам знаешь, какие они красивые) слишком тощие и выглядят крайне жалко — неплохо бы их подкормить хорошим пойлом из объедков. Она утверждала, что читает в глазах оленей, как они несчастны, и уверена, что егеря их бьют. И так было везде; она хвалила сады в Хаммерсмите и Ганнерсбери, где, по ее словам, росло гораздо больше цветов, а когда ее привели к воде, где было много зелени, она принялась скандалить, упрекая их за то, что ей пришлось тащиться так далеко, чтобы увидеть обыкновенный канал, на котором нет ничего, кроме одной баржи. И так она брюзжала весь день, поэтому Элис была рада-радешенька расстаться с ней и оказаться дома. Ну, разве это не испытание для девушки?
— Да уж, действительно. Но что же все-таки случилось в прошлое воскресенье?
— Совершенно невероятная вещь. Тем утром я обратила внимание, что Элис как-то странно себя ведет: после завтрака она дольше обыкновенного мыла посуду; когда я спросила, скоро ли она сможет помочь мне со стиркой, резко мне ответила, а когда я за чем-то вошла на кухню, то заметила, что работает она с угрюмым видом. В конце концов я поинтересовалась, в чем дело, — тут-то все и выяснилось. Я не поверила своим ушам, когда Элис запинаясь произнесла: миссис Марри считает, что она может найти место получше. Я задавала ей вопрос за вопросом, пока не вытянула из нее все. Да чего же глупенькие и легкомысленные эти молодые девушки! Я сказала ей, что нельзя быть похожей на флюгер. Ты не поверишь, но когда Элис пришла к ужасной старухе в последний раз, та была совсем другим человеком. Не знаю, почему. Она говорила Элис, какая та хорошенькая, какая у нее стройная фигура, отличная походка, и что она знает много девушек далеко не таких умных и красивых, которые зарабатывают те же двадцать пять или тридцать фунтов в год, работая в очень хороших семьях. Похоже, она вошла во все детали и сделала тщательные подсчеты, вычисляя, сколько Элис сможет откладывать, если будет работать у "приличных людей, которые не экономят, не скаредничают и не держат все под замком", а потом лицемерно заявила, что полюбила Элис и теперь может спокойно умереть, зная, что ее дорогой Джордж будет счастлив с доброй женой, тем более, что сбережения Элис, которые ей удастся отложить на новом месте с хорошим жалованьем, помогут им в начале совместной жизни. Свою речь старуха закончила следующим: "И попомни мои слова, дорогая, недолго тебе ждать свадебных колоколов!"
— Ив результате наша девица теперь всем недовольна? — предположил Дарнелл.
— Она такая молодая и такая глупая. Я поговорила с ней и напомнила, как отвратительно вела себя раньше миссис Марри, и прибавила, что, уйдя от нас, она может изменить свое положение к худшему. Кажется, мне удалось убедить ее
хорошенько все обдумать. Ты понимаешь, Эдвард, для чего это делается? У меня есть одна мысль по этому поводу. Думаю, старая ведьма хочет, чтобы Элис ушла от нас, и тогда она сможет сказать сыну: "Посмотри, какая она непостоянная!" И прибавит одну из своих идиотских присказок: "Непостоянная жена — беда для мужа", или что-нибудь в этом роде. Гадкая старуха!
— Да-а, — протянул Дарнелл. — Надеюсь, Элис не оставит нас. Тогда тебе прибавится забот — нелегко найти новую служанку.
Он вновь набил трубку и безмятежно закурил, чувствуя, что отдыхает после дня, заполненного пустой и изнурительной работой. Балконная дверь была распахнута, и теперь наконец до него долетел ветерок, принеся аромат деревьев, ко-торые все еще не утратили зелень листвы в этом засушливом районе. Песня, которой с восхищением внимал Дарнелл, и теперь еще легкий ветерок, который сумел донести даже до этой высохшей и скучной окраины привет из леса, вызвали мечтательное выражение в его глазах, и он задумался о вещах, которые не мог выразить словами.
— Она, должно быть, вредная старуха, — произнес наконец Дарнелл.
— Миссис Марри? Вот уж точно. Исключительно вредная! Уговаривает девушку покинуть место, где ей хорошо.
— Да. И еще, подумать только, ей не понравился Хэмптон-Корт. Это больше, чем все остальное, убеждает в порочности ее натуры.
— Там прекрасно, правда?
— Не могу забыть тот день, когда побывал там впервые. Это произошло вскоре после того, как я устроился на работу в Сити, в тот же год. Мой отпуск пришелся на июль, но тогда у меня было такое маленькое жалованье, что я и подумать не мог о том, чтобы поехать на море или куда-нибудь еще. Помню, один из служащих пригласил меня совершить пеший поход по Кенту. Эта мысль пришлась мне по душе, но и на это денег не хватило. И знаешь, что я сделал? Тогда я жил на Грейт-Колледж-стрит, и в свой первый день отпуска провалялся в постели до обеда, а все оставшееся время просидел в кресле с трубкой в зубах. Тогда я купил новый табак — фунт и четыре шиллинга за две унции (дороже, чем я мог себе позволить), и получал от него огромное удовольствие. Стояла страшная жара, а когда я закрыл окно и опустил красные жалюзи, стало еще жарче — в пять часов комната была словно раскаленная печь. Но я был гак счастлив, что могу не идти в Сити, что мне было все нипочем. Время от времени я читал отрывки из странной чудной книги, принадлежавшей ранее моему бедному отцу. Я многое в ней не понимал, но все же не терял нить, курил и читал до чая. Потом пошел на прогулку, решив, что будет только полезно глотнуть свежего воздуха перед сном. Я шел и шел, не обращая внимания, куда иду, и сворачивая туда, куда меня вели ноги. Должно быть, я прошел не одну милю, кружа на одном и том же пространстве, как, говорят, случается с австралийцами, когда они теряются в буше[11]; не сомневаюсь, что мне никогда, ни за какие деньги не удалось бы повторить этот путь. Когда наступили сумерки и фонарщики стали зажигать один фонарь за другим, я все еще находился на улице. Вечер был чудесный; хотелось бы, чтобы ты была тогда со мной, дорогая.
— В то время я была еще совсем маленькой девочкой.
— Да, это так. Но вечер и правда был изумительный. Помнится, я шел по небольшой улице, сплошь застроенной одинаковыми мрачными домиками, отштукатуренными и отделанными лепниной; на многих дверях были медные таблички, и на одной из них я прочитал: "Изготовитель коробочек из ракушек". Эта надпись меня очень позабавила: я часто задумывался, кто делает такие коробочки и прочие безделушки из ракушек, которые продаются повсюду на морском побережье. Несколько ребятишек играли на улице; мужчины громко распевали в пивном баре на углу; а я, случайно подняв голову, поразился необыкновенному цвету небес. Я никогда не видел больше такого чуда и не думаю, что такое цветовое сочетание вообще когда-нибудь прежде возникало: темно-синий цвет отливал фиолетовым — такой цвет, говорят, бывает у неба в чужеземных странах. Не знаю, почему — то ли из-за необычного цвета неба, то ли по другой причине — я почувствовал себя как-то странно: казалось, все вокруг меня изменилось, но в чем было дело, я не понимал. Помнится, я рассказал о том, что испытал тогда, одному пожилому человеку, другу моего бедного отца, его уж лет пять, если не больше, как нет на свете, и он, внимательно посмотрев на меня, сказал что-то о волшебной стране; не знаю, что он имел в виду, — думаю, я просто не сумел ему толком объяснить случившееся. Но тогда, поверь, на какой-то момент мне показалось, что эта ничем не примечательная улочка прекрасна, а крики детей и пьяное пение в баре будто слились с небом, став единым целым. Ты ведь знаешь выражение "быть на седьмом небе" — так говорят, когда счастливы. Я ощущал что-то вроде этого: не то чтобы я ступал по облаку, но мне казалось, что тротуар застелен бархатом или тончайшим ковром. А потом — думаю, все дело в разыгравшемся воображении, — сам воздух стал благоухать, как благовония в католической церкви, а мое дыхание стало частым и прерывистым, как бывает, когда ты чем-то взволнован. Никогда я не чувствовал себя так необычно.
Дарнелл внезапно замолчал и посмотрел на жену. Она не спускала с него горящих, широко раскрытых глаз; губы ее были приоткрыты.
— Надеюсь, я не утомил тебя, дорогая, этой невнятной историей. Ты и так сегодня переволновалась с этой глупой девчонкой. Может, тебе лучше лечь пораньше?
— Нет, Эдвард. Пожалуйста, продолжай. Я совсем не устала. Мне нравится, как ты говоришь. Пожалуйста, говори еще.
— Я прошел еще немного, и постепенно это странное ощущение стало блекнуть. Я сказал "еще немного", и я действительно так думал — мне казалось, прошло не больше пяти минут, однако это было не так: когда я ступш на эту улочку, я взглянул на часы, но теперь, когда я вновь посмотрел на них, было одиннадцать часов. За этот интервал я прошел около восьми миль. Я не верил своим глазам, мне казалось, что мои часы взбесились, но позже, проверив, я убедился, что с ними все в порядке. Я так ничего и не понял и до сих пор не понимаю; уверяю тебя, мне казалось, что за это время можно было разве что пройти туда и обратно по Эдна-Роуд. Я же оказался за городом, со стороны леса дул холодный ветер, воздух был наполнен легким шелестом и шуршанием, птичьим посвистом из кустов и нежным журчанием ручейка у дороги. Когда я извлек часы и зажег спичку, чтобы посмотреть время, то понял, что стою на мосту; и тут мне впервые пришло в голову, что я проживаю удивительный вечер. Все было так непохоже на мою обычную жизнь, особенно на ту, что я вел последний год, и мне вдруг показалось, что я совсем не тот человек, который каждое утро отправляется в Сити и каждый вечер возвращается домой, написав груду скучнейших писем. Меня словно перенесли из одного мира в другой. Каким-то образом мне удалось добраться домой, и пока я шел, меня осенило, как лучше провести отпуск. Я сказал себе: "Совершу-ка я пеший поход, как Феррарз, только мой пройдет по Лондону и его окрестностям", и это решение окончательно созрело, когда в четыре утра я входил в свой дом; светило солнце, а улица была тиха и пустынна, как лес в полночь.
— Прекрасная мысль! Ну и как, осуществил ты свое намерение? Купил карту Лондона?
— Да, осуществил. Карты, правда, не покупал это испортило бы дело: тогда все было бы спланировано, обозначено, измерено. А мне хотелось чувствовать, что я иду туда, где никто еще не бывал. Чепуха, правда? Разве есть в Лондоне, да и во всей Англии, такие места?
— Мне кажется, я понимаю, о чем ты. Ты хотел думать, что как бы пускаешься в неизвестное плавание, где тебя могут ждать открытия. Я права?
— Как раз это я и пытаюсь сказать. Кроме того, я не хотел покупать карту. Я ее сделал сам.
— То есть как? Ты выдумал ее из головы?
— Я объясню тебе позже. Но ты правда хочешь услышать о моем великом путешествии?
— Еще как! Наверное, это было замечательно. Необыкновенно оригинальная мысль!
— Я был страшно ею увлечен, и твои слова о неизвестном плавании вызвали у меня воспоминание о пережитых чувствах. В детстве я очень любил книги о великих путешественниках — думаю, все мальчишки их любят, — о моряках, сбившихся с курса и оказавшихся в широтах, где не плавают корабли, и о людях, открывших удивительные города в неведомых странах; на второй день отпуска мне казалось, что во мне ожили чувства, которые я переживал, читая эти книги. Я долго спал в тот день. После пройденных накануне миль я страшно устал, но, позавтракав и набив трубку, пережил восторг. Конечно, все это было сущей ерундой — разве может быть что-то неизвестное и удивительное в Лондоне?
— А почему бы и нет?
— Ну, не знаю, но впоследствии я не раз думал, что был глупым мальчишкой. Но тогда я провел замечательный день, планируя, что буду делать, и почти веря, совсем как ребенок, что меня поджидает нечто невероятное. Больше всего мне доставляла удовольствие мысль, что у меня есть секрет, о котором никто не узнает, и он, что бы я ни увидел, останется моей тайной. То же самое было и с книгами. Конечно, я любил их читать, но при этом никогда не мог отделаться от мысли, что, будь я путешественником, никому бы не рассказал о своих открытиях. Родись я Колумбом и, если б повезло, открой Америку, никому и никогда не сказал бы ни слова об этом. Только подумай, как замечательно бродить по родному городу, говорить с людьми и все это время знать, что далеко за морем есть огромный мир, о котором никто не знает. Вот это было мне по душе! Так же я относился и к задуманному мною путешествию. Я решил, что никто не узнает о нем — до сегодняшнего дня так и было.
— И ты хочешь рассказать мне?
— Ты — другое дело. Хотя не уверен, что даже ты услышишь все, — не потому, что я хочу что-то скрыть, а потому, что я просто не сумею рассказать обо всем, что я видел.
— Обо всем, что ты видел? Значит, тебе действительно удалось найти в Лондоне нечто необыкновенное?
— И да, и нет. Все или почти все, с чем я встретился, видели сотни тысяч людей до меня. И мои сотрудники, как я впоследствии выяснил, знают многое из того, с чем я тогда познакомился. Кроме того, я читал книгу под названием "Лондон и его пригороды". Но (не знаю уж, как это происходит) ни служащие в моей фирме, ни авторы названной книги, похоже, не видели того, что видел я. Поэтому я бросил ее читать: она словно забирала жизнь из всего, лишала сердца, делая все вокруг сухим и бездушным, как чучела в музее.
Я думал о том, что стану делать в этот знаменательный день, и решил лечь спать пораньше, чтобы быть свежим и полным сил. Я плохо знал Лондон, хотя и жил в нем постоянно, редко когда выбираясь в другие места. Конечно же, я хорошо знал его главные улицы — Стрэнд, Риджент-стрит, Оксфорд-стрит и прочие, а также дорогу в школу, куда ходил мальчиком, и теперь еще — дорогу в Сити. Но я знал, как говорят про отары овец в горах, всего несколько "троп", и потому мне было легко представить, что я открываю новый мир.
Дарнелл оборвал словесный поток. Он внимательно всмотрелся в лицо жены, желая понять, не утомил ли он ее, но в устремленных на него глазах прочел только неподдельный интерес — то были глаза женщины, страстно мечтающей о том, чтобы ее посвятили в тайну, и в какой-то мере ждущей этого и не знающей, сколько чудес предстоит ей узнать. Жена сидела спиной к открытому окну, и мягкий сумрак вечера казался тяжелым бархатом, который живописец расположил фоном позади нее; ее рукоделье упало на пол, но она этого не замечала. Подперев голову руками с двух сторон, она смотрела на мужа, и глаза ее были словно лесные колодца, которые Дарнелл видел во сне ночью и о которых грезил днем.
— В то утро в моей голове крутились все невероятные истории, слышанные мною раньше, — продолжал он, словно давая выход мыслям, не оставлявшим его и во время молчания. — Как я уже говорил, вечером предыдущего дня я лег спать рано, чтобы получше отдохнуть, и поставил будильник на три утра, решив выйти из дома в стать необычный для путешествия час. Я проснулся в ночной тиши еще до того, как зазвонил будильник, потом в зелени вяза, росшего в соседнем саду, защебетала и зачирикала какая-то птица; выглянув из окна, я осмотрелся: все вокруг еще спало, а такого чистого и свежего воздуха я никогда не вдыхал. Моя комната располагалась в задней части дома, и за деревьями, которые росли в большинстве садов, проступали дома, протянувшиеся вдоль соседней улицы и казавшиеся крепостной стеной древнего города. Тут как раз выглянуло солнце, залив ярким светом мою комнату. Наступил новый день.
Когда я вновь оказался на незнакомых улицах, меня в очередной раз посетило то странное чувство, которое я пережил два дня назад. Пусть оно было не таким сильным — теперь улицы не источали благовония — и все же достаточным, чтобы я мог ощутить, какой непривычный мир окружает меня. Все, что встречал я на своем пути, можно увидеть на многих лондонских улицах: дикий виноград, обвивающий ограду, или фиговое дерево, жаворонок, распевающий в клетке, дивный куст, цветущий в саду, непривычной формы крыша, балкон с железной решеткой для вьющихся растений. Нет, наверное, ни одной улицы, где вы не увидите хоть что-то из перечисленного, но в то утро все эти вещи как бы заново предстали предо мною, как будто на мне были волшебные очки, и, подобно герою из сказки, я шел и шел вперед. Помнится, я поднялся на взгорье, оказавшись на пустоши; здесь были озера со сверкавшей на солнце водой, а поодаль, затерявшись среди темных, раскачивающихся сосен, стояли высокие белые дома. Свернув, я ступил на тропинку, отходившую от основной дороги, она вела к лесу, и в конце ее стоял в тени деревьев маленький старый домик с круглой башенкой на крыше; его крыльцо украшала железная решетка с вьющимися лозами, краска цвета морской волны на ней выцвела и поблекла; в саду при домике росли длинные белые лил пи — помнишь, мы видели такие в тот день, когда ходили смотреть старые картины? — они отливали серебром и источали нежнейший аромат. Впереди я видел долину и холмы, залитые солнцем. Итак, как уже было сказано, я все шел и шел, минуя леса и поля, пока не достиг на вершине холма небольшого поселка, сплошь состоящего из маленьких домиков, таких старых, что они почти улили в землю; утро было тихим, и голубой дымок из труб устремлялся прямо ввысь; в этой тишине я хорошо слышал доносившуюся из долины старинную песню, ее распевал мальчик по дороге в школу. Пока я шел по пробуждающемуся городку мимо старых, мрачных домов, стали звонить церковные колокола.
Вскоре после того, как я оставил за собой поселок, мне попалась на глаза Волшебная дорога. Я обратил внимание, что она отклонилась от основного пыльного пути и манила меня своей зеленью; не задумываясь, я свернул на нее и скоро почувствовал себя так, словно оказался в другом мире. Не знаю, может быть, то была одна из дорог, что прокладывали древние римляне, о них мне еще рассказывал отец; ноги мои утопали в мягком дерне, а высокий густой кустарник по обеим сторонам выглядел так, словно его не трогали лет сто; разросшиеся, сплетенные ветви сходились над головой, так что я только временами, будто во сне, мог видеть то, что находилось снаружи. Волшебная дорога вела меня за собой, то поднимая, то опуская, иногда розовые кусты сближались настолько, что я с трудом продирался сквозь них, а иногда, напротив, дорога расширялась и становилась чуть ли не лужайкой; однажды в долине ее пересекла речушка, через которую был переброшен старый деревянный мостик. Устав, я прилег в тени ясеня на мягкую траву и проспал много часов подряд, а когда проснулся, день клонился к вечеру. Я опять пустился в путь, и наконец моя зеленая тропа вновь слилась с основной дорогой, а впереди я увидел на взгорье еще один маленький городок, над которым вздымался шпиль церкви, а когда я подошел ближе, то услышал льющиеся оттуда звуки органа и поющего хора.
В голосе Дарнелла звенел восторг, превращавший его рассказ чуть ли не в песню; он сделал глубокий вдох и замолчал, мысленно перенесясь в тот давний летний день, когда по некоему волшебству обычные вещи преобразились в таинственные сосуды, пронизанные священным блеском и красотой нездешнего света.
Мери продолжала сидеть на фоне мягкого вечернего сумрака, и на ее лице играл отблеск этого дивного света, особенно выразительный по контрасту с ее темными волосами. Некоторое время она молчала, а потом заговорила:
— Дорогой, ну почему ты так долго скрывал от меня эти удивительные вещи? Как это прекрасно! Прошу, продолжай!
— Я боялся, что все это покажется тебе вздором, — сказал Дарнелл. — И потом, я не умею объяснить, что чувствую. Не думаю, что могу еще что-то добавить.
— И так продолжалось все дни?
— Ты имеешь в виду — во время отпуска? Да, каждое мое путешествие было успешным. Конечно, не каждый день я забредал так далеко. Это было бы слишком утомительно. Иногда после очередного изнурительного путешествия я отдыхал весь день и выходил всего лишь вечером, когда зажигались фонари, и тогда проходил всего лишь милю или две — не больше. Я бродил по старым, темным паркам и слушал, как ветер с холмов завывает в листве деревьев; когда же я знал, что нахожусь поблизости от какой-нибудь центральной, залитой огнями улицы, то крался еще бесшумнее по улочкам, где был обычно единственным прохожим; фонари там так далеко отстояли один от другого, что, казалось, дают тень, а не свет. По таким темным улицам я медленно бродил около часа и все это время чувствовал то, что, как я тебе говорил, считал моей тайной: эти тени, сумрак, вечерняя прохлада, деревья, больше похожие на низко плывущие темные облака. — все это было только моим; я жил в мире, о существовании которого никто не догадывался и куда никто посторонний не мог попасть.
Помню, одним вечером я забрел довольно далеко, оказавшись в отдаленной западной части города, где было много фруктовых садов и парков, а также просторных лужаек, спускавшихся к деревьям у реки. В тот вечер взошла огромная красная луна, добавив свой особенный блеск в краски заката и нежную дымку облаков; я шел по дороге меж садов, пока не достиг небольшого холма, над которым, словно огромная роза, распустилась луна. В лунном свете я различат фигурки, которые двигались в ряд, друг за другом; согнувшись, они несли на плечах большие тюки. Кто-то пел, потом песню оборвал резкий хриплый смех — похоже, эти надтреснутые звуки издавала старуха. Затем все они растворились в тени деревьев. Наверное, эти люди шли работать в сады или, напротив, возвращались с работы. Но как это видение было похоже на кошмар!
Если я начну рассказывать о Хэмптоне, то никогда не кончу. Я был там как-то вечером, незадолго до закрытия, поэтому народу было очень мало. Буро-красные, молчаливые корты, цветы, уносящиеся с наступлением ночи в некую сказочную страну, темные тисы и статуи, похожие на тени, а в отдалении, за аллеями, неподвижная полоска реки — и все это тонуло в голубоватом тумане, потихоньку скрываясь от человеческих глаз, медленно, надежно, как будто одна за другой опускались вуали на некой торжественной церемонии! Дорогая, что все это могло значить? Далеко за рекой я слышал, как три раза мелодично прозвонил колокол, потом еще три раза и еще три, и когда я пошел прочь, в глазах моих стояли слезы.
Я тогда не знал, где очутился; и только потом выяснил, что, скорее всего, был в Хэмптон-Корте. Один мой коллега сказал, что ходил туда со своей девушкой и отлично провел там время. Сначала они никак не могли выбраться из лабиринта, а потом пошли на реку и чуть не утонули. В галерее они рассматривали непристойные картины, и, но его словам, девушка хохотала до упаду.
Последнее замечание Мери оставила без комментариев.
— Ты говорил, что сделал карту. Какую?
— Как-нибудь покажу ее тебе, если хочешь. Там отмечены все места, которые я посетил, и стоят значки, вроде непонятных буковок, которые должны напоминать мне, что именно я видел в том или другом месте. Никто, кроме меня, в них не разберется. Сначала я хотел нарисовать картинки, но художник из меня никудышный — ничего не получилось. Помню, как я пытался нарисовать городок на холме, к которому пришел на исходе первого дня; я старался изобразить холм и дома на вершине и между домами высоко вздымающийся шпиль церкви, а над все этим, высоко в небе огромная чаша с льющимися из нее лучами. Но тут я потерпел поражение. Хэмптон-Корт я пометил причудливым значком и дал ему выдуманное название.
На следующий день за завтраком Дарнеллы старались не смотреть друг другу в глаза. На рассвете прошел дождь, и воздух стал заметно чище; небо было ярко-синим, с юго-запада по нему плыли белые облака; свежий ветерок весело врывался в распахнутое окно: туман рассеялся. А с туманом, похоже, ушло и то странное состояние, которое охватило супругов прошлым вечером; при свете дня им казалось невероятным, что всего несколько часов назад один из них рассказывал, а другой внимал историям, очень далеким от привычного течения их мыслей и жизни. В их взглядах была робость, они говорили о самых обычных вещах, вроде того, удастся ли хитрой миссис Марри обмануть Элис и сумеет ли миссис Дарнелл убедить девушку, что старуха может руководствоваться самыми гнусными мотивами.
— На твоем месте, — сказал уходя Дарнелл, — я бы пошел в магазин и пожаловался на качество мяса. Та говядина, что мы ели в последний раз, была совсем не качественной — слишком много жил.
Ill
Вечером все могло измениться, и Дарнелл вынашивал план, с помощью которого надеялся многого добиться. Он намеревался спросить жену, согласна ли она пользоваться только одним газовым светильником, под тем предлогом, что у него устают на работе глаза; ему казалось, многое может случиться, если комната будет слабо освещена, окно открыто, а они будут сидеть возле него, смотреть, как сгущаются сумерки, и слушать шелест листвы в саду. Но его планы гак и остались планами, потому что не успел он открыть калитку, как навстречу выбежала вся в слезах жена.
— О, Эдвард! — вскричала она. — Случилась ужасная вещь! Мне он никогда не нравился, но я не думала, что он на такое способен!
— О чем ты? Кого имеешь в виду? Что случилось? Ты говоришь об ухажере Элис?
— Нет, нет. Давай войдем в дом, дорогой. Та женщина в доме напротив смотрит на нас. Она всегда торчит у окна.
— Ну, так в чем дело? — спросил Дарнелл, когда они сели пить чай. — Не тяни! Ты меня напугала.
— Не знаю, как и начать; точнее, с чего. Тетя Мэриан уже несколько недель замечала, что творится что-то неладное. И теперь выяснила… Короче говоря, дядя Роберт связался с какой-то ужасной девицей, и тетя про это узнала.
— Не может быть! Ах он старый греховодник. Ему ведь под семьдесят!
— Дяде Роберту всего лишь шестьдесят пять, а деньги, что он ей давал…
После первой непосредственной реакции Дарнелл решительно взял в руку пирожок.
— Поговорим об этом после чая, — сказал он. — Я не позволю, чтобы нашу трапезу испортил этот старый глупец Никсон. Налей мне чаю, дорогая.
— Отличные пирожки, — проговорил он уже совсем спокойно. — Начинка из ветчины, спрыснутой лимонным соком? А мне казалось, тут есть еще что-то. С Элис сегодня все в порядке? Это хорошо. Надеюсь, она одумается.
Муж продолжал болтать в таком же духе и дальше — к большому удивлению миссис Дарнелл, для которой поступок дядюшки Роберта означал крушение естественного порядка вещей; после получения этого известия, пришедшего с утренней почтой, она почти ничего не ела. Мери довольно рано отправилась на встречу с тетей и большую часть дня провела в зале ожидания для пассажиров первого класса на вокзале Виктории, где и услышала всю историю.
— Ну, а теперь, — сказал Дарнелл, когда со стола унесли грязную посуду, — расскажи мне все. Сколько времени это уже продолжается?
— Припоминая теперь разные мелочи, тетя думает, что этот роман длится не меньше года. По ее словам, поведение дяди долгое время было подозрительно таинственным, и она вся извелась, думая, не связался ли он с анархистами или другими ужасными людьми.
— Но что, черт побери, заставляло ее так думать?
— Ну, раз или два, когда она выходила с мужем на прогулку, ее донимал свист. В Барнете есть дивные места для прогулок, особенно луга возле Тоттериджа, где дядя с тетей любили гулять погожими воскресными вечерами. Она и раньше слышала свист, но однажды он произвел на нее особенно сильное впечатление, она даже спать перестала.
— Свист? — переспросил Дарнелл. — Я что-то не понимаю. Почему ее напугал обыкновенный свист?
— Я объясню тебе. Это произошло одним майским воскресным днем. Теперь тете кажется, что свист мог начаться на неделю или на две раньше, но прежде она замечала только странный хруст со стороны живой изгороди. А в тот майский день не успели они выйти через воротца в поле, как сразу же послышался тихий свист. Тетя не обратила на него внимания, решив, что ни к ней, ни к мужу он не имеет отношения, но вскоре свист повторился; он повторялся снова и снова — словом, сопровождал их всю прогулку, и тетя чувствовала себя крайне неловко, не понимая, кто свистит, откуда и с какой целью. Когда же они покинули луг и вышли на тропу, дядя пожаловался на ужасную слабость и сказал, что хотел бы зайти в местный бар "Терпинз Хед" — глотнуть немного бренди. Взглянув на мужа, тетя увидела, что лицо у него багрового цвета — такое бывает, скорее, при апоплексическом ударе, чем при сердечной слабости, при которой люди бледнеют. Но она промолчала, подумав, что, возможно, у дяди все происходит не так, как у других людей: ведь он все делал по-своему. Поэтому она осталась ждать на дороге, а он тем временем вошел в бар, и тете показалось, что за ним тут же нырнула выступившая из темноты маленькая фигурка, — впрочем, она в этом не уверена. Когда дядя вышел из бара, лицо его было уже не багровым, а просто красным, и, по его словам, он чувствовал себя гораздо лучше; короче говоря, они отправились домой, больше не говоря на эту тему. Дядя ни словом не обмолвился о свисте, а тетя была слишком перепугана, чтобы говорить: она боялась, что их обоих убьют.
Она уже позабыла об этом думать, когда через две недели все повторилось. На этот раз тетя собралась с духом и спросила дядю, что бы это могло быть. И что ты думаешь, тот ответил? "Птички, дорогая, птички". Тетя, естественно, сказала ему, что ни одна птица на свете не способна воспроизвести такие звуки: лукавые, вульгарные и с долгими паузами между отдельными посвистами. На это дядя ответил, что в Северном Миддлсексе и Хертфордшире водится множество диковинных птиц. "Роберт, ты говоришь чепуху, учитывая то, что свист сопровождал нас во время всей прогулки, целую милю, а то и больше", — сказала тетя. И тогда дядя сообщил ей, что некоторые птицы так привязаны к человеку, что следуют за ним иногда несколько миль подряд; по его словам, он как раз недавно читал об одной такой птице в книге о путешествиях. И что ты думаешь? Когда они вернулись домой, дядя действительно показал ей такое место в "Хертфордширском натуралисте", который они выписывали ради одного друга; в этой статье было собрано много материалов о редких птицах их местности; тетя говорит, что никогда не встречала таких диковинных названий, а у дяди еще хватило наглости сказать, что они, скорее всего, слышали кулика, о котором в журнале говорилось, что он издает "низкие, резкие, часто повторяющиеся звуки". Затем он снял с полки книгу о путешествиях по Сибири и показал ей место, где говорилось о человеке, которого весь день сопровождала по лесу какая-то птичка. Теперь тетя Мэриан вспоминает об этом с особым раздражением: как подло было со стороны мужа использовать эти книги в своих гнусных целях! Но тогда, на улице, она просто не могла понять, что он имеет в виду, говоря о птицах в такой глупой и необычной для него манере; они продолжали идти, а гадкий свист все не прекращался; тетя быстро шла, глядя прямо вперед и чувствуя себя, скорее, раздраженной и расстроенной, чем испуганной. Когда они достигли следующих воротец, она прошла первой, оглянулась и — подумать только! — дяди Роберта и след простыл. Тетя вся побелела от страха и тут же, связав его исчезновение с преследующим их свистом, решила, что, должно быть, его похитили, и, как безумная, закричала: Роберт! — и тут из-за угла вышел и он сам, абсолютно невозмутимый, держа что-то в руках. Он сказал, что никогда не мог пройти равнодушно мимо некоторых цветов; увидев в руках у мужа вырванный с корнем обыкновенный одуванчик, бедная тетя почувствовала, что теряет голову.
Тут рассказ Мери был неожиданно прерван. Уже десять минут Дарнелл корчился на стуле, еле сдерживаясь, чтобы не расхохотаться, и терпел страшные муки, только чтобы не ранить чувства жены, однако эпизод с одуванчиком его доконал, и он разразился истерическим, неудержимым смехом, который долгое сдерживание лишь усилило, превратив в подобие боевого клича дикарей. Элис, мывшая на кухне посуду, от неожиданности уронила и разбила фарфоровую чашку ценою в три шиллинга, а соседи выбежали из своих домов, решив, что кого-то убивают. Мери укоризненно посмотрела на мужа.
— Как можешь ты быть таким бесчувственным, Эдвард? — произнесла она, когда Дарнелл совсем ослабел от смеха. — Если бы ты видел, как струились слезы гю щекам тети Мэриан, когда она это рассказывала, то вряд ли стал бы смеяться. Не думала, что ты такой бессердечный.
— Моя дорогая Мери, — слабым голосом проговорил Дарнелл, задыхаясь от смеха. — прости меня. Я понимаю, как все печально, и не такой уж я бессердечный, но, согласись, история очень странная. Сначала кулик, а потом одуванчик!
Лицо его исказила судорога, и он стиснул зубы, стараясь сдержать новый приступ хохота. Мери сурово посмотрела на него, а потом закрыла лицо руками, и Дарнелл увидел, что она тоже трясется от смеха.
— И я не лучше тебя, — вымолвила она наконец. — Раньше я как-то не видела у этой истории смешной стороны. И это хорошо. Представь, что бы было, если б я рассмеялась тете Мэриан прямо в лицо! Бедняжка, она гак плакала, что сердце разрывалось. Мы встретились, по ее предложению, на вокзале Виктории, пошли в кондитерскую и взяли там супу. Я к нему почти не притронулась, слезы тети все время капали ей в тарелку, а потом мы перешли в зал ожидания, и там она отчаянно рыдала.
— Ну хорошо, — сказал Дарнелл, — что же случилось потом? Я больше не буду смеяться.
— Да уж, не стоит. Дело серьезное. Ну, тетя вернулась домой и все думала и думала, что это может значить, но, по ее словам, так ни до чего и не додумалась. Она боялась, что психика дяди не справляется с постоянными перегрузками: он допоздна задерживался в Сити (по его словам, работая) и ездил в Йоркшир (вот ведь старый враль!), где якобы вел запутанное дело, связанное с имущественными вопросами. Но по здравом размышлении она пришла к выводу, что, в каком бы состоянии ни находился муж, он никак не мог сам вызвать этот свист, хотя (она это признает) у него всегда были чудачества. Откинув такое предположение, она задумалась, все ли в порядке с ней самой? Она где-то читала, что некоторые люди слышат несуществующие звуки. Но и тут были свои неувязки: пусть свист — плод ее воображения, но как быть с одуванчиком, или с куликом, или с удивительным обмороком, при котором человек краснеет, а не бледнеет, и со всеми прочими дядиными странностями? Но словам тети, она не придумала ничего лучше, как читать ежедневно Библию, начав с самого начала, и, дойдя до Паралипоменона, почувствовала себя гораздо лучше — тем более, что три пли четыре воскресных дня прошли без осложнений. Она однако не могла не заметить, что дядя стал более рассеянным и меньше уделяет ей внимания, но отнесла это опять же за счет его перегруженности: ведь он всегда возвращался домой с последним поездом, а раза два, когда он приехал домой между тремя и четырьмя часами утра, ему пришлось даже нанимать экипаж. В конце концов тетя решила, что нет смысла забивать себе голову тем, что нельзя объяснить или изменить, и постаралась успокоиться, но тут в очередное воскресенье все опять повторилось — и в худшем варианте. Как и прежде, всю прогулку их сопровождал свист; стиснув зубы, тетя молчала, ничего не говоря мужу, потому что знала: он опять примется нести прежнюю чепуху; так они шли, не говоря ни слова, а потом что-то заставило тетю обернуться, и она увидела, что какой-то скверный рыжий мальчишка подсматривает за ними из-за куста, гадко улыбаясь. Тетя рассказывала, что у мальчишки было отвратительное лицо, показавшееся ей неестественным, как будто это был карлик, но она не успела рассмотреть его как следует: тот моментально скрылся в зарослях, а тетя чуть не потеряла сознание.
— Рыжий мальчишка? — переспросил Дарнелл. — А я думал… Какая все же удивительная история. Никогда не слышал ничего подобного. И что это был за мальчик?
— В свое время узнаешь, — ответила миссис Дарнелл. — Не правда ли все это странно?
— Очень! — Дарнелл на какое-то время задумался. — Я вот что думаю, Мери, — сказал он наконец. — Этому поверить невозможно. Мне кажется, твоя тетя сходит с ума или уже сошла, и у нее начались галлюцинации. Вся история похожа на бред сумасшедшего.
— А вот тут ты ошибаешься. Рассказ тети — правда от начала до конца, но если ты позволишь мне продолжать, то сам в этом убедишься.
— Хорошо, продолжай.
— На чем я остановилась? Ах да, тетя увидала в кустарнике мальчишку, скалившего зубы. Сначала она испугалась: лицо его было каким-то уж очень странным, но потом взяла себя в руки, подумав: "Лучше рыжий мальчишка, чем взрослый мужчина с ружьем". Кроме того, она решила повнимательнее наблюдать за дядей Робертом, потому что видела: ничто не ускользнуло от его внимания. Создавалось впечатление, что он мучительно над чем-то размышляет, не зная, как поступить: он, как рыба, то открывал, то закрывал рот. Словом, она держала себя как обычно и молчала, даже когда муж сказал, что закат сегодня особенно красив. <Ты не слушаешь меня, Мэриан?" — спросил он сердито и громко, как будто она находилась далеко. Тетя извинилась, сказав, что от холода действительно стала хуже слышать. Было видно, что дяде это понравилось; он явно почувствовал облегчение, и тетя понимала: он думает, что она не слышала свист. Потом дядя, притворившись, что увидел красивую ветку жимолости на верхушке куста, сказал, что хочет сорвать ее для тети, пусть только она пройдет вперед, чтобы не волноваться, когда он полезет за веткой. Тетя для виду согласилась, а сама, сделав несколько шагов, спряталась в кустах, откуда с легкостью могла следить за мужем — правда, тут же сильно поцарапала лицо колючками. Через минуту-другую из кустарника вылез все тот же мальчишка (еще не стемнело, и его ярко-рыжие волосы были хорошо видны), и дядя заговорил с ним. Потом дядя потянулся к нему рукой, как будто хотел схватить, но мальчишка метнулся в кусты и исчез. Тогда тетя промолчала, но когда они вернулись домой, объявила дяде, что все видела, и попросила объяснений. Сначала тот растерялся, стал заикаться и запинаться, обвинил тетю в попытках шпионить за ним, а потом потребовал, чтобы она поклялась никому не говорить о том, что сейчас узнает: дело в том, что он занимает высокое положение в масонском обществе, а мальчик — эмиссар общества, доставивший ему важное послание. Тетя не поверила ни единому слову мужа: ее родной дядя был масоном, и он никогда не вел себя подобным образом. Тогда-то она и стала думать, что дядя связался с анархистами или еще с каким-то сбродом, и каждый раз, когда в дверь звонили, она боялась, что все раскрылось и за дядей пришла полиция.
— Какая чушь! Ни один домовладелец никогда не свяжется с анархистами.
— Видишь ли, она догадывалась, что здесь нечисто, и не знала, что думать. А потом ей стали приходить по почте разные вещи.
— Вещи по почте? Что ты имеешь в виду?
— Самые разные вещи: бутылочные осколки, тщательно упакованные, словно драгоценности; рулоны свернутой бумаги, в середине которых не было ничего, кроме написанного крупными буквами слова "шлюха"; старая искусственная челюсть; тюбик красной краски; и наконец тараканы.
— Тараканы по почте? Ну, уж это полная ерунда. Тетя точно свихнулась.
— Эдвард, она показала мне пачку из-под сигарет с тремя дохлыми тараканами внутри. А когда она нашла в кармане дядиного пиджака точно такую же начатую пачку сигарет, она чуть сознания не лишилась.
Дарнелл тяжело вздохнул, ерзая на стуле: история семейных неурядиц тети Мэриан все больше напоминала дурной сон.
— Это еще не все?
— Дорогой, я и половины тебе не рассказала из того, что поведала мне сегодня днем бедная тетя. Однажды вечером ей показалось, что она увидела в зарослях призрака. Тетя тогда ждала, что вот-вот выведутся цыплята, и потому на всякий случай вышла из дома с нарубленными яйцами и хлебными крошками. И тут увидела, как кто-то прошмыгнул рядом с рододендронами. Ей показалось, что это был невысокого роста худощавый мужчина, одетый по старинной моде: на боку у него висел меч, а шляпу украшали перья. По ее словам, она чуть не умерла со страха, и несмотря на то, что всячески старалась убедить себя, что мужчина ей померещился, войдя в дом, тут же потеряла сознание. Дядя в тот вечер как раз был дома 11, когда она пришла к нему и все рассказала, выбежал на улицу и пробыл там полчаса или даже больше, а вернувшись, сказал, что никого не нашел. Через несколько минут тетя вновь услышала тихий свист за окном, и дядя опять выбежал на улицу.
— Дорогая Мери, давай не будем уклоняться от сути дела. К чему ты ведешь?
— А ты еще не догадался? Каждый раз это была все та же женщина.
— Как женщина? Мне казалось, ты говорила о рыжем мальчишке.
— Как ты не понимаешь? Она актриса и каждый раз переодевалась. Ни на минуту не отпускала от себя дядю. Мало того, что он проводил с ней все вечера по будням, она хотела и но воскресеньям его видеть. Все вышло наружу, когда тетя нашла письмо, написанное этой ужасной женщиной. Она называет себя Энид Вивьен, хотя не думаю, что она заслуживает право иметь вообще какое-нибудь имя. Вопрос в том, что теперь делать?
— Мы еще об этом поговорим. А сейчас я докурю трубку, и мы отправимся спать.
Они уже засыпали, когда Мери вдруг сказала:
— Ну, не странно ли, Эдвард? Вчера ты рассказывал мне о таких прекрасных вещах, а сегодня я вывалила на тебя все эти гадкие рассказы о проделках старика.
— Что тебе сказать? — сонным голосом проговорил Дарнелл. — На стенах той высокой церкви на холме я видел вырезанных на камне странных, скалящих зубы чудищ.
Дурное поведение мистера Роберта Никсона привнесло в жизнь супругов в высшей степени необычные вещи. И дело ие в дальнейшем развитии фантастических перипетий истории, вовсе пет. Когда же тетушка Мэриан в один воскресный день приехала в Шепердз-Буш, Дарнелл не мог понять, как он мог быть настолько бессердечным, что позволил себе смеяться над несчастьем бедной женщины.
Прежде он никогда не видел тетю жены и, когда Элис привела ее в сад, где они сидели в этот теплый и туманный сентябрьский день, был поражен ее видом. Для него тетя всегда, за исключением последних дней, ассоциировалась с блеском и успехом: жена постоянно говорила о семействе Никсонов с благоговением; он много раз слышал семейную сагу о трудном пути мистера Никсона наверх — медленном, но триумфальном его восхождении. Мери повторяла эту историю в том варианте, какой слышала от своих родителей; начиналась она с бегства молодого человека в Лондон из скучного и бедного городка в центральной части страны; было это давно, когда у молодого провинциала еще были шансы на то, чтобы разбогатеть. Отец Роберта был скромным бакалейщиком на Хай-стрит; со временем, преуспев, удачливый торговец углем и впоследствии подрядчик любил рассказывать о скучной провинциальной жизни и, похваляясь своими победами, давал слушателям понять, что происходит из семьи, которая умела и раньше добиться своего. Это было давно, говорил он, когда те немногие, кто хотели уехать в Лондон или Йорк, должны были вставать ни свет ни заря и брести миль десять тропами через болота, чтобы попасть на Большую северную дорогу[12] и сесть там на "Молнию" — это транспортное средство во всей округе расценивалось как зримое воплощение громадных скоростей, "действительно, прибавлял Никсон, экипаж всегда приходил вовремя, чего нельзя сказать о нынешних поездах на Данхемской линии! Именно в этом Данхеме Никсоны около ста лет успешно торговали в лавке, окна которой выходили на рыночную площадь. У них не было конкурентов, и горожане, зажиточные фермеры, священнослужители и поместное дворянство смотрели на лавку Никсонов как на учреждение столь же вечное и неотменяемое как ратуша (стоявшая еще на римских опорах) и приходская церковь. Но все меняется: железная дорога подходила все ближе и ближе, фермеры и сельские помещики беднели; развивавшийся в этих местах дубильный промысел не выдержал конкуренции с большим бизнесом в более крупном городе на расстоянии двадцати миль от Дан-хема, и благосостояние города упало. Этим и объясняется бегство Роберта из родных мест, и, рассказывая об этом, он подчеркивал, как бедны были его родители, как, устроившись в Сити, он понемногу откладывал деньги из своего жалкого жалованья простого служащего, и как он и еще один клерк, "получавший сто фунтов в год", обнаружили нишу в торговле углем и заняли ее. Именно на этом, еще далеко не блестящем этапе его деловой карьеры он познакомился с мисс Мэриан Рейнольдс, которая приехала в Ганнерсбери навестить подругу. Потом ему с завидным постоянством сопутствовала удача; пристань Никсона стала широко известна среди моряков; его влияние вышло за пределы страны; его баржи ходили по каналам до моря и в глубь страны. Теперь к прочим товарам прибавились известь, цемент и кирпичи, и наконец Никсон напал на золотую жилу — стал скупать земельные участки на севере Лондона. Сам Никсон приписывал этот coup[13] своей врожденной проницательности и наличию капитала; однако ходили темные слухи, что в ходе сделки кое-кого "надули". Как бы то ни было, Никсоны основательно разбогатели, и Мери часто рассказывала мужу о роскошном стиле их жизни — слугах в ливреях, богатой гостиной, просторной лужайке перед домом с могучим старым кедром, дающим благодатную тень. И Дарнелл привык думать о хозяйке этого владения как о существе необыкновенном. Он представлял себе ее высокой дамой с величественной осанкой, возможно, несколько склонной к полноте — насколько это допустимо для пожилой женщины в ее положении, живущей богато и не имеющей ника-kИx забот. Он даже как бы видел легкий румянец на ее щеках, так идущий к ее начинающим седеть волосам, и потому, когда, сидя в воскресный день под вязом, он услышал звонок, то подался вперед, чтобы лучше рассмотреть статную даму, одетую, конечно же, в роскошный, иссиня-черный шелк и всю увешанную тяжелыми золотыми цепями.
Дарнелл даже вздрогнул от изумления, увидев странное существо, выходящее за служанкой в сад. Миссис Никсон оказалась маленькой худенькой старушкой, она семенила за Элис, глядя под ноги, и не оторвала глаза от земли, даже когда Дарнелл поднялся, приветствуя ее. Обмениваясь с Дарнеллом рукопожатием, она беспокойно смотрела налево, а когда Мери целовала ее — направо; когда же ее усадили на садовую скамейку, положив подушку под спину, она отвернулась, уставившись на задние стены домов на соседней улице. Она действительно была во всем черном, но даже Дарнелл понимал, что платье ее старое и потрепанное, мех на плаще и на боа, накинутом на плечи, — выцветший и какой-то сомнительный; он имел тот особый унылый вид, который есть только у тех мехов, что продают в магазинах "се-конд-хэнд" на окраинах. Что до черных лайковых перчаток, то они от долгой носки были все в трещинках, на кончиках пальцев выцвели и приобрели синеватый оттенок, а также выдавали регулярные попытки владельца их починить. Прилипшие ко лбу волосы были тусклы и бесцветны, хотя тетя явно пользовалась каким-то жиром, чтобы придать им блеск; сверху была нацеплена старомодная шляпка, украшенная черными подвесками, которые при ходьбе, задевая друг друга, отчаянно гремели.
И в самом лице миссис Никсон не было ничего от того облика, который воображал Дарнелл. У нее было бледное морщинистое худое лицо, заостренный нос и глаза с покрасневшими веками какого-то неопределенного водянисто-серого цвета; они, казалось, съеживались от падающего на них света или взглядов других людей. Глядя, как она сидит рядом с женой на скамейке, Дарнелл, устроившийся на принесенном из гостиной плетеном стуле, не мог не видеть, что это крохотное, эфемерное существо, что-то тихо бормочущее в ответ на вежливые расспросы Мери, бесконечно далеко от сложившегося в его представлении образа богатой и могущественной тети, которая может в качестве подарка на день рождения отвалить целую сотню фунтов. Поначалу она мало говорила; да, она очень устала, такая жара, а одежду полегче надеть побоялась: в это время года никогда нельзя знать, как погода изменится к вечеру: после захода солнца есть вероятность холодных туманов, а она не хочет рисковать и заработать бронхит.
— Я уж думала, что никогда сюда не доберусь, — продолжала тетя, и голос ее жалобно зазвенел. — Понятия не имела, что вы живете в таком отдаленном месте; я не была в этих краях много лет.
Тетя утерла глаза, вспоминая, без сомнения, дни, проведенные в Тернхем-Грин сразу после замужества с Никсоном; после того как платочек выполнил свою работу, она вновь положила его в видавшую виды черную сумку, которую она, скорее, стискивала, чем просто держала. Дарнелл обратил внимание, что сумка набита до отказа, и стал без особого интереса размышлять, что бы там могло быть; скорее всего, письма, подумал он, дополнительные доказательства предательских и коварных поступков дяди Роберта. Он чувствовал себя очень неловко, видя, что тетушка избегает смотреть на них с женой, и в конце концов встал и направился в дальний конец сада; там он закурил трубку и стал прохаживаться взад-вперед по гравиевой дорожке, продолжая удивляться тому, что пропасть между реальным и вымышленным образом оказалась так велика.
Потом он услышал шепот и увидел, что миссис Никсон склонилась к жене. Мери поднялась и пошла к нему.
— Пожалуйста, посиди в гостиной, Эдвард, — шепнула она мужу. — Тетя говорит, что не может обсуждать в твоем присутствии такие интимные вещи. Ее можно понять.
— Хорошо, только я не пойду в гостиную, а лучше погуляю. Не волнуйся, если я немного задержусь, — сказал Дарнелл. — Если тетя уедет до моего возвращения, попрощайся с ней от моего имени.
Дарнелл неторопливо дошел до большой дороги, где громыхая ходили трамваи. Он никак не мог отделаться от неприятного чувства неловкости и смущения и, покинув дом, а вместе с ним и миссис Никсон, надеялся восстановить душевное равновесие. Ее горе из-за подлого поведения мужа заслуживало всяческого сочувствия, однако Дарнелл, к своему стыду, глядя, как она сидит в его саду в убогой черной одежде и вытирает мокрым платком покрасневшие глаза, испытывал к ней неодолимое физическое отвращение. В юности он как-то был в зоопарке и до сих пор не мог забыть того чувства гадливости, какое пережил при виде некоторых пресмыкающихся, медленно переползающих друг через друга в илистом пруду. Дарнелла ужаснуло сходство между этими двумя ощущениями, и, желая избавиться от смутных и неприятных переживаний, он быстро зашагал по ровной и однообразной дороге, глядя по сторонам на некрасивую воскресную жизнь лондонских окраин.
Некоторая старомодность, все еще ощущаемая в Эктоне, внесла мир в его мысли, заставив позабыть недавние раздумья, а когда со временем он удалился достаточно далеко, за крепостной вал, то больше не слышал ни громких визгов, ни смеха людей, наслаждающихся отдыхом; выйдя на небольшой лужок, он мирно уселся под деревом, откуда была хорошо видна красивая долина. Солнце уже опустилось за холмы, облака превратились в подобие цветущих розовых кустов, а Дарнелл все продолжал сидеть в сгущающихся сумерках, пока его не охватил прохладный ветерок; тогда он со вздохом поднялся и пошел назад — к крепостной стене и освещенным улицам, по которым унылой толпой слонялись праздные гуляки. Дарнелл шептал про себя слова, похожие на волшебную песню, и с легким сердцем вернулся домой.
Мери сказала, что миссис Никсон уехала за час до его прихода. Дарнелл с облегчением вздохнул при этом известии, и они с Мери вернулись под свое дерево, где сели рядышком.
Некоторое время супруги сидели молча, а потом Мери заговорила, и голос ее при этом нервно дрожал.
— Мне нужно кое-что сказать тебе, Эдвард, — начала она. — Тетя сделала одно предложение, о котором ты должен знать. Мне кажется, нам надо его хорошенько обдумать.
— Предложение? А как ее дела? Эта история все еще продолжается?
— О, да! Она мне все рассказала. Дядя ни в чем не раскаивается. Кажется, он снял для этой женщины где-то в городе квартиру и обставил ее, истратив на это кучу денег. В ответ на упреки тети он только смеется и говорит, что хочет наконец-то пожить в свое удовольствие. Ты обратил внимание, как она подавлена?
— Да, очень подавлена. Но разве он не дает ей деньги? Для женщины ее положения она очень плохо одета.
— У тети множество прекрасных вещей, но, я думаю, она бережет их: у нее страх, что она их испортит. Уверяю, деньги здесь ни при чем: два года назад, когда дядя был еще идеальным мужем, он положил на ее имя очень большую сумму. Вот об этом я и хочу поговорить. Тетя хотела бы поселиться у нас. Она собирается очень хорошо платить. Что ты на это скажешь?
— Поселиться у нас? — воскликнул Дарнелл, уронив на траву трубку. Его поразила мысль, что тетя Мэриан станет их жилицей, и он сидел, глядя перед собой с отсутствующим видом и задаваясь вопросом, не принесет ли вечерний мрак еще один кошмар.
— Понимаю, такой вариант тебе не по душе, — продолжала жена. — Но мне кажется, дорогой, нельзя отказываться, не взвесив серьезно все "за" и "против". Боюсь, тетя тебе не очень понравилась.
Дарнелл молча покачал головой.
— Я так и подумала; бедняжка так расстроена, ты познакомился с ней не в самое лучшее время. На самом деле она очень главная. Послушай меня, дорогой. Ты думаешь, мы можем позволить себе отказаться от ее предложения? Как я тебе сказала, у нее много денег, но я не сомневаюсь, откажись мы, она очень обидится. Или вдруг что-то случится с то бой? Что тогда мне делать? Ты ведь знаешь, у нас еще мало сбережений.
Дарнелл тяжело вздохнул.
— Мне кажется, это испортит нам жизнь, — сказал он. — Мы ведь и сами не очень счастливы, дорогая Мери. Естественно, мне очень жаль тетю. Полагаю, ее надо поддержать. Но если она будет жить здесь все время…
— Понимаю, дорогой. Не думай, что я не смотрю вперед. Мне никто, кроме тебя, не нужен. И все же нам надо позаботиться о будущем, а с тетей мы сможем жить гораздо лучше. Я смогу немного баловать тебя, а ведь ты заслуживаешь этого: тебя так загружают в Сити. Наш доход удвоится.
— Ты хочешь сказать, она станет платить нам сто пятьдесят фунтов в год?
— Вот именно. И еще заплатит за обстановку пустой комнаты и за все остальное, что захочет иметь. Она сказала, что если ее навестят подруги, она оплатит стоимость дров для камина, добавит кое-что за свет и приплатит несколько шиллингов служанке за дополнительную нагрузку. Наш доход на самом деле увеличится даже больше, чем вдвое. Теперь ты видишь. Эдвард, дорогой, что такого предложения мы ни от кого другого не получим. Кроме того, как я уже сказала, надо смотреть вперед. Кстати, ты очень понравился тете.
Дарнелл внутренне содрогнулся, а жена продолжала приводить дальнейшие доводы.
— Не думай, мы не будем проводить с ней много времени. Тетя завтракает в постели и, как она мне сама сказала, обычно будет уходить к себе в комнату сразу после обеда. Думаю, мило и тактично с ее стороны подумать об этом. Она понимает, что нам не очень понравится, если кто-то третий будет постоянно с нами. Тебе не кажется, Эдвард, что, учитывая все это, нам следует принять ее предложение?
— Думаю, следует, — вздохнул Дарнелл. — Ты права, с финансовой точки зрения это очень выгодное предложение, и, боюсь, отказаться от него неосмотрительно. Но, признаюсь тебе, я далеко не в восторге.
— Я рада, что ты со мной согласен, дорогой. Поверь, все будет не так уж плохо. И помимо всех преимуществ, мы еще просто поможем тете. Бедняжка, как горько она плакала, когда ты ушел; она сказала, что решила больше ни минуты не оставаться в доме дяди Роберта, но не знает, куда пойти, и, если мы откажемся приютить ее, она ума не приложит, что с ней станется. Она совсем раздавлена горем.
— Хорошо, давай попробуем год пожить вместе. Возможно, все сложится так, как ты говоришь. Не так плохо, как кажется сейчас. Может, вернемся в дом?
Дарнелл наклонился, чтобы поднять с земли трубку. Ему не удалось ее нащупать, и тогда он зажег спичку. Рядом с трубкой под скамейкой валялось что-то, напоминающее вырванную из книги страницу. Дарнеллу стало любопытно, и он ее поднял.
В гостиной зажгли свет, и миссис Дарнелл уже достала писчую бумагу, чтобы тут же написать миссис Никсон и сообщить, что они с радостью принимают ее предложение, когда ее испугал удивленный крик мужа.
— Что случилось? — спросила она, пораженная столь необычным для мужа проявлением чувств. — С тобой все в по рядке?
— Только взгляни, — ответил Дарнелл, протягивая ей листок. — Я нашел это под скамейкой.
Мери удивленно посмотрела на мужа и прочла следующее:
НОВОЕ И ИЗБРАННОЕ СЕМЯ АВРААМОВО
Пророчества, которые осуществятся в этом году:
1. Флот из ста сорока четырех судов отправится в Тарсис и на Острова.
2. Уничтожение могущества Пса, в том числе и всех антиавраамовских законов.
8. Возвращение флота из Тарсиса с аравийским золотом, которое послужит основанию Нового Града Авраамова.
4. Поиск Невесты и передача власти Семидесяти Семи.
5. Лик Отца озарится большей славой, чем лик Моисея.
6. Папу Римского побьют камнями в долине под названием Берек-Зиттор.
7. Отца признают Три Великих Правителя. Два Великих Правителя отвергнут Отца и тут же сгорят в огне Его гнева.
8. Уменьшится власть Зверя, и повергнутся в уныние Судьи.
9. Невесту найдут в Земле Египетской, которая, как открыли Отцу, теперь находится в западной части Лондона.
10. Новый Язык даруется Семидесяти Семи и Ста Сорока Четырем. Отец войдет в Брачные Покои.
11. Лондон будет разрушен, а на его месте возведут город по названию По, который станет Новым градом Авраамовым.
12. Отец воссоединится с Невестой, а нынешняя Земля за полчаса переместится к Солнцу.
Лицо миссис Дарнелл просветлело, когда она прочитала этот текст, который показался ей, несмотря на всю его бессвязность, вполне безобидным. Услышав восклицание мужа, она было подумала, что увидит нечто более страшное, чем список туманных пророчеств.
— Ну, и что тут такого? — сказала она.
— Как, что такого? Неужели ты не понимаешь, что листок уронила твоя тетя, и значит, она совсем безумна.
— Не говори так, Эдвард. Во-первых, откуда тебе известно, что он принадлежит тете? Его могло занести ветром из другого сада. И даже, будь он тетин, это еще не повод называть ее безумной. Сама я не верю, что в наше время встречаются настоящие пророки, но многие хорошие люди думают иначе. Я знала одну пожилую даму, которая была безусловно хорошим человеком и каждую неделю покупала газету, где печатались разные предсказания. Никто не называл ее сумасшедшей, и я слышала, как отец говорил, что таких способностей к бизнесу он ни у кого не встречал.
— Хорошо, думай, как хочешь. Но поверь, мы еще пожалеем.
Какое-то время оба молчали. Вернулась домой после воскресных свободных часов Элис, а они все сидели в гостиной, пока миссис Дарнелл не сказала, что устала и хочет лечь спать.
Муж поцеловал ее:
— Пожалуй, я еще посижу, дорогая, а ты иди. Мне нужно все обдумать. Нет, не волнуйся, я не изменю своего решения: твоя тетя может переезжать к нам. Но кое-что не дает мне покоя, и я хотел бы в этом разобраться.
Дарнелл долго размышлял, меряя шагами комнату. Свет понемногу гас то в одном, то в другом окне на Эдна-Роуд; люди из соседних домов уже крепко спали, а в гостиной у Дарнеллов все горел свет, и хозяин дома ходил взад-вперед по комнате. Он думал о том, что их жизнь с Мери, всегда такая спокойная, стала принимать какие-то гротескные и фантастические формы, в ней появились приметы смуты и беспорядка, угроза сумасшествия, странные вещи из другого мира. Похоже на то, как если бы на тихих, сонных улицах старого поселения на холмах вдруг послышались барабанная дробь, звуки свирели, неистовая, дикая песня, и на рыночную площадь вдруг высыпала шумная толпа пестро одетых артистов, которые бы лихо отплясывали под свою бешеную музыку, вытаскивая горожан из уютных, безопасных домов на улицы и соблазняя их принять участие в необычном танце.
И все же Дарнелл и вдали, и вблизи (ведь это скрывалось в его сердце) видел мерцающий свет надежной и верной звезды. А внизу сгущалась тьма; туман и мгла заволокли город. Красноватое дрожащее пламя факелов вспыхивало тут и там. Песня звучала все громче, в ней нарастали нездешние звуки, они то взлетали, то опускались в каких-то неземных модуляциях, словно становясь неким заклинанием: барабаны бешено выбивали дробь, свирель пронзительно визжала — они звали всех выйти из дома, покинуть мирные очаги: странный ритуал свершался на улицах. Эти улицы, обычно такие тихие, усмиренные прохладной и умиротворяющей пеленой темноты, мирно спящие под покровительством вечерней звезды, теперь сотрясались в пляске вместе с фонарями, оглашаясь криками тех, кто рвался вперед, словно обезумев; песня ширилась и разрасталась, стук барабанов усиливался, а посредине разбуженного города причудливо наряженные артисты исполняли танец при свете ярко горящих факелов. Дарнелл не знал, были ли они действительно артистами — людьми, которые как пришли, так и уйдут по тропе, ведущей в горы: или они на самом деле чародеи, способные совершать удивительные чудеса и знающие тайное заклинание, по которому Земля может превратиться в преисподнюю, а те, кто слушает их и взирает на происходящее, будут обмануты этим зрелищем, втянуты в изысканные фигуры таинственного танца и унесены ветром в бесконечные и отвратительные лабиринты в горах, чтобы скитаться там до бесконечности.
Но Дарнелл ничего этого не боялся: ведь у него в сердце зажглась Утренняя звезда[14]. Она была там и раньше, но постепенно свет ее становился все ярче и ярче: Дарнелл теперь понимал, что, несмотря на то, что его земная жизнь проходит в древнем городе, осажденном чародеями, которые принесли с собой свои песни и процессии, он также пребывает в ясном и спокойном мире света и взирает с этой громадной, немыслимой высоты на мирскую суету, на разные обряды, в которых не является подлинным участником, слушает магические песни, которые никогда не смогут выманить его из-за стен его высокого и священного града.
Когда Дарнелл лег подле жены и заснул, сердце его переполняли радость и покой, и проснувшись утром, он вновь почувствовал себя счастливым.
В начале следующей недели мысли Дарнелла были как бы окутаны легкой дымкой. Возможно, природа не наградила его практичностью или тем, что обычно называют "здравым смыслом", но воспитание привило ему вкус к ясным и простым состояниям рассудка, и он со смущением и скрытым беспокойством вспоминал необычные мысли, посетившие его воскресным вечером, которые он не сумел объяснить, так же как не люба! находить объяснение своим причудам в детские и юношеские годы. Сначала Дарнелла раздражало, что ему не везет; утренняя газета, которую он всегда покупал, когда омнибус задерживался на Аксбридж-Роуд, выпала из его рук непрочитанной в то время, как он убеждал себя, что театральное появление в их доме нелепой старухи, пусть и достаточно надоедливой, не могло считаться разумным объяснением того, что он впал в загадочную прострацию, а мысли приняли необычный, фантастический поворот, оформляясь на незнакомом языке, который он почему-то понимал.
Такие вот проблемы озадачивали его на долгом привычном подъеме у Голландского парка и дальше, когда омнибус проезжал толкучку у Ноттинг-Хилл-Гейт, откуда одна дорога вела в укромное местечко, где виднелись крыши коттеджей и прочих построек Бейсуотера, а другая — в мрачный район трущоб. Вокруг Дарнелла сидели привычные спутники его утренних поездок; он слышал, как они тихо переговариваются между собой, обсуждая политические проблемы, и мужчина, сидевший рядом и тоже ехавший из Актона[15], спросил у Дарнелла, что тот думает о нынешнем правительстве. Впереди шел громкий и оживленный спор, что такое ревень — фрукт или овощ; среди прочих голосов Дарнелл различил голос Редмана, соседа по улице, который хвалил жену за экономность:
— Не знаю, как ей это удается. Знаете, что мы ели вчера? На завтрак: рыбные пирожки, великолепно поджаренные, пышные, с добавлением разных травок; этот рецепт ей дала тетя, вам надо непременно их попробовать. Кофе, хлеб, масло, джем и все остальное, что положено на завтрак. Теперь обед: ростбиф, йоркширский пудинг, картофель, зеленые овощи, соус из хрена, сливовый пирог, сыр. Где вы найдете обед лучше? По мне, так он просто великолепен.
Несмотря на эти отвлекающие моменты, Дарнелл все же предался мечтаниям в мерно покачивающемся омнибусе, везущем его в Сити, но и тогда пытался он разрешить загадку вчерашнего бдения; контуры деревьев, зеленые лужайки и дома, проносящиеся перед его глазами, люди на тротуарах, уличный гомон, звенящий в ушах, — все казалось ему новым и непривычным, словно он продвигался по улицам незнакомого города в чужой стране. Возможно, именно в это утреннее время, когда он ехал, чтобы делать свою механическую работу, смутные образы, которые давно уже бродили в его сознании, выливались в определенные умозаключения, с которыми он при всем желании не мог не считаться. Дарнелл получил то, что называют солидным коммерческим образованием, и потому с большим трудом оформлял серьезные мысли в понятные и законченные фразы; но в такое утро он не сомневался в том, что "здравый смысл", который при нем всегда превозносили как высшую человеческую добродетель, был, по всей видимости, всего лишь мельчайшей и ничтожнейшей вещью в интеллектуальном снаряжении муравья. И сразу за этой мыслью, как ее естественное продолжение, пришло твердое убеждение, что человеческая жизнь дошла до полного абсурда; его самого, всех его друзей, знакомых и коллег интересовали вещи, которые изначально не должны были интересовать людей; все они стремились к тому, к чему человеку не предназначено стремиться; они были благородными камнями из алтаря, а пошли на фундамент хлеву. Дарнеллу казалось, что жизнь — это великий поиск; чего? — он не знал; за множество лет подлинные указатели на путях один за другим разрушились или оказались преданы забвению; значения написанных на них слов были постепенно забыты; указатели один за другим стали показывать неправильное направление; настоящие входы заросли: сам путь переместился с высот в низины; и наконец племя пилигримов выродилось, превратившись в наследственных камнебойцев и землекопов, работавших на этом пути, который теперь, если и вел куда-то, то только в пропасть. Сердце Дарнелла замирало от странного и волнующего чувства, от нового ощущения, которое появилось, когда он осознал, что большая потеря может быть и не безнадежной, а трудности не обязательно непреодолимыми. Вполне возможно, думал он, что камнебойцу достаточно отбросить свой молот и пуститься в путь, и тот станет для него прямой дорогой; и всего лишь один шаг в сторону навсегда избавит землекопа от вонючей канавы.
Конечно, все эти вещи открывались ему медленно и с трудом. Ведь он был одним из клерков в Сити, а эта порода людей "пышно произрастала" в конце девятнадцатого века, да и всю чепуху, которая накапливалась столетиями, нельзя было разгрести за короткий срок. Вновь и вновь нелепые убеждения, взращенные в нем, как и в его коллегах, заставляли Дарнелла думать, что настоящим миром является то видимое и осязаемое существование, в котором добросовестное копирование писем обменивается на определенное количество хлеба, мяса и жилье, и мужчина, добросовестно переписывающий письма, не бьющий жену, не просаживающий впустую деньги, — это хороший человек, полностью оправдывающий свое предназначение. Но несмотря на все эти доводы, несмотря на то, что их принимали все окружающие Дарнелла люди, ему было даровано понять лживость и нелепость такого положения. Ему повезло, что он совсем не знал жалкой "науки", но даже если бы в его сознание каким-то образом поместили целую библиотеку, то и тогда он не стал бы "отрицать во тьме то, что познал в свете". Дарнелл но опыту знал, что человек — тайна, и он создан для таинств и видений, для постижения невыразимого блаженства, для великой радости, способной преобразовать мир, для радости, которая превосходит все земные наслаждения и побеждает несчастья. Он знал это твердо, хотя смутно понимал; и держался особняком, готовя себя к великому эксперименту.
Имея такое тайное сокровище, как эти мысли, он мог перенести достаточно спокойно и угрозу вторжения в их жизнь миссис Никсон. Дарнелл, конечно, понимал, что ее присутствие для них нежелательно, тем более, что у него были большие сомнения в психическом здоровье женщины, но, в конце концов, что эго решало? Ведь слабо мерцающий свет уже зарождался в нем, говоря о преимуществах самоотрицания, и потому Дарнелл предпочел пойти навстречу желаниям жены. Et non sua poma[16]; к своему удивлению, ему доставит удовольствие отказ от собственной воли, а ведь именно это он всегда считал отвратительным. Такое состояние он никак не мог понять; но все же, несмотря на то, что он принадлежал к самому безнадежному в этом смысле классу, жил в самом безнадежном окружении, какое только можно. вообразить, несмотря на то, что он знал так же мало об askesis[17], как и о китайской философии, в нем было достаточно благодати, чтобы не отказаться от света, забрезжившего в его душе.
А пока он находил вознаграждение в глазах Мери, встречавшей его прохладными вечерами на пороге дома после глупейших трудов в Сити. Они сидели рядышком под тутовым деревом, дожидаясь темноты, и когда бесформенный мир теней поглощал окружавшие их уродливые стены, они, казалось, освобождались от уз Шенердз-Буш и могли беспрепятственно блуждать в не обезображенном, не изгаженном мире, который скрывался за стенами. О нем Мери знала очень мало, а может быть, и совсем ничего, потому что ее родственники всегда разделяли взгляды современного мира, который инстинктивно воспринимает деревенскую жизнь как нечто ужасное. Мистер Рейнольдс разделял и еще один странный предрассудок своего времени: он считал, что из Лондона надо выезжать, но крайней мере, раз в год, и поэтому Мери побывала в разных курортных местечках на южном и восточном побережьях, куда толпами съезжались лондонцы, превращая пляжи в один огромный скверный мюзик-холл и получая, по их словам, большую пользу от перемены обстановки. Такого рода опыт не дает никакого представления о сельской местности в ее истинном и сокровенном смысле; и все же Мери, сидя в сумерках под шелестящим деревом, что-то знала о тайне леса и долины, скрытой меж высоких холмов, где шум льющейся воды отзывается эхом в кристальном ручейке. А для Дарнелла эти вечера были временем фантастических грез: ведь именно тогда происходили чудесные превращения, и он, не способный постичь чудо и едва верящий в него, все же подсознательно знал в душе, что вода превращается в вино новой жизни.
Такой музыкой всегда были пронизаны его сны, такое же чувство осталось у него от тех тихих и проникновенных вечеров, которые запали ему в память с тех давних пор, когда, будучи ребенком (мир тогда еще не подавил его), он ездил в старый дом на западном побережье и в течение целого месяца слышал из окна своей комнаты шум леса, а когда ветер стихал, слышал плеск воды в зарослях камыша; несколько раз, проснувшись особенно рано, он слышал странный крик какой-то птицы, вылетающей из гнезда в камышах, выглядывал наружу и видел смутно белевшую долину и извилистую речку, сбегающую к морю.
С течением лет эти воспоминания тускнели и стирались в памяти, цепи повседневности сковали его душу; сама атмосфера, в которой он жил, была губительна для подобных воспоминаний, и только изредка — во сне или в моменты забвенья он мысленно возвращался в ту долину на дальнем западе, где в дыхании ветерка было волшебство, где каждый лист, каждый ручеек, каждый холм открывали ему великие и священные тайны. Но теперь утраченное зрение во многом вернулось, и, глядя с любовью в глаза жены, он видел блестящую гладь озер в притихшем лесу и вечерние туманы, слышал шум бегущей речки.
В пятницу на той неделе, что началась со странного и уже слегка подзабытого визита миссис Никсон, когда супруги сидели рядышком в саду, раздался, к неудовольствию Дарнелла, резкий звонок, и несколько растерянная Элис объявила, что неизвестный джентльмен хочет видеть хозяина. Дарнелл направился в гостиную, где Элис зажгла только один газовый рожок; он горел ярким неровным пламенем; здесь Дарнелла дожидался тучный пожилой господин, чье лицо, искаженное редкими бликами, было Дарнеллу незнакомо. Он непонимающе смотрел на гостя и уже собирался заговорить, но тот опередил его:
— Вы меня не знаете, но, думаю, мое имя вам известно. Я Никсон.
Не дожидаясь реакции на эти слова, пожилой господин сел и начал свой рассказ, и очень скоро Дарнелл, подготовленный к последующим откровениям, внимал ему, ничему не удивляясь.
— Короче говоря, — закончил наконец Никсон, — она окончательно рехнулась, и сегодня нам пришлось поместить бедняжку в лечебницу.
Голос его дрогнул, и он поспешно утер глаза: несмотря на свою тучность и удачливость в бизнесе, он не был лишен чувствительности и любил жену. Никсон говорил быстро, касаясь многих подробностей, которые могли бы заинтересовать специалистов по разного рода маниям; он был явно расстроен, и Дарнелл сочувствовал ему.
— Я приехал к вам, — продолжал Никсон, — так как мне стало известно о визите жены к вам в прошлое воскресенье; могу только догадываться, что она вам тут порассказала.
Дарнелл показал ему листок с пророчествами, оброненный миссис Никсон в саду.
— Вы что-нибудь знаете об этом? — спросил он.
— Это его рук дело. — произнес старый джентльмен с некоторым оживлением. — О, да… я основательно отделал его позавчера.
— Это должно быть сумасшедший? Кто он?
— Нет, он не сумасшедший. Просто скверный человек. Плюгавый валлийский подонок по фамилии Ричардс. Последние несколько лет он проповедует в Нью-Барнете, и моя бедная жена — она никак не могла найти себе церковь по душе — последний год посещала его гнусную секту. Это ее окончательно доконало. Да, я здорово его отделал позавчера и не боюсь, что меня привлекут к ответственности. Я раскусил этого субчика, и он это знает.
Никсон шепнул что-то Дарнеллу на ухо, а затем, фыркнув, в третий раз повторил ту же фразу:
— Здорово я его отделал позавчера.
В ответ Дарнелл пробормотал слова утешения и выразил надежду, что миссис Никсон поправится.
Пожилой джентльмен покачал головой.
— Боюсь, надежды нет, — ответил он. — Я консультировался с лучшими специалистами, и они сказали, что ничем не могут помочь.
Он выразил желание повидать племянницу, и Дарнелл вы-ш&т, чтобы немного подготовить жену. До той никак не доходило, что тетка безнадежно больна: ведь миссис Никсон, хоть и была всегда основательно глуповата, считалась у родных здравомыслящей особой. Рейнольдсы, как и большинство людей, принимали отсутствие воображения за душевное здоровье; и хотя мало кто из нас слышал о Ломброзо, все мы его последователи. Мы легко верим, что поэты безумны, и если, согласно статистике, оказывается, что на самом деле мало кто из поэтов попадал в сумасшедший дом, нас утешает мысль, что все они перенесли коклюш, что, без сомнения, можно причислить, как и интоксикацию, к легкому помешательству.
— Но правда ли это? — спросила Мери наконец. — Ты уверен, что дядя не обманул тебя? Тетя всегда казалась такой разумной.
Напоминание о том, что тетя Мэриан имела привычку слишком рано вставать по утрам, заставило ее наконец задуматься; затем супруги вместе вошли в гостиную, где их ждал пожилой джентльмен. Несмотря на оставшиеся у Мери некоторые сомнения, его очевидные доброта и честность произвели на нее впечатление, и перед уходом дяди с него было взято обещание снова их навестить.
Миссис Дарнелл сказала, что устала, и отправилась спать, а Дарнелл вернулся в сад и долго ходил там, пытаясь привести мысли в порядок. Огромное облегчение, испытанное им от известия, что миссис Никсон не будет у них жить, открыло Дарнеллу, что, несмотря на проявленное смирение, его страх перед ее приездом был очень велик. Теперь тяжесть с души снялась, и он мог размышлять о своей жизни безотносительно к этому чудовищному вторжению, которого он так страшился. Дарнелл глубоко и радостно вздохнул и, гуляя по саду, наслаждался запахами ночи, которые, хоть и с трудом, доходили до него через кирпичные постройки пригорода: все это вызвало в его памяти тот дивный аромат, который он вдыхал в бы с Tjx> пролетевшие дни детства; тот запах исходил от самой земли, когда пылающее солнце опускаюсь за горы и его отблески на небе и лугах постепенно тускнели. Когда ему удавалось оправиться от грез об утраченной волшебной стране, его посещали другие образы из детства, основательно, но не совсем, забытые: они хоть и ютились в укромных уголках памяти, однако были готовы в любой момент вырваться оттуда.
Дарнеллу вспомнилась одна фантазия, долго преследовавшая его. Когда он однажды, приехав на отдых, дремал жарким днем в лесу, что-то "заставило его поверить", что из голубой дымки и зеленого сияния листвы к нему спустилась подруга — белокожая девочка с длинными черными волосами; она играла с ним и шептала на ухо свои секреты, пока его отец спал под деревом; с этого летнего дня она постоянно была рядом, навещала его в пустоте Лондона, и даже в последние годы он продолжат время от времени ощущать ее присутствие в зное и суете Сити.
Последний ее приход он хорошо помнил; это было за несколько недель до его женитьбы — тогда, занятый каким-то пустяшным делом, он вдруг поднял в изумлении глаза, удивляясь, почему это в спертом воздухе неожиданно проявился запах свежей листвы, а до ушей донесся шелест деревьев и плеск речной воды в камышах; а потом его охватил экстаз, которому он еще раньше дал определенное имя и наделил индивидуальностью. Тогда он узнал, что вялая плоть человека может уподобиться пламени; теперь же, оглядываясь назад с новых жизненных позиций, он осознал, что не ценил и отвергал все настоящее в своей жизни, которое, возможно, пришло к нему как раз вследствие его отрицательных свойств.
И все же, по мере того как Дарнелл размышлял, он понял, что в его жизни была цепочка очевидных знаков: вновь и вновь голоса шептали ему на ухо слова из неизвестного языка, который теперь он признал за родной; на обычной улице перед ним вдруг возникали картины его настоящей родины: и во всех жизненных перипетиях некие эмиссары только и ждали, чтобы направить его стопы на тропу великого путешествия.
Спустя неделю или две после визита мистера Никсона Дарнелл взял очередной ежегодный отпуск.
О том, чтобы ехать в Уолтон-он-зе-Нейз или в другое подобное место, речь не шла: ведь он полностью поддерживал стремление жены накопить значительную сумму денег на черный день. Но погода была великолепная, и он весь день проводил в саду под деревом или совершая длинные бесцельные прогулки в западных предместьях Лондона, не лишенных очарования в старом, добром смысле этого слова — пусть и мало заметного на скверно освещенных, грязных и длинных улицах.
Однажды, во время сильного дождя, Дарнелл заглянул в "комнату с коробками" и увлекся приведением в порядок бумаг из старого дорожного сундука — обрывков семейной истории; некоторые листы были исписаны почерком отца, на других — чернила почти выцвели; было там и несколько старых записных книжек с пометками еще более отдаленного времени — на них чернила были ярче и чернее, чем прочие, используемые для письма вещества, которые продаются киоскерами в наши дни. Дарнелл повесил в этой комнате портрет своего предка, купив также прочный кухонный стол и стул: и миссис Дарнелл, глядя, как он корпит над старыми документами, подумывала, не сделать ли эту комнату "кабинетом мистера Дарнелла". В течение многих лет он не интересовался семейными реликвиями, но с того утра, когда дождь привел его в эту комнату, он не прекращал работать над ними до конца отпуска.
Это стало новым увлечением Дарнелла; в его сознании смутно проступали лики предков, вырисовывалась картина их жизни в том старом доме, что стоял в речной долине где-то на Западе, в краю кристальных родников, быстрых речек и темных, древних лесов. Среди разрозненных обрывков старых, никому не нужных бумаг встречались вещи гораздо более странные, чем просто записи семейной истории; когда Дарнелл вернулся на работу в Сити, некоторым его коллегам показалось, что он слегка изменился внешне, но, когда его спрашивали, где он был и что с собой сделал, тот в ответ только смеялся. Однако Мери заметила, что муж каждый вечер проводит хотя бы час в "комнате с коробками", и ее огорчало, что он попусту тратит время, читая старые бумаги о давно умерших людях. А как-то днем, когда они вдвоем отправились на прогулку по мрачным окрестностям Эктона, Дарнелл остановился у захудалого букинистического магазина и, внимательно осмотрев ряды старых книг на витрине, вошел внутрь и купил две из них. То были словарь латинского языка и латинская грамматика, и Мери с удивлением услышала от мужа, что он намерен изучить латынь.
Да, она видела, что поведение мужа странным образом изменилось, и не могла не встревожиться по этому поводу, хотя вряд ли сумела бы сформулировать, что именно ее беспокоит. Однако она понимала, что, начиная с лета, их жизнь неуловимым и непостижимым для нее образом переменилась — все стало не тем, чем было прежде. Когда она смотрела на скучную улицу с редкими прохожими, та была как бы и прежней, и одновременно другой, а когда ранним утром она распахивала окно, то ветерок, влетая в комнату, приносил ей некое послание, которое она не могла расшифровать.
Дни, один за другим, проходили по-старому, однако даже стены их дома выглядели иначе, и голоса мужчин и женщин зазвучали по-новому: в них словно эхом отзывалась музыка с далеких, неведомых гор. И постепенно, день за днем, в то время, как она занималась домашними делами, переходила из одного магазина в другой на безликих, переплетенных улицах — роковом лабиринте отчаянного запустения и одиночества, к ней приходили неясные образы из какого-то иного бытия, словно она пребывала во сне и каждую минуту могла проснуться и увидеть, как солнечный свет уничтожит безликую серость и перед глазами воссияет долгожданный новый мир. Казалось, стоит сознанию сделать крохотное усилие, и то, что было сокрыто, откроется; пока Мери ходила по улицам скучного и бесцветного предместья, повсюду встречая мрачные и прочные стены стоявших на них домов, она не могла отделаться от чувства, что сквозь эти стены мерцает некий свет; незнакомый и загадочный аромат благовоний из иного мира, который был не столько недосягаем, сколько не поддавался описанию, щекотал ей ноздри; а в ушах звучала прекрасная песня, наводя на мысль, что по всему ее пути расставлены спрятанные хоры.
Мери изо все сил боролась с этими ощущениями, отказываясь принимать их на веру: ведь на нас уже триста лет давят определенные убеждения, направленные на то, чтобы вытравить подлинное знание; и эта акция осуществлялась так целенаправленно, что к истине теперь можно прийти только через невероятные страдания. И поэтому Мери проводила дни в странном смятении, цепляясь за простые вещи и простые мысли, как будто боясь, что как-нибудь утром она может проснуться в неведомом мире и начать вести совсем другую жизнь. А Эдвард Дарнелл ездил ежедневно на работу, всегда возвращаясь вечером с сияющими глазами и лицом, и благоговейное изумление в его взгляде росло с каждым днем, словно нелепа перед глазами становилась все тоньше и вскоре должна была исчезнуть совсем.
Из-за этих великих превращении, свершавшихся в ней и в муже. Мери замкнулась в себе, возможно, боясь, что, начни она расспрашивать о происходящем Эдварда, его ответы могут быть слишком невероятны. Напротив, Мери приучала себя волноваться из-за незначительных вещей: так, она постоянно задавала себе вопрос, что привлекает внимание мужа в старых бумагах и почему он проводит вечер за вечером в холодной комнате наверху.
Как-то, по приглашению Дарнелла, она пришла взглянуть на эти бумаги, но не нашла в них ничего интересного; среди них была парочка рисунков старого дома на Западе, выполненных небрежно чернилами: дом выглядел бесформенным и фантастичным строением с диковинными колоннами и еще более диковинным орнаментом на выступающем вперед портике; с одной стороны крыша провисала чуть ли не до земли, а в центре ее высилось нечто вроде башни. Еще среди бумаг были документы, состоящие, казалось, только из имен и чисел, с начертанными на нолях гербами: Мери наткнулась на длинную цепь затейливых валлийских фамилий, связанных между собой частицей "аи". Одна бумага была вся испещрена значками и цифрами, которые ничего ей не говорили; встречались там также блокноты и книжки, исписанные старомодным почерком, — большинство записей, по словам мужа, было на латинском языке; все это собрание представляло для Мери столь же мало интереса, как, к примеру, трактат о конических сечениях. Что же касается Дарнелла, то он ежевечерне уединялся в комнате с заплесневелыми бумажными свитками, и всякий раз, когда он возвращался, жена видела на его лице выражение, говорящее о сильнейшем переживании.
Однажды вечером Мери спросила мужа, что так заинтересовало его в бумагах, которые он ей показал.
Этот вопрос привел его в восторг. Так случилось, что за последние недели они мало говорили друг с другом, и Дарнелл стал рассказывать ей про письменные упоминания о племени, из которого он вышел, и о старом диковинном доме из серого камня, стоящем между лесом и речкой. История его рода, говорил он, восходит к давним временам, она началась еще до прихода норманнов, еще до прихода саксов, в дни, когда только закладывался Рим; в течение многих столетий его предки жили в укрепленном замке, стоящем на высоком холме посреди леса; и даже в наши дни сохранились высокие курганы, с которых, если глядеть в одну сторону, сквозь деревья видна гора, а в другую — желтоватое море. Настоящее семейная фамилия не Дарнелл; ее взял себе в шестнадцатом веке некий Иоло ап Талисин аи Иоруерт; почему он это сделал, Дарнелл, похоже, не понимал. Затем муж рассказал ей, как постепенно, столетие за столетием, семейное благосостояние приходило в упадок, пока в их владении не остался один только дом из серого камня и несколько акров земли у реки.
— И знаешь что, Мери, — закончил он, — думаю, мы со временем тоже там поселимся. Сейчас в этом доме живет мой двоюродный дед; в молодости он заработал много денег, занимаясь бизнесом, и, полагаю, все оставит мне. Ведь я его единственный родственник. Как это будет непривычно! Совсем не та жизнь, что здесь.
— Ты никогда мне об этом не говорил. А ты не думаешь, что твой дедушка оставит дом и деньги кому-то, кого он действительно хорошо знает? Ведь последний раз ты видел его, когда был еще маленьким мальчиком?
— Да, но раз в году мы обмениваемся письмами. И со слов отца я знаю, что старик никогда не оставит дом чужому человеку. Как ты думаешь, тебе там понравится?
— Не знаю. Ведь это очень уединенное место?
— Думаю, да. Не помню, есть ли поблизости еще усадьбы, но, кажется, нет. Зато какая перемена! Ни Сити, ни улиц, ни вечно куда-то спешащих людей; только шум ветра, зелень листвы, зеленые холмы и поющие голоса земли…
Дарнелл внезапно замолчал, как бы боясь, что скажет лишнее и выдаст раньше времени некую тайну; и действительно, когда он говорил о той перемене, которая произойдет в их жизни, если они переберутся с маленькой улицы в районе Шепердз-Буш в старинный дом, стоящий в лесах дальнего Запада, с ним самим что-то происходило, а голос модуляциями вызывал представление о некоем древнем песнопении. Внимательно посмотрев на мужа, Мери коснулась его руки, и он глубоко вздохнул.
— Кровь зовет меня на древнюю землю предков, — сказал он. — Я уже забываю, что работаю клерком в Сити.
Без сомнения, в Дарнелле взыграла кровь рода; в нем возрождался древний дух, в течение многих столетий хранивший верность таинствам, к которым большинство из нас теперь равнодушно; с каждым днем этот дух все более креп, его уже трудно было скрывать. Дарнелл оказался почти в том же положении, что и человек из известной истории, который, пережив электрический шок, внезапно увидел перед собой вместо лондонских улиц море и остров в стране антиподов; теперь Дарнелл с трудом приспосабливался к окружению и его интересам, хотя совсем еще недавно не знал ничего другого: серый дом, лес и река, символы другого мира ворвались в картину лондонской окраины.
Дарнелл возобновил рассказ, только теперь он говорил более сдержанно. Он рассказывал жене о своих дальних предках и о главе рода, которого почитали святым и которому приписывали знание некоторых великих тайн — они именовались в бумагах "Тайные песни святого Иоло". Затем Дарнелл резко сменил тему, перейдя к воспоминаниям об отце и той странной, однообразной жизни, какую вели они в мрачной квартире на окраине Лондона, о серых улицах с рядами отштукатуренных домов (его первые воспоминания), заброшенных сквериках в северном Лондоне и опять об отце, суровом человеке с бородой, который, казалось, всегда находился где-то не здесь и словно надеялся, что за прочными стенами лежит страна с тенистыми садами и озаренными солнцем холмами, холодными ключами и сверкающими озерами со склоненной над ними листвой.
— Мне кажется, отец всего лишь зарабатывал себе на жизнь, — продолжал Дарнелл, — на ту жизнь, какую мог себе позволить, служа в Государственном архиве и Британском музее. Он выискивал разные сведении для юристов и приходских священников, которые хотели изучить старые документы. Отец никогда много не зарабатывал, и мы постоянно меняли квартиры, всегда селясь в отдаленных районах, в домах, которые, казалось, вот-вот развалятся. Знакомств с соседями мы не заводили — слишком уж часты были наши переезды, — но у отца было несколько друзей, таких же пожилых людей, как и он сам, которые часто нас навещали; тогда, если в доме водились деньги, посылали за пивом, и отец сидел и курил с гостями до позднего вечера.
По сути, я ничего не знал о его друзьях; они походили друг на друга, и у всех в глазах было одно выражение — тоски по неведомому. Эти люди очень мало говорили о своей жизни, а больше о каких-то непонятных тайнах, а если и касались обычных вещей, то становилось ясно, что для них и деньги, и их отсутствие являются чем-то совсем не важным. Когда я вырос, устроился на работу в Сити, познакомился с другими молодыми людьми и услышал, о чем они беседуют, то подумал, что отец и его друзья слегка не в себе; но теперь я так не думаю.
И так, вечер за вечером, Дарнелл говорил с женой, легко переходя от рассказа о неприглядных меблированных комнатах, где он провел детство в обществе отца и других таких же страждущих душ, к старому дому, надежно укрытому в долине на далеком Западе, и древнему роду, который в течение многих столетий видел, как солнце садится за горы. Однако на самом деле у всего, о чем бы он ни говорил, был один конец, и Мери чувствовала, что за словами мужа, какими бы незначительными они ни были, всегда присутствует скрытое намерение, и что их еще ждет великое и удивительное приключение.
И так день за днем мир становился все волшебнее; день за Днем вершилась работа по отмежеванию, все грубое, вульгарное отвергалось. Дарнелл не пренебрегал в работе ничем, что могло быть полезным; теперь он никогда не бездельничал по утрам и не сопровождал жену в готическое кашице, предел — дующее на то, чтобы именоваться церковью. Супруги обнаружили на одной из отдаленных улиц небольшую церквушку, более отвечавшую их вкусам, и Дарнелл, нашедший в одной старых тетрадей сентенцию Incredibilia sola Credenda[18], скоро постиг, как высока и прекрасна может быть служба, в которой он принимал участие. Наши неумные предки учили нас, что мы станем мудрее, изучая естественные науки, возясь с пробирками, геологическими образцами, микроскопическими составами и тому подобным: однако тот, кто отказался от этих глупостей, знает, что надо читать не "научные" книги, а требники, и что душа мудреет, созерцая мистические церемонии и сложные и странные ритуалы. В них Дарнелл открывал для себя изумительный мистический язык, который был одновременно и более тайным, и более открытым, чем обычный язык богослужений; и теперь он видел, что, в каком-то смысле, вся жизнь — великая церемония или священное действо, и она учит на примере видимых форм тайному, трансцендентному знанию. Таким образом, в церковном ритуале Дарнелл увидел законченный образ мира, образ очищенный, возвышенный и просветленный, священный дом, выстроенный из сверкающих и прозрачных камней, в котором горящие свечи значили больше, чем звезды на небе, а воскуряемые благовония были более убедительным символом, чем стелющийся по земле туман. Душа его устремлялась за процессией, торжественно выступающей в белых одеяниях, — таинством, говорящим о восторге и радости, выше которых нет ничего, и когда Дарнелл созерцал, как убитая Любовь воскресает, побеждая смерть, он понимал, что присутствует, фигурально выражаясь, при логическом завершении всего, на Свадьбе Свадеб[19], на самом главном таинстве из всех, что были со дня сотворения мира. И так, день за днем, его жизнь все более наполнялась волшебством.
В то же самое время он догадывался, что раз в Новой жизни есть неизвестные дотоле радости, то наверняка в ней есть и неведомые опасности. В рукописной книге, которая претендовала на то, чтобы расшифровать "Тайные песни святого Иоло", одна небольшая глава носила название: "Fons Sacer non in communen Vsum convertendus est"[20], и приложив много усилий, с помощью учебника латинской грамматики и словаря, Дарнеллу удалось разобрать усложненную латынь своих предков. Книга, в которой находилась данная глава, была одной из самых замечательных в собрании: озаглавленная "Terra de Iolo"[21], она, помимо хитроумно скрытых символов, содержала перечень фруктовых садов, лугов, лесов, дорог, строений и рек, находящихся во владении предков Дарнелла. Здесь он прочитал о Святом источнике, бьющем в Лесу мудреца: "этот мощный ключ не иссякает в самое жаркое лето, никакое наводнение не может его загрязнить, это вода жизни для тех, кто жаждет жизни; очищающий поток для ищущих чистоты; и лекарство такой исцеляющей силы, что с Божьей помощью и молитвами Его святых, оно лечит самые страшные раны"[22]. Однако к воде из этого источника нужно относится как к святыне — ее нельзя использовать для бытовых целей или просто удовлетворять жажду; к ней следует относиться с благоговением, "как к воде, освященной священником". А на полях позднейшая приписка, приоткрывшая Дарнеллу значение этих запретов. Его учили не смотреть на источник жизни как на одно из жизненных удовольствий, как на новое ощущение, возможность подсластить безвкусную пилюлю обычного существования. "Потому что, — говорил комментатор, — нас позвали не как зрителей, чтобы мы смотрели на разыгрываемый перед нашими глазами спектакль, нет, нас позвали, чтобы мы сами взошли на подмостки и исполнили с чувством наши роли в величайшей и удивительной мистерии".
Дарнелл мог вполне понять то искушение, которое тут подразумевалось. Хотя он совершил еще малый путь по тропе познания и едва вкусил от этого таинственного источника, но уже осознавал, что некая магия преобразовывает мир вокруг него, наполняя жизнь значительностью и романтикой. Лондон теперь казался ему городом из "Тысячи и одной ночи", переплетения улиц — волшебным лабиринтом; длинные авеню с горящими фонарями — звездными системами; а сам огромный город символизировал бесконечность Вселенной. Он с легкостью представлял, как приятно проводить время в таком мире — сидеть себе в сторонке и мечтать, глядя на пышное зрелище, разыгрываемое перед ним; но Священный источник не предназначался для повседневного использования — он очищал душу и исцелял тяжелые душевные раны. Должно быть еще одно превращение: Лондон уже стал Багдадом, теперь ему нужно превратиться в Сион[23] или, как сказано в одном из старых документов, в город Чаши[24].
Существовали еще более страшные опасности, на которые осторожно указывалось в Завещании Иоло (так отец называл эти бумаги). Так, там содержались намеки на существование некоего ужасного места, куда могла попасть душа, на переход в иное существование, подобное смерти, на возможность вызвать самые могущественные силы зла из их темных укрытий — словом, на ту сферу, которая для большинства из нас ассоциируется с грубым и в какой-то степени детским символизмом черной магии. И здесь Дарнелл тоже не оставался без подсказки. Ему вспомнился один странный случай, произошедший давно и за все эти годы ни разу не припомнившийся, потерявшись среди других детских впечатлений. Теперь же он ясно и отчетливо всплыл в его памяти, неожиданно обретя важное значение. Это случилось во время той памятной поездки в старый дом на западе, и теперь ему вспомнилось все до мельчайших подробностей — даже голоса людей, казалось, звучали в ушах.
День был пасмурный, тихий и душный; после завтрака он стоял на лужайке и поражался, каким тихим и покойным может быть мир. Ни один листочек не дрогнул на деревьях перед домом, и со стороны леса тоже не доносился шелест листвы; цветы издавали сладкий и сильный аромат, словно выдыхая грезы летних ночей; далеко внизу, в долине, бежала, извиваясь, речка — тусклое серебро воды под тусклым серебром неба; а дальние холмы, леса и луга тонули в тумане. Неподвижность воздуха околдовала Эдварда: он все утро провисел на жердях, отделяющих луг от лужайки, вдыхая таинственное дыхание лета и глядя, как на лугу в тех местах, где туман редел, открываются, словно распускаясь прямо на глазах, яр-кие цветы. Пока он смотрел на это чудо, мимо него прошел к дому измученный зноем человек, он был чем-то испуган; сам же Эдвард не трогался с места, пока с башни не раздался удар гонга; здесь обедали все вместе — хозяева и слуги, обедали в темной прохладной комнате, окна которой выходили на замерший лес.
Эдвард видел, что дядя чем-то взволнован, и после обеда услышал, как тот говорил отцу, что на ферме что-то случилось, и они порешили все вместе поехать днем в местечко, носящее какое-то странное название. Но когда подошло время ехать, мистера Дарнелла не смогли вытащить из угла, куда он забился с трубкой и старыми книгами, и в повозку сел только дядя с Эдвардом. Они быстро съехали по тропе вниз на дорогу, идущую вдоль петляющей реки, пересекли мост у Каэрма-ена — римских руин, а затем, обогнув заброшенную деревеньку, выехали на широкую дорогу, огороженную барьером с острыми выступами на случай нападения, и двинулись дальше, поднимая клубы пыли. Через некоторое время они неожиданно повернули на север.
Эдвард никогда раньше не видел эту каменистую дорогу, она шла в гору и была такой узкой, что на ней едва хватало места для повозки, которая медленно тащилась вверх по крутому склону, а растущий по обеим сторонам сплошной стеной кустарник заслонял свет. Папоротник на склонах был особенно густой и зеленый; из невидимых родников на дядю с племянником постоянно капало, и старик сказал Эдварду, что зимой тут ездить нельзя: непрерывно бежит водяной поток.
Так они продолжали ехать, то поднимаясь в гору, то спускаясь с нее; переплетенный над их головами дикий кустарник не становился реже, и мальчику никак не удавалось узнать, что находится по сторонам. В узком тоннеле становилось все мрачнее; с одной стороны дороги кустарник постепенно перешел в край темного, глухо распевающего свою песнь леса: серый известняк дороги сменился темно-красной, с прожилками глины землей, заросшей местами травой; и вдруг из глубины леса донеслось птичье пение, эта мелодия перенесла сердце ребенка в другой мир, рассказывая ему о прекрасной сказочной стране далеко на краю света, где исцеляются все горести и страдания.
И вот наконец, после множества поворотов они выехали на высокое открытое место, где тропа расширялась, становясь чем-то вроде проселка; там же, по краям поляны, стояло несколько старых домиков, один из которых был таверной. Здесь они остановились; кучер сошел с козел, привязал уставшую лошадь и дал ей воды, а старый мистер Дарнелл взял мальчика за руку и повел по тропинке через поляну.
Теперь Эдвард мог все вокруг хорошо видеть; то была странная, диковатая местность; они находились в самом центре глухого горного района, где он никогда прежде не бывал; старик и мальчик стали спускаться по узкой тропинке, вьющейся но крутому, заросшему утесником и папоротником склону, и, когда из-за облаков выглядывало солнце, внизу, там, где бежал, перепрыгивая с камня на камень, быстрый ручеек, поблескивала серебром вода. Они спустились с горы, миновав заросли, и под прикрытием темной зелени фруктовых деревьев подошли к вытянутому, низкому, свежепобеленному дому с поросшей мхом и лишайником каменной крышей, из-за чего она очень отличалась по цвету от остальных.
Мистер Дарнелл постучал в тяжелую дубовую дверь, и они вошли в темную комнату, где единственным источником света было небольшое окно с толстым стеклом. Потолок удерживали мощные балки; нз огромного камина доносился неподражаемый запах горящих дров, который Дарнелл помнил до сих пор; в комнате, как ему показалось, было много женщин, их голоса звучали испуганно.
Мистер Дарнелл кивком головы подозвал к себе высокого седого старика в вельветовых бриджах, и мальчик, усевшись на высокий стул с прямой спинкой, мог видеть в окно, как дядя и старик прогуливались в саду по дорожке. Женщины на какой-то момент примолкли, а одна из них принесла мальчику из погреба стакан молока и яблоко. Неожиданно сверху донесся пронзительный вопль, а затем молодой женский голос затянул какую-то жуткую песню. Ничего подобного мальчик никогда прежде не слышал; сейчас же, вспоминая этот случай, Дарнелл знал, с чем можно сравнить эту песню — с гимном, который призывает ангелов и архангелов принять участие в Великом жертвоприношении. Но в отличие от такого гимна, сзывающего небесное воинство, та песня обращалась к силам зла, душам Лилит[25] и Сама эля, а сами слова ее, звучащие столь ужасно, с невероятными модуляциями, — neumala inferorum[26] — принадлежали неведомому языку, мало кому известному на земле.
Женщины переглядывались, в их глазах мальчик видел ужас; одна или две из них, самые старые, неуклюже осенили себя крестным знамением. Потом женщины вновь заговорили; Дарнелл и сейчас помнил обрывки их разговора.
— Она была там, — сказала одна женщина, указывая куда-то через плечо.
— Она никогда бы не нашла дорогу, — возразила другая. — Все, кто туда отправился, сгинули.
— Там теперь ничего нет.
— Откуда ты знаешь, Гвенллиан? Не нам это говорить.
— Моя прабабка знала тех, кто там побывал, — сказала одна очень старая женщина. — Она рассказывала мне, как их потом забирали.
Вскоре в дверях появился дядя, и они вернулись домой тем же путем. Эдвард больше никогда ничего об этом не слышал, так и не узнав, умерла девушка после своего странного припадка или выздоровела; однако эта сцена долго не шла у него из головы, а теперь вспомнилась вновь как своего рода предостережение, как символ подстерегающих их на новом пути опасностей.
Нет никакой возможности продолжать далее историю Дарнелла и Мери, потому что с этого момента с супругами начинают происходить невероятные вещи, а сама их жизнь становится похожей на историю о Граале. Очевидно, что жизнь их изменилась, как в свое время изменилась она у короля Артура[27], но рассказать о ней не под силу ни одному летописцу. Дарнелл написал (и это чистая правда) небольшую книгу, частично состоящую из старинных стихов, которые мог бы сочинить вдохновенный ребенок, и частично — из "записей и восклицаний" на "кухонной" латыни, почерпнутую им из Завещания Иоло; однако, будь даже эта книга полностью опубликована, она вряд ли пролила бы свет на эту запутанную историю.
Свой литературный опыт Дарнелл назвал "In Exitu Israel"[28] и вывел на титульной странице эпиграф — несомненно, собственного сочинения: "Nunc certe scio quod omnia legenda; omnes historiae, omnes fabulae, omnis Scriptura sint de ME narrata"[29]. Нельзя не заметить, что латыни его обучал явно не Цицерон; и все же именно на этом языке излагает он великую историю "Новой жизни", какой та открылась ему. "Стихи" его еще более странные. Одно, озаглавленное (почему-то в духе стародавней литературы) "Строки, сложившиеся при взгляде с высот Лондона на частную школу, внезапно озаренную солнцем", начинается так:
Я но дорого как-то брел И Камень увидал чудесный.
Лежал 15 ныли он, был забыт Вдали от трон людских известных!
Вглядевшись в Камень, понял я,
Что это есть судьба моя!
В волненьи я его поднял,
Щекой пылающей прижался,
Отнес его в глухой подвал
И каждый день к нему спускался.
Я осыпал его цветами,
Присловьями и похвалами…
О, Камень редкой красоты,
Осколок рая золотого,
Какой звезды посланец ты?
Дитя какого ты прибоя?
В тебе пылает вечный жар,
И целый свет тебе дивится,
И мир, в который ты войдешь,
Из мрака в свет переродится.
И я провижу впереди
Прекрасный край, чудесный, дивный
Вдали я слышу плеск реки
И вижу парк волшебный, мирный.
Когда подует ветерок,
Услышу я Артура рог…
Исчез унылым, серый морок,
Уж впереди я вижу город;
Горят златым сияньем башни
И строй колонн объемлет Чашу.
Там пьют волшебное вино,
Там бесконечно длится праздник,
И песнь несется в небеса,
Что славит дивные места…
Из подобных документов невозможно извлечь какую-либо определенную информацию. Однако на последней странице рукой Дарнелла выведено: "Я пробудился от сна, в котором видел лондонские окраины, видел людей, занимающихся изнурительным каждодневным трудом, видел множество бессмысленных вещей и поступков; и когда глаза мои окончательно раскрылись, я понял, что нахожусь в древнем лесу, где над кристально чистым родником клубится в плывущем мерцающем зное сероватая дымка пара. И тут из тайников леса навстречу мне вышел некто, и нас с любимой соединили навеки воды источника".
Ужас (перевод под редакцией Богданова)
Перевод осуществлен по: Machen A. Tales of Horror and the Supernatural, L., 1948.
Пришествие ужаса
Наконец-то после двух лет потрясений мы снова стали ждать утренних известий с нетерпением и предвкушением утешительных перемен. В начале войны мы переживали сплошные ужасы; так было, когда нас колотила нервная дрожь, вызванная ожиданием невероятного и одновременно неотвратимого вторжения, так было, когда пал Намюр[30] и наши враги разлились потопом по равнинам Франции, подступив к самым стенам Парижа. Затем мы ощутили радостную дрожь — до нас дошли добрые вести о том, что грозный поток отхлынул вспять и что Париж, а вместе с ним и весь мир находятся в безопасности. По крайней мере на время.
Потом настали дни, когда мы с надеждой ждали новых вестей — таких же добрых или еще более благоприятных. Удалось ли окружить фон Клука[31]? — спрашивали мы. — Нет? Ну, не сегодня, так завтра обязательно окружим!" Но дни перетекали в недели, недели складывались в месяцы, и нам стало казаться, что война на Западном фронте словно бы заледенела. Порой все же происходили события, которые вселяли в нас надежду и обещали нечто более определенное. Но радость от побед при Нев-Шапель и Лосе[32] растворилась в разочаровании, когда мы узнали всю правду о них; линия фронта на западе фактически застыла на месте, и надежд на скорый перелом ни у кого не было. Казалось, что в Европе вообще ничего не происходит. Газеты упорно молчали, если не считать сообщений об отдельных боях местного значения, которые, по всей очевидности, были пустяковыми и незначительными.
Публика судачила о причинах столь вопиющего бездействия союзнических армий, оптимисты утверждали, что у Жоффра[33] уже имеется некий план действии и он занимается "прощупыванием противника", другие уверяли, что мы испытываем нехватку военною снаряжения, третьи судачили о том, что солдаты-новобранцы еще не готовы к битвам. Так тянулся месяц за месяцем, и только через два долгих военных года оцепеневшие порядки английских армий встрепенулись, словно пробуждаясь от долгой спячки, а потом покатились вперед, опрокидывая противника.
Тайна долгого бездействия британских армий хорошо охранялась. С одной стороны, ее неукоснительно оберегала цензура, которая жестко, а порой и до абсурда жестоко (к примеру, сообщалось такое: "Командование и… отходят") опекала прессу. Как только истинное значение того, что происходило в стране, дошло до властей, владельцам газет Великобритании и Ирландии был направлен лаконичный циркуляр, в котором каждому из них строго-настрого предписывалось обмениваться его содержанием лишь между собой, то есть между лицами, являющимися ответственными издателями своих газет и потому обязанными хранить доверенную им тайну под угрозой строжайшего наказания. Циркуляр исключал малейшее упоминание об определенного рода событиях, которые уже произошли или могли произойти. Кроме того, он воспрещал любые, самые отдаленные аллюзии по поводу этих событий, исключал малейшие намеки на самое их существование и грозился всеми известными карами за одно лишь допущение возможности последнего не только в прессе, но и в какой-либо иной форме. На циркуляр нельзя было ссылаться в разговоре, он не мог быть упомянут в письмах даже в форме самого смутного экивока. Самое существование циркуляра, не говоря уже о его смысле, должно было содержаться в глубочайшей тайне.
Предпринятые меры оказались успешными. Один из богатых северных газетчиков, находившийся к концу ежегодного Банкета Шелкопрядильщиков (который, следует упомянуть, состоялся в обычном порядке) В СОСТОЯНИИ СИЛЬНОГО ПОДПИТИЯ, рискнул сказать своему соседу по столу: "Не правда ли, какой был бы ужас, если бы?.." Должен сказать, что эти его слог, а приводятся здесь с сожалением, ибо непосредственно после их произнесения для "старины Арнольда" наступила пора "ужаться", что он и сделал аж на целую тысячу фунтов стерлингов. Затем досталось одной еженедельной газетенке, издававшейся в одном из захолустных городков сельского округа в Уэльсе. "Мэйросский обозреватель" (назовем это издание так) печатался в скромном флигеле дома, принадлежавшего местному книготорговцу'. Четыре ее полосы заполнялись отчетами о местных выставках цветов и распродажах модных вещей в доме священника, а также сообщениями о сходках прихожан и редких несчастных случаях во время морских купаний. Печатался также перечень почетных гостей города, включавший в себя всегда один и те же шесть поднадоевших всем имен.
Сей просвещенный орган тиснут на своих страницах небольшую заметку, которая, собственно, ничем не отличалась от многих других заметок, какие с давних пор было принято печатать в сельских газетах, и заключала в себе едва ли нечто большее, чем намек на некое лицо, посвященное в известную тайну. По сути дела, этот осколок информации попал в газету по той причине, что ее владелец, выступавший также в ипостаси редактора, неосмотрительно показал последние оттиски злосчастного номера некому столпу общества, являвшемуся для местного истэблишмента Верховным-Владыкой-И-Вообще-Всем-На-Свете, и сей столп вставил в него обрывок разговора, услышанного им на базаре, для того лишь, чтобы заполнить два дюйма пустовавшей площади на последней полосе. В результате "Мэйросский обозреватель" перестал выходить — "по неблагоприятным обстоятельствам", как выразился сам владелец газеты, не желавший далее распространяться по этому поводу. Во всяком случае, более вразумительного объяснения от него добиться не могли — зато сколько им было извержено проклятий в адрес "треклятых бездельников, сующих нос в чужие дела!".
Итак, в достаточной степени мелочная и в высшей степени беспощадная цензура была способна творить чудеса в деле сокрытия того, что она сама желала сокрыть. Перед войной о ней можно было судить иначе, ибо независимо от того, существовала она тогда или нет, факт убийства в местечке Икс или факт ограбления в городке Игрек наверняка предавался гласности — если уж не через прессу, так, по крайней мере, путем передачи новостей из уст в уста. Причем последнее было общепринято и законно как для Англии трехсотлетней давности, так и для тех нынешних стран, в которых еще господствует родовой строй. Даже обидно, что с некоторых пор мы докатились до такого благоговения перед печатным словом и до такого доверия к нему, что утратили всякую способность к распространению новостей устным путем. Запретите прессе упоминать о том простом факте, что некий Джон был там-то и там-то убит, и вы поразитесь тому, сколь мало людей услышат о нем и сколь ничтожное число услышавших поверит этому. Конечно, у вас и сейчас есть возможность разговориться в поезде со случайным попутчиком и услышать от него кое-какие подробности в каком-нибудь неведомом Саутуорке, но при этом нельзя забывать, что в нашем нынешнем мире существует огромная разница между впечатлением, которое вы получили от случайного и маловразумительного сообщения, и впечатлением, внушаемым вам полудюжиной печатных строк, в которых ясно и определенно называется имя убитого, место и день убийства, а также все прочие подробности происшедшего. Вагонная публика любит пересказывать из уст в уста самые разнообразные слухи, но, как и подобает слухам, многие из них ложны. Газеты же не печатают сообщения об убийствах, которые не совершались.
Еще одно соображение в пользу секретности. Я берусь утверждать, что прежней общепринятой службы распространения слухов более не существует. Конечно, мои оппоненты тут же начнут козырять странными легендами о "русских" и "ангелах Монса"[34]. Но, с другой стороны, они не смогут отрицать, что в столь широком распространении обеих этих бессмыслиц в первую голову виноваты газеты. Не будь газет и журналов, все эти "русские" и "ангелы" появились бы на публике лишь на короткий миг — да и то в образе теней самого смутного свойства. О них услышали бы очень немногие, и лишь единицы поверили бы в них. В крайнем случае, о них посудачили бы неделю-две, а потом эти слухи исчезли бы без следа.
Однако самый факт появления этих нелепых слухов и фантастических россказней, в которые на короткое время поверили столь многие, начисто убил доверие к любым тайным пересудам, которые могли достичь печати. Люди были обмануты дважды — они слышали, как важные лица, которым принято доверять, всерьез и во всеуслышание разглагольствовали о неких излучающих свет людях, которые якобы спасли британскую армию под Монсом, или же о набитых московитами в серых шинелях поездах, что в одну темную ночь промчались через всю Европу. Но когда прозвучал намек на нечто более сногсшибательное, нежели обе эти оказавшиеся чистейшей мистификацией легенды, ни в газетах, ни в еженедельниках, ни в сельских информационных листках нельзя было обнаружить ни единого слова подтверждения, так что те немногие, чьих ушей достиг этот новый слух, либо посмеялись вволю, либо по возвращении домой присовокупили его к материалам для будущих эссе на тему "Психология военного времени: Массовые иллюзии".
Я не примкнул ни к одной из вышеуказанных категорий. Еще до того, как был выпущен упомянутый циркуляр, мое любопытство было возбуждено некоей газетной заметкой. Она была озаглавлена "Фатальное происшествие с известным авиатором" и повествовала о том, как от столкновения со стаей голубей пришел в негодность пропеллер аэроплана. Лопасти его лопнули, как картонные, и машина камнем рухнула вниз. Вскоре после того я услышал о весьма странных обстоятельствах, сопутствовавших взрыву на крупном военном заводе в одном из центральных графств Англии. Я подумал, что между этими двумя столь различными происшествиями могла существовать какая-то связь.
Друзья, которым >1 доверил свои записи, указали мне, что некоторые использованные мною фразы могут создать впечатление, будто я приписываю промедление военных действии на Западном фронте неким чрезвычайным обстоятельствам, которые и побудили власти выпустить злосчастный секретный циркуляр. Разумеется, это вовсе не так — неподвижность линии фронта с октября 1914 но июль 1916 года определялась многими причинами. Они были достаточно очевидны, открыто обсуждались и не менее открыто не одобрялись. Но за все этим постоянно наличествовало нечто чуждое очевидности. Когда мы испытывали недостаток в людях, набиралась новая армия; как только становилось известно о нехватке снарядов, вся наша нация начинала работать, не покладая рук, чтобы залатать эту прореху. Нам всегда удавалось удовлетворить нужду нашей армии в людях и снаряжении — но лишь тогда, когда очередная опасность была физически преодолимой. В конце концов была преодолена и та опасность, о которой идет речь в этой книге, — хотя вернее было бы сказать, что в конце концов она миновала. Теперь ее тайна может быть открыта.
Я уже говорил, что однажды мое внимание привлекло сообщение о гибели известного авиатора. Должен с сожалением признаться, что у меня нет привычки сохранять газетные вырезки, а потому я не могу точно указать дату этого происшествия. Насколько помню, случилось оно где-то в конце мая или начале июня 1915 года. Газетная заметка, сообщавшая о гибели лейтенанта Уэстерн-Рейнольдса была довольно лаконична — несчастные случаи (в том числе и со смертельным исходом) с людьми, штурмующими для нас небо, к сожалению, происходят слишком часто, чтобы всякий раз требовать подробного отчета о случившемся. Но обстоятельства, при которых нашел свою гибель Уэстерн-Рейнольдс, поразили меня, ибо они проливали свет на новую опасность, таящуюся в той грозной стихни, которую мы лишь недавно завоевали. Как я сказал, он был повергнут наземь птичьей стаей — судя но окровавленным и искореженным останкам, налипшим на лопастях пропеллера, то были голуби. Его однополчанин, бывший очевидцем этого происшествия, рассказывал, как в один из солнечных и почти безветренных дней Уэстерн-Рейнольдс поднялся с аэродрома в воздух. Он направлялся во Францию — подобные перелеты туда и обратно он совершал уже не раз, а потому был абсолютно спокоен и не предвидел впереди никаких опасностей.
"Уэсти быстро поднялся на большую высоту, и мы едва различали в воздухе его машину. Я уже повернулся, чтобы уйти с поля, как вдруг один из наших механиков закричал: "Эй, поглядите! Что бы это могло быть? " Он указывал куда-то вверх, и, проследив за его рукой, мы увидели нечто похожее на черную тучу, которая с потрясающей скоростью надвигалась на нас с юга. Однако я тут же сообразил, что это была вовсе не туча; темное образование клубилось вихрем и мчалось со скоростью, которую обыкновенные тучи развивать просто не имеют права. И все же в первый момент я не мог точно определить, что эго было на самом деле. Туча изменила свои очертания и обратилась в подобие огромного полумесяца. При этом она беспрестанно крутилась и меняла направление, как будто что-то высматривая. У окликнувшего нас человека был при себе бинокль, и он глядел в него во все глаза. Наконец он закричал, что видит громадную птичью стаю и что "их там не менее легиона". Птицы продолжали кружиться и метаться в воздухе, а мы молча наблюдали за ними. Это явление казалось нам весьма любопытным, но мы вовсе не думали о том, что оно может таить в себе какую-либо угрозу для Уэсти, который к тому времени почти совсем исчез из виду. Когда его машина обратилась в неприметную точку, оба крыла темного полумесяца стремительно сомкнулись. Тысячи птиц сбились в плотную массу, пронеслись через весь небосвод и скрылись в направлении норд-норд-вест. И сразу же вслед за тем Хэнли — так звали человека с биноклем — закричал: "Он падает!" и кинулся бежать. Я последовал за ним. Мы вскочили в стоявший рядом автомобиль, и пока он мчался к месту происшествия, Хэнли рассказал, что машина Уэсти устремилась вниз, как если бы сама была одной из облепивших ее птиц — только подстреленной невидимым охотником. Он сразу же подумал, что проклятые твари, должно быть, повредили пропеллер. Так оно и оказалось. Мы обнаружили, что лопасти пропеллера совершенно измочалены и сплошь покрыты кровью и голубиными перьями, а между ними застряли птичьи скелеты".Такова была история, которую молодой авиатор поведал однажды вечером в тесной компании друзей. Он не делал из своего рассказа секрета, а потому я воспроизвожу его здесь без каких-либо колебаний. Разумеется, я не записал его дословно, но при моей способности отлично запоминать все интересующие меня детали я могу поручиться за достаточную достоверность изложения. Следует заметить, что молодой человек в ходе своего повествования ни малейшим намеком не дал понять слушателям, что считает все происшедшее неким невероятным или сверхъестественным событием. Он лишь упомянул, что, насколько ему известно, это был первый случай такого рода. Бывало, конечно, что французским летчикам докучали орлы, со злобой наскакивающие на машины, но бедный старина Уэсти стал первым, кому довелось налететь на стаю из нескольких тысяч голубей. "Возможно, вторым буду я, — беспечно добавил он. — Но какого черта сейчас думать об этом? И вообще, завтра вечером я собираюсь сходить на "Тудл-у"".
Я выслушал эту историю с тем же чувством, какое возникает у всякого, кто впервые сталкивается с байками об ужасах, поджидающих авиаторов в воздухе. Несколько лет тому назад, например, все только и говорили что о "воздушных ямах" — этих странных провалах или пустотах в атмосфере, которые несут смертельную угрозу для летчиков. А совсем недавно вся читающая публика ужасалась переживаниям летчика, жарким летом 1911 года пролетавшего над Камберленд-сними горами и внезапно подброшенного потоком горячего воздуха, исходившего от нагревшихся на солнце скал, который и ударил его машину снизу подобно жаркой струе из печной трубы. Во всем этом не было ничего удивительного — мы только начали осваивать воздушную стихию и были готовы встретиться с таящимися в ней странными приключениями и опасностями. Со смертью Уэстерн-Рейнольдса в летописи этих приключений и опасностей всего лишь открылась новая глава. Никто ведь и не сомневается в том, что всякое новое изобретение, всякая новая человеческая затея сопряжены с изрядной долей риска.
Спустя неделю (или чуть больше) со смерти авиатора дела привели меня в один северный городок, название которого, пожалуй, лучше сохранить в тайне. Моя миссия заключалась в расследовании факта подозрительной расточительности, с коей там производилась оплата услуг рабочего класса — точнее сказать, рабочих, занятых производством военного оборудования на местном заводе. Предварительно меня известили, что люди, обычно зарабатывавшие два фунта и десять шиллингов в неделю, теперь вдруг стали получать до восьми фунтов, а "всяким сопливым девчонкам" вместо семи-восьми шиллингов ни с того ни с сего стали платить аж целых два фунта. Налицо была настоящая оргия растраты государственных средств. Теперь местные девушки лакомились шоколадом по цене в четыре, а то и все пять шиллингов за фунт, скромные домохозяйки заказывали рояли стоимостью в тридцать фунтов (на которых, кстати, не умели играться), а их мужья приобретали золотые вериги для часов, отдавая по десять гиней за каждую.
Прибыв в городок, о котором идет речь, и приступив к делу, я обнаружил в этой истории, как это часто бывает, смесь правды и преувеличения. Роялей у местных домохозяюшек, конечно же, не водилось и в помине, но граммофоны были у всех — причем особой популярностью пользовались самые дорогие модели. Кроме того, на тротуарах я заметил немалое число детских колясок, выглядевших, что называется, с иголочки. Это были очень миленькие, окрашенные в нежные гона и снабженные дорогостоящими причиндалами экипажи.
— А стоит ли дивиться тому, что людям дали возможность пожить в свое удовольствие? — сказал мне один рабочий. — Впервые в жизни мы увидели порядочные деньги, так это же здорово! Нам они нелегко достаются, ради них мы рискуем жизнью. Слыхали что-нибудь о нашем взрыве?
И он указал в направлении завода, расположенного на окраине городка. Разумеется, ни завод, ни сам городок никогда не упоминались в печати. Коротенькая газетная заметка сообщала по этому поводу: "Взрыв на заводе военного снаряжения на севере страны. Имеются жертвы". Рабочий рассказал мне о нем, присовокупив некоторые ужасающие подробности.
— Родственникам и глянуть не позволили на тела. Как их нашли в цехе, так и заколотили в гробах. А всему виной газ.
— Вы хотите сказать, что у них почернели лица?
— Да нет же! Они были размозжены вдрызг.
Странный это был газ.
Я засыпал рабочего шквалом вопросов о необычном взрыве, но ему было почти нечего добавить. Как я уже говорил, не предназначенные для печати секреты хранятся в глубочайшей тайне. Так, например, лишь очень немногим людям вне узкого круга высших официальных сановников было кое-что известно о танках. Простым смертным сообщили о них уже после войны, а ведь эти страшные орудия уничтожения были опробованы и испытаны в парке, расположенном неподалеку от Лондона. Поэтому я допускаю, что человек, рассказавший мне о взрыве на заводе военного снаряжения, был совершенно искренен, когда заверял меня, что больше ничего не знает об этом несчастье. Я выяснил, что он работает плавильщиком в цехе, расположенном в противоположной от обратившегося в руины завода части города; он даже не знал, что именно там вырабатывалось, но полагал, что нечто вредное для здоровья и в высшей степени взрывоопасное. Сообщенная им информация по сути дела оказалась не чем иным, как одним из многочисленных отзвуков тревожной молвы, дошедшей до него из третьих, четвертых, а то и пятых рук. Самое жуткое впечатление на него произвело именно то, что лица погибших были "словно размозжены вдрызг". Это было все, чем он мог поделиться со мной.
Простившись с ним, я сел на трамвай и отправился в район, где произошло несчастье, — нечто вроде промышленной окраины в пяти милях от центра города. Когда я начал расспрашивать о местонахождении завода, мне ответили, что ходить туда негоже и что я все равно там никого не застану. И все-таки я нашел этот завод — сырой, мрачный, окруженный высокими стенами барак с примыкающими к нему хозяйственными постройками. Ворота оказались запертыми. Я начал искать следы разрушения, но безрезультатно. А когда я обнаружил, что крыша вовсе не была повреждена, меня снова озадачила чрезвычайно странная природа этого происшествия. Взрыв оказался достаточно сильным, чтобы убить находившихся в здании рабочих, но на самом строении не было видно никаких следов пробоин или трещин.
Из ворот вышел какой-то человек и принялся запирать их за собой. Я подступил к нему с расспросами пли, лучше сказать, раскрыл рот, чтобы произнести фразу типа: "Говорят, у вас тут творятся какие-то страсти?". Одним словом, я попытался завязать разговор, но мне тут же пришлось замолчать. Человек спросил меня, заметил ли я прохаживающегося неподалеку полисмена. Я ответил, что видел и что в ответ на обращенный к нему вопрос тот предоставил мне выбор — либо прекратить совать нос в чужие дела, либо предстать перед следствием в качестве подозреваемого в шпионаже.
— Вот видите, вам лучше всего смыться отсюда, пока не поздно.
Таков был последний и весьма настоятельный совет, который я получил в этом городе.
Я, конечно же, последовал ему.
Что ж, я в буквальном смысле слова уперся лбом в кирпичную стену. Взвесив все известные мне факты, я пришел к выводу, что давешний плавильщик, а может быть, и его осведомитель, живописуя происшедшее, невольно исказили его суть. Плавильщик сказал, что лица погибших были "словно размозжены вдрызг", но эта фраза могла быть бессознательным искажением слов "напрочь разъедены". Последнее выражение вполне могло означать результат воздействия особо едких кислот, а, будучи немного знаком со способами производства взрывчатых веществ, я знал, что там нередко применяются такие кислоты, которые на определенном этапе их смешения могут вызвать взрыв с ужасными последствиями.
День или два спустя мне на ум пришел несчастный случай с Уэстерн-Рейнольдсом. В какое-то краткое мгновение, которому нет аналога в нашей пространственно-временной системе, в моем мозгу сверкнула мысль о возможности прямой связи между этими двумя трагедиями. Но нет, это просто невозможно! Я отбросил прочь эту совершенно дикую мысль, но все же, сколь бы безумной она ни казалась, она уже никогда не покидала меня. То был таинственный огонек, что вел меня сквозь мрачную чащу загадок и в конце концов вывел к свету истины.
Насколько я помню, все это происходило примерно в то же самое время, когда некий округ (да что там округ — целое графство!) послужил ареной для череды исключительно жутких происшествий, которые казались тем ужасней, что продолжались достаточно долго для того, чтобы приобрести оттенок необъяснимой таинственности. Я очень сомневаюсь, что истинная подоплека этих событий открылась тем, кто имел к ним непосредственное отношение, — прежде чем местные жители успели связать воедино звенья всего происшедшего, министерство обороны выпустило свой злонамеренный циркуляр, и с того времени уже никто не мог отличить действительные и несомненные факты от совершенно диких и несуразных выдумок.
Район, о котором идет речь, расположен на дальнем западе Уэльса. Назовем его ради удобства Мэйрион. Здесь, на морском побережье, раскинулся городок, пользующийся широкой известностью среди отдыхающих, которые в летнюю нору съезжаются сюда на пять или шесть месяцев. Кроме того, по округе разбросаны еще три пли четыре небольших поселения, переживающих период медленного упадка, поседевших от старости и забвения. Их вид неизменно напоминает мне описание городов, расположенных на западе Ирландии, что мне довелось однажды повстречать в какой-то книге. Между неровно уложенными плитами тротуара проросла трава, вывески над витринами лавок покосились, уронив на землю добрую половину букв; на каждом шагу здесь можно увидеть завалившийся набок, а то и вовсе разрушившийся по хозяйскому недосмотру домик; между рухнувшими со стен камнями пробивается дикорастущая зелень, а на всех улицах царствует безмолвие. Впрочем, следует заметить, что места эти и раньше не знали процветания. Кельты никогда не были особо искусными строителями, и, насколько мне известно, такие города как Тоуи, Мертир-Тэгвет или Мэйрос во все времена отличались скоплениями жалких, скверно выстроенных, худо ухоженных и убогих домишек.
Да и сами городишки далеко отстоят друг от друга в этой Богом забытой северной стороне, отделенной от южной части острова грядой труднопроходимых гор. Лишь один из них расположен в относительной близости от железнодорожной станции, другие же весьма ненадежно и путано связаны между собой одноколейками, обслуживаемыми редкими поездами, которые, болтаясь и пошатываясь из стороны в сторону в своем неспешном движении, ползут по узким горным ущельям, но чаще всего по полчаса и более простаивают возле брошенных посреди безлюдных топей бараков, называемых здесь станциями. Несколько лет тому назад я путешествовал в компании знакомого ирландца по одной из таких странных линий. Глянув направо, он увидел болото, заполоненное из-желта-синей травой и стоячими лужами, повернувшись налево — уперся взглядом в склон горы, огражденный серыми каменными стенами.
— Мне так и кажется, — сказал он, — что я все еще нахожусь посреди диких пустошей Ирландии.
Таким образом, декорациями для жуткой драмы послужи;] глухой, отрезанный от мира, малонаселенный кран пустынных холмов и таинственных долин. Я помню белые крестьянские домишки на побережье, отделенные друг от друга двумя часами ходьбы по жесткой каменистой дороге, — из окон такого дома, как ни крутись, ни за что не увидишь какое-либо другое жилье. Продвигаясь в глубь страны, можно встретить фермы, окруженные густыми ясеневыми рощами, посаженными еще в незапамятные времена для защиты крыш от резких ветров с гор и штормовых порывов с моря. Эти места живут скрытой от всего остального мира жизнью, и обнаружить их можно разве что по дыму из печных труб, скупо просачивающемуся сквозь окружающую дом густую листву. Обитателю Лондона нужно воочию увидеть эти дома, чтобы поверить в их существование, но даже и тогда ему вряд ли удастся прочувствовать всю щемящую сердце унылость их уединения.
Таков, в главных чертах, Мэйрион. Вот на эту-то пустынную землю ранним летом прошлого года обрушился ужас — ужас, не имеющий ни формы, ни очертаний, ужас, какого прежде никогда не знавал ни один смертный.
Начало ужасу положила история с маленьким ребенком, вышедшем среди бела дня на ведущую к дому тропу нарвать цветов и никогда уже не вернувшемуся в дом на холме.
Смерть в деревушке
Потерявшийся ребенок вышел из дома, стоящего особняком на крутом склоне холма, называемого Аллт, что означает "высота". Местность вокруг него дика и камениста — заросшая дроком и папоротником-орляком пустошь переходит в болотистую низину с извилистой полоской тростника и камыша, обрамляющего русло ручья, текущего из какого-то таинственного источника к зарослям густого и спутанного мелколесья — передовым заставам леса. По этой неухоженной и бугристой земле стелется узенькая тропинка. Она постепенно опускается на самое дно долины и там превращается в дорогу. Затем местность снопа идет вверх и в конце концов упирается в скалистый обрыв, возвышающийся над морем на расстоянии четверти мили от дома. Девочка по имени Гертруда Морган спросила у матери разрешения спуститься на дорогу и нарвать там "лиловых цветочков" — то были полевые орхидеи, — и мать согласилась, при этом предупредив дочку, чтобы та непременно вернулась к чаю, для которого уже был испечен яблочный пирог.
Назад девчушка не вернулась. Полагали, что она пересекла дорогу и подошла к обрывистому краю скалы, чтобы нарвать росших у самого моря гвоздик, которые в то время были в полном цвету. Должно быть, она поскользнулась, говорили люди, и упала в море, бесновавшееся в двухстах ярдах у нее под ногами. Сразу же оговорюсь, что в этом предположении несомненно содержится доля истины, хотя до полной истины ему очень и очень далеко. Тело девочки так и не было найдено — должно быть, его унесла морская волна.
Предположение о неверном шаге пли о гибельном скольжении по влажному торфу на склоне холма, спускающегося к обрыву, было принято всеми как единственно возможное объяснение случившегося. И все же местные жители сочли этот случай очень странным, ибо деревенские дети, живущие поблизости от морских скал, как правило, с раннего возраста привыкают вести себя очень осторожно, а ведь Гертруде Морган к тому времени исполнилось почти десять лет. Тем не менее соседи со вздохом заключили, что "стало быть, это на роду было написано, и, как тут не убивайся, ее уже не вернешь". Но когда на той же неделе с полевых работ не вернулся домой молодой здоровый парень, все переполошились не на шутку.
Труп обнаружили на утесе в шести или семи милях от обрыва, с которого, как полагали, перед тем упало дитя; он направлялся домой по дороге, которой вот уже на протяжении восьми или девяти лет возвращался по вечерам после дневных трудов. Досконально зная каждый ее дюйм и будучи совершенно уверенным в своей безопасности, он хаживал по ней даже в самые темные ночи. Прежде всего полиция поинтересовалась, не напился ли он в тот день, но тут же получила ответ, что парень был совершенным трезвенником. Это не могло быть и убийством с целью ограбления, потому что, как всем известно, богатых батраков на свете не бывает. Так что полиции пришлось снова рассуждать о скользком торфе и неверном шаге — но люди уже начали бояться. Затем на дне заброшенной каменоломни близ Лланфингела обнаружили женщину о сломанной шеей.
На этот раз предположение о "неверном шаге" пришлось исключить вовсе, ибо каменоломня была со всех сторон окружена живой изгородью из дроковых кустов. Чтобы добраться до обрыва, нужно изо всех сил продираться сквозь бесконечные острые шипы, обагряя их своей кровью. Впрочем, как раз в том месте, где нашли тело, дроковый кустарник был и впрямь измят, как если бы кто-то шел через него напролом. Но это была не единственная странность — в том же самом карьере, почти рядом с женщиной, лежала мертвая овца. Было похоже на то, что их обеих кто-то настиг на краю карьера и, протащив через колючую изгородь, сбросил вниз. Но кто это был? Или что? Эта новая загадка лишь усилила овладевший жителями округа ужас.
А вот что случилось в одном окруженном горами болотистом месте. Отец с сыном, юношей пятнадцати или шестнадцати лег, ушли ранним утром на работу и не вернулись назад. Правда, их обратная дорога пролегала по болоту, но она была достаточно широкой, надежной и столь обильно засыпанной щебнем, что почти на два фута возвышалась над топью. Но когда тем же вечером их кинулись искать, они лежали мертвыми в болоте, и тела их уже успело затянуть черным илом и ряской. Они лежали в каких-нибудь десяти ярдах от дороги, и даже самому распоследнему тупице было ясно, что их туда затащили насильно. Разумеется, было бесполезно искать какие-либо следы в черной жиже, в которой любой мельчайший камешек исчезает без следа в считанные секунды. Обнаружившие тела несчастных люди долго бродили по болоту в надежде найти хоть что-либо, указывающее на присутствие поблизости убийц; они насквозь прочесали возвышенные места, где пасся скот, и прошли по ручью сквозь густые ольховые заросли, но не нашли ровным счетом ничего.
Но самым ужасным из подобного рода происшествий был случай на Хайуэй, безлюдном и малопроезжем проселке, что на протяжении многих миль вьется и кружит по возвышенной пустынной местности. Здесь, на краю густого леса, примерно в миле от ближайшего населенного пункта, стоял деревенский дом. В доме жили фермер по имени Уильямс, его жена и трое детей. В один из жарких летних вечеров приятель Уильямса, поденно батрачивший в саду приходского священника, расположенном в трех или четырех милях отсюда, проходил мимо злосчастного дома и на несколько минут остановился поболтать с лениво копавшимся в огороде хозяином. Дети Уильямса играли неподалеку на дороге. Мужчины потолковали о соседях, видах на картофель и погоде, а потом в дверях показалась миссис Уильямс и объявила, что ужин готов, после чего Уильямс попрощался со своим собеседником и направился в дом. Это было около восьми часов вечера — по заведенному от века распорядку семья должна была поужинать, чтобы в девять или самое позднее в половине десятого отправиться на боковую. В десять часов того же вечера местный врач ехал по проселку домой. Внезапно его конь испуганно прянул в сторону и вздыбился — то было прямо напротив ворот дома Уильямсов. Доктор спешился, охваченный ужасом перед тем, что увидел: прямо посреди дороги лежали Уильямс, его жена и трое детей — все как один мертвые. Головы их были размозжены, словно их били неким тяжелым железным орудием; лица их представляли из себя сплошную кровавую массу.
Предположение врача
Нелегко изобразить всю полноту ужаса, омрачившего умы жителей Мэйриона. Никто больше не верил в официальную
версию властей, утверждавших, что все эти мужчины, женщины и дети встретили свою смерть вследствие несчастного случая: это представлялось слишком странным. Конечно, можно было допустить, что маленькая девочка и молодой парень поскользнулись и упали с обрыва, но что было делать с женщиной, найденной рядом с мертвой овцой на дне каменоломни, с двумя мужчинами, погибшими в болотной тони, с целой семьей, убитой на дороге перед воротами собственного дома? Все эти происшествия не оставляли места предположениям о несчастной случайности. Казалось совершенно невозможным найти разгадку или хотя бы более-менее правдоподобное истолкование этих ужасных и абсолютно бессмысленных преступлений. Некоторое время люди говорили о вырвавшемся на свободу маньяке, этаком местном Джеке-Потрошителе, некоем жутком извращенце, обуянном страстью к убийству, что под покровом ночи бродит по пустынным местам или прячется от дневного света в лесах и диких зарослях, постоянно высматривая и выискивая новые жертвы для удовлетворения своей пагубной страсти.
Вот и доктор Льюис, обнаруживший несчастного Уильямса, его жену и детей в жутко растерзанном виде на проселочной дороге, был сперва убежден, что единственным возможным объяснением случившегося может быть лишь буйство некоего скрывающегося в этих местах маньяка.
— Я был уверен, — говорил он мне впоследствии, — что Уильямсов растерзал безумец, одержимый манией убийства. В этом меня убедил характер увечий, нанесенных несчастным жертвам. Около тридцати семи или тридцати восьми лет назад мне довелось столкнуться с очень похожим происшествием. В то время я служил в Аске, что в Монмутшире. Однажды вечером там убили целую семью, жившую в доме у дороги. Насколько я помню, это громкое дело вошло в анналы криминалистики как "убийство в Ллангиби" — по названию деревни, близ которой был расположен дом. Убийцу схватили в Ньюпорте — им оказался испанский моряк по имени Гарсия. Выяснилось, что он убил отца, мать и троих детей лишь для того, чтобы завладеть латунными украшениями на старинных голландских часах, которые и были обнаружены у него при аресте. Оказалось, что еще раньше он был приговорен за ка-кое-то мелкое воровство к месячному заключению в тюрьме Лека, а когда освободился, то отправился пешком в Ньюпорт, находящийся в девяти или десяти милях оттуда. Проходя мимо злосчастного дома и увидев работавшего в саду человека, Гарсия убил его своим матросским ножом. На крик выбежала жена — он убил и ее. Затем он вошел в дом, хладнокровно убил троих детей, попытался устроить пожар и бежал, прихватив с собой украшения от часов. На первый взгляд все это выглядело как действия маньяка, но врачи не признали Гарсию сумасшедшим (могу добавить, что его повесили), просто он был существом с крайне низким умственным и нравственным развитием, дегенератом, который ни во что не ставил человеческую жизнь. Не могу утверждать с полной уверенностью, но думается, он был родом с одного из принадлежащих Испании островов, где люди, говорят, рождаются дегенератами вследствие чрезмерно широкого распространения кровосмесительных браков. При этом я хочу подчеркнуть, что Гарсия убивал людей ударом ножа, и в каждом случае однократным. В его случае не было бессмысленных увечий и множественности ударов. А у несчастного семейства, что я обнаружил на дороге, головы были размозжены в кровавую кашу. Согласитесь, что это предполагает целый шквал ударов, каждый из которых был смертельным. Судя по всему, убийца продолжал наносить удары тяжелым железным предметом по людям, которые уже были мертвы. А такого рода действия указывают на человека помешанного. Так я объяснил самому себе суть этого происшествия. И был абсолютно неправ. Чудовищно неправ! Но кто мог тогда угадать истину?
Так говорил доктор Льюис, и я цитирую его — вернее, передаю суть его речей — лишь для того, чтобы познакомить вас с самым просвещенным мнением, распространившимся в округе, когда на нее надвинулся ужас. Люди с радостью ухватились за это объяснение, потому что любое объяснение, пусть даже самое неудобоваримое, все же лучше, чем нестерпимое и ужасающее неведение. Кроме того, теория доктора Льюиса была правдоподобна — она объясняла бросавшуюся в глаза бессмысленность этих убийств. И тем не менее с самого начала в ней присутствовали противоречия. Едва ли можно было допустить, что странному маньяку удавалось прятаться в местах, где каждый посторонний человек был у всех на виду и о его появлении тут же стало бы известно всем. Рано или поздно кто-нибудь увидел бы, как он крадется по лесной тропе или продирается сквозь заросли кустов. Недаром же случайно очутившийся в тех краях пьяненький бродяжка, слегка горластый, а в общем-то совершенно безвредный, забывшись тяжелым алкогольным сном под сенью живой изгороди, был немедленно задержан на месте "преступления" фермером и его работником. К счастью, он легко доказал свое полное и несомненное алиби и вскоре был отпущен восвояси.
Позднее явилась и другая версия — или, лучше сказать, вариант теории доктора Льюиса. В ней утверждалось, что виновное в жутких преступлениях лицо и в самом деле было маньяком — но лишь время от времени. Автором этой новой теории был некий мистер Ремнант, один из завсегдатаев "Порт-Клуба". Этот во всех отношениях достойный джентльмен за неимением других занятий убивал свое время тем, что проглатывал огромное множество всяческих книг. Так вот, он прочитал завсегдатаям клуба — врачам, отставным полковникам, священникам и адвокатам — целую лекцию о "строении личности", приводя в подтверждение своей точки зрения цитаты из многообразных учебников по психологии и доказывая всем и каждому, что всякая личность есть структура текучая и непостоянная. В качестве свидетельства своей правоты он приводил огромные куски из "Доктора Джекиля и мистера Хайда" — прежде всего рассуждения доктора Джекиля о том, что душа человека, вместо того, чтобы быть цельной и неразделимой, на самом деле представляет из себя подобие государства, в котором живет множество странных и не сочетаемых друг с другом субъектов, чьи характеры не просто неизведаны, но и вообще не могут соответствовать тон форме сознания, каковой мы с вами традиционно наделяем как президентов, так и рядовых законопослушных граждан.
— Из этого следует, — заключил мистер Ремнант, — что убийцей может оказаться любой из нас. При этом он ни в малейшей степени не будет подозревать об этом. Возьмем, к при — меру, мистера Ллевелина.
Мистер Пейн Ллевелин был пожилым адвокатом, этаким деревенским Талкингорном. Он являлся наследственным поверенным в делах Морганов из Пентуина. В глазах англосаксов из Лондона фамилия Морган не таит в себе ничего потрясающего, но для кельтов Западного Уэльса она куда более значима, нежели весь мировой институт дворянства, ибо существует с незапамятных времен. Сам святой Тейло[35] числился в ряду побочных родственников первого зарегистрированного в истории главы этого рода. И мистер Пейн Ллевелин делал все, чтобы выглядеть достойным юрисконсультом древней фамилии. Он был внушителен, он был предусмотрителен, он был разумен, он был надежен. Я позволил сравнить его с мистером Талкингорном из знаменитой юридической корпорации и потому должен сразу же оговориться, что мистер Ллевелин никогда и не помышлял о том, чтобы на досуге совать свой нос в места, где хранятся не слишком приглядные семейные тайны. А если бы он и обнаружил существование таковых мест, то не остановился бы ни перед какими расходами — лишь бы снабдить их двойными или тройными стальными запорами. Конечно, в глазах своих работодателей он был "новым человеком" — advena,[36] если угодно, — ибо вел свое происхождение от одной из побочных ветвей рода сэра Пейна Тарбервилля, как известно, появившегося в Англии лишь во времена Завоевания[37], и все же он предпочитал общаться с представителями более древнего корня.
— Возьмите Ллевелина, — продолжал мистер Ремнант. — Послушайте-ка, Ллевелин, можете ли вы с полной достоверностью указать место, в котором находились в тот вечер, когда была убита семья Уильямсов? Полагаю, что нет.
Мистер Ллевелин, будучи, как уже было сказано, человеком пожилым и достойным, несколько поколебался, прежде чем дать ответ.
— Вот видите, нет! — торжествующе заключил Ремнант. — Поэтому я утверждаю следующее: вполне возможно, что Ллевелин имеет отношение ко всем совершенным в Мэйросе убийствам, хотя в нынешней своей ипостаси он не может и в малейшей степени заподозрить, что в нем живет совсем другой человек — человек, который почитает убийство высоким искусством.
Мистеру Пейну Ллевелнну ни в малой степени не пришлось по вкусу предположение, что он мог оказаться тайным убийцей, да еще жаждущим крови и безжалостным, как дикий зверь. Он полагал, что замечание относительно приверженности убийству как высокому искусству в равной степени отличалось полной бессмысленностью и самым дурным вкусом; и это его мнение ничуть не переменилось, когда Ремнант объяснил, что именно этими словами Де Куинси[38] изъяснялся в одном из самых знаменитых своих эссе.
— Если бы вы позволили мне вставить хотя бы слово, — заявил он с некоторой холодностью в голосе, — я бы объяснил вам, что в прошлый вторник — то есть в тот вечер, когда на дороге были найдены эти несчастные, — я находился в кардиффской гостинице "Ангел". В Кардиффе у меня были дела, и я оставался там до полудня следующего дня.
Убедительно доказав свое алиби, мистер Пейн Ллевелин покинул клуб и до конца недели обходил его далеко стороной.
Ремнант же объявил тем, кто остался в курительной комнате, что он выбрал мистера Ллевелина всего лишь как конкретный пример, иллюстрирующий его теорию, которая, между прочим, уже получила несколько убедительных подтверждений своей обоснованности.
— В последнее время отмечено несколько случаев раздвоения личности, — разглагольствовал он. — И потому я вновь
утверждаю — вполне возможно, что эти убийства были совершены одним из нас, но только в другой ипостаси его личности. Разве Ремнант-второй не может быть убийцей и маньяком, в то время как Ремнант-первый ничуть не подозревает об этом и находится в совершеннейшем убеждении, что не способен убить даже курицу, не говоря уже о целой человеческой семье. Разве не так, Льюис?
Доктор Льюис ответил, что в теории-то это так, однако на деле все выходит как раз наоборот.
— Большинство известных случаев раздвоения пли даже множественного расслоения личности. — пояснил он, — проявлялись в связи с очень сомнительными гипнотическими экспериментами или же с еще более сомнительными спиритическими опытами. Все эти вещи, на мой взгляд, подобны попыткам ребенка копаться в сложном часовом механизме. Вы вертите в руках колесики, собачки, другие части механизма, о которых на самом деле не имеете ни малейшего понятия, а после сборки обнаруживаете, что ваши часы сильно отстают или, скажем, в час вечернего чая бьют двести сорок раз подряд. Полагаю, то же самое можно сказать о любительских психологических экспериментах. Получаемая в ходе их параллельная личность очень напоминает результат любительской возни с часами и прочими весьма деликатными устройствами, о которых мы с вами и понятия не имеем. Поймите, я не отрицаю возможности того, что один из нас, оказавшись в своей второй ипостаси, совершил убийство на пустынной дороге, как это утверждает Ремнант. Но я полагаю это крайне невероятным. Вероятность есть поводырь жизни, и кому как не вам знать это, Ремнант. — заметил доктор Льюис, с улыбкой повернувшись к сему любомудро-му джентльмену, как будто желая показать, что в свое время тоже кое-чего начитался. — Отсюда следует, что в той же мере поводырем жизни является невероятность. Когда вам удается достигнуть весьма высокой степени вероятности вашей теории, вы получаете право принять ее за некую определенность; с другой стороны, если некое предположение в высшей степени невероятно, вы вправе рассматривать его как нечто невозможное. Это правило срабатывает в девятистах девяносто девяти случаях из тысячи.
— А как насчет тысячного случая? — возразил Ремнант. — Вдруг эти исключительно жестокие убийства относятся именно к нему?
Доктор улыбнулся и устало пожал плечами. В результате этой дискуссии весьма уважаемые члены общества городка Порт некоторое время подозрительно поглядывали друг на друга, прикидывая про себя, а вдруг и в самом деле во всей этой чертовщине "что-нибудь есть". В конце концов, как сумасбродная версия мистера Ремнанта, так и довольно правдоподобная теория доктора Льюиса были признаны несостоятельными, тем более что на кровавый алтарь ужаса были принесены еще две жертвы, павшие жуткой и таинственной смертью. В той самой каменоломне Лланфингела, где раньше нашли убитую женщину, теперь был обнаружен мужской труп. Не прошло и нескольких часов, как на зубчатых скалах, хищно выступающих из воды под обрывом близ Порта, случайный прохожий заметил изувеченное тело пятнадцатилетней девушки. Выяснилось, что оба эти злодеяния были совершены примерно в одно и то же время, на протяжении одного или двух часов, но загвоздка заключалась в том, что расстояние между каменоломней и скалами Черного Утеса составляло никак не менее двадцати миль.
— Тут не обошлось без автомобиля, — предположил кто-то. Однако беглый опрос местных жителей показал, что между этими двумя географическими точками отродясь не существовало не то чтобы шоссе, а и сообщения как такового. Вся эта местность опутана сетью узких, непролазных, извилистых троп, пересекающих друг друга под самыми разнообразными углами на протяжении семнадцати миль. Чтобы добраться до обрыва, нужно пройти еще две мили по тропе через поля. Что же до каменоломни, так она вообще расположена аж в целой миле от ближайшего проселка и надежно ограждена кольцевыми стенами дрока, папоротника-орляка и изрытой земли.
И, наконец, на тропах не обнаружили ни единого следа автомобильного или мотоциклетного колеса, а ведь они непременно должны были запечатлеться на дороге между этими двумя гибельными местами.
— А что вы скажете насчет аэроплана? — произнес человек, ранее предложивший версию с автомобилем.
И в самом деле, неподалеку от одного из мест преступления располагался аэродром, однако при всем желании никто не мог представить себе, что в Королевские военно-воздушные силы смог пробраться безумец, страдающий манией убийства. А потому оставалось заключить, что к ужасам в Мэйрионе были причастны по меньшей мере двое убийц. И доктор Льюис самолично уничтожил свою версию.
— Как я сказал в клубе Ремнанту, — заметил он, — вероятность и невероятность суть поводыри жизни. Так вот, я не могу допустить, что в наших краях может набраться шайка маньяков, пусть даже всего из двух человек. Я отвергаю это.
Вскоре выявилось новое обстоятельство, повергшее всех в смятение и побудившее местных жителей к самым диким предположениям. Люди вдруг осознали, что ни одно ужасное происшествие из тех, что с автоматической закономерностью случалось в их местах, почему-то не было освещено в прессе. Я уже говорил о судьбе "Мэйросского обозревателя". Эта маленькая газетенка была запрещена лишь за то, что поместила на своих страницах туманную заметку о неком человеке, который был убит "при загадочных обстоятельствах". С той поры одно ужасное событие следовало за другим, но ни в одной местной газете о них не было сказано ни слова. Любопытствующие толпами наведывались в редакции этих изданий — а таковых в округе осталось два, — но так и не добились ничего, кроме решительного отказа обсуждать этот вопрос. Таким же образом были прочесаны и прорежены кардиффские газеты. По всей очевидности, лондонская пресса также ничего не ведала о преступлениях, ввергших в беспримерный ужас население целого края. Каждый жаждал понять, что происходит; а скоро поползли слухи и о том, что местному коронеру запрещено проводить какое-либо дознание но факту этих тяжких и в высшей степени загадочных преступлений.
— В соответствии с инструкциями, полученными из Министерства внутренних дел, — заявил по согласовании с верхами один из коронеров. — я должен сообщить присяжным, что в их обязанности вменено заслушать результаты медицинского освидетельствования пострадавшего и немедленно вынести вердикт в полном соответствии с этим освидетельствованием. Все посторонние вопросы я буду вынужден отклонить.
Один из присяжных заявил протест. Старшина присяжных вообще отказался выносить вердикт.
— Прекрасно, — сказал коронер. — Тогда я позволю заявить вам, господин старшина, и вам, господа присяжные, что в силу Королевского закона я обладаю властью пренебречь вашим мнением и приобщить к делу соответствующий освидетельствованию вердикт, представив его суду так, как если бы он исходил от всех вас.
Старшина присяжных и его коллеги были сломлены. Им пришлось безропотно принять неизбежное. Но слухи об этом процессе, широко распространившись по округе и соединившись с осознанием того факта, что ужасные происшествия были начисто проигнорированы прессой (без сомнения, по указке свыше), еще более усилили панический страх, охвативший население края, и придали ему новое направление. Люди пришли к выводу, что правительственные ограничения и запреты могли быть продиктованы только войной или же некой грозной опасностью, связанной с военным временем. А раз так, то преступления, которые полагалось держать под строжайшим секретом, были делом врагов — тайных германских агентов.
Распространение ужаса
Теперь, полагаю, настало время внести некоторую ясность в эту историю. Я начал ее с описания несчастного случая с авиатором, чья машина рухнула наземь после столкновения с огромной стаей голубей, а затем подробно остановился на взрыве, случившемся на военном заводе в одном из северных городков страны. Взрыве, как я уже отмечал, весьма странного свойства. Вскоре после того я оставил свое жилье вблизи Лондона и одновременно переключил внимание на череду таинственных и ужасных происшествии, (мучившихся летом 1915 года в Уэльсе — в местности, которую я ради удобства назвал Мэйрион.
Сразу же следует оговориться: изложенные мною подробности событий в Мэйрионе ни в малой мере не означают того, что этот западный край был единственным в своем роде, равно как и того, что он был в особой степени поражен ужасом. На самом деле кошмарные дела творились по всей стране. Мне рассказывали, что даже стойкие сердца населявших Дартмур девонширцев содрогались, как это бывало во времена чумы или какого другого гибельного поветрия. Ужас царил и на равнинах Норфолка, и в далеком графстве Перт, где никто не осмеливался ступать на дорогу, ведущую мимо Скопа к лесистым возвышенностям над Тэем. То же самое происходило и в густонаселенных промышленных районах. Однажды в одном из трущобных закоулков Лондона я наткнулся на приятеля, который с ужасом поведал мне о том, что слышал от других.
— Не спрашивай меня ни о чем, Нэд. — сказал он, — но тут на днях я был в Бэйрнигене и встретился с одним парнем, который собственными глазами видел, как с расположенного неподалеку завода выносили целых триста наглухо заколоченных гробов.
А что сказать о корабле, на всех парусах вынесшемся из устья Темзы и болтавшемся из стороны в сторону, не отвечая на сигналы и не зажигая на борту огней? Береговые укрепления открыли по нему огонь и сбили одну из мачт, после чего, поймав единственным оставшимся парусом внезапно переменившийся ветер, он сделал поворот оверштаг, стремительно пересек Ла-Манш и закончил свое путешествие на поросших соснами отмелях Аркашона. I I все это время на его борту не было ни единой живой души — лишь груды гремучих костей! Последний рейс "Семирамиды" заслуживает отдельного трагического повествования, но слух о нем дошел до меня из десятых рук, и я поверил ему лишь потому, что он вполне согласовывался с другими фактами, в достоверности которых я не сомневался.
Я хотел сказать, что принялся писать об ужасных событиях в Мэйрионе лишь потому, что имел возможность лично познакомиться с тем, что там в действительности происходило. О происшествиях в иных местах я слышал из третьих, четвертых и пятых уст, но об ужасных событиях близ Порта и Мэртир-Тэгвета мне рассказывали люди, которые наблюдали их последствия своими собственными глазами.
Я уже упоминал о жителях графства, расположенного на крайнем западе нашего острова, которые осознали не только тот факт, что смерть широко рассеялась по их мирным дорогам и древним холмам, но и что по какой-то причине она была окутана атмосферой глубочайшей секретности. Газеты не имели права печатать известий о новых трагедиях, а жюри присяжных, созываемые для расследования этих зверств, не имели права ровным счетом ничего предпринимать. Местные жители поневоле пришли к заключению, что эта завеса секретности была каким-то образом связана с войной, а отсюда было уже недалеко до следующего вывода: убийцами ни в чем не повинных мужчин, женщин и детей являлись либо немцы, либо их отечественные агенты.
Все согласились на том, что надо совершенно уподобиться диким вандалам, чтобы измыслить подобную дьявольскую затею, коварство которой подчеркивалось еще и тем, что она была наверняка продумана загодя. Немцы рассчитывали захватить Париж в первые недели войны[39], но после того как им задали взбучку на Марне[40], засели в окопах на Айсне и преспокойно занялись подлинной войной. Все это было подготовлено ими в начале века. А раз так, то стоило ли сомневаться в том, что именно они привели в осуществление направленный против Англии ужасный план, разработанный на тог случай, если им не удастся победить нас в открытом бою; весьма вероятно, что уже несколько лет по всей стране были рассеяны люди, готовые но первому же сигналу из Германии начать убийства и разрушения. Таким путем немцы намеревались посеять ужас по всей Англии и наполнить наши сердца паническим страхом, надеясь до такой степени ослабить своего врага в его собственном доме, что его сыны, сражающиеся на фронте за пределами родины, впадут в отчаяние и малодушие. Все та же старая доктрина Цеппелина[41] оборачивалась другим боком: немцы совершали эти ужасные и таинственные злодеяния в надежде на то, что мы от испуга лишимся всяческого соображения.
Все это казалось достаточно правдоподобным — к тому времени Германия успела натворить столько злодеяний и изощрилась в стольких дьявольских изобретениях, что ничто исходящее от нее, казалось, уже не могло удивить мир своей бесчеловечностью. Самые жуткие преступления гуннов[42] казались детской игрой в сравнении с работой немецкой военной машины. Но тут возник вполне закономерный вопрос — кто же мог оказаться исполнителем этого ужасного замысла? Где обитали эти люди и как им удавалось незаметно перемещаться с одного места на другое? Пытаясь ответить на эти вопросы, мы изощрялись в самых фантастических догадках, но им с самого начала было суждено остаться без ответа. Одни предполагали, что диверсанты высаживались с подводных лодок, другие всерьез уверяли, что они прилетали на аэропланах из потаенных убежищ на восточном побережье Ирландии. Вопиющая невероятность обоих этих предположений не вызывала сомнений. Всякий соглашался с тем, что прокатившиеся по стране злодеяния были делом рук немцев, но никто не мог хотя бы туманно представить себе способ, каким они претворялись в жизнь. Однажды кто-то из завсегдатаев "Порт-Клуба" решил осведомиться об этом у мистера Ремнанта.
— Моя идея состоит в том, — ответствовало это высокоумное лицо, — что путь человеческого прогресса составляет бесконечное продвижение от одного непостижимого к другому. Возьмите хотя бы дирижабль, что пролетал вчера над городом. Какой-нибудь десяток лет назад он показался бы нам непостижимым чудом. Возьмите паровую машину, книгопечатание, теорию гравитации — любая из этих штук кажется непостижимой до тех пор, пока кто-нибудь не придумает ее. Таким же образом, без сомнения, обстоит дело с этим адским замыслом, о котором мы с вами толкуем: тевтонские варвары додумались до него, а мы нет, вот и все! Мы не можем понять, как немцам удалось умертвить этих несчастных, лишь потому, что для нас непостижим образ их мыслей.
Весь клуб с благоговением внимал этим малопонятным речам. Когда Ремнант ушел, кто-то сказал:
— Что за удивительный человек!
— Да уж, — подтвердил доктор Льюис. — Его спросили, знает ли он хоть что-нибудь, и он прочат нам лекцию по истории науки. А по сути дела, его речь сводится к словам: "Нет, не знаю". Впрочем, ничего более путного я от него и не слыхал.
Примерно в то же самое время, когда вся страна ломала голову над тайными методами, используемыми немецкой агентурой для осуществления своих злодеяний, некоторым жителям Порта стало известно некое новое и, нужно сказать, весьма необычное обстоятельство, касающееся убийства семьи Уильямс перед воротами их дома. Не помню, говорил ли я уже о том, что древняя римская дорога, называемая Хайуэй, пролегает по длинному крутому склону холма, который постепенно поднимается к западу, а затем идет на спад и резко обрывается к морю. По обе стороны дороги местность переходит то в густые тенистые леса, то в злачные пастбища, то в хлебные поля, но по большей части там господствуют пустынные, непригодные для земледелия пространства, столь характерные для Арфона[43]. Длинные и узкие поля тянутся по крутому склону холма и частенько неожиданным образом заканчиваются какими-нибудь ямами и лощинами, а иногда между ними вклинивается родник, скрытый от посторонних глаз ясеневыми рощами и колючим кустарником. Под кронами деревьев густо растут камыш и тростник, а но обеим сторонам полей зеленеют частые заросли папоротника-орляка, перемежающиеся топорщащимся дроком и хищными кустами терновника, с ветвей которого причудливо свисает бахрома зеленого лишайника. Таковы земли по обе стороны Хайуэя.
На нижних откосах дороги, на расстоянии в три-четыре полевых надела от дома Уильямсов, расположился военный лагерь. Этот участок земли уже давно облюбовали военные, и со временем его площадь понемногу расширялась и застраивалась бараками. Но летом 1915 года бараков еще не было, и прибывшие на учения воинские подразделения разместились в многочисленных палатках.
Так вот, суть необычного обстоятельства, открывшегося обитателям Порта, заключалась в том, что в ту же самую ночь, когда на старой римской дороге была зверски убита фермерская семья, этот военный лагерь был едва не втоптан в землю обезумевшими от ужаса лошадьми.
В половине десятого, как обычно, прозвучал сигнал отбоя, и вскоре большинство обитателей палаток уже спало крепким сном. Проснулись они от ужасного грохота. Прямо у них над головами, на крутом склоне холма, раздавался стук копыт. В следующее мгновение на лагерь налетело около полудюжины лошадей — неведомо чем перепуганные животные топтали палатки и людей. Позднее выяснилось, что двое солдат были затоптаны насмерть, а десятки получили сильные ушибы.
Началась дикая сумятица. Люди стенали и вопили во мраке, путаясь в брезентовых полотнищах и перекрученных веревках; иные — совсем еще безусые мальчишки — стали кричать, что на побережье высадились немцы; другие отчаянно ругались, протирая залитые кровью глаза; третьи, не до конца очнувшись от глубокого сна, принялись драться со своими же товарищами. Офицеры во всю глотку орали на сержантов, а только что вернувшиеся из деревни отпускники, придя в ужас от представшего их глазам зрелища и будучи не в силах что-либо понять в этом безумном вихре воплей, проклятий и стонов, бросились прочь из лагеря и всю оставшуюся ночь спасали свои жизни в деревенской пивнушке. Словом, все перемешалось в этой безумнейшей кутерьме.
Военным еще повезло, что на их лагерь напала лишь небольшая часть табуна. Те, кто видел остальных лошадей, рассказывали, что они мчались вниз по склону невиданным галопом. Миновав лагерь, они рассыпались по полю, но часа через два одна за другой вышли к расположенному над лагерем пастбищу. Утром они уже мирно пощипывали траву, и единственное, что выдавало их участие в ночном переполохе, была грязь, которой они забрызгали себя, когда скакали через заболоченный участок земли. Живший по соседству фермер уверял, что они вели себя так же спокойно, как любые другие лошади в округе и что, глядя на них, никому бы и в голову не пришло заподозрить их в буйном норове.
— Ей-богу! — добавил он. — Сдается мне, что ночью они увидали самого дьявола, раз так перепугались. Боже, спаси нас грешных!
Ночное происшествие в лагере стало известно завсегдатаям "Порт-Клуба" как раз в те дни, когда там обсуждался каверзный вопрос о "злодеяниях немцев", как стало принято называть совершившиеся убийства. Отчаянный бег деревенских лошадей был немедленно расценен как свидетельство исключительного коварного образа действий вражеской агентуры. Офицер, находившийся в момент происшествия в лагере, сообщил одному из членов клуба, что бросившиеся на палатки с людьми лошади от страха впали в неистовство. При этом он добавил, что никогда прежде не видывал лошадей в подобном состоянии. Разумеется, вслед за тем последовала бесконечная дискуссия о природе ужасного явления, которое ввергло иол-дюжины смирных животных в буйное помешательство.
В самый разгар этих толков стало известно о нескольких других происшествиях, породивших новые слухи, которые дошли из городка из окрестных ферм. Если быть точным, их принесли с собой крестьяне, пришедшие по случаю базарного дня в Порт продать пару-другую куриц, корзинку яиц и свежую партию овощей со своего огорода. То были, собственно, даже и не слухи, а обрывки разговоров, подхваченные горничными на улице и принесенные в подолах их любознательным хозяйкам. Именно таким образом стало известно об ужасном поведении пчел в местечке Плас-Невид — насекомые вдруг сделались агрессивными и принялись кусаться почище нолевых ос. Они тучами вились вокруг пасечника, пытавшегося перевести рой в другое место, садились ему на лицо и ползали по нему в таком множестве, что не было видно ни кусочка его одежды. Они так сильно изжалили его, что врач не мог поручиться за жизнь бедняги. Затем они набросились на девушку, вышедшую взглянуть на рассвирепевший рой, — облепили ее со всех сторон и изжалили до смерти. Свершив это смертоубийство, пчелы полетели к чаще за домом и там забились в дупло дерева, к которому с тех пор люди опасались подходить ближе чем на сто ярдов, ибо обезумевшие насекомые только и ждали возможности наброситься на кого-нибудь.
То же самое произошло еще на трех или четырех фермах, где держали пчел. Почти сразу же вслед за тем город наполнился уже не столь вразумительными и заслуживавшими доверия рассказами об овчарках — этих добродушных и от природы преданных животных, — ни с того ни с сего превратившихся в свирепых зверей. Говорили, что они немилосердно покусали несколько крестьянских детей, причем одного до смерти. Не знаю, как насчет овчарок, а вот история о прискорбном помешательстве любимца миссис Оуэн — петуха породы брахман-доркинг — заслуживает абсолютного доверия. В одно субботнее утро сия почтенная домохозяйка появилась в Порте с лицом и шеей, сплошь заклеенными лечебным пластырем, и горестно поведала о том, как накануне вечером вышла во двор накормить кур и индюшек и неожиданно подверглась жестокому нападению своего пернатого друга. Петух молнией налетел на нее и принялся самым неблагодарным образом клеваться куда ни попадя. Прежде чем ей удалось отбиться от него, он нанес ей весьма серьезные повреждения.
— Счастье мое, что у меня под рукой оказался подходящий колышек. — рассказывала она. — Уж так я его лупила, так лупила — пока из него дух не вылетел! Ну что же это такое творится на свете, а?
Мистер Ремнант, местный изобретатель всяческих теорий, был к тому же человеком в высшей степени праздношатающимся. Будучи еще совсем юношей, он получил в наследство весьма приличное состояние и по здравому размышлению решил, что за шесть лег безвылазного сидения в коллегии адвокатов ему основательно приелся вкус закона, что в высшей степени бессмысленно и далее утруждать себя прохождением переаттестаций по профессии, считать которую своей у него больше не было ни малейшего желания. А потому он закрыл свои уши для зова "кормушки" — колокольчика в зале адвокатского совета — и отправился слоняться по белу свету. Мистер Ремнант поездил по Европе, заглянул в Африку и даже сунул свой длинный нос на порог Востока, совершив путешествие но островам Греции и посетив Константинополь. Когда ему перевалило за середину пятого десятка, он прочно обосновался в Порте, который ценил за близость Гольфстрима и изобилие изгородей из фуксий[44]. Здесь любознательный господин предавался праздным странствиям по книжным полкам, изобретению собственных теорий и обсуждению местных сплетен. Он был не более бессердечным, чем прочая упивавшаяся подробностями таинственных преступлений публика, но именно для него распространившийся в округе ужас оказался самым настоящим благом. Он вникал, он исследовал, он докапывался до истоков со сладострастием человека, в жизни которого вдруг появилась изюминка, которой он уже и не ждал. С жадным вниманием прислушиваясь к свежим байкам о пчелах, собаках и петухах, поставляемым в Порт наряду с крестьянскими корзинками, набитыми маслом, кроликами и зеленым горошком, он в конце концов произвел на свет совсем уже потрясающую теорию.
Распираемый открывшимся ему светом истины, каковым мистер Ремнант почитал свою новую идею, он почти бегом отправился к доктору Льюису, чтобы выслушать его мнение по этому поводу.
Происшествие с необычным деревом
Снисходительно улыбаясь и внутренне готовясь познакомиться с новым чудовищным образцом доморощенного теоретизирования, доктор Льюис ввел Ремнанта в комнату с видом на опускающийся террасами сад и неспокойное закатное море.
Несмотря на то, что дом доктора находился всего в десяти минутах ходьбы от центра города, он соответствовал всем представлениям об английской усадьбе. Подъездная аллея тянулась от главной дороги через сумрачную рощу и плотные заросли кустарника; деревья со всех сторон обступали дом, сливаясь с соседними рощами, а далее, терраса за террасой, спускался вниз сад, постепенно переходивший в сплошную зеленую массу леса. Посреди леса, между рыжими скалами, причудливо вихляла тропа, упираясь в желтый песок небольшой укромной бухты. Комната, в которую доктор ввел Ремнанта, располагалась на втором этаже, а потому казалось, что она парила непосредственно над водной гладью. Балконная дверь была распахнута настежь, и внутрь вливалась приятная вечерняя прохлада. Доктор и его посетитель сидели в мягких креслах при ярком свете лампы — это было еще до того, как на Западе были введены строжайшие правила светомаскировки — и наслаждались чудесными ароматами сада.
— Полагаю, Льюис. — начал наконец Ремнант, — что вы уже слышали об этих необыкновенных происшествиях с пчелами и собаками, а равно и обо всем другом?
— Разумеется, слышал. Я выезжал по вызову в Плас-Невид и пользовал там Томаса Тревора, которому, кстати сказать, только сегодня немного полегчало. Кроме того, я выдал свидетельство о смерти бедняжки Мэри Тревор. Когда я приехал туда, она уже умирала. Нет сомнения, что ее насмерть закусали пчелы. Я вполне допускаю, что нечто похожее произошло и в Ллантарнэме, и в Моруэне. Надеюсь, до смертельного исхода там не дошло.
— Ну хорошо, а как насчет рассказов о старых овчарках, прежде отличавшихся добрым нравом, а потом вдруг рассвирепевших и "яростно набросившихся" на детей?
— Я не освидетельствовал данные случаи в качестве врача, но допускаю, что рассказы о них вполне правдивы.
— А женщина, на которую напал собственный петух?
— Абсолютно достоверный факт. Дочь смазала ей лицо и шею каким-то снадобьем собственного изготовления, а потом отправила ко мне. Раны как будто заживают, и я посоветовал продолжать лечение, чем бы они там его ни проводили.
— Прекрасно! — сказал Ремнант и вдруг заговорил с подчеркнутой выразительностью: — А не усматриваете ли вы связи между внезапным буйством животных и теми ужасающими происшествиями, которые случились в нашей округе за последний месяц?
Льюис в изумлении уставился на гостя. Он удивленно поднял свои рыжие брови, а потом, как бы одумавшись, опустил. В речи его неожиданно появились следы акцента, выдававшего его валлийское происхождение.
— Чтоб мне сгореть совсем! — воскликнул он. — Да что это на вас напало? Вы хотите сказать, что существует связь между тем, что пара пчелиных роев вдруг впала в ярость, некий пес озверел, а старый домашний петух разозлился, и сброшенными со скалы или забитыми насмерть на дороге несчастными? Вы же сами понимаете, что в этом нет ни капли здравого смысла.
— Напротив, я совершенно искренне склонен полагать, что во всем этом кроется великий смысл, — без тени волнения отвечал Ремнант. — Послушайте, Льюис, я ведь заметил, как вы усмехались, когда я заявил в клубе, что, на мой взгляд, все эти преступления совершены немцами, но только таким образом, о коем мы и понятия не имеем. Теперь я хочу объясниться. Говоря о всякого рода непостижимых вещах, я имел в виду, что Уильямсы и все прочие жертвы были умерщвлены неким таинственным способом, которого не существует не только в наших с вами представлениях, по и в современной научной теории. Иначе говоря, способом, о котором мы не только не знаем, но и ни на секунду не можем помыслить. Понимаете, куда я клоню?
— Более-менее. Вы просто хотите сказать, что этот способ абсолютно уникален. Допустим. Что же дальше?
Ремнант некоторое время колебался — отчасти из-за приятно щекочущего нервы ощущения зловещей природы того, о чем он собирался рассказать, отчасти из-за нежелания слишком быстро расставаться со столь гениальной догадкой.
— Ну так вот. — заговорил он наконец. — представьте себе, что перед нами два ряда однотипных явлений, обладающих весьма поразительными свойствами. Не кажется ли вам весьма резонным связать их воедино?
— А почему бы и нет? Подобную идею не раз высказывали самые высокочтимые философы. Более того, на ней, собственно, построено умение человека делать самые элементарные умозаключения. Но в чем вы здесь-то усматриваете связь? Несчастных Уильямсов на Хайуэе не жалили пчелы, не кусали собаки. А перепутанные лошади никого не сбрасывали со скал и не топили в болоте.
— Конечно, нет. Мне и в голову не приходило думать об этом. Очевидно, что во всех слу чаях, когда животные неожиданно впадали в ярость, причиной тому являлись страх, ужас и паника. Мы знаем, что ворвавшиеся в лагерь лошади обезумели от испута. Готов поклясться, что во всех остальных случаях, о которых идет речь, причина была та же самая. Все эти создания были подвержены инфекции страха, а испуганное животное, будь то жук, носорог или то и друтое вместе взятое, немедленно пускает в ход свое природное оружие, каким бы оно ни было. И если на пути впавших в панику лошадей поставить отделение солдат, то они, лошади то есть, непременно затопчут насмерть половину людей.
— Пожалуй, так оно и есть. Ну и что?
— А вот что! Я уверен, что немцы втихомолку совершили некое исключительное открытие, которое я назвал "Z-лучами". Вы же знаете, что эфир является всего лишь некой научной абстракцией, которой мы объясняем передачу сообщений на большое расстояние при помощи аппарата Маркони[45]. А теперь представьте себе, что наряду с эфиром физическим существует и эфир психический, в котором можно передавать на большие расстояния неотразимые нервные импульсы. Предположим, эти импульсы толкают реципиента на убийство или самоубийство; раз так, то у нас появляется единственно возможное объяснение ужасной цени событий, случившихся в Мэйрионе на протяжении последних нескольких недель. Теперь мне совершенно ясно, что лошади и другие животные подвергались воздействию "Z-лучей" и что именно эти лучи нагнали на них ужас, следствием которого и явилось их безумие. Ну, что вы теперь скажете? Вы не станете отрицать существования телепатии — ныне об этом говорят во всех на ученых журналах. То же самое касается гипнотического внушения. Вам достаточно заглянуть в "Британскую энциклопедию", чтобы убедиться в этом. В отдельных случаях внушение приобретает такую силу, что становится совершенно неотразимым. Неужели и теперь вы станете отрицать тот очевидный факт, что если связать воедино телепатию и гипнотическое внушение, то вы получите нечто большее, нежели то, что я называю "Z-лучами"? Справедливости ради стоит признать, что для того, чтобы построить эту блистательную гипотезу, у меня под рукой оказалось больше материала, нежели у изобретателя парового двигателя, наблюдавшего за тем, как подпрыгивает крышка чайника. Ну, так что вы скажете?
Доктор Льюис не ответил. Он в изумлении следил за тем, как в его саду вырастает какое-то новое и весьма необычное дерево.
В тот день доктор так и не дал ответа на вопрос Ремнанта. Во-первых, его гость был слишком расточителен в своем красноречии — как видно, он с головой погрузился в стихию происходящего, — и Льюиса вскоре утомило уже само звучание его голоса. Во-вторых, он нашел теорию "Z-лучей" чересчур экстравагантной, чтобы ее можно было принять всерьез, и недостаточно дикой, чтобы тут же разнести в клочья. Но самое главное — пока длилась эта утомительная дискуссия. Льюис начал осознавать, что у него за окном творится нечто в высшей степени странное.
Стояла темная летняя ночь. Тусклый, почти истаявший полумесяц плыл над заливом в направлении мыса Дракона. Воздух был тих и покоен. Царила такая тишь, что Льюис мог видеть, как замерли листья на верхушках высоких деревьев, вырисовывавшихся на фоне опалового неба. И все же он чувствовал, как некая неодолимая сила заставляет его все время прислушиваться к какому-то трудно определимому звуку. То был не шелест листьев на ветру, не мягкий плеск ночной волны о прибрежные скалы — то было нечто совсем другое. Едва ли это вообще можно было назвать звуком — нет, доктору казалось, что сама природа колебалась и трепетала, как колеблется и трепещет воздух в церкви, когда при нажиме педали открываются самые большие трубы органа.
Доктор прислушался повнимательней. Нет, то была не иллюзия — звук раздавался не в глубине его мозга, как ему показалось в первый момент. Впервые в жизни сей ученый прагматик не мог определить источник такого элементарного физического явления, как звук. Всматриваясь в полумрак, нависший над террасами исполненного сладостными ароматами ночных цветов сада, он пытался заглянуть за макушки деревьев, за которыми неясно маячил край залива с выступающим далеко в море мысом Дракона. Его вдруг осенило, что эта странная, эта трепетная вибрация воздуха могла быть гудением далекого аэроплана или дирижабля. Однако доктор тут же возразил себе, что это было непохоже на уже ставший привычным монотонный гул авиационного мотора — разве что это был какой-нибудь новый тип машины. Новый тип машины? Возможно, в небе проплывал один из вражеских дирижаблей — дальность их полета, как говорили, постоянно увеличивалась. Льюис уже совсем было собрался привлечь внимание Ремнанта к этому звуку, а равно и к нависшей над ними гипотетической опасности, как вдруг увидел нечто такое, что лишило его дыхания и наполнило сердце неведомым доселе ощущением, похожим на прикосновение ужаса.
Все это время он напряженно вглядывался в небо, но, собираясь ответить Ремнанту, опустил глаза вниз. Взгляд его скользнул по деревьям в саду, и доктор с величайшим удивлением увидел, что одно из этих деревьев изменило свою форму. Прямо перед ним лежала густая роща каменных дубков, окаймлявшая нижнюю террасу, а над нею высилась стройная сосна, выделявшаяся на фоне темнеющего неба четкими и черными очертаниями могучих ветвей.
Так вот, случайно обратив взгляд на террасу, он увидал, что этой высокой сосны больше нет. На ее месте выросло нечто такое, что можно было принять за другого, более высокорослого представителя породы каменного дуба. Глазам доктора предстала сплошная черная масса густой листвы, похожая на широкое, далеко расползшееся над более низкими деревьями облако.
Зрелище было совершенно невероятное, невозможное. Я сомневаюсь, что человеческий разум в подобных случаях способен анализировать и четко фиксировать происходящее и что такие явления вообще возможно воспринять сознанием. Можно, конечно, попытаться представить себе реакцию математика, привыкшего иметь дело с абсолютными истинами (насколько смертный вообще способен постичь абсолютные истины), которому неожиданно показали двусторонний треугольник. Полагаю, он тут же впал бы в неистовое безумие. Так и Льюис, широко раскрыв глаза и дико взирая на темное и все увеличивавшееся дерево, почувствовал на мгновение некий шок, какой поражает каждого из нас, когда мы впервые сталкиваемся с нестерпимой антиномией Ахиллеса и черепахи[46]. Здравый смысл говорит нам, что Ахиллес промчится мимо черепахи со скоростью молнии; несгибаемая же математическая логика убеждает нас, что до тех пор, пока земля не закипит, а небеса не потеряют всякое терпение, черепаха будет неизменно опережать Ахиллеса. В результате подобных рассуждений мы должны были бы сойти с ума — хотя бы из уважения к приличиям. Мы не сходим с ума лишь по милости Господней, что нам дана уверенность в том, что всякие науки суть ложь, даже если имеются в виду самые высокие из них. Таким образом, мы просто отвечаем Ахиллесу и его черепахе той же ухмылкой, с которой внимаем Дарвину[47], издеваемся над Гексли[48] и смеемся над Гербертом Спенсером[49].
Но Льюису было не до ухмылок. Доктор вглядывался во все разраставшееся посреди ночного мрака дерево, которого, как он твердо знал, там просто не могло быть. И вот то, что сперва показалось ему густой массой листвы, расцветилось чудесными сполохами света и усеялось разноцветными звездами!
Впоследствии он говорил мне:
— Вспоминаю, как я упорно убеждал самого себя: "Послушай, ты же не в бреду, у тебя совершенно нормальная температура. Ты не пьян, пинта холодненького "Грейвза" за обедом не в счет. Ты не ел никаких ядовитых грибов, не экспериментировал с Anhelonium LewinИ. Так в чем же дело? Что, в конце концов, происходит?"
Ночной мрак еще более сгустился, тучи затянули тусклый полумесяц и поблекшие звезды. Льюис поднялся, сделав нечто вроде предупреждающе-запрещающего жеста в сторону Ремнанта, который, как он чувствовал кожей, глазел на него в изумлении. Потом подошел к балконной двери, ступил на ведущую в сад дорожку и очень внимательно вгляделся в темные очертания странного дерева, выросшего над спускавшимися к морю террасами сада, овеянного тихим плеском волн. Поставив ладони ребром по обе стороны лица, он заслонился от света горевшей в комнате лампы.
Темная масса дерева — дерева, которого не могло быть в природе, — по-прежнему маячила на фоне неба, но теперь она вырисовывалась уже не столь ясно из-за сгустившихся облаков. Границы пышной кроны были обозначены не так резко, как вначале. Льюису показалось, что он почуял какое-то трепетное движение в ночи, хотя воздух был совершенно недвижим. В такую ночь можно было зажечь спичку и наблюдать, как она горит ровным, без малейшего колебания или отклонения пламенем.
— Вы наверняка помните, — говорил он мне позднее, — как, прежде чем улететь в трубу, клочок горящей бумаги зависает над раскаленными углями и как узкие язычки огня пронизывают его насквозь. То же самое вы бы увидели там, если бы стояли на моем месте. Я видел точно такие же нити и волоски желтого огня, точно такие же вспышки и искорки. Потом на этом фоне проступило мерцание бесчисленных рубинов величиной не более булавочной головки каждый, а еще потом я увидел блуждание чего-то зеленого, как если бы в кроне этого проклятого дерева медленно скользил кусочек изумруда с тоненькими темно-синими прожилками. "Дьявол меня возьми! Экая чертовщина! — по-валлийски воскликнул я про себя. — Что это за краски, что за огни?" Но тут позади меня грохнула дверь — в комнате появился мой слуга и сообщил, что меня срочно требуют в Гарт к старому мистеру Тревору Уильямсу, которому вдруг сделалось очень худо. Я знал, что сердце у него было вовсе никудышное, а потому мне следовало отправляться немедленно. Я так и сделал, оставив Ремнанта делать в моем доме все, что ему вздумается.
"Z-лучи" мистера Ремнанта
Некоторое время дела продержали доктора Льюиса в Гарте. Домой он вернулся уже после полуночи. Он быстро прошел в комнату, распахнул балконную дверь и снова принялся вглядываться в темноту. Там, как и прежде, теперь уже смутно различимая на фоне тусклого неба, привычно и безошибочно угадывалась высокая сосна с редкой кроной, возносившая свои огромные ветви над густой порослью каменных дубков. Те странные разветвления, что так изумили его накануне, уже исчезли. Не осталось и никаких следов переливающихся красок и огней.
Доктор пододвинул кресло к открытой двери и сел, внимательно всматриваясь в ночь, блуждая взглядом по далекому
небу. Он просидел так до топ поры, пока море и небо не просветлели, а очертания деревьев в саду не сделались ясными и отчетливыми. Наконец он отправился спать, пребывая в полном замешательстве и все еще задавая себе вопросы, на которые не находил ответа.
Доктор ни словом не обмолвился Ремнанту о странном дереве. Когда они снова встретились в клубе. Льюис отговорился тем, что ему показалось, будто в кустах кто-то прячется. — отсюда и предупреждающий жест, и неожиданный выход в сад, и пристальное вглядыванне в ночную тьму. Он скрыл правду, потому что его ужасала одна мысль о том, какую теорию мог бы соорудить на этой почве Ремнант. Ему хотелось верить, что в тот памятный вечер он до самого конца выслушал "лучевую" теорию Ремнанта, но увы, тот решительным образом вернулся к ней.
— Нас прервали как раз в тот момент, когда я закончил излагать вам суть дела, — сказал он. — Так вот, если подвести итог, то моя теория сводится к следующему: немецкие варвары совершили одни из самых великих скачков в истории науки. Они посылают нам некие "внушения" (которые достигают степени обязательных для исполнения приказов), и люди, подвергшиеся их воздействию, оказываются охваченными манией самоубийства или убийства. Те несчастные, тела которых нашли на скалах и на дне каменоломни, совершили самоубийство; то же самое случилось с мужчиной и мальчиком, утонувшими в болоте. Что же касается случая на Хайуэе, то вспомните: Томас Эванс рассказывал, что вечером накануне убийства он остановился у дома Уильямсов и разговаривал с ними. По-моему, убийцей был сам Эванс. В какой-то определенный момент он обезумел под воздействием "Z-лучей", вырвал из рук Уильямса лопату и убил его вкупе со всеми остальными.
— Но я обнаружил их тела на дороге.
— Возможно, первый импульс лучей вызвал в Эвансе мощное нервное возбуждение, проявившееся каким-либо странным образом. Уильямс мог позвать жену, чтобы она взглянула, что это такое творится с соседом. А дети, естественно, могли последовать за матерью. По-моему, все элементарно просто. Что же до животных — лошадей, собак и прочих, — то я считаю, что "Z-лучи" вызвали у них панический ужас и тем самым довели до неистовой ярости.
— Но почему, в таком случае, Эванс убил Уильямса, а не наоборот? Почему эти ваши лучи воздействовали на одного и совершенно не коснулись другого?
— А почему одни остро реагируют на какой-нибудь наркотик, а на других он не производит ни малейшего действия? Почему какой-нибудь там Икс способен выдуть целую бутылку виски и при этом остаться трезвым, а Игрек после трех стопок валится под стол?
— Это всего лишь вопрос идиосинкразии, — заметил доктор.
— А не пытаетесь ли вы укрыть за этим высокоученым термином свое неведение? — съязвил Ремнант.
— Ни в малой степени, — с мягкой улыбкой возразил Льюис. — Я хочу сказать вам, что в некоторых случаях диатеза это самое виски — раз уж вы его упомянули — не вызывает патогенного действия или, во всяком случае, не срабатывает немедленно. В иных же случаях, как вы весьма справедливо заметили, наблюдается весьма явно различимая кахексия[50], соединенная с внешними проявлениями воздействия спирта, употребленного даже в сравнительно малых дозах.
Укрывшись за завесой профессионального многословия, Льюис сбежал от Ремнанта. Он не желал слышать больше и слова об этих "лучах ужаса", поскольку был уверен, что все это полная чушь. При всем при том доктор не мог объяснить себе, почему он был так твердо в этом уверен. В самом деле, рассуждал он, ведь и аэроплан показался бы всем чушью до того, как его изобрели. Кроме того, он вспомнил, как однажды в начале девяностых годов рассказывал одному из своих друзей о недавно открытых рентгеновских лучах. Его собеседник недоверчиво посмеивался, не веря ни единому его слову, пока Льюис не сказал ему, что в последнем номере "Субботнего обозрения" помещена огромная статья по затронутому вопросу. И тогда Фома Неверующий растерянно произнес: "Ах вот как? Нуда, в самом деле, как же я забыл!" — и тут же обратился в Фому Верующего. Вспоминая этот давний разговор, Льюис снова подивился человеческому мышлению, его алогичному и в то же время все преодолевающему ergo[51]. Доктор изо всех сил прислушивался к себе, пытаясь понять, а уж не ждет ли он сам появления в "Субботнем обозрении" статьи о "Z-лучах", чтобы тут же сделаться преданным сторонником теории Ремнанта.
Но куда с большей страстью Льюис отдавался размышлениям о том совершенно необычайном явлении, которое ему довелось лицезреть в своем собственном саду: дерево, в какой-нибудь час-другой в корне изменившее свои очертания; нарастание его странных ответвлений; появление среди них таинственных огней; сверкание изумрудных и рубиновых отсветов… Как можно было не ужасаться и не изумляться при одной лишь мысли об этом непостижимом таинстве?!
От мыслей о невероятном появлении загадочного дерева Льюиса отвлек приезд сестры с супругом. Мистер и миссис Меррит жили в известном промышленном городе, расположенном в глубинке Англин и теперь, вне всякого сомнения, ставшего центром военного производства. В день своего прибытия в Порт миссис Меррит, утомленная долгой поездкой в жарком вагоне, пораньше отправилась спать, а Льюис с Мерритом устроились все в той же выходившей окнами в сад комнате, чтобы покурить и вволю поболтать. Они говорили о том, что случилось за прошедший с их последней встречи год, о тяготах войны, о друзьях, которых они в ней потеряли; о том, что едва ли можно ожидать скорого конца всех обрушившихся на мир несчастий. О посетивших этот край ужасах Льюис не сказал ни слова. И в самом деле, нельзя же встречать усталого человека, приехавшего в тихий, залитый солнцем уголок, чтобы отдохнуть от заводского дыма, трудов и забот, рассказом о каких-то невероятных ужасах. К тому же доктор видел, что его зять и в самом деле выглядел не лучшим образом. Казалось, он был "на взводе" — губы его то и дело подергивались, и это очень не понравилось Льюису.
— Что ж, — начал доктор после того, как они пропустили по рюмке портвейна, — рад снова увидеть тебя. Наш городок всегда шел тебе на пользу. Судя но всему, ты и теперь не в самой лучшей форме. Ничего, три недели в Мэйрноне произведут чудеса.
— Очень надеюсь, — ответил его собеседник. — В самом деле, до отличной формы мне далеко. Дела в Мидлингеме идут не лучшим образом.
— Надеюсь, с твоим бизнесом все в порядке?
— Да, с бизнесом все в порядке. Но в остальном дела обстоят скверно. Все мы живем под гнетом страха, и исхода пока не видать.
— Что ты имеешь в виду, черт побери?
— Пожалуй, я могу рассказать тебе все, что мне известно. Не очень-то много, кстати говоря. Но даже это немногое я не осмеливался доверить почте. Известно ли тебе, что каждый военный завод в Мидлингеме и все, что вокруг него, денно и нощно охраняется солдатами, вооруженными боевыми винтовками с примкнутыми штыками? Кое у кого есть и гранаты. На крупных заводах, кроме того, установлены пулеметы.
— Это что же — против немецких шпионов?
— Чтобы противостоять немецким шпионам, Льюис, пулеметы ни к чему. Не нужны и целые батальоны солдат. Прошлой ночью я проснулся от внезапного шума. На военном заводе Беннингтона строчил пулемет. Строчил взахлеб. А потом — бац! бац! бац! Ручные гранаты.
— Но против кого?
— Этого никто не знает.
— Никто не знает, что там произошло. — повторил Меррит после минутного молчания и принялся рассказывать об ужасном замешательстве и страхе, нависшем, подобно туче, над огромным индустриальным городом, расположенном в глубинном районе Англин. Упомянул он и о самом худшем — об ощущении, что под завесой секретности власти скрывают от людей какую-то ужасную опасность, подстерегающую всех без исключения.
— Я знаю одного молодого парня, — продолжал он. — Не так давно его отпустили с фронта на побывку, которую он провел у родных в Белмонте — ты ведь знаешь, это в четырех милях от Мидлингема. Так вот, он заявил мне: "Слава богу, что завтра я возвращаюсь на фронт! Не сказал бы, что плацдарм у Виперса такое уж веселое местечко — куда там к черту! — но лучше уж торчать там, чем здесь. На фронте, по крайней мере, своими глазами видишь то, что тебе угрожает". В самом деле, каждый житель Мидлингема чувствует, что всякую минуту ему грозит нечто ужасное, но не может понять, что именно. Дело дошло до того, что люди боятся говорить в полный голос и только испуганно перешептываются. Страх буквально витает в воздухе.
Меррит живо описал картину огромного города, охваченного страхом перед неизвестной опасностью.
— По ночам люди боятся по одиночке возвращаться домой в пригороды. Они собираются на станциях группами по десять-двадцать человек и садятся в один вагон, да и то всю дорогу им мерещится что-то неведомое и мрачное — чуть ли не нечистая сила.
— Но почему? Не понимаю. Чего они боятся?
— Я же говорил тебе, что на днях проснулся от пулеметной стрельбы и разрывов гранат. О, если бы ты слышал этот ужасный грохот! Всякого напугает такое, сам понимаешь.
— В самом деле, тут есть чего напугаться. Так ты говоришь, там царят нервозность и своего рода дурные предчувствия, которые заставляют людей держаться вместе?
— Именно так, и даже более того. Случается, люди выходят из дому и не возвращаются назад. Вот пример: двое рабочих ехали в поезде до Хорта. По дороге они поспорили о том, как быстрее добраться до Нортэнда — что-то вроде пригорода Хоума, где оба и проживали. Они спорили все время, пока ехали от Мидлингема — один из них доказывал, что выгоднее всего шагать по шоссе, хотя оно и делает крюк. "Этот путь самый короткий, потому что самый гладкий", — уверял он. Другой же считал, что лучше махнуть прямиком через поля и идти вдоль канавы. "Это же наполовину сокращает путь", — гнул он свое. "Так оно и есть, если, конечно, не собьешься с дороги", — возражал другой. Кончилось тем, что они заключили пари на полкроны и, выйдя из поезда, пошли каждый своим путем, а встретиться условились в гостинице "Фургон", что в Нортэнде. "Я приду первым", — сказал тот, кто предпочел более короткое расстояние, и, взбежав по ступенькам перехода через пути, пошел прямо через поля. Время было не слишком позднее, до темноты было далеко, и почти все приятели спорщиков решили, что он, пожалуй, выиграет пари. Но рабочий так и не дошел до "Фургона" — собственно, он вообще никуда не дошел.
— Что же с ним случилось?
— Его нашли посреди поля. Он лежал лицом вверх недалеко от тропы. Он был мертв. Врачи сказали, что его задушили. Никто не знает как. И такое случалось не раз. Мы в Мидлингеме осмеливаемся говорить об этом лишь шепотом.
Льюис погрузился в глубокое раздумье. Ужас царил в Мэйрионе, но то же самое происходило и за десятки миль от него, в самом сердце Англии. Однако, судя по рассказам Меррита о вооруженных солдатах и строчащих в ночи пулеметах, все происходившее в его родном городе сводилось к организованному кем-то нападению на военный завод. Впрочем, он знал еще слишком мало, чтобы иметь право сделать окончательный вывод о том, что ужас в Мэйрионе и ужас в Стрэдфордшире исходят из одного источника.
Тут Меррит снова заговорил:
— А вот другая странная история — тут дело происходило при закрытых дверях и задернутых шторах. Я имею в виду некое место, на этот раз удаленное в противоположную сторону от города — к Данвичу. Там построили новый завод, целый город из краснокирпичных корпусов, увенчанный колоссальной трубой. С тех пор, как его закончили возводить, прошло едва ли месяц-полтора. Его вытянули по линеечке в самом сердце полей, а рядом выстроили бараки для рабочих, причем это жилье собиралось в ужасной спешке, ибо к тому времени многие труженики уже прибыли и ютились по крестьянским домам, разбросанным тут и там в значительном удалении от завода. Примерно в двух сотнях ярдов от этого места пролегает старая тропа, ведущая от главной дороги к небольшой деревушке на склоне холма. На довольно большом протяжении тропа эта идет через лес, почти полностью заросший густым кустарником. Думаю, площадь леса составляет около двадцати акров. Кстати, однажды мне довелось пройти по этой тропе, и, доложу тебе, что ночью там и в самом деле бывает жутко. Так вот, однажды вечером но этой дороге случилось пройти одному из рабочих. Все было хорошо, пока он не подошел к лесу. Но тут, как он говорит, у него прямо сердце оборвалось. Посреди сгущавшихся сумерек раздавались очень странные и зловещие звуки. Рабочий уверял, что там толпились тысячи людей. Лес полнился шорохами, топотом множества ног, старавшихся ступать неслышно, треском сухих сучьев под чьими-то сапогами, шуршанием травы и чьим-то зловещим перешептыванием, которое более всего на свете походило на разговоры мертвецов, сидящих на собственных костях. Работяга кинулся бежать со всех ног — он мчался через поля, перескакивал через живые изгороди и ручьи. По его словам, он промчался десять миль без передышки, прежде чем добрался до дома, вбежав в который, тут же заперся на засов.
— Знаешь, ночью в любом лесу страшно, — заметил доктор Льюис.
Меррит пожал плечами.
— Видишь ли, люди поговаривают, что в Англии уже давно высадились немцы и теперь прячутся в подземельях по всей стране.
Молва о затаившихся немцах
На момент Льюис замер, осознав все зловещее и грандиозное значение этого слуха. Немцы уже высадились, они прячутся в подземельях, тайно готовясь к боям и злодейски посягая на державную мощь Англии! По сравнению с этим предположением миф о русских выглядел жалкой сказкой, а легенда о ангелах Монса так и вообще разжижалась до банальности.
Это звучало чудовищно. И все же…
Он внимательно оглядел Меррита — то был плотный черноволосый мужчина с крупной, крепко посаженной головой. Порой в его лице угадывались некоторые признаки нервозности и беспокойства, но удивляться тут было нечему — вне зависимости от того, были ли его рассказы основаны на истинных фактах или на непроверенных слухах, они были ужасны. Вот уже двадцать лет Льюис знал своего зятя как человека, чувствовавшего себя вполне уверенным в устойчивости своего собственного маленького мира. Но теперь, говорил он себе, этот человек и все остальные подобные ему люди, вдруг выбитые из этого мира, испытывают явное замешательство. Теперь они стали людьми, которых насильно заставили поверить в мадам Блаватскую. Вслух же он произнес:
— Допустим, факты таковы. Но что ты сам думаешь об этом? Немцы высадились в нашей стране и где-то попрятались — не видится ли тебе нечто экстравагантное в подобном предположении?
— Не знаю, что и сказать. С фактами не поспоришь. Что прикажешь думать о солдатах с винтовками и пулеметами на военных заводах Стрэдфордшира? Или о том, что эти пулеметы по ночам пускаются в ход? Говорю тебе, я слышал стрельбу собственными ушами! В кого же стреляют эти солдаты? Вот о чем мы спрашиваем себя там, в Мидлингеме.
— Да, разумеется. Вполне понимаю тебя. Положение и в самом деле исключительное.
— Более чем исключительное — оно просто ужасное. И, что хуже всего, весь этот ужас творится за завесой секретности. Как сказал тот парень, о котором я тебе рассказывал: "На фронте но крайней мере своими глазами видишь то, что тебе угрожает".
— Так, значит, это серьезно? Люди на самом деле верят, что немцы непонятно как переправились в Англию и теперь прячутся в подземельях?
— Люди подозревают, что они изобрели новый вид ядовитых газов. Некоторые полагают, что они зарылись в глубь нашей английской земли и производят газ прямо на месте, а затем по тайным трубам подают его на заводы; другие же утверждают, что они тайком подбрасывают туда гранаты с газом. И этот газ может оказаться куда опаснее тех отравляю щих средств, что они, судя по утверждениям властей, уже испробовали во Франции.
— Ты говоришь о властях? Неужели и они допускают мысль, что в подземельях вокруг Мидлингема прячутся немцы?
— Нет. Они называют это "взрывами". Но мы то отлично понимаем, что это никакие не взрывы. Мы в Мидлингеме умеем распознавать звуки взрыва, а также знаем, что при этом происходит. Еще мы знаем, что трупы убитых в результате этих "взрывов" людей прямо на заводах прячут в гробы. На погибших не позволяют взглянуть даже близким родственникам.
— Значит, ты веришь в эту версию о немцах?
— Если и так, то лишь потому, что она хоть что-нибудь да объясняет. Некоторые утверждают, что видели этот газ. Я слышал, будто один из жителей Данвнча однажды ночью видел нечто вроде черной тучи, пронизанной огненными искрами, — она плыла над верхушками деревьев в окрестностях этого городка.
В глазах Льюиса блеснул огонек непередаваемого изумления: ночь, когда к нему пришел Ремнант; трепетная вибрация воздуха; темное дерево, выросшее в его саду после захода солнца; его странная листва, испещренная огненными звездами; изумрудное и рубиновое свечение — все это напугало его и исчезло, когда он вернулся после посещения больного в Гарте, но вот теперь в его комнате прозвучало упоминание о таком же пламенном облаке, проплывшем над самым сердцем Англии! Что же это за мучительная, непереносимая тайна? Что за гибельную угрозу несет она в себе? Одно становилось ясным и неоспоримым: ужас, охвативший Мэйрион, и ужас, царивший в сердце Англии, были одинаковы по своей природе.
Льюис еще больше укрепился в решении держать свои страшные мысли втайне от зятя. Меррит приехал в Порт ради спасения от кошмаров Мидлингема, и потому его следует всячески оберегать от осознания того факта, что туча ужаса опередила его, нависнув уже и над этим мирным краем. Льюис передал зятю бутылку с портвейном и ровным голосом произнес:
— В самом деле, очень странно — черная туча с огненными искрами!
— Я не могу отвечать за истинность этого сообщения. Это всего лишь слух.
— Ты прав. Но ты и в самом деле полагаешь, что это сообщение, равно как и все прочее, о чем ты говорил, следует приписать проискам затаившихся немцев?
— Как я уже объяснял, никому — и мне в том числе — больше не приходит на ум ничего путного.
— Вполне тебя понимаю. И все же, будь это правдой, то был бы самый ужасный удар, когда-либо нанесенный одним народом другому. Враг утвердился в наших жизненно важных центрах! Но возможно ли что-нибудь подобное? Каким образом немцам удалось это устроить?
И тогда Меррит поведал Льюису, как это было устроено — вернее, как это объясняли себе люди. Суть дела заключалась в том, что все происходящее являлось частью — самой существенной частью — Великого Германского Заговора разрушения Англии и всей Британской империи.
План был разработан много лет тому назад — некоторые полагают, что сразу же после франко-прусской войны[52]. Уже тогда Мольтке[53] понимал, что вторжение в Англию (в прямом смысле этого слова) сопряжено с величайшими трудностями. Тема эта постоянно муссировалась в военных и политических кругах Германии, и в конце концов участники дискуссии пришли к заключению, что вторжение в Англию в лучшем случае вовлечет Германию в серьезнейшие осложнения, а Францию поставит в положение terlius gaudens[54]. Таким образом обстояли дела, когда некая высокопоставленная персона из Пруссии вступила в контакт с шведским профессором Хувелиусом.
Так говорил Меррит. Я же добавил бы от себя, что этот самый Хувелиус, по общему мнению, был необыкновенным человеком. Если не брать в расчет его писаний, то в личном плане он мог бы показаться самым милым и безобидным индивидуумом на свете. Он был богаче большинства шведов — и уж определенно богаче среднего шведского профессора. Но в университетском городке, где он проживал, Хувелиус неизменно появлялся в поношенном зеленом сюртуке и потертой меховой шляпе. Однако над ним никто не осмеливался смеяться, ибо всякому было известно, что каждый лишний пенни из своих личных средств, а равно и большую часть своего профессорского жалованья тот тратил на всякие добрые дела, включая прямую благотворительность. Говорили, что профессор ютился на чердаке, чтобы дать возможность другим жить на первом этаже, или что однажды он прожил целый месяц на черством хлебе и воде ради того, чтобы несчастная женщина легкого поведения, страдавшая от туберкулеза легких, могла со всеми удобствами умереть в дорогостоящей больнице.
Удивительно, но тот же самый человек написал трактат "De facinore humano"[55], в котором абсолютно искренне доказывал извечную и беспредельную испорченность рода человеческого.
Как ни странно, профессору Хувелиусу удалось написать одну из самых циничных книг в истории человечества (но сравнению с ним Гоббс[56] просто проповедовал розовый сентиментализм), и, нужно сказать, при этом он руководствовался самыми высокими побуждениями. Профессор утверждал, что большинство человеческих страданий, несчастий и скорбей происходят из ошибочного представления о том, будто человеческое сердце от природы и в основе своей предрасположено к добру и кротости, если не сказать к праведности. "Убийцы, воры, душегубы, насильники и целые сонмы прочих учинителей мерзости, — пишет он в одном месте, — рождаются из фальшивых притязаний и глупой веры в прирожденную человеческую добродетель. Разумеется, содержащийся в клетке лев есть свирепое животное, но что произойдет, если объявить его ягненком и настежь распахнуть дверцу? Кто будет в ответе за гибель мужчин, женщин и детей, которых он, несомненно, растерзает, как не те, кто выпустил его из клетки?" Далее Хувелиус доказывает, что короли и прочие правители народов могли бы в значительной мере сократить размеры человеческих несчастий, если бы опирались на доктрину о врожденной испорченности рода человеческого. "Война, — заявляет он, — являющаяся сама по себе худшим из зол, будет существовать всегда. Но мудрый правитель скорее пожелает вести кратковременную войну, нежели долгую, предпочтя длительному злу недолгое. Но он сделает это не из идущего от сердца великодушия по отношению к врагу, а всего лишь из желания победить легко, без великих людских потерь или утраты сокровищ, ибо понимает, что коль свершит этот подвиг, народ полюбит его, и корона его останется непоколебленной. А потому он предпочтет вести короткие победоносные войны, чтобы поберечь не только собственный народ, но и вражеский, ибо в кратковременной войне потери с обеих сторон меньше, чем в длительной. И таким образом из зла родится добро".
А как, спрашивает Хувелиус, следует вести такие войны? Мудрый государь, отвечает он сам себе, с самого начала почитает врага бесконечно испорченным и в равной степени глупым, ибо глупость и испорченность составляют главные черты человеческого существа. А посему мудрый правитель станет искать себе союзников в высших кругах неприятельского стана, а также среди богатой части вражеского населения, ибо именно эта часть, как известно, от века подвержена коррупции и склонна прельщаться любой возможностью обогатиться, при этом одурачивая бедных людей высокопарными речами. "Ибо вопреки общепринятому мнению именно богатый жаден до денег, в то время как обычных людей можно приручить разглагольствованиями о свободе — этом неведомом для них божестве. А коль скоро они очаруются словами ‘свобода и воля’, тут уж мудрый правитель может без опаски подступиться к ним и отобрать у них последнее, а после отделаться от них дружеским тычком в грудь. Этим он завоюет их сердца и голоса — что вообще нетрудно сделать, если суметь убедить их, будто именно таковое с ними обхождение как раз и называется свободой".
Руководствуясь подобными принципами, говорит Хувелиус, мудрый правитель прочно укоренится в стране, которую пожелает завоевать. "Более того, без особых забот и поистине в буквальном смысле слова он введет свои войска в самое сердце вражеской державы еще до начала войны".
Эти долгие и утомительные рассуждения в скобках были призваны пояснить все то, что Меррит рассказал в тот вечер своему зятю. Сам же он узнал о профессоре Хувелиусе от одного промышленного магната из глубинного графства Англии, которому довелось путешествовать по Германии. Вполне возможно, что зародившаяся в Мидлингеме чудовищная теория имела своим источником именно тот отрывок из писаний Хувелиуса, который я только что процитировал.
О реальном Хувелиусе, почитавшемся его коллегами едва ли не святым, Меррит абсолютно ничего не знал, а потому считал шведского профессора неким монстром беззакония. "Он гораздо хуже, чем этот безумный Ничто". — говаривал он, имея в виду не кого иного, как Ницше.
Итак, Меррит поведал доктору Льюису о том, как Хувелиус продал немцам свой злонамеренный план наводнения Англии немецкими солдатами. В заранее намеченных ключевых точках страны необходимо было накупить побольше земли. Англичан, владельцев земельных участков, нужно было подкупить или устранить, а затем производить тайные подземные работы до тех пор, пока вся страна в буквальном смысле слова не окажется подкопанной. Другими словами, под заранее намеченными районами Англии должна быть устроена подземная Германия — огромные пещеры, целые подземные города, тщательно осушенные, хорошо вентилируемые и в достатке обеспеченные водой. В этих подземельях из года в год следовало закладывать и накапливать громадные запасы продовольствия и снаряжения — до той поры, коща в "день Икс" своевременно оповещенное тайное войско выйдет из магазинов, отелей, контор и жилых домов, чтобы исчезнуть под землей и оттуда разить Англию в самое сердце, пока она не истечет кровью.
— Вот что рассказал мне Хэнсон, — заключил Меррит свое длинное повествование. — Ты, наверное, слышал о нем. Он возглавляет сталелитейный синдикат Бакли. Он очень долго пробыл в Германии.
— Что ж, — сказал Льюис, — может быть, так оно и есть. Но если это так, то нависший над Англией ужас не выразить никакими словами.
Ему и в самом деле почудилась доля правды в предположении своего родственника. Конечно, замысел совершенно необычный, нечто поистине неслыханное, но его нельзя назвать абсолютно невозможным. Все тот же Троянский конь — только взятый в гигантских масштабах. "А почему бы и нет? — думал доктор. — Миф о коне со спрятавшимися в нем воинами, которого втащили в самое сердце Трои ее простодушные защитники, мог оказаться пророческим иносказанием того, что ныне происходит с Англией — если, конечно, гипотеза
Хэнсона достаточно обоснована". А эта гипотеза, между тем, отлично согласовывалась с тем, что он слышал о германских приготовлениях в Бельгии и Франции — о неприступных пулеметных позициях, готовых отразить любое наступление: о военных заводах, ставших настоящими немецкими крепостями на земле Бельгии; о пещерах у Айспэ, оборудованных для размещения артиллерии, и… О, Боже! Льюис вдруг вспомнил о непонятно зачем залитых бетоном теннисных кортах, понастроенных на холмах, откуда был виден весь Лондон. И все же он не мог представить себе, что под зелеными холмами Англии скрывается целая немецкая армия. Одна лишь мысль об этом могла потрясти самое стойкое британское сердце.
Воспоминание об огненном дереве в саду наталкивало доктора на вывод, что враг, грозно затаившийся в Мидлингеме, уже проник и в Мэйрион. Размышляя об этом захолустном крае с его дикими и безлюдными холмами, густыми лесами и пустынными полями, Льюис не мог не признать, что затаившиеся под землей враги не могли бы отыскать более подходящего места для осуществления своих чудовищных замыслов. И, однако, ему снова пришло в голову, что в Мэйрионе английскому военному производству мог быть нанесен лишь самый минимальный ущерб. Или же то были меры для раздувания паники? С другой стороны, возле Хайуэя имелся большой военный лагерь. Он вполне мог оказаться объектом пх первого нападения, однако до сих пор ему не было причинено ни малейшего ущерба.
Льюис не знал, что с тех пор, как по этому лагерю пробежали объятые ужасом лошади, там постоянно гибли люди, и что теперь он превратился в сильно укрепленный район с глубокими, разветвленными во все стороны траншеями, несколькими рядами колючей проволоки и оснащенными пулеметами сторожевыми вышками.
Что обнаружил Меррит
Мистер Меррит принялся изо всех сил набираться физического и душевного здоровья. В первые два дня своего пребы-ванпя у доктора он довольствовался весьма располагающим ко сну шезлонгом, стоявшим возле самого дома, в котором он вместе с женой по утрам сидел в тени старой шелковицы, наблюдая за игрой солнечного света на зеленых лужайках и бегом кремовых гребешков на волнах, разглядывая выдающиеся далеко в море участки живописного побережья и любуясь царственно-пурпурным, издалека различимым блистанием вереска, окружавшего сверкающие на солнце фермерские домики, что виднелись высоко над морем — вдали от всех тревог и человеческой суеты.
Солнце жарило вовсю, но с востока беспрестанно веял нежный прохладный ветерок, и Меррит, сбежавший в этот покойный уголок не только от ужасов военного времени, но и от душного маслянистого воздуха крупного промышленного города, уверял доктора, что этот восточный ветер и эти чистые и ясные, почти ключевые воды, что плещут в обрамлявшие залив скалы, вдыхают в него новую жизнь. На исходе своего первого дня в Порте он плотно пообедал, и мир предстал ему в более розовом свете. Проснувшись утром свежим и отдохнувшим, он заметил Льюису по поводу вчерашнего разговора:
— Да, конечно, все происходящее способно вселить безумную тревогу в кого угодно, но лично я полагаю, что Китченер[57] уже принял должные меры, и скоро все устроится к лучшему.
Так что дата шли прекрасно. Меррит пристрастился к прогулкам но саду, полному чудесных местечек, рощиц и неожиданных сюрпризов, на какие можно натолкнуться только в деревне. С правой стороны одной из террас он открыл увитую розами беседку и впал в такой восторг, словно ему довелось заново открыть Северный или Южный иол юс. Он провел там весь день, покуривая в тени, праздно слоняясь по траве, а то и почитывая некий вздорный рассказик, наделавший много шуму в столичной прессе. В конце концов он заявил, что девонширские розы омолодили его на многие годы. На следующий день в противоположной стороне сада обнаружились заросли орешника, которые не попадались ему на глаза во время прежних приездов. I I снова ото стало настоящим открытием. В глубине тенистого орешника он увидел журчащий родник, бьющий из скалы: вокруг него, наподобие низкого свода, разросся зеленый, усыпанный росинками папоротник, а рядом пробивались к свету ростки ангелики. Меррит опустился на колешь подставил под струю сложенные лодочкой ладони и напился ключевой воды. Вечером, посиживая за стаканчиком портвейна, он сказал, что если бы всякая вода была подобна той, что бьет из родника под орешником, то все люди давно бы обратились в трезвенников. Эта вода, добавил он, в очередной раз наполняя бокал портвейном, открывает для горожанина многообразные и ни с чем не сравнимые прелести деревенской жизни.
Но лишь с того времени, когда Меррит отважился расширить пределы своих вылазок, он стал замечать, что глубочайший и нерушимый покой, который на его памяти царил в Мэйрионе, пронзила тончайшая нотка тревоги. С давних пор у него завелся особенно любимый маршрут для прогулок. Вот уже на протяжении многих лет он ни разу не забывал отдать ему дань. Маршрут этот пролегал вдоль скал но направлению к Мэйросу, а оттуда заворачивал в глубь суши и уводил обратно в Порт по замысловато вьющимся над Аллтом тропам. Однажды ранним утром Меррит вышел из дому и, подойдя к началу подымавшейся к скалистому берегу тропы, уперся в сторожевую будку. Перед будкой прохаживался взад-вперед часовой; он крикнул Мерриту, чтобы тот либо предъявил пропуск, либо убирался обратно на главную дорогу. Меррита эти строгости страшно раздосадовали, и, вернувшись домой, он тут же обратился к доктору за разъяснениями. Но Льюис был удивлен не менее его.
— Я и не знал, что они устроили там заставу, — посетовал он. — Но, полагаю, тому есть резон. Мы находимся на самой западной оконечности острова; немцы могут незаметно высадиться, напасть на нас и нанести нам большой урон именно потому, что в Мэйрионе их меньше всего ожидают.
— Но ведь на утесе наверняка нет никаких укреплений?
— Конечно, нет! Во всяком случае, я никогда не слышал ни о чем подобном.
— Хорошо, тогда почему людям запрещают подходить к скалам? Я мог бы понять и совершенно согласиться с запретами, если бы часового выставили на самом верху, чтобы он мог вовремя заметить врага. Но какого черта понадобилось выставлять его на дне лощины, откуда он не видит не то что моря, но даже ближайшего поворота тропы? Зачем преграждать людям доступ к утесу? Ни один шпион не сумеет помочь немцам высадиться здесь, даже если заберется на Пенгарег с целой дюжиной станковых пулеметов. Оттуда можно палить только в небо.
— Да уж, очень странно, — согласился доктор. — Видимо, тут замешаны какие-то чисто военные соображения.
Он закруглил разговор этой ничего не значащей фразой, потому что сам предмет его абсолютно не трогал. Жителям деревни, а уж тем более сельским врачам редко приходит в голову праздно шататься по окрестностям в поисках живописных мест.
Льюис не знал, что сторожевые посты, о назначении которых никто и не догадывался, были расставлены уже по всей стране. Не знал он и того, что одного из часовых поставили у каменоломни в Лланфингеле, в которой несколько недель тому назад нашли труп женщины с мертвой овцой. Местные жители очень часто ходили через каменоломню, и перекрытие тропы принесло им множество неудобств. Но караульную будку у дороги все-таки поставили, и часовые получили строгий приказ не подпускать к ней никого — как если бы каменоломня вдруг сделалась тайным военным объектом. Но даже это не помогало. Спустя пару месяцев после перекрытия дороги один из часовых пал жертвой ужасного преступления. Стоявшим на этом посту людям были даны самые строгие инструкции — нужно сказать, что при данных обстоятельствах они не показались им лишенными оснований. Для старых солдат приказ есть приказ, но среди часовых оказался молодой человек — бывший банковский служащий, едва ли успевший пройти обязательную двухмесячную подготовку, — который не сумел оценить необходимость безусловного, буквального исполнения показавшегося ему бессмысленным приказа. Очутившись в одиночестве на отдаленном, безлюдном склоне холма, он ни на секунду не озаботился мыслью о том, что за каждым его движением следят вражеские глаза, и не выполнил данных ему строжайших инструкций. В результате при смене караула пост у каменоломни оказался оставленным, а бездыханное тело юноши обнаружилось на дне карьера.
Но это так, к слову. Что же до мистера Меррита, то он все чаще замечал, что его долгим странствиям по окрестностям постоянно что-то мешает. В двух-трех милях от Порта наличествует обширное болото, образуемое водами реки Арфон перед ее впадением в море. Вот тут-то разнежившийся от ласкового солнца и покоя Меррит и решил предаться своим ботаническим пристрастиям. Он успел хорошо изучить твердые участки почвы, по которым можно было перебраться через трясину, вязкий ил и предательские коврики травы, и в один из жарких дней смело отправился в эти гиблые места, горя желанием исследовать их со всей обстоятельностью, а заодно, если повезет, заполучить ту редко встречающуюся болотную фасоль, которая, как он предчувствовал, должна была расти где-то посреди этой обширной топи.
Он вышел на окружавший болото проселок и приблизился к калитке, через которую обычно выходил на тропу.
Здесь он на минуту остановился полюбоваться давно знакомым ему зрелищем — густыми зарослями камыша, пасшимися на островках затвердевшего торфа кроткими черными коровами, душистыми ростками лугового аира, царственным блеском вербейника и пламеневшими в лучах солнца малиново-золотыми флажками гигантского щавеля.
В этот момент из калитки стали выносить чье-то мертвое тело.
Один из работников придерживал калитку рукой, не давая ей захлопнуться. Потрясенный увиденным, Меррит спросил его, что это за человек и что с ним случилось.
— Говорят, какой-то приезжий из Порта. А вот видите, взял да и утонул в нашем болоте.
— Но ведь тут абсолютно безопасно. Я сам ходил по болоту десятки раз.
— Так-то оно так, да и мы тоже всегда так думали. Гели, скажем, ненароком и поскользнешься, так ведь тут же не глубоко — ничего не стоит выбраться. А это господин к тому же совсем молодой, аж жалко глядеть! Вот бедняга — приехал в Мэйрион отдохнуть да поразвлечься, а вместо того нашел здесь свою смерть!
— А может, он сам хотел этого? Взял да и покончил с собой?
— Говорят, что вроде как для этого у него не было никаких причин.
Тут в разговор вмешался руководивший похоронной командой полицейский сержант, по чьему озадаченному виду было ясно, что он действует на основании приказов, смысл которых представляет себе очень туманно.
— Страшное дело, сэр, это уж как пить дать, да и ужасно жалко. Уверен, что не для таких зрелищ вы приехали в Мэйрион в это чудесное лето. А не кажется ли вам, сэр, что лучше будет предоставить нам самим справляться с этим невеселым дельцем? И вообще, я слышал, что многие господа, отдыхающие в Порте, поразъехались по домам — тут, мол, теперь и глядеть-то не на что. Да что там — теперь во всем Уэльсе скучища!
Жители Мэйриона неизменно учтивы с посторонними людьми, но на этот раз Меррит понял, что ему весьма недвусмысленно советовали проходить мимо и не совать нос в чужие дела.
Меррит направился обратно в Порт — после столь внезапной встречи со смертью ему было не до приятных прогулок. В городе он попытался что-нибудь выяснить о погибшем, но, как оказалось, никто о нем почти ничего не знал. Сказали только, что он приехал провести здесь медовый месяц и остановился в гостинице "Порт-Касл", однако служащие гостиницы в один голос заявили, что и слыхом не слыхивали об этом человеке. В конце недели Меррит раздобыл местную газету, но ни о каком случае со смертельным исходом в иен не было сказано ни слова. На улице он встретил уже знакомого ему сержанта полиции. Тот в знак приветствия учтиво приложил ладонь к каске и пробормотал что-то вроде: "Надеюсь, сэр, вы неплохо проводите время. Должен вам сказать, что выглядите вы уже намного лучше". Однако на расспросы Меррита о человеке, утонувшем или утопленном в болоте, он отвечать не стал, сославшись на свое полное неведение.
На следующий день Меррит решил снова отправиться на болото и попытаться на месте выяснить обстоятельства столь странной смерти. У него ничего не вышло — у калитки ему преградил путь человек с нарукавной повязкой, на которой были выведены буквы "Б.О. >, что, без сомнения, означало береговую охрану. Часовой заявил, что ему даны строгие указания никого не подпускать к болоту. Почему? Это он не знал, но сообщил, что с тех пор как поблизости была сооружена железнодорожная насыпь, река стала менять свое течение, и болото сделаюсь опасным даже для хорошо знающих его людей.
— Более того, сэр, — добавил он, — в данном мне приказе строго-настрого оговаривается, чтобы и я сам ни ногой не ступал за калитку.
Меррит недоверчиво повел глазами поверх калитки. Болото как болото, ничего особенного. Тут и там проглядывали твердые, надежные островки, по которым вполне можно было пройти, а между ними вилась плотно утоптанная тропка, которой он пользовался десятки раз. Конечно, он не поверил в россказни о перемене течения реки, да и Льюис, узнав об этом, заявил, что все это сплошная чепуха. Нужно сразу же заметить, что это заявление прозвучало в ответ на случайный вопрос, всплывший в ходе нейтрального разговора, никоим образом не касающегося смерти на болоте, о которой доктор, кстати говоря, узнал лишь через день. Знай он о том, что изменение русла Арфона интересует Меррита в связи с этим трагическим происшествием, он тут же подтвердил бы официальную версию слоившегося. Больше всего на свете он заботился о том, чтобы сестра и ее муж оставались в неведении того, что невидимая рука ужаса, властвовавшая над Мидлингемом, простерлась и над Мэйрионом.
Сам Льюис ничуть не сомневался в том, что человек, найденный мертвым на болоте, был сражен все той же страшной силой — в каком бы облике она ни предстала, — которая уже совершила столько злодеяний в округе. С другой стороны, при всей своей абсолютной уверенности в существовании всеобъемлющего ужаса, никто из местных жителей не мог определенно сказать, можно ли поставить ему на счет то или иное конкретное трагическое происшествие. Бывает же, что люди по своей собственной неосторожности падают со скалистого обрыва, а случай с испанским маньяком Гарсией наглядно доказывает, что мирные фермеры, а равно их жены и дети, сплошь и рядом оказываются жертвами дикого и бессмысленного насилия. Сам Льюис никогда не ходил по болоту, но Ремнант в свое время облазил там каждый уголок. Это и дало ему право заявить, что погибший (имя его так и осталось неизвестным для местных обывателей) либо сам покончил с собой под влиянием "Z-лучей", улегшись ничком в трясину, либо его насильно держали в таком положении обезумевшие на время маньяки. О подробностях происшествия не сообщалось, а потому всем стало ясно, что власти решили отнести эту смерть к разряду прочих деяний ужаса. И все-таки оставалась возможность того, что этот человек мог просто-напросто покончить с собой или же что неведомые убийцы могли наброситься на него и насильно окунуть в илистую воду. То же касалось и всего остального: можно было предположить, что происшествия с Иксом, Игреком и Зетом относились к категории несчастных случаев или преступлений, но поверить в то, что сюда относились абсолютно все трагедии в округе, включая и трагедии с Иксом, Игреком и Зетом, было в высшей степени невозможно. Так мы думали тогда, так думаем и сейчас. Мы знаем, что на нашей земле царствовал ужас, знаем и то, как он царствовал, но при этом мы очень сильно сомневаемся в том, что он повинен во всех без исключения происшествиях, которые приписывались ему молвой.
В качестве примера можно привести случай с "Мэри-Энн", гребной шлюпкой, весьма странным образом погибшей прямо на глазах у Меррита. На мой взгляд, сей почтенный джентльмен был совершенно неправ, связав печальную судьбу шлюпки и ее гребцов с подаваемыми с берега странными световыми сигналами, которые он якобы наблюдал в тот день, когда опрокинулась "Мэри-Энн". Полагаю, его версия абсолютно вздорна, и эту мою уверенность не сможет поколебать даже тот факт, что у жильцов вызвавшего его подозрения дома и впрямь служила гувернантка немецкого происхождения. С другой стороны, я ничуть не сомневаюсь в том, что причиной гибели шлюпки и сидевших в ней людей был воцарившийся в стране ужас.
Огни на воде
Следует еще раз напомнить, Меррит все еще не подозревал, что притаившийся в Мидлингеме ужас поразил и Мэйрион. Льюис внимательно следил за своим зятем и всячески оберегал его от этого известия. Впечатлительному Мерриту не следовало знать о том, что происходит близ Порта, а потому, собираясь представить зятя в клубе, доктор строго-настрого предупредил всех его членов о необходимости сокрытия некоторых аспектов местной жизни. С другой стороны, он решил не посвящать своих соклубников в мидлингемские события (и тут опять-таки интересно отметить, что, в то время как ужас все более сгущался над городком, его жители по собственной воле или, если быть более точным, почти бессознательно содействовали властям в сокрытии тех страшных новостей, которые они узнавали друг от друга) и лишь осторожно заметил, что в последнее время его зять несколько возбужден и потому в разговоре с ним очень желательно избегать всяких упоминаний о тех тягостных и трагических событиях, которые творятся чуть ли не за стенами их домов.
— Он уже знает о найденном в болоте бедняге, — добавил Льюис напоследок. — и смутно подозревает', что в этом деле кроется нечто выходящее за рамки обычного.
— Вот вам, кстати, еще один явный случай внушенного пли, скорее, совершенного но приказу убийства. — внезапно оживился Ремнант. — Я рассматриваю его как убедительное подтверждение моей теории.
— Возможно, вы и правы, — уклончиво ответил доктор, опасаясь новою всплеска дискуссии о "Z-лучах", — но, прошу вас, ему об этом ни слова! Я хочу, чтобы он совершенно оправится перед отъездом в Мидлингем.
Меррит, в свою очередь, тоже помалкивал о том, что творилось в его родном городе, ибо ему претило не только говорить, но даже вспоминать об этом. Вот гак и получилось, что все собравшиеся в тот вечер члены "Порт-Клуба" держали свои секреты при себе. Как я уже говорил, гак повелось с момента появления ужаса и продолжалось до самою его конца. Звенья одной цепи никак не могли сойтись вместе. Наверняка какие-нибудь мистер Икс и мистер Игрек чуть ли не ежедневно встречались на улице и со всей откровенностью беседовали на разнообразные темы военного времени, но при этом тщательно скрывали друг от друга ту половинку правды, которая имелась у каждого из них. А потому обе эти половинки так ни когда и не слились в единое целое.
Доктор догадывался, что у Меррита имелись сильные подозрения относительно происшествия на болоте; он считал совершенным вздором официальные заявления о строительстве железнодорожной насыпи и последующем изменении русла реки. Но, с другой стороны, ничего плохого на болоте больше не случалось, и со временем он постарался забыть об ужасной трагедии и всей душой предаться отдыху.
К своей радости он обнаружил, что никакие часовые и охранники не препятствуют его прогулкам к заливу Ларнак — восхитительной бухточке, окаймленной крохотной ясеневой рощицей, зеленым лугом и поблескивающими на солнце зарослями папоротника-орляка, плавно спускавшимися к красным скалам и золотому песку побережья. Меррит вспомнил, как в один из своих предыдущих приездов обнаружил на прибрежном утесе удобное углубление, и, выбрав денек потеплее, устроился в нем полюбоваться голубизной неба, малиновыми бастионами скалистого обрыва и изрезанной линией суши, то вдававшейся в глубь острова по направлению к Сарнау, то вновь стремившейся к югу, где маячили причудливые очертания мыса, известного в округе как Голова Дракона. Меррит не мог оторвать взгляда от открывавшегося ему зрелища — он, как ребенок, восхищался проделками резвившихся на просторе дельфинов, которые плескались и подпрыгивали, а то и вовсе выскакивали из воды в центре бухты; он упивался чистым и лучезарным воздухом, столь непохожим на маслянистую завесу, что застилала небо над Мидлингемом, и пленялся видом белых фермерских домиков, разбросанных тут и там на выступах извилистого побережья.
И тут примерно в двух сотнях ярдов от берега он заметил небольшую гребную шлюпку. С такого расстояния он не мог определить, сколько в ней было людей, но уж точно не меньше трех. Они беспрестанно возились с веревкой — без сомнения, то была шлея рыболовной сети. На дух не выносивший рыбы, Меррит поражался тому, что в такой чудесный день, напитанный прозрачным сверкающим воздухом моря, люди могли губить свое время на то, чтобы ловить бледнокожих, скользких, противных и весьма дурнопахнущих тварей, которые при готовке становятся и вовсе тошнотворными. Вдоволь поломав голову над этой загадкой человеческой природы, он отвернулся, чтобы вновь предаться созерцанию выступавших над морем малиновых утесов.
Позднее Меррит рассказывал, что, скользя взглядом по побережью, он вдруг заметил какие-то странные сигналы. По его словам, от одного фермерского дома, стоявшего на высоком берегу, исходили ослепительно яркие вспышки света — оттуда словно бы извергался белый огонь. Поскольку это были именно вспышки, которые весьма ритмично помигивали, Меррит решил, что с берега передается какое-то сообщение, — за тремя короткими следовала одна долгая и очень яркая, а затем снова две короткие. Проклиная себя за полное невежество в области гелиографии. Меррит принялся шарить по карманам в поисках карандаша и бумаги, чтобы зафиксировать эти сигналы, но, случайно переведя взгляд на поверхность моря, вдруг замер и насторожился. К его удивлению и ужасу, он обнаружил, что шлюпка исчезла. На ее месте колыхалось расплывчатое темное пятно, гонимое волной к западу.
Ныне стало известно, что "Мэри-Энн" перевернулась в результате несчастного случая и что двое школьников вместе с опекавшим их матросом утонули. Остов шлюпки был обнаружен среди скал далеко от места рыбалки, а трупы прибило к побережью приливом. Как выяснилось, матрос вообще не умел плавать, школьники тоже не блистали этим искусством, а ведь чтобы преодолеть неистовую силу бьющейся о скалы Пенгарег-Пойнта волны, нужно быть исключительно опытным пловцом.
Но я ничуть не поверил в версию Меррита. Он утверждал (и утверждает поныне), что световые вспышки, которые, по его заверению, исходили из "Пэнирхола", фермерского домика на высоком берегу, каким-то образом связаны с гибелью "Мэри-Энн". Когда же выяснилось, что этим летом на ферме "Пэнирхол" отдыхала приехавшая из Лондона семья и что гувернанткой в этой семье служила немка, хотя и давным-давно натурализованная, Меррит заявил, что дело представляется ему кристально ясным — за исключением, разумеется, некоторых незначительных подробностей. Однако, на мой взгляд, он стал жертвой обыкновенной оптической иллюзии: вспышки яркого света, без сомнения, порождались лучами солнца, поочередно отражавшимися в окнах фермерского дома.
Как бы там ни было, но Меррит уверился в своей правоте еще до того, как выяснился животрепещущий факт присутствия в "Пэнирхоле" немецкой гувернантки. Вечером того же дня, когда случилась трагедия на море, они с Льюисом сидели после обеда в гостиной. Естественно, Меррит излагал доктору свои соображения, изо всех сил отстаивая то, что он называл "здравым смыслом".
— Если вы услышите звук выстрела, — говорил он, — и увидите, как надает человек, вряд ли вы усомнитесь в причине его смерти…
В этот момент в комнате послышался беспокойный трепет крохотных крылышек. Большой белесоватый мотылек влетел в окно и принялся отчаянно тыкаться в потолок, стены и застекленные книжные шкафы. Затем послышались треск, шипение, и свет лампы на мгновение померк. Мотылек преуспел в своем загадочном суицидальном устремлении.
— Ты можешь объяснить мне, — вместо ответа спросил Льюис Меррита, — почему мотыльки всегда летят на огонь?
Вопрос о странном поведении мотылька Льюис задал для того, чтобы положить конец разговору о погублении человеческих душ посредством гелиографа. Но, разумеется, если бы мотылек не погиб в пламени лампы, Льюису никогда не пришло бы в голову завершить беседу столь изящным и ничуть не обидным эвфемизмом, на самом деле подразумевающим настоятельную просьбу оставить его в покое. И в самом деле, Меррит, сохранив полное достоинство, замолчал и налил себе очередной бокал портвейна.
Такого окончания разговора доктор как раз и желал. В душе он не сомневался, что случай с "Мэри-Энн" был еще одним звеном в длинной цепи ужасных происшествий, множащихся с каждым днем, но ему не хотелось выслушивать нелепые и бесплодные рассуждения о том, каким образом могло быть совершено это новое злодеяние. Случай со шлюпкой был для него всего лишь доказательством того, что нависший над страной ужас ныне простирал свою власть не только на сушу, но и на море. Льюис понимал, что шлюпка не могла быть потоплена ни одним из известных человечеству средств уничтожения. Судя по рассказу Меррита, трагедия случилась на мелководье. Берег залива Ларнак сходит в воду полого, и, согласно карте военно-морского министерства, на расстоянии двухсот ярдов от скал глубина воды не могла превышать двух морских саженей, чего явно недостаточно для подводной лодки. Шлюпка не могла быть ни обстреляна, ни торпедирована, ибо ни взрыва, ни стрельбы слышно не было. Конечно, рассуждал доктор, причиной несчастья могла оказаться обычная неосторожность — мальчишки буду!' валять дурака даже посреди открытого моря, — но это было маловероятно, ибо матрос наверняка тут же пресек бы любую шалость. К тому же, как потом выяснилось, эти двое школьников были на редкость уравновешенными и разумными юношами, от которых можно было в последнюю очередь ожидать разного рода дурацких выходок.
Пользуясь весьма своевременным молчанием зятя, Льюнс погрузился в глубокое раздумье, безуспешно пытаясь подобрать ключи к ужасной загадке. Конечно, порожденная мидлингемцами версия о скрытой германской мощи, окопавшейся глубоко под английской землей, была достаточно экстравагантна и одновременно правдоподобна, но, с другой стороны, даже целой армии затаившихся в подземельях немцев было не под силу потопить плывшую по спокойному морю шлюпку, не говоря уже о том, чтобы вырастить искрящееся дерево, появившееся у него в саду несколько недель тому назад, или пустить по небу полыхающее огнем облако, пронесшееся над деревьями в одной из деревушек центрального графства Англии.
Кажется, я уже говорил об эмоциях гипотетического математика, лицом к лицу столкнувшегося с двусторонним треугольником, и предполагал, что в этом случае он должен был спятить с ума хотя бы из уважения к приличиям. Так вот, я вполне допускаю, что в тот момент доктор Льюис испытывал нечто подобное: перед ним стояла головоломная проблема, требовавшая немедленного разрешения и в то же самое время начисто отрицавшая такую возможность. День за днем вокруг него непостижимым образом и по непостижимой причине убивали людей, и сколько бы он ни задавался вопросами типа "как?" и "почему?", ответа на них не предвиделось.
Для глубинных районов Англии, служивших местом дислокации для многочисленных военных заводов, версия о многотысячной немецкой агентуре казалась вполне правдоподобной. Даже если отвергнуть предположение о подземных городах, явно почерпнутое из волшебных сказок пли сенсационных романов начала века, сама суть этой версии была недалека от истины — немцы и впрямь могли внедрить своих агентов на наши военные заводы. Но на что они рассчитывали здесь, в Мэйрионе? Какую выгоду они могли получить от нескольких случайных убийств, жертвами которых стали мирные фермеры, юные школьники или далекие от военных секретов отдыхающие? Создание атмосферы ужаса и страха? Пусть так, но вряд ли эго предположение можно воспринимать всерьез после чудовищных преступлений в Лувене и на "Лузитании"[58].
Напряженные размышления Льюиса, а заодно и исполненное достоинства молчание его зятя прервал внезапный стук двери, произведенный ворвавшимся в гостиную слугой. Слова, с которыми последний обратился к двум почтенным джентльменам, неоднократно звучали в ушах сельских врачей в те немногочисленные минуты, когда они пытались урвать у жизни хотя бы малую толику покоя: "Сэр, вас просят срочно приехать в N…! Дело плохо, так что вы уж поторопитесь". Льюис, естественно, поторопился, и через секунду его и след простыл. Домой он вернулся лишь к ночи.
Вызов поступил из маленькой деревушки, отделенной от Порта расстоянием в полмили. На самом деле это безымянное местечко едва ли заслуживало чести называться хотя бы деревушкой — оно состояло из четырех поставленных в один ряд лачуг, построенных около сотни лет тому назад для размещения рабочих давно уже заброшенной каменоломни. В одной из лачуг доктор застал горько плачущих и выкрикивающих мольбы о помощи отца и мать, а рядом с ними двух перепуганных детей и крохотное бездыханное тельце совсем маленького ребенка. То был Джоннн, самый младший из малышей. Он был мертв.
В результате тщательного обследования доктор установил, что ребенок погиб от асфиксии. Одежда его была сухой, стало быть, утонуть он не мог. Осмотрев младенческую шейку, доктор не нашел на ней никаких следов удушения. Он принялся расспрашивать о случившемся отца и мать, но в ответ оба лишь еще громче зарыдали и сообщили, что "это наверняка дело рук маленького народца", имея в виду кельтских гномов, которые и поныне пользуются дурной славой у обитателей этих мест. Тогда Льюис спросил о том, как проходил тот вечер и что делал малыш.
— Может быть, он был вместе с братиком и сестренкой? Не знают ли они чего-нибудь?
С большим трудом сведя воедино горестные свидетельства всех четверых, доктор обрисовал для себя следующую картину.
Для троих детишек день прошел безмятежно и счастливо. После полудня миссис Робертс забрала их собой в Порт. Купив все необходимое на тамошнем рынке, они благополучно вернулись домой, напились чаю и принялись возиться на дороге перед домом. Джон Робертс вернулся с работы позднее обычного, так что семья села ужинать уже в сумерки. Затем все трое снова отправились на дорогу — поиграть с детворой из соседнего дома. При этом миссис Робертс строго-настрого предупредила их, что через полчаса они должны быть в постели.
Через полчаса миссис Робертс и ее соседка одновременно подошли каждая к своей калитке и крикнули детям, чтобы те поторапливались домой — если, конечно, не хотят получить перед сном хорошую взбучку. К тому времени малыши успели перебраться через дорогу и играли на торфяной площадке у самой лесенки через живую изгородь, за которой начиналось поле. Заслышав голоса родителей, они послушно перебежали через дорогу и отправились по домам. Но Джонни Робертса среди них не было. Позднее его брат Вилли вспомнил, что как раз в тот момент, когда до них донесся голос матери, маленький Джонни закричал:
— Гляди-ка, что это такое красивенькое светит там, над перилами?
Дитя и мотылек
Маленькие Робертсы перебежал! дорогу, прошли по садовой дорожке, вступили в освещенную прихожую — и только туг заметили, что Джоннн с ними нет. Миссис Робертс возилась на кухне, а мистер Робертс ушел в сарай за хворостом для утреннего очага. Услыхав, что дети вошли в дом, их мать спокойно продолжала заниматься своей работой. Когда она наконец вышла из кухни и хватилась младшего сына, двое старших детей шептались между собой о том, что Джонни, наверное, "пошел ловить эту штуку". Все были уверены, что он вот-вот вбежит в распахнутую дверь. Но прошло семь, восемь, а может быть, и все десять минут, а Джонни не появлялся. Тем временем на кухню вошел отец, но и он ничуть не удивился отсутствию сына.
Родители подумали, что дети решили перед сном повалять дурака и спрятали мальчика в платяном шкафу или в каком ином месте.
— Куда это вы его подевали? — в шутку удивилась миссис Робертс. — Эй, плутишка, а ну-ка выходи сию же минуту!
Но плутишка и не думал выходить, и тогда Маргарет Робертс, его старшая сестренка, вспомнила, что не видела, как Джонни перебегал через дорогу вместе с остальными. Должно быть, он все еще играл возле изгороди.
— Да как вы только могли бросить его там одного?! — рассердилась миссис Робертс. — На вас что, совсем нельзя положиться? Честное слово, никогда еще не видывала такого наказания, как эти дети!
С этими словами она подошла к открытой двери и что есть мочи закричала:
— Джонни, негодник такой, сейчас же ступай домой, а то будет худо! Джонни! Эй, Джонни!
Сначала бедная женщина окликала сынишку от дверей, а затем подошла к калитке и принялась ласково уговаривать:
— Джонни, голубчик, иди же скорей сюда! Ну же, будь хорошим мальчиком и ступай домой — я все равно вижу, где ты прячешься!
Она решила, что он прячется от нее в тени живой изгороди и через секунду-другую со смехом выскочит оттуда ей навстречу. Но "веселый маленький шалопаи" так и не выскочил из своего убежища, и в тихих летних сумерках не появилась приплясывающая на бегу маленькая фигурка. Ответом миссис Робертс было гробовое молчание.
И тут ее материнское сердце дрогнуло. Она все еще продолжала взывать к своему малышу, когда к ней подошел старший сын и рассказал, что за секунду до того, как все бросились бежать домой, Джонни заметил какую-то светящуюся штуку над изгородью.
— Наверное, он погнался за ней на луг, да и заблудился, — упавшим тоном закончил он.
Тогда мистер Робертс достал из кладовки фонарь, и вся семья принялась ходить взад-вперед по лугу, на разные голоса окликая малыша и обещая ему печенье, конфеты и все мыслимые и немыслимые земные блага в том случае, если он бросит дурить и подойдет к ним.
Они нашли маленькое тельце в ясеневой рощице, что росла в центре поля. Оно было таким покойным и недвижимым, что на лбу у него успел примоститься большой белесоватый мотылек, да и тот улетел лишь после того, как его согнали.
Доктор Льюис молча выслушал этот горестный рассказ. Больше ему было нечего делать в этом самом несчастном доме на свете. На прощание он сказал потемневшим от слез родителям:
— Хорошенько берегите тех двоих, что у вас остались! Если возможно, не спускайте с них глаз. Мы живем в ужасное время.
Любопытно заметить, что на протяжении всего этого "ужасного времени" летний курортный сезон в Порте протекал своим чередом. Разумеется, война и сопутствующие ей лишения несколько поуменьшили число отдыхающих, и все же почти все места в гостиницах, пансионатах и меблированных комнатах заказывались чуть ли не за три месяца вперед. Местные пляжи буквально ломились от отдыхающих — одни чинно выбирались из старомодных автомобилей, другие с треском выскакивали из новомодных палаток, третьи, не торопясь, прогуливались под солнцем пли в темп нависших над самой водой деревьев. Но и первые, и вторые, и третьи не упускали возможности окунуться в теплую, как кофе со сливками, и чистую, как жидкий хрусталь, воду. Публика, наводнявшая из года в год гостиницы Порта, традиционно не признавала ни негритянских джаз-бандов, нп балаганных шоу, но в лето, о котором идет речь, званые вечера для отдыхающих устраивались прямо на открытом воздухе, в прилегающих к старинным поместьям садам с большим успехом выступали знаменитые "Рокетс", а концертные залы были отданы для выступлений заезжих театральных трупп, членам которых город с безумной щедростью оплачивал роскошные гостиничные номера.
Туристическая индустрия Порта в значительной степени зависит от клиентуры из глубинной и северной частей Англии — преуспевающих, завоевавших прочное положение в жизни людей, которым Лландадно кажется слишком многолюдным, а пляжи Ковин-Бэя — чересчур сырыми, глинистыми и неустроенными. Эти люди, год за годом приезжавшие в мирный старинный городок на юго-западе Уэльса наслаждаться его покоем и уютом, как я уже говорил, с еще большей страстью, чем обычно, предавались удовольствиям в то памятное лето 1915 года. Однако со временем они, подобно мистеру Мерриту, все чаще натыкались на различного рода шлагбаумы и сторожевые будки, препятствовавшие их прогулкам по излюбленным местам; тем не менее, они воспринимали день ото дня растущее число часовых, охранников и прочих джентльменов, с разной степенью вежливости рекомендовавших им любоваться тем или иным видом с какого-нибудь более отдаленного места, как неизбежное следствие продолжавшейся ужасной войны. Более того, один приезжий из Манчестера, которого завернули с тропы на Кастелл-Кох, выразился следующим образом: "Все же приятно сознавать, что о тебе заботятся".
— Насколько я могу судить, — добавил он. — ничто не помешает немецкой подводной лодке пристать где-нибудь возле Инис-Санта и высадить на прибрежные скалы полдюжины вооруженных до зубов молодцов. Хороши бы мы были, если бы допустили, чтобы посреди одного из самых популярных пляжей страны нам перерезали глотки или на той же подводной лодке увезли в Германию!
Он даже пожаловал одному из охранников пол кроны на чай.
— Все в порядке, приятель. — сказал он ему. — Спасибо, что предупредил.
Но странное дело — этот северянин говорил о немецких подводных лодках и немецких же десантниках, в то время как сам охранник и в мыслях не держал ничего подобного. Он просто получил ничем не обоснованный приказ, вменявший ему в обязанность держать подальше от Кастелл-Коха разного рода праздношатающуюся публику. Более того, у меня нет ни малейшего сомнения, что сами власти, оцепляя окрестные поля как "зоны повышенной опасности", пребывали в полнейшем недоумении и не имели ни малейшего понятия о том, каким образом творятся на них кошмарные злодеяния. Если бы они понимали, что происходит, то им стала бы ясна и вся тщета их строгих ограничений.
Приезжего из Манчестера завернули с прогулки примерно через десять дней после смерти маленького Джонни Робертса. Охранника же поставили на этот пост потому, что накануне вечером неподалеку от Кастла местная женщина нашла в траве тело своего мужа. Молодой фермер был мертв, но на его теле не обнаружили ни единого следа насилия.
Жена погибшего (а звали его Джозеф Крэдок) нашла своего мужа лежащим без движения на влажном торфе. Побелев как мел и чуть не умерев от горя, она со всех ног бросилась бежать в деревню. По дороге она встретила двух мужчин, которые и отнесли мертвое тело на ферму. Прибывший по вызову Льюис с одного взгляда понял, что молодой крестьянин погиб точно таким же образом, как и малыш Робертс — то есть абсолютно непредставимым и ужасным. Крэдок умер от удушья — и снова на горле не было заметно следов чьей-либо хватки. Доктор еще подумал, что это вполне могло быть делом рук Берка и Хейра, которые имели обыкновение заклеивать рог и ноздри жертвы смоляным пластырем.
И тут его осенило, что совсем недавно его зять говорил о новом типе газа, который, как утверждала молва, применяли против рабочих военных заводов, расположенных в военной глубинке. Может быть, что-нибудь в этом роде послужило орудием убийства фермера и малыша? Он взял необходимые пробы, но не обнаружил никаких следов применения газа. Может быть, то был углекислый газ? Но на открытом воздухе нм невозможно убить даже улитку — для фатального исхода необходимо ограниченное пространство наподобие огромного резервуара или колодца.
Выяснилось, что около половины десятого Крэдок вышел из дому приглядеть за скотиной. Поле, на котором она паслась, находилось примерно в пяти минутах ходьбы от фермы. Он сказал жене, что вернется через пятнадцать-двадцать минут, но не вернулся. Когда прошли три четверти часа, миссис Крэдок отправилась его искать. Добравшись до луга, где паслась скотина, она нашла и то и другое в полном порядке. Лишь самого Крэдока не было видно. Она позвала его — ответа не последовало.
Луг, о котором идет речь, расположен на возвышенном месте; от полей, мягко спускающихся к замку у моря, его отделяет живая изгородь. Едва ли миссис Крэдок понимала, почему, не найдя мужа на лугу, она свернула на дорогу, ведущую к Кастелл-Коху. На вопросы коронера она отвечала следующее: ей пришло в голову, что один из быков перебрался через зеленую изгородь и подался через поля к морю, куда за ним последовал и Крэдок. Но, тут же поправляя себя, она добавляла:
— Так-то оно так, но там было еще что-то такое, чего я вообще не могла понять. Мне показалось, что изгородь выглядит не так, как обычно. Оно конечно, ночью всякая вещь как будто меняет свой вид, а тут еще с моря потянулся туман, но все равно, уж очень вее это мне показалось странным. Я даже подумала, уж не заблудилась ли я.
Ей показалось, что стоявшие вдоль изгороди деревья как будто изменили свои очертания, а кроме того, "кругом вроде бы как просветлело". Она двинулась к приступкам изгороди, пытаясь найти причину столь необычных изменений в природе, но, когда подошла поближе, все было как всегда. Затем она заглянула через приступки и позвала мужа в надежде, что тот выйдет ей навстречу или хот я бы отзовется, но ответа так и не последовало. Напряженно вглядываясь в дорогу, она якобы увидала какое-то разлитое по земле свечение — некий слабый отсвет, как если бы на земляном валике под изгородью собрался огромный рой светляков.
— Когда я перебралась через приступки и пошла по дороге, это свечение вроде бы рассеялось. И тут я увидела моего бедного муженька — он лежал на спине и не ответил мне ни словом, когда я закричала и принялась его тормошить.
С каждой новой смертью ощущение ужаса становилось все тягостней и невыносимей для Льюиса. При этом он понимал, что то же самое чувствовали и другие. Он не знал, да и никогда не спрашивал о том, было ли известно завсегдатаям "Порт-Клуба" о гибели ребенка и молодого фермера; они же в свою очередь не заговаривали с ним об этом. Свершившаяся с людьми перемена была очевидной — когда все началось, все только и говорили что об ужасе, теперь же дело зашло слишком далеко, чтобы можно было острить или обсуждать занудливые теории. В письме своего зятя из Мидлингема Льюис обнаружил следующую фразу: "Боюсь, что пребывание в Порте не очень-то пошло на пользу Фанни: у нее все еще проявляются симптомы, о которых я даже не знаю что и помыслить". На этом принятом между ними жаргоне Меррит сообщал доктору, что в самом сердце Англии продолжалось господство ужаса.
Вскоре после гибели Крэдока люди заговорили о странных звуках, раздававшихся по ночам над холмами и долинами к северу от Порта. Первым, кому довелось их услышать, был местный рабочий, опоздавший на вечерний поезд из Мэйроса и потому вынужденный пройти десять миль пешком. По его словам, поднявшись на вершину холма возле Тредонока примерно между половиной десятого и одиннадцатого вечера, он вдруг услышал странный шум, природы которого не мог понять — то был долгий, протяжный и унылый вопль, доносившийся откуда-то из-за холмов и изрядно приглушенный расстоянием. Рабочий остановился и прислушался, решив сначала, что это кричат в лесу совы. Вскоре он понял, что тут было нечто другое: протяжный вопль летел над полями, потом замолкал и тут же начинался снова. Не в силах ничего понять и испытывая ужас перед завывающей в ночи неизвестностью, он прибавил шагу и чрезвычайно обрадовался, завидев наконец огни вокзала в Порте.
Рабочий рассказал о своем приключении жене, а та не замедлила поделиться новостью с соседками. Пошушукавшись минут пятнадцать, женщины решили, что это была "чистейшей воды выдумка" или же "чистейшего спирта нары", а скорее всего то были именно совиные крики. Однако на следующую ночь, примерно в это же время, похожие звуки слышали двое или трое парней, возвращавшихся домой после веселой пирушки в доме, стоявшем на обочине мэйросской дороги. Они тоже описали его как долгий и невыразимо унылый вой, раздававшийся посреди молчаливой осенней ночи. "Он был похож на призрак человеческого голоса", — сказал один из парней. "Он словно исходил из самых глубин земли", — добавил другой.
На ферме Трефф-Лойн
Да будет мне позволено снова и снова напоминать читателю, что все время, пока в стране царил ужас, о творящихся повсеместно чудовищных преступлениях невозможно было узнать по официальным каналам информации. Пресса хранила поистине гробовое молчание. У перепуганного населения не существовало ни единого критерия, который позволял бы отделить факты от слухов, ни единого мерила, сообразуясь с которым можно было отличить обыкновенный несчастный случай от деяний таинственных и ужасных сил.
Так продолжалось изо дня в день. Какой-нибудь безобидный коммерсант, следующий по своим делам по главной дороге из Мэйроса, мог с удивлением обнаружить на себе испуганные взгляды местных жителей, принимающих его за гипотетического убийцу, в то время как настоящие творцы ужаса ходили среди людей незамеченными. А поскольку истинная природа обрушившегося на нас таинства смерти оставалась неизвестной, то и неудивительно, что еще труднее нам было различить предзнаменования, знаки и предвещания его. Ужас творился почти что у нас на глазах, но мы не могли привязать разрозненные факты к какой-либо более или менее прочной основе. Наша разобщенность сказывалась в том, что мы не могли найти ни единого общего положения, из которого можно было бы вывести хоть какую-нибудь связь между двумя отдельно взятыми ужасными происшествиями.
Именно потому никому даже в голову не пришло, что унылый и протяжный вой, раздававшийся но ночам к северу от Порта, мог каким-либо образом соотноситься с пропажей маленькой девочки, ушедшей средь бела дня за пурпурными цветочками, или к трупу приезжего молодожена, обнаруженного в торфяном болоте, или к загадочной гибели Крэдока, задохнувшегося на собственном лугу при отмеченном его женой странном свечении. Остается неясным и то, каким образом слух о заунывном ночном зове вообще мог распространиться столь широко. Льюис узнал о нем одним из первых — денно и нощно снующие но окрестным тропам деревенские врачи всегда в курсе местных новостей, — но отнесся к нему без особого интереса. Как и все прочие, доктор ни в малой мере не предполагал, что это необычное явление может иметь прямое отношение к царящему вокруг ужасу. Что же до Ремнанта, то история о глухом, многократно повторяющемся в ночи вое была преподнесена ему в весьма расцвеченном и живописном виде. Раз в неделю у него в саду работал человек из Тредонока — он-то и просветил доморощенного теоретика. Садовнику не довелось слышать вопль собственными ушами, но его приятель слышал — и едва не помер со страху.
— Прошлой ночью Томас Дженкинс из Пэнтопина, — рассказывал он, — высунулся из окна посмотреть, какая погода ожидается на завтра. Дело-то шло к уборке хлеба — как тут не озаботишься. Так вот, он сказал, что ни в одной церкви не слыхал подобного вопля, а ведь он побывал аж у кардигенских методистов! Это, говорит, прямо как жалобные завывания в день Страшного Суда.
Поразмыслив над этим сообщением, Ремнант склонился к мысли, что звук исходил из какой-нибудь подземной морской бухты; в лесах Тредонока могли находиться не до конца обустроенные или, скажем, чересчур извилистые вентиляционные люки, и пробивавшийся через них снизу шум прибоя вполне мог произвести эффект глухих завываний. Но ни сам Ремнант, ни кто-либо другой не придавали этому новому обстоятельству особого значения. И лишь те немногие, кто собственными ушами слышал по ночам мрачный зов, отдававшийся эхом над черными холмами, никогда не могли забыть его.
Странные звуки раздавались три или четыре ночи подряд, а в воскресенье выходившие после заутрени в тредонокской церкви прихожане заметили в церковном дворе большую рыжую овчарку. Казалось, собака только и ждала выхода верующих и сразу же кинулась к ним — обежав по кругу толпу, она пристала к группе из полудюжины прихожан, которые повернули направо с главной дороги. Двое из них направились через поля к своим домам, а четверо по-воскресному неспешно побрели дальше. За ними-то, не отставая ни на шаг, и увязалась овчарка. Мужчины толковали о сене, кормах, видах на урожай и предстоящей рыночной страде, не обращая внимания на путавшуюся под ногами собаку. Таким манером они и шли по золотистой осенней тропе, пока не очутились перед калиткой в живой изгороди, от которой вилась через поля кое-как вымощенная проселочная дорога, уходившая затем в лес и в конце концов упиравшаяся в ферму Трефф-Лойн.
И тут овчарка словно обезумела. Сначала она принялась яростно лаять, а потом, подбежав к одному из крестьян, уставилась на него таким взором, что у того по коже пробежали мурашки. "Она будто хотела сказать, что от меня зависела вся ее жизнь", — вспоминал он позднее. Затем собака кинулась к калитке и остановилась рядом с ней, виляя хвостом и отрывисто лая. Но люди только смеялись, глядя на ее ужимки.
— Чьей бы это быть собаке? — спросил один.
— Никак. Томаса Гриффита из Трефф-Лойна, — предположил другой.
— Что же она тогда домой не идет? Ну-ка, домой!
Крестьянин перешел через дорогу и наклонился за камешком, намереваясь бросить им в собаку.
— Ну-ка, ступай домой! Вот твоя калитка!
Но овчарка даже не шелохнулась. Она лаяла, скулила, подбегала то к людям, то к калитке. Наконец, приблизившись к одному из крестьян, она опустилась на землю и подползла к самым его ногам, а потом вдруг схватила его за полу пиджака и попыталась подтащить к калитке. Тот вырвался, и все четверо снова двинулись своей дорогой, а собака все стояла на месте и следила за ними, и лишь когда они скрылись за поворотом, подняла голову и издала долгий жутковатый вой, исполненный неподдельного отчаяния.
Никого из четверых это не тронуло — деревенским овчаркам полагается пасти овец, а потому пикте) пе собирался потакать ггх прихотям и фантазиям. Но с этого дня рыжая собака стала часто появляться на полевых тропах Тредонока. Однажды ночью она подбежала к дверям одного из фермерских домов и принялась царапать ее когтями. Когда же дверь открыли, собака легла на землю, а затем с лаем подбежала к садовой калитке и остановилась в ожидании, явно приглашая хозяина последовать за собой. Когда собаку отогнали прочь, она снова издала исполненный смертной муки вой. Слышавшие его крестьяне говорили, что он был почти столь же ужасен, как и тот унылый вопль, что разносился по полям за несколько ночей до того. А потом кому-то пришло в голову (насколько мне известно, без какой-либо определенной связи со странным поведением овчарки из Трефф-Лойна), что старый Томас Гриффит уже довольно долго не показывался на людях. Он давно не появлялся в тредонокской церкви, которую имел обыкновение посещать каждое воскресенье, и даже, чего с ним отродясь не бывало, пропустил базарный день в Порте. А уж после того, как стали разбираться всем миром, выяснилось, что соседи уже много дней не видали никого из Гриффитов.
В наши времена процесс разбирательства всем миром проистекает достаточно быстро в любом мало-мальски населенном городке. Но в деревне, а особенно в погрязшей посреди безлюдных пространств глубинке, по которой через пень-ко-лоду разбросаны одинокие фермы и лачужки, для этого требуется время. Шла уборка урожая, и каждый был занят на своем ноле. После изнурительного дневного труда ни фермеры, ни члены их семей не склонны шататься по соседям в поисках сплетен и новостей. К концу дня жнецу думается только о том, чтобы поужинать да завалиться спать, — ни до чего другого ему и дела нет.
Вот потому лишь к концу недели выяснилось, что Томас Гриффит и вся его семья покинули наш мир.
Меня часто упрекают в нездоровом интересе к тому, что не представляет особой (а то и вообще никакой) важности для всего остального человечества. Например, я люблю задаваться такими, например, вопросами: "На каком максимальном расстоянии можно разглядеть горящую свечу?". Предположим, что эта самая свеча в тихую летнюю ночь горит в каком-нибудь деревенском окне. Так вот, на каком максимальном расстоянии наши органы зрения вообще способны сигнализировать нам о наличии света в темноте? То же касается и человеческого голоса — на каком расстоянии при идеальных погодных условиях мы можем расслышать хотя бы его отзвук, не говоря уже о произносимых словах?
Без сомнения, оба эти вопроса носят чисто умозрительный характер, но они всегда привлекали меня, а последний из них так и вообще имеет самое прямое отношение к странному происшествию в Трефф-Лойне. Дело в том, что заунывный и глухой вой, этот мрачный ночной зов, что ужасал всех слышавших его, на самом деле был обыкновенным человеческим голосом, но только произведенным совершенно исключительным образом. Голос этот слышали в различных местах на расстоянии от полутора до двух миль от фермы. Я не знаю, можно ли назвать это явление экстраординарным; не знаю также, был ли рассчитан сам способ воспроизведения этого голоса на то, чтобы усилить несущую силу звука. Снова и снова в своей летописи деяний ужаса я не могу обойтись без того, чтобы не подчеркнуть факт полнейшей изоляции друг от друга большинства ферм и жилых домов Мэйриона. Я делаю это для того, чтобы просветить горожан относительно абсолютно неведомых им величин и понятий. Для среднего жителя Лондона любой дом, расположенный в четверти мили от городского фонаря или отстоящий на такое же расстояние от какого-либо другого жилья, уже представляется чертовски уединенным — этаким жутковатым местом, где впору гнездиться всякого рода духам, призракам и прочей нечисти. Способен ли он в таком случае осознать всю безнадежную уединенность белых домишек Мэйриона, беспорядочно разбросанных среди лесов и полей вдалеке от заросших травой тропок и глухих извилистых проселков? Способен ли он ужаснуться той оторванности от всего остального мира, что свойственна крохотным фермам, съежившимся в самой сердцевине бескрайних полей, заброшенным на огромные, похожие на крепости утесы морского побережья, уткнувшимся в узкую прибрежную полосу, окруженную высокими холмами, или же затерявшимся в глухих лесных местах, скрытых от человеческого взора и недоступных для звуков и шумов современной жизни? Возьмем, к примеру, тот же Пэнирхол — ту самую ферму, из которой, как показалось Мерриту, подавались световые сигналы. Со стороны моря ее, конечно, видно издалека, но я очень сомневаюсь в том, что ее можно разглядеть со стороны суши, ибо ближайшее человеческое жилье отстоит от нее не менее чем на три мили.
Сомневаюсь также, что среди этих удаленных, скрытых от людских глаз местечек найдется хотя бы одно, сравнимое по степени уединения с Трефф-Лойном. К своему глубочайшему сожалению должен признаться, что почти не понимаю по-валлийски, но полаю, само название "Трефф-Лойн" является сокращенной формой слова "Треллуин" или "Трефф-и-ллу-ин>, означающего "местечко посреди рощи". Ферма и в самом деле расположена в самой глубине темных, заслоняющих собой солнечный свет лесов. Глубокая и узкая долина, окруженная этими лесами и утесненная крутыми, поросшими папоротниками и дроком склонами, сбегает вниз с холмов Аллта в обширное болото, откуда на глазах у Меррита выносили мертвое тело. Долина лежит вдалеке от всех дорог — даже от более похожего на вьючную тропу проселка, на котором возвращавшихся из церкви фермеров наблюдали странные выходки рыжей овчарки. Эту долину нельзя также и окинуть взглядом сверху, ибо она столь узка, что теснящиеся по обе ее стороны ясеневые заросли чуть ли не смыкаются своими кронами, образуя над ней подобие непроницаемого свода. По крайней мере, лично мне ни разу не удавалось найти настолько высокое место, чтобы с него можно было увидеть Трефф-Лойн. Правда, взобравшись однажды на Аллт, я все же сумел разглядеть голубой дымок, поднимавшийся из затаившихся в зарослях печных труб.
Таково было местечко, куда в один из сентябрьских дней направилась небольшая группа людей, намереваясь выяснить, что случилось с Гриффитом и его семьей. Среди добровольцев было шестеро фермеров, двое полицейских и четверо вооруженных солдат, причем последних напутствовал не кто иной, как сам начальник военного лагеря. Среди прочих присутствовал и Льюис — он случайно услышал, что от Гриффита и его семьи уже давно не поступало никаких известий, и очень озаботился судьбой своего знакомого художника, на все лето поселившегося в Трефф-Лойне.
Мужчины встретились у ворот, ведущих во двор тредонокской церкви, и в торжественном молчании двинулись по узкой тропе. Готов поклясться, что каждый из них в душе испытывал смутное беспокойство, некий затаенный страх, овладевающий любым человеком, не представляющим достаточно ясно, с чем ему доведется столкнуться.
Шедший позади Льюис невольно прислушался к разговору, проистекавшему между тремя солдатами и возглавлявшим их капралом.
— Капитан и говорит мне, — рассказывал капрал, — "Если там что-нибудь такое начнется, стреляйте безо всякого, стало быть, сомнения". — "А во что стрелять-то, сэр?" — спрашиваю я. — "А во что бы то ни было". — отвечает он. Вот и все, чего я от него добился.
В ответ солдаты пробормотали нечто невразумительное. Льюису показалось, что речь шла о крысином яде, и надо ли говорить, что он немало подивился такому странному предмету разговора.
Вскоре они миновали калитку в живой изгороди. Оттуда к Трефф-Лойну вел узкий, небрежно выложенный булыжником проселок, за лето успевший изрядно иодзарости травой. Сначала дорога шла полем, потом углубилась в лес, а напоследок перед ними внезапно выросли отвесные стены долины, со всех сторон укрытой ясеневыми зарослями. Группа исследователей спустилась по крутому склону холма, повернула на юг и растворилась в таинственном полумраке отрезанной от мира долины.
Но вот но краям дороги потянулись изгороди, а вдали замаячил окруженный забором фермерский дом с амбарами, навесами и прочими надворными постройками. Один из фермеров распахнул калитку, вошел во двор и принялся во весь голос кричать:
— Томас Гриффит! Томас Гриффит! Куда ты запропастился, старый дуралей?
Ответа не было.
Остальные последовали его примеру, по с тем же успехом. Затем капрал отрывисто выкрикнул команду. Послышались металлические щелчки, означавшие, что его подчиненные примкнули штыки к ружьям, и в единый миг четверо безобидных парней, более всего на свете любивших почесать языками за доброй кружкой пива, превратились в грозных носителей смерти.
— Томас Гриффит! — еще раз позвал фермер.
Но ответа на его зов так и не последовало — ибо несчастный Гриффит лежал, уткнувшись лицом в землю, на самой кромке пруда, расположенного посреди его собственного двора. В его боку зияла ужасная рана, которую могло оставить только очень грубое оружие — что-то вроде остро заточенного деревянного кола.
Письмена гнева
Стоял тихий сентябрьский день. Из лесной чащи, темной массой обступившей старинную крестьянскую усадьбу Трефф-Лойн, не доносилось ни дуновения ветерка; тишину нарушало лишь мычание скота, который, судя по всему, только что при брел с луга, прошел через ворота и теперь с горестным видом стоял посреди него, словно бы оплакивая смерть своего хозяина. Неподалеку виднелась четверка крупных, грузных и смирных лошадей, а ниже по склону стояли овцы, терпеливо ожидая, когда их покормят.
— Можно подумать, они знают, что здесь произошло, — тихо сказал один солдат своему товарищу.
На миг из-за туч выглянуло солнце, тускло блеснув на ружейных штыках. Люди стояли над телом мертвого Гриффита; на их лицах застыло суровое и мрачное выражение. Капрал опять что-то отрывисто скомандовал солдатам, и они сняли оружие с предохранителей. Льюис опустился на колени перед мертвым телом и обстоятельно осмотрел зиявшую в боку рану.
— Смерть наступила давно, — сказал он. — Неделю или даже две назад. Он был убит каким-то заостренным орудием.
А что с его семьей? Сколько их вообще было? Я никогда не бывал у них по вызову.
— Здесь жили: сам Гриффит, его жена, сын Томас и дочь Мэри, — сказал один из фермеров. — Да, кажется, в это лето у них остановился какой-то джентльмен.
Члены спасательного отряда, не имевшие никакого понятия ни о грозной силе, обрушившейся на обитателей безобидного деревенского дома, ни об опасности, может быть, поджидавшей их в этом глухом ущелье, где посреди собственного двора лежал мертвый человек, окруженный ожидавшим корма скотом, в смущении переглянулись и повернулись лицом к дому. То было древнее, выстроенное не позднее конца шестнадцатого века строение с круглой "фламандской" трубой, столь характерной для Мэйриона. Стены ярко выбелены известкой, на окнах красовались старинные средники, а массивное, выложенное каменными плитами и крытое сверху покатым навесом крыльцо могло защитить входную дверь от любых ветров, которым вздумалось бы ворваться в эту укромную долину. Створки окон были плотно затворены. Вокруг дома ни единого признака жизни или хотя бы движения. Спасатели снова принялись переглядываться между собой. Наконец четверо из них — церковный староста, полицейский сержант, доктор Льюис и капрал — решили устроить нечто вроде военного совета.
— Что будем делать, доктор? — спросил церковный староста.
— Пока мне не известно ничего кроме того, что этот несчастный был пронзен каким-то острым орудием до самого сердца, — ответил Льюис, пожимая плечами.
— А вдруг они засели внутри и собираются открыть по нам огонь? — спросил другой фермер. Естественно, он и понятия не имел о том, что подразумевал под своим зловещим "они", да и все остальные представляли происходящее не менее туманно. Никто не знал, в чем состоит угрожающая им опасность и с какой стороны ее следует ожидать. Более того, вряд ли кто-нибудь мог сказать, где именно — внутри дома или вне его — она таилась. А потому спасатели поминутно оборачивались на мертвое тело, а потом переглядывались между собой.
— Как бы то ни было, — сказал наконец Льюис, — а делать что-то надо. Прежде всего нам следует войти в дом и посмотреть, что там творится.
— А если они нападут на нас? — возразил сержант. — Тогда что прикажете делать?
На всякий случай капрал поставил одного из своих людей возле главных ворот фермы, а другого — в глубине двора, возле задних ворот. Оба получили приказ стрелять, как только увидят что-нибудь необычное. Доктор и все остальные прошли через узкую калитку в палисаднике, приблизились к крыльцу и начали прислушиваться у двери. Внутри стояла мертвая тишина. Льюис взял у одного из фермеров ясеневый сук, служивший ему тростью во время путешествия, и трижды изо всей силы ударил им в старую, потемневшую от времени дубовую дверь, обитую по периметру обойными гвоздями.
Некоторое время все напряженно вслушивались в тишину за дверью, а потом доктор снова ударил в дверь палкой. И снова ответом ему было молчание. Спасатели отвернулись от двери и принялись опасливо глазеть по сторонам. Никто из них не знал, чего они ищут и с каким врагом могут встретиться в следующее мгновение. На двери виднелось железное кольцо. Льюис повернул его, но дверь не поддалась — по-видимому, засов был задвинут и закреплен клином изнутри. Полицейский сержант громогласно потребовал у засевших в доме немедленно отпереть дверь, но безрезультатно.
После короткого совещания было решено применить насилие. Капрал подошел к двери и прокричал, что если за ней кто-нибудь стоит, то пусть немедленно отойдет в сторону, иначе будет убит. И тут, прежде чем солдаты успели всерьез заняться дверью, из лесу выскочила рыжая овчарка. Двумя огромными скачками перемахнув через двор, она бросилась ласкаться к людям — лизать им руки и радостно подвывать.
— Ну и дела! — сказал один из фермеров. — Она, выходит, с самого начала знала, что тут творится неладное. Эх, То-мае Уильяме, зря мы не пошли за иен в прошлое воскресенье! Она ведь так нас умоляла.
Капрал жестом велел всем отойти назад, и спасатели быстро отступили к нижним ступенькам крыльца, испуганно озираясь по сторонам. Капрал отомкнул штык и выстрелил из винтовки в замочную скважину, предварительно еще раз предупредив об опасности тех, кто мог стоять за дверью. Ему пришлось стрелять несколько раз — так тяжела и прочна оказалась старинная дверь, так неподатливы были запоры. Наконец он принялся палить по массивным дверным петлям, после чего спасатели дружно навалились на дверь. Дверь зашаталась и с грохотом упала внутрь. Капрал предостерегающе поднял руку, на несколько шагов отступил назад и окликнул солдат, перед тем расставленных у обоих ворот фермы. Те ответили, что у них все в порядке. После этого весь отряд пробрался по упавшей двери в коридор и вышел на кухню.
Труп молодого Гриффита лежал перед очагом, в котором на давно прогоревших углях лежала груда белых ясеневых поленьев. Все гурьбой двинулись к гостиной и в дверях наткнулись на мертвое тело художника Секретана — похоже на то, что, умирая, он пытался пробраться на кухню. Миссис Гриффит и ее восемнадцатилетняя дочь были найдены в спальне наверху — они лежали, обхватив друг друга руками, посреди нерасправленной кровати.
Исследователи обошли весь дом, попутно заглядывая в чуланы, кладовки и прочие подсобные помещения — там не оказалось никаких признаков жизни.
— Послушайте! — воскликнул доктор Льюис, когда все вернулись обратно на кухню. — Очень похоже на то, что они оказались в осаде. Видите этот наполовину обглоданный окорок?
Тут только все обратили внимание на висевший на кухонной стене свиной окорок, а также отрезанные от него и валявшиеся кругом куски бекона, при этом ни хлеба, ни молока, ни воды на кухне не присутствовало.
— А ведь здесь у них самая лучшая вода, которую только можно найти в Мэйрионе. — сказал один из фермеров. — Старики, бывало, называли это место "Финнон Тепло" — Колодец святого Тепло.
— Должно быть, они умерли от жажды. — сказал Льюис. — И умирали медленно, день за днем.
Группа людей молча стояла посреди обширной кухни, и в глазах у каждого отражалось явное замешательство. Повсюду лежали бездыханные тела, и ничто на этом свете не могло дать ответа на вопрос, почему этих несчастных постигла такая мучительная смерть. Старик фермер был убит ударом какого-то острого орудия, остальные погибли от жажды; но что за беспощадный враг взял ферму в осаду и заточил в ней ее обитателей? Ответа не было.
Сержант полиции распорядился раздобыть телегу и доставить трупы в Порт, а доктор Льюис прошел в гостиную, использовавшуюся Секрета ном в качестве кабинета, надеясь найти там какое-либо имущество покойного друга. В углу было сложено полдюжины папок, на приставном столике валялось несколько книг, а за дверью обнаружилась удочка и корзинка для рыбы. Это было все. Без сомнения, одежда и остальные вещи художника находились в спальне наверху. Льюис уже готов был присоединиться к остальным членам отряда, собравшимся на кухне, когда взгляд его упал на разрозненные листки бумаги, белевшие между книгами на приставном столике. На одном из них он, к своему изумлению, прочитал следующее: "Доктору Джеймсу Льюису из Порта". Эти слова, выведенные сильно дрожащей рукой, более напоминали детские каракули. Бегло просмотрев другие листки, доктор обнаружил, что они были исписаны почерком Секретана.
Стол был расположен в темном углу комнаты, а потому Льюис собрал листки вместе, устроился с ними на подоконнике и принялся изучать рукопись, все более изумляясь фразам, которые случайно выхватывали его глаза. Читать было трудно — рукопись находилась в полнейшем беспорядке, как если бы Секретан был не в состоянии расположить исписанные листки в должной последовательности. Так что доктору потребовалось некоторое время, чтобы привести все в порядок. Рукопись содержала рассказ обо всем происшедшем на ферме, и доктор со все возрастающим интересом погрузился в чтение, в то время как двое фермеров запрягали в телегу одну из стоявших во дворе лошадей, а остальные принялись выносить на улицу тела погибших.
"Не думаю, что протяну долго. Уже давно мы разделили между собой последние каши воды. Я даже не знаю, сколько дней прошло с тех пор. Мы спали, мы видели сны. В этих снах мы гуляли вокруг дома, и часто я не мог с уверенностью сказать, проснулся ли я или все еще сплю, а потому дни и ночи перепутались в моем сознании. Не так давно я очнулся — по крайней мере, мне так показалось — и обнаружил, что лежу на каменном полу в коридоре. Такое ощущение, будто мне просто приснился ужасный сон, вот только был он до жути реальным, и я облегченно вздохнул при мысли о том, что всего происшедшего на самом деле не было. Я напряг всю свою волю, пытаясь заставить себя совершить прогулку вокруг дома, чтобы немного освежиться на воздухе, но потом огляделся по сторонам и понял, что все это время без движения лежал на каменных плитах коридора. Осознание реальности снова вернулось ко мне. Ни о каких прогулках не могло быть и речи.
Уже давно я не видел миссис Гриффит и ее дочери. Они сказали, что собираются подняться наверх и немного отдохнуть. Сначала я слышал, как они передвигались по комнате, но вскоре там стало совсем тихо. Молодой Гриффит лежит на кухне перед очагом. Когда я заходил туда в последний раз, он говорил сам с собой об урожае и погоде. Видимо, он не заметил моего присутствия, поскольку продолжал тихо и быстро бормотать себе под нос что-то неразборчивое, а потом принялся звать Тигра — их собаку.
Ни для кого из нас не осталось никакой надежды. Все мы погружены в смертный сон…"
Последующие несколько строк было трудно разобрать. Трижды или четырежды Секретан повторил слова "смертный сон". Потом начал писать новое слово, но тут же перечеркнул его. Далее шли причудливые и абсолютно бессмысленные знаки — вдохновленное ужасом письмо, как подумалось Льюису. Затем почерк сделался отчетливым — более отчетливым, чем даже в самом начале рукописи. Речь Секретана потекла свободно и размеренно, как если бы затмившая его сознание туча вдруг ненадолго рассеялась. Рукописи было положено новое начало, и последующие страницы были выдержаны в обычном стиле эпистолярного жанра.
"Дорогой Льюис, надеюсь, вы извините меня за некоторую путаницу и бессвязность. Я намеревался написать вам письмо и вдруг обнаружил перед собой какие-то намалеванные на бумаге иероглифы, которые наверняка сильно изумили вас — если, конечно, мое послание вообще попало вам в руки. У меня даже нет сил порвать эти листки. Если вы все-таки нашли их, то, без сомнения, уже получили представление о том, в каком ужасном состоянии я находился, когда писал все это. Мои записки выглядят как бред или дурной сон, и даже сейчас, когда мое сознание в значительной мере прояснилось, я должен постоянно убеждать себя в том, что впечатления последних дней, проведенных мною в этом ужасном месте, истинны и реальны, что они не являются бесконечным ночным кошмаром, от которого я вот-вот пробужусь в своей лондонской квартире.
В самом начале я выразил сомнение в том, что мои записи вообще попадут вам в руки. Я и в самом деле не уверен, что это когда-либо случится. Если все, что творится здесь, происходит и в других местах, то, как я полагаю, наступил конец света. Я не могу понять происходящего — более того, все еще отказываюсь поверить в то, что видел собственными глазами. Знаю только, что мне снятся такие страшные сны и посещают такие безумные фантазии, что я вынужден крепко держать себя в руках и поминутно оглядываться вокруг, чтобы быть уверенным в реальности окружающего мира.
Вы еще не забыли, о чем мы беседовали около двух месяцев тому назад, когда в последний раз обедали вместе? Не помню уж, каким образом, но мы разговорились о пространстве и времени, в конце концов согласившись на том, что любая попытка прийти к какому-либо заключению на этот счет лишь заводит в лабиринт противоречий. Вы высказались тогда в том смысле, что, как ни странно, такое состояние в точности напоминает сон. "Временами, — добавили вы, — человек будет пробуждаться от этого безумного сна с ясным осознанием абсурдности своего мышления". И мы оба задумались над тем, не являются ли противоречия, которых не может избежать ни один человек, силящийся постичь природу пространства и времени, доказательством того, что все в жизни есть лишь кошмарный сон, а луна и звезды являются частичками этого кошмара. С тех пор я постоянно вспоминаю об этом. Подобно доктору Джонсону, лягнувшему камень, чтобы удостовериться в том, что все вокруг нас находится на своих местах, я обрушиваю удары на окружающие меня предметы. Но тогда передо мной неизменно встает другой вопрос: на самом ли деле мир, знакомый каждому из нас с рождения, идет к своему концу и на что будет похож новый мир, который придет ему на смену? Я не мог\т представить его себе. Все это похоже на историю с Ноевым Ковчегом и Всемирным Потопом — люди привыкли судачить о конце мира и огня, но ни одному из живущих не приходило в голову всерьез задуматься над этим.
И еще одно беспокоит меня. Время от времени мне вдруг кажется, что все мы в этом доме просто сошли с ума. Вопреки всему, что я вижу и ощущаю, — а может быть, именно потому, что все, что я вижу и ощущаю, абсолютно невозможно, — я спрашиваю себя, а не страдаем ли мы некой формой массовых галлюцинаций? Может быть, мы добровольно заключили себя в эту тюрьму, за стенами которой нам никто и ничто не угрожает? Может быть, всего того, что нам кажется, на самом деле не существует в действительности?
Раньше мне доводилось слышать о целых семьях, одновременно сходивших с ума, — так, может быть, за последние четыре месяца я просто подпал под нездоровое воздействие этого старинного и странного дома? Я знаю о людях, которым больничные смотрители насильно запихивали в глотку куски пищи, ибо те были совершенно уверены, что у них сомкнулось горло и они теперь не в силах проглотить даже маковой росинки. Порой мне думается: а не уподобились ли все обитатели Трефф-Лойна, включая меня, этим несчастным больным? Однако в глубине своего сердца я уверен, что это не так.
И все же я не хочу даже в своем предсмертном письме произвести впечатление совершенно спятившего с ума человека, а потому не стану рассказывать всего, что мне довелось здесь увидеть наяву или во сне. Если я нахожусь в здравом уме, то вы сами сможете восполнить пробелы в моем повествовании, воспользовавшись собственными знаниями. Если же я все-таки спятил, то сожгите это письмо и нигде не упоминайте о нем. Хотя я до сих пор не исключаю возможности того, что в любой момент могу проснуться и услышать громкий голос Мэри Гриффит, веселой скороговоркой возвещающий о том, что завтрак будет готов "сию же минуту". Тогда я с удовольствием позавтракаю и, неспешно прогулявшись до Порта, расскажу вам самый странный и ужасный сон, какой когда-либо довелось увидеть человеку, а заодно и узнаю у вас, что в таких случаях полагается принимать на ночь.
Во вторник мы впервые заметили, что вокруг нас творится что-то неладное. В то время мы, конечно же, и представить себе не могли насколько "неладно" было это неладное. С утра я отправился рисовать болото, но только изрядно взопрел и вымотался от бесплодных усилий. Около пяти или шести вечера я вернулся домой и застал женщин во дворе. Они вовсю потешались над Тигром — их старой и верной овчаркой. Коротко и отрывисто взвизгивая, собака стремительно металась по двору от внешних ворот до дверей дома. Миссис и мисс Гриффит стояли у крыльца и с веселым изумлением наблюдали за тем, как Тигр бросался к ним, заглядывал каждой в лицо, а затем пулей летел к воротам фермы и принимался с нетерпеливым и скулящим лаем оглядываться на женщин, словно приглашая их последовать за собой. И так, раз за разом, она подбегала к ним, хватала за юбки и изо всех сил пыталась оттащить прочь от дома.
Тем временем с поля вернулись мужчины, и спектакль возобновился — только на сей раз Тигр исполнял свою роль с удвоенным рвением. Собака металась по двору фермы, с лаем и визгом заглядывая в амбары, хлева, сараи, и всегда повторялось одно и то же — прервав свой стремительный бег, она вдруг подскакивала к одному из хозяев и тут же улепетывала в направлении главных ворот, не переставая поскуливать и оглядываться на ходу, как бы проверяя, следуют ли за ней люди. Когда же все прошли в дом и уселись ужинать, она и тут не дала никому покоя. В конце концов ее пришлось прогнать на крыльцо, где она принялась выть и царапать дверь когтями. Принеся мне в комнату еду, мисс Гриффит обмолвилась: "Никто не может понять, что такое стряслось со стариной Тигром. Он всегда был таким хорошим псом".
Весь вечер собака лаяла, выла, визжала и царапалась в дверь. Наконец ее пустили в дом, но тут она вовсе лишилась разума и впала в буйное неистовство. Глаза ее налились кровью, а на морде выступила белая пена. Она подбегала то к одному, то к другому члену семьи и, ухватив его за край одежды, пыталась тащить к входной двери. В конце концов ее выгнали на улицу, где к тому времени уже сгустились ночные сумерки. Там она разразилась долгим, мучительным и полным отчаяния воем — и больше мы ее уже не слышали".
Последние слова мистера Секретана
"В ту ночь я спал дурно. Не раз вскидывался я на постели, пробуждаясь от неспокойных сновидений, в которых мне чудились странные зовы, шумы, бормотание и удары в дверь. Чьи-то низкие и глухие голоса отдавались у меня в голове эхом только что пережитого кошмара, а наяву я слышал лишь печальное завывание осеннего ветра, проносившегося над вершинами окружавших нас холмов. Потом меня разбудил ужасный визг, прозвучавший, казалось, непосредственно у меня в ушах, но в доме было по-прежнему тихо, и я снова погрузился в свой тревожный сон.
Вскоре после того как рассвело, я очнулся окончательно. Внизу громко разговаривали мои хозяева. Они явно спорили о чем-то, но в чем была суть их спора, я не понимал.
— Говорю тебе, это проделки тех проклятых цыган, — уверял старый Гриффит.
— Да к чему им вся эта кутерьма? — возражала миссис Гриффит. — Если им впрямь нужно было чего-нибудь украсть, то мы бы даже их шагов не услышали.
— Похоже, это озоровал Джон Дженкинс, — подал голос сын. — Помните, когда мы застукали его на браконьерстве, он обещал устроить нам горячую ночку?
Насколько я мог уяснить, все они были изрядно рассержены, но никакого испуга в их голосах не присутствовало. Я встал и начал одеваться. Помню, даже не взглянул в окно. Я и вообще глядел в него крайне редко — его почти целиком загораживало широкое зеркало, стоявшее на моем туалетном столике, и, чтобы выглянуть во двор, нужно было изрядно вывернуть шею.
Между тем голоса внизу все еще продолжали спор. Потом я услышал, как старик сказал: "Как-никак, а пора и за дело приниматься!", после чего голоса смолкли и почти сразу же хлопнула входная дверь.
Все случилось минутой позже. Старик закричал, обращаясь к своему сыну, а потом послышался какой-то странный шум, не поддающийся никакому словесному описанию. И тут же в доме поднялся крик и плач, сопровождаемый беспорядочным топотом ног. Я слышал, как мисс Гриффит прокричала сквозь слезы: "Не надо, матушка, он уже умер, они убили его!", а пожилая женщина не своим голосом требовала немедленно пропустить ее к двери. Затем кто-то из них выбежал в коридор и с маху перекрыл дверь тяжелой дубовой балкой — как раз в тот миг, когда что-то с громовым грохотом ударило в нее снаружи.
Я сбежал вниз и нашел всех в страшном смятении. На их лицах запечатлелась неописуемая смесь горя, ужаса и изумления. (словом, они выглядели как люди, внезапно потерявшие рассудок при виде какого-то жуткого зрелища.
Я подбежал к окну и выглянул во двор. Не стану описывать всего, что там увидел. Скажу лишь только, что возле пруда лежал несчастный старый Гриффит, и из боку у него фонтаном хлестала кровь.
Я хотел выйти наружу и внести тело в дом, но меня остановили самым решительным образом. Мне наперебой твердили, что старик уже наверняка мертв и — тут я сам едва не свихнулся! — что всякий, кто рискнет выйти из дому, в тот же миг лишится жизни. Никто из нас не мог до конца поверить в происходящее, даже видя перед собой мертвое тело, но невероятное вершилось на наших глазах. Прежде я не раз задавался вопросом: что может почувствовать человек, если увидит, как яблоко срывается с дерева, взмывает вверх и исчезает в небесной вышине? Теперь я знаю ответ на этот вопрос.
Но даже тогда мы не могли представить себе, что все это может продлиться долго, и нисколько не опасались за себя лично. Мы надеялись, что через часок-другой ужас прекратится, и в крайнем случае после обеда можно будет выйти наружу. Такое не могло длиться бесконечно, ибо оно вообще не имело права длиться. А потому когда пробило двенадцать часов, молодой Гриффит заявил о своем намерении сходить на задний двор к колодцу и принести ведро воды. На всякий случай я тоже подошел к двери и стал возле нее. Но не успел он сделать и нескольких шагов по двору, как они набросились на него. Он кинулся назад и в последний момент проскочил в дверь. Совместными лихорадочными усилиями мы забаррикадировали ее, чем могли, и вот тут-то на меня впервые напал страх.
Мы все еще не могли поверить в происходящее и постоянно ожидали, что вот-вот кто-нибудь из соседей с приветственным криком появится у ворот, и все это наваждение рассеется, как сон. Даже в самом худшем варианте нам не угрожала никакая реальная опасность. В доме было полно бекона, свежеиспеченного хлеба, на кухне стоял большой кувшин принесенной накануне вечером воды, а в погребе имелся запас пива и около фунта листового чая. Мы могли продержаться весь день, а утром злые чары должны были сгинуть сами собой.
Но день шел за днем, а все оставалось по-прежнему. Я знал, что Трефф-Лойн всегда слыл уединенным местечком, поэтому-то и приехал сюда в надежде обрести убежище от лондонского грохота, шума и суеты, которые дают художнику жизнь и одновременно убивают его. Я поселился на этой ферме потому, что она укромно схоронилась в самом сердце узкой долины, скрытой от мира густыми ясеневыми сводами. Поблизости не было ни дорог, ни более-менее укатанных троп, да никому и в голову бы не пришло мостить сюда дорогу. Молодой Гриффит рассказывал мне, что до ближайшего жилья было не менее полутора миль, и я помню, как пришел в восторг при мысли о нерушимом покое и уединении этого места.
Теперь же эта мысль вызывала во мне не восторг, но самый настоящий ужас. Гриффит сказал, что в тихую ночь наши крики могут услышать в Аллте. "Если конечно, — добавил он с сомнением в голосе, — кто-нибудь станет прислушиваться к ним". Я обладал более громким и звонким голосом, нежели мой молодой хозяин, и потому во вторую ночь решил подняться в спальню и через окно позвать на помощь. Перед тем как открыть окно, я выглянут наружу — и над самым коньком крыши длинного амбара, стоявшего в глубине двора, увидел нечто похожее на дерево, хотя никакого дерева там просто не могло быть! На фоне сумеречного неба вырисовывалась черная масса с широко распростертыми во все стороны ответвлениями, и впрямь похожая на дерево с плотной и густой кроной. Мне захотелось узнать, что этот было на самом деле, и я распахнул окно — уже не для того, чтобы позвать на помощь, а из желания поближе познакомиться со странным феноменом.
В глубине черной массы я увидел огненные точки и разноцветные искорки. Они все время двигались и переливались на разные лады, а воздух вокруг них трепетал самым что ни на есть одухотворенным образом. Я продолжал напряженно вглядываться во мрак, когда черное дерево вдруг взмыло над крышей амбара и стремительно поплыло ко мне. Я не двигался с места до тех пор, пока оно не приблизилось вплотную к дому. Тут я наконец понял, что это было, — и в последний момент успел с треском захлопнуть ставни окна. Потом я несколько минут стоял посреди комнаты, оцепенев от сознания смертельной угрозы, которой мне лишь чудом удалось избежать, а похожее на огненное облако дерево недовольно отплыло от моего окна и снова зависло над амбаром.
Спустившись вниз, я рассказал об этом моим хозяевам. Они выслушали меня с побледневшими лицами, после чего миссис Гриффит заключила, что поскольку на земле теперь творится великое зло, то древним дьяволам было позволено снова выйти из скрывающих их деревьев и холмов. Затем она принялась бормотать себе под нос на неком подобии испорченной латыни.
Часом позже я снова поднялся в свою комнату, но черное дерево над амбаром не исчезло. Напротив, оно все разрасталось. Прошел еще день, и снова, дождавшись сумерек, я глянул в окно — но огненные глаза по-прежнему стерегли меня. Открывать окно я больше осмелился.
И тогда мне в голову пришел другой план. В доме имелся большой старинный очаг с круглой голландской трубой, высоко поднимавшейся над домом. Если стать прямо под ней и закричать, подумал я, то вполне возможно, что мой голос прозвучит гораздо громче, чем из окна второго этажа. Насколько я понимал в физике, круглая печная труба вполне могла сойти за мегафон. Ночь за ночью я забирался в очаг и с девяти до одиннадцати вечера взывал оттуда о помощи. При этом я прекрасно помнил об уединенности этого местечка, скрытого в глубине долины под сенью ясеневых зарослей, а равно и о полнейшей заброшенности окружавших его холмов и полей. И все же надеялся, что мой голос достигнет слуха обитателей маленьких белых домишек, разбросанных тут и там по округе, или настигнет одного из редких путников, что бредут вечерами по взбирающейся на Аллт тропе.
Мы уже выпили все пиво, а из жалкого запаса воды могли позволить себе лишь несколько капель в день на каждого. На четвертый вечер мое горло окончательно пересохло; меня мутило, по телу разлилась ужасная слабость. Мне стало ясно, что, как бы я ни напрягал свои легкие, в таком состоянии мой голос едва ли способен достигнуть хотя бы противоположного края поля, примыкающего к нашей ферме.
Тогда-то мы и начали видеть сны о колодцах, фонтанах и родниках, проливавших струи ледяной воды посреди тенистого, прохладного леса. Вскоре кончились и наши съестные припасы. Время от времени кто-нибудь отрезал кусочек от висевшего на кухне окорока, но тут же бросал его на пол, ибо даже малейший привкус соли был для нас подобен огню.
Однажды ночью разразился сильный ливень. Мэри Гриффит предложила открыть одно из окон и выставить наружу все имеющиеся под рукой миски и тазы, чтобы собрать хотя бы несколько пригоршней дождевой воды. Я напомнил ей о туче с огненными глазами, на что она возразила: "Мы пойдем к окну в сыроварне. Это с другой стороны дома, так что пока эта мерзость очухается, мы что-нибудь да успеем набрать". По окну сыроварни барабанил частый и крупный дождь. Девушка встала на каменную плиту под окном, приоткрыла на дюйм створку ставни и осторожно заглянула в образовавшуюся щель. "И вдруг, — рассказывала она нам потом, — снаружи что-то затрепетало, задрожало и запереливалось, как бывает в церкви Святого Тейло на хоральный праздник, и прямо передо мной появилась та огненная туча".
И вот тогда, как я уже говорил, мы начали видеть сны. В один из жарких полдней я проснулся в своей комнате, залитой яркими лучами солнца. Во сне я без устали бродил по дому, осматривая все его закутки и чего-то ища, и в конце концов спустился в старый погреб, которым хозяева уже давным-давно не пользовались. То была огромная холодная пещера с массивным низким сводом и подпиравшими его каменными столбами. В руках я сжимал железную кирку. Какое-то внутреннее чувство говорило мне, что здесь есть вода. Подойдя к тяжелому камню, который лежал у основания одного из столбов, я поднял его — под ним оказался журчащий ключ с холодной и прозрачной водой! Только я было сложил ладони лодочкой, чтобы напиться, — как вдруг проснулся на своей кровати. Я пошел на кухню и рассказал о своем видении молодому Гриффиту, уверяя его, что в подвале непременно должен быть ключ. Тот отрицательно покачал головой, но все же взял в руки большую кухонную кочергу и отправился со мной в старый погреб. Я указал ему на камень возле столба, и он поднял его. Конечно же, никакого ключа там не оказалось.
Раньше я бы и сам не поверил тому, что способен уподобиться презираемому мной людскому большинству. Но в тот момент я встал в его ряды — слова хозяйского сына не убедили меня, и я продолжал твердить, что ключ там есть. На кухне имелся большой мясницкий нож. Я взял его с собой в старый погреб и принялся остервенело долбить им землю. Никто мне в этом не препятствовал. Каждый из нас прошел через это, и мы уже давно привыкли к подобным вещам. Мы почти не разговаривали друг с другом. Каждый сам по себе бродил но дому, то поднимаясь наверх, то спускаясь вниз, — и все без какой-либо определенной цели. Полагаю, каждый из нас измышлял свой собственный безумный план спасения, но друг с другом мы почти не общались.
Много лет назад мне довелось вкусить актерского ремесла, и я помню, как на первых представлениях все участники труппы перед выходом на сцену рассеянно бродили за кулисами, бормоча себе под нос свои роли и ни слова не говоря друг другу. То же самое происходило с нами. Однажды вечером я наткнулся на молодого Гриффита, пытавшегося прокопать под стеной туннель наружу. Я понимал, что в этот момент он был безумен (точно так же, как и он понимал это в отношении моих попыток вырыть из-под камня в погребе ключ), но даже не попытался его остановить.
Но все это уже далеко позади. Теперь мы слишком слабы, чтобы буйствовать. Явь нам кажется сном, сон — явью. Когда мы спим, нам кажется, что мы окружены явью. Дни и ночи приходят и уходят, и мы начинаем путаться в лицах, принимая одного за другого. Однажды, в раскаленный от солнечных лучей полдень, я услышал, как Гриффит бормочет себе под нос что-то насчет звезд; а в одну глухую полночь мне привиделось, будто я нежусь на солнышке посреди яркого и пышного луга, а рядом со мной бурлят ледяные струи бьющего из скаты фонтана.
На рассвете мимо меня медленно проплыли одетые в черное фигуры со свечами в руках, и я услышал громовые раскаты органной музыки, после чего из земных глубин до меня донеслись пронзительные заунывные голоса, исполняющие какое-то бесконечное древнее песнопение, которым и завершился этот зловещий ритуал.
А совсем недавно я услышал голос, звучавший столь тихо, что был едва различим, и одновременно столь громко, как если бы он многократно усиливался, проходя под сводами кафедрального собора, и отдавался внизу душераздирающими отголосками. Я отчетливо различат каждое слово:
Incipil liber irae Domini Dei nostri (Здесь начинается Книга гнева Господа нашего Бога).
А затем этот голос пропел слово Альфа[59]. И слово это протянулось ко мне из глубины веков, и когда голос начал чтение главы из Книги, я увидел разлившееся вокруг меня сияние божественного света:
В день оный, говорит Господь, прострется туча над землей, и в туче горение и образ огня, и из тучи сей грядут послании ни Мои, и не отклонятся они; и будет день сей днем горшей сгорби, и от иве же не будет спасения. И на всякий горний холм, говорит Господь Сил, воссажу Я стражей Моих, и воинства Мои восселятся во веяной долине; в доме, что стоит посреди тростника, совершу Я суд Свой, и тщетно потекут они, взыску я спасения, под сень утесов. В чащах лесных, где листва покров для них, обрящут они меч убийцы; и те, кто возложит упования свои на города укрепленные, будут поражаемы в них. Горе всякому внявшему меч, горе всякому, кто упьется мощью орудий своих, ибо нечто малое сокрушит его, и будет он повержен во прах тем, кто не имеет мощи. Тот, кто унижен, будет вознесен; преполнением Иордана уподоблю Я львам кроткого агнца и малую овцу; и не будут пощажены непокорные, говорит Господь, и голуби на храме Энгеди станут как орлы; никто же не найдет, что в силах он избежать погибели в битве сей.
Еще и сейчас я слышу этот раскатами уносящийся вдаль голос — голос, словно исходящий от алтаря бесконечно огромного храма. Мне кажется, будто я сам стою в его притворе. Далеко впереди, в самой глубине церкви, посреди безбрежного мрака сияют огни. Но вот они гаснут один за другим. Я снова слышу голос, повторяющий тот же древний распев с бесконечными переливами. Он взмывает вверх, и устремляется к звездам, и стремительно ниспадает в мрачные глубины, и снова воспаряет в небесную высь… И в распеве его я слышу слово "заин"".
В этом месте рукопись снова — и на этот раз окончательно — обрывалась. Далее следовал необратимый и прискорбный графический сумбур: бегущие через всю страницу замысловатые волнистые линии, которыми Секретан, по всей видимости, пытался передать те звуки, что переполняли его умирающий мозг. Судя по встречавшимся в некоторых местах чернильным каракулям, тут же, впрочем, перечеркнутым, он все же отчаянно пытался начать новую фразу, но в конце концов перо выпало у него из рук и упокоилось в огромной чернильной кляксе, своими очертаниями напоминавшей само небытие.
В коридоре раздавались тяжелые шаги — то выносили из дома мертвые тела, чтобы погрузить их на телегу.
Конец ужаса
Доктор Льюис любил повторять, что мы никогда не приблизимся к пониманию истинного смысла жизни, пока не начнем изучать те ее аспекты, которые ныне сознательно упускаем из виду или недооцениваем как в высшей степени необъяснимые и, следовательно, незначительные.
Несколькими месяцами ранее мы разговорились с ним о зловещей тени, что наконец сошла с лица целой страны. Руководствуясь отчасти моими собственными наблюдениями, а отчасти сообщенными мне достоверными фактами, я уже успел составить себе представление о природе Ужаса. После обмена несколькими ключевыми фразами, я понял, что Льюис пришел к сходному с моим заключению — пусть и совсем другими путями.
— И все же, — говорил он, — это еще не конечная истина. Подобно результату любого производимого человеком исследования, она лишь приводит нас на порог очередной великой тайны. Следует признаться, то, что случилось здесь, могло произойти в любом другом месте в любой другой период человеческой истории. Еще год назад мы считали, что ничего подобного не может случиться никогда, а если быть точным, то одна лишь возможность подобного лежала за рамками нашего воображения. Так уж у нас повелось от века. Большинство современных обитателей Земли абсолютно уверено в том, что "Черная смерть" никогда больше не вторгнется в Европу, благодушно полагая, что ее появление было вызвано отсутствием личной гигиены и канализации. На самом же деле чума никогда не имела ничего общего с грязью или дурно устроенными стоками, и если ей вздумается завтра посетить Англию, ей ничто не сможет помешать. Однако, если вы скажете об этом людям, они вас просто поднимут на смех и не поверят в то, чего в данный момент нет у них перед глазами. Что верно для чумы, то верно и для Ужаса. Еще вчера ни вы, ни я не поверили бы в то, что такое вообще имеет право на существование. Ремнант в достаточной мере справедливо утверждал, что в чем бы ни заключалась суть происшедшего, она находится вне нашего восприятия — человеческого восприятия. Двумерный мир не способен допустить существование куба или сферы.
Со всем этим я согласился, добавив лишь, что порою мир не способен не только понять, но даже и просто увидеть очевидного.
— Взгляните на изображение какого-нибудь кафедрального собора, запечатленное на гравюре восемнадцатого века, — сказал я, — и вы поймете, что даже натренированный взгляд художника не смог увидеть в истинном свете возвышавшееся перед ним здание. Я видел старый эстамп с кафедральным собором в Питерборо — клянусь вам, он выглядит так, как если бы художник срисовал его с какой-нибудь неуклюжей модели, слепленной из гнутой проволоки и детских кубиков.
— Совершенно верно, — согласился Льюис. — А все потому, что готика лежала вне эстетических воззрений того времени. Вы не можете поверить в то, чего не видите, и увидеть то, во что не верите. Так было во времена Ужаса. Все происшедшее подтверждает слова Колриджа[60] о необходимости приобрести некую определенную идею, прежде чем факты смогут сослужить ей ту или иную службу. И, конечно же, он был прав. Сами по себе, без соответствующей идеи, факты — ничто, они не могут привести ни к какому заключению. Вот и у нас было множество фактов, но мы ничего не могли из них извлечь. Я шел в хвосте ужасной процессии, возвращавшейся из Трефф-Лойна с телами погибших, и был близок к безумию. Я слышал, как один солдат сказал другому: "Слушай, Билл, похоже, то были не крысы. Уж они-то точно не могут разворотить человека до самого позвоночника". Не знаю почему, но мне показалось, что еще минута таких разговоров, и я окончательно свихнусь. Такое впечатление, будто все наличествующее в мире здравомыслие вдруг сорвалось с цепи и унеслось в космические бездны. Я отстал от группы и кратчайшим путем — через поля — добрался до Порта. На Хан-стрит я встретил Дэвиса, и мы договорились, что он возьмет на себя все вызовы, какие могут случиться в этот вечер. Затем я отправился домой и, наказав слуге никого не принимать, заперся у себя в кабинете с намерением обдумать все, что узнал к тому моменту, — если, конечно, окажусь на то способным.
Не следует полагать, что события того дня хотя бы в малой мере помогли мне истолковать все происходящее. Поистине, если бы я собственными глазами не увидел тело старика Гриффита, лежавшее с разорванным боком посреди его собственного двора, то скорее всего принял бы на веру одно из предположений Секретана и успокоился мыслью о том, что фермерская семья вкупе с художником пала жертвой массовых галлюцинаций, под влиянием которых все они заперлись в доме и уморили себя жаждой. Думаю, в медицинской практике бывало еще и не такое. Существует психическая болезнь самозапрета — внутреннее убеждение в неспособности проделать самое элементарное действие. Но я видел труп убитого, я видел рану, послужившую причиной его смерти.
Можно ли сказать, что оставленная Секретаном рукопись не подсказала мне вовсе ничего? Поначалу мне показалось, что она лишь еще больше запутала меня. Вы сами видели ее и помните, что в некоторых местах она являет собой чистейшей воды бред — бессвязные измышления угасающего мозга. Как мог я отделить факты от иллюзий, не имея ключа ко всей этой загадке? Очень часто бред является некой разновидностью воздушных замков, эдакой чрезмерно преувеличенной и искаженной тенью реальности, и воссоздать реальное здание но его искаженной тени бывает чрезвычайно трудно. Составляя этот исключительный документ, Секретан почти настаивал на том, что сам он вряд ли находился в здравом уме. В течение нескольких дней он отчасти спал, отчасти бодрствовал, отчасти бредил, а отчасти наблюдал и во всех этих случаях не мог до конца поверить в происходящее. Как было мне относиться к этому его утверждению? Как я мог отделить бред от реальных фактов? Но на одном он стоял твердо — его призывы на помощь сквозь печную трубу Трефф-Лойна совершались нм в здравом рассудке. Этому, кстати, вполне соответствуют рассказы о глухих заунывных воплях, слышанных по ночам на Алл те. Следовательно, в этом случае Секретан описал действительный факт. Я спустился в старый погреб фермы и обнаружил у основания одного из каменных столбов некое подобие кроличьей норы, вырытой в чрезвычайной спешке. Стало быть, в этой части своего послания он тоже прав. Но какой вывод можно сделать из рассказа о поющем голосе или буквах древнееврейского алфавита? Как отнестись к главе из писаний некого неведомого нам младшего пророка? Когда у вас на руках имеется ключ, вы легко можете отделить факты от иллюзий, но в тот сентябрьский вечер у меня его не было. Я все время упускал из вида "дерево" с искрящейся огнем кроной, а ведь одно это могло убедить меня более чем все остальное, ибо нечто подобное мне привиделось в собственном саду. Но в то время я даже не задумывался над природой этого феномена.
Я уже говорил о том, что, как ни парадоксально, но все без исключения жизненные явления могут быть объяснимы лишь при помощи необъяснимых вещей. Вам известна наша извечная склонность отговариваться от всего непонятного расхожими фразами; "Что за странное совпадение!" — рассеянно восклицаем мы и проходим мимо нестыкующегося ни с чем факта, словно из него уже нечего более извлечь для пользы дата. Так вот, я уверен, что единственно верный путь познания пролегает через его глухие тупики.
— Что вы имеете в виду?
— Вот вам пример того, что я имею в виду. Я рассказывал вам о моем зяте Меррите, ставшем свидетелем того, как перевернулась "Мэри-Энн". Он утверждал, что видел сигнальные огни, подаваемые с одной из ферм на побережье, — он был абсолютно уверен в том, что обе эти вещи тесно связаны друг с другом причинно-следственными связями. Я же посчитал все это абсурдом и уже принялся искать способ прервать надоевший мне разговор, когда из сада в комнату влетел большой мотылек — влетел, немного попорхал у потолка, а затем заживо сжег себя в огне лампы. Обрадовавшись нежданному предлогу, я спросил Меррита, знает ли он, почему мотыльки извечно устремляются на гибельный свет лампы. Конечно, я мог спросить его о чем-нибудь другом. Мне просто хотелось намекнуть ему, что мне уже порядком осточертели его дурацкие разговоры о сигнальных огнях и прочей чертовщине на побережье. Нужно сказать, что мне это удалось — он надулся и прикусил язык.
Но несколько минут спустя за мной послал человек, около часа тому назад обнаруживший в поле рядом с домом своего мертвого младшего сына. Мальчик был так покоен, сказал он, что у него на лбу сидел большой мотылек, который улетел, лишь когда его прогнали. В этих двух эпизодах не усматривалось никакой логики, но это было именно тем "странным совпадением" — мотылек в моей лампе и мотылек на лбу у мертвого мальчика, — которое впервые направило меня на верный путь. Не могу сказать, что это совпадение каким-то образом направляло мои мысли, но оно заставило меня вслушиваться в жизнь; оно послужило для меня неким шоком, подобный внезапному грохоту барабана.
Без сомнения, в тот вечер Меррит нес совершеннейшую чушь — вспышки огня не могли иметь ничего общего с гибелью шлюпки. Однако кое-что в его рассуждениях все же было. Помните, он сказал: "Когда вы слышите выстрел и видите, как падает человек, вы не станете утверждать, что это простое совпадение". Думаю, что на эту тему можно было бы написать весьма интересную книжицу. Я бы озаглавил ее "Основы науки о совпадениях".
Вы читали мои заметки и наверняка помните, что не прошло и десяти дней, как меня вызвали для осмотра человека по имени Крэдок, которого нашли мертвым посреди прилегающего к его дому ноля, (лучилось это опять-такн поздним вечером. Этому происшествию сопутствовали весьма странные обстоятельства. Жена покойного, которая и обнаружила тело, утверждала, что окаймлявшая поля изгородь выглядела не так, как обычно. Сначала она даже подумала, что по ошибке забрела не туда; по ее словам, изгородь светилась, словно ее облепила целая туча светляков. Когда же она перебралась через приступки, ей показалось, что посреди поля наличествует какое-то мерцающее пятно. Когда она приблизилась к нему, мерцание рассеялось, взору женщины открылся труп мужа. Крэдок оказался задушенным точно таким же образом, как маленький Робертс и тот человек из глубинного района Северной Англии, который однажды поздним вечером решил сократить путь и пустился домой прямиком через поля. Затем я вспомнил, что, перед тем как пропасть, бедняжка Джонни Робертс крикнул, что видит над приступками "что-то светленькое". Ко всему этому я должен был присовокупить и то весьма примечательное зрелище, свидетелем которому стал вот в этой самой комнате. Я имею в виду необычное, постоянно разраставшееся и менявшее очертания дерево, выросшее там, где, как я твердо знал, не должно было находиться ничего похожего. Как и бедное дитя, и миссис Крэдок, и случайный прохожий в Стрэдфордшире, которому привиделось плывущее над деревьями искрящееся облако, я увидел тогда "нечто светленькое" — неясное свечение и созвездие огней, переливавшееся самыми разнообразными красками.
В моем мозгу уже готово было прозвучать слово, которого мне недоставало все это время, но вы сами можете судить о трудностях, препятствовавших тому, чтобы оно всплыло на поверхность. Весь этот ряд сходных обстоятельств не имел для меня никакого отношения к другим деяниям Ужаса. Как мог я связать эту пляску искрящихся огоньков с разрывами гранат и пулеметными очередями в глубинке Англии, с вооруженными людьми, денно и нощно стоявшими на страже военных заводов, с длинным списком несчастных жертв, сброшенных на скалы, погибших на дне каменоломни, задохнувшихся в болотной жиже, растоптанных на Хайуэе перед воротами собственного дома или опрокинувшихся на весельной шлюпке? Я не мог отыскать ту нить, которая могла бы соединить между собой все эти происшествия, казавшиеся мне безнадежно неоднородными. Я не находил никакого соответствия между тем, что выколотило мозги из семейства Уильямсов, и силой, опрокинувшей "Мэри-Энн". Не могу сказать точно, но если бы и далее не происходило ничего подобного, то я скорее всего отнесся бы ко всему этому как к необъяснимой череде преступлений и несчастных случаев, коим суждено было обрушиться на Мэйрион летом 1915 года. Естественно, если все же иметь в виду все, что рассказал мне Меррит, такой взгляд на вещи становится невозможным. Но так или иначе, когда сталкиваешься с чем-нибудь неразрешимым, то ничего не остается, как предоставить делам идти своим чередом. Если тайна не поддается объяснению, всегда можно сделать вид, что никакой тайны нет и в помине. Так мы привыкли относиться к тому, что называется вольнодумством и атеизмом.
Но затем последовало исключительное происшествие в Трефф-Лойне. От него я уже не мог отмахнуться. Я не мог больше делать вид, что ничего странного и из ряда вон выходящего не произошло. Это событие нельзя было не перескочить, не обойти. Тайна предстала перед моими собственными глазами, и тайна эта была весьма ужасающего свойства. Возможно, я противоречу своим же собственным логическим построениям, но все же замечу, что в Трефф-Лойне тайна выступила в облике смерти.
Как уже говорил, я прихватил бумаги Секретана с собой и на весь вечер заперся с ними дома. Происшедшее путало меня, но не столько своими ужасными обстоятельствами, сколько обнаружившимися противоречиями. Насколько я мог судить, старик Гриффит был убит ударом пики или заостренного кола. Как это могло соотноситься с парящим над крышей амбара огненным деревом? Это все равно, если бы я сказал вам: "Этого человека утопили, а этого сожгли заживо. Докажите мне, что причиной их смерти явилась одна и та же сила!" Когда же я выходил за рамки частного случая с Трефф-Лойном и пытался пролить на него свет, исходя их других проявлений Ужаса, то неизменно натыкался и на вовсе уж непонятное свидетельство человека, услыхавшего в глубине ночного леса шаги целой армии людей, разговаривавших так, как если бы они сидели на грудах собственных костей. Вдобавок мне приходилось постоянно спрашивать себя, какое отношение ко всему этому имеет перевернувшаяся на спокойной волне шлюпка. Казалось, этому не будет конца. У меня не было ни малейшей надежды прийти к какому-либо более или менее разумному заключению.
И тут мое сознание совершило некий неожиданный скачок, который и вывел меня из сумбурного нагромождения мыслей. Объяснить его невозможно никакими законами логики. Я мысленно вернулся к тому вечеру, когда Меррит досаждал мне своими сигнальными огнями, попутно вспомнив мотылька над лампой и его собрата на лбу у бедняжки Джонни Робертса. Во всем этом не виделось никакой связи, но я ни с того ни с сего подумал, что и это несчастное дитя, и Джозеф Крэдок, и безымянный человек из Стрэдфордшира (все они погибли ночью и именно от асфиксии) были задушены огромными роями мотыльков. Даже сейчас я не стану уверять вас, что располагаю вескими доказательствами моей правоты, но при этом ничуть не сомневаюсь, что все именно так и было. Представьте себе, что вы в темноте натыкаетесь на рой этих тварей, который тут же облепляет вас. Допустим, самая малая их часть влетает вам в ноздри. Вам недостает дыхания, и вы открываете рот. И вот тут-то тысячи этих созданий забивают вам глотку и проникают в горло. Что тогда станется с вами? Через несколько секунд вы умрете — от асфиксии, разумеется.
— Но ведь мотыльки тоже погибнут, и их можно будет легко обнаружить у вас во рту.
— Мотыльки погибнут? Да знаете ли вы, что мотыльков сложно убить даже с помощью цианистого калия? Сходите на луг, поймайте лягушку и вскройте ей желудок. Вы обнаружите в нем обед из мотыльков и жучков. Так вот, не пройдет и минуты, как этот самый "обед" на ваших глазах встряхнется и весело пустится на тот же самый луг продолжать свое благостное существование. Поверьте, это для них плевое дело. Так вот, придя к такому неожиданному выводу, я на время отвлекся от всех остальных случаев и ограничил себя лишь темн из них, которые допускали подобное истолкование. Тщательно проанализировав каждое происшествие, я твердо уверился в том, что все их жертвы были задушены мотыльками. Более того, именно рой этих созданий и был тем самым разноцветным искрящимся "деревом", которое я собственными глазами наблюдал в своем саду. Именно они образовали то светящееся облако, которое прохожий из Стрэдфордшира принял за новую и ужасную разновидность отравляющего газа. Именно они были тем "светленьким", что за минуту до смерти увидел над изгородью маленький Джонни Робертс. Именно они излучали то мерцающее сияние, которое привело миссис Крэдок к бездыханному телу ее мужа. И, наконец, именно они были той тучей зловещих глаз, что стерегла по ночам обитателей Трефф-Лойна. Все это я понял в один неимоверно краткий миг, когда в один из вечеров случайно вошел вот в эту самую комнату и узрел разноцветное и переливчатое сияние, исходившее из глаз всего лишь одного-единственного мотылька, ползавшего снаружи по оконному стеклу. В тот вечер я вступил на истинный путь. Я представил себе ощущения человека, столкнувшегося лицом к лицу с мириадами таких глаз, с бесконечным движением этих отсветов и огоньков, постоянно перемещающихся с места на место, но при этом не отделяющихся от общей массы, и мне все стало ясно.
Я понял тогда, что, в сущности, мы ничего не знаем о мотыльках — точнее, о их подлинной природе. Конечно, существуют десятки, а может быть, и сотни книг, посвященных мотылькам, только мотылькам и ничему, кроме мотыльков.
Но все это научные книги, а наука привыкла иметь дело исключительно с внешней стороной явлений, в то время как она, эта внешняя сторона, не имеет ничего общего с их сущностью. Более того, любые попытки проникнуть в эту сущность в науке считаются недопустимыми. Возьмите хотя бы самое малое — ученые до сих пор не могут толком объяснить, с какой стати мотыльки так упорно летят на огонь. Никто из нас не знает, почему они это делают. Мы знаем лишь, что они это делают, и все тут. С другой стороны, мы знаем и то, чего они не делают никогда — они не имеют привычки сбиваться в огромные рои с намерением погубить человеческую жизнь. Но если следовать моей гипотезе, мы имеем дело как раз с непривычной ситуацией — род мотыльков вступил в злонамеренный сговор против рода человеческого. Без сомнения, это считалось абсолютно невозможным — и все потому, что раньше такого никогда не случалось. Как бы то ни было, а мне ничего другого не оставалось, как придерживаться моей гипотезы.
Итак, решил я, мотыльки определенно состоят во вражде с человеком. Но тут я снова застрял, ибо не видел, в каком направлении сделать следующий шаг. Понятно, что теперь он кажется мне последовательным и до идиотизма очевидным, но тогда я был похож на человека с завязанными глазами. Следующий мостик над пропастью моих сомнений выстроился из обрывков разговоров, которые вели между собой солдаты по дороге к Трефф-Лойну и обратно. Сначала они толковали о крысином яде, а на обратном пути вполне справедливо заметили, что крысы ни при каких обстоятельствах не способны проткнуть человеку бок до самого сердца. Когда эти слова всплыли у меня в памяти, я ясно представил себе дальнейший ход моего расследования. Если уж мотыльки заразились ненавистью к человеку и проявили достаточно ума и способностей, чтобы объединиться против него, то почему бы не предположить, что такими же умом и способностями обладают все остальные твари, не принадлежащие к роду человеческому?
И тогда я понял, что вся великая тайна Ужаса умещается в одну короткую фразу: животные восстали против человека.
Что ж, теперь мне оставалось только разложить все по полочкам. Возьмем тот случай, когда люди находили свою смерть на скалах или на дне каменоломни. Мы привыкли считать овец чрезвычайно робкими созданиями, которые неизменно убегают, завидев людей. Но представьте себе, что они вдруг перестали убегать — и, действительно, почему они должны это делать? Что станется с вами, если посреди чистого поля на вас бросится сотня овец? Как бы вы ни отбивались, они повалят вас на землю и забьют до смерти. А что произойдет, когда такое нападение будет совершено на одинокого мужчину, женщину или ребенка, бредущего по краю утеса или каменоломни? Естественно, никакой битвы не будет — жертва просто-напросто полетит вниз. Я не сомневаюсь, что именно так все и происходило во всех указанных случаях.
Пойдем дальше. Вы хорошо знаете деревню и наверняка не раз замечали, как иногда на идущего по полю человека вдруг начинает надвигаться стадо коров. Они наступают на вас эдаким торжественным и туповато-бесстрастным маршем, слегка выдвигаясь по флангам, как если бы намеревались взять вас в кольцо. Горожане в таких случаях чаще всего пугаются, начинают орать благим матом и ищут спасения в бегстве. Но мы то с вами не обращаем на коров никакого внимания — разве что погрозим им для острастки тростью, отчего все стадо тут же останавливается и медленно уходит прочь. Но что может сделать человек — или даже полудюжина людей — против сотни этих животных, которых более не сдерживает тот таинственный запрет, что навеки превратил сильное существо в покорного раба слабого? Вы ведь знаете, что каждая, пусть даже самая старая и смирная, корова гораздо сильнее любого человека. Кто сможет вам помочь, когда, подобно тому бедняге, что проживал в гостинице Порта и отправился собирать гербарий на болото, вас вдруг окружат сорок или пятьдесят этих рогатых тварей и, несмотря на все ваши крики и замахивания тростью, начнут шаг за шагом теснить к трясине? Если у вас нет при себе автоматического пистолета с десятью обоймами, то под напором их могучих тел вам останется только лечь в жижу и лежать там до скорой и неизбежной смерти, в то время как ваши убийцы будут возлежать на вас и равнодушно пережевывать зеленую осоку. Несчастному старику Гриффиту с Трефф-Лойна еще повезло — его смерть была быстрой и почти безболезненной. Одна из его собственных коров боднула его в бок, достав до самого сердца. И с этого момента все оставшиеся в живых были осаждены в доме обыкновенными дворовыми коровами, овцами и лошадьми; когда же эти несчастные открывали окно, чтобы позвать на помощь или поймать несколько капель дождя, на них набрасывалась туча с мириадами огненных глаз. Стоит ли тогда удивляться тому, что состояние Секретана порою переходит в маниакальное? Вы только представьте себе положение тех несчастных, что были заперты в Трефф-Лойне! Они не просто видели подступающую к ним смерть — они видели, что она подступает к ним в абсолютно невероятном облике. Им не только предстояло умереть в страшном сне — они умирали под его воздействием. Однако ни в одном самом страшном сне мы не можем вообразить себе ничего похожего на эту участь. Поэтому я и не удивляюсь, что порою Секретан не доверял собственным ощущениям, а иногда ему даже начинало казаться, будто пришел конец света.
— А что вы думаете об Уильямсах, найденных мертвыми на Хайуэе?
— Их убили лошади — те самые, что потом растоптали военный лагерь в низине. Не могу сказать точно, каким образом им удалось выманить несчастную семью на дорогу, но после того как это случилось, они просто-напросто вышибли им мозги своими подкованными копытами. Что же до "Мэри-Энн", то ее несомненно перевернули дельфины, резвившиеся в водах Ларнакского залива. Дельфин — очень сильное животное, и для того, чтобы потопить обыкновенную весельную шлюпку, достаточно всего лишь полдюжины этих созданий. Военные заводы? Там постарались крысы. Я не очень сильно ошибусь, когда скажу, что число крыс в Лондоне и его пригородах примерно равно числу его жителей. Следовательно, их там около семи миллионов. Примерно такая же пропорция остается в силе и для прочих крупных населенных пунктов. Кроме того, крысы порою склонны к миграциям. Надеюсь, теперь вам понятно, что на самом деле случилось с командой, рыскавшей в устье Темзы, а затем заброшенной в Арканшон "Семирамиды", командой, от которой остались лишь груды высохших костей? Именно крысы напугали до полусмерти человека, проходившего ночью через лес у вновь построенного военного завода. Ему почудилось, что он слышит осторожные шаги тысяч и тысяч людей, переговаривавшихся между собой на каком-то ужасном языке. На самом деле он слышал боевое построение крыс — несметные полчища хвостатых убийц готовились к смертельной атаке.
А теперь представьте себе весь ужас такой атаки. Говорят, не дай бог стать на пути хотя бы одной разъяренной крысы, — что же тогда сказать о бесконечном потоке этих ужасных созданий, вливающемся на военный завод и поглощающем беспомощных, объятых ужасом и абсолютно не готовых к обороне рабочих?
Естественно, доктор Льюис был вправе делать любые самые невероятные умозаключения. Как уже говорил, я и сам пришел к тем же выводам, но только иным путем. К тому же мои выводы касались лишь сути явления, в то время как Льюис вел конкретное расследование тех ужасных событий, которые находились в его непосредственной компетенции врача, широко практикующего в южной части Мэйриона. Конечно, некоторые сведения он получал не прямым путем, а из рассказов местных жителей, но у него была возможность сопоставить их с тем, что видел собственными глазами. Например, случай в лланфингелской каменоломне он разбирал по аналогии с гибелью людей на скалах вблизи Порта — и, без сомнения, имел на то все основания. Размышляя обо всем случившемся, он говорил мне, что его в большей степени изумляло его собственное восприятие Ужаса, нежели тот странный путь, который привел его к нему.
— Вспомните, — говорил он, — о тех очевидных свидетельствах злонамеренности животных, что доходили до нас в то время. Я имею в виду пчел, насмерть закусавших ребенка, ни с того ни с сего рассвирепевшую овчарку и набросившегося на хозяйку петуха. Так вот, из всей этой информации я не извлек ничего полезного. Эти случаи не подсказали мне ровным счетом ничего, а все потому, что тогда я еще не постиг саму "идею", каковую Колридж полагает необходимейшей основой всякого расследования. Сами по себе факты, как мы уже говорили, не значат ничего и ни к чему не ведут. Вы не верите, а потому и не видите. И когда истина наконец вышла на свет, это случилось в результате случайного "странного совпадения" (как мы привыкли называть подобные сигналы, подаваемые нам миром), двух однотипных явлений — мотылька над моей лампой и мотылька на лбу мертвого малыша. Я лично нахожу в этом нечто сверхъестественное.
— И все же, — заметил я, — нам следует помнить и о единственном животном, сохранившем преданность своим хозяевам, — о собаке с Трефф-Лойна. Согласитесь, что это очень странный факт.
— Теперь это уже навсегда останется тайной.
Не думаю, что по прошествии столь долгого времени стоит в подробностях описывать ужасные сцены, происходившие в те черные месяцы, когда нами правил Ужас, на заводах военного снаряжения, расположенных в северной глубинке Англии. В глухие ночные часы из ворот этих заводов выносили обернутые черным саваном и намертво заколоченные гробы — и никто, даже самые близкие родственники, не имели права узнать, от чего умерли эти люди. Множество домов во всех городах страны было погружено в траур, и повсюду распространялись самые что ни на есть невероятные слухи — невероятные, как и сама реальность. На нашей земле творились такие дела, претерпевались такие страдания, что, возможно, никто и никогда не услышит о них всей правды. Воспоминания и тайные предания еще долго будут передаваться из уст в уста, от отца к сыну, с годами обрастая все более зловещими подробностями, но правды об Ужасе не услышит никто и никогда.
Достаточно сказать, что военное производство союзников некоторое время находилось под угрозой полной остановки. Люди на фронтах исступленно молили о боеприпасах, но никто не сказал им, что на самом деле происходило в местах, где они производились.
Сначала наше положение было едва ли не отчаянным. Некоторые высокопоставленные лица даже всерьез предлагали просить у врага пощады. Но когда первая волна паники миновала, были приняты надлежащие меры — вроде тех, какие описывал Меррит в своем рассказе о происшествии на мидлингемском заводе. Рабочих снабдили специальным оружием, на всех ключевых постах расставили охрану с пулеметами. Для отражения атак зубастых полчищ держались наготове гранаты и огнеметы, а "огненным облакам" довелось познакомиться с настоящим, куда более жгучим, чем их собственный, огнем. Больше всего доставалось авиаторам, но и их вскоре снабдили специальными орудиями, отгонявшими нависшие над их машинами зловещие тучи.
А затем, зимой 1915–1916 годов. Ужас прекратился так же неожиданно, как и начался. Овцы снова сделались робкими клубками шерсти, инстинктивно убегающими прочь даже от малого ребенка, а быки и коровы обратились в медлительных, туповатых и абсолютно безвредных созданий. Сердца животных покинул мятежный дух, побуждавший их к злонамеренным замыслам. На них снова были наложены оковы, спавшие лишь на очень короткое время.
Вот тут-то и наступает время задать неизбежный и каверзный вопрос: "Почему?". Почему животные, издревле покорно и терпеливо подчинявшиеся человеку и пугавшиеся одного его присутствия, вдруг осознали свою мощь и объединились в беспощадной войне против своего извечного властелина?
Конечно же, это самый трудный вопрос настоящей книги. Приводя на ее страницах мое собственное объяснение, я одновременно хочу информировать читателя о том, что не очень уверен в его истинности и всегда готов принять любые поправки, могущие пролить более яркий свет на недавние события.
Некоторые мои друзья, мнением которых я очень дорожу, склоняются к версии о заражении животных микробом ненависти. Они утверждают, что крайнее ожесточение и безумная, самоубийственная страсть к убийству, которые во время последней войны охватили весь мир, заразили собой и наших меньших братьев, породив в них взамен прирожденного инстинкта подчинения ярость, гнев и неуемную кровожадность.
Что ж, можно принять и такое объяснение. Не буду оспаривать его, дабы меня не заподозрили в претензиях на понимании хода вещей во Вселенной. Скажу лишь, что эта теория поражает меня своей фантастичностью. Конечно, можно допустить существование такого явления, как эпидемия ненависти, — существуют же, в конце концов, эпидемии оспы и чумы. И все-таки я вряд ли когда-либо смогу поверить в это.
По моему частному мнению, которое я ни в коем случае не хочу никому навязывать, причина великого бунта имеет под собой более сложное основание. Я полагаю, что подданные восстали потому, что их король сам отрекся от престола. Человек доминировал над животными многие века, потому что его духовное начало царило над рациональным ввиду особого достоинства и благодати, которыми обладает человек и которые делают его тем, что он есть. Думаю, не стоит объяснять того, что между человеком и животными существовал некий договор и соглашение. С одной стороны — господство, с другой — подчинение. Но в то же самое время между обеими сторонами существовала и та особая сердечность, которая наблюдается между господами и их подданными в хорошо организованном государстве. Я знаю одного социалиста, который всерьез утверждает, что в "Кентерберийских рассказах" Чосера[61] изображена картина подлинной демократии. Не знаю, как насчет демократии, но рыцарь с мельником могли уживаться в полном мире и согласии именно потому, что рыцарь знал: он рыцарь, а мельник знал: он мельник. Если бы рыцарь добровольно отказался от своего рыцарского звания, а мельник в это же самое время вдруг решил сделаться рыцарем, то я уверен, что их отношения немедленно стали бы затруднительными, враждебными и, скорее всего, убийственными.
Так обстоит дело с людьми. Я верю в силу и правду традиции. Пару недель тому назад один весьма ученый человек сказал мне: "Когда мне приходится выбирать между свидетельствами традиции и документами, я всегда выбираю традицию. Документы очень часто бывают сфальсифицированными, традицию же подделать нельзя". И это совершенно справедливо. Именно потому я и верю всем тем древним преданиям, в которых утверждается, что некогда человек и животные заключили между собой некое равноправное дружеское соглашение. Наша сказка о Дике Уиттингтоне и его коте, без сомнения, является адаптацией древней легенды к сравнительно новому персонажу. Но если мы проследуем еще дальше в глубь веков, то нам встретится немало народных традиций, свидетельствующих о том, что животные состояли не только в подчинении человеку, но и в дружбе с ним.
Все это было возможно благодаря той единственной духовной составляющей человека, которой не обладают разумные животные. Духовное не значит "уважаемое", оно даже не значит "высокоморальное" и "доброе" в обычном смысле этого слова. Оно обозначает монаршую прерогативу человека, отличающую его от животных.
На протяжении многих веков человек постепенно стягивал с себя царскую мантию и стирал со своей груди священный бальзам миропомазания. При этом он не уставал заявлять, что он вовсе не духовное, а просто-напросто разумное существо — то есть во всем равное животным, над коими некогда был поставлен владыкой. Он во всеуслышание провозгласил, что является не Орфеем[62], а Калибаном[63].
Но у животных тоже есть кое-что, чего недостает человеку. Мы называем это инстинктом. И вот в одно прекрасное мгновение животные инстинктивно почувствовали, что трон пустует и что договор между ними и самонизложенным монархом расторгнут. А если человек перестал быть царем, значит, он сделался обманщиком, проходимцем, самозванцем — то есть подлежащим уничтожению существом.
Отсюда, я полагаю, и происходит Ужас. Они восстали однажды — они могут восстать вновь.
Три самозванца (перевод О. Рединой)
The Three Impostors
Роман впервые опубликован в 1895 г. Перевод осуществлен по изданию: Machen A. The Three Impostors. L., 1964.
Пролог
Cтало быть, мистер Джозеф Уолтерс тут и заночует? — поинтересовался щеголеватый, гладко выбритый господин у своего спутника, человека не самой приятной наружности, рыжие усы которого переходили в короткие бакенбарды.
Оба джентльмена стояли у входной двери, довольно посмеиваясь. Вскоре к ним присоединилась, сбежав вниз по лестнице, молоденькая девушка с приятным лицом, привлекавшим скорее своей необычностью, чем красотой, и с блестящими карими глазами. В руках она держала аккуратный бумажный сверточек.
— Не запирай дверь! — сказал, выходя, щеголеватый господин своему приятелю. — Вдруг мистеру Уолтерсу будет скучно одному?
— Думаешь, это благоразумно, Дейвис? — с сомнением спросил рыжеусый, поглаживая рукой полуразбитый дверной молоток. — Не уверен, что нашему дорогому доктору Липсьюсу это понравится. А ты что скажешь, Элен?
— Я согласна с Дейвисом. Он настоящий художник, а ты, Ричмонд, банален до мозга костей, да к тому же еще и трусоват. Конечно, дверь нужно оставить открытой. Какая жалость, что Липеьюсу пришлось уехать! Вот бы душу отвел!
— Да уж, — поддержал ее гладко выбритый мистер Дейвис, — не повезло доктору с этим вызовом на Запад. Боюсь, там ему придется туго.
Они вышли наружу, оставив покоробившуюся, растрескавшуюся от стужи и сырости дверь приотворенной, и с минуту постояли на ветхом крыльце.
— Ну что же! — произнесла девушка. — Наконец-то мы сделали свое дело. Не придется нам больше носиться по следу молодого человека в очках.
— И этим мы во многом обязаны тебе. — вежливо заметил Дейвис. — Я не шучу — так сказал перед отъездом доктор. Но, мне кажется, каждый из нас должен с кем-то попрощаться. Итак, посреди этой живописной, но пришедшей в упадок усадьбы я хочу проститься с моим другом мистером Бартоном, агентом по продаже антиквариата и драгоценностей. — Дейвис приподнял шляпу и отвесил своей тени шутовской поклон.
— А я, — произнес Ричмонд, — говорю "до свидания" мистеру Уилкинсу, личному секретарю и делопроизводителю, чье общество, признаюсь, мне изрядно надоело.
— Прощайте, мисс Лелли и мисс Лестер! — в изящном реверансе добавила девушка. — А вместе с ними прощайте и все оккультные происшествия! Представление окончено!
Мистер Дейвис и девушка, казалось, от души потешались, но Ричмонд нервно теребил бакенбарды.
— Не по себе мне что-то, — сказал он. — В Штатах мне доводилось видеть вещи и пострашнее, но тот последний вопль — мне чуть плохо не стало.
Трое друзей спустились с крыльца и принялись медленно прогуливаться по садовой дорожке, некогда покрытой гравием, а ныне поросшей мягким мокрым мхом. Был чудесный осенний вечер, бледные солнечные лучи падали на желтые стены заброшенного долга, высвечивая следы упадка: черные дождевые потеки на месте отвалившихся водостоков, щербатые оскалы оголенных кирпичей, плакучую зелень чахлого ракитника близ крыльца и грязные разводы на каменной кладке, образовавшиеся в тех местах, где глина наползла на покосившийся фундамент.
Это был странный, бестолково спланированный дом, заложенный лет двести назад, — слуховые оконца косо глазели из-под козырьков черепицы, боковые крылья в георгианском стиле неровно расходились в стороны, стрельчатые окна едва доходили до второго этажа, а два покатых купола, некогда сиявшие праздничной ярко-зеленой краской, ныне безнадежно и безобразно облупились. Разбитые урны валялись по обе стороны дорожки, тяжелые испарения поднимались над жирной глиной, одичалый кустарник, весь спутавшийся и бесформенный, источал сырость — вся атмосфера усадьбы наводила на мысль о разверстой могиле. Трое приятелей угрюмо взирали на заполонивший лужайку и клумбы бурьян и на заросший водоем. Там, над зеленой ряской, гордо высился трубивший в разбитый рог погребальную песнь Тритон, а вдали, за садовой оградой и окаймлявшей ее ширью лугов, садилось солнце, и сквозь ветки вязов пробивался его багровый свет.
Ричмонд вздрогнул и топнул ногой.
— Надо уходить, — сказал он. — Здесь нам больше нечего делать.
— И впрямь, — согласился Дейвис. — Наконец-то мы с этим покончили. Я уж думал, мы никогда не избавимся от джентльмена в очках. Умный был парень, но, боже мой, как под конец сломался! Весь позеленел, едва я лишь тронул его за плечо в баре. Но куда он все-таки запрятал эту штуку? Готов поклясться, что при нем ее не было.
Девушка рассмеялась, и все трое двинулись дальше. Внезапно Ричмонд остановился.
— Ой! — воскликнул он, обращаясь к девушке. — Что это там у тебя? Смотри-ка, Дейвис, похоже, кровь…
Девушка приоткрыла свой сверточек.
— Вот, глядите! Это я сама придумала. Согласитесь — славное пополнение для музея доктора. Это палец с правой руки, что посмела украсть "Золотого Тиберия".
Мистер Дейвис закивал с явным одобрением, а Ричмонд приподнял свой уродливый котелок с высокой тульей и отер лоб замусоленным носовым платком.
— Я пошел, — сказал он, — а вы, если хотите, можете оставаться.
Трое приятелей обогнули конюшни, миновали пустошь, некогда бывшую огородом, и, явно желая срезать путь, юркнули в живую изгородь на задворках. Пятью минутами позже на темной подъездной аллее усадьбы показались два неторопливо прогуливавшихся джентльмена, которых в эти заброшенные предместья Лондона завела беспечная праздность. Они приметили усадьбу с главной дороги и, по достоинству оценив масштабы ее запустения, принялись обмениваться высокопарными замечаниями в духе Джереми Тейлора[64].
— Посмотрите, Дайсон! — сказал один из джентльменов, когда они подошли поближе. — Взгляните на верхние окна! Садится солнце, и — несмотря на пыльные стекла — "муть эркера горит".
— Филиппс! — ответил второй (он был постарше, и, надо заметить, во всем его виде сквозила высокомерность). — Я снова во власти фантазии. Меня влекут сумрак и гротеск. Здесь, где повсюду торжествует мерзость запустенья, где нас окутывает кедровый полумрак, где вместе с воздухом небесным наши легкие вдыхают могильную отраву, разве можно оставаться в плену обыденного? Я вижу зарево в окнах, и мне кажется, что дом зачарован, а внутри, я говорю вам, внутри, в комнате, нас ждут кровь и огонь…
Приключение с "Золотым Тиберием"
Знакомство мистера Дайсона с мистером Чарлзом Фи-липпсом было делом случая — из числа тех, что всякий день не единожды выпадают обитателям лондонских улиц. Мистер Дайсон был прирожденным литератором, но при этом являл собой прекрасный пример загубленного дарования. При всех своих выдающихся задатках, кои могли бы еще в юные годы обеспечить ему место в ряду любимейших писателей Бентли[65], он добился очень немногого. Азы схоластической логики ему, бесспорно, были известны, но о жизненной логике мистер Дайсон не имел ни малейшего понятия. Он самодовольно считал себя художником, будучи на самом деле лишь праздным созерцателем чужих стараний.
Одно из многочисленных своих заблуждений — представление о себе как о великом труженике — он лелеял с особой любовью. С видом предельно утомленного человека он входил в свое любимое пристанище, маленькую табачную лавку на Грейт-Куин-стрит, и принимался рассказывать любому, кто удосуживался его выслушать, о том, как он два дня кряду производил наблюдения за восходом и заходом солнца. Владелец лавки, будучи человеком исключительной любезности, терпел Дайсона отчасти по доброте душевной, а отчасти потому, что тот был его постоянным клиентом. Обычно Дайсон усаживался на пустой бочонок и излагал свои соображения о литературе (в частности) и о творчестве (вообще) до тех пор, пока лавка не закрывалась, и если новых покупателей его красноречие и не привлекло, то никого оно, но крайней мере, не отпугнуло.
Следуя другой своей слабости, Дайсон предавался жестоким экспериментам с табаком, без устали пробуя все новые и новые сочетания сортов. Так вот, однажды вечером, не успел сей доморощенный литератор войти в лавку и огласить только что изобретенный рецепт табачного зелья, как появившийся следом за ним молодой денди приблизительно его лет вежливо улыбнулся Дайсону и попросил у табачника в точности такой же набор. Дайсон был глубоко польщен, и через несколько минут у них с новым посетителем завязался любезный разговор, а спустя час владелец лавки уже наблюдал, как новоиспеченные друзья сидят рядышком на пустой бочке и увлеченно предаются глубокомысленной беседе.
— Дорогой сэр! — говорил Дайсон. — Я позволю себе обозначить цель настоящего писателя всего лишь одной фразой. Придумать чудесную историю и чудесно рассказать ее — вот и все, что он должен сделать.
— Я признаю вашу правоту, — отвечал мистер Филиппс, — но позвольте и мне обратить ваше внимание на то обстоятельство, что в руках истинного художника всякая история замечательна и всякое обстоятельство неповторимо и чудесно. Содержание само по себе мало что значит — все зависит от того, как его подать. Высочайшее мастерство в том и заключается, чтобы взять заведомо заурядный материал и при помощи высокой алхимии слова превратить его в чистое золото искусства.
— Но это будет только мастерство! Причем мастерство, использованное глупо пли, по крайней мере, необдуманно. Представьте себе великого скрипача, вознамерившегося показать, какие удивительные звуки он может извлечь из игрушечного детского банджо!
— Нет-нет, вы не правы. Я вижу, у вас совершенно превратное представление о жизни. Надо бы нам как-нибудь собраться и основательно потолковать об этом. Знаете что, пойдемте ко мне! Я живу совсем рядом.
Так мистер Дайсон стал приятелем мистера Чарлза Филиппса, проживавшего на тихой площади неподалеку от Холборна. С тех пор они стали более или менее регулярно наведываться друг к другу и назначать встречи в лавке на Куин-стрит, где своими беседами отравляли хозяину радость материальной выгоды: он предпочел бы, чтобы они сидели и курили молча.
Между приятелями шел постоянный спор о литературе: Дайсон отстаивал права чистого воображения, а Филиппс, который изучал естественные дисциплины и в глубине души считал себя этнологом, настаивал на том, что всякая литература должна иметь научное обоснование. Проявив перед смертью неразумную щедрость, родственники обоих молодых людей оставили им достаточно денег, дабы те могли посвятить жизнь размышлениям о высоких материях и не заботиться о таких мелочах, как хлеб насущный.
Однажды июньским вечером мистер Филиппс сидел в своей тихой комнате на площади Ред-Лайон. Он распахнул окно и, с удовольствием покуривая трубку, наблюдал за мельтешением жизни на улице. Было ясно, и отсвет заката долго раскрашивал вечернее небо. Розоватые сумерки летнего вечера соперничали с газовыми фонарями на площади, создавая причудливую игру света и тени, в которой таилось нечто неземное: сновавшие по тротуару дети, беспечные гуляки у дверей бара и просто случайные прохожие казались скорее бликами света, нежели существами из плоти и крови. Постепенно в домах напротив одни за другим вспыхивали окна, кое-где на слепящем фоне появлялся и тут же исчезал темный силуэт. Подходящим фоном для всей этой полутеатральиой декорации была итальянская оперная музыка, которую где-то неподалеку наигрывала невидимая пианола. Завершал звуковое оформление вечера несмолкающий глухой шум уличного движения.
Филиппс наслаждался открывавшимся из окна видом и происходившими в нем переменами — вот свет в небе померк, и улица погрузилась во тьму. Площадь постепенно затихла, а Филиппс все сидел у окна и мечтал, пока резкий звон дверного колокольчика не вернул его к действительности. Глянув на часы, Филиппс обнаружил, что уже больше десяти. В дверь постучали. Дождавшись разрешения, в комнату вошел мистер Дайсон, уселся, по своему обыкновению, на подлокотник кресла и молча закурил.
— Вы знаете, Филиппс, — сказал он через некоторое время. — Меня всегда привлекали загадочные стороны жизни. Вы же, помнится, сидя в этом самом кресле, доказывали, что литературе не следует обращаться к чудесному и задерживаться на всякого рода странных стечениях обстоятельств, ибо чудесное и невероятное, как правило, в жизни не случается и жизнь человеческая определяется не этим. Пусть так, но я все равно не согласен с вами, ибо считаю метод "критики жизни" бессмысленным. А теперь я готов опровергнуть и ваши исходные посылки. Сегодня вечером со мной произошло нечто необычное.
— Рад слышать это, Дайсон. Я, разумеется, поспорю с вашими доводами, какими бы они ни были, но для начала соблаговолите рассказать о вашем приключении.
— Что ж, дело было так. День у меня выдался тяжелый: часов с семи вчерашнего вечера я ни на секунду не отошел от своего старого бюро. Хотел поработать над той идеей, что мы обсуждали в минувший вторник, — о фетишизме, припоминаете?
— Да, конечно. Удалось вам что-нибудь из нее выжать?
— Получилось даже лучше, чем я ожидал, но трудности пришлось преодолеть немалые. Впрочем, вы же знаете — обычные творческие муки при воплощении замысла. Короче, к семи вечера я закончил рассказ и подумал, что было бы неплохо выйти на свежий воздух. Я бесцельно бродил по улицам, не очень-то замечая, куда иду. Сначала забрел в тихое местечко к северу от Оксфорд-стрит — это на западе, если идти от вашего дома. Знаете, эдакий благопристойный жилой квартал, царство лепнины и сытого довольства. Потом свернул на мрачную, плохо освещенную улочку. В тот момент я не имел ни малейшего понятия, где нахожусь, но впоследствии выяснил, что это место расположено неподалеку от Тоттенхем-Корт-роуд. Итак, я бездумно шагал вперед и наслаждался покоем. На одной стороне улицы располагались подсобки какого-то крупного магазина — ряд пыльных окон, уходящих в ночь, похожие на виселицы подъемники, плотно затворенные и запертые на засов массивные двери. Далее замаячил огромный мебельный склад, за ним вдоль дороги потянулась мрачная глухая стена, отвратительная, как тюремная ограда, следом — казармы какого-то очередного добровольческого полка, и в завершение всего этого — проулок, выведший меня ко двору, где стояли наемные экипажи. То была абсолютно необитаемая улица — ни в одном окне я не заметил ни проблеска света. Я стоял и удивлялся странному покою и пустынности этого места, хотя совсем неподалеку находилась одна из главных улиц Лондона. Вдруг я услыхал топот бегущих ног. Спустя мгновение прямо перед моим носом, будто выпущенный из катапульты, возник какой-то человек. Он пронесся мимо, но прежде чем исчезнуть, швырнул что-то на мостовую. Незнакомец уже свернул за угол, когда я понял, что произошло. Однако его судьба меня мало волновала. Как я сказал, он выкинул на бегу какой-то предмет, в серых вечерних сумерках показавшийся мне маленькой яркой кометой. Подрагивая и блистая, она летела вдоль тротуара, и я, не устояв, ринулся за ней. Наконец я увидел, как похожий на яркую полупенсовую монетку предмет упал на край тротуара и, постепенно теряя скорость, покатился к сточной канаве. Вот он завис на краю… и провалился в водосток! Тут я, кажется, вскрикнул от отчаяния — хотя и не имел ни малейшего понятия о том, за чем охочусь. Нагнувшись над водостоком, я, к радости своей, увидел, что таинственный предмет вовсе не провалился сквозь решетку, а упал на ее прутья. Я подхватил его, сунул в карман и собрался было идти дальше, как вдруг снова услышал топот ног. Не знаю, что меня так напугало, но только я тут же юркнул под навес конюшни, где и затаился. И в то же мгновение в нескольких шагах от меня пронесся свирепого вида мужчина. Нужно сказать, я от всей души возрадовался, что у меня достало ума спрятаться. Я не смог толком разглядеть этого человека, но недобрый блеск глаз, звериный оскал зубов и здоровенный нож в руке навсегда отпечатались у меня в памяти. Да, подумал я, плохи будут дела первого джентльмена, если второй — неважно, грабитель или ограбленный — настигнет его. Могу вам признаться, Филиппс, охота на лис действует на меня возбуждающе: зимнее утро дышит свежестью, пронзительным голосом трубит рог, заливаются лаем гончие, палят в воздух "красные мундиры"[66]. Но все это ничто по сравнению с охотой на человека, а именно ее мне и удалось мельком увидеть сегодня вечером. В глазах второго мужчины ясно читалось намерение убить, а разрыв между преследователем и его жертвой был не больше минуты. Остается надеяться, что первый джентльмен неплохо бегает.
Дайсон откинулся в кресле, вновь раскурил трубку и, выпуская клубы дыма, погрузился в размышления. Филиппс же принялся расхаживать по комнате, обдумывая сложившийся у него в голове сюжет истории, в которой фигурировали насильственная смерть, погоня, сверкание ножа в свете фонарей, ярость преследователя и ужас преследуемого.
— Хорошо, — вдруг сказал он. — Так что же это, в конце концов, было? Я имею в виду, что вы подняли с решетки?
Дайсон в явном замешательстве вскочил на ноги.
— Понятия не имею! Я и не взглянул! Ну ничего, сейчас посмотрим.
Он пошарил по карманам, извлек на свет божий маленький сверкающий предмет и положил его на стол. В глаза приятелям ударил сияющий блеск старинного золота. Изображение и буквы на монете проступали рельефно, ясно и четко — казалось, еще и месяца не прошло, как она выкатилась с монетного двора. Филиппс взял ее в руки и принялся внимательно рассматривать.
— Imp. Tiberius Caesar Augustus, — прочел он надпись, затем в изумлении взглянул на обратную сторону монеты и, наконец, с ликующим видом повернулся к Дайсону. — Знаете, что это такое? — спросил Филиппс.
— Очевидно, довольно древняя золотая монета, — невозмутимо ответил Дайсон.
— Вот именно! Это "Золотой Тиберий". Вернее, это уникальный, единственный и неповторимый "Золотой Тиберий". Вы только взгляните на обратную сторону!
На реверсе монеты была отчеканена фигурка фавна, стоящего в тростнике среди водных струй. Несмотря на мелкие черты, лицо фавна было выполнено очень изящно и казалось одновременно привлекательным и отталкивающим. Дайсон вспомнил легенду о том, как рядом с одним мальчиком рос себе и рос его наперсник, товарищ но детским играм, а потом в воздухе вдруг резко запахло козлиным духом.
— Что ж. — сказал он, — любопытная монета. Вы что-то о ней знаете?
— Кое-что слышал. Это одна из немногих сохранившихся исторических реликвий, и о ней рассказывают массу легенд. Предание гласит, что в ознаменование небывалого военного успеха но приказу Тиберия была отлита особая серия монет. Посмотрите — здесь, на обратной стороне, оттиснуто "Victory"[67]. Рассказывают, что но какой-то невероятной случайности вся серия угодила в тигель, и лишь одна монета уцелела. С тех пор она путешествует по векам и континентам, всплывая примерно раз в столетие. Когда-то она была обнаружена одним итальянским гуманистом, вновь утеряна, вновь обнаружена, и так без конца. Последний раз о "Золотом Тиберии" слышали в 1727 году, когда некий Джошуа Берд, купец, имевший дела с Турцией, привез эту монету из Алеппо. Так вот, он показал ее местному знатоку древностей — и тут же исчез вместе с ней неведомо куда. И вот она здесь! Джошуа Берд теперь уж вряд ли найдется, а монета нашлась.
Немного помолчав, Филиппс добавил:
— Спрячьте-ка ее поскорее в карман. На вашем месте я бы держал ее подальше от посторонних глаз, да и вообще словом бы о ней не обмолвился. Кто-нибудь из тех двоих видел вас?
— Вряд ли. Первый, вылетевший на меня из темного проулка, — едва ли вообще различал, что творится вокруг. Меня он и подавно не заметил.
— Вы их тоже толком не разглядели. Доведись вам завтра встретить кого-нибудь из них на улице, вы бы узнали?
— Вряд ли. Я же говорил, улица была плохо освещена, а они бежали как сумасшедшие.
Некоторое время друзья сидели молча, обдумывая происшедшее. В голове у Дайсона роились самые фантастические мысли.
— Все это более чем странно, — сказал он наконец. — Просто невероятно! Прогуливаешься себе по самой заурядной лондонской улочке, бредешь в тишине и покое вдоль серых домов и глухих стен — и вдруг, в одно мгновение, с нее словно маску сорвали: из-под каменных плит валит дым преисподней, земля под ногами раскаляется добела, а откуда-то из-за спины начинает доноситься клокотанье адского котла. Обуянный безумным страхом за свою жизнь, перед вами проносится человек, а за ним, по горячему следу, мчится с ножом наготове отчаянная злоба. Ужас, да и только! Но как все это увязать с тем, что вы рассказали про монету? Уверяю вас, Филиппс, закручивается очень лихой сюжет! Отныне нашей спутницей станет тайна, и самые повседневные события исполнятся особого смысла. Путеводная нить — путаная, если вам нравятся дурные каламбуры, — волей случая вложена нам в руки, и теперь остается лишь следовать за ней. Что до виновника — пли виновников — этого странного происшествия, то им от нас не уйти. Наши сети раскинутся по всему громадному городу, и настанет миг, когда на улице или в баре мы так или иначе встретимся с мистером Неизвестным. Я уже вижу, как он медленно приближается к вашей тихой площади — вот он замешкался на перекрестке, затем, явно без всякой цели, двинулся по центральной улице. Он все ближе и ближе — его притягивает к нам неведомая сила вроде той, что в одной восточной сказке притягивает к скале корабль.
— Что ж, — ответил Филиппс, — если вы начнете вертеть этой монетой перед носом у каждого встречного и поперечного, как это было сейчас, то весьма вероятно, что вы очень скоро добьетесь своего. Вас, несомненно, ограбят — причем самым жестоким образом. Однако если вы будете сидеть тихо, то у вас не возникнет оснований для беспокойства. Никто не видел, как вы подобрали монету, никто не знает, что она у вас. Я лично намереваюсь спать спокойно и заниматься своими делами с непоколебимой уверенностью в естественном ходе вещей. События сегодняшнего вечера, должен признаться, представляются мне весьма странными, но я решительно отказываюсь иметь к этому какое бы то ни было отношение, а если понадобится, обращусь в полицию. "Золотому Тиберию" меня не закабалить, пусть он и пробрался в мой дом довольно-таки мелодраматическим способом.
— Что же касается меня, — сказал Дайсон, — то я отправляюсь навстречу судьбе, словно странствующий рыцарь в поисках приключений. Только искать мне не придется — приключение само найдет меня. Я же буду настороже, словно притаившийся в сердце паутины и чуткий к малейшему движению паук.
Вскоре Дайсон ушел, и мистер Филиппс употребил остаток ночи на изучение приобретенных им накануне кремниевых наконечников. У него были все причины полагать, что их изготовили руки современника, а не человека эпохи палеолита. И все же он отнюдь не обрадовался, убедившись, что его подозрения обоснованны. Возмущаясь низостью, с коей некоторые жулики околпачивают достойных этнологов. Филиппс вскоре позабыл как о Дайсоне, так и о "Золотом Тиберии", и когда с первыми лучами солнца он отправился спать, вся эта история начисто вылетела у него из головы.
Случайная встреча
Мистер Дайсон, прохаживаясь по Оксфорд-стрит и рьяно выискивая все, что только могло привлечь внимание, упивался чувством полной погруженности в работу. Наблюдение за родом человеческим, за уличным движением и витринами магазинов будоражило его творческую натуру. На лице Дайсона была написана сосредоточенность человека, обремененного непомерной тяжестью ответственности за все происходящее в мире. Он пристально всматривался в окружающие предметы, боясь упустить из виду что-нибудь значительное. На перекрестке его едва не сбил груженый фургон, но Дайсон не любил торопиться, да и день выдался теплый.
Вскоре его внимание привлекло необычное поведение хорошо одетого мужчины на противоположной стороне улицы. Экипажи, кареты, кэбы, омнибусы в три ряда сновали с востока на запад и с запада на восток, и даже самый отчаянный смельчак, увенчанный лаврами чемпиона по преодолению перекрестков, не стал бы испытывать здесь свою судьбу. Но человеку, привлекшему внимание Дайсона, было на это явно наплевать. Он просто бесновался на краю тротуара: то и дело кидался навстречу мгновенной смерти и, раз за разом отбрасываемый назад, прямо-таки приплясывал от возбуждения — к вящему удовольствию зевак. Наконец, улучив момент, когда в сомкнутых рядах экипажей образовалась жалкая брешь, которой прельстился бы разве что какой-нибудь беспризорник, человек отчаянно рванулся через дорогу и, чудом избежав колес по крайней мере двадцати грохочущих убийц, с лету набросился на Дайсона.
— Не вздумайте отрицать — я видел, как вы глазели по сторонам! — с жаром заговорил незнакомец, сгорая от нетерпения. — Скажите, тот человек, что три минуты назад вышел из булочной и прыгнул в экипаж, был моложавого вида, в очках и с черными усиками? Вы что, язык проглотили? Ради всего святого, не молчите! Да говорите же! Отвечайте же, речь идет о жизни и смерти!
Слова булькали и клокотали у него во рту. Судя по всему, этого нервного человека обуревало сильнейшее волнение — его бросало то в жар, то в холод, а на лбу проступили бисеринки йота. Незнакомец переминался с ноги на ногу, беспрестанно теребил сюртук и временами хватался за горло, словно его что-то душило.
— Дорогой сэр, — ледяным тоном произнес Дайсон, — да будет вам известно, что я во всем люблю точность. Ваше наблюдение было абсолютно верным. Как вы изволили выразиться, моложавый человек — я бы сказал, человек довольно-таки достойного вида — только что выбежал из этого магазина и вскочил в кэб, который, должно быть, поджидал его, ибо кучер тут же стегнул лошадей и погнал экипаж в восточном направлении. Молодой человек, как вы опять-таки верно заметили, был в очках. Не желаете ли, чтобы я нанял для вас экипаж? Вы могли бы последовать за тем джентльменом.
— Нет, благодарю вас. Это будет пустой тратой времени.
Собеседник Дайсона сглотнул подкативший к горлу ком и
ни с того ни с сего истерически захохотал, привалясь к фонарному столбу и раскачиваясь, словно корабль в бурю.
— Как я посмотрю в глаза доктору? — забормотал он, от-хохотавшисъ и рассеянно потирая лоб. — Это же надо — упустить в самый последний момент!
Затем он взял себя в руки, выпрямился и спокойно посмотрел на Дайсона.
— Прошу извинить меня за грубость. Не многие на вашем месте проявили бы такое терпение. Смею ли я чуть дольше рассчитывать на ваше благорасположение и просить вас немного прогуляться со мной? В идите ли, мне что-то не по себе — от жары, наверное.
Дайсон согласно кивнул и, воспользовавшись предоставившейся возможностью, повнимательнее разглядел своего необычного спутника. Одет тот был безупречно — самому придирчивому наблюдателю не удалось бы найти в его костюме каких-либо изъянов но части моды или покроя, — но тем не менее вся одежда этого человека, начиная с головного убора и кончая ботинками, выглядела разнородной. Высокий котелок странного фасона имел потертый вид, то же можно было сказать и о мешковатом сюртуке, и Дайсону пришло в голову, что, пожалуй, у его спутника нет даже чистого носового платка. Да и лицо у этого субъекта было не из приятных, и едва ли его делали краше пышные рыжеватые бакенбарды, сросшиеся с такого же цвета усами.
И все же Дайсон чувствовал, что, несмотря на вульгарный вид, человек этот гораздо глубже, чем казался на первый взгляд. Он явно вел какую-то внутреннюю борьбу: отчаянно стараясь держать под контролем свои чувства, он то и дело поддавался приступам дикой страсти, искажавшей его лицо и заставлявшей до хруста в костяшках сжимать кулаки, когда сей странный джентльмен пытался удержать остаток воли. Дайсон с любопытством и с беспокойством наблюдал, как некое звериное чувство борется за обладание человеком, грозя прорваться наружу.
Впрочем, прошло немного времени, и человек вышел победителем из этой борьбы.
— Вы действительно очень добры, — произнес спутник Дайсона. — Я вновь приношу свои извинения. Моя грубость была проявлением недостойной слабости. Я понимаю, что мое поведение требует объяснений, и охотно готов представить их.
Вы, часом, не знаете тут поблизости какое-нибудь тихое местечко, где можно было бы посидеть в покое и прохладе? Я был бы счастлив, если бы вы составили мне компанию.
— Дорогой сэр, — торжественно обратился к нему Дайсон, — в двух шагах отсюда находится лучшее кафе в Лондоне. Умоляю вас, не считайте себя обязанным давать мне какие-либо объяснения! Однако, если у вас есть такое желание, я буду рад выслушать их. Давайте свернем сюда!
Они двинулись вниз по тихой улочке в сторону распахнутых решетчатых ворот. Проулок за воротами был вымощен каменными плитами и обрамлен аккуратно постриженными кустиками в кадках. Тень от высокой стены давала прохладу, которая обоим джентльменам пришлась весьма кстати после зноя залитой солнцем улицы.
Проулок выходил на крохотную площадь — чудное местечко, эдакий кусочек Франции, перенесенный в сердце Лондона. Площадь замыкали увитые глянцевой зеленью стены, под ними были разбиты низкие клумбы, пестревшие настурциями, календулой и душистой резедой, а в самом центре красовался маленький фонтан, выбрасывавший к небу прохладные переливчатые струи, с уютным плеском падавшие обратно.
Столики, окруженные стульями, были расставлены на удобном расстоянии друг от друга. В противоположном конце дворика виднелись широкие распахнутые двери, а уже за ними простирался длинный темный зал, в котором уличный шум сменялся негромким шелестом. В зале сидели и попивали вино из запотевших бокалов немногочисленные посетители. Двор был пуст.
— Вот видите, тут нам будет покойно, — сказал Дайсон. — Прошу вас, присаживайтесь, мистер?..
— Уилкинс. Генри Уилкинс.
— Присаживайтесь, мистер Уилкинс. Полагаю, вам не доводилось бывать тут прежде? В это время здесь затишье, но к шести часам кафе превратится в улей и столики со стульями будут стоять даже вон на той аллее.
На звон колокольчика явился официант, и Дайсон, предварительно самым вежливым образом осведомившись о здоровье мистера Энниболта, владельца кафе, заказал бутылку шампиньи.
— Шампиньи, — объяснил он заметно успокоившемуся под воздействием благостной обстановки мистеру Уилкинсу, — производится в Турени и обладает неизмеримым количеством достоинств. Позвольте наполнить ваш бокал. Попробуйте!
— И впрямь! — с видом ценителя произнес мистер Уилкинс, сделав изрядный глоток. — Я бы назвал его усовершенствованным бургундским. Букет изысканнейший. Какое везение — в наши дни встретить такого доброго самаритянина, как вы! Интересно, считаете вы меня сумасшедшим или нет? Но если бы вы только знали обо всех обрушившихся на меня ужасах, вы бы не стали больше удивляться моему странному поведению.
Мистер Уилкинс еще раз отпил вина и откинулся на спинку стула, наслаждаясь журчанием фонтана и прохладной зеленью, окаймлявшей этот приют отдохновения.
— Да, — повторил он, — вино действительно восхитительное. Благодарю вас. Позвольте же и мне предложить вам бутылочку.
Он позвал официанта. Тот спустился в видневшийся прямо посреди полутемного зала люк и через минуту принес вино. Мистер Уилкинс зажег сигарету, а Дайсон закурил свою любимую трубку.
— Так вот, — сказал немного погодя мистер Уилкинс, — я обещал разъяснить свое странноватое поведение. Это довольно-таки долгая история, но вы, сэр, как я вижу, не относитесь к числу бесстрастных зрителей, замечающих приливы и отливы жизни лишь потому, что их самих угораздило когда-то появиться на этом свете. Мне кажется, что вам свойственно теплое и заинтересованное участие в судьбах ближних. А потому надеюсь, что вам будет небезынтересно то, что я расскажу.
Мистер Дайсон выразил свое согласие с этим предположением и, примирившись с присущей мистеру Уилкинсу напыщенной манерой выражаться, приготовился слушать. Рассказчик же, за полчаса до того кипевший безумными страстями, теперь был на удивление спокоен. Докурив сигарету, он ровным голосом начал.
Повесть о темной долине.
Мой отец был бедным, но хорошо образованным священником, возглавлявшим приход на западе Англии. Я постараюсь опустить ненужные подробности и упомяну лишь, что при всей своей учености он не сумел освоить то нехитрое искусство, при помощи которого люди подольщаются к сильным мира сего, а равно и не опустился до презренного самовосхваления. Хотя его привязанность к старым обрядам и причудливым обычаям, сочетавшаяся с редкой добросердечностью и прямодушной, истовой верой в Господа, и внушила прихожанам из окрестных вересковых пустошей любовь к нему, для успешного восхождения к высотам церковной иерархии требовались совсем другие качества, а потому в свои шестьдесят лет отец по-прежнему оставался священником маленького прихода, который получил еще на тридцатом году жизни. Его доходов хватало ровным счетом на то, чтобы поддерживать видимость благопристойности, подобающей англиканскому пастырю, и когда несколько лет назад отец тер, я, его единственный сын, оказался выброшенным в мир с ничтожным капиталом — около сотни фунтов — и полным набором житейских проблем.
В родных местах мне делать было решительно нечего, и, как это обычно бывает с молодыми людьми, оказавшимися в моем положении, меня стал неудержимо манить Лондон. И вот в одно августовское утро, когда роса еще сверкала на зеленых склонах, сосед повез меня в своем экипаже на станцию. Я простился с землей вересковых пустошей и диких скал, что вздымались тут и там, как мифологические титаны, заколдованные в самый разгар своей великой битвы.
В Лондон я приехал ранним утром. Удушливый болезнетворный дым актонского[68] кирпичного завода клубами врывался в открытое окно вагона, от земли поднимался пар. Беглого взгляда, брошенного на сменяющие друг друга чопорные и однообразные улицы, было достаточно, чтобы впасть в уныние. Горячий воздух, казалось, раскалялся все больше и больше, а когда поезд покатил мимо мрачных, убогих домов Паддингтона[69], я едва не задохнулся от тяжкого дыхания Лондона.
Я нанял экипаж и поехал прочь от вокзала. С каждой минутой уныние мое возрастало: навстречу мне бесконечной чередой вставали серые громады домов с опущенными шторами на окнах, узкие переулки, в глубине которых не было видно ни души, грязные улицы с едва волочившими ноги прохожими… На ночь я устроился в маленькой гостинице близ Стрэнда[70], в которой неизменно останавливался отец во время своих коротких наездов в столицу.
Прогуливаясь после обеда по Стрэнду и Флит-стрит, я чувствовал, как царившая там суета и неумеренная веселость еще больше угнетают меня. Я все время помнил о том, что в этом громадном городе не было ни одного человека, которого я мог назвать хотя бы случайным знакомым. Не буду утомлять вас изложением событий того года — история опускающегося человека слишком банальна, чтобы тратить на нее ваше драгоценное время. Денег мне хватило ненадолго: выяснилось, что здесь следует хорошо одеваться, иначе никто не станет вас слушать, и проживать на улице с приличной репутацией, иначе вы не можете даже рассчитывать на хорошее отношение к себе.
Я попытался было заняться работой, к которой, как тут же выяснилось, у меня не было ни малейших способностей: не имея никакого представления о ведении дел, я устроился клерком в одну вполне процветающую контору, но с огорчением обнаружил, что основательное знание литературы плюс отвратительный почерк не пользуются почетом в коммерческих кругах. Прочитав самую удачную книгу одного современного романиста, я зачастил в бары на Флит-стрит, надеясь обзавестись литературными знакомствами и заручиться рекомендациями, без которых, как я быстро усвоил, в литературной карьере не обойтись. Но и здесь меня ждало разочарование: раз-другой я осмелился обратиться к джентльменам, сидевшим за соседними столиками, но мне достаточно вежливо давали понять, что навязываться нехорошо.
Фунт за фунтом таяли мои средства — я больше не мог в достаточной мере заботиться о своей внешности, переехал в укромный и далеко не фешенебельный закоулок, а трапезы мои превратились в пустую формальность. Я выходил из дому в час дня и возвращался в два, но этот промежуток не был заполнен ничем, кроме стакана молока и сухой булки. Вскоре я узнал, какими бывают настоящие невзгоды, и, сиживая в Гайд-парке[71] на грязном крошеве талого снега и льда, осознал всю горечь нищеты и всю унизительность положения джентльмена, превратившегося в бродягу.
Я все время искал какой-нибудь заработок. Я просматривал все объявления, цеплялся за любой представлявшийся случай, наведывался в лавки книготорговцев — но все впустую.
Однажды вечером, сидя в публичной библиотеке, я увидел в одной из газет примерно такое объявление: "Джентльмену требуется человек с литературными наклонностями для работы в качестве секретаря и переписчика. Претендент должен быть готов к долгим путешествиям". Конечно же, я понимал, что на подобное объявление отзовется добрая сотня таких же бедолаг, как я, и шанс получить место ничтожно мал, но все же тщательно переписал указанный в объявлении адрес и отправил письмо с моими данными мистеру Смиту, проживавшему в уэст-эндском "Космоноле".
Признаюсь, что, когда через пару дней я получил записку, в которой меня просили заглянуть в "Космополь" при первой же возможности, сердце мое бешено забилось от внезапно нахлынувшей надежды. Не знаю, сэр, какой жизненный опыт у вас за плечами, не знаю, бывали ли у вас такие мгновения. На меня накатила легкая дурнота, и я почувствовал, что у меня перехватило горло. Я не мог выдавить из себя ни слова и вынужден был произнести имя мистера Смита дважды, прежде чем портье понял меня. Я поднимался наверх и чувствовал, как у меня предательски потеют ладони.
Внешность мистера Смита меня обескуражила: он выглядел моложе меня и в выражении его лица было что-то неуловимо уклончивое.
— Мистер Уилкинс? — уточнил он. — Очень рад видеть вас. Я тщательно изучил ваше послание. Как я понимаю, писали вы его сами. Это ведь ваш почерк?
Я ответил, что дела мои не так хороши, чтобы держать секретаря.
— В таком случае, — продолжал он, — вы получаете место, о котором шла речь в объявлении. У вас, надеюсь, нет возражений против того, чтобы отправиться в путешествие?
Можете себе представить, с какой радостью я принял это предложение! Так я поступил на службу к мистеру Смиту. Первые недели у меня не было никаких особых обязанностей. Я сразу же получил квартальное жалованье, а вместо пансиона мне была назначена отменная надбавка.
Однажды утром, когда я зашел в отель, чтобы получить новые указания, мой работодатель сообщит, что мне следует подготовиться к путешествию за море. Опуская ненужные подробности, скажу лишь, что по прошествии двух недель мы высадились в Нью-Йорке. Мистер Смит рассказал мне, что ему предложили дело особого рода, для выполнения которого потребуются некоторые необычные изыскания. Немного позднее он дал мне понять, что мы отправляемся на Запад — на самый что ни на есть дикий Запад.
Проведя неделю в Нью-Норке, мы сели в поезд и отправились в западном направлении. Это было очень утомительное путешествие. День за днем, ночь за ночью двигался вперед, длинный состав, прокладывая себе путь через города, названия которых коробили мой британский слух, на малой скорости скользил поезд по опасным виадукам, огибал горные цепи и хвойные леса. Миля за милей, час за часом нашему взору являлись одни и те же скучные пейзажи, а беспрерывный стук и противное лязганье колес по скверно уложенным путям терзали наш слух, начисто заглушая голоса попутчиков.
Компания в вагоне была разношерстная — наши попутчики постоянно менялись. Частенько я просыпался посреди глубокой ночи от резкого скрежета тормозов и, выглянув в окно, обнаруживал, что мы стоим на убогой улочке наспех построенного городка, освещенного по большей части яркими окнами салунов. На поезд обычно выходили поглазеть местные жители — все как один грубые и неотесанные с виду люди. Горстка пассажиров покидала вагон — их место занимали другие.
На Запад ехало много англичан — скромных тружеников, вырванных из вересковых пустошей, где тысячелетиями жили их предки, и заброшенных в весьма сомнительный рай, по большей части состоящий из солончаков да предгорий. Я слышал, как англичане говорили между собой о великой выгоде, которую можно извлечь из девственной земли Америки, и вовсю разглагольствовали о немыслимых заработках квалифицированных рабочих на железных дорогах и фабриках Соединенных Штатов. Обычно такие разговоры длились не более нескольких минут, а потом эти люди умолкали и принимались мрачно взирать на уродливый кустарник или пустынную ширь прерий с редкими поселениями из щитовых домиков. И за все это время нам не попалось ни садика, ни цветка, ни деревца — повсюду простиралось одно лишь безбрежное, стыло-неподвижное, седое море травы.
Неизменно зазубренная линия горизонта и дикая пустынность земли, не ведавшей ни формы, ни цвета, ни разнообразия, вселяли страх в сердца моих соотечественников, и как-то ночью, лежа с открытыми глазами, я услышал рыдания женщины, со слезами вопрошавшей: за какие грехи ей довелось угодить в такие ужасные места? Муж (судя но выговору, уроженец Глостершира) пытался успокоить ее. Он горячо внушал ей, а может быть, и самому себе, что в этих ужасных местах очень плодородная почва — только вспаши ее и брось семя, как подсолнухи наперегонки полезут из земли! Но женщина продолжала рыдать, вспоминая мать, старый уютный домик и окружавшие его маленькие ульи — жилища трудолюбивых британских пчел.
Общий печальный настрой передался и мне. Я был неспособен рассуждать на какие-либо отвлеченные темы, а потому вполне естественный вопрос, касающийся того, что мистер Смит мог делать в эдаком краю и какого рода литературные разыскания можно было проводить в такой дикой местности, волновал меня мало. Порою мной овладевало ощущение двусмысленности моего положения: я был нанят в качестве литературного секретаря, мне выплачивалось отменное жалованье, но при этом мой хозяин оставался для меня незнакомцем. Иногда он подходил ко мне и отпускал пару банальных замечаний об Америке, но большую часть пути молча сидел в своем купе, погрузившись в собственные думы.
Примерно на пятый день пути мистер Смит сообщил, что мы почти приехали. Я как раз печально взирал на громоздившиеся вдали унылые горы и удивлялся тому, как на свете находятся настолько несчастные люди, что понятие "дом" у них связывается с этими беспорядочными нагромождениями скал, — и тут мистер Смит легонько тронул меня за плечо.
— Мистер Уилкинс, вы, конечно же, будете рады распрощаться с этим отвратительным поездом? — спросил он. — Вы, как вижу, любуетесь теми скалами на горизонте? Так вот, вечером мы как раз будем там. Поезд останавливается в Рединге, а дальше мы уж как-нибудь доберемся.
Через несколько часов поезд неторопливо подошел к платформе станции в Рединге. Этот городок, хоть и состоявший почти целиком из щитовых домиков, оказался больше и оживленнее тех, что мы проезжали в последние два дня. На станции было многолюдно — когда прозвонил колокол и прозвучал свисток, я увидел, что многие наши попутчики здесь сходят. Но еще больше людей ожидало посадки. На станции толпились встречающие, провожающие, какие-то непонятные чиновники, а то и просто зеваки.
В Рединге вышли некоторые англичане, с которыми я успел познакомиться, но крутом была такая толчея, что я мигом потерял их из виду. Мистер Смит кивком приказал мне следовать за ним, и мы принялись протискиваться через толпу. У меня раскалывалась голова от непрестанного звона колокола, людского гомона, свистков и шипения выпускаемого пара. Стараясь не отстать от моего хозяина, я судорожно пытался сообразить, куда мы идем и как отыщем дорогу в незнакомом краю.
Перед выходом на перрон мистер Смит водрузил на голову широкополую шляпу, низко надвинув ее на глаза. А поскольку все здешние мужчины носили точно такие же шляпы, то различить его в толпе было нелегко.
Наконец мы выбрались со станции. Мой хозяин нырнул в одну из боковых улочек и принялся петлять по заброшенной окраине. Смеркалось, на плохо освещенных разбитых тротуарах люди попадались редко, а те, кого мы встретили, имели самый нерасполагающий к доверию вид.
Довольно скоро мы остановились около углового дома. Маячивший в дверном проеме мужчина явно кого-то поджидал, и я заметил, как они с мистером Смитом обменялись выразительными взглядами.
— Мистер из Нью-Йорка, как я понимаю?
— Из Нью-Йорка.
— Порядок. Они готовы — забирайте! Похоже, я не прогадал, связавшись с вами.
— Предчувствия, мистер Эванс, вас не обманули. Не обманем и мы. Заплатим хорошо. Выводите.
Я молча слушал этот загадочный диалог. Смит нетерпеливо расхаживал по улице, а по-прежнему стоявший в дверях Эванс громко свистнул и принялся неторопливо разглядывать меня с ног до головы, словно стараясь удостовериться, что в следующий раз непременно узнает меня в лицо. Пока я ломал себе голову над тем, что все это значит, из бокового проулка вышел неказистый сутулый парень, держа на поводу двух костлявых лошадей.
— Садитесь, мистер Уилкинс, да поживее! — сказал мистер Смит. — Нам уже давно пора трогаться.
И мы бок о бок поскакали в сгущавшуюся тьму. Напоследок я оглянулся на широкую равнину, посреди которой тускло мерцали огни городка. Впереди высились черные горы. Смит направлял свою лошадь по едва заметной тропе так уверенно, словно гарцевал по Пиккадилли; я едва поспевал за ним. Я устал, выдохся, ничего не замечал вокруг и чувствовал только, что постепенно тропа забирает вверх. Изредка нам попадались разбросанные у дороги огромные валуны.
У меня в памяти мало что сохранилось от той поездки. Кажется, мы пересекли густой хвойный лес, где лошади с трудом находили дорогу между обломками скал. Припоминаю также легкое головокружение от разреженного воздуха, которое я почувствовал, когда мы взобрались на порядочную высоту.
Всю вторую половину пути я провел в полудреме, и немудрено, что я резко вздрогнул, услышав слова мистера Смита:
— Ну, вот мы и приехали, мистер Уилкинс. Это урочище Голубых Скал. Завтра вам представится возможность насладиться здешними красотами. А сегодня перекусим — и спать!
Из приземистого домика, окруженного кольцом сикоморов[72], вышел мужчина и принял лошадей. Внутри домика нас поджидало жареное мясо и дешевое виски.
Это странноватое место мне сразу же не понравилось. В доме было три комнаты: та, в которой мы ужинали, и наши со Смитом спальни. Прислуживавший нам глухой старик спал в некоем подобии сарая, притулившемся к задней стене дома.
Когда на следующее утро я проснулся и вышел на улицу, то обнаружил, что паши лошади привязаны посреди горной расщелины. Кругом группками росли сосны и сикоморы, а между ними вздымались ввысь громадные серо-голубые скалы — очевидно, именно поэтому местечко и называлось урочищем Голубых Скал. С,о всех сторон меня обступали горы, а когда я вскарабкался по ближайшему откосу и глянул вниз, то понял, что рассчитывать на встречу с человеческим существом здесь так же глупо, как и на необитаемом острове посреди Тихого океана.
Единственным намеком на присутствие в этих местах человека был скромный бревенчатый домик, в котором мы провели ночь. Тогда я еще не знал, что похожие домики разбросаны по долине на относительно близком расстоянии друг от друга — близком, естественно, по тамошним представлениям. А потому в тот момент на меня обрушилось чувство пол нейшего и ужасающего одиночества.
Воспоминание о бескрайней земле и необъятном океане, отделявших меня от привычного мира, сдавило мне грудь, и я всерьез обеспокоился возможностью закончить свои дни в этой забытой Богом лощине. То был страшный миг — он до сих пор стоит у меня перед глазами… Однако вскоре мне удалось совладать со страхом. Я внушил себе, что нужно быть готовым к любым испытаниям, и, кстати, постараться извлечь из всего предстоящего какую-нибудь пользу.
Жизнь в урочище текла, прямо скажем, весьма аскетично и однообразно. Я был всецело предоставлен самому себе. Со Смитом я едва виделся и даже не знал толком, дома он или нет. Часто бывало так: я полагаю, что мой хозяин в отъезде, а потом с удивлением вижу, как он выходит из комнаты, запирает дверь и кладет ключ в карман; а несколько раз, когда я пребывал в полнейшей уверенности в том, что мистер Смит сидит у себя в комнате, он входил в наружную дверь в запыленных от долгой езды сапогах. Так и повелось: я наслаждался и одновременно мучился праздностью, бесцельно бродя по долине, объедаясь да отлеживая бока на кровати.
Мало-помалу я привык к такой жизни, научился находить в ней приятные стороны и даже начал совершать дальние вылазки, изучая окрестности. Однажды я умудрился попасть в соседнюю долину и неожиданно наткнулся на горстку людей, сосредоточенно пиливших деревья.
Я подошел к ним в надежде, что среди них могут оказаться англичане. Даже если и нет, то все равно это были живые люди. Мне ужасно хотелось услышать живую человеческую речь, ибо старик, о котором я уже упоминал, оказался не только хромым, подслеповатым и глухим как пень, но к тому же еще и немым — со мной, во всяком случае. Я готовился услышать обычные грубоватые приветствия, не слишком любезные, но и не очень грубые, а встретил косые взгляды и невнятное бормотание сквозь зубы.
Я был поражен. Мужчины как-то странно переглянулись, а один, прервав работу, потянулся за ружьем. Мне пришлось повернуться и пойти своей дорогой, проклиная судьбу, забросившую меня в край, где люди были хуже зверья. Я почувствовал, что уединенная жизнь начала давить на меня — недаром же по ночам мне стали сниться кошмары.
Несколько дней спустя я решил отправиться на станцию, что располагалась в нескольких милях от нашего жилища, и там заглянуть в гостиницу для охотников и приезжих. Время от времени там ночевали английские джентльмены, и я надеялся повстречаться с человеком, который мог бы похвастаться чуть более изящными манерами, нежели те, что были присущи обитателям этого края. Как я и ожидал, у дверей гостиницы, представлявшей собой бревенчатый дом, прохлаждалось несколько мужчин.
Когда я подошел ближе, охотники разом подались плечами друг к другу и уставились на меня с холодной ненавистью и омерзением — так смотрят на отвратительную ядовитую змею. Это было невыносимо! Я не выдержал и крикнул:
— Да найдется здесь, в конце концов, англичанин или хотя бы один мало-мальски цивилизованный человек?!
Ближайший ко мне охотник схватился было за револьвер, но сосед остановил его и сказал мне:
— Слушайте, мистер! Клянусь, вы сами убедитесь, причем очень скоро, что и у нас тут имеются основы цивилизации и порядка. Полагаю только, встреча с ними вам не больно понравится… А англичанин здесь есть — охотится у нас. Уверен, что он будет рад на вас поглазеть. Да вот, кстати, и он. Мистер д’Обернаун.
В дверях гостиницы стоял молодой человек, одетый на манер сельского сквайра, и глядел на меня. Один из охотников ткнул пальцем в мою сторону и сказал:
— Вот тот самый человек, о котором мы вчера вечером толковали. Вы, сквайр, вроде как хотели посмотреть на него. Вот он и пожаловал.
Симпатичное лицо молодого англичанина помрачнело. Он твердо глянул мне в глаза, а затем отвернулся с выражением антипатии и презрения.
— Сэр! — воскликнул я. — Я не знаю за собой проступков, которые позволили бы так со мной обращаться! Вы мой соотечественник, и я вправе рассчитывать на некоторую любезность.
Англичанин кинул на меня злобный взгляд и хотел было уйти, но передумал и соизволил ответить:
— Вы ведете себя очень безрассудно, молодой человек. Не испытывайте нашего терпения, оно и так уже на исходе. И позвольте, сэр, сказать вам следующее: вы можете называть себя англичанином, втаптывая при этом в грязь доброе имя нашей нации, но вы не смеете рассчитывать на участие со стороны англичан. На вашем месте я бы тут долго не задерживался.
Он повернулся и скрылся в гостинице. Охотники спокойно наблюдали за выражением моего лица, а я стоял и думал: уж не сошел ли я с ума? Из дому вышла хозяйка и уставилась на меня как на дикого зверя.
Я повернулся к ней и тихо проговорил:
— Я очень проголодался и хочу пить. Я пришел издалека. У меня достаточно денег. Вы дадите мне поесть и попить?
— Нет, не дам, — сказала она. — Шли бы вы отсюда.
Я еле приплелся домой и, как подкошенный, рухнул в постель. Ярость, стыд, страх, усиленные полным непониманием ситуации, охватили меня, и к этим чувствам мало что прибавилось, когда на следующий день, проходя мимо одного из домов в близлежащей долине, я заметил, как игравшие на улице ребятишки при моем появлении с пронзительными криками бросились врассыпную.
Чтобы хоть чем-то занять себя, я был вынужден совершать дальние прогулки; сидя сиднем в урочище Голубых Скал и целыми днями глядя на горы, я бы попросту свихнулся. Кого бы я ни встречал на пути во время своих прогулок, меня одаряли исполненными ненависти и омерзения взглядами. И наконец настал тот день, когда, проходя по густым зарослям кустарника, я услышал выстрел и свист пули над ухом.
Как-то раз, присев передохнуть за торчавшей у самой дороги скалой, я услышал повергший меня в изумление разговор. Мимо шли двое мужчин. По воле случая им пришлось остановиться недалеко от меня — один из них запутался в побегах дикого винограда и принялся страшно ругаться, в то время как другой смеялся над ним, приговаривая, что таким цепким плетям иногда нет цены.
— Ты к чему это клонишь, черт тебя побери?
— Да так… Они в этих местах невероятно прочные, эти дикие лозы, а веревка нам скоро позарез понадобится.
Тот, что ругался, препротивно хмыкнул в ответ. Оба присели и закурили трубки.
— Ты давно его не видал?
— Попадался тут давеча. Жаль, пуля высоко маханула… Везунчик он, совсем как его хозяин. Ну ничего, недолго ему осталось. Слыхал, он к Джинксам заявлялся, наглость свою выказывал, да только молодой британец, скажу тебе, быстро ему глотку заткнул.
— И что ему, дьявол побери, понадобилось у Джинксов?
— Не представляю. Думаю только, е этим делом надо быстрее кончать. И сработать нужно по старинке. Знаешь, как с черномазыми разделываются?
— Да видал как-то: пара галлонов керосину, что продается в лавке у Брауна, и порядок. Почти задаром.
Они ушли, а я сидел, прижавшись спиной к скале, и обливался холодным потом. Я чувствовал себя так нехорошо, что едва держался на ногах, и домой доплелся, лишь опираясь на палку. Я понял, что те двое говорили обо мне и что мне уготована какая-то страшная смерть.
В ту ночь я не мог сомкнуть глаз, ворочался с боку на бок и мучительно пытался разобраться, что бы все это могло значить. Наконец посреди ночи я поднялся с постели, оделся и вышел из дому. Я не соображал, куда иду, чувствовал только — как животное, инстинктом, седьмым чувством, — что должен идти, пока не исчерпаю последние силы и не повалюсь на землю.
Стояла светлая лунная ночь, и часа через два я обнаружил, что приближаюсь к месту, пользовавшемуся дурной славой даже в этих чертовых горах, — глубокой расщелине, известной как Черная Пропасть. Много лет назад переселенцы-англичане, среди которых были и женщины, разбили здесь лагерь. Их окружили индейцы. Несчастные переселенцы были взяты в плен и после изощренных пыток преданы невероятно жестокой смерти. С тех пор охотники и дровосеки обходили расщелину стороной даже в дневное время.
Продираясь сквозь густой кустарник, который рос по краям расщелины, я услышал голоса. Испуганный и заинтригованный, я осторожно двинулся дальше. На самой верхушке скалы росло громадное дерево. Я лег подле него и осторожно выглянул из-за ствола. Подо мной лежала Черная Пропасть. Яркая лупа, стоявшая высоко в небе, освещала ее всю до последнего камушка. Островерхая скала отбрасывала черные, как смерть, тени, а отвесно нависший над расщелиной утес был целиком погружен во тьму. Временами лунный свет застилала легкая пелена — всякий раз как по лику луны паутиной пробегала туча, холодный ветер со свистом проносился по расщелине.
Глянув вниз, я увидел толпу человек в двадцать, полукругом обступившую скалу. Многих я знал — местные негодяи похлеще тех, что можно встретить в лондонских притонах; за ними числились убийства и еще более страшные грехи. Лицом к этой толпе стоял мистер Смит. Перед ним выступал из земли невысокий валун, на котором были установлены большие весы — такими обычно пользуются в продовольственных лав ках. Когда я услышал голос мистера Смита, сердце мое похолодело.
— Жизнь за золото! — восклицал он. — Жизнь за золото! Кровь и жизнь врага — за фунт золота!
Из полукруга выступил мужчина. Он поднял руку, и тотчас же его ближайший сосед швырнул на весы какой-то блестящий предмет. Чаша весов поехала вниз, а Смит зашептал что-то на ухо мужчине.
Затем он вновь воскликнул:
— Кровь за золото, за фунт золота — жизнь врага! За каждый фунт золота на весах — жизнь!
Один за другим выходили вперед мужчины, поднимая при этом правую руку. Золото взвешивалось на весах, и всякий раз как чаша весов скользила вниз, Смит наклонялся и шептал каждому что-то на ухо. Потом он вновь воскликнул:
— Желание и страсть — за золото на весах! За каждый фунт золота — упоение страстью!
То была дьявольская картина: поднятая вверх рука, звон металла на чаше весов, торопливый шепот и вспышка темной страсти на лице…
Мужчины плотно обступили Смита. Они разговаривали вполголоса, и я не расслышал ни слова. Казалось. Смит что-то объяснял — я заметил, что он жестикулирует, как человек, отстаивающий свою позицию, раза два он энергично взмахнул руками, как бы желая показать, что все уже решено и отступать нельзя. Я так сосредоточился на его фигуре, что ничего больше не видел, и потому не сразу заметил, что расщелина опустела. Еще секунду назад передо мной кривлялись эти зверские рожи, и вдрут никого не стало.
В полнейшем смятении я добрался до дома и заснул, едва моя голова коснулась подушки. Я пробудился ото сна с таким чувством, будто меня тормошили. Недоуменно оглядевшись ио сторонам, я с изумлением обнаружил в комнате трех мужчин. Один из них тряс меня за плечо и говорил:
— Ну же, мистер, вставайте! Кончилось ваше время, да и парни совсем уж заждались на улице. Не терпится им, знаете ли. Подымайтесь, да оденьтесь потеплее — утро сегодня холодное.
Двое других криво ухмылялись. Я понял, что меня ожидает продолжение ночного кошмара. Стараясь казаться спокойным, я оделся и сказал, что готов последовать за ними.
— Вот и хорошо. Ты, Ник, иди первым, а мы с Джимом по бокам.
Меня вывели на свет, и тут я понял, откуда исходил тот невнятный ропот, что смутно доносился до моего слуха, пока я одевался. Снаружи стояло в ожидании человек двести. Среди собравшихся я различил и женщин.
Увидев меня, толпа глухо зашумела. Я не знал за собой никаких проступков, но от этого шума у меня зашлось сердце, а по лицу заструился пот. Сквозь пелену страха я глядел на взбудораженную, галдящую толпу и не встречал ни одного сочувственного взгляда. На лицах у людей была написана одна лишь непонятная мне ярость.
Потом я обнаружил, что иду вверх по склону в окружении нескольких мужчин с револьверами в руках. Отовсюду неслись злобные выкрики, но из этих отдельных фраз я не мог составить более-менее связного представления о происходящем. Понимал только, что все кого-то клянут. Донеслись до меня и обрывки каких-то невероятных историй. В них говорилось о мужчинах, коварно выманенных из дому и преданных ужасной, мучительной смерти — этих людей находили в темных пустынных местах, мужчины извивались подобно раненым змеям и умоляли ударом ножа в сердце прекратить их мучения; о невинных девушках, которые исчезали на пару дней, а по возвращении умирали, о девушках, что и на смертном ложе горели от стыда. Я не мог даже гадать, что все это значит и чем закончится. Я был так изнурен, что мечтал лишь об одном — заснуть и не просыпаться.
Наконец мы остановились на вершине холма, высившегося над урочищем Голубых Скал, и я увидел деревья, под которыми любил отдыхать во время своих путешествий. Стоя в кольце вооруженных людей, я смотрел, как двое мужчин хлопочут над вязанками дров, а еще двое возятся с веревкой.
Вдруг толпа пришла в движение, и откуда-то из людской гущи в центр круга вылетел связанный по рукам и ногам мужчина. И хотя у него было на редкость зверское лицо, я невольно вздрогнул от жалости к его страданиям. Черты лица этого человека были искажены мукой, но я сразу же узнал его — он присутствовал на том сборище в Черной Пропасти, которым заправлял мистер Смит.
Мужчину развязали, подвели к дереву и накинули петлю на шею. Чей-то хриплый голос прокричал команду, веревка натянулась, и я увидел жестокую и быструю смерть — почерневшее лицо, высунутый язык, корчи повешенного.
На моих глазах один за другим были повешены шесть человек — всех их я видел в расщелине минувшей ночью. Тела их были кулями брошены на землю. После некоторой заминки ко мне подошел разбудивший меня утром мужчина.
— Ну, мистер, черед за вами, — сказал он. — Даем вам пять минут, чтобы попрощаться с жизнью. А как выйдет это время, сожжем вас заживо, во имя Господа нашего, вот у этого дерева.
Только тогда я окончательно проснулся.
— За что?! Что я такого сделал? За что вы казните меня? Я абсолютно мирный человек и не сделал вам ничего дурного! — закричал я и уткнулся лицом в ладони. Мне была невыносима одна лишь мысль о такой ужасной смерти. — Что я вам сделал? — вновь начал я, собравшись с духом. — Вы меня с кем-то путаете! Вы же меня совсем не знаете!
— Уж тебя-то, черная твоя душонка, мы знаем очень даже хорошо! — сказал стоявший рядом со мной человек. — На тридцать миль по всей округе не сыщешь человека, который не проклинал бы Джека Смита, когда тебя начнут поджаривать на адской сковороде.
— Но мое имя вовсе не Смит! — воскликнул я, чувствуя, как во мне затеплилась надежда. — Я Уилкинс, его секретарь. О нем самом я ровным счетом ничего не знаю.
— Нечего слушать этого лгуна! Если ты и секретарь, то не иначе как самого дьявола! Да уж, надо признать, ты был изворотлив, как змея. Всегда шастал по ночам, пряча лицо в темноте, но мы тебя все-таки выследили. Теперь настал твой конец. За дело, ребята!
Меня поволокли к дереву и привязали к стволу цепями. Увидев, что меня обкладывают вязанками дров, я покорно закрыл глаза и начал припоминать слова молитв. Через несколько минут я почувствовал, что меня окатили вонючей жидкостью, и вновь открыл глаза, но разглядел лишь, как какая-то грязная женщина скорчила мне рожу. По-видимому, именно эта женщина только что вылила на меня полную канистру керосина. Кто-то крикнул: "Поджигай!" Я потерял сознание…
Очнулся я на постели в пустой незнакомой комнате, пожилой врач держал у меня перед носом флакончик с нюхательными солями, а в изголовье у меня стоял неизвестный джентльмен, оказавшийся, как потом выяснилось, шерифом.
Увидав, что я пришел в себя, он заговорил:
— Ну, мистер, вы были на полволоска от гибели. Ребята уже собрались запалить костер, когда я подоспел с отрядом своих людей. Должен сказать, что мне пришлось попотеть, отбивая вас у них. И знаете, их трудно винить: они твердо решили, что вы и есть главарь бандитов из Черной Пропасти. Чего я им только ни говорил, а они все никак не могли поверить, что вы не Джек Смит! По счастью, с нами оказался один из местных по фамилии Эванс. Он-то и подтвердил, что видел вас вместе с Джеком Смитом и что вы вовсе не он, а совсем другой человек. Мы забрали вас с собой, поместили в тюрьму, но вы можете выйти отсюда, как только оправитесь от всей этой передряги…
На следующий день я сел в поезд и три недели спустя уже был в Лондоне — снова без гроша в кармане! Но с топ норы фортуна неожиданно повернулась ко мне лицом: я завел знакомства среди влиятельных лиц, директора банков стали искать знакомства со мной, а предложения от издателей посыпались как из рога изобилия. Мне оставалось только избрать себе достойное поприще, но через некоторое время я решил, что создан для праздной жизни.
С поразительной легкостью я получил высокооплачиваемую должность в одном процветающем политическом клубе. Сейчас у меня прекрасная квартира в центре, поблизости от парка, и когда я обедаю или ужинаю в клубе, шеф-повар расшибается в лепешку, чтобы угодить мне, а из погребов достают самые редкие вина.
И все-таки после возвращения в Лондон я не знаю ни минуты покоя. По ночам просыпаюсь с дрожью: мне кажется, что мистер Смит стоит у моей постели. Иду куда-нибудь — и словно с каждым шагом приближаюсь к пропасти. Смит ускользнул из рук "комитета бдительности"[73], и теперь я начинаю дрожать при мысли о том, что он, по всей вероятности, возвратится в Лондон и что я, совершенно к тому неготовый, могу в любой момент столкнуться с ним лицом к лицу.
Каждое утро, выходя из дому, я озираюсь по сторонам и страшусь увидеть поджидающую меня знакомую фигуру. Я замираю от страха на перекрестках и схожу с ума от сознания того, что нас могут отделять друг от друга считанные шаги. Я перестал ходить в театры и мюзик-холлы — а ну как по воле случая мой бывший хозяин окажется в соседнем кресле? Иногда некое неопределимое и непреодолимое чувство помимо моей воли гнало меня ночью из дому, и я содрогался от ужаса при виде какой-нибудь абсолютно безвредной тени на безлюдной площади.
Однажды, затерявшись в многолюдной толчее на центральной улице, я сказал себе: "Рано или поздно это обязательно случится. Он вернется в Лондон, и я встречусь с ним в тот самый момент, когда буду чувствовать себя в полной безопасности".
Выискивая знаки надвигающейся беды, я судорожно просматривал газеты, не оставляя без внимания ни одного сообщения, ни одной тривиальной заметки. С особым усердием я читал объявления — но все безрезультатно.
Шли месяцы, и, так и не почувствовав себя в безопасности, я хотя бы перестал мучиться от невыносимых приступов внезапного страха. А сегодня утром, спокойно прогуливаясь по Оксфорд-стрит, я поднял глаза от тротуара, глянул через дорогу и увидел наконец человека, который так давно преследует мои мысли.
Мистер Уилкинс допил вино, откинулся на спинку кресла и уставился печально на Дайсона. Затем он встрепенулся, словно его осенила какая-то идея, извлек из кармана кожаный бумажник и протянул Дайсону через стол обрывок газеты.
Дайсон внимательно изучил заметку — она была вырезана из вечерней газеты.
МАССОВОЕ ЛИНЧЕВАНИЕ
СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ
Из Рединга (штат Колорадо) телеграфировали о полученных из урочища Голубых Скал сведениях об ужасной стихийной расправе. В течение некоторого времени округу терроризировала банда головорезов, совершавшая невероятные по жестокости преступления в отношении мужчин и женщин. Местные жители образовали "комитет бдительности", который и выяснил, что главарь банды, некто Джек Смит, проживает в урочище Голубых Скал. После предпринятой акции по поимке бандитов шестеро из числа самых отъявленных были повешены в присутствии двух-трех сотен мужчин и женщин. Но имеющимся у нас сведениям, Смиту удалось скрыться.
— Да, история и впрямь ужасная, — согласился Дайсон. — Я охотно верю, что вас денно и нощно преследовали те ужасы, которые вы мне только что так ярко обрисовали. Но чего вам бояться этого самого Смита? У него куда больше причин опасаться вас. Посудите сами: стоит вам передать в полицию свои сведения, и через две минуты будет подписан приказ о его аресте. К тому же… Вы, надеюсь, простите меня за то, что я сейчас скажу?
— Дорогой сэр, — сказал мистер Уилкинс. — Можете говорить со мной без обиняков.
— В таком случае должен признаться, что у меня сложилось прямо противоположное впечатление о вашем отношении к этому человеку. Мне показалось, что вы были сильно разочарованы, не сумев его догнать. Похоже, вам было очень досадно, что вы не смогли мгновенно очутиться на другой стороне улицы.
— Сэр, я был не в себе. Я лишь мельком видел его, и те муки, что, как вы совершенно справедливо заметили, я испытывал, — скорее, муки неведения. Я был не совсем уверен, что это он, и к тому же меня обуял ужас при мысли о том, что Смит снова в Лондоне. Я содрогнулся, представив себе, как этот дьявол во плоти, чья душа черна от злодеяний, преспокойно разгуливает себе на свободе среди ни в чем не повинных людей и, быть может, замышляет новую и еще более ужасную цепь преступлений. Уверяю вас, сэр, по улицам Лондона ходит чудовище, перед которым меркнет белый свет и обращается в промозглый холод летний зной. Как только я увидел его, все эти мысли обрушились на меня, как ураган, и я потерял контроль над собой.
— Вот как! Что ж, я отчасти понимаю ваши чувства, но мне хотелось бы уверить вас: бояться вам действительно нечего. Смит не будет досаждать вам в любом случае, и это ясно как день. Не забывайте, для него самого эта встреча — предупреждение; недаром же у него был довольно испуганный вид. Однако уже поздно. С вашего позволения, мистер Уилкинс, мне пора идти. Смею надеяться, мы будем часто видеться здесь.
Даже удалившись на порядочное расстояние от кафе, Дайсон никак не мог уйти мыслями от этой странной истории, подброшенной ему случаем. После нескольких минут трезвого размышления он нашел в поведении мистера Уилкинса нечто необычное. Никакие, даже самые невообразимые переживания не могли объяснить все странности поведения этого господина.
Приключение с исчезнувшим братом
Мистер Чарлз Филиппс был, как уже говорилось, джентльменом с ярко выраженными склонностями к науке. В юности он с пылким энтузиазмом предавался милой его сердцу биологии, и первым вкладом Филиппса в изящную словесность стала небольшая по объему монография "Эмбриология микроскопических голотурий". Впоследствии он несколько расширил жесткие рамки своих изыскании и начал баловаться более фривольными предметами, а именно палеонтологией и этнологией.
В гостиной мистера Филиппса имелся специальный шкаф, снизу доверху заставленный грубыми кремневыми орудиями, а эмоциональным центром его квартиры можно было по праву назвать кремниевого божка на редкость жуткого вида и явно тропического происхождения. Хотя мистер Филиппс и считал себя материалистом, на самом же деле он был весьма восторженным человеком, готовым поверить в любое чудо при условии, что оно упаковано в "научную" обертку.
Самая дикая выдумка становилась для него явью, если она излагалась малопонятными, но заумными терминами. Он насмехался над ведьмами, но готов был аплодировать гипнотизерам и медиумам, а от протила[74] и эфира[75] приходил в экстаз. Мистер Филиппс гордился своим несокрушимым скептицизмом, побуждавшим его с нескрываемым презрением выслушивать рассказы о необычайном, и едва ли поверил хотя бы словечку из рассказа о ночной погоне, не предъяви ему Дайсон золотой монеты — весомого, зримого и осязаемого доказательства. По правде говоря, у мистера Филиппса все же остались некоторые сомнения — слишком хорошо были ему известны бессвязные фантазии друга и его привычка объяснять самые заурядные события чудом. Да и вообще, Филиппс сильно подозревал, что все это странное приключение было существенно искажено присущей Дайсону романтической манерой изложения.
Вскоре он нанес другу ответный визит и прочел подробную лекцию о необходимости точных наблюдений и о безрассудстве, с каким отдельные пылкие натуры пользуются вместо телескопа калейдоскопом при изучении всяческого рода жизненных явлений. Дайсон внимал этим сентенциям с ядовито-сардонической улыбкой.
— Дорогой мой, — сказал наконец он, — позвольте заметить, что я прекрасно понимаю, куда вы клоните. Вы, однако, удивитесь, когда услышите, что из нас двоих я считаю романтиком именно вас, а себя отношу к беспристрастным и вдумчивым наблюдателям человеческой жизни. У вас случился мозговой вывих: вы воображаете, что пасетесь на золотой ниве новейшей философии, а сами обитаете в Клэфеме[76]. Ваш скептицизм съел самое себя и в результате обернулся чудовищным легковерием. Вы напоминаете мне летучую мышь или сову (не скажу точно, кого больше), которая в разгар дня отрицает существование солнца. Меня ничуть не удивит, если однажды вы придете ко мне, раскаиваясь в своих многочисленных интеллектуальных заблуждениях и смиренно заверяя меня в решимости видеть окружающий мир в истинном свете.
Эта тирада не произвела на мистера Филиппса особого впечатления. Он еще раз убедился в том, что его приятель был безнадежным резонером, а потому молча отправился восвояси, дабы втихомолку возрадоваться изучению примитивных каменных орудий, что прислал ему из Индии один его тамошний корреспондент.
Дома мистер Филиппс обнаружил, что его хозяйка, не сумев оценить варварскую красоту, с какой орудия были разбросаны по столу, спровадила всю коллекцию в мусорный ящик, поставив на ее место ланч. Таким образом, большую часть дня пришлось убить на лихорадочные и весьма зловонные поиски. Услыхав, что эти камни — ценнейшие реликвии, миссис Браун нарочито громко назвала мистера Филиппса "бедняжкой".
Спасательные работы закончились где-то около четырех часов дня — доведенный до полубессознательного состояния ароматом гниющих капустных листьев, Филиппс почувствовал, что должен выйти на воздух и нагулять хотя бы маломальский аппетит. В отличие от Дайсона мистер Филиппс шел быстро, не отрывая глаз от тротуара и не удостаивая вниманием чего бы то ни было вокруг. Он был настолько погружен в свои думы, что вряд ли мог бы назвать улицы, по которым проходил.
Совершенно случайно мистер Филиппс обнаружил, что находится на Лестерской площади. Трава и цветы умилили его, и он от души обрадовался возможности передохнуть. Оглядевшись по сторонам, он заметил скамейку, на которой было занято только одно место — на самом краешке сидела какая-то дама, и Филиппс счел возможным присесть у другого края.
Откинувшись на деревянную спинку, он принялся сердито перебирать в уме события дня. Дама, делившая с ним скамейку, на вид была молода и одета со вкусом — правда, она смотрела в сторону и вдобавок прикрывала лицо рукой. Однако вообразить, что при выборе места мистер Филиппс руководствовался надеждой на некое любовное приключение, было бы несправедливо по отношению к этому джентльмену — просто он предпочел соседство одинокой аккуратной дамы компании из пяти чумазых ребятишек, что резвились на соседней скамейке. Усевшись и отдышавшись от быстрого бега, мистер Филиппс стремительно погрузился в мысли о своих несчастьях. Еще минуту назад он серьезно подумывал сменить квартиру, но теперь, по трезвом размышлении о случившемся, заключил, что порода домохозяек складывалась с учетом естественного отбора и что, ищи он хоть тысячу лет, ничего лучшего ему не найти. Тем не менее он решил очень холодно и жестко поговорить со своей обидчицей, указав миссис Браун на крайнюю опрометчивость ее поступка и выразив надежду, что впредь она будет проявлять больше терпимости по отношению к наследию ушедших цивилизаций.
Приняв такое решение, Филиппс поднялся со своего места и совсем было уже собрался отправиться дальше, как вдруг его слух неприятно поразили сдавленные рыдания, шедшие явно нз груди молодой дамы, с отсутствующим видом смотревшей на кусты и клумбы у противоположного конца скамьи. Мистер Филиппс отчаянно стиснул в руках трость и приготовился ретироваться со всей возможной скоростью, но опоздал — дама уже повернула к нему лицо и принялась заламывать руки в немой мольбе. Она и впрямь оказалась молодой — ее лицо было скорее необычно и пикантно, нежели красиво, и на этом лице со всей очевидностью прочитывалась печать сильнейшего страдания.
Мистер Филиппс вновь сел и в сердцах проклял свою судьбу. Юная леди смотрела на него очаровательными глазками — блестящими, карими и какими-то одурманенными. Слез в этих глазках не было и в помине, но платочек девушка держала наготове. В довершение всего она еще и кусала губку, как бы противясь натиску отчаянного горя. Вся ее поза взывала о помощи.
Филиппс растерянно ерзал на краешке скамьи, не представляя себе, что делать дальше, а девушка продолжала смотреть на него, не говоря ни слова.
— Прошу прощения, мадам, — решился наконец Филиппс. — Судя по всему, вы хотите поговорить со мной. Могу ли я быть вам полезным? Хотя (надеюсь, мадам извините меня) мне эго представляется в высшей степени невероятным.
— Ах, сэр. — произнесла молодая леди низким глуховатым голосом, — не будьте так суровы со мной! Я нахожусь в отчаянном положении. По вашему лицу я поняла, что могу смело искать у вас, если не помощи, то хотя бы расположения.
— Не расскажете ли вы мне, в чем дело? — спросил Филиппс, морщась от досадной необходимости оставаться джентльменом. — Не хотите ли выпить чашечку чая?
— Я знала, что не ошиблась в вас, — ответила на это дама. — Ваше предложение свидетельствует о благородстве и великодушии. Но увы, никакой чай на свете не в силах утешить меня. Если позволите, я попытаюсь объяснить свое положение.
— Вуду весьма рад, — буркнул Филиппс, ощущая первые признаки голода.
— Я расскажу вам все, но при этом постараюсь быть краткой — несмотря на бесчисленные сложности, которые вынуждают меня, еще совсем молодую и неопытную, трепетать перед лицом глубокой и ужасной тайны бытия. И все же печаль, терзающая в данный момент мою душу, имеет самое что ни на есть простое объяснение: я потеряла брата.
— Потеряли брата? Как это могло случиться?
— Вот видите, я все же должна ввести вас в курс дела. Так вот, мой дорогой старший брат работает учителем в одной частной школе, что на северной окраине Лондона. Нехватка средств лишила его преимуществ университетского образования, а не имея степени, он и надеяться не смел на достижение положения, на которое был вправе рассчитывать, обладая большими способностями и энциклопедической эрудицией. Вот почему ему пришлось согласиться на должность преподавателя гуманитарных дисциплин в Хайгейтской академии для лиц благородного происхождения, принадлежащей доктору Сондерсону, где в течение нескольких лет он и исполнял свои обязанности, полностью соответствуя требованиям директора. Моя собственная история вас волновать не должна — достаточно будет сказать, что последний месяц я служила гувернанткой в одной приличной семье. Мы с братом неизменно питали друг к другу привязанность самого нежного свойства, и хотя обстоятельства, в подробном описании которых нет нужды, разлучили пас на некоторое время, мы все же не теряли друг друга из виду. "Если только болезнь не прикует кого-нибудь из нас к постели, мы будем встречаться каждую неделю", — решили мы.
Довольно продолжительное время эта небольшая площадь служила нам местом встреч — мы облюбовали ее по той простой причине, что она расположена в центре и к ней удобно добираться любыми видами транспорта. После долгой трудовой недели мой брат был мало склонен к долгим пешим прогулкам, и мы частенько проводили два-три часа на этой скамейке, вспоминая о радужных планах на будущее, которые мы вынашивали в детстве. Ранней весной здесь было холодно и зябко, но мы все равно наслаждались короткими передышками, выпадавшими нам в тяжкой и беспросветной жизни. Нас наверняка принимали за влюбленную парочку — мы сидели, прижавшись друг к другу, и говорили без умолку. Каждую субботу мы встречались здесь — даже заболев гриппом, брат не пропускал наших встреч, хотя доктор и говорил ему, что это самое настоящее безумие. Так продолжалось до недавней поры. В прошлую субботу мы провели здесь несколько долгих счастливых часов и расстались в самом что ни на есть жизнерадостном настроении, ощущая, что предстоящая неделя будет более сносной, а следующая встреча — более приятной.
Сегодня я приехала ровно в назначенный час — в четыре пополудни — и села поджидать брата, каждую минуту надеясь увидеть, как он спешит ко мне от северного входа. Прошло пять минут, а его не было. Я уже решила, что он опоздал на поезд, и опечалилась тем, что теперь наша встреча будет короче минут на двадцать, а то и больше. А я-то так надеялась переговорить с ним обо всем случившемся за неделю!
Вдруг меня будто толкнули изнутри — я резко обернулась и с изумлением увидела брата, медленно направлявшегося ко мне ео стороны северного входа в сопровождении незнакомого мужчины. Поначалу во мне вскипело негодование при мысли о том, что этот человек, кем бы он ни приходился брату, станет навязывать нам свое общество. При этом я изрядно недоумевала по поводу личности незнакомца — ведь, насколько я знала, у брата не было близких друзей в Лондоне. Затем, когда я получше всмотрелась в его спутника, мною овладело совсем иное чувство — то был мучительный страх ребенка, боящегося темноты. Этот безрассудный, необъяснимый и жуткий страх стиснул мое сердце, и мне показалось, что я очутилась в ледяных объятиях трупа. И все же, стараясь не поддаваться панике, я пристально глядела на брата, ожидая, когда тот заговорит, и еще более пристально — на его спутника.
Вскоре я заметила, что этот человек не просто шел рядом с моим братом, а, скорее, вел его. Высокого роста и престранного обличья мужчина — несмотря на теплую погоду, на нем был цилиндр и наглухо застегнутое черное пальто. Ноги его плотно облегали брюки в скромную серо-черную полоску, ботинки на толстой подошве тяжело ступали по каменным плитам. Запакованный сверху донизу, он выглядел как сундук мертвеца. Лицо у него было самое заурядное — настолько заурядное, что я не могу припомнить ни каких-либо особых примет, ни особой мимики. И хотя я видела его вблизи, это лицо, как ни странно, не оставило у меня никакого впечатления — все равно что передо мной пронесли искусно сделанную маску.
Они прошли мимо меня, и я с невыразимым изумлением услыхала голос брата, явно обращавшегося ко мне, хотя губы его не разжимались, а глаза не смотрели в мою сторону. Я не в силах описать этот голос — а ведь он знаком мне с детства! — скажу лишь, что долетавшие до моего слуха слова как бы растворялись в плеске воды пли журчании ручейка, омывающего камушки на отмели. Вот что я услышала: "Я не могу остановиться". И тут же грянул гром, разверзлись небо и земля, и я то ли рухнула, то ли вознеслась в зияющую бездну! Когда брат проходил мимо, я с ужасом увидела, что влекущая его за собой рука была бесформенна, как могильный тлен. Ее плоть почти совсем сошла с костей и свисала вниз сухими струпьями; обхватившие руку брата пальцы больше походили на ка кое-то когтистое месиво, а вместо мизинца красовался обрубок без двух фаланг.
Когда я пришла в себя, брат и его спутник уже маячили у противоположного входа в парк. На мгновение я замешкалась, а потом меня словно жаром обдало — я поняла, что никакой страх мне не помеха, что я должна следовать за братом и спасти его, даже если сам ад восстанет против меня.
Я побежала вдогонку и увидела, как они пробираются сквозь толпу. Пересекая дорогу, я не спускала с них глаз — мой брат и тот странный человек как раз сворачивали в боковую улочку. Буквально через мгновение я добралась туда, но там уже никого не было. Напрасно я глядела по сторонам: ни брата, ни его необычного провожатого как будто не существовало в природе. Двое мужчин преклонных лет неторопливо беседовали в конце улочки, а навстречу мне, громко насвистывая, двигался мальчишка-разносчик. Некоторое время я простояла в оцепенении, а потом опустила голову и вернулась сюда. Здесь вы меня и застали. Теперь, сэр, вас не удивляет мое горе? О, скажите, что случилось с моим братом? Скажите, не то я сойду с ума!
Нужно заметить, что мистер Филиппс выслушал эту историю с достойным подражания терпением. Однако, прежде чем ответить, он долгое время колебался.
— Мадам, — сказал он наконец выспренним тоном, — вы обратились за помощью не просто к джентльмену, но к ярому приверженцу науки. Как джентльмен, я сострадаю вам всей душой, ибо то, что вы увидели (вернее, то, что вам привиделось), было наверняка мучительно. Но как ученый я обязан открыть вам одну простую и утешительную истину. Однако сначала я попрошу вас описать своего брата.
— Извольте, — с готовностью согласилась юная леди. — Я вам опишу его в точности. Брат весьма моложав с виду, бледен, носит очки. У него черные усики и довольно робкое, если не сказать испуганное, выражение лица, и он имеет привычку нервно оглядываться по сторонам. Подумайте! Вспомните! Наверняка вы его видели. Если вы часто бываете в этом чудесном квартале, то вы должны были встретить его в одну из суббот. А вдруг я ошиблась и он не свернул в эту боковую улочку, а двинулся дальше? А вдруг он попался вам навстречу? О, скажите, сэр, вы не видели его?
— Боюсь, когда я иду по улице, наблюдатель из меня никудышный. — сказал Филиппс, который в моменты погруженности в себя и мать родную не заметил бы. — Но, уверен, ваше описание превосходно. А теперь опишите того замечательного субъекта, что, по вашим словам, держал несчастного молодого человека за руку.
— У меня ничего не получится. Я уже говорила вам, что на его лице не было абсолютно никакого выражения. Не выделялось оно и какими бы то ни было броскими чертами. Оно было похоже на маску.
— Вот именно! Согласитесь, что очень трудно описать то, чего вообще не было. Я хочу подвести вас к единственно возможному умозаключению — вы стали жертвой галлюцинации. Вы ждали встречи с братом, вы были взволнованы и напуганы тем, что он все не идет, а ваш мозг совершенно безотчетно продолжал работать. Вот вы и увидели проекцию собственных беспокойных мыслей — образ отсутствующего брата и сгусток страхов, воплощенных в фигуре, которую вы не в состоянии описать. Конечно же, встрече помешали какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Я уверен, что через денек-другой вы получите весточку от брата.
Девушка пристально посмотрела на мистера Филиппса. В глазах у нее на мгновение вспыхнули недобрые искорки, но тут же погасли.
— О! — воскликнула она. — Вы просто не можете так говорить! Это никакой не обман чувств — все это было наяву! К тому же мне в жизни приходилось видеть и кое-что пострашнее. Я, конечно же, признаю обоснованность ваших доводов, но согласитесь и вы, что женская интуиция никогда не подводит. Поверьте, я не истеричка. Если хотите, пощупайте мои пульс — он в полном порядке.
Юная леди грациозно протянула Филинпсу свою маленькую ручку. При этом девушка так мило взглянула на Филиппса, что он на время позабыл о своем пустом желудке. Ручка была мягкая, белая, теплая — в некотором замешательстве приложив пальцы к синеватой жилке. Филиппс растрогался до глубины души.
— И впрямь. — сказал он, с некоторой неохотой отпуская крохотное запястье, — присутствия духа вы не потеряли. И все же вам следует знать, что у живого человека не может быть руки мертвеца. Это противоречит всем известным законам природы. Конечно, я могу допустить, что вы видели брата с неким джентльменом. Может быть, у них было какое-нибудь неотложное дело и ваш брат ужасно спешил. Что же до необычной руки, то это могла быть какая-нибудь деформация вроде искалеченного несчастным случаем пальца пли чего-нибудь в том же духе.
Девушка горестно покачала головой.
— Я вижу, вы безнадежный рационалист, — сказала она. — Вы же слышали, что мне приходилось видеть вещи и пострашнее. Я тоже была скептиком, но после одной истории все переменилось.
— Мадам, — строго ответствовал мистер Филиппс, — прошу не сбивать меня с толку. Я никогда не поверю в то, что дважды два не равно четырем, и ни под каким предлогом не признаю существование двусторонних треугольников.
— Не горячитесь! — взмолилась девушка. — Скажите лучше, не доводилось ли вам слышать о профессоре Грегге? Это имя и до сих пор авторитетно как в этнологии, так и в смежных с нею науках.
— Как же не доводилось! — ответил немного удивленный Филиппс. — Я всегда считал профессора Грегга одним из самых скрупулезных и здравомыслящих исследователей, а его последняя работа — "Учебник этнологии" — просто поразила меня своей близостью к совершенству. Едва я приобрел ее, как по научным кругам разнеслась весть об ужасном несчастном случае, оборвавшем жизнь Грегга. Если верить слухам, он снял на лето дом на западе Англии и вроде бы утонул в реке. Тело его, как говорят, все еще не обнаружено.
— Сэр, вы человек основательный. Это видно по вашему разговору, да и одно ваше упоминание о той небольшой книжице доказывает, что вы не являетесь пустым прожигателем жизни. Я чувствую, что могу до конца положиться на вас. Вы считаете, что профессор Грегг утонул, не так ли? У меня же есть все основания думать иначе.
— Как?! — вскричал взволнованный Филиппс. — Уж не намекаете ли вы на что-либо неблаговидное? В это я уж тем более не поверю. Грегг был безупречнейшим человеком — сама доброта и щедрость. В личной жизни его отличали чистота и даже некоторый аскетизм. И хотя мне самому не свойственны всякого рода эзотерические заблуждения, я уважал его ревностное и бесконечно искреннее отношение к христианству. Вы ведь не хотите сказать, что его заставила скрыться какая-то грязная история?
— Опять вы горячитесь! — ответила девушка. — Ничего подобного я не имела в виду. Пожалуй, я расскажу вам все, что мне известно. Однажды утром профессор Грегг ушел из дома в ясном уме и полном здравии — и не вернулся. Его часы, цепочку, кошелек с тремя золотыми соверенами и серебряной мелочью, а также кольцо, которое он никогда не снимал с пальца, нашли тремя днями позже в диком пустынном месте, на склоне холма, что стоит неподалеку от реки. Все эти вещи лежали в перевязанном жгутом свертке из грубого пергамента, что был брошен у подножия известняковой скалы, отличающейся весьма причудливой формой. Когда сверток развернули, на внутренней стороне пергамента оказалась надпись, сделанная каким-то красным веществом. Расшифровке она не поддавалась и напоминала искаженную клинопись.
— Вы меня просто заинтриговали! — воскликнул Филиппс. — Не расскажете ли все по порядку? Упомянутые вами обстоятельства выглядят очень таинственно, и я жажду разъяснений.
Поразмыслив пару минут, девушка начала.
Повесть о черной печати
Сначала мне следует подробнее изложить историю моей жизни. Я дочь инженера-строителя Стивена Лелли, на долю которого выпала печальная участь: он скоропостижно скончался в самом начале своей карьеры, не успев скопить достаточно средств, чтобы обеспечить жену и двух малюток.
Матушка едва умудрялась сводить концы с концами на те жалкие крохи, что у нас еще оставались. Жили мы в отдаленной деревне, где все намного дешевле, чем в городе, но и там нам приходилось придерживаться режима жесточайшей экономии. Отец был умным, начитанным человеком. Он оставил после себя небольшую, но прекрасно подобранную библиотеку из греческой, латинской и английской классики; книги эти были для нас единственным доступным развлечением. Брат, помнится, выучил латынь по "Метафизическим размышлениям" Декарта[77], а у меня вместо сказок, которые обычно дают читать детям, не было ничего более подходящего, чем перевод "Gesta Romanorum"[78].
Так мы и жили — тихие, прилежные дети, — и с течением времени брат сумел устроить свою судьбу. Я оставалась дома. Бедная матушка стала инвалидом, и ей был нужен постоянный уход; два года назад она скончалась после долгих мучений. Я оказалась в ужасном положении: денег от продажи ветхой мебели едва хватило, чтобы расплатиться с долгами, наделать которые меня вынудили обстоятельства, книги же я отправила брату, понимая, как они дороги ему.
Я осталась совершенно одна. Зная, какое скудное жалованье платят брату, я все же приехала в Лондон в надежде найти работу. Понимая, что брат возьмет на себя мои расходы, я поклялась, что так будет только в течение месяца, а если за это время работы не найдется, я скорее стану голодать, чем лишать его тех крох, что он откладывает на черный день.
Я сняла маленькую комнатушку в дальнем предместье, самую дешевую, какая только нашлась, питалась одним хлебом и чаем — и без толку тратила время, бегая по объявлениям и обивая пороги домов, где имелись вакансии. Проходили дни, недели, мне все не везло, назначенный срок истекал, и передо мной открывалась мрачная перспектива медленной голодной смерти. Моя домохозяйка была добросердечной женщиной и, зная мою стесненность в средствах, наверняка не смогла бы выставить меня за дверь, так что оставалось только уйти самой, выбрать местечко поукромнее и тихо умереть.
Стояла зима, плотный белый туман с полудня собирался над городом, а к исходу дня загустевал, как гипс; помнится, было воскресенье, и все обитатели дома отправились в церковь. Около трех я выскользнула на улицу и пошла прочь, быстро, насколько хватало сил — я уже ослабла от недоедания… Белая пелена обволокла все улицы безмолвием, сильный мороз похрустывал на голых стволах деревьев, пней сверкал на деревянных изгородях и мерзлой земле. Я шла вперед, бездумно сворачивая то влево, то вправо, не удосуживаясь даже взглянуть на названия улиц, и все, что осталось у меня в памяти от того воскресного хождения но засыпанному снежной мукой городу, напоминает разрозненные фрагменты какого-то жуткого сна.
В полубреду тащилась я по улицам — не то городским, не то деревенским. По одну сторону серые поля сливались с хмурым туманом, по другую — мерцали отблесками каминов уютные, но призрачные виллы; красные кирпичные стены, освещенные окна, смутные силуэты деревьев, огоньки, превращающиеся в белые тени фонари, уходящие вдаль под высокой насыпью железнодорожные пути, зеленые и красные огни семафоров — все это были лишь мимолетные картины, ухваченные моим истомленным рассудком и распаленными голодом чувствами. Изредка до меня доносились гулкие шаги по мерзлому насту, и мимо проходили закутанные по самую макушку мужчины. Они шли торопливо, чтобы не замерзнуть, и явно предвкушали радости жаркого очага при плотно задернутых шторах, в кругу добрых друзей; но с наступлением темноты прохожих становилось все меньше, и улицу за улицей я проходила в полном одиночестве.
Я брела средь белой тишины, до того пустынной, что казалось, будто я вступила в мертвый, погребенный город. Силы мои были на исходе, и сердце сковал страх смерти. Свернув за угол, я вдруг услышала, как меня вежливо окликают, спрашивая, не подскажу ли я дорогу к Эвон-роуд. Заслышав человеческую речь, я от неожиданности совсем пала духом, силы окончательно покинули меня, и я рухнула наземь, истерически рыдая и смеясь. Я вышла на улицу, приготовившись умереть, и, в последний раз переступая порог приютившего меня дома, распростилась со всеми надеждами и воспоминаниями. Дверь за моей спиной со скрежетом закрылась — я поняла, что железный занавес с грохотом опустился в конце короткого спектакля моей жизни и что мне совсем недолго осталось бродить в юдоли скорби и печали, ибо могильщик уже наточил свою лопату.
Потом было блуждание в тумане, обволакивающая белизна, пустынные улицы и гробовая тишина, а потому, когда ко мне вдруг кто-то обратился, я подумала, что уже умерла и меня окликают Там. Через несколько минут, однако, я совладала с собой и, поднявшись на ноги, увидела приятной наружности джентльмена средних лет, строго и со вкусом одетого.
Он глядел на меня с нескрываемой жалостью, и, прежде чем я успела пробормотать, что местность мне незнакома — а я действительно не имела ни малейшего представления о том, где нахожусь, — он заговорил:
— Мадам, похоже, вы в отчаянном положении. Вы даже не подозреваете, как напугали меня. Что с вамп случилось? Можете на меня смело положиться.
— Вы очень добры, — ответила я, — боюсь только, помочь мне нельзя. Положение мое безнадежно.
— Вздор! Вы слишком молоды, чтобы говорить такое. Давайте пройдемся немного, и вы все расскажете. Может быть, я смогу быть вам полезен.
Во всем облике этого господина было нечто умиротворяющее, внушающее доверие. Я открылась пожалевшему меня джентльмену, честно поведала об отчаянии, толкнувшем меня к краю пропасти.
— Никогда не следует так сразу сдаваться, — сказал он, как только я умолкла. — Месяца вовсе не достаточно, чтобы устроиться в Лондоне. Лондон, позвольте вам заметить, мисс Лелли, отнюдь не ласковый и открытый для всех город, это своего рода цитадель, обнесенная рвом и двойным кольцом хитроумных лабиринтов. Как часто бывает в больших городах, жизнь проистекает здесь в предельно искусственных формах, и на пути мужчин и женщин, пытающихся взять Лондон приступом, вырастает не просто частокол, но плотные ряды изощренных приспособлений, мин, ловушек, преодоление коих требует особого умения. Вы, по простоте душевной, считали, что, стоит только захотеть, и преграды рухнут сами собой, но времена таких быстрых побед миновали. Мужайтесь, скоро секрет успеха откроется вам.
— Увы, сэр! — ответила я. — Наблюдения и советы ваши, несомненно, глубоки и верны, мешает лишь то, что в настоящий момент я нахожусь на пути к голодной смерти. Вы говорили о секрете… во имя всего святого, откройте его мне, если у вас есть хоть капля сожаления.
Он добродушно рассмеялся.
— В том-то и загвоздка. Знающий этот секрет не может при всем желании раскрыть его. В сущности, он так же невыразим, как основная доктрина франкмасонства. Душа знает, язык неймет. Могу лишь сказать, что вам самой удалось проникнуть в верхнюю оболочку тайны. — Он опять засмеялся.
— Умоляю, не издевайтесь надо мной, — взмолилась я. — Что мне удалось сделать? Я пребываю в полнейшем неведении, не знаю, как добыть кусок хлеба на пропитание.
— Простите. Вы спрашиваете, что вы сделали? Встретили меня — вот что! Довольно говорить обиняками. Вижу, вы занимались самообразованием, а это единственное из образований, которое более или менее безвредно. Так вот, двум моим детям нужна гувернантка. Я овдовел несколько лет назад. Фамилия моя Грегг. Предлагаю вам место гувернантки и сотенное жалованье. По рукам?
Я могла лишь кое-как пробормотать слова благодарности, и мистер Грегг, протянув мне карточку с адресом и довольно-таки солидную банкноту, нырнул в ночь, сказав, что ждет меня в ближайшие дни.
Так судьба свела меня с профессором Греггом, и стоит ли удивляться, что память о близости холодного дыхания смерти заставила меня считать его вторым отцом? Уже в конце недели я приступила к исполнению своих обязанностей. Профессор арендовал старую усадьбу в западном пригороде Лондона, и здесь, на милых лужайках, в окружении фруктовых садов, под сенью древних вязов, умиротворяюще шелестящих ветвями по крыше, началась новая глава моей жизни.
Характер занятий профессора известен всему миру, и вы вряд ли особенно удивитесь, услыхав о том, что дом его ломился от книг и стеклянные шкафы, набитые странными, а то и попросту страшными предметами, заполонили все углы просторных, с низкими потолками комнат. Греггом владела одна, но весьма пламенная страсть — тяга к знанию.
Я быстро заразилась научным энтузиазмом этого интереснейшего человека, и спустя несколько месяцев меня можно было назвать скорее секретарем профессора, чем гувернанткой его детишек, и, случалось, и ночами напролет просиживала за бюро под лампой, а он расхаживал вдоль камина и диктовал мне свой "Учебник этнологии". Но за конкретными точными исследованиями крылось, как я всегда ощущала, нечто потаенное, некая страстная устремленность к предмету, о котором профессор умалчивал: не раз он забывался на полуслове, уходил в себя, зачарованный, как мне казалось, отдаленной перспективой того или иного поразительного открытия.
Учебник наконец был завершен, и почти сразу же стали приходить гранки от издателей. Мне доверили первоначальное их прочтение, после чего они удостаивались внимания профессора. Я помню, как радостно, словно мальчишка по окончании семестра, он улыбался, вручая мне в один прекрасный день экземпляр книжки.
— Ну вот, — сказал он, — я слово сдержал. Обещал написать — и написал. Я выполнил свой долг перед строгой наукой и отныне волен жить более возвышенными идеями. Признаюсь, мисс Лелли, я посягаю на славу Колумба, и вам, надеюсь, доведется увидеть меня в роли первооткрывателя.
— Одно плохо, — искренне огорчилась я. — Открывать практически нечего. Вам следовало бы родиться на несколько столетий раньше.
— Думаю, вы ошибаетесь, — возразил профессор. — Поверьте, есть еще неоткрытые — неоткупоренные, так сказать, — чудесные страны и континенты, и размеры их необычайно велики. О мисс Лелли! Мы ежесекундно пребываем среди внушающих трепет тайн и загадок, и совершенно неясно, что с нами будет завтра. Жизнь, поверьте, не такая простая штука, это не одно лишь серое вещество и сочленение сосудов и мышц, обнажаемое скальпелем, обязанностями и праздным любопытством хирурга; человек — это тайна, и я планирую ее постичь, но прежде, чем это произойдет, я должен одолеть морскую пучину и толщу тысячелетий. Известен вам миф о погибшей Атлантиде? Что, если это правда и мне назначено судьбой стать первооткрывателем сказочной страны?
Я ощущала, как неуемное возбуждение прорывается сквозь его слова, видела, как пылает охотничьим азартом лицо Грегга. Передо мной стоял человек, уверовавший, что его призвание — схватка с неведомым. Я почувствовала острый прилив радости, когда осознала, что каким-то образом буду причастна к этому предприятию. Меня не смущало, что я не знаю, какую именно тайну нам предстоит раскрыть.
На следующее утро профессор Грегг провел меня в свой внутренний кабинет, где у стены стоял шкаф с картотекой, каждый ящичек которой был аккуратно надписан. В этом ограниченном несколькими футами пространстве ухитрялись помещаться строго классифицированные результаты многолетнего кропотливого труда.
— Здесь, — сказал профессор, — вся моя жизнь, все факты, которые я собрал воедино ценой невероятных усилий, результаты напряженной работы и бессонных ночей, и все это — совершенные пустяки. Ерунда по сравнению с тем, что я намереваюсь предпринять. Поглядите сюда.
Он подвел меня к старинному бюро. Обшарпанное, непривычной формы, оно мирно стояло в углу комнаты. Профессор повернул ключ в замке крышки, поднял ее и выдвинул один из ящиков.
— Несколько клочков бумаги, — сказал он, — да испещренный странными отметинами и царапинами камень — вот практически все содержимое ящика. Есть еще старый конверт с потемневшей красной маркой двадцатилетней давности (я, правда, черканул несколько строк на оборотной стороне), лист старинного манускрипта и несколько вырезок из местных журналов, мало кому известных. Вы спросите: что объединяет столь странные предметы? Извольте, вот поводы, их несколько. Служанка, бесследно пропавшая из фермерского дома; ребенок, якобы провалившийся в старый горный карьер; странные каракули на известняковой скале; мужчина, убитый наповал неизвестным орудием, — таковы следы, по которым я должен идти. Да, вы вправе сказать, что всему этому есть готовое объяснение: девушка могла сбежать в Лондон, Ливерпуль или Нью-Йорк, мальчик может лежать на дне заброшенной шахты, надпись на скале может быть пустой выдумкой какого-то праздного бродяги. Все так, но только я знаю, что в руках у меня верный ключ. Глядите! — он протянул мне полоску желтой бумаги.
"Буквы, начертанные на известняковой скале Серых Холмов", — прочла я, затем следовало стершееся слово, возможно, название графства, и дата пятнадцатилетней давности. Ниже помещалась череда букв, похожих на клинопись, столь же необычных и диковинных, как в древнееврейском алфавите.
— Теперь печать, — сказал профессор Грегг и протянул мне черный камень, вещицу двухдюймовой длины, напоминавшую старомодный пестик для набивания трубки табаком.
Я поднесла ее к свету и с удивлением обнаружила, что буквы на печати те же, что и в газетной вырезке.
— Да-да, — подтвердил профессор, — те же самые. Знаки на известняковой скале нанесены каким-то красным составом лет пятнадцать назад. Буквам же на печати по меньшей мере четыре тысячелетия. А может, и значительно больше.
— Не мистификация ли это? — озадаченно спросила я.
— Нет, к счастью, нет. Неужели я мог бы клюнуть на фальшивку и посвятить ей свою жизнь? Я все тщательным образом проверил. Кроме меня только одно лицо знает о существовании этой черной печати. К тому же есть и иные доказательства, о которых я не могу сейчас распространяться.
— Но что все это значит? — спросила я. — Я просто не в состоянии понять, куда вы клоните.
— Дорогая мисс Лелли, вопрос этот я бы оставил на некоторое время без ответа. Может быть, нам вообще не суждено разгадать тайну. Может быть, и нет никакой тайны… Что мы имеем? Несколько туманных намеков, смутные сведения о деревенских трагедиях, знаки, нанесенные на скалу красной краской, да древняя печать. Беспорядочные сведения, на которые едва ли можно положиться. Полдюжины отрывочных свидетельств, к тому же собранных по прошествии двадцати лет. И кто знает, что за terra incognita[79] скрывается за этим? Я, мисс Лелли, гляжу в глубокие воды, и то, что мне кажется дном, может оказаться всего лишь обманом, дымкой. Но мне хочется верить, что это не так, и, не пройдет и полгода, как мы узнаем, прав я пли нет…
Я вообще-то не обделена воображением, в здравом рассудке профессора не сомневаюсь и по сей день, но все же содержимое ящика смутило меня. Напрасными были мои старания представить, какую теорию можно выстроить, основываясь на разложенных передо мной предметах. Услышанное и увиденное, однако, казалось началом какого-то увлекательного романа, и меня снедало любопытство заядлой читательницы. Изо дня в день я пытливо вглядывалась в лицо профессора Грегга, ожидая, что он намекнет на дальнейшее развитие сюжета.
И вот как-то вечером, после ужина, долгожданное слово было произнесено.
— Надеюсь, вы можете без промедлений приступить к сборам? — спросил вдруг профессор. — Через неделю мы уезжаем. Я сиял загородный дом на западе Англии, неподалеку от Каэрмаена. Этот маленький городок некогда был крупным поселением, там стоял римский легион. А теперь буду жить я… Да… Там скучновато, но место приятное и воздух чудесный.
Я увидела нездоровый блеск в глазах профессора и догадалась, что внезапный отъезд каким-то образом связан с нашим недавним разговором.
— Я возьму с собой лишь несколько книг, — сказал Грегг. — Все остальное останется здесь до нашего возвращения. Устрою себе отпуск, — продолжал он с мечтательной улыбкой. — Невредно будет отдохнуть от всех этих старых костей, камней и прочего хлама. Знаете, я тридцать лет корпел над одними строгими фактами, пора дать волю мечтам и фантазиям.
Дни бежали быстро. Я замечала, что профессор еле справляется с охватившим его возбуждением — мысленно он уже был на новом месте. Мы выехали, как и намечали, в полдень следующего понедельника и к сумеркам прибыли на маленькую тихую станцию. Я устала, переволновалась и остаток пути провела в полудреме.
Вначале были пустынные улицы какой-то захолустной деревушки — и голос профессора Грегга, толковавшего про легионы Августа, лязг оружия и чудовищное великолепие когорт; потом — широкая река, морем растекавшаяся, когда в ней отражались последние отблески зари, сумеречно мерцавшие на желтой воде, белеющие нивы и петляющая меж пригорков тропа. Дорога начала забирать в гору, воздух становился более разреженным. Я глянула вниз и увидела молочной белизны туман, точно саван пеленавший реку, призрачную, расплывавшуюся вдали деревню, причудливо поднимающиеся холмы и карабкающиеся по ним леса, а в отдалении — жаркое пламя на горе, то разгоравшееся и полыхавшее светлым столбом, то угасавшее до ровного багрянца. Мы медленно двигались вверх, и меня вдруг обдало холодным дыханием таинственного, великого леса, простершегося над нами. Я словно вступала в его заповедную чащу, слышала журчание ручья, шелест листьев и глубокое дыхание ночи.
Экипаж наконец остановился, и, стоя на крытой галерее, я едва различала в темноте очертания дома. Остаток вечера пролетел как странный сон в обрамлении притихшего леса, реки и долины.
Проснувшись утром и выглянув из полукруглого окна просторной старомодной спальни, я увидела под серым небом все тот же таинственный крап. Узкая дивная долина с петляющей внизу рекой, средневековый мост на каменных сводчатых опорах, зачарованный лес и ни с чем не сравнимый теплый воздух, нежно льющийся в распахнутое окно. Я бросила взгляд через долину: там один за другим, как волна за волной, вздымались холмы; прозрачно-голубой дымок аккуратно струился в утреннее небо из трубы серого фермерского дома; хмурая вершина высилась в венчике темных елей: белая полоска дороги вилась вверх и исчезала вдали… А гра-шща всему — громадная горная гряда, уходившая, насколько хватал глаз, далеко на запад и обрывавшаяся метко обозначенной на фоне неба крепостью с крутыми отвесными стенами.
Под окнами прогуливался профессор Грегг — он явно наслаждался ощущением свободы и мыслью о том, что распрощался на время с рутинным служением академической пауке. Я вышла к нему, и он возбужденно заговорил о долине, о речке, петлявшей меж дивных холмов.
— Да, — заключил профессор. — это на редкость красивый край, и он полон тайн — так мне, по крайней мере, кажется. Вы не забыли, мисс Лелли, тот ящик, который я вам показывал? Надеюсь, вы не думаете, что я приехал сюда только для того, чтобы подышать чистым воздухом и заодно позабавить детей своим нелепым видом?
— У меня, конечно, были кое-какие предположения, — ответила я, — но вы ведь знаете, что я совершенно не в курсе предмета ваших исследований, а связь их с этой чудесной долиной попросту выше моего разумения.
Лицо профессора озарилось лукавой улыбкой.
— Ну-ну, не думайте только, что я держу вас в неведении из любви к розыгрышам, — сказал он. — Я молчу, потому как говорить, собственно, не о чем. У меня нет ничего такого, о чем можно было бы написать черным по белому и что имело бы заведомо неопровержимый, как в школьном учебнике, вид. Молчу я и по другой причине. Много лет назад случайно обнаруженная в газете заметка привлекла мое внимание, и тотчас смутные догадки и бессвязные фантазии сложились в определенную гипотезу. Я сразу понял, что иду по тонкому льду: теория моя была невообразимо дикой, и мне бы в голову не пришло обмолвиться о ней в печати хоть единым словом. Но я полагал, что в обществе себе подобных, в обществе ученых, которым ведома неисповедимость познания и известно, к примеру, что газ, ныне огнем полыхающий в любой пивной, некогда тоже казался дикой гипотезой, я могу рискнуть рассказать о своей мечте — будь то Атлантида,
Философский камень, да что угодно! — и при этом не подвергнусь осмеянию. Я жестоко заблуждался: друзья тупо уставились на меня, потом переглянулись, и в их взглядах я прочел не то жалость, не то высокомерное презрение, не то оба эти чувства. Один из тех, кому я рассказал о своей мечте, зашел ко мне на следующий день и издалека завел речь о том, что я-де переутомился и перенапряг свой и без того изнуренный мозг. "Короче говоря, — сказал я ему, — вы считаете, что я сошел с ума. Было бы странно, если бы и я считал так же", — и в сердцах выпроводил его. С тех пор я поклялся ни слова не говорить ни одной живой душе о своей теории и никому, кроме вас, никогда не показывал содержимого того ящика. Конечно, я могу ловить руками воздух, могу быть сбит с толку нелепым совпадением, но, стоя здесь, в этой таинственной тишине, посреди лесов и диких холмов, я не сомневаюсь, что нахожусь на верном пути.
Все это взволновало и удивило меня. Я ведь знала, как дотошен профессор Грегг в повседневной работе: выверяет каждый дюйм и не осмеливается делать никаких утверждений, не убедившись, что они неопровержимы. Его дикий взгляд и горячечность тона сказали мне больше, чем могли выразить слова: некое непостижимое видение владеет помыслами профессора. Наделенная скептицизмом не меньше, чем воображением, я восставала против этих намеков на чудо и даже подумала: уж не охватила ли профессора мономания и не отрекся ли он по этому случаю от научных навыков предшествующей жизни? Не свихнулся ли он в самом деле и не стоит ли мне, пока не поздно, дать, что называется, решительного дёру?
Но эти беспокойные мысли не помешали мне насладиться очарованием окружавшей нас природы. За нашим уставшим от долгого запустения домом начинался бескрайний лес: длинной темной полосой, миля за милей тянулся он над рекой с севера на юг, отступая на севере перед еще более мощной громадой голых диких холмов и неприступных ничейных земель — местами сплошь нехоженых и диковинных, куда менее известных англичанам, нежели какая-нибудь сердце-вина Африки.
Дом отделяли от леса лишь два распластанных по круче поля, и детям нравилось подниматься за мной длинными перелесками меж сплошных стен, образованных блестящими буковыми зарослями, к самой высокой точке леса, откуда посмотришь в одну сторону, поверх реки, — упрешься взглядом в западную горную гряду, посмотришь в другую, поверх волнистых шапок тысяч деревьев, ровных лугов и сияющего желтого моря, — едва различишь вдали зыбкую кромку горизонта. Я обычно сиживала здесь на теплом, залитом солнцем дерне, некогда окаймлявшем дорогу, по которой прошли римляне, а двое ребятишек сновали вокруг в поисках ягод утесника, росшего вдоль обочины. Здесь, глядя на бездонное голубое небо и огромные облака, я наслаждалась жизнью и вспоминала о странной идее только по возвращении домой, когда обнаруживала, что профессор Грегг либо заперся в маленькой комнатке, которую оборудовал под кабинет, либо расхаживал около дома с терпеливо-вдохновенным видом заядлого следопыта.
Однажды утром, дней через восемь-девять после нашего приезда, я, привычно выглянув в окно, увидела, что пейзаж переменился. Нависшие тучи скрыли гору на западе, южный ветер играл в долине с дождевыми столбами, а маленький ручей, лениво струившийся мимо нашего дома по склону холма, теперь бушевал, бурым потоком срываясь в реку. Нам поневоле пришлось сидеть взаперти.
Я и раньше наведывалась в комнату, где старомодный книжный шкаф еще хранил в своих недрах остатки библиотеки. Я уже давно обследовала полки, но содержимое их привлекло меня мало: сборники проповедей XVIII века, старый ветеринарный справочник, собрание стихотворений "знатных лиц", "Связующая нить" Придоу, томик из собрания сочинений Попа[80] — вот и все, и едва ли приходилось сомневаться, что из библиотеки было изъято все представляющее интерес или мало-мальскую материальную ценность.
Теперь же, от безысходности, я заново принялась перебирать заплесневелые пергаменты в переплете из телячьей кожи и, к восторгу своему, обнаружила изящный старинный том ин-кварто, отпечатанный Стефани и содержащий три книги "De situ orbis"[81] Помпотия Мелы, и другие сочинения древних географов. Моих познаний в латыни оказалось достаточно, чтобы довольно быстро продвигаться по несложному тексту, и вскоре меня захватило причудливое сочетание правды и вымысла: свет, сияющий в ограниченном пространстве мира, а вне его — туман, мрак и всяческие инфернальные существа. Просматривая четко отпечатанные страницы, я остановилась на заголовке главы из Солина[82] — "Mira de intimis gentibus Libyae, de lapide Hexecontalithon" — "О чудесном народе, обретающемся во внутренних пределах Ливии и волшебном камне, именуемом Шестидесятизначником".
Странный заголовок привлек мое внимание, и я принялась читать дальше: "Gens ista avia et secreta habitat, in inontibus horrendis faeda mysteria celebrat. De hominibus nihil aliud illi praeferunt quam figuram, ab humano ritu prorsus exulant, oderunt deum lucis. Stridunt potius quam loquuntur; vox absona nec sine horrore auditur. Lapide qnodam gloriantur, quern Hexecontalithon vocant; dicunt enim hunc lapidem sexaginta notas ostendere. Cujus lapidis nomen secret uni ineffabile colunt: quod Ixaxar".
"Народ сей, — бормотала я про себя, обнаруживая недюжинные способности переводчика, — обретается в глухих потаенных местах и отправляет свои мерзкие таинства в диких горах. Ничего человечьего в нем, кроме лица, нет, людские обычаи ему чужды, он ненавидит солнце. Народ сей не говорит, а шипит голосами резкими, слушать которые без содрогания невозможно. Похваляется он неким камнем, который именует Шестидесятизначником, ибо тот имеет на себе шестьдесят букв. У камня есть тайное непроизносимое имя — "Ик саксар".
Я посмеялась над удивительной нелогичностью написанного и подумала, что это вполне в духе "Синдбада-Морехода" и вообще сказок "Тысячи и одной ночи".
Увидевшись днем с профессором Греггом, я рассказала ему о находке из книжного шкафа и о содержавшемся там вздоре. К моему удивлению, профессор отнесся к нелепице с глубокой заинтересованностью.
— Эго и впрямь весьма любопытно, — сказал он. — Мне и в голову не приходило заглянуть в книги древних географов, и я наверняка многое потерял. Вы говорите, гам есть целый абзац? Грешно, конечно, лишать вас одного из последних развлечений, но я непременно должен забрать эту книгу.
На следующий день профессор позвал меня в кабинет. Он сидел за столом у незашторенного окна и что-то внимательно рассматривал через лупу.
— Мисс Лелли, — обратился он ко мне, — хочу воспользоваться вашим зрением. Лупа эта неплохая, но ей далеко до той, что осталась дома. Вас же, по счастью, я догадался захватить с собой. Поглядите, прошу вас, и скажите, сколько тут высечено знаков.
Он вложил мне в руку вещицу, что перед этим владела его вниманием. То была черная печать, которую он показывал мне в Лондоне, и сердце мое забилось при мысли, что я вот-вот приоткрою завесу тайны. Я взяла печать и, поднеся ее к свету, пересчитала причудливые знаки.
— У меня получилось шестьдесят два, — сказала я наконец.
— Шестьдесят два? Чушь, не может такого быть. Что за глупая цифра? А, понимаю, вы отдельно посчитали вот это и это, — показал он на две отметины, которые я и впрямь приняла за самостоятельные буквы. — но это явно случайные царапины, я сразу понял. Значит, все верно. Большое спасибо, мисс Лелли.
Разочарованная тем, что меня пригласили лишь затем, чтобы пересчитать отметины на черной печати, я собралась уходить, как вдруг в сознании у меня всплыл прочитанный вчера абзац.
— Но, профессор Грегг. — вскричала я, и дыхание у меня перехватило от волнения. — ведь ваша печать — это же Нехecontalithon, о котором пишет Солин! Иксаксар!
— Да, — ответил он, — мне пришла в голову та же мысль. А может быть, это всего лишь простое совпадение. В таких делах, знаете ли, никогда нельзя быть абсолютно уверенным. Совпадения сгубили многих ученых. Они — совпадения — это любят.
Я ушла пораженная услышанным и сильнее прежнего обескураженная своей неспособностью сыграть роль Ариадны в этом путаном лабиринте.
Три дня длилась непогода, ливни сменялись плотным туманом, пока все не окутало белое облако, совершенно отрезав нас от мира. Профессор Грегг скрывался в своей комнате, явно не желая откровенничать, да и вообще говорить; слышно было, как он, снедаемый вынужденным бездействием, расхаживает по кабинету быстрым нетерпеливым шагом.
На четвертое утро несколько распогодилось, и за завтраком профессор оживленно произнес:
— Нам требуется помощник для работы по дому, мальчик, знаете ли, лет пятнадцати-шестнадцати. Полно мелких дел, на которые прислуга тратит уйму времени, а паренек с ними прекрасно бы справился.
— Но прислуга не жаловалась, — заметила я. — Энн даже говорила, что работы здесь куда меньше, чем в Лондоне, — почти нет пыли.
— Да, пыли немного… И все же с мальчиком дела пойдут еще лучше. Признаться, два последних дня меня очень занимала эта мысль.
— Занимала? Вас? — изумилась я. Профессор вообще никогда не проявлял ни малейшего интереса к домашним делам.
— Да, погода, знаете ли… Я просто не мог выйти один в этот густой туман, ибо округа мне знакома мало и заблудиться здесь легче легкого. Но сегодня утром я намереваюсь нанять мальчика.
— Но откуда такая уверенность, что поблизости сыщется нужный вам мальчик?
— О, я нисколько не сомневаюсь, что стоит мне пройти самое большее милю или две — и я найду то, что требуется.
Я подумала, что профессор шутит, поскольку говорил он довольно легкомысленным тоном, но меня насторожило угрюмое выражение, застывшее на его лице. Затем он взял трость, приостановился в дверях, задумчиво глядя перед собой, и окликнул меня, когда я проходила через холл.
— Между прочим, мисс Лелли, хочу вам кое-что сказать. Вы наверняка слышали, что среди здешних парней встречаются не блещущие умом… Определение "идиот" пришлось бы здесь весьма кстати, но их обычно деликатно именуют "полоумными" или чем-то в этом роде. Надеюсь, вы не станете возражать, если мальчик, которого я найму, не будет особенно сообразительным. Естественно, он абсолютно безвреден, да ведь для чистки обуви особых умственных способностей и не требуется.
С тем профессор и ушел вверх по дороге, ведущей в лес, оставив меня стоять с открытым ртом. И тут в первый раз к моему изумлению добавилась едва слышная пока нотка страха. На мгновение я ощутила у сердца нечто вроде могильною холода и того неопределенного страха перед неизвестностью, что хуже самой смерти. Я старалась успокоиться, вдыхая сладкий воздух, исполненный запахов моря, и подставляя лицо солнечному свету, пришедшему на смену дождям, но над моей головой точно сомкнулся таинственный лес, и вид петлявшей в камышах реки, серебристо-серого древнего моста рождал у меня безотчетный страх — так в сознании ребенка самые безобидные и знакомые предметы могут вызывать ужас.
Двумя часами позже профессор Грегг возвратился. Я встретила его, когда он спускался по дороге, и спокойно спросила, удалось ли ему найти мальчика.
— О да, — ответил профессор. — Искать долго не пришлось. Его зовут Джарвис Кредок, и я надеюсь, он придется как нельзя более кстати. Отец его умер много лет назад, а мать — я ее видел — явно обрадовалась возможности получать по субботам несколько лишних шиллингов. Как я и предполагал, умом он не блещет, но словам матери, с мальчиком случаются припадки, но не с фарфором же ему иметь дело, верно? И он совершенно безопасен, уверяю вас, просто слаб на голову.
— Когда он придет?
— Завтра утром, в восемь. Энн покажет, что он должен делать и как. Поначалу мальчик будет на ночь уходить домой, но потом, я думаю, освоится и сможет проводить здесь всю неделю, а домой будет наведываться по воскресеньям.
Профессор Грегг говорил о случившемся как о само собой разумеющемся факте, лишь уточнял детали, а я все не могла заглушить в себе изумление. Я знала, что никакой помощи по дому нам не требовалось, да и туманное пророчество, будто мальчик, которого он намеревается нанять, скорее всего, "не в себе", сбывшееся потом с редкой точностью, крайне озадачило меня.
На следующее утро я услыхала от прислуги, что мальчик Кредок пришел в восемь и что Энн попыталась приладить его к делу. "Не знаю, мисс, а только, кажется, чокнутый он" — таков был ее краткий комментарий.
Днем я увидела Джарвиса, когда ои помогал старику, работавшему в саду. Кредок оказался подростком лет четырнадцати, черноволосым, черноглазым, с оливковым цветом кожи. По отсутствующему выражению его глаз сразу было видно, что ума у него немного. Когда я проходила мимо, то услышала, как он отвечает садовнику — странным резким голосом, сразу привлекшим мое внимание: впечатление было такое, будто голос идет из далекого подземелья, со страшным присвистом — так шипит фонограф, когда лапка съезжает с валка.
Мальчик, похоже, горел желанием переделать вею работу, был послушен, тих, и Морган, садовник, знакомый с матерью Джарвиса, заверил меня, что парень действительно совершенно безобиден.
— Он всегда был со странностями, — сказал садовник. — да и немудрено родиться слегка пришибленным после того, что случилось с его матерью. Я и отца его хорошо знал, Томаса Кредока. Да, работяга Томас был славный, что и говорить. Он застудил себе легкие — работать-то приходилось в сырых лесах. Так бедолага и не оправился, помер в одночасье. А миссис Кредок, право слово, так убивалась — совсем ума лишилась. Ее мистер Хиллер нашел в Серых Холмах — припала к земле и рыдает, вопит, как неприкаянная душа. А Джарвис… он через восемь месяцев родился и… сами понимаете; он, право слово, ходить еще толком не научился, а до жути пугал других ребятишек — уж больно чудные звуки издавал.
Кое-что в этой истории показалось мне знакомым, и я невольно спросила, где находятся Серые Холмы.
— Да там, — сказал Морган, неопределенно махнув рукой вверх, — пройдете "Лису с ищейками", потом лесом, по старым руинам. Отсюда добрых пять миль, странное место. Скудней земли нет до Монмаута, право слово, но пастбище для овец там доброе. Да, не повезло бедняжке миссис Кредок.
Старик вернулся к своей работе, а я побрела вниз но тропинке меж подагрически скрючившихся от старости шпалер, обдумывая услышанную историю и пытаясь понять, что именно меня тревожит. И вспомнила: я видела слова "Серые Холмы" на полоске пожелтевшей бумаги, которую вынимал из ящика в своем кабинете профессор Грегг.
Меня вновь охватил страх, смешанный с любопытством. Мне припомнились странные буквы, срисованные с известняковой скалы, идентичная им надпись на древней печати и фантастическая легенда римского географа. Я понимала: если все эти странные события не простое совпадение, то мне суждено стать очевидцем того, что совсем не укладывается в рамки обыденных представлений о жизни.
Я наблюдала за профессором Греггом изо дня в день: он шел по горячему следу, худел на глазах, а по вечерам, когда солнце переваливало за вершину горы, он, не отрывая глаз от земли, расхаживал вокруг дома, пока туман в долине не сгущался до белизны, вечерняя тишь не приближала далекие голоса и голубой дымок из ромбовидной трубы серого фермерского дома ровной струйкой не устремлялся ввысь — точь-в-точь как в то утро, когда я впервые увидела этот дом.
Я уже говорила, что во мне сильна скептическая жилка, но, несмотря на это, я начала бояться и тщетно успокаивала себя, мысленно повторяя избитые истины о том, что мир материален, что в природе вещей нет ничего непостижимого и что даже сверхъестественное может быть объяснено с научной точки зрения. Но все эти догмы разбивались мыслью о том, что материя на самом деле так же пугающе непостижима, как и дух, что сама по себе наука занята ерундой и скольжение по поверхности сокровенных тайн — предел ее возможностей.
Вспоминаю один день, выделяющийся из всех остальных, словно красная сигнальная вспышка, предвещавшая пришествие зла. Я сидела на скамейке в саду, наблюдая за Кредоком, который пропалывал какие-то растения, и вдруг услышала резкий звук — так дикое животное кричит от боли. Я была несказанно поражена: тело несчастного парня сотрясалось, будто через него пропускали электрический ток, мальчик скрежетал зубами, пена выступила у него на губах, лицо распухло и почернело до неузнаваемости. Я в ужасе закричала.
К тому времени, когда прибежал профессор Грегг, Кредок рухнул в конвульсиях на сырую землю и извивался в корчах, как раненая змея, а изо рта у него с хрипом и свистом рвались чудовищные звуки. Он словно говорил на каком-то жутком наречии, сыпал словами — если только это можно назвать словами, — которые вполне могли принадлежать языку, исчезнувшему в незапамятные времена и погребенному под толщей нильского ила или в мексиканских дебрях. Пока этот инфернальный рев терзал мой слух, у меня мелькнула мысль — да это голос ада!
Я снова закричала и бросилась прочь, потрясенная до глубины души. Я видела лицо профессора Грегга, когда он склонялся над несчастным мальчиком и поднимал его, и была убита нескрываемым торжеством, которым буквально светился профессор.
Оказавшись у себя в комнате, я задернула шторы и закрыла лицо рунами. Внизу послышались тяжелые шаги — впоследствии мне рассказали, что профессор Грегг отнес Кредока в кабинет и заперся там с ним. Я слышала отдаленные голоса и трепетала при мысли о том, что может происходить в нескольких шагах от меня. Мне хотелось выбежать на солнечный свет, скрыться в лесу, но меня страшили видения, которые могли явиться мне на пути. Я нервно цеплялась за дверную ручку, когда услыхала голос профессора Грегга, бодро звавшего меня к себе.
— Все в порядке! — возвестил профессор. — Бедняга пришел в сознание — пусть поспит у нас до завтра. Не исключено, что я смогу помочь ему… Зрелище, конечно, не из приятных — немудрено, что вы испугались. Но, может быть, хорошее питание пойдет мальчику на пользу, хотя окончательно поправиться, боюсь, ему не удастся.
Профессор напустил на себя подобающий случаю удрученный вид, с каким обычно говорят о безнадежной болезни, но я-то видела, что за этим кроется рвущееся наружу ликованье. Словно глядишь на тихую поверхность моря, ясную, неподвижную, а видишь вздымающиеся глубины и разверстые бездны. Для меня было поистине невыносимо, что человек, столь великодушно спасший меня от гибели, показавший себя во всех отношениях щедрым, сострадательным, добрым и заботливым джентльменом, мог так скоро, одним махом, перейти на сторону демонов и находить мрачное удовольствие в муках ущербного ближнего своего.
Я билась над загадкой такого поведения профессора Грегга, но не находила и намека на возможное решение: в этом сонме тайн и всякого рода противоречий не было ничего, что могло бы мне помочь, и я снова подумала, а не слишком ли дорогой ценой досталось мне спасение от белого тумана на лондонской окраине? Что-то в том же духе я обиняком высказала профессору Греггу, и этого было достаточно, чтобы профессор понял, в каком замешательстве я пребываю. Мне пришлось сразу же пожалеть о содеянном — я увидела, что лицо профессора исказилось настоящим страданием.
— Мисс Лелли, — сказал он, — вы ведь не хотите оставить нас? Нет-нет, вы не сделаете этого. Вы представить себе не можете, как я на вас рассчитываю, как уверенно продвигаюсь вперед, зная, что вы здесь и что дети находятся под вашим присмотром. Вы, мисс Лелли, мой надежный тыл, ибо дело, которым я сейчас занимаюсь, далеко не безопасно. Не забыли, что я говорил в первое же утро нашего пребывания здесь? Я зарекся раскрывать рот, пока моя схема, пусть даже и гениальная, не обрастет мясом математических выкладок. Хорошенько подумайте, мисс Лелли! Я не осмелюсь ни минуты держать вас здесь против вашей волн, но все же откровенно говорю вам: я уверен, что именно здесь, в этих лесах, мы найдем разгадку тайны.
Горячность его тона и память о том, что человек этот, в конце концов, был моим спасителем, растопили мое сердце, и я протянула профессору руку, обещая служить верой и правдой без лишних расспросов.
Несколькими днями позже пастор нашей церкви (скорее, даже маленькой церквушки — серой, строгой, необычной по архитектуре, возвышавшейся над рекой и видевшей все приливы и отливы) зашел к нам, и профессор Грегг легко убедил его остаться отужинать. Мистер Мейрик был выходцем из древнего рода сквайров. Поместье его находилось посреди холмов, в семи милях от нас, и, как уроженец этих мест, пастор хранил многие исчезнувшие обычаи и старинные предания края.
Своей подкупающей, не лишенной затворнической чудаковатости манерой держаться пастор расположил к себе профессора Грегга. Пришла пора подавать сыры, изысканное бургундское уже возымело действие, и оба джентльмена, раскрасневшись в тон вину, принялись рассуждать на филологические темы с пылом судачащих о знати носелян. Пастор как-раз толковал о произношении уэльского "II" и издавал звуки, похожие на журчание милых его сердцу лесных ручейков, когда профессор вдруг встрепенулся.
— Между прочим, — сказал он, — мне тут на днях встретилось очень странное слово. Вы знаете мальчика, который у меня работает, — бедняжку Джарвиса Кредока? Так вот, у него есть скверное обыкновение говорить с самим собой. Позавчера я гулял по саду и услышал его голос. Кредок явно не знал о моем присутствии. Многое из того, что ои говорил, я не разобрал, но одно слово врезалось мне в память. Звук был на редкость странный — не то шипящий, не то гортанный, и такой же необычный, как эти двойные "I", которые вы сейчас нам столь любезно демонстрировали. Не знаю, смогу ли я хоть отчасти передать звуковой строй этого слова — "Иксаксар" или нечто в этом духе. Знаю только, что "к" должен звучать, как греческий "chi" или испанский "j>. Что это означает на валлийском языке?
— На валлийском? — переспросил пастор. — Такого слова в валлийском нет, и хотя бы отдаленно напоминающего его тоже нет. Я знаю валлийский канон, разговорные диалекты, насколько это возможно, но похожего слова нет нигде начиная от Англси и кончая Аском. К тому же никто из Кре-доков не знает ни слова по-валлийски. Этот язык вымирает.
— Неужели? Все, что вы рассказали, крайне интересно, мистер Мейрик. Признаюсь, слово поразило меня вовсе не валлийским звучанием. Просто я думал, что это некое искажение на местный лад.
— О нет, я такого слова не слышал, вообще ничего похожего. Впрочем… — добавил пастор, загадочно улыбаясь, — если в каком языке и есть такое слово, так это в языке эльфов. Мы называем их тилвит тег…
Тема разговора сменилась, беседа пошла о стоявшей неподалеку римской вилле. Вскорости я ушла из комнаты, чтобы побыть в одиночестве и немного поразмышлять об услышанном. Когда профессор заговорил о необычном слове, я увидела, как он покосился на меня, и тут же вспомнила, что так называется упоминаемый Солином камень — спрятанная в потайном ящике черная печать исчезнувшей расы со странными знаками, которые не мог прочесть ни одни человек и которые вполне могли скрывать историю ужасных деяний, совершенных давным-давно и забытых еще до того, как горы обрели свои нынешние очертания.
Спустившись следующим утром вниз, я застала профессора Грегга за его бесконечным кружением перед домом.
— Поглядите на этот мост! — закричал профессор, увидев меня. Какое удивительное готическое творение! Эти углы между сводами, эта серебристость камня, благоговеющего перед утренним светом! Признаюсь, мне все это представляется весьма символичным: этот мост вполне мог бы олицетворять мистический переход из одного мира в другой…
— Профессор Грегг, — сказала я спокойно, — не пора ли мне узнать, что произошло и что должно произойти?
В тот момент он устранился от ответа, но вечером я вновь подступилась к нему, и профессор вдруг вспыхнул негодованием.
— Так вы еще не поняли? — шумел он. — Но я же вам столько рассказал и показал! Вы слышали почти то же, что и я, видели то же, что и я, — он начал понемногу остывать, — а ведь всего этого в конечном счете достаточно, чтобы многое прояснилось. Слуги, не сомневаюсь, уже доложили вам, что у несчастного Кредока предыдущей ночью опять случился припадок. Мальчик разбудил меня криками, и я отправился к нему на помощь. Не приведи вас Господь увидеть то, что я видел этой ночью!.. Но все это впустую, ибо время мое истекает. Через три недели я должен вернуться в город — нужно готовить курс лекций, и мне понадобятся все мои книги. В считанные дни все будет кончено, и не придется больше говорить намеками, боясь оказаться посмешищем. Мне будут внимать с таким чувством, какого еще ни один человек не пробуждал в душах ближних.
Профессор замолк, лицо его лучилось радостью великого и необыкновенного открытия.
— Но все это в будущем — ближайшем, но все-таки будущем, — продолжил он наконец. — Кое-что еще надо сделать. Вы, конечно, помните, как я говорил вам, что исследования мои небезопасны. И именно сейчас мне предстоит одна чрезвычайно опасная встреча. Но это приключение должно стать последним, заключительным звеном в цепи…
По ходу разговора профессор нервно расхаживал по комнате. В голосе его боролись нотки ликования и откровенного страха, страха человека, который без оглядки совершает прыжок в неведомое; мне почему-то пришло на ум сравнение с Колумбом, сделанное профессором в тот день, когда он дарил мне свою книгу.
Вечер выдался прохладный, в кабинете, где мы сидели, трещал камин, и рубиновый отсвет на стенах напомнил мне былые дни. Я молча сидела в кресле у огня, обдумывая услышанное и по-прежнему безуспешно пытаясь поймать ускользавшую от моего внимания сюжетную нить, как вдруг до меня дошло, что в комнате что-то изменилось.
Некоторое время я приглядывалась, тщетно стараясь уловить это "что-то": стол у окна, стулья, старое канапе — все было на месте. Но в следующее мгновение меня озарило: я поняла, в чем дело. Я сидела лицом к бюро, что стояло по другую сторону от камина. На самом верху бюро красовался угрюмого вида бюст Питта[83], которого раньше там никогда не было. Потом я вспомнила прежнюю прописку этого шедевра. В дальнем углу, за дверью, помещался старый шкаф. Вот на этом-то шкафу, футах в пятнадцати от пола, бюст и покоился, обрастая пылью с самого начала века.
Я была крайне удивлена. В доме, насколько я знала, такой вещи, как стремянка, не водилось — я искала ее, когда мне понадобилось переменить занавеси в комнате. В то же самое время ни один даже самый высокий мужчина не смог бы снять бюст при помощи стула, тем более что бюст стоял не на краешке шкафа, а был задвинут к самой стене. А профессор Грегг, кстати говоря, роста был ниже среднего.
— Как же вы сумели спустить вниз Питта? — поинтересовалась я. Профессор с любопытством посмотрел на меня и мн-нуту-другую помедлил с ответом. — Должно быть, стремянка нашлась или садовник принес с улицы лесенку?
— Нет, никакой лестницы у меня не было. Вот вам, мисс Лелли, — профессор попытался свести все к шутке, — маленькая головоломка, проблема в духе неподражаемого Холмса. Перед вами ряд фактов, ясных и очевидных, нужно проявить лишь остроту ума, чтобы найти решение. Ради всего святого! — вскричал он вдруг срывающимся голосом и с выражением сильнейшего испуга на лице. — Ни слова больше! Я же говорил, что не хочу обсуждать эту проблему. — И профессор вышел из комнаты, сильно хлопнув дверью.
Я в замешательстве оглядела комнату, не совсем понимая, что, собственно, произошло, и одно за другим отбрасывая пустые, нелепые объяснения. Я не могла взять в толк, с какой стати одно ничего не значащее слово и мельчайшая перемена в обстановке могли вызвать такую бурю. Дело выеденного яйца не стоит, блажь какая-то, размышляла я. Профессор в мелочах очень щепетилен и суеверен, и мой вопрос, очевидно, разбудил в нем потаенные страхи, какие вспыхивают у шотландки, когда у нее на глазах убивают паука или просыпают соль. Я начала потихоньку успокаиваться, но тут истина тяжелым грузом легла мне на сердце, и я с леденящим ужасом поняла, что дело не обошлось без постороннего чудовищного вмешательства — без лестницы достать бюст было невозможно.
Я отправилась на кухню и, насколько могла спокойно, спросила прислугу:
— Кто снял бюст со шкафа, Энн? Профессор Грегг говорит, что не трогал его. Вы нашли стремянку в одном из сараев?
Девушка непонимающе смотрела на меня.
— Я и не притрагивалась к нему, мисс, — сказала она. — Я увидела его на теперешнем месте давеча утром, когда протирала пыль в комнате. Помнится, это было в среду, да-да, наутро после топ ночи, когда на Кредока опять нашло. Моя комната рядом с его, — продолжала с жалостью Энн. — Это был какой-то кошмар! Мальчик так орал, имена непонятные выкрикивал. Я не на шутку перепугалась, но потом пришел хозяин, что-то сказал, перенес Кредока вниз и дал лекарство.
— А на следующее утро вы обнаружили, что бюст переехал?
— Да, мисс. Когда я спустилась вниз и открыла окна в кабинете, там стоял жуткий запах. Я еще подумала, какая гадость, что же это такое? Знаете, мисс, несколько лет назад я в выходной пошла с двоюродным братом Томасом Баркером в зоопарк. Я тогда служила у миссис Принс в Стенхоуп-Гейт. Мы отправились в зеленый домик поглядеть на змей, и там был точно такой же запах, помню, мне еще стало дурно, и Баркеру пришлось выводить меня оттуда. Вот я и говорю, такой же запах стоял в кабинете, я еще думала, с чего бы ему тут быть, когда увидела бюст на бюро хозяина. Я еще подумала: кто это сделал и как? А когда начала протирать пыль, глянула на бюст — а на нем здоровенный такой след, прямо по пыли, пыль-то с него лет тридцать не стирали, и на следы от пальцев не похоже, а просто полоса — широкая, длинная. Я прошлась по ней рукой, сама не знаю зачем, а она такая скользкая, липкая, будто змея проползла. Странно, правда, мисс? И кто это сделал? Беда, да и только.
Своей болтовней добросердечная Энн окончательно выбила меня из колеи. Я рухнула в постель и закусила губы, чтобы не закричать от мучительного ужаса и смятения чувств. Я просто едва не обезумела от страха; уверена, случись это днем, ноги моей гам не было бы через пять минут. Я забыла бы все свое мужество, долг благодарности, все, чем была обязана профессору Греггу, не задумалась бы о том, какая судьба меня ждет и не придется ли мне вновь умирать голодной смертью, — только бы выскочить из липкой паутины панического ужаса, которая с каждым днем стягивалась вокруг меня все туже и туже. Если бы знать, думала я тогда, если бы знать, чего бояться, я бы себя защитила, но здесь, в этом уединенном доме, окруженном со всех сторон дремучим лесом и уступами холмов, страх словно выползал из каждого угла, и кровь стыла в жилах от едва слышного глухого ворчания ночи.
Тщетно призывала я на помощь остатки своего скептицизма и силилась холодным рассудком подкрепить перу в естественный порядок вещей — воздух, сочившийся в растворенное окно, дышал тайнами, я сидела в темноте и ощущала, как тишина становится тягостной и скорбной, словно на заупокойной службе, а мое воображение рисовало всяческих странных существ, роящихся в камышах у речной заводи.
Утром, едва ступив на порог столовой, я почувствовала, что неведомый мне сюжет близок к развязке. Профессор сидел с каменным лицом и явно никого и ничего не слышал.
— Я отправляюсь на довольно длительную прогулку, — сказал он, когда с завтраком было покончено. — Если я не вернусь к ужину, не ждите меня и не думайте, будто что-то случилось. В последнее время я заскучал, засиделся, и небольшая прогулка меня встряхнет. Не исключено, что я переночую в какой-нибудь скромной гостинице, если она мне покажется чистой и удобной.
По опыту совместной жизни с профессором Греггом я знала, что им движет отнюдь не желание развлечься. Я не могла и предположить, куда он направляется, и не имела ни малейшего представления о том, что он задумал. Все мои ночные страхи вернулись, и когда профессор, улыбаясь, стоял около дома, собираясь с силами перед дальней дорогой, я принялась умолять его остаться и распрощаться с мечтой о неизвестном континенте.
— Нет-нет, мисс Лелли, — отвечал он, продолжая улыбаться. — Уже поздно. Vestigia nulla retrorsum[84] — девиз всех истинных первооткрывателей, хотя в моем случае, думается, это не стоит понимать слишком буквально. Но, право же, вы напрасно так тревожитесь. Моя маленькая экспедиция не опаснее дня, проведенного геологом в горах с киркой в руках. Риск определенный, конечно, есть, как и во время любой обычной экскурсии. Но в конце концов, могу же я позволить себе некоторую беспечность? Я же не делаю ничего предосудительного. Так что — выше нос! Я прощаюсь с вами, самое позднее, до завтрашнего утра.
Он легко зашагал вверх по дороге, отворил калитку, ведущую в лес, и исчез в гуще деревьев.
Исполненный тягостного сумрака день тянулся бесконечно долго. Я вновь ощущала себя пленницей древнего леса, брошенной в неведомый край тайн и кошмаров, причем так давно, что живой мир уже забыл о моем существовании. Надежда и страх боролись во мне, а между тем время шло к ужину, и я замерла в ожидании того момента, когда в холле зазвучат шаги профессора и его ликующий голос возвестит неведомую мне победу. Но наступила ночь, а профессора все не было.
Утром, когда служанка постучалась ко мне, я первым делом спросила ее, не вернулся ли хозяин; услышав, что спальня его пуста, я похолодела от отчаянья. Но во мне все еще теплилась надежда, что профессор встретил кого-нибудь и вернется к ланчу или чуть позднее. Я взяла детей и отправилась на прогулку в лес, изо всех сил стараясь веселиться, играть с ними — одним словом, вести себя так, словно ничего не случилось. Час за часом ждала я, и мысли мои становились все более мрачными.
Снова наступил вечер, я не находила себе места, и наконец, когда я через силу давилась ужином, снаружи послышались шаги и мужской голос.
Вошла служанка и как-то странно посмотрела на меня.
— Простите, мисс, — сказала она, — мистер Морган хочет поговорить с вами.
— Проводите его сюда, пожалуйста, — ответила я и прикусила губу от волнения.
Старик медленно вошел в комнату, служанка закрыла за ним дверь.
— Присаживайтесь, мистер Морган. — сказала я. — Что вы хотели мне сообщить?
— Да вот, мистер Грегг вчера утром, прямо перед уходом, оставил мне кое-что для вас и строго-настрого велел не передавать до восьми часов сегодняшнего вечера, коли случится так, что он к той поре домой не вернется; а коли вернется — отдать ему в собственные руки. Вот видите, мистера Грегга до сих пор нет, так что лучше, думаю, вручить вам этот пакет.
Он вытащил что-то из кармана и, привстав, передал мне. Я молча приняла пакет; видя, что Морган не знает, как ему быть дальше, я поблагодарила его, пожелала доброй ночи, и он вышел.
Я осталась в комнате наедине с бумажным пакетом, аккуратно скрепленным печатью и адресованным мне; условие, о котором только что упоминал Морган, было начертано размашистым почерком профессора на лицевой стороне пакета. С дрожью в сердце я сорвала печать. Внутри оказался еще один конверт, тоже надписанный, только открытый, и в нем-то я и обнаружила прощальное послание профессора Грегга.
"Дорогая моя мисс Лелли, цитируя фразу из старого учебника по логике, можно сказать, что сам факт чтения вами этого письма является свидетельством грубого просчета с моей стороны, просчета, боюсь, такого свойства, что он превращает эти строки в прощальные. Со всей определенностью можно утверждать, что ни вы, ни кто-либо еще никогда больше не увидят меня. Я сделал свой выбор, предвидя подобный оборот дела, и надеюсь, вы согласитесь принять адресованное вам скромное напоминание о моей особе и искреннюю признательность за то, что вы связали свою судьбу с моею. Постигшая меня участь столь ужасна, что подобное не привидится и в страшном сне, но вы имеете право узнать все — если пожелаете. Загляните в левый ящик моего стола, найдите там ключ от секретера — на нем есть особая пометка. В глубине секретера лежит большой конверт, скрепленный печатями и адресованный вам. Можете немедля бросить его в огонь, и тогда будете гораздо спокойнее спать по ночам. Но если вам угодно знать мою историю — читайте. Она написана дли вас".
Внизу стояла знакомая твердая подпись. Я вновь вернулась к началу и перечитала письмо. Внутри у меня все замерло, губы побелели, руки заледенели. Мертвая тишина, царившая в комнате, близкое дыхание темных лесов и холмов, обступивших дом со всех сторон, обрушились на меня — я окончательно осознала, что осталась одна, без помощи и поддержки, не представляя, куда обратиться за советом. Наконец я решила: пусть это преследует меня всю жизнь, все отпущенные судьбою дни, но я должна узнать, что кроется за необычными страхами, которые так долго изводили меня, накатывая отвратительной серой волной, похожей на зыбкие тени в лесных потемках. В точности исполнив указания профессора, я не без внутреннего сопротивления сорвала печать на конверте и извлекла из него рукопись. С тех пор рукопись эта всегда со мной, и я не вправе скрывать от мира ее содержание. Вот что я прочла в ту ночь при свете настольной лампы, сидя за бюро, на котором стоял бюст Питта.
Заявление Уильяма Грегга
Действительного члена Лондонского Королевского общества археологов, и прочая.
Много лет минуло с тех пор, как гипотеза, которая ныне стала почти доказанной теорией, забрезжила в моем сознании. Я был изрядно подготовлен к этому беспорядочным чтением старых книг, и позднее, уже приобретя специальность и полностью отдавшись науке, известной под названием этнологии, я то и дело становился в тупик перед фактами, которые никак не согласовывались с научными догмами, перед открытиями, которые свидетельствовали о наличии чего-то, неподвластного всем нашим рационалистическим выкладкам. К примеру, я убедился, что многое из мирового фольклора есть лишь сильно преувеличенный рассказ о событиях, случавшихся в реальности.
Особенно меня увлекала идея изучения рассказов о чудесном народе из кельтских преданий. Там я и надеялся обнаружить канву, щедро расцвеченную позднейшими домыслами о фантастическом обличье маленьких человечков, одетых в зеленое и резвящихся среди цветов; мне казалось, что я вижу определенную связь между именем этой расы (которую считали вымышленной) и ее культурой и нравами. Наши далекие предки называли эти жуткие созданья "справедливыми" и "добрыми" именно потому, что боялись их, по той же причине они придавали им чарующий и милый облик, прекрасно зная, что на самом деле все выглядит совсем иначе[85].
К этому обману живо подключилась и литература, приложив свою шаловливую руку к сему преображенью, так что эльфы Шекспира уже весьма далеки от оригинала, и вся присущая им мерзость прикрывается маской безобидной игривости. В более же древних преданиях — сказаниях, которыми обменивались люди, сидя вокруг горящего костра, — все совсем иначе. Иной настрой сквозит в историях о детях, мужчинах и женщинах, таинственным образом исчезавших с лица земли. В последний раз пропавших обычно видел ка-кой-нибудь случайный крестьянин — человек шел полем, направляясь к странным зеленым круглым холмикам, и больше его никто никогда не встречал.
Существуют также истории, рассказывающие о несчастных матерях, которые оставляли мирно спящее дитя за плотно закрытой на деревянную щеколду дверью, а по возвращении находили не пухлого розовощекого английского малыша, а чахлое, желтокожее, морщинистое созданье с угольно-черными глазищами — одним словом, дитя иной расы. А есть и еще более мрачные предания о страшных ведьмах, колдунах и зловещих шабашах, содержащие явные намеки па соитие демонов и дочерей человеческих.
Подобно тому как мы превратили "чудесный народ" в добросердечных, хоть и чуточку капризных эльфов, так же мы подменили богопротивную скверну ведовства ходульным изображением старой карги на помеле в компании потешного черного кота. Еще греки называли отвратительных фурий великодушными благодетельницами, и северные народы неосторожно последовали их примеру.
Я продолжал свои исследования, урывая часы у других, более насущных трудов, и постоянно задавался вопросом: если предания правдивы, то кто же те демоны, что собирались на шабаш? Конечно, я сразу отринул все сверхъестественные средневековые гипотезы и пришел к заключению: эльфы и дьяволы являются существами одной расы и одного происхождения. Благодаря болезненному воображению и буйной фантазии древние весьма преуспели в искажении и приукрашивании, но все же я твердо уверен, что у всего этого вымысла существует реальная, причем весьма мрачная, подоплека.
В отношении ряда мнимых чудес у меня были сомнения. Да, мне очень не хотелось встретить в практике современного спиритуализма хоть один пример, подтверждающий эту теорию, но все же я не мог категорически отрицать, что человеческая плоть порой — пусть в одном случае из десяти миллионов — может служить покровом силам, кажущимся нам магическими; на самом деле эти силы имеют отнюдь не небесное происхождение, наоборот, они представляют собою некий атавизм. У амебы или змеи есть возможности, которыми мы не обладаем.
Теорией реверсии я объяснил многое из того, что кажется необъяснимым. Вот из чего я исходил: у меня были серьезные основания полагать, что львиная доля древнейших и неискаженных преданий о так называемом чудесном народе есть чистая правда; сверхъестественный пласт этих преданий я объяснял предположением, что раса, выпавшая из великой цепи эволюции, может сохранять, как атавизм, определенные способности, которые нам представляются необыкновенными.
Вот примерно такая теория складывалась у меня, и отовсюду я получал ей подтверждения — будь то обнаруженные в кургане сокровища, сообщение в провинциальной газете о заседании собирателей древностей или очередной курьез, почерпнутый из мировой литературы. Помнится, меня особенно поразило обнаруженное у Гомера замечание о членораздельно говорящих людях — значит, тот знал, сам или понаслышке, людей со столь неразвитой речью, что ее едва ли можно было назвать членораздельной. В свою гипотезу о расе, значительно отставшей в своем развитии от остальных, я легко вписал предположение о том, что представители ее говорят на наречии, которое не особо далеко ушло от звуков, издаваемых дикими животными.
На том я и стоял, радуясь, что моя концепция была весьма близка к истине, пока не наткнулся на случайную заметку в провинциальной газете. То было короткое сообщение об обычной, по всем приметам, деревенской драме: непостижимым образом исчезла молодая девушка, и злые языки распустили о ней дурные слухи. Я же глядел между строк: скандальные подробности были, скорее всего, придуманы, дабы хоть как-то объяснить то, что не поддается обычному объяснению. Бегство в Лондон или Ливерпуль, самоубийство (лежит себе как ни в чем не бывало с камнем на шее где-нибудь на илистом дне лесного пруда), убийство — таковы были версии соседей несчастной девушки. Но я подумал: а что, если неведомая, ужасная раса обитателей холмов существует и поныне? А вдруг они по-прежнему живут в диких, пустынных местах и время от времени являют миру злые деяния, о которых рассказывают первобытные мифы, вечные, как мифы урало-алтайских племен или испанских басков.
Мысль эта поразила меня в самое сердце: в странном припадке ужаса и ликования я судорожно хватал ртом воздух, вцепившись руками в подлокотники кресла. Такое ощутил бы мой собрат, занимающийся естественными пауками, доведись ему, гуляя но тихому английскому лесу, увидеть мерзкого ихтиозавра, прототипа легенд об ужасном змее, повергаемом доблестным рыцарем, или заслонившего солнце птеродактиля, именуемого в преданиях драконом. И все же меня, как человека, преданного науке, мысль о подобной возможности повергла в буйную радость. Я вырезал заметку из газеты и положил ее в ящик старого бюро, решив, что это будет первый экспонат наистраннейшей из существующих коллекций.
Долго сидел я в тог вечер, предаваясь мечтам о работе, которую предстоит проделать, и старался, чтобы здравый смысл не охладил пыл первых откровений. Когда же я начат беспристрастно разбираться с упомянутым случаем, то понял, что строю свои предположения на довольно-таки зыбком основании, вернее — безо всякого основания; правда вполне могла быть на стороне местных обывателей, и я решил оценить этот случай очень сдержанно. И все же с тех пор я стал держать ухо востро и втайне упивался мыслью о том, что я один стою на страже, а полчища ученых и исследователей, ничегошеньки не ведая, не замечают, может быть, исключительно важных фактов.
Прошло несколько лет, прежде чем я смог пополнить содержимое ящика. Вторая находка в точности повторяла пер вую, с той лишь разницей, что все случилось в другом месте, тоже весьма удаленном. Но кое-что я из нее извлек — ведь во втором случае, так же как и в первом, драма разыгралась в пустынном и глухом краю, а значит, теория моя находила пусть ничтожное, но подтверждение.
Решающее значение имело для меня третье происшествие. Опять же среди отдаленных холмов, в стороне от торных дорог был обнаружен покойник, причем орудие убийства валялось рядом. Тут же пошли всякого рода слухи и догадки, поскольку роль кистеня удачно исполнил первобытный каменный топор, закрепленный жилами на деревянной рукояти. Выдвигались самые нелепые и неправдоподобные предположения, самые дикие версии — все напрасно. Я же думал об этом случае с нескрываемой радостью и не поленился вступить в переписку с местным доктором, который участвовал в дознании. Человек острого, проницательного ума, доктор пребывал в полнейшем недоумении.
"О таких вещах в провинции распространяться не принято, — писал он мне, — но тут явно кроется какая-то жуткая тайна. В мое распоряжение был предоставлен тот самый каменный топор, что послужил орудием убийства, и мне стало интересно опробовать его.
Как-то в воскресенье, пополудни, когда домочадцы и слуги отлучились, я отнес топор на задний двор и там, укрывшись за тополями, проделал эксперимент. Я обнаружил, что топор совершенно непригоден для дела — то ли у него какое-то особое равновесие, некий скрытый центр тяжести, к которому надо долго приноравливаться, то ли нанесение нужного удара требует исключительной ловкости и силы — не знаю, только домой я вернулся с самым нелицеприятным мнением о собственных атлетических данных. Мои упражнения с топором походили на неумелое метание молота, когда сила рывка обрушивается на метателя — меня резко заносило назад, а топор падал на землю.
В другой раз я привлек к эксперименту одного опытного лесника, но и этот человек, не выпускавший топора из рта на протяжении четырех десятилетий, ничего не мог поделать с каменным орудием — любая попытка совладать с ним кончалась неудачей. Короче говоря, не будь это в высшей степени абсурдным, я бы сказал, что за последние четыре тысячелетия на земле вывелись существа, способные нанести удар тем оружием, которым был убит старик".
Сие, как можно себе представить, не было для меня особой новостью, и впоследствии, когда я услышал эту историю целиком — несчастный старик, оказывается, любил посудачить о том, что-де можно увидеть по ночам на одном диком холме, намекая при этом на неслыханные чудеса, и как раз на том самом холме обнаружили его окоченевший труп, — я понял, что пора догадок и предположений позади. Но с еще большими затруднениями я столкнулся, предприняв следующий шаг.
Многие годы я владел необычной каменной печатью — куском тусклого черного камня, насчитывающим от кончика рукоятки до печатки два дюйма в длину. Сама печатка была естественного происхождения шестиугольником диаметром в дюйм с четвертью. Внешне она походила на увеличенный старомодный пестик для набивания табака в трубку, но, скорее всего, таковым пестиком не являлась. Ее прислало мне одно внушающее всяческое доверие лицо, сообщившее, что печать была обнаружена близ стен древнего Вавилона.
Вырезанные на печати буквы оставались для меня неразрешимой загадкой. Они представляли собой нечто вроде клинописи, перемежавшейся чужеродными элементами, которые сразу же бросались в глаза. Сколько я ни пытался прочесть надпись, полагая, что мне помогут известные сегодня правила дешифровки клинописи, все оканчивалось полным провалом. Это обстоятельство весьма задевало мою профессиональную гордость. Я частенько вынимал черную печать из шкафа и разглядывал ее с таким тупым упорством, что в сознании у меня отпечатался каждый ее штрих — я безошибочно мог воспроизвести надпись по памяти.
Вскоре я получил от своего корреспондента на западе Англии письмо с приложением, которое сразило меня наповал, словно удар молнии. На большом листе бумаги были старательно выведены буквы с моей черной печати, а над ними — приписка, сделанная рукой моего друга:
"Надпись, обнаруженная на известняковой скале Серых Холмов, в Монмутшире. Нанесена неким красным веществом, причем совсем недавно".
Друг сообщал:
"Посылаю вам эту странную надпись с необходимыми уточнениями. Пастух, проходивший мимо камня неделю назад, клянется, что на нем не было никаких отметин. Буквы, как я уже говорил, нарисованы на камне неким красным составом, средняя высота их составляет около дюйма. Мне они напомнили клинопись, только сильно деформированную, что, конечно же, мало похоже на правду. Либо это мистификация, либо каракули цыган, которых в пашем краю предостаточно. У них, как известно, есть множество условных значков, при помощи которых они сообщаются друг с другом. Два дня назад мне довелось побывать около этого камня в связи с довольно печальным случаем, который там произошел".
Как вы понимаете, я немедля написал другу, выразив благодарность за то, что он не поленился скопировать надпись, и между делом осведомился об упомянутом случае. Из его ответа я узнал, что некая женщина но фамилии Кредок, за день до того лишившаяся мужа, отправилась сообщить прискорбное известие двоюродному брату, который жил в пяти милях от ее дома. Она пошла кратчайшим путем, через Серые Холмы. Миссис Кредок, бывшая в ту пору совсем молодой женщиной, до родственников не добралась. Поздно вечером потерявший пару овец фермер, думая, что те отбились от стада, шел через Серые Холмы с собакой и фонарем. Внимание его привлек звук, который, по его описанию, походил на тоскливый и жалобный вой; пойдя на голос, фермер обнаружил несчастную миссис Кредок скорчившейся у известняковой скалы и раскачивающейся из стороны в сторону с такими рвущими сердце стенаниями и воплями, что поначалу он даже был вынужден заткнуть уши. Женщина позволила отвести себя домой, приглядеть за ней пришла соседка. Ночь напролет миссис Кредок кричала, перемежая стенания словами какого-то непонятного наречия; вызванный доктор поспешил объявить ее душевнобольной. Неделю она пролежала в постели, то завывая, как неприкаянная и навеки проклятая душа, то впадая в глубокое забытье; все считали, что горе утраты помутило ее разум, и врачи серьезно опасались, что она не выживет.
Стоит ли говорить, как заинтересовала меня эта история. Я попросил своего друга регулярно сообщать мне обо всем, имевшем хоть какое-то касательство к данному случаю. Через шесть недель женщина опамятовалась, постепенно пришла в себя, а спустя несколько месяцев произвела на свет сына, на-ременного при крещении Джарвиеом; он, к несчастью, родился слабоумным.
Таковы были факты, известные деревне. Для меня же, леденевшего при мысли о чудовищных преступлениях, которые, вне всякого сомнения, творились древней расой под покровом ночи, все эти объяснения были в высшей степени недостаточными, и я по неосторожности рассказал о моей гипотезе кое-кому из коллег. Не успел я произнести последнее слово, как горько пожалел о преждевременном разглашении своей тайны. Друзья рассмеялись мне в лицо, сочтя меня сумасшедшим. Возмущаясь и негодуя, в душе я посмеивался, ибо мог не опасаться этих болванов: доверять им — все равно что откровенничать с полями, морями, песками, лесами, равнинами, пустынями и горами.
Только теперь, уже обладая достаточными знаниями, я сосредоточил все свои усилия на дешифровке надписи с черной печати. Долгие годы эта загадка была единственным, что занимало меня в короткие часы досуга, поскольку большая часть моей жизни, как водится, была посвящена исполнению других, более "достойных" обязанностей. Лишь изредка мне удавалось урвать недельку для сокровенных изысканий.
Полная история этого любопытного исследования кому угодно может показаться крайне утомительной, ибо в основном она состоит из длинного перечня изнурительных неудач. Я достаточно поднаторел в древних рукописях, чтобы иметь нахальство рассчитывать на успех. Я состоял в переписке со многими учеными мира и не верил, что в наши дни какие бы то ни было письмена, сколь угодно древние и запутанные, могут устоять перед мощью научного знания. Тем не менее факт остается фактом — четырнадцать полных лет понадобилось, чтобы найти ключ к таинственному тексту.
С каждым годом профессиональных обязанностей у меня все прибавлялось, а часов досуга, в соответствии с немудреными правилами механики, становилось все меньше. Это, понятно, замедляло ход исследований, и все же, оглядываясь на те годы, я удивляюсь масштабности своих поисков. Я терпеливо собирал образцы древнего письма всех времен и народов, решив ничего не оставлять без внимания. Один шифр сменялся другим, но результатом даже не пахло, и с годами я стал отчаиваться и подумывать, уж не является ли черная печать единственным реликтом некой исчезнувшей расы, отказавшей нам в иных следах своего существования, сгинувшей, как Атлантида, в каком-нибудь великом катаклизме… И теперь тайны ее погребены на дне океана или в толще холмов.
Я продолжал упорствовать, но прежней непоколебимой веры уже не было. Дело решил случай.
Оказавшись в одном крупном городе на севере Англии, я посетил самый богатый в тех краях музей. Хранитель его был одним из моих преданных поклонников, и когда, уже изрядно измученный, он показывал мне очередную витрину с минералами, мое внимание вдруг привлек один экспонат — черный четырехдюймовый камень, чуть-чуть напоминавший черную печать. Я инстинктивно взял его в руки, перевернул и с изумлением обнаружил надпись на тыльной стороне.
Своему другу-смотрителю я хладнокровно сказал, что экспонат мне любопытен и что я буду крайне признателен, если мне позволят взять камень на пару дней в гостиницу. Смотритель, естественно, был рад мне угодить.
Я поспешил к себе в номер и со всем тщанием принялся изучать экспонат. На камне было две надписи: одна обычной клинописью, другая — знаками черной печати. Я понял: разгадка рядом.
Сделав точную копию обеих надписей, я вернулся в Лондон и, положив их на стол рядом с черной печатью, приступил к решающей атаке. Надпись на камне, сама по себе довольно любопытная, не проливала света на мои вопросы, но транслитерация сделала меня обладателем шифра. Конечно, не обошлось без конъектуры[86], причем то и дело возникала неуверенность относительно одной идеограммы, а вновь и вновь повторявшийся на печати некий знак подло не давался мне несколько ночей кряду. Наконец тайна предстала предо мной в облачении обычных английских букв. Могу с уверенностью сказать, что наш благородный язык никогда еще не использовали для передачи таких ужасных текстов.
Едва дописав последнее слово, я дрожащими, неверными руками разорвал листок в мелкие клочья, бросил их в полыхающий камин, убедился в том, что они вспыхнули и почернели, а затем стер в порошок оставшиеся серые хлопья пепла. Никогда с тех пор я не писал и уж, конечно, никогда не напишу этих чудовищных слов — слов, которыми человека можно вновь низвести до скверны, из коей он поднялся к свету, и облечь плотью змеи или какого-нибудь другого мерзкого пресмыкающегося.
Теперь оставалось одно, но самое важное: я знал, но жаждал видеть. И вот спустя некоторое время мне удалось снять дом в окрестностях Серых Холмов, неподалеку от хижины, где жила миссис Кредок с сыном Джарвисом. Наверно, не стоит вдаваться в детальное описание всех событий, которые произошли со мной здесь.
Я был уверен, в Джарвисе Кредоке течет кровь "чудесного народа", и позднее узнал, что мальчик не раз встречался с сородичами в самых укромных местах этого пустынного края. Когда однажды я услыхал, как он в очередном припадке говорит или, скорее, шипит на жутком наречии черной печати, ликование, боюсь, заглушило во мне жалость. С уст его слетали тайны подземного мира, в том числе — словесное воплощение ужаса "Иксаксар", о значении, произнесении и начертании которого я предпочитаю умолчать.
Но один случай я обязан рассказать. Однажды глубокой ночью я проснулся от уже знакомых свистящих звуков, прошел в комнату к несчастному мальчику и увидел, как он в конвульсиях, с пеной у рта, мечется по кровати, словно уворачиваясь от нападающих на него демонов. Я отнес его к себе в комнату и зажег лампу.
Он корчился на полу, умоляя вселившуюся в его плоть силу убраться туда, откуда она пришла. На моих глазах тело его разбухло, вздулось, как пузырь, лицо почернело; и вот тогда, в этот решающий момент, я сделал все, что требовали предписания печати, и, отбросив угрызения совести, поступил, как подобает настоящему ученому — стал хладнокровно наблюдать за происходящим.
Зрелище, развернувшееся передо мной, превосходило самые дикие фантазии. От тела на полу отделилось Нечто, вытянулось, липким колышущимся щупальцем обхватило бюст на шкафу и переставило на бюро…
Когда все было кончено, я до самого рассвета не мог найти себе места. Бледный, дрожащий, исходя потом я расхаживал по кабинету и тщетно уговаривал себя: "Ты не видел ничего поистине сверхъестественного. И кроме того, змей, выпроставший и втянувший обратно свои жуткие щупальца, был не самым значительным из всего, что предстало перед твоими глазами". Но неодолимый ужас отметал все доводы разума, и я не переставал клясть себя за причастность к ночному происшествию.
Остается добавить совсем немного. Я отправляюсь на последнее испытание, на последнюю схватку, ибо я решился на все и готов встретиться лицом к лицу с "чудесным народом". Со мной будет черная печать, и я надеюсь, что знание ее тайн поможет мне. Но если я, по несчастью, не вернусь из этой экспедиции, не стоит даже и гадать о моей ужасной участи.
Этими словами заканчивалась рукопись, которую оставил профессор. Я читала ее всю ночь, а утром взяла с собой Моргана, и мы отправились к Серым Холмам но следам пропавшего профессора.
Мое и без того унылое настроение усугублялось дикой глушью того края — со всех сторон нас окружали голые зеленые холмы, усеянные серым известняком и валунами, которым разрушительное время придало фантастическое сходство с фигурами людей и животных. Наконец, после долгих часов изнурительных поисков, мы обнаружили часы с цепочкой, кошелек и кольцо, завернутые в плотный пергамент.
Когда Морган разрезал жгут, которым был перевязан сверток, и достал вещи профессора, я расплакалась, но, заметив повторяющиеся на пергаменте знаки черной печати, умолкла в ужасе. Наверное, только в гот момент я впервые осознала, насколько страшна была участь, постигшая моего недавнего хозяина.
Скажу еще, что адвокат профессора Грегга отнесся к моим свидетельствам как к сказке и наотрез отказался даже заглянуть в документы, которые я положила перед ним. Это на его совести появившееся в печати заявление о том, что профессор Грегг утонул, а тело его было унесено в открытое море.
Мисс Лелли замолчала и вопросительно посмотрела на мистера Филип пса. Тот был погружен в глубокое раздумье. Потом он поднял глаза и задумчиво воззрился на царившую на площади вечернюю толчею — на спешивших к ужину (который, впрочем, и ему пришелся бы очень кстати) мужчин и женщин, подозрительные фигуры оборванцев, сновавших гуда-сюда в поисках оброненных окурков, и веселые стайки зрителей у дверей мюзик-холлов. Гам и суета обыденной жизни показались ему в тот момент не явью, а неким видением — воспоминанием о сне, что является нам в утренней полудреме.
— Благодарю вас за интереснейший рассказ, — сказал он наконец. — Я абсолютно убежден в его полной правдивости, хотя, как вы сами понимаете, на взгляд здравомыслящего человека он более чем дик.
— Сэр! — ответила дама, снова воспылав негодованием. — Вы огорчаете и обижаете меня! Неужели вы думаете, что я стала бы тратить ваше и свое время на пустую болтовню?
— Простите, мисс Лелли, вы меня не так поняли. Еще до того, как вы заговорили, я знал, что все сказанное вами будет от чистого сердца. Пережитый опыт куда ценнее всякой bona fides[87]. Самые невероятные обстоятельства в вашем рассказе прекрасно согласуются с новейшими научными теориями. Профессор Лодж, уверен, крайне высоко оценит ваше сообщение — я уже давно очарован его смелой гипотезой, объясняющей чудеса так называемого спиритуализма. Однако вынужден признать, что ваш рассказ выводит эту проблему за рамки простой гипотезы.
— Увы, сэр! Это не поможет мне. Вы забыли, что я только что потеряла брата — потеряла при самых подозрительных и страшных обстоятельствах. Я хочу еще раз спросить вас: не видели ли вы его, когда шли сюда? Черные усы, очки, беспокойно озирается по сторонам…
— Сожалею, но я никогда не встречал подобного человека, — сказал Филиппс, который к тому времени успел напрочь забыть о пропавшем брате. — Но позвольте задать вам несколько вопросов. Не случалось ли вам замечать, что профессор Грегг…
— Простите, сэр, но я и так задержалась. Меня ждут хозяева. Благодарю за сочувствие. До свидания.
Прежде чем мистер Филиппс успел оправиться от изумления, вызванного столь внезапным окончанием разговора, мисс Лелли смешалась с толпой, теснившейся на подступах к театру "Эмпайр".
Филиппс пришел домой в глубокой задумчивости и, сам того не замечая, выпил несколько чашек чаю подряд. В десять часов вечера он вновь приготовил себе свежую заварку и принялся набрасывать черновой план небольшой статьи под названием "Протоплазменная реверсия".
Случай в баре
В свободное время мистер Дайсон частенько размышлял о необычной истории, которую ему довелось услышать в кафе "Турень".
Во-первых, он испытывал глубочайшую уверенность в том, что зерна истины рассыпаны в гладкой на вид повести о мистере Смите и урочище Черных Скал чересчур скаредной рукой; во-вторых, ему трудно было отрицать факт бесспорного волнения рассказчика. Чего стоили одни только эмоции! Они были слишком бурны, чтобы заподозрить притворство. Прогуливающийся по Лондону праздный джентльмен, которого преследует страх встречи с молодым человеком в очках, — что-то в этой сюжетной завязке крайне озадачивало Дайсона. Он изо всех сил напрягал свою память, безуспешно пытаясь припомнить какой-нибудь литературный аналог.
В свободное время Дайсон захаживал в маленькое кафе, надеясь встретить там мистера Уилкинса. Он пристально вглядывался в заполонившее лондонские улицы полчище мужчин в очках, ничуть не сомневаясь, что, доведись ему встретить того типа, что выбежал из булочной, он непременно вспомнит его. Однако все его старания не принесли хоть сколько-нибудь ценных результатов, и Дайсону потребовалась вся его пылкая убежденность в собственных детективных способностях, дабы окончательно не пасть духом.
Теперь он переживал одновременно за два дела: день за днем расхаживая по людным или пустынным улицам, заглядывая в глухие кварталы и не теряя бдительности на перекрестках, он, с одной стороны, безмерно тревожился о том, что история золотой монеты не имеет продолжения, а с другой — не понимал, куда могли запропаститься прямодушный Уилкинс и избегаемый им молодой человек в очках.
Сидя как-то вечером в баре на извозчичьей бирже Стрэнда, он курил трубку и ломал себе голову над всеми этими проблемами. Упорство, с коим увиливали от него лица, которых он так страстно жаждал встретить, придавало стоявшему перед ним пиву привкус горечи. Дайсон так увлекся дедукцией, что и не заметил, как начал разговаривать сам с собою вслух.
— Господи, какая нелепица! — в частности сказал он. — Какой-то странный тип пристает ко мне на тротуаре и начинает уверять, что ужасно боится робкого молодого человека в очках, а потом вся эта чепуха никак не может вылететь у меня из головы! Готов поклясться, у меня внутри зреет какое-то чудовищное предчувствие!
Еще до того, как он успел произнести последние слова, из-за перегородки соседнего отделения выглянула чья-то голова — выглянула и снова скрылась. Пока Дайсон соображал, что бы все это могло значить, дверца его собственной кабины распахнулась и на пороге появился щеголеватый, гладко выбритый и весьма улыбчивый господин.
— Простите, сэр, — вежливо начал незнакомец, — что посягаю на ваше одиночество, но минуту назад вы позволили себе сделать замечание…
— Да, — ответил Дайсон. — Я бился над решением одной нелепейшей загадки и, очевидно, думал вслух. Поскольку вы всё слышали и, как видно, вас это заинтересовало, то, может быть, вы сумеете развеять мое недоумение?
— Право, не знаю, что и сказать. Все это чистой воды совпадение. Тут нужно держать ухо востро. Полагаю, сэр, что вы не откажетесь оказать содействие правосудию?
— Правосудие, — с готовностью подхватил Дайсон, — является столь широко толкуемым термином, что я не решаюсь с ходу дать вам внятный ответ. В любом случае здесь не слишком подходящее место для подобных разговоров. Может быть, соизволите заглянуть ко мне в гости?
— Благодарю вас, вы очень любезны. Меня зовут Бартон — жаль только, сейчас при мне нет карточки. Вы живете недалеко?
— В десяти минутах отсюда.
Мистер Бартон вынул часы и, словно что-то прикидывая в уме, пошевелил губами.
— Мне нужно успеть на поезд, — сказал он. — Но, с другой стороны, времени еще достаточно. Так что я вполне могу пойти с вами. Уверен, мы славно побеседуем.
К театральным подъездам уже вовсю стекались люди, улицы наполнились гомоном, и Дайсон довольно поглядывал по сторонам. Мерцающие ряды газовых фонарей, слепящие огни электрических ламп, снующие туда-сюда и беспрестанно позвякивающие колокольчиками экипажи, переполненные до отказа омнибусы, целеустремленно спешащие во всех направлениях пешеходы — все это ласкало глаз и ублажало слух. Изящный шпиль церкви Святой Марии но одну руку и последний отблеск заката по другую вдохновляли ею, как цветение какого-нибудь утесника вдохновляло Линнея[88].
Когда они переходили улицу, мистер Бартон перехватил ласковый взгляд Дайсона.
— Я вижу, вас радуют красоты Лондона, — сказал он. — Для меня этот вечный город также является первой и единственной любовью. Да, лишь немногим дано проникнуть за завесу мнимого однообразия и бессмыслицы его жизни! Лишь немногим! В одной газете (у нее, как говорят, самый большой в мире тираж) мне попалось животрепещущее сравнение Лондона с Парижем — сравнение, которое по праву может послужить лавровым венком воинствующей глупости. Представьте себе, каким заурядным умом надо обладать, чтобы предпочесть парижские бульвары нашим лондонским улицам. Вообразите человека, взывающего к полному разрушению нашего восхитительнейшего города. И все ради того, чтобы скучная безликость этого гроба, именуемого Парижем, была воспроизведена здесь, в столице великой империи!
— Дорогой сэр! — сказал Дайсон, тут же проникшись к Бартону глубочайшим уважением. — Я всей душой соглашаюсь с вашим мнением, но не могу разделить вашего удивления. Вы слышали, сколько Джордж Элиот[89] получил за свою "Ромолу"? Известен ли вам тираж "Роберта Элсмера"[90]? Читаете ли вы регулярно "Тит-Битс"[91]? Нет? Вот и напрасно — для меня вся эта ерунда является неиссякаемым поводом благодарить Господа за то, что Лондон еще двадцать лет назад не превратили в коллекцию бульваров. Я восторгаюсь этой тонкой кромкой горизонта, что протянулась за блеклой зеленью деревьев, гаснущей голубизной неба и рдеющими облаками заката. Но еще больше, чем восторгаюсь, я удивляюсь. Возьмите Церковь Святой Марии — уже одно то, что она уцелела, есть истинное чудо. А ведь шедевру безупречной красоты невозможно устоять против линии омнибусов! Решение суда заведомо известно! Вы наверняка не читали письмо человека, который предлагал безо всяких церемоний отменить систему таинств, а заодно с нею и сохранившийся с незапамятных времен способ исчисления Пасхи. — его, видите ли, не устраивает, что у сына каникулы начинаются с двадцать пятого марта! Однако пойдемте дальше.
Наслаждаясь городским пейзажем, они немного постояли на углу улицы, пересекавшей северную часть Стрэнда. Затем Дайсон жестом указал направление, и они двинулись по относительно пустынным кварталам, забирая чуть-чуть вправо и вверх. Вскоре они уже входили в квартиру Дайсона, которую тот снимал на самой окраине Блумсбери.
Мистер Бартон уселся в высокое кресло у растворенного окна, а Дайсон зажег свечи и позаботился о виски с содовой и сигаретах.
— Мне говорили, что эти сигареты очень хороши, — сказал он. — Сам я в них не разбираюсь. Я могу выносить лишь старый добрый трубочный табак. Кстати, не желаете ли отведать?
Мистер Бартон вежливо отказался и извлек из коробки сигарету. Докурив ее до половины, он с некоторым сомнением произнес:
— С вашей стороны было очень мило пригласить меня сюда, мистер Дайсон. Действительно, предмет нашего разговора слишком серьезен, чтобы обсуждать его в баре, где, как вы сами убедились, полно слушателей — вольных или невольных. Так я не ослышался и вы действительно размышляли о странном поведении персоны, разгуливающей по Лондону в смертельном страхе перед молодым человеком в очках?
— Так оно и есть.
— Вас не затруднит рассказать об обстоятельствах, наведших вас на столь своеобразные и глубокие размышления?
— Ни в малейшей степени. Вот как это было. — И Дайсон в общих чертах обрисовал свое приключение на Оксфорд-стрит, подробно остановившись на бурной жестикуляции мистера Уилкинса, но полностью утаив услышанную в кафе историю. — Он сказал, что живет в постоянном страхе перед этим человеком, и я оставил его лишь после того, как убедился, что он достаточно остыл и мог контролировать себя.
— Так-так. — задумчиво промолвил мистер Бартон. — И вы сами видели эту загадочную персону?
— Видел.
— И могли бы ее описать?
— Ну, человек, о котором мы говорим, показался мне довольно моложавым, бледным и нервным. У него маленькие черные усики и довольно большие — в сравнении с усиками — очки.
— Это просто удивительно! Потрясающе! Я непременно должен рассказать вам о своем интересе в этом деле. Лично я нисколько не боюсь встретиться с молодым человеком в очках, но сильно подозреваю, что ему лучше со мной не встречаться. Но как совпадает описание! Он то и дело нервно озирается по сторонам, не так ли? И, как вы изволили заметить, носит внушительного вида очки, которые как бы компенсируют его маленькие темные усики? Не может быть, чтобы один и тот же человек внушал ужас людям и одновременно вел себя как жертва преследования. Вы с тех пор не видели этого человека?
— Нет, хотя весьма усердно искал. Конечно, в силу ряда причин он мог покинуть Лондон. И даже Англию.
— Едва ли. Однако, мистер Дайсон, справедливость требует, чтобы и я в свою очередь объяснился и рассказал вам мою историю. Так вот, должен признаться, что я агент по продаже всяческого антиквариата и драгоценностей. Хитрое занятие, не так ли? Конечно, я долго учился этому ремеслу. Но меня всегда влекли к себе разные редкие вещицы, и годам к двадцати я уже собрал около полудюжины коллекций. Никто не знает, сколь часто на фермерских полях обнаруживаются разные разности, и вы бы удивились, расскажи я вам, что мне доводилось извлекать из-под лемеха плуга. Живя в деревне, я не обходил вниманием ничего из того, что приносили на продажу фермеры, и в конце концов собрал редчайшую кучу хлама — так именовали мою коллекцию друзья. Но теперь это занятие означает для меня все — я понял, что накопленные знания не только можно, но и нужно обращать в деньги.
С тех давних пор я побывал в самых глухих закоулках Англии, а потом объездил весь мир. Через мои руки проходили баснословно ценные вещи, и мне удавалось успешно проводить сложнейшие и деликатнейшие переговоры. Может быть, вы слышали о Ханском опале — на Востоке его еще называют "Камнем тысячи и одного цвета"? Так вот, приобретение этого камня было самым крупным моим достижением. Про себя я называл его "Камнем тысячи и одной лжи", поскольку для того, чтобы заполучить его, мне пришлось разыграть перед владевшим нм раджой целое мистическое действо. Я подкупил странствующих сказителей, и те принялись рассказывать радже сказки, в которых опал играл зловещую роль; потом я нанял святого — весьма известного на Востоке отшельника, — и тот на языке восточной символики предрек обладателю камня дурное будущее. Короче говоря, я запугал раджу до полусмерти. Как видите, в деле, которому я посвятил жизнь, имеется широкий простор для применения дипломатических способностей. Мне нужно было всегда держать ухо востро, и часто я буквально кожей чувствовал опасность. Я и сейчас уверен в том, что, не следи я за каждым своим шагом и не взвешивай каждое слово, долго мне на этом свете не продержаться.
В апреле сего года я узнал о существовании редчайшей античной геммы. Она находилась в Италии — у людей, не ведавших ее истинной цены. По опыту я знал, что именно с невеждами труднее всего иметь дело. Например, мне встречались фермеры, возомнившие, что шиллинг эпохи Георга I стоит полудюжины состояний. Большинство моих неудач в делах связано как раз с людьми такого толка. Я понимал — чтобы завладеть упомянутой геммой, потребуется применить тончайший тактический ход. Вероятно, я мог бы заполучить ее, предложив близкую к истинной стоимости цену, но едва ли нужно объяснять, что такой способ не является самым выгодным. Да и, по правде говоря, я сомневался в том, что он мог привести меня к нужному результату, ибо алчность подобных особ не знает пределов и низкое хитроумие, заменяющее им интеллект, мгновенно подсказывает, что с человека, который предлагает такие огромные деньги за никчемную вещь, можно содрать по крайней мере в два раза дороже. Или в сто.
Конечно, когда речь идет о рядовом экспонате — каком-нибудь старинном кувшине, резном ларе или медном светильнике, — волноваться не стоит. В таких случаях жадный дуралей остается ни с чем, а умудренный опытом коллекционер, посмеиваясь, уходит прочь, зная, что всегда может купить такую вещицу в другом месте. Но этой геммой я желал завладеть всю сознательную жизнь, а поскольку моя профессиональная честь не позволяла мне платить за нее больше сотой части реальной цены, то мне не оставалось ничего иного, как пустить в ход все мои, так сказать, профессиональные ухищрения и как следует напрячь мозги. Горько вспоминать об этом, но в конце концов я пришел к заключению, что в одиночку мне не справиться, а потому решил довериться помощнику, молодому человеку по имени Уильям Роббинс, не лишенному некоторых способностей в этой области и к тому же немного разумевшему по итальянски. Идея моя заключалась в том, что Роббинс, выдавая себя за неумелого торговца драгоценными камнями, появится в городе и постарается найти гемму, за которой мы охотились. Затем в игру должен был вступить я…
Однако не стану утомлять вас, дважды пересказывая одно и то же. Как и было задумано, Роббинс отправился в Италию с набором нешлифованных камней, колец и прочих побрякушек, которые я для этой цели заблаговременно закупил в Бирмингеме. Спустя неделю, изображая из себя праздного путешественника, я последовал за ним и двумя неделями позже прибыл в намеченный пункт. Я остановился в самой приличной гостинице города и первым делом осведомился у хозяина, много ли в городе иностранцев. Хозяин ответил, что мало.
Правда, он слыхал, что какой-то англичанин остановился в маленькой таверне. Этот, по его выражению, "коробейник" занимается тем, что продает по дешевке всякие красивые побрякушки, а взамен скупает разнообразный старый хлам.
Дней пять-шесть я болтался по городу, получая от жизни все удовольствия, какие она только могла мне предоставить в этой захолустной дыре. Частью моего плана было внушить местным жителям мысль, что у меня карманы трещат по швам от денег, — уж я-то знал, что экстравагантность подававшихся мне блюд и цена каждой выпитой мною бутылки вина не будут, как говаривал Санчо Панса, схоронены в душе у трактирщика.
К концу недели мне удалось познакомиться с синьором Мелини, владельцем геммы, которую я хотел заполучить. Его готовность оказать мне гостеприимство, наилучшим образом совпадавшая с моей к тому расположенностью, быстро сблизила нас, и вскоре я сделался лучшим другом его семейства. Во время третьего или четвертого визита я сумел навести хозяев на разговор об английском коробейнике, который, как они тут же заметили, разговаривал на отвратительнейшем итальянском языке (как будто итальянский язык бывает каким-то иным!).
"Какое это имеет значение, — заметила синьора Мели-ни. — Зато у него есть всякие чудесные вещицы и продает он их очень и очень дешево".
"Надеюсь, он вас не обманывает, — сказал я. — Должен предупредить, что англичане, будучи весьма разумной нацией, стараются держаться подальше от таких "коробейников". Видите ли, последние имеют обыкновение создавать шумиху вокруг дешевизны своих товаров, а потом выясняется, что их товары вдвое дороже, чем в самом шикарном магазине".
Хозяева замахали руками, а синьора Мелини показала мне три кольца и браслет, купленные у англичанина. Затем она назвала цену, и, придирчиво рассмотрев вещицы, я вынужден был признать, что синьора явно выгадала — украшения обошлись ей в два раза дешевле. Еще раз одобрительно взглянув на безделушки, я возвратил их почтенной даме и с намеренным безразличием обмолвился, что этот коробейник, должно быть, является большим чудаком и, уж конечно, случайным человеком в своем деле.
Двумя днями позже, когда мы с синьором Мелини сидели в кафе и неторопливо потягивали вермут, он снова заговорил об английском коробейнике и между прочим упомянул, что показал тому одну очень любопытную вещицу и что коробейник сделал относительно ее довольно заманчивое предложение.
"Дорогой сэр, — сказал я, — надеюсь, вы будете очень осторожны. Я уже говорил, что подобного рода "коробейники" пользуются не самой высокой репутацией в Англии и, несмотря на свою явную неискушенность, он может оказаться отъявленным мошенником. Одно другому не мешает. Могу ли я осведомиться о том, что за вещицу вы ему предлагали?"
Синьор Мелини ответил, что речь идет о маленьком красивом камешке с вырезанными на нем фигурками. Люди говорят, что он безумно древний.
"Интересно было бы поглядеть на нее, — равнодушно произнес я. — Мне не раз доводилось видеть такие камни — во-обще-то они называются геммами. У нас в Британском музее имеется отличная коллекция гемм".
Синьор Мелини с радостью потащил меня к себе домой, и через несколько минут я держал в руках гемму, мысль о владении которой доводила меня до исступления. Я бесстрастно осмотрел ее и небрежно положил на стол.
"Если не секрет, синьор, — спросил я, — сколько мой соотечественник предложил за нее?"
"По словам моей жены, — ответил он. — этот человек не в своем уме. Он сказал ей, что готов отдать за камень двадцать лир".
Я спокойно взглянул на Мелини, снова взял гемму и сделал вид, будто более пристально разглядываю ее на свету. Я крутил ее так и сяк, а под конец вынул из кармана лупу и принялся с нарочитой придирчивостью рассматривать каждый штрих на резьбе.
"Дорогой сэр, — сказал я. — Вынужден согласиться с синьорой Мелини. Будь эта гемма подлинной, она бы стоила порядочную сумму, но поскольку это всего лишь довольно грубая подделка, то она не тянет и на двадцать чентезимо[92]. Она явно изготовлена в прошлом веке, причем весьма неумелой рукой".
"Тогда нам лучше поскорее избавиться от нее. — сказал Мелини. — Я и сам всегда считал, что это дешевка. Жаль, конечно, англичанина, но должен же человек знать свое ремесло. Я ему скажу, что мы согласны на двадцать лир".
"Нет уж, простите, — возразил я. — Этого человека нужно как следует проучить. Хотя бы из милосердия — чтобы знал на будущее. Скажите ему, что меньше чем за восемьдесят лир гемму он не получит, и если он тотчас же не согласится, я на ваших глазах съем свою шляну".
Примерно через день я услыхал, что англичанин уехал, развратив и без того условные местные вкусы бирмингемским ювелирным искусством — признаюсь, внедренные в местную публику золотые запонки в форме фасолин, серебряные цепочки, похожие на собачьи поводки, и броши-вензеля из дутой бронзы навсегда останутся тяжким грузом на моей совести. Однако я нахожу себе оправдание в том, что моя конечная цель была призвана как-то уравновесить эту тяжесть.
Вскоре я нанес прощальный визит Мелини, и этот достопочтенный синьор с довольным смешком доложил, что предложенный мной план полностью удался. Я поздравил его с выгодной сделкой и откланялся, выразив пожелание, чтобы небеса почаще посылали ему таких недотеп-торговцев.
Ничего интересного на обратном нуги не случилось. Мы условились, что в определенный час Роббинс будет ждать меня в назначенном месте, а потому я шел на свидание, пребывая в полной уверенности, что гемма находится у меня в руках и мне остается лишь пожинать плоды победы. Мне жаль подрывать веру в человеческую природу, коей вы, уверен, обладаете в полной мере, но я вынужден огорчить вас: до сего дня я не видел ни своего помощника, ни бесценной античной реликвии. Я выяснил, что Роббинс успешно добрался до Лондона и что за три дня до моего приезда его видел знакомый ростовщик — Роббинс потягивал свое любимое четырехпенсовое пиво в том самом баре, где мы сегодня встретились с вами.
С тех пор о нем не было ни слуху ни духу. Надеюсь, теперь вы простите мой интерес к приключениям молодого темноволосого человека в очках. Представьте себя на моем месте — с потерей одного из самых совершенных и безупречных образцов античного искусства я совершенно утратил вкус к жизни, не говоря уже о вере в человеческую порядочность.
— Дорогой сэр, — сказал Дайсон, — стиль вашего рассказа достоин всяческой похвалы. Приключения ваши меля чрезвычайно заинтересовали. Но, простите меня, вы только что упомянули о порядочности. Не думаете ли вы, что кое у кого могут возникнуть возражения против ваших собственных методов ведения дел? Даже я ощутил наличие некоторых изъянов морального толка в развернутой вами весьма оригинальной концепции, а что скажут пуритане? Да они возмутятся вашей махинацией и объявят ее недостойной и, более того, бесчестной.
Мистер Бартон демонстративно подлил себе в бокал виски.
— Ваша щепетильность забавляет меня, — сообщил он. — Вероятно, вы не очень основательно изучали историю этики. Мне же в свое время пришлось сделать это — этика была для меня точно так же необходима, как и элементарная бухгалтерия. Без знания арифметики и без наличия твердых этических принципов ведение такого дела, как мое, просто невозможно. Однако поверьте — когда я иду по шумным улицам и смотрю на спешащее по своим делам человечество, я страдаю от мысли о том, что среди всех этих прекрасно одетых людей в черных цилиндрах и, может быть, даже читающих Шекспира в подлиннике, почти невозможно найти человека, который имел бы продуманную этическую концепцию. Даже вы не озаботились этим вопросом, а ведь вы изучаете жизнь, людские занятия и проникаете под покровы и маски того фарса, что мы называем бытием. Даже вы судите своих ближних, руководствуясь пустыми условностями, которые позволяют фальшивой монете сойти за настоящую. Позвольте сыграть перед вами роль Сократа: я не буду учить вас ничему тому, чего бы вы не знали сами. Я просто постараюсь снять пелену предрассудков и дурной логики с истинных представлений, которыми вы обладаете в душе. Ну что, начнем? Вы допускаете, что счастье — это конечная цель бытия?
— Допускаю.
— Счастье желанно или нежеланно?
— Безусловно желанно.
— А как вы назовете человека, который дарует счастье? Не филантропом ли?
— Думаю, что да.
— И человек этот достоин похвалы — похвалы тем большей, чем больше число осчастливленных им лиц?
— Судя по всему, так оно и есть.
— Так, значит, тот, кто осчастливит целую нацию, достоин высочайшей похвалы, а действие, которым он осчастливит эту нацию, есть высочайшая добродетель?
— Похоже, что так. Вот это да! — воскликнул Дайсон, внезапно постигнув утонченность рассуждений своего гостя.
— Итак, перед вами ряд простейших умозаключений. Так примените их к рассказанной мною истории. Я осчастливил себя самого, завладев геммой. Я осчастливил чету Мелини, дав им восемьдесят лир взамен вещи, которую они и в грош не ставили. Кроме того, я намеревался осчастливить великий английский народ, продав гемму Британскому музею, а заодно еще раз осчастливить себя, заполучив девять тысяч процентов прибыли! Уверяю вас, я считаю, что Роббинс нарушил законы вселенской справедливости. Но главное не это. Вы только что признали, что я являюсь поборником истинной морали, и были вынуждены уступить перед моей логикой.
— В логике вы, похоже, достаточно сильны, — сказал Дайсон. — А я не очень разбираюсь в вопросах этики. Что ж, вы порядком поднаторели во всех этих сомнительных и запутанных вопросах. Я прекрасно понимаю ваше желание встретиться с вероломным Роббинсом и поздравляю себя с познакомившим нас случаем. Боюсь показаться негостеприимным, но уже половина двенадцатого, а вы, помнится, говорили о неком поезде.
— Тысяча благодарностей, мистер Дайсон! Мне действительно пора. Загляну к вам как-нибудь при случае. До свидания.
Бейсуотерский затворник
В ряду множества лиц, коим случалось время от времени наслаждаться обществом мистера Дайсона, числился некий мистер Эдгар Рассел, писатель и безвестный подвижник искусства, проживавший в убогой комнатушке на третьем этаже дома в Эбингдон-Гроув, что в Ноттинг-Хилле. Свернув с главной улицы и углубившись на несколько шагов в этот квартал, можно всеми фибрами души ощутить присущие ему тишь и дремотный покой, которые заставляют вас невольно замедлять шаги.
Дома здесь стояли чуть поодаль от мостовой и были со всех сторон окружены садами, где в положенное время весело цвели сирень, ракитник и гелиотроп. Имелся там один чудесный уголок — довольно обширный, обнесенный чугунной оградой сад, откуда после первых летних дождей веяло душистым запахом сирени, где старые вязы хранили память об окружавшем их некогда чистом поле и где до сих пор можно вволю побродить по шелковой траве. В глубине сада виднелся дом. Дома в Эбингдон-Гроув по большей части были построены около тридцати лет назад, в те времена, когда вошла в моду всяческая неописуемая лепнина; эти вполне приличные жилища с приемлемыми для людей среднего достатка удобствами ныне превратились в доходные дома, а потому не удивительно, что здесь на каждом шагу встречаются дощечки с надписью "Меблированные комнаты".
В одном из таких приятных глазу особняков и обосновался мистер Рассел. Он крайне неприязненно относился к царившим на Граб-стрит шуму и грязи и предпочитал жить, но его собственным словам, "в пределах досягаемости зелени". Из комнаты мистера Рассела открывался чудесный вид на дивные сады и ровную тополиную гряду, в летние месяцы заслонявшую унылые задворки Уилтон-стрит. Поскольку средства у мистера Рассела были самые что ни на есть ничтожные, то он пробавлялся хлебом и чаем, но всякий раз как его навещал Дайсон, радушный хозяин тут же посылал слугу домохозяйки за шестипенсовым пивом и принимался щедро угощать своего приятеля табаком. В этом сезоне домовладелице не везло — вот уже много недель у нее пустовал второй этаж, и висевшее на дверях объявление о сдаче комнат внаем успело изрядно пообтрепаться на ветру.
Как-то осенним вечером, подходя к парадному крыльцу друга, Дайсон сразу же почувствовал, что там чего-то явно недостает. Глянув на веерообразное оконце над дверью, он увидел, что дощечка с объявлением исчезла.
— Как вижу, у вас наконец сдали второй этаж, — сказал он, поздоровавшись с мистером Расселом.
— Да, две педели назад его заняла дама.
— Неужели? — заинтересовался Дайсон, которому всегда до всего было дело. — Молодая?
— Да, кажется, молодая. Она носит на лице плотную креповую вуаль. Очевидно, вдова. Пару раз я встречался с ней на лестнице и еще один раз — на улице, но лица так и не видел.
— Ну, что же вы поделывали все это время? — осведомился Дайсон, когда пиво было поставлено на стол, а трубки изрыгнули из себя первые клубы дыма. — Работа пошла на лад?
— Увы, — ответит молодой человек с выражением крайнего уныния. — Моя жизнь представляет собой чистилище, а если сказать точнее — ад. Я пишу, подбираю слова, взвешиваю и уравновешиваю силу каждого слога, высчитываю до мелочей возможное воздействие синтаксиса, без конца черкаю и перемарываю, трачу целый вечер на рукописную страничку, а поутру перечитываю написанное — и если оборотная сторона листа уже исписана, отправляю его прямиком в корзину, а если она еще чиста, откладываю в бюро. Стоит мне написать удачную по мысли фразу, как мне тут же кажется, что выражена она серо и убого; а если удается добиться изящества стиля, то он лишь прикрывает пошлость давно обыгранных фантазий. Я корплю над каждой страницей как проклятый, и каждая строка дается мне ценой неимоверных мук. Я стал всерьез завидовать участи живущего поблизости плотника — как основательно он знает свое дело! Получает заказ соорудить стол и мастерит себе, не ведая терзании. А я, если, не дай бог, получу заказ на книгу, наверное, просто сойду с ума.
— Друг мой, не принимайте это так близко к сердцу. Дайте волю перу — и пусть чернила льются, не пересыхая! А главное, когда садитесь писать, твердо веруйте, что вы художник. Уверяю вас, что тогда каждая ваша строка будет самым настоящим шедевром. Допустим, вам не хватает идей. Говорите себе, как, бывало, говаривал один из самых тонких наших художников: "Ну так что с того? Все идеи на свете содержатся здесь — под крышкой коробки с сигарами!" Неважно, что вы курите трубку — принцип-то один и тот же. К тому же у вас наверняка выдаются счастливые минуты, и уж они-то с лихвой окупают все остальное.
— Может быть, вы и правы. Но такие минуты выпадают раз в году. Последний славный замысел, который я ухитрился испортить, мог бы стать великой книгой, а получился чем-то вроде "Журнала для семейного чтения". Позапрошлой ночью я был счастлив в течение целых двух часов. Я лежал без сна и грезил с открытыми глазами. Но утром!
— А что у вас была за идея?
— Ох уж эта мне идея! Я сидел и размышлял о "Человеческой комедии" Бальзака и "Ругон-Маккарах" Золя. И тут меня озарило: что, если написать историю улицы! Каждый дом составит отдельную книгу. Я уже видел эту самую улицу, в деталях различал каждое здание, ясно, как по буквам, прочитывал физиологическую и психологическую историю каждого ее обитателя. "Вот. — рассуждал я. — знакомая и хоженая-перехоженая улица. На ней стоит десятка два зажиточных, хотя и в разной степени, домов, обсаженных кустами лиловой сирени. И в то же самое время эта улица является символом, via dolorosa[93] взлелеянных и утраченных надежд, напоминанием о многих десятилетиях существования без радости и печали, без драм и тайных страданий". На двери одного из домов мне мерещилось красное пятно крови, а в окне другого — две расплывчатые темные тени, покачивающиеся на тенях тугих шнуров. То были тени мужчины и женщины, повесившихся посреди пошлой, освещенной газовым рожком гостиной… Такие вот фантазии родились в моей голове, но едва перо коснулось бумаги, они померкли и непонятным образом улетучились.
— Да, — посочувствовал Дайсон, — идея была замечательная. Завидую вашим мукам превращения видений в реальность, а еще больше завидую тому дню, когда вы заглянете в свой книжный шкаф и увидите на полках два десятка великолепных книг — сработанный на века цикл ваших романов. Позвольте дать вам один совет: переплетите их в плотный пергамент с золотым тиснением. Это единственно достойная обложка для такого эпохального труда. Когда я заглядываю в витрину какого-нибудь приличного книжного магазина и вижу переплеты из левантийского сафьяна с премилым сочетанием золотого тиснения и красных, голубых и зеленых филенок, я говорю себе: "Это не книги, а безделушки". Переплетенная таким образом книга — настоящая, заметьте, хорошая книга — выглядит все равно что готическая статуя, драпированная левантийской парчой.
— Увы! — развел руками Рассел. — Могу ли я думать о переплете, когда ни одна моя книга еще и не начата…
Беседа, как обычно, затянулась до одиннадцати часов вечера. В конце концов Дайсон пожелал другу доброй ночи.
Лестница была ему хорошо знакома, а потому он спускался один. Каково же было его удивление, когда, проходя мимо квартиры на втором этаже, он увидел, что ее дверь приотворяется и высунувшаяся из образовавшейся щели рука манит его к себе.
Дайсон был не из тех, кто колеблется в подобной ситуации. Он мигом сообразил, что его ожидает приключение; к тому же, как он сам любил повторять, Дайсоны никогда не отвечали отказом на зов дамы. Так что он уже было совсем собрался потихоньку и с подобающей заботой о чести дамы войти в комнату, как вдруг низкий и глуховатый голос остановил его:
— Ступайте вниз, отворите дверь и хлопните ею погромче. Затем поднимайтесь ко мне. И, ради бога, не шумите!
Дайсон повиновался приказу не без колебания — он ужасно боялся встретить на обратном пути хозяйку или кого-нибудь из прислуги. Ступая на цыпочках и поминутно прис едая от каждого громкого скрипа, он не переставал восхвалять себя за ловкость, благодаря которой ему удалось остаться незамеченным при столь щекотливых обстоятельствах.
Когда Дайсон наконец добрался до лестничной площадки второго этажа, дверь перед ним распахнулась, и он с неловким поклоном вошел в гостиную.
— Умоляю вас, сядьте в это кресло — оно здесь самое мягкое. Не зря же оно в свое время было любимым креслом покойного супруга моей хозяйки. Я бы предложила вам закурить, но запах табака может выдать меня. Я понимаю, что мой поступок идет вразрез с общественными приличиями, но, едва увидев вас, я сразу поняла, что вы не откажетесь помочь такой несчастной женщине, как я.
Дайсон смущенно смотрел на молодую даму. Она была одета в глубокий траур, но ее пикантное улыбающееся личико и обворожительные карие глазки плохо сочетались со строгим одеянием и наводящим на мысль о тлене крепом.
— Мадам, — галантным тоном произнес Дайсон. — вы правильно сделали, что доверились своей интуиции. Не будем тревожиться о светских условностях — настоящему джентльмену и рыцарю нет до них никакого дела. Надеюсь, что смогу быть вам полезен.
— Вы очень добры ко мне, сэр. Я верила, что так и будет. К несчастью, у меня за плечами немалый жизненный опыт, и в людях я ошибаюсь редко. Хотя мужчины часто бывают гнусны и лживы, и я, конечно, трусила, решившись на этот шаг…
— Меня вы можете не опасаться, — сказал Дайсон. — Я воспитан в духе средневекового рыцарства и всегда стремился поддерживать достойные традиции своего рода. Доверьтесь мне, положитесь на мое умение хранить чужие тайны и, если понадобится, всецело рассчитывайте на мою помощь.
— Не стану занимать пустой болтовней ваше безусловно драгоценное время. Знайте, что я беглянка и скрываюсь здесь от опасности. Вверяю свою судьбу в ваши руки. Стоит вам только описать мои приметы, и я окажусь в лапах своего безжалостного врага.
На какой-то миг Дайсон усомнился в том, что дама находится в здравом уме, но вслух лишь подтвердил свое обещание молчать, присовокупив к нему клятвенное заверение, что, если потребуется, он станет воплощенным духом сообщничества, ежели только такой существует.
— Хорошо, — сказала дама. — Восточная пылкость вашего характера и британская образность вашей речи просто очаровали меня. Прежде всего должна признаться, что я никакая не вдова. Облачиться в эти мрачные одежды меня принудили страшные обстоятельства. Кажется, в этом доме у вас есть друг — некий мистер Рассел? Похоже, он нелюдим.
— Простите, мадам, — уточнил Дайсон, — он всего-навсего прозаик-реалист. Вам, должно быть, известно, что никакому монаху-картезианцу не под силу тягаться в склонности к затворничеству с реалистом, да еще пишущим романы. Затворничество — это способ, при помощи которого реалисты наблюдают за человеческой природой.
— Что ж. — согласилась дама, — все это крайне интересно, но к нашему разговору не имеет никакого отношения. Прежде всего я должна рассказать вам свою историю.
С этими словами молодая дама начала излагать
Повесть о белом порошке
Фамилия моя Лестер; мои отец, генерал-майор Уин Лестер, прославленный артиллерийский командир, скончался пять лет назад от какой-то редкой болезни печени, которой его наградил зловредный индийский климат. Годом позже после исключительно блестящей учебы в университете вернулся домой мой единственный брат Фрэнсис, одержимый идеей зажить отшельником и лучше всех на свете постичь дух и букву закона. Ко всему, что именуется радостями жизни, брат относился с редким безразличием. И хотя Фрэнсис был интересным мужчиной, красивее многих, и умел поддержать разговор с любезностью и остроумием светского повесы, он с первого же дня решительно отгородился от общений любого рода, накрепко запершись в своей просторной комнате, преследуя свою заветную цель — сделаться блестящим законоведом.
Поначалу Фрэнсис назначил себе читать десять часов в день — с первого луча света, забрезжившего на востоке, до наступления вечера сидел он взаперти со своими книгами, отрываясь от них лишь ради получасового ланча, который проглатывал с лихорадочной быстротой, почти не замечая моего присутствия, да ежедневной короткой прогулки в сумерках. Такое самоистязание казалось мне губительным, и я всячески пыталась отвлечь брата от заумных учебников, но его рвение не убывало, скорее наоборот, часы ежедневных занятий только увеличивались.
Я серьезно поговорила с Фрэнсисом и предложила ему изредка давать себе передышку — хоть денек побездельничать, полистать пиратский или шпионский роман, но он лишь расхохотался, заявив, что, когда испытывает охоту развлечься, читает о феодальной собственности. Когда же я заикнулась о театрах и загородных уик-эндах, он высмеял меня, как последнюю идиотку. Признаюсь, первое время он выглядел хорошо и, похоже, не был изнурен своими занятиями, но я понимала, что такое противоестественное напряжение в конце концов скажется.
I I я не ошиблась. Вскоре в глазах у Фрэнсиса появился беспокойный блеск, он стал выглядеть утомленным, и, наконец, мой брат сознался, что не совсем здоров, что его беспокоит головокружение и что по ночам он то и дело просыпается в холодном поту от страшных сновидений. "Но я слежу за собой, — сказал он. — Можешь не волноваться, вчера я целых полдня ничего не делал. Развалился в том удобном кресле, что ты мне поставила, и черкал на бумаге всякую чепуху. Нет-нет, я не переутомился. Через недельку-другую все будет в порядке, вот увидишь".
Несмотря на все заверения, Фрэнсису становилось все хуже и хуже. Он появлялся в гостиной подавленный, с ужасно сморщившимся лицом, и натужно старался казаться молодцом, когда ловил на себе мой взгляд. Я усматривала в том дурное предзнаменование и часто замирала от испуга, видя, как дрожат его руки и судорога сводит лицо. Я заставила его проверить свое здоровье, и скрепя сердце он пригласил нашего старого семейного врача.
Осмотрев пациента, доктор Хэбердин обнадежил меня:
— Ничего серьезного, в общем-то, нет. Конечно, читает ваш брат многовато, ест торопливо, с еще большей спешкой вновь налегает на книги — все это, естественно, повлекло за собой кое-какие нелады с пищеварением и перегрузку нервной системы. Но не сомневаюсь, мисс Лестер, что мы с этим справимся. Я выписал ему рецепт. Средство испытанное, так что никаких оснований для беспокойства нет.
Брат настоял на том, чтобы рецепт отнесли в аптеку, располагавшуюся недалеко от нашего дома. Это была старомодная лавка без того расчетливого кокетства и продуманного блеска современных аптек, в которых от выставленного на прилавках и полках товара просто глаза разбегаются, но Фрэнсис питал привязанность к старику-фармацевту и верил в непогрешимую точность приготовляемых им лекарств.
Предписанное доктором средство прислали в срок, брат стал послушно принимать его после ланча и ужина. Безобидный с виду порошок надо было понемножку всыпать в стакан с холодной водой и размешивать до тех пор, пока он не растворялся полностью, причем ни запах, ни цвет воды не изменялись.
Сначала казалось, что порошок идет Фрэнсису на пользу: следы измождения исчезли с лица брата и он вновь обрел жизнерадостность, свойственную ему в школьные годы. Фрэнсис весело обсуждал происходящие в нем перемены и признавался, что право не стоит того, чтобы уделять ему столько времени и сил.
— Слишком много часов я убивал на науки, — говорил он со смехом. — Думаю, ты вовремя спасла меня. Подожди, я еще стану лорд-канцлером, но нельзя же забывать и о жизни. Скоро мы устроим себе праздник: поедем в Париж, будем развлекаться и держаться подальше от Национальной библиотеки.
Эта идея привела меня в восторг.
— Когда же мы едем? — спросила я. — Если понадобится, я буду готова послезавтра.
— Не спеши! Я и Лондона-то толком не знаю, а человек должен сначала перепробовать все удовольствия, которые ему может предоставить родина. Отправимся через недельку или две, а ты пока постарайся освежить в памяти французский. Я знаю только французское законодательство, которое нам, боюсь, не понадобится.
Мы как раз закончили ужинать, и брат осушил предписанный стакан лекарства с таким видом, будто это была заздравная чаша, наполненная коллекционным вином.
— А какое оно на вкус, твое лекарство? — поинтересовалась я.
— Лично я не отличил бы его от воды, — ответил Фрэнсис, поднимаясь из-за стола и принимаясь расхаживать по комнате, как бы не зная, куда себя девать.
— Кофе будем пить в гостиной? — спросила я. — Или тебе хочется покурить?
— Да нет, я, пожалуй, пройдусь. Гляди, какой закат — словно громадный город полыхает в огне, а внизу, меж темных домов, дождем струится кровь. Да, пойду-ка я на улицу. Может быть, я скоро вернусь, но на всякий случай все-таки возьму с собой ключи, так что доброй ночи, дорогая, если больше сегодня не увидимся.
Дверь за братом весело захлопнулась. Я смотрела, как он легко шагает вниз по улице, размахивая тросточкой, и мысленно благодарила доктора Хэбердина за целебный порошок.
Брат, судя по всему, вернулся очень поздно, однако, несмотря на это, утром выглядел весьма бодрым.
— Я шел без всякой цели, не думая, куда иду, — рассказывал он, — наслаждался свежестью воздуха и радовался толчее оживленных кварталов. И тут, в этой mine, я встретил старого университетского приятеля, Орфорда. С ним-то мы и провели остаток вечера. Я снова ощутил, что значит быть молодым, и к тому же мужчиной! Обнаружил, что в жилах у меня, как и у многих других мужчин, течет горячая кровь! Мы с Орфордом условились увидеться сегодня вечером, устроить в ресторане небольшую пирушку. Да, погуляю недельку-другую, послушаю полночный звон колоколов, а потом отправимся вместе с тобой в путешествие.
Таково было превращение, случившееся с моим братом: за считанные дни он стал жадным до удовольствии, бесшабашным, неугомонным гулякой, завсегдатаем злачных мест и ценителем умопомрачительных современных танцев. Он взрослел у меня на глазах и больше ни словом не обмолвился о Париже, поскольку явно обрел свой рай в Лондоне. Я радовалась, но одновременно и недоумевала: что-то в его веселости меня настораживало, хотя ясно сформулировать свои подозрения я не могла.
Постепенно назревал перелом — брат каждый раз возвращался под утро, но о своих развлечениях рассказывать мне перестал. Однажды, когда мы сидели за завтраком, я глянула ему в глаза и увидела перед собой незнакомца.
— О Фрэнсис! — закричала я. — О Фрэнсис, Фрэнсис, что же ты наделал?!
Мои слова потонули в бурных рыданиях, и, заливаясь слезами, я выбежала из комнаты. Ничего не зная, я вдруг поняла все. Какая-то сложная игра ассоциаций заставила меня вспомнить тот вечер, когда брат впервые высунут нос из дому в неурочный час: закатное небо вновь полыхало у меня перед глазами, а по нему неслись облака, похожие на пожираемый огнем город, и проливали на землю кровавый дождь.
Немного успокоившись и убедив себя, что, в конце концов, никакого особого вреда брату нанесено не было, я решила, что вечером заставлю его назначить день отъезда в Париж.
После ужина брат выпил лекарство, которое продолжал принимать, и некоторое время мы непринужденно беседовали на какие-то ничего не значащие темы. Я уже совсем было собралась завести нужный разговор, как вдруг все слова выскочили у меня из головы и леденящая, невыносимая тяжесть легла мне на сердце и стала душить невыразимым ужасом, словно над живым человеком заколачивали крышку гроба.
Мы ужинали без свечей. Комната постепенно погружалась во мрак, который, накопившись в дальних углах, медленно расползался по стенам. Пытаясь сообразить, что нужно сказать Фрэнсису, я задержала взгляд на одном из окон — и тут небо сверкнуло, засияло, как в тот достопамятный вечер, и в проеме двух темных громад-домов появилось ужасающего великолепия зарево: пульсировали багрянцем облака, разверзшаяся неведомо где бездна изрыгала огонь, сизые тучи беспорядочно наползали одна на другую, где-то вдали полыхали языки зловещего пламени, а внизу все было словно залито кровью.
Я перевела глаза на брата, сидевшего ко мне лицом, и попыталась обратиться к нему, но слова застыли у меня на устах, ибо я увидела его руку, лежавшую на столе. Между большим и указательным пальцами сжатого кулака виднелась отметина — пятнышко размером в шестипенсовик, по цвету напоминавшее глубокий кровоподтек. Каким-то шестым чувством я поняла, что это не синяк. О, если б человеческая плоть могла гореть огнем, а огонь быть черным как смоль, то примерно так бы это и выглядело!
От этого зрелища жуткий страх зашевелился в моей душе, и только краешком ускользавшего сознания я уловила мысль: это клеймо. На мгновение надо мною померкли краски неба, а когда я очнулась, брата в комнате не было, и тут же я услыхала, как внизу хлопнула входная дверь…
Было уже поздно, но все же я надела шляпку и отправилась к доктору Хэбердину. В большой приемной, тускло освещенной единственной свечой, которую доктор принес с собой, я, заикаясь, срывающимся голосом, рассказала ему все, начиная с того дня, когда брат стал принимать лекарство, и кончая увиденной полчаса назад отметиной.
Когда я закончила, доктор с минуту глядел на меня с видом величайшего сострадания.
— Дорогая мисс Лестер, — сказал он, — вы, очевидно, очень волновались за брата и беспокоились о нем. Это правда?
— Да, — ответила я. — Последние две недели я была сама не своя.
— Как раз к этому я и клоню… Вы, конечно, знаете, какая эго загадочная штука — воображение?
— Понимаю, что вы имеете в виду. Но это не обман чувств! Все, о чем я вам рассказала, я видела собственными глазами.
— Да-да, конечно. Но вас зачаровал необычный закат, которым вы любовались сегодня вечером. Этим все и объясняется. Я уверен, что завтра все предстанет в своем истинном свете. И помните, я всегда готов оказать вам любую услугу. Не стесняйтесь, заходите, посылайте за мной, когда понадобится.
Слова эти меня мало утешили, и я ушла подавленная, исполненная смятения и страха, не ведая, что предпринять.
Встретившись с братом на следующий день, я сразу же с замиранием сердца заметила, что правая рука, та самая, на которой я видела пятно, похожее на выжженное черным огнем клеймо, перевязана носовым платком.
— Что у тебя с рукой. Фрэнсис? — спросила я твердым голосом.
— Ничего особенного. Порезал вечером палец, кровь долго не останавливалась, вот и перехватил, как умел.
— Давай я перевяжу как следует.
— Нет, благодарю, дорогая, сойдет и так. Пора бы и завтракать. Я очень проголодался.
Мы сели за стол. Я внимательно наблюдала за братом. Он почти ничего не ел и не пил. Всякий раз, как ему казалось, что я не смотрю в его сторону, он сбрасывал еду со своей тарелки собаке. У него был дикий, блуждающий взгляд, и в голове у меня промелькнула мысль, что этот взгляд вряд ли можно назвать человеческим.
Я была твердо убеждена, что виденное накануне, каким бы невероятным оно ни казалось, не иллюзия, не обман расстроенных чувств, а потому после завтрака вновь отправилась к доктору.
Он недоуменно покачал головой и пустился в расспросы:
— Так вы говорите, Фрэнсис до сих пор принимает лекарство? Но зачем? Насколько я понимаю, все симптомы, на которые он жаловался, давно исчезли. Так зачем же пить лекарство, если он здоров? А кстати, где вам готовили порошок? У Сэйса? Я давно уже не посылаю к нему пациентов — старик стал не очень внимателен. Давайте вместе зайдем к аптекарю, мне хотелось бы с ним переговорить.
Мы отправились в аптеку. Сэйс, уважавший доктора Хэбердина, готов был дать любые объяснения.
— В течение нескольких недель но моему предписанию вы посылали вот это мистеру Лестеру, — сказал доктор, протягивая старику листок бумаги.
Аптекарю не сразу удалось водрузить на нос очки с толстыми стеклами.
— О да. — кивнул он. — Лекарство довольно редкое. У меня оставался кое-какой запас, но он почти иссяк. Надо бы заказать еще…
— Будьте так любезны, покажите лекарство, — попросил Хэбердин.
Аптекарь подал доктору стеклянный флакон. Хэбердин вынул пробку, понюхал содержимое и как-то странно посмотрел на старика.
— Откуда вы его получили? — спросил он. — 11 вообще, что это такое? Одно могу сказать наверняка: это не то, что я прописывал. Да-да, вижу, наклейка правильная, но лекарство, говорю вам, совсем не то.
— Оно у меня очень давно, — не на шутку переполошился старик. — А получил я его обычным путем, от Бербеджа. Это лекарство прописывают нечасто, гак оно несколько лет впустую простояло у меня на полке. Видите, как мало осталось.
— Отдайте-ка это мне, — сказал Хэбердин. — Боюсь, тут что-то не так.
Мы молча вышли из аптеки. Доктор осторожно прижимал к себе завернутый в бумагу флакон.
— Доктор Хэбердин, — заговорила я, когда мы отошли от аптеки, — доктор Хэбердин…
— Да? — спросил он, глядя сквозь меня отсутствующим взглядом.
— Я хочу, чтобы вы были откровенны со мной. Скажите, что принимал мои брат дважды в день на протяжении последнего месяца?
— Откровенно говоря, мисс Лестер, я и сам пока не знаю. Поговорим об этом у меня дома.
Не проронив больше ни слова, мы быстро добрались до квартиры Хэбердина.
Доктор попросил меня присесть, а сам начал кружить по комнате с не на шутку встревоженным лицом.
— Что ж, — сказал он, — все это очень и очень странно. Я просто теряюсь в догадках. Даже если отбросить все то, что вы мне наговорили вчера вечером и сегодня утром, факт остается фактом: мистер Лестер пропитал свой организм лекарством, мне совершенно неизвестным. Попробуем установить, что это за препарат.
Доктор Хэбердин развернул обертку, осторожно наклонил флакон, высыпал несколько белых крупинок на листок бумаги и впился в них взглядом.
— Гм, — хмыкнул он, — похоже на сульфат хинина, но… Понюхайте.
Я склонилась над протянутым флаконом. Запах был странный, тошнотворно тягучий и дурманящий, как у анестезирующего вещества.
— Разберемся, — сказал Хэбердин. — У меня есть друг, посвятивший всю свою жизнь химии. А потом уж будем решать. Нет-нет, о том, другом — ни слова. Слышать об этом не желаю, да и вам советую выбросить из головы.
В тот вечер брат не ушел, как обычно, из дома.
— Хватит, порезвился, — сказал он со странным смешком. — Возвращаюсь к прежним привычкам. Небольшая порция права — лучший отдых после такой мощной дозы удовольствий.
Фрэнсис криво ухмыльнулся и быстро поднялся к себе. Рука у него по-прежнему была перевязана.
Спустя несколько дней к нам наведался доктор Хэбердин.
— Новостей у меня пока нет, — сказал он. — Чемберс в отъезде, так что о лекарстве я знаю не больше, чем вы. Но мне хотелось бы повидать мистера Лестера, если он дома.
— Он у себя, — сказала я. — Передать ему, чтобы спустился?
— Нет-нет, я сам поднимусь к нему. Мы немного побеседуем. Думается, мы беспокоимся понапрасну, ведь чем бы ни был этот белый порошок, он в конце концов пошел вашему брату на пользу.
Доктор поднялся наверх. Мне было слышно, как он постучал, открыл и закрыл за собой дверь.
Битый час я просидела в тишине, которая с каждой минутой становилась все тягостнее; стрелки часов, как сонные, еле ползли по циферблату. Затем наверху вновь хлопнула дверь, и на лестнице показался доктор. Пройдя через холл, он замешкался перед дверью в гостиную. Я через силу сделала глубокий вздох и увидела в маленьком зеркале собственное отражение — мое лицо побелело.
Доктор вошел — и ухватился одной рукой за стул, чтобы не упасть. В глазах у него застыл невыразимый ужас, верхняя губа дрожала, как у загнанной лошади, и, прежде чем заговорить, он долго мычал нечто невразумительное.
— Я видел этого человека, — начал он сдавленным шепотом. — Я провел в его компании целый час. О, Господи! И после этого я еще жив и, может быть, даже в своем уме! Я всю жизнь имел дело со смертью и копошился в тлеющих останках бренного сосуда души. Но это! О, только не это! — Он замахал руками, как бы отгоняя от себя непрошеные видения. — Не посылайте больше за мной, мисс Лестер, — сказал он, чуть-чуть успокоившись. — В этом доме я не могу больше ничего сделать. До свидания.
Когда я глядела, как доктор неверной походкой спускается по ступенькам и бредет по тротуару в направлении своего дома, мне казалось, что он состарился на целых десять лет.
Брат из комнаты не выходил, только крикнул изменившимся до неузнаваемости голосом, что очень занят и хочет, чтобы еду ему оставляли под дверью. Я отдала соответствующие распоряжения слугам.
С этого дня и без того условная вещь, которую мы называем временем, совсем перестала существовать для меня. Я жила в неизбывном страхе, машинально отдавая распоряжения по хозяйству и общаясь со слугами только в случае крайней необходимости. Иногда выходила на улицу, бродила час-другой и возвращалась домой; но где бы я ни находилась в тот или иной момент, душа моя постоянно была у двери запертой комнаты наверху. Я с содроганием ждала того момента, когда дверь наконец отворится.
Примерно недели через две после визита доктора Хэбердина я возвращалась после прогулки домой, несколько посвежев и успокоившись. Разлитая в воздухе приятная свежесть, пышная листва, зеленым облаком плывшая по площади, аромат цветов заворожили меня. Я почувствовала себя не такой уж несчастной и пошла быстрее.
Прежде чем перейти улицу перед нашим домом, я задержалась на минутку на тротуаре, пропуская экипаж, и случайно посмотрела вверх, на наши окна. В тот же миг в ушах у меня зашумел, закружил холодный поток, сердце подпрыгнуло и провалилось в бездонную яму, безликий, безымянный страх сковал меня.
Клубы черного дыма спустились на меня из долины теней и мрака, и я слепо вытянула руки вперед в поисках опоры, ибо булыжная мостовая передо мной встала дыбом, закачалась, заходила ходуном и медленно поплыла из-под ног. Потому что, когда я посмотрела на окно комнаты брата, скрывавшая его занавеска на секунду отдернулась и прямо на меня глянула некая невообразимая тварь.
Нет, я не разобрала ни лица, ни фигуры — просто что-то живое вперило в меня два огненных глаза, вокруг которых колыхалось нечто такое же бесформенное, как и мой страх. Меня трясло, будто в лихорадке, мучительная тошнота, вызванная невыразимым страхом и отвращением, рванулась к горлу, и минут пять я стояла как вкопанная, не в силах пошевельнуть и пальцем.
Очутившись наконец уже дома, я взлетела по лестнице и закричала:
— Фрэнсис! Фрэнсис! Во имя всего святого, отзовись! Что за жуткое существо у тебя в комнате? Выгони его, выгони скорее!
Я услышала шаркающие, медленные, неловкие шаги, затем последовало сдавленное клокотание, постепенно оформившееся в голос — надломленный, придушенный, произносивший слова, которые едва можно было разобрать.
— Здесь никого нет, — донеслось до моего слуха. — Умоляю, не беспокой меня. Я сегодня не совсем здоров.
Испуганная, беспомощная, я сошла вниз.
Сделать я ничего не могла. Фрэнсис солгал мне, поскольку я отчетливо видела то существо в окне — я не могла ошибиться.
Внезапно меня озарило еще одно жуткое воспоминание: когда я еще только поднимала голову вверх, занавеска на окне уже поехала в сторону. Я мельком увидела отдергивающий ее предмет и сразу же поняла, что этому жуткому образу суждено навеки запечатлеться в моем сознании. То была не рука, занавеску сжимали не пальцы — черная культя отводила ее. Размытый силуэт и неуклюжесть звериной лапы врезались мне в память за мгновение до того, как черная волна ужаса окатила меня и я стала проваливаться в преисподнюю.
Рассудок мой изнемогал при мысли о том, что это чудище обитает в комнате брата, и я вновь пошла наверх. Бессчетное количество раз знала я брата, но ответа так и не дождалась.
В тот вечер ко мне подошел слуга и шепотом сообщил, что вот уже три дня еда у двери остается нетронутой. Он добавил, что неоднократно стучал, но ему не ответили — изнутри доносилось лишь уже знакомое мне шарканье ног.
День шел за днем, еда по-прежнему доставлялась к двери комнаты наверху и по-прежнему оставалась нетронутой, а я все не могла достучаться до брата.
Слуги начали роптать — оказалось, они так же напуганы, как и я. Кухарка рассказала, что поначалу, когда Фрэнсис только заперся у себя, она слышала, как он выходит по ночам и бродит по дому, а однажды даже хлопала входная дверь, но вот уже несколько ночей она не слышала ни звука.
Наконец наступила развязка. Это случилось как-то в сумерки — я сидела одна в сгущавшемся полумраке, когда отчаянный вопль прорезал тишину. На лестнице послышался дробный топот ног. В комнату ворвалась бледная, трясущаяся от страха служанка и опрометью кинулась ко мне.
— О мисс Элен! — зашептала она. — Господи помилуй, мисс Элен, что же это такое творится? Вы только посмотрите, мисс, посмотрите на мою руку!
Я подвела служанку к окну и увидела на ее руке мокрое черное пятно.
— Не понимаю. — сказала я. — Объясните, в чем дело?
— Я как раз убиралась в вашей комнате, — начала она. — Перестилаю я постель — и вдруг мне что-то как упадет па руку, мокрое такое. Я глянула вверх, а потолок весь черный, и с него капает…
Я в ужасе посмотрела на служанку и закусила губу.
— Идемте, — сказала я. — Прихватите свечу.
Спальня моя была как раз под комнатой брата. Я вошла
туда с отчаянной дрожью в сердце. Взглянув на потолок, я увидела пятно, черное, мокрое, набухшее вязкими каплями. Под ним, на постели, растекалась лужа гнусной жижи, постепенно впитывавшаяся в белоснежное белье.
Я побежала наверх и громко постучала.
— О Фрэнсис, Фрэнсис, мой дорогой брат! — закричала я. — Что случилось с тобой?
Я прислушалась — какое-то хлюпанье, похожий на клокотанье воды шум и больше ничего. Я позвала громче — ответа не было.
Хоть доктор Хэбердин и предупредил, что не хочет больше меня видеть, я все же отправилась к нему. Заливаясь слезами, я рассказала обо всем, что случилось. Доктор выслушал меня с посуровевшим и опечаленным лицом.
— Ради памяти покойного батюшки, — сказал он наконец, — я пойду с вами, хотя сделать ничего не смогу.
Мы вышли на темные, тихие, измученные зноем и многодневной засухой улицы. Когда мы проходили под фонарями, я всякий раз посматривала на доктора — лицо у него было бледное, а руки заметно дрожали.
Без промедлений мы поднялись наверх. Я держала лампу, а доктор решительным голосом взывал:
— Мистер Лестер, вы меня слышите? Я настаиваю на встрече с вами. Отзовитесь!
Ответа не последовало, но мы явственно услышали загадочное клокотанье.
— Мистер Лестер, я жду. Отворите дверь сейчас же, юн я ее выломаю.
И в третий раз он обратился к Фрэнсису, и голосу его гулким эхом вторили стены.
— Мистер Лестер! В последний раз приказываю вам отпереть дверь. Мы только попусту тратим время, — сказал доктор после мучительной паузы. — Будьте любезны, принесите мне кочергу или что-нибудь в этом роде.
Я побежала в кладовку, где хранился всякий хлам, и нашла нечто похожее на тяжелый тесак, который вполне мог подойти Хэбердину, решившему попробовать себя в роли взломщика.
— Очень хорошо, — сказал доктор. — Это именно то, что нужно. Предупреждаю вас, мистер Лестер, — громко крикнул он в замочную скважину, — сейчас я вломлюсь к вам в комнату.
Раздался громкий скрежет, хруст, на пол полетели щенки. Внезапно дверь распахнулась, и на мгновение мы в ужасе застыли на пороге, внимая страшному, пронзительному воплю — то был не голос человека, а рев чудовища, извергавшего нечленораздельные звуки и угрожавшего нам из темноты.
— Держите крепче лампу, — сказал доктор.
Мы вошли в комнату.
— Вот он! — сказал доктор Хэбердин, переводя дыхание. — Глядите, вон в том углу.
Я взглянула в указанном направлении, и словно раскаленный добела нож вонзился мне в сердце.
На полу колыхалось черное, вязкое, вонючее месиво. Оно гнилостно разлагалось, таяло и пульсировало, клокоча жирными пузырями, как кипящая смола. Горящие точки глаз светились изнутри наподобие раскаленных угольков, шевелились и вытягивались остатки губ, какие-то бесформенные отростки вздымались вверх неубедительным подобием рук.
Доктор шагнул вперед, поднял железный прут и принялся яростно молотить им по распростертой у его ног отвратительной массе до тех пор, пока горевшие внутри ее угольки не погасли.
Потом я потеряла сознание…
Недели через две, когда я несколько пришла в себя, меня навестил доктор Хэбердин.
— Я продал свою практику, — сказал он, — и завтра отправляюсь в дальнее путешествие. Не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в Англию. Скорее всего, куплю клочок земли где-нибудь в Калифорнии и обоснуюсь там до конца жизни. Я принес вам пакет, можете вскрыть и прочесть, если у вас найдутся силы сделать это. В нем отчет доктора Чемберса о составе того препарата, который я передал ему. До свиданья, мисс Лестер, точнее — прощайте навсегда!
Когда он ушел, я вскрыла конверт и в считанные минуты пробежала глазами написанное. Вот эта рукопись, а с нею и чудовищная разгадка пережитого мною кошмара.
"Дорогой Хэбердин, — начиналось письмо, — я непростительно затянул с ответом на ваш вопрос о составе белого вещества, присланного вами. Сказать по правде, я долго сомневался и выбирал тактику, коей мне следует придерживаться, — ведь в естественных науках, как и в теологии, есть свои догматы, свои принимаемые на веру истины. К тому же я знал, что правда будет оскорбительна для принципов — а если говорить честно, то предубеждений, — которые когда-то были дороги и мне. Тем не менее я решился не лукавить с вами, но вначале должен сделать небольшое отступление личного характера.
Вы, Хэбердин, знали меня много лет как ученого и как человека. Мы с вами частенько толковали о нашей профессии и не раз размышляли о безнадежной бездне, открывающейся перед тем, кто силится проникнуть в истину нетрадиционными способами, в обход проторенных путей. Я помню пренебрежение, с коим вы говорили об ученых, которые тайком балуются чем-то невидимым и позволяют себе туманно намекать, будто разум и органы чувств могут, в конце концов, и не быть единственными инструментами познания, определяющими пределы, за которые пока не проникало ни одно человеческое существо.
Мы от души смеялись — и, думается, совершенно справедливо — над новомодной оккультной чепухой, прикрывающейся различными именами, будь то месмеризм, спиритуализм, материализация или теософия, над сбродом мошенников, поднаторевших на жалких фокусах и убогих трюках с вызываниями худосочных духов. I I все же, несмотря на все сказанное, я должен признаться в том, что никогда не был оголтелым материалистом, если, конечно, употреблять это слово в его обычном значении. Минуло много лет с тех пор, как я, отчаянный скептик, убедился в том, что старая, непоколебимая материалистическая теория в корне неверна.
Признание это, возможно, и не поразит вас так больно, как поразило бы двадцать лет назад, поскольку вы, я думаю, не могли не заметить, что выдвигаемые современными учеными новейшие гипотезы содержат робкие догадки о трансцендентальном и что самые именитые нынешние химики и биологи не колеблясь подписались бы под dictum[94] старого учителя "Omnia exeunt in mysterium"[95], обозначающем в моем понимании то, что всякая область человеческого знания, будучи прослеженной до своих истоков, до первооснов, упирается в непостижимость.
Не стану докучать вам подробным рассказом о мучительных шагах, приведших меня к таким выводам; скажу лишь, что кое-какие опыты поколебали тогдашнюю мою точку зрения, а весь последующий ход мысли, потревоженной пустяковыми, казалось бы, обстоятельствами, завел меня достаточно далеко. Былые представления о Вселенной рассыпались, как карточный домик, и я в растерянности стоял перед разверзшимися безднами мироздания… Ныне я знаю: пределы разума, которые казались неодолимыми, обрекая нас биться в узких сетях рационализма, всего лишь тончайший покров, что рассеивается перед жаждущим истинного опыта и улетучивается, как сон, как утренний туман, как юные забавы…
Знаю, вы никогда не стояли на позициях воинствующего материализма, никогда не тяготели к вселенскому нигилизму — от этой вопиющей абсурдности вас удерживал простой здравый смысл, — однако все, сказанное здесь, уверен, покажется вам нелепым и противным вашему собственному умонастроению. Тем не менее, Хэбердин, все, о чем я здесь пишу, правда; только не подумайте, что я имею в виду плоскую 'научную истину', удостоверенную опытом, ибо вселенная куда более совершенна и страшна, нежели мы подозреваем. Вселенная как таковая, друг мой, есть величайшее таинство, совокупность мистических и сокровенных сил и энергий. Человек, солнце, звезды, цветок в поле, кристалл в пробирке — все подчинено великому таинству мироздания.
Вас, Хэбердин, наверняка интересует, куда я клоню. Небольшое разъяснение тут действительно необходимо. Видите ли, все казавшееся нам прежде невероятным и абсурдным, если посмотреть на это с другой точки зрения, становится вполне возможным. Мы должны другими глазами взглянуть на древние легенды и поверья, принять за правду то, что впоследствии превратилось в волшебную сказку. Право, не такое уж это невыполнимое требование. Современная наука делает послабление в свойственной ей лицемерной манере: в ведовство верить нельзя, а в гипнотизм можно, привидения нынче не в почете, зато о телепатии толкуют на всяком научном углу. Хочешь быть суеверным — будь им, подбери только своему суеверию латинское имя…
Итак, перехожу к делу. Вы, Хэбердин, прислали мне закупоренный и запечатанный сосуд, содержащий небольшое количество хлопьевидного белого порошка, полученного у аптекаря, который отпускал его в качестве лекарства одному из ваших пациентов. Не удивительно, что порошок этот не поддался вашим попыткам разложить его на составляющие. Вещество это было известно сотни лет назад, но очень немногим. Я никак не ожидал, что оно обнаружится в лавке современного фармацевта. Не вижу причин для сомнений в правдивости аптекаря — пузырек, очевидно, попал к нему очень давно.
Тут вступает в действие то, что мы называем стечением обстоятельств. Все эти годы соль во флаконе подвергалась определенным перепадам температуры, по всей видимости, от 40 до 80 градусов по Фаренгейту. Эти-то перепады, повторявшиеся из года в год с неравномерными промежутками, с различной интенсивностью и продолжительностью, и стали причиной реакции столь сложной и тонкой, что я не уверен, можно ли с помощью самых современных приспособлений, при самом тщательном контроле за процессом, добиться подобного результата.
Присланный вами порошок представляет собой тот самый состав, из которого в древности приготавливали вино шабаша, Vinum Sabbati.
Вы, безусловно, читали о шабашах ведьм и от души смеялись над сказками, внушавшими страх нашим предкам, — анекдотическими историями о черном коте, помеле, порче, насланной на корову какой-нибудь старухи или на быка какого-нибудь старика. Я часто думал: как хорошо, что люди верят таким безобидным россказням! Ведь они на редкость удачно скрывают многое из того, о чем обывателю лучше не знать. Но если вы удосужитесь прочитать приложение к монографии Пейна Найта, то обнаружите, что истинный шабаш — это нечто совсем иное (при этом автор, из милосердия к читателю, не опубликовал всего, что знает).
Истинный шабаш — это жестокий обряд бесчеловечного ведовства, существовавший задолго до появления в Европе арийцев. Мужчин и женщин, выманенных из дома под благовидным предлогом, встречали существа, прекрасно освоившие роль — а это была именно роль! — самого дьявола, и отводили в отдаленное уединенное место, известное только посвященным. Это могла быть пещера в скалистом, иссушенном ветрами холме или же чаща дремучего леса. Там и происходил шабаш. Там, в самый глухой час ночи, приготавливалось вино шабаша, сей Грааль Зла, и подносился новообращенным. Те вкушали дьявольское причастие, и рядом с каждым отведавшим его вдруг оказывался спутник — чарующий неземным соблазном образ, суливший блаженство поизысканнее и поострее фантазий самого сладкого сна.
Трудно писать о подобных вещах, и главным образом потому, что сей прельстительный образ — отнюдь не галлюцинация, а, как это ни ужасно, часть самого человека. Силой нескольких крупиц белого порошка, брошенных в стакан воды, размыкалась жизненная субстанция, триединая ипостась человека распадалась, и ползучий гад, чутко дремлющий внутри каждого из нас, становился осязаемым, самостоятельным, облеченным плотью существом. А потом, в полночный час, заново разыгрывалось действо первого грехопадения, глухо упоминаемое в мифах о райском древе. Называлось оно nuotiae Sabbati".
Ниже следовала приписка доктора Хэбердина:
"Все вышеизложенное, к несчастью, чистая правда. Брат ваш во всем мне признался в то утро, когда я заходил к нему в комнату. Сразу обратив внимание на перевязанную руку, я заставил показать ее. То, что я увидел, вызвало у меня, врача с многолетним опытом, такое отвращение, что мне едва не стало дурно; история же, которую я вынужден был выслушать, оказалась столь невообразимо пугающа, что некоторое время я, кажется, был близок к помешательству. После этого я усомнился в благости Предвечного. А кто не усомнится, коли природе дозволяется играть такими возможностями!.. Если бы вы собственными глазами не видели развязки, я бы сказал: не верьте всему этому. Мне остается жить считанные недели, вы же молоды и можете все забыть. Забудьте.
Джозеф Хэбердин, доктор медицины".
По прошествии двух или трех месяцев я услышала, что доктор Хэбердин скончался в море вскоре после того, как его корабль отплыл от берегов Англии.
Мисс Лестер умолкла и жалобно посмотрела на Дайсона, который, нужно сказать, чувствовал себя очень неловко.
Он пробормотал несколько отрывистых фраз, предназначенных выразить его глубокий интерес к сей необычайной истории, а затем спросил:
— Но, простите меня, мисс Лестер, насколько я понимаю, вы оказались в затруднительном положении. И были столь любезны, что просили меня помочь вам. В чем же дело?
— Ах да, — сказала она. — Я и забыла. Видите ли, мои теперешние сложности кажутся столь незначительными но сравнению с тем, о чем я вам рассказала. Но раз уж вы так добры ко мне, то я продолжу. Вы едва ли поверите, но кое какие лица подозревали — делали вид, что подозревают. — будто я убила своего брата. Я говорю о моих родственниках. На протяжении всей своей жизни они руководствовались самыми что ни на есть корыстными соображениями и, по всей видимости, решили извлечь из обрушившегося на меня ужаса некую материальную выгоду. Я стала объектом унизительного, постыдного наблюдения. Поверите ли, сэр, если я отправлялась за границу, за мной следовали по пятам наемные соглядатаи, да и в своем собственном доме я тоже чувствовала себя под неусыпным и, прямо скажу, изобретательным надзором. Нервы мои без того были взвинчены до предела — стоит ли говорить, что мне очень хотелось скрыться от ходивших за мной тенью родственников. Я обрядилась в этот маскарадный траур и на какое-то время затаилась. Но с недавних нор у меня появились основания полагать, что меня выследили, и если только я не заблуждаюсь, вчера я видела детектива, которому поручено следить за всеми моими пере движениями. Вы, сэр, наблюдательны и остры на глаз, так скажите, вам не показалось, что сегодня вечером кто-то следил за домом?
— Кажется, нет, — сказал Дайсон. — Но, может быть, вы опишете этого гипотетического детектива?
— Конечно. Это моложавый мужчина с темными волосами и совсем уже черными усами. Он носит очки в крупной оправе, надеясь таким образом замаскироваться, но ему ни за что не изменить своей неловкой манеры держаться и привычки нервно оглядываться но сторонам.
Заключительная часть описания послужила последней каплей, переполнившей чашу терпения Дайсона. Он жаждал поскорее выбраться из этого дома и, не будь правила хорошего тона столь строго почитаемы на Британских островах, с удовольствием облегчил бы душу каким-нибудь замысловатым ругательством.
— Простите, мисс Лестер. — произнес он с холодной вежливостью, — но я ничем не могу вам помочь.
— О, я, кажется, обидела вас, — печально молвила мисс Лестер. — Скажите, чем я провинилась, и я сделаю все, чтобы добиться вашего прощения.
— Вы ошибаетесь, — сказал Дайсон, хватаясь за шляпу и через силу выговаривая слова. — Вы ни в чем не провинились. Но, как я уже сказал, помочь вам я не могу. Вероятно, — добавил он не без сарказма. — вам стоит обратиться к моему другу Расселу, тот вам будет полезнее.
— Спасибо, я попробую, — ответила дама и закатилась в припадке хохота, довершившего позор и смятение мистера Дайсона.
Незадачливый рыцарь поспешно покинул дом и постарался найти забвение в пятимильной прогулке по усищам города, медленно превращавшимся из черных ущелий в серые коридоры, из серых коридоров — в сияющие пролеты солнечного света. Встречая или обгоняя редких гуляк. Дайсон с горечью думал о том, что ни один из них не провел сегодняшнего вечера так бездарно, как он.
Домой Дайсон пришел в твердой решимости начать новую жизнь. Он вознамерился оставить свои ирландские и арабские увлечения и списаться с Мьюди относительно регулярной поставки легких романов для занимательного чтения.
Странное происшествие в Клеркенуэле[96]
В течение ряда лет мистер Дайсон занимал две комнаты на тихой улице в Блумсбери, где ему удавалось, по его собственному напыщенному выражению, держать руку на пульсе жизни и при этом не быть оглушенным тысячеголосым ревом главных улиц Лондона. Источником особого, если не сказать изысканного, удовольствия Дайсона служило то, что с близлежащего угла Тоттенхем-Корт-роуд отправлялась во все концы города добрая сотня омнибусов; Дайсон часто говорил, что от его дома можно быстро и удобно добраться до какого-нибудь там Дэлстона или же пуститься в воспоминания о чудесном рейсе по самым дальним пределам Илинга и улицам за Уайтчепелом.
Свои комнаты, бывшие первоначально излишне меблированными, Дайсон постепенно очистил, и хотя пышного великолепия апартаментов, что он занимал в доме близ Стрэнда, тут не наблюдалось, все же обстановка была отмечена строгим изяществом, делавшим честь его вкусу. Старые и по-настоящему красивые ковры ласкали взгляд своими блеклыми тонами; авторские оттиски гравюр горделиво, как древние родовые щиты, висели на стенах в рамках из настоящего черного дуба. Мебели как таковой было мало: в одном углу скучал простой, но очень внушительного вида квадратный стол. К столу была придвинута старинная, почти трехсотлетняя скамья с высокой спинкой. Два деревянных кресла плюс книжная полка в стиле ампир могли бы с успехом довершить обстановку любого, даже самого аристократического жилища, если бы не один достойный особого упоминания предмет.
Самому мистеру Дайсону скамья, стол и даже антикварная полка были глубоко безразличны — его любимчиком в этом разношерстном семействе мебели было самолично купленное им японское инкрустированное бюро, за которым, равнодушно повернувшись спиной ко всем деревянным сокровищам комнаты, Дайсон любил просиживать целыми днями, охваченный горячкой вдохновения или, как он сам любил выражаться, "охотой на фразу". Аккуратный строй ящичков был заполнен исписанными листками и записными книжками — многолетними набросками; а вместительная, глубокая, как пещера, утроба бюро была до отказа забита наметками новых замыслов. Дайсон горячо любил все тонкости и ухищрения писательского ремесла, и хотя, как мы уже говорили, отчасти заблуждался, именуя себя художником, забавы его были в высшей степени безобидны, тем более что публикациями своих трудов он миру не докучал.
За этим причудливым бюро Дайсон замыкался в мире своих фантазий, экспериментировал с сочетаниями слов, бился, как и дружественный ему затворник из Бейсуотера, над неодолимыми трудностями стиля — только в отличие от склонного к депрессии реалиста он не терял при этом твердой уверенности в себе. Последнее время Дайсон почти непрестанно работал над новым замыслом, захватившим его мистической подоплекой, — над историей своего ночного приключения на Эбингдон-Гроув, в которой не последнюю роль играла изобретательная дама со второго этажа.
Наконец он с торжествующим видом отложил в сторону перо и начал было поздравлять себя с окончанием работы, как вдруг вспомнил, что пять дней кряду не созерцал уличной жизни. Воодушевленный своим явно удавшимся, но еще не пережитым до конца новым рассказом, Дайсон отложил рукопись и вышел из дому в том на редкость приподнятом настроении, которое заставляет автора видеть основу будущего шедевра в любом завалящем булыжнике, выбитом из мостовой колесами пролетки.
Вечерело, над городом таяли объятые туманной дымкой осенние сумерки. Воздух был недвижим, и людские голоса, грохот движения и стук шагов по тротуару казались Дайсону театральным гулом, несущимся из глубины сцены в тишину зала. I Iа площади дождем осыпались листья, а улица сверкала немудреными, строгими огнями мясных лавок и веселой иллюминацией зеленщиков. Была суббота, и полчища обитателей дешевых комнатушек выгуливали себя во всей своей красе: испитого вида женщины в порыжелых черных платьях хватали с витрин здоровенные куски гусятины "с душком", городские кумушки ворковали над мерзкой тушеной капустой, местные малолетние хулиганы горланили на перекрестках, а поверх всего этого плескалось море четырехпенсового пива.
Эти незамысловатые картины не тревожили воображения Дайсона: он любил пофантазировать, но не в духе Де Куинси[97], после употребления очередной дозы опиума ликовавшего по поводу того, что мясо упало в цене аж на целых два пенса. Переживая прелесть свеженаписанной повести, пристрастно взвешивая все детали сюжета и композиции, смакуя ту или иную удачную фразу и сокрушаясь по поводу разного рода просчетов, Дайсон решил уйти от веселья и сутолоки оживленных улиц и углубился в более пустынные кварталы.
Он незаметно свернул к северу и оказался на старинной запущенной улице, пестревшей объявлениями о сдаче внаем помещений под жилье и конторы, но при этом еще сохранившей чопорную атрибутику эпохи париков — мощенную гладким булыжником мостовую, широкий тротуар и внушительный строй домов с высокими узкими окнами, выступавшими из щербатых кирпичных стен.
Дайсон шел быстро. Он только что решил сделать из одного эпизода своей повести небольшую самостоятельную вещицу и пребывал в счастливом состоянии парения духа. По тихим улицам было так приятно прогуливаться, что Дайсон тут же включит весь этот квартал в сферу своих творческих интересов и поклялся непременно наведываться сюда.
Не думая о том, куда идет, он вновь круто свернул на восток и очутился в убогом окружении серых двухэтажных зданий, а затем вышел на пустырь, огороженный стеной какой-то большой фабрики; унылое зрелище останков кирпичной кладки и недостроенной дороги слегка разнообразила местная свалка — скудно освещенная, жалкая и вонючая. Еще один поворот — и перед Дайсоном неожиданно вырос холм с освещенным фонарями крутым подъемом. Будучи истинным путешественником. Дайсон с готовностью направил туда свои стопы, гадая, куда заведет его эта кружная тропа.
Место было как будто благопристойное, но до крайности противное. Некий архитектор, должно быть уже отметивший тридцатилетний юбилей своей безвестности, задумал построить здесь виллы-близнецы из серого кирпича. В результате посреди зеленой пустоши вырос ряд домов, очертаниями напоминающих Парфенон, но при этом щедро украшенных вычурной лепниной. Название улицы было Дайсону незнакомо.
На вершине он обнаружил еще один сюрприз: там располагалась неровная, поросшая клочковатой травой и чахлыми деревьями площадка, именуемая площадью. Здесь опять-таки бросались в глаза парфенонские мотивы. По другую сторону холма виднелись ряды неказистых домишек подозрительно грязного вида, которые перемежались с исполненными строгости и благородства жилищами, украшенными плотными жалюзи и медными дверными молотками, начищенными до хирургического блеска.
Увидев светящиеся в темноте окна бара, Дайсон ужасно обрадовался и быстрым шагом направился к двери, намереваясь ознакомиться с набором напитков, предлагавшихся обитателям этой местности, которая была для него не менее загадочна, чем Ливия[98], Памфилия[99] или Месопотамия[100]. Доносившийся из окоп гул грубых голосов упреждал случайного прохожего о том, что здесь собирается парламент лондонских пролетариев, и Дайсон поискал глазами вход потише, именуемый обычно отдельным.
Усевшись на убогую лавочку и заказав пиво, он начал вслушиваться в словесные дебри общего зала — то была бессмысленная, одновременно злобная и сентиментальная болтовня, перемежавшаяся постоянными апелляциями к какому-нибудь Биллу или Тому, со средневековыми оборотами речи и словечками вроде тех, что в свое время с воодушевлением и смаком изрыгал на бумагу Чосер. Шарканье кружек по столам и звяканье меди о цинковый прилавок служило сквозной темой этой симфонии.
Дайсон спокойно раскуривал трубку, когда к нему в закуток проскользнул неопределенного вида господин. Увидев удобно расположившегося в углу Дайсона, незнакомец резко вздрогнул и быстро огляделся по сторонам. Он словно был подключен к проводу какого-то неисправного электрического устройства — в ответ на вопрос буфетчика о том, что ему подать, нервный посетитель едва не метнулся прочь из зала, а получив свою кружку пива, едва не расплескал ее на стол, пытаясь поднести к губам.
Дайсон не без интереса рассматривал сего господина. Тот был до подбородка закутан в шарф и прятал глаза под полями мягкой фетровой шляпы. Он съеживался, когда ему казалось, что на него смотрят, и принимался дрожать как желе от всякого чуть более хриплого, чем обычно, выкрика, доносившегося из общего зала. Такая взвинченность невольно внушала жалость, и Дайсон уже хотел было обратиться к господину с каким-нибудь пустым вопросом, как тут к ним подошел еще один человек. Дайсона вновь прибывший не заметил. Положив руку на плечо его соседу, он что-то еле слышно пробормотал тому на ухо и сразу же исчез.
Дайсон с изумлением признал в стремительно промелькнувшем господине гладко выбритого и велеречивого мистера Бартона, но времени как следует удивиться этой внезапной встрече у него не было — он был всецело поглощен плачевным и одновременно смехотворным зрелищем. Едва почувствовав прикосновение руки Бартона к своему плечу, несчастный невротик крутанулся как на шарнирах и тут же отпрянул назад с тихим жалобным писком попавшего в западню кролика. Кровь отхлынула у бедняги от лица; оно посерело так, словно на него легла тень смерти, и Дайсон уловил сдавленный шепот:
— Мистер Дейвис! Ради бога, сжальтесь надо мной, мистер Дейвис! Клянусь, я… — тут несчастный умолк и, до крови кусая губы в отчаянной попытке обрести мужество (что ему явно не удалось, ибо он дрожал как осиновый лист), двинулся к выходу с видом человека, обреченного на верную гибель.
Минуты не прошло после его ухода, как Дайсон вдруг сообразил, что знает несчастного. Это был, вне всякого сомнения, тот самый молодой человек в очках, которого разыскивали по крайней мере три весьма изобретательные особы, повстречавшиеся Дайсону при различных обстоятельствах. Самих очков, правда, недоставало, но бледного лица, черных усов и быстрых взглядов по сторонам было достаточно, чтобы сразу же распознать его.
Дайсону стало ясно, что произвольная цепь случайностей вывела его на след некоего таинственного заговора — на след мерзкой змеи, протянувшийся по большим и малым дорогам лондонского космоса. Дайсон только диву давался при мысли о том, что именно ему, ничего не ведавшему и беспечному гуляке, была дарована возможность сквозь яркий занавес обычной жизни разглядеть тени тайных пружин и механизмов. И тут же окружавшая его тарабарщина, безвкусный блеск и грубая оживленность бара стали для Дайсона частью волшебства — ведь именно здесь, прямо у него на глазах, разыгралась сцена некой жестокой и таинственной драмы. Он увидел, как посерела парализованная ужасом человеческая плоть и как на расстоянии вытянутой руки перед ним разверзся вход в преисподнюю.
Пока Дайсон предавался всем этим размышлениям, к нему подошел буфетчик и одарил его тем выразительным взглядом, каким все буфетчики на свете дают понять посетителям, что те исчерпали свои права на занимаемое ими место. Дайсону пришлось заказать еще пива. Перебирая в памяти подробности случившегося, Дайсон вспомнил, что при первом порыве страха молодой человек поспешно вынул руку из кармана пальто и при этом раздался негромкий шлепок, как если бы что-то упало на пол.
Сделав вид, что уронил трубку. Дайсон начал шарить руками в темном углу. Нащупав некий предмет, он осторожно подтянул его к себе и, опуская потихоньку в карман, скосил глаза на свою находку. То была старомодная записная книжка в потертом сафьяновом переплете? цвета пивной пены.
Дайсон залпом осушил кружку и покинул бар, радуясь счастливой находке и строя предположения относительно ее возможного содержания. Он боялся обнаружить в записной книжке чистые странички или изнурительно-бессмысленные колонки записей о ставках на скачках, обращающие в фарс многообещающий вид старой сафьяновой обложки. Дайсон не без труда выбрался из мрачного убогого квартала и, оказавшись наконец на Грей-Инн-роуд, со всей возможной скоростью пересек Гилфорд-стрит и поспешил домой, мечтая о зажженной свече и уединении.
Добравшись до своей комнаты, Дайсон немедленно уселся за бюро, положил перед собой свою находку и глубоко задумался. Ему не хватало духу раскрыть книжку — он боялся, что его постигнет горькое разочарование. Наконец он наугад заложил палец между страничками — и с радостью увидел убористые строки рукописи. Так уж получилось, что первые два слова, бросившиеся ему в глаза, гласили: "Золотой Тиберий".
Дайсон немедля открыл первую страничку и принялся с живейшим интересом читать. То была
История молодого человека в очках
Посреди замызганной темной комнаты, расположенной, не сомневаюсь, в одной из самых грязных трущоб Клеркенуэла, я начинаю писать историю своей жизни, жизни, которая, ввиду того что ей ежедневно угрожают, неумолимо подходит к концу. С каждым днем — нет, с каждым часом! — враги все туже стягивают вокруг меня свои сети, и вот теперь я обречен на заточение в нищенской каморке, а выйти могу только навстречу верной гибели. Моя история, если ей случится попасть в хорошие руки, может предостеречь молодых люден от опасностей и ловушек, ожидающих всякого, кто сошел с пути истинного.
Зовут меня Джозеф Уолтерс. Выйдя из нежного возраста, я обнаружил, что обладаю небольшим, но приличным доходом, и решил посвятить свою жизнь наукам, свято веруя, что лишь образование сделает меня человеком. Я не имею в виду наше нынешнее "образование" — я вовсе не намеревался уподобляться тем, кто тратит всю свою жизнь на унизительное "редактирование" классики, марает на чистых полях достойнейших книг пустые поверхностные замечания и не покладая рук внушает публике непобедимое отвращение ко всему прекрасному. Монастырская церковь, превращенная в конюшню или пекарню, являет собой печальное зрелище, но еще более достоин сожаления шедевр, замаранный грубым пером комментатора и испещренный его гнусными пометками.
Я же выбрал славную стезю ученого в древнем, благородном понимании этого слова. Я жаждал обладать энциклопедическими знаниями, состариться среди книг, изо дня в день, из года в год трепетать над драгоценными страницами бессмертных творений. Я был недостаточно богат, чтобы собрать собственную коллекцию книг, и потому вынужденно прибегал к услугам библиотеки Британского музея.
О, эти мрачные, величавые и могучие своды! Эта мекка страждущих умов, мавзолей надежд, печальная обитель, где упокоиваются лучшие из желаний! Многие шли сюда с просветленным умом и легким сердцем, видя в величественной каменной лестнице ступени восхождения к славе, а в помпезном портике — врата знаний. Но, увы! Они не находили внутри ничего, кроме все той же присущей миру суеты сует. Когда окружающие музей улицы полнятся шумом жизни, внутри его царят тишина, вечные сумерки и тяжкий книжный дух. Там стынет и разжижается кровь, покрывается пылью мозг; там люди охотятся на теней, гоняются за призраками, сражаются с полчищами привидений, ведут войну, которой нет исхода. О, эта могила для живых! На ее галереях слышны не полнокровно звучащие голоса, а вечные вздохи и шелест погибших надежд; там людекие души устремляются к небу, как мотыльки к огню, но тут же, скорчившись и почернев, падают к подножью мрачного могучего свода!
Сейчас я горько сожалею о том дне, когда впервые ступил в эти мрачные залы и как одержимый набросился на книги. Прошло не так уж много времени, и, не успев стать истинным завсегдатаем библиотеки, я познакомился с невозмутимым и благожелательным пожилым джентльменом, который почти всегда занимал соседний со мною стол. В читальном зале познакомиться нетрудно — предложенная по случаю помощь, подсказка у каталога, да и обыкновенная, ни к чему не обязывающая вежливость сидящих рядом людей постоянно дают к тому повод.
Так я узнал человека, который представился мне доктором Липсьюсом. Постепенно я начал искать его общества и даже скучал, когда ему доводилось отсутствовать. Словом, между нами завязалось что-то вроде дружбы. Я всегда мог воспользоваться его удивительно обширными знаниями, и он часто поражал меня тем, что за считанные минуты мог целиком охарактеризовать библиографию по тому или иному вопросу. Конечно же, я поведал ему о своих честолюбивых намерениях.
— Ах! — сказал он. — Вот бы вам родиться немцем! Я и сам был таким в юные годы. Прекрасное решение — ступить на вечную стезю. Узнать все на свете — чем не девиз для странствующего в поисках истины рыцаря! Но подумайте о том, что вас ждет впереди. Жизнь, наполненная одним лишь нескончаемым трудом и беспрестанное, неутолимое желание. Ученый тоже обречен на смерть, но свою смерть он сопровождает словами: "Я знаю ничтожно мало!"
Подобными речами Липсьюс медленно, но верно развращал меня. Он отчаянно хвалил избранное мною поприще, но при этом прозрачно намекал на то, что оно столь же безнадежно, как и поиск философского камня.
— В конце концов, — любил повторять Липсьюс, — величайшая из всех наук — это наука наслаждения. Вот вам истинный ключ ко вселенскому знанию! Рабле был великим ученым-энциклопедистом и, как вам известно, написал самую замечательную в истории человечества книгу. И чему же он учит в этой книге? Радоваться жизни. Нет нужды напоминать вам слова, лицемерно утаенные в большинстве изданий, но, безусловно, являющиеся ключом ко всей раблезианской философии и всем загадкам его великого учения. Vivez joyeus![101] Вот вам и вся философия Рабле. Его книга преподает основы наслаждения как изящного искусства. Впрочем, оно и есть изящнейшее из искусств — искусство искусств, если угодно. Рабле владел всеми научными знаниями своей эпохи, но он был к тому же хозяином жизни. А ведь со времен Рабле мы далеко ушли. Вы, как человек просвещенный, не можете считать созданные испорченным обществом для своего же блага шаткие установления непреложными заветами Абсолютного.
Такие вот взгляды проповедовал мой новый знакомый. Мало-помалу он сделал-таки из меня человека, объявившего войну всем общественным нормам. Я ждал возможности разорвать цепи условностей и зажить свободной жизнью, прожигая ее по собственному разумению. Я смотрел на мир глазами язычника, я был юн и неопытен, а Липсьюс в совершенстве владел искусством поощрения природных склонностей, таящихся на дне души молодого человека.
Вглядываясь в величественные своды музея, я прозревал переливающийся всеми цветами радуги прельстительный неведомый мир, мое воображение рисовало мне тысячу соблазнов, а все запретное тянуло к себе, как магнит. Наконец решение было принято, И я бесстрашно попросил Липсьюса стать моим наставником.
В тот день Липсьюс велел мне покинуть музей в половине четвертого, медленно пройти по северной стороне Грейт-Рас-сел-стрит и ждать на углу улицы, пока ко мне не обратится некий человек. Затем я должен был во всем следовать указаниям моего провожатого.
Я послушно выполнил первую часть предписания и с бьющимся сердцем, едва дыша и нервно озираясь по сторонам, встал на указанном мне углу. Подождав какое-то время, я начал опасаться, что надо мной просто подшутили, но вдруг заметил джентльмена, который с нескрываемым удовольствием наблюдал за мной с противоположной стороны улицы Тоттен хем-Корт. Перейдя дорогу и приподняв шляпу, он вежливо попросил меня следовать за ним, что я и сделал, не говоря ни слова и лишь гадая про себя, куда мы идем и как дальше будут разворачиваться события.
Мы подошли к неброскому внушительному дому, что возвышался на улице, прилегающей к северной стороне Оке-форд-стрит, и мой провожатый позвонил в колокольчик. Слуга провел нас в просторную, скромно обставленную гостиную на первом этаже.
Мы молча уселись, и, оглянувшись вокруг, я, к удивлению своему, обнаружил, что непритязательная с виду мебель была очень дорогой — нас окружали большие дубовые буфеты, два чрезвычайно элегантных книжных шкафа, изящные кушетки и прочие признаки роскоши, а что до красовавшегося в углу резного ларя, так он, судя но всему, вообще был средне вековый.
Наконец вошел доктор Липсьюс. Он поздоровался с нами, и после нескольких ответных реплик мой провожатый оставил нас с доктором наедине. Через некоторое время в гостиной появился какой-то престарелый господин и немедленно вступил в оживленнейшую беседу с Липсьюсом. Из их разговора я понял, что мой пожилой друг занимается торговлей древностями — оба джентльмена постоянно упоминали о некоей хеттской печати и перспективах дальнейших открытий, а немного погодя, когда к нам присоединились еще трое, в гостиной завязался спор о возможностях систематического изучения докельтских памятников в Англии. По сути дела, я попал на неофициальную встречу археологов.
В десять часов вечера все разошлись по домам, а я выразительно посмотрел на Лпнсьюса, показывая, что озадачен и жду разъяснении.
— Что ж, — сказал он, — нам нора наверх.
Пока я поднимался по лестнице вслед за Липсьюсом, освещавшим путь лампой, до моего слуха донеслись шум и лязг многочисленных запоров, на которые закрывали входную дверь. Потом Липсьюс приподнял тяжелую портьеру, и мы очутились в проходном коридоре. Я услыхал какие-то странные звуки, напоминавшие шум буйного веселья. Вслед за этим Липсьюс втолкнул меня в дверь, и обряд моего посвящения начался.
Трудно описать, что испытал я в ту ночь, к тому же я стыжусь вспоминать о том, что творилось в потайных комнатах этого страшного дома, окна которого были наглухо закрыты занавесями и ставнями, дабы ни один огонек не мог просочиться наружу.
Мне поднесли красного вина, и пока я пил его, одна из присутствующих в комнате женщин сказала, что это было внно из Красного Кувшина, а изготовил его не кто иной, как сам Аваллон. Другая же спросила, понравился ли мне напиток фавнов. Пока я добирался до дна чаши, мне довелось выслушать еще дюжину фантастических названий.
Вино кипело у меня в крови, пробуждая какие-то невнятные чувства, дремавшие во мне с самого момента рождения. Ощущение было такое, словно сознание оставило меня и я больше не был мыслящим действующим лицом, а скорее превратился одновременно в субъект и объект ужасных забав. Вместе со своей подругой я участвовал в мистерии, творящейся посреди греческих рощ и ручьев, водил хороводы и танцы, слушал зазывающую музыку флейт — но все это происходило как бы не со мной. Я видел себя со стороны, как зритель наблюдает за игрой актера.
Они заставили меня выпить священную чашу, и поутру я проснулся одним из них. Я дал им обет верности. Поначалу я знал лишь привлекательную сторону этих странных забав — мне велено было развлекаться и не думать ни о чем, кроме наслаждений, а Липсьюс даже обмолвился, что наблюдать за испугом несчастных, которых время от времени заманивают в этот дом, составляет для него несказанное удовольствие.
Однако по прошествии определенного срока мне было сказано, что я должен взять на себя часть работы. Настал и мой черед быть совратителем. На моей совести имеется много несчастных, сведенных при моем содействии в преисподнюю.
Однажды Липсьюс пригласил меня к себе в комнату и сказал, что поручает мне трудное дело. Он открыл ключом ящик стола, достал из него страничку машинописного текста и велел мне прочесть.
Страничка была без всяких помет — ни места, ни даты, ни подписи. Я прочел следующее:
12-го тек. мес. мистер Джеймс Хедли, действительный член Лондонского археологического общества получил от своего агента в Армении уникальную монету, "Золотого Тиберия". На реверсе — изображение фавна и надпись "Victoria". Монета считается чрезвычайно ценной. Мистер Хедли прибудет в город, чтобы показать ее своему другу, профессору Мемису (пер. Чиниз-стрити Оксфорд-стрит) в период с 13-го по 18-е тек. мес.
Липсьюс довольно посмеивался, глядя, с каким безмерным удивлением я кладу на стол это лаконичное сообщение.
— У вас будет прекрасная возможность проявить свои способности, — сказал он. — Это нелегкое дело требует немалой хитрости и тактичности. Хотелось бы мне на такой случай иметь под рукой Панурга[102], но нужно же нам посмотреть, на что вы способны.
— А это не шутка? — спросил я. — Откуда вы знаете — вернее, откуда автор сообщения знает, — что монета действительно доставлена из Армении мистеру Хедли? И возможно ли в точности установить время, когда этому мистеру взбредет в голову отправиться в Лондон? Мне кажется, что все это очень неочевидно.
— Дорогой мистер Уолтерс, — с улыбкой ответил Липсьюс, — у вас пропадет всякий интерес к жизни, если я раскрою вам тайну винтиков и колесиков, которые, если можно так выразиться, приводят в движение машину наших действий. Согласитесь, что гораздо приятнее сидеть лицом к сцене и изумляться неожиданным эффектам, чем стоять за кулисами и наблюдать скучные машины, благодаря которым эти эффекты достигаются. Лучше содрогаться от громовых раскатов, чем наблюдать за рабочим, катающим ядро но жести. Вам не следует задаваться вопросами типа "как", "зачем" и "почему" — вы просто должны делать свое дело. Конечно, вы получите от меня исчерпывающие инструкции, но многое будет зависеть от того, как вы сможете их выполнить. Часто приходится слышать о том, что стиль определяет в литературе все; так вот, смею вас заверить, что это суждение справедливо и в отношении нашей, куда более деликатной профессии. В нашем деле стиль — это абсолютно все. Вот почему мы рады таким друзьям, как вы.
Я покинул этот дом в некотором смятении: Липсьюс намеренно утаил от меня все подробности готовящегося дела, и я не знал, что за роль мне уготована. Участие в отвратительных оргиях не отбило у меня человеческих чувств, и больше всего на свете я боялся получить приказ об убийстве мистера Хедли.
Неделей позже (16-го тек. мес., по выражению неведомого мне информатора) доктор Липсьюс вновь пригласил меня в свой кабинет.
— Это произойдет сегодня вечером, — начал он. — Внимательно слушайте, что я буду говорить, мистер Уолтерс, и ценою жизни — дело рискованное — выполните мои инструкции. Запомните, ценою жизни! Так вот, вечером, около половины восьмого, вы не торопясь прогуляетесь по Хэмпстед-Роуд до Винсент-стрит. Тут вы свернете, доберетесь до третьего поворота направо и выйдете на Лэмбертский бульвар. Затем вы пройдете до конца бульвара, пересечете дорогу и двинетесь по Хертфорд-стрит до Лиллингтоиской площади. Вторая встреченная вами улица будет называться Шин-стрит, но на самом деле это никакая не улица, а тесный проулок между глухими стенами. На этом углу вы должны появиться ровно в восемь. Запомните, ровно в восемь! Пройдете немного вперед и на изгибе улицы, уводящем ее от площади, увидите пожилого седобородого джентльмена. Мне кажется, он будет распекать кэбмена за то, что тот привез его не на Чпниз-стрит, а на Шин-стрит. Вы спокойно подойдете к нему и предложите свои услуги. Он объяснишь, куда ему надо попасть, а вы будете так любезны, что вызоветесь его проводить. Сразу же скажу, что профессор Мемис переехал на Чин из-стрит всего месяц назад, и мистер Хедли там до сих пор не бывал. К тому же Хедли очень близорук и вообще страдает топографическим кретинизмом. Это типичный ученый-затворник, всю жизнь просидевший в Одли-Холле. Нужно ли говорить что-нибудь еще человеку вашего ума? Доведете многоуважаемого мистера Хедли до нашего дома. Он позвонит в колокольчик, и слуга в скромной ливрее пропустит его внутрь. На этом ваша миссия заканчивается — и заканчивается, не сомневаюсь, успешно. Вы оставите мистера Хедли у дверей, а сами продолжите прогулку и появитесь здесь на следующий день. Больше мне нечего вам сказать.
Эти инструкции я постарался выполнить самым тщательным образом. Признаюсь, я шел к Тоттенхем-Корт-роуд с тягостным ощущением приближения к поворотному пункту в моей жизни. Шумная оживленность центральных улиц была для меня сплошным беззвучным мельканием, и я без конца, как зубрящий Шекспирову драму актер, повторял про себя порядок действий и размышлял о возможных последствиях. Потом меня обдало холодом при мысли о том, что я на подозрении и за мной уже давно следят — во всяком случайном прохожем, мельком взглянувшем на меня, мне чудился полицейский.
Назначенное время приближалось, надвигались сумерки, а я все медлил, уже наполовину собравшись не идти дальше и навсегда покинуть Липсьюса и его команду. Затем я вдруг решил, что все происходящее является обыкновенным розыгрышем, веселой выдумкой. "Ну кто же, в самом деле, мог добыть сведения о доверенном лице из Армении? — спрашивал я себя. — Каким образом Липсьюс мог узнать, когда и на каком именно поезде намеревается приехать в город мистер Хедли? Как подстроить, чтобы из дюжины кэбов, стоящих в ожидании у Паддингтона, он выбрал единственно нужный?" Я убедил себя, что участвую всего лишь в очередном комедийном фарсе доктора, и бодро зашагал вперед.
Свернув на Винсент-стрит, я двинулся но маршруту, который столь старательно вдалбливал мне в голову Липсьюс. На нужных мне улицах было тихо, и жалкие притязания на элегантность, выставляемые напоказ встречными домами, действовали на меня скорее гнетуще.
Стемнело, я чувствовал себя неуютно на пустых перекрестках, где лишь изредка мелькали торопливые тени. Я ступил на Шин-стрит и обнаружил, что это, как и обещал Липсьюс, была вовсе не улица, а хилый извилистый переулок. По одну его сторону тянулись мрачные задворки домов, низкая стена и запущенный сад, по другую вырастали ряды каких-то складов.
Я свернул за угол и, как только площадь осталась позади, увидел напророченную Липсьюсом сцену. У тротуара действительно стоял кэб, а пожилой господин с саквояжем в руках действительно ругал кэбмена, сидевшего на козлах с озадаченным видом.
— Но я уверен, что вы назвали Шин-стрит, вот я вас сюда и привез! — услышал я, подходя ближе.
В ответ старый джентльмен буквально вскипел от ярости и принялся грозить возчику полицией, судебным иском и Страшным судом.
Я немедленно вмешался — подошел вплотную и, не обращая внимания на кэбмена, вежливо приподнял шляпу перед Мистером Хедли, при этом едва не назвав его по имени.
— Простите, сэр, — извинился я, — у вас какие-то затруднения? Вижу, вы приезжий, и кэбмен, вероятно, привез вас не туда? Все кэбмены — порядочные жулики. Хотите, я подскажу вам дорогу?
Старик обернулся ко мне, и я с удивлением заметил, что при разговоре он рычал и скалил зубы, как злобная дворняга.
— Этот пьяный дурень завез меня не туда, — сообщил он. — Я велел ему ехать на Чиниз-стрит, а он затащил меня в эту преисподнюю. Я не заплачу ему пн фартинга, а лучше кликну полицию и подам на него в суд.
Перепуганный кэбмен огляделся по сторонам, как бы убеждаясь, что поблизости нет полиции, и с грохотом поехал прочь, а мистер Хедли скорчил злорадную гримасу, радуясь тому, что сэкономил на проезде семь пенсов.
— Дорогой сэр, — сказал я, — боюсь, что это безмозглое создание подстроило вам ужасную каверзу. До Чиниз-стрит путь неблизкий, и вам придется поплутать, если вы не очень хорошо знаете Лондон.
— Я вовсе его не знаю, — недовольно сообщил ученый. — И знать не желаю. Я приезжаю сюда только по неотложным делам, а на Чиниз-стрит так и вообще не бывал.
— Неужели? Буду счастлив показать вам дорогу. Я вышел на вечерний моцион и без труда могу проводить вас прямо до места.
— Мне нужно попасть к профессору Мемпсу, что живет в доме номер пятнадцать. А я еще и близорук и сам не могу разобрать цифр, которые здесь, как назло, рисуют очень маленького размера.
— Что ж, пойдемте, — сказал я, и мы тронулись в путь.
Мистер Хедли показался мне не очень приятным человеком. Он брюзжал всю дорогу. Он сообщил, как его зовут, и я почтительно уточнил: "Тот самый знаменитый антиквар?" После этого мне пришлось выслушать рассказ о его дрязгах с бессовестными издателями. Мой спутник был бы вполне достоин отдельной главы в книге "О раздражительности авторов", если, конечно, кому-нибудь придет в голову написать ее.
Мистер Хедли поведал мне, что его таланты могли обогатить целую кучу фирм, но он вынужден был отказаться от своих намерений но причине жестокой неблагодарности владельцев этих фирм. Помимо застарелых обид и недавнего происшествия с кэбменом у него был еще один прискорбный повод для стенаний.
В поезде мистер Хедли решил заточить карандаш, но перед станцией вагон вдруг сильно качнуло, и перочинный нож отскочил прямо в лицо мистеру Хедли, оставив на скуле треугольную ранку, которую мой брюзжащий спутник тут же мне и продемонстрировал. Он поносил железнодорожную компанию, клял машиниста и талдычил о судебном иске в связи с увечьем.
Так он гудел всю дорогу (которой, кстати, совершенно не разбирал) и в конце концов настолько мне опротивел, что я начал получать удовольствие от своей злодейской роли.
И все же сердце запрыгало у меня в груди, когда мы свернули к дому, где нас поджидал Липсьюс. Непредвиденных случаев, думал я, может произойти сколько угодно: повстречается кто-нибудь из знакомых Хедли; не бывав никогда на Чиниз-стрит, он может случайно знать улицу, на которую я его веду; несмотря на близорукость, он может разглядеть номер дома или же, в припадке внезапного подозрения, сверит у полицейского на углу нужные ему координаты. Каждый новый шаг отдавался во мне болью и страхом, а всякий двигавшийся навстречу прохожий таил новую утрозу.
С трудом сохраняя спокойствие, я произнес:
— Номер пятнадцать — так, кажется, вы говорили? Это третий дом отсюда. С вашего позволения я покину вас здесь — я несколько припозднился, да и, откровенно говоря, мне нужно совсем в другую сторону.
Он пробурчал некое подобие благодарности, а я повернулся и быстро зашагал в обратном направлении. Минуты через Две я оглянулся и посмотрел на брошенного мною антиквара — тот стоял перед нужной дверью. Потом дверь отворилась, и антиквар вошел в дом. Облегченно вздохнув, я поспешил прочь от этого места и постарался забыться в веселой компании своих новых друзей.
Весь следующий день я провел в диком волнении. Я не знал, что произошло и что происходит в данный момент. Благоразумное беспокойство о собственной безопасности подсказывало мне, что самое лучшее в данной ситуации — это смирно сидеть дома. Однако желание узнать финал странной драмы, в которой я сам играл не последнюю роль, извело меня до предела, и вечером я решил выяснить, чем все закончилось.
Липсьюс кивнул мне, когда я вошел, и спросил, не уделю ли я ему пять минут для беседы. Мы отправились к нему в комнату. Там он долго ходил из угла в угол, а я сидел и терпеливо ждал, пока он заговорит.
— Дорогой мистер Уолтерс, — сказал он наконец, — я сердечно поздравляю вас — все было проделано блестяще и с истинно артистическим блеском. Вы далеко пойдете. Смотрите!
Он подошел к секретеру, нажал какую-то тайную пружину, и изнутри тотчас выскочил маленький ящичек. Липсьюс вынул из него какой-то предмет и положил на стол. Это была золотая монета. Я взял ее в руки и принялся внимательно рассматривать.
— Victoria, — прочел я надпись над фигуркой фавна.
— Что говорить, трофей редчайший, и им мы обязаны вам. Мистера Хедли оказалось весьма трудно убедить в том, что произошло небольшое недоразумение. Он был очень несговорчив и вел себя совершенно не по-джентльменски. Скажите, он не показался вам исключительно злобным стариканом?
Я разглядывал монету, восхищаясь ее тонкой, безупречной чеканкой — такой отчетливой, будто монета только что вышла из ворот монетного двора. В ту минуту мне пришла в голову мысль о том, что старое, беспримесное золото всегда сверкает и горит, как огонь в светильнике.
— А что все-таки сталось с мистером Хедли? — спросил я.
Липсьюс улыбнулся и пожал плечами.
— Так ли уж это важно? Он может быть где угодно, но что с того? Ваш вопрос меня несколько удивляет. Вы же разумный человек. Подумайте хорошенько, и, уверен, спрашивать больше не придется.
— Дорогой сэр, — сказал я. — не думаю, что вы честно обходитесь со мной. Вы сделали чудесный комплимент относительно моего участия в добыче трофея, но я хочу знать о последнем акте драмы, и это вполне естественно. Я успел немного узнать мистера Хедли и полагаю, что вам наверняка пришлось с ним туго.
Ллпсьюс ответил не сразу. Он вновь принялся ходить из утла в угол, о чем-то размышляя.
— Ладно, — сказал он наконец. — Пожалуй, вы правы. Мы действительно в долгу перед вами. Я очень высокого мнения о вашем уме, мистер Уолтерс, и уже говорил вам об этом. Не буду тратить слов. Просто загляните сюда.
Липсьюс отворил дверь в смежную комнату.
Там на полу стоял большой ящик, по форме напоминавший гроб. Я вгляделся в него и понял, что это саркофаг наподобие тех, что хранятся в Британском музее. На саркофаге сочными египетскими красками были начертаны высокие титулы сановного покойника и упования на его бессмертную жизнь. Внутри лежала спеленутая мумия с открытым лицом.
— Вы куда-то отправляете эту мумию? — спросил я, сразу же позабыв о мистере Хедли.
— Да, у меня есть заказ из провинциального музея. Но приглядитесь к ней повнимательнее, мистер Уолтерс.
Насторожившись, я стал всматриваться в лицо мумии. Липсьюс держал лампу у меня над головой. Кожа мумии задубела и почернела, но когда я увидел на правой скуле маленький треугольный шрам, секрет мумии мгновенно открылся мне — то было тело человека, которого я вчера заманил в этот дом.
У меня в голове образовалась полнейшая пустота — ни мыслей, ни какого-либо плана действий. Зажав в руке проклятую монету, которая отчаянно жгла мне ладонь, я кинулся бежать, как бежал бы от чумы или смерти, и через мгновение очутился на улице. Обнаружив, что монета по-прежнему со мной, я отшвырнул ее в сторону и помчался по темным переулкам, пока наконец не выбрался на людную магистраль.
Придя в себя, я осознал грозившую мне опасность. Я понял, что произойдет, попадись я в руки Липсьюсу. Не человеку, но безжалостной машине убийства перебежал я дорогу. История с мистером Хедли слишком очевидно свидетельствовала как о возможностях Липсьюса, так и о его стиле работы.
Я напряг все свои умственные способности, пытаясь обмануть Липсьюса и его людей, среди которых трое выделялись особым талантом выслеживать тех, кто по разным причинам предпочел бы остаться в тени. Это были двое мужчин и женщина, причем именно женщина отличалась беспримерным коварством и безжалостностью. Но и себя я считал в достаточной степени ловким.
С той поры день за днем, час за часом я состязался в хитрости с Липсьюеом и его клевретами. Какое-то время мне везло — они с ног сбились, прочесывая Лондон, но я был неуловим и не без удовольствия наблюдал за их отчаянными попытками вновь взять след, когда тот улетучивался у них из-под носа. Я смеялся над их ухищрениями и, усомнившись в могуществе организации, внушившей мне такой страх, постепенно осмелел. Не раз и не два встречал я двух мужчин, которым было поручено поймать меня, но всегда обводил их вокруг пальца. И тут я несколько поспешно решил, что ловкости и везучести у меня побольше, чем у них.
Пока я беспечно радовался своей изворотливости, вокруг меня сплетала сети третья поверенная Липсьюса — женщина. В недобрый час я навестил своего друга, литератора Рассела, проживающего на тихой улочке в Бейсуорте. Слишком поздно, всего лишь день или два назад, я выяснил, что эта отвратительная женщина снимала квартиру в том же доме. Меня тотчас выследили. Да, слишком поздно я обнаружил, что совершил роковую ошибку.
Теперь я попался. Очень скоро я окажусь во власти беспощадного врага. Стоит мне только выйти из дома, и расправа найдет меня. Едва ли я смогу догадаться, какой именно она будет, — мое воображение, всегда отличавшееся живостью и быстротой, рисует мне ужасающие картины пыток, которые я вряд ли выдержу. В одном я уверен — в момент смерти я буду видеть изощренно ругающегося и упивающегося моими мучениями Липсьюса.
И вот я жду смерти… Порой, в предчувствии пыток, я встряхиваюсь и думаю: неужели мне не под силу придумать какой-нибудь сверхловкий ход, какой-нибудь бесподобной замысловатости план — и уйти из расставленных силков? Но всякий раз я обнаруживаю, что былой сообразительности и ловкости у меня нет и в помине и что я все более становлюсь похож на ученого из старой легенды[103], — помогавшая мне дотоле удача оставила меня. Не знаю, когда наступит последний миг, но чувствую, что мне недолго осталось ждать исполнения приговора.
Нет сил больше сидеть в заточении. Сегодня вечером выйду на улицу в особенно многолюдный час и попытаюсь спастись бегством. Господи, помоги мне!
В глубочайшем изумлении Дайсон закрыл маленькую книжицу. Он думал о странной цепи случайностей, сделавших его причастным к сплетенному вокруг "Золотого Тиберия" заговору. Монету Дайсон еще раньше поместил в надежное хранилище, и теперь его бросило в дрожь от одной только мысли
о том, что местонахождение тайника может стать известно бандитам, имеющим, по всей видимости, самые невероятные источники информации.
Читать исповедь молодого человека Дайсон закончил ближе к ночи, и, откладывая записную книжку в сторону, от Души пожелал, чтобы мистеру Уолтерсу удалось спастись от расправы.
Происшествие в заброшенной усадьбе
— История удивительная, что и говорить. Такая необычайная игра случая и столь редкостное стечение обстоятельств!.. Теперь я знаю, что, когда вы впервые показывали мне "Золотого Тиберия", в пашем рассказе не было ни малейшего преувеличения. А как вы думаете, Уолтерсу действительно была уготована ужасная участь?
— Трудно сказать. Да и кто осмелится предугадывать ход событий, когда сама жизнь, прикрываясь случайным стечением обстоятельств, разыгрывает свою драму? Может быть, мы еще не добрались до последней главы этой странной истории. Глядите-ка, мы уже подходим к лондонской окраине! Видите, в сомкнутых рядах кирпичных строений появились просветы, а вдали проглядывают зеленые ноля?
Дайсон уговорил любознательного мистера Филиппса отправиться на одну из своих бесцельных прогулок, к которым он так пристрастился в последнее время.
Из самого сердца Лондона они двинулись на запад, долго шли по каменным аллеям, а теперь миновали и городскую черту. Вскоре дорога оборвалась, сменившись ровной тропой под сенью вязов.
Желтый свет осеннего солнца, прежде заполнявший голое пространство проселка, теперь сочился сквозь ветви деревьев, сиял на рдеющем ковре палой листвы и поигрывал бликами в дождевых лужах. Время сильных ветров еще не наступило, и над ширью полей веяло умиротворением и счастливым покоем осени. Далеко позади, в туманной закатной дымке, осталась лежать смутная громада Лондона — кое-где, поймав солнечный луч, вспыхивало огнем узкое чердачное оконце; в вышине сверкали шпили, а внизу, на погруженных в тень улицах, бурлила невидимая жизнь.
Дайсон с Филиппсом молча шли вдоль высокой живой изгороди, затем тропа вдруг резко вильнула влево, и они увидели распахнутые полуразвалившиеся ворота, за которыми начиналась поросшая мхом подъездная аллея, ведущая к особняку.
— Вот вам один из ваших любимых обломков прошлого, — сказал Дайсон. — Похоже, доживает свои последние дни. Поглядите, как вытянулись и истощались лавровые деревья, как почернели и оголились их стволы. Взгляните на дом — он весь в желтых потеках дождя и зеленых бляшках плесени. Даже доска, оповещающая всех и каждого, кого угораздит сюда забрести, что дом сдается внаем, треснула и вот-вот упадет.
— Может быть, зайдем внутрь? — предложил Филиппс. — Вряд ли там кто-нибудь есть.
Друзья свернули на аллею и медленно двинулись навстречу останкам былого великолепия.
Дом был большой, бестолковый, с расходящимися в разные стороны крыльями и выступающим сзади рядом беспорядочных кровель и выступов, свидетельствовавших о том, что пристройки делались в разное время. Крыши у пристроек были покатые, рядом с одной из них виднелись конюшни, рядом с другой — башенка с остановившимися часами и темная рощица мрачных кедров.
Одно лишь не вписывалось в картину тихого умирания — садящееся за вязами солнце посылало с запада огненные лучи, и, отражаясь в окнах, они создавали впечатление того, что там, внутри, кровь смешалась с огнем.
Перед желтым фасадом особняка с явными, как точно заметил Дайсон, следами упадка, раскинулась некогда ухоженная, а ныне одичавшая лужайка, поросшая крапивой и бурьяном. На цветочных клумбах буйствовал полный набор всевозможных сорняков. Разбитые урны валялись на земле: лужайку и дорожку покрывала пробивавшаяся снизу грибовидная поросль — липкая и сочащаяся, словно гнойный нарыв. Посреди лужайки был разоренный фонтан: кромка бассейна раскрошилась в пыль, а стоячая вода подернулась зеленой ряской; ржавчина въелась в бронзовое тело стоявшего в центре Тритона, чья витая морская раковина давным-давно раскололась надвое.
— В таком месте, — сказал Дайсон, — хорошо рассуждать о бренности бытия. Кругом разбросаны сплошные символы умирания. Мрачные кедровые потемки обступают нас, от земли поднимается серо-сизая промозглость, и даже сам воз-Дух загнил, приноровившись к здешней сумрачной обстановке. По настроению эта заброшенная усадьба подобна кладбищу, но я вижу нечто возвышенное в одиноком, брошенном посреди пруда Тритоне. Он последний из богов, который еще помнит плеск струй и сладость прежних дней…
— Соображения ваши, как всегда, интересны, — согласился Филиппс, — но смею заметить, дверь в дом открыта.
— Удовлетворим же ее немое приглашение: войдем внутрь!
Друзья ступили в замшелый холл и заглянули в боковую
комнату. Продолговатое помещение было на редкость просторным — богатая старинная обивка длинными красными клочьями отошла от стен, кое-где побурев и подгнив от поднимавшейся от пола сырости; дымящаяся земля вновь прибирала к своим метафорическим рукам творения рук человеческих. Пыль запустения толстым слоем покрывала пол; расписной потолок, некогда в радужных тонах представлявший проказы купидонов, поблек, обезобразился потеками и являл собой печальную картину. Амуры уже не гонялись друг за другом и не хватали цветочные гирлянды; теперь это была какая-то жуткая карикатура на старый беззаботный мир и принятые в нем условности; танец жрецов Любви превратится в танец Смерти; черные фурункулы и гнойные нарывы гроздьями вздулись на чистых белых ножках, в невинных личиках сквозила развращенность, а волшебную кровь разбередили микробы дурной болезни; то была притча о червях, правящих бал в сердце розы.
У обветшалых стен стояла пара стульев — единственное, что осталось от обстановки в этом пустом доме. Померкшая позолота высоких спинок, витых подлокотников и гнутых ножек, изорванная в клочья камчатная обивка изумили Дайсона.
— Что это? — сказал он. — Кто сиживал на этих стульях? Кто, облачившись в шелковистый атлас, кружевные манжеты и бриллиантовые пряжки, расфуфырившись до невозможности, говорил contefleurettes[104] своему собеседнику? Филиппс, мы оказались в другом веке. Хотелось бы предложить вам нюхательного табаку, но, за неимением такового, великодушно прошу присесть и закурить трубку.
Они сели на антикварные стулья и через мутные грязные стекла окна стали глядеть на разоренную лужайку, упавшие урны и заброшенного всеми на свете Тритона.
Наконец Дайсону наскучило играть в манеры восемнадцатого века, и он прекратил оправлять воображаемые манжеты и открывать умозрительную табакерку.
— Вот глупая причуда! — сказал он. — Не могу отделаться от иллюзии, что наверху кто-то стонет. Послушайте! Нет, теперь не слышу… Опять! Вы слышали, Филиппс?
— Да нет, вроде бы все тихо. Но я верю, что такие старинные дома подобны морским раковинам, вечно хранящим отголоски запредельных звуков. Старые балки, проседая, хрипят и постанывают. Воображаю себе голоса, что оглашают этот дом по ночам! Голос материи, медленно, но верно обретающей иное бытие, голос червя, наконец-то вгрызшегося в сердцевину дуба, голос камня, трущегося о камень, голос безжалостной поступи Времени!
Друзей начал тяготить затхлый запах минувшего столетия.
— Не нравится мне это место, — сказал Филиппс после продолжительной паузы. — Мне все время чудится какой-то тошнотворный запах. Запах паленого.
— Вы правы, запах тут скверный. Интересно, что бы это могло быть? А вот опять стон — теперь слышали?!
Глухое стенание, исполненное безмерной скорби, прорезало тишину; мужчины испуганно переглянулись, в глазах у них засветились страх и предчувствие свидания с Неведомым.
— Пойдемте, — сказал Дайсон. — Надо разобраться, что тут у них творится.
Они вышли в холл и принялись вслушиваться в тишину.
— Знаете, — вдруг сказал Филиппс, — как это ни абсурдно, но я вполне уверен, что именно так пахнет паленая человечина.
По гулким ступеням друзья поднялись наверх. Запах стал резким, дурманящим, нестерпимым, вызывающим дурноту, как дыхание смерти. Они вошли в просторную верхнюю комнату и припали друг к другу, содрогнувшись от увиденного.
На полу лежал обнаженный распятый мужчина. Его руки и ноги были привязаны к вбитым в доски кольям, тело невообразимо истерзано и изувечено следами каленого железа. То были поруганные останки того, что некогда имело облик человека. На месте живота тлели угли костра — плоть уже прогорела. Человек давно был мертв, но дым его мучений еще клубился, и в воздухе еще витали его ужасные стоны.
— Это молодой человек в очках, — сказал мистер Дайсон.
Тайная слава (перевод Е. Пучковой)
ПОСВЯЩАЕТСЯ ВИНСЕНТУ СТАРРЕТУ
Перевод с английского Е. Пучковой
Перевод осуществлен по изданию: Machen А. The Secret Glory. New York, 1925.
Взгляды на футбол одного из учителей в "Тайной славе" схожи с теми, что питал известный преподаватель, чья биография стала достоянием общественности много лет назад. Это — единственное звено, соединяющее преступность выдумки и прекрасного человека из реальной жизни.
Предисловие
Несколько лет назад я встретил своего старого учителя сэра Фрэнка Бенсона — тогда еще просто мистера Фрэнка Бенсона, — и он по обыкновению дружески поинтересовался, чем я был занят в последнее время. "Да вот, как раз заканчиваю книгу, — ответил я, — книгу, которую все возненавидят".
"Как всегда, — произнес этот Дон Кихот английской сцены (если бы я мог подобрать хоть одно благородное звание, достойное его, я бы сделал это), — как всегда: разбиваешь голову о каменную стену!"
Что касается "как всегда", не знаю; можно ведь найти пару слов для самокритики, а можно и не найти; но меня поразило, как метко замечание сэра Фрэнка охарактеризовало "Тайную славу" — книгу, которую я имел в виду в разговоре с ним. По существу это история о человеке, всю свою жизнь стремившемся пробить головой каменную стену. Он ничего не мог противопоставить грубой реальности мира, и даже двигаясь по ложному пути, делал это в своей необычной эксцентричной манере. Читателю самому придется решить, кем он был: святым, заблудившимся в веках, или просто обыкновенным сумасшедшим; я же не могу отдать предпочтение какому-либо из этих мнений. Во все эпохи были люди, великие и незаметные, существующие как бы вне своего времени, которым всё так или иначе представлялось ошибочным и спорным. Вспомните Гамлета — любезный и умный человек. И сколько бед он навлек этим на свою голову! К счастью, мой герой — или, если вам так больше нравится, сумасшедший — не был рожден для вмешательства в вопрос*!.! государства и потому просто ввергал себя в печаль — если это действительно была печаль; пусть хотя бы маленькая щель в двери остается открыто!! для иной точки зрения, я же умываю руки.
Недавно я перечитал "Чудо Пурун Бхагата"[105] Киплинга, историю о премьер-министре Национальных штатов Индии, которому довелось увидеть все великолепие мира, побывать и на Западе, и на Востоке, и такой человек вдруг отрекается от всего и становится лесным отшельником. Кем он был: сумасшедшим или воистину мудрецом? Это всего лишь вопрос мнения.
Завязка "Тайной славы" родилась весьма странно. Некогда я прочитал о жизни известного учителя, одного из выдающихся преподавателей нашего времени. И должен сказать, что жизнь этого во всех отношениях прекрасного человека сильно подействовала на меня. Я считал, что "Школьные песни", благодаря которым, помимо прочего, он и был известен — не более чем глупое баловство; я утверждал, что его взгляды на футбол, когда обычная игра рассматривается как образец дисциплины и руководство к действию, — вздор, причем вздор отвратительный. Словом, жизнь учителя всколыхнула меня.
Прекрасно. Год спустя мой интерес к учителям и футболу угас, и меня захватило глубокое исследование красивой легенды о Святом Граале[106]: точнее, одна из граней этого необыкновенного свода сказаний. Мне удалось обнаружить связь легенды о Святом Граале с исчезнувшей кельтской церковью[107], существовавшей в Британии в V–VII веках нашей эры; и я пустился в необычное и пленительное путешествие ио туманным и смутным областям истории христианства. Вообще-то здесь следовало бы поставить точку, чтобы — как говорит медсестра беспокойному и настойчивому ребенку — "не начинать все по новой"; но на самом деле это было странствие по исполненному опасностей морю, паломничество к забытой всеми волшебной земле — и я готов провозгласить здесь мое искреннее убеждение в том, что если бы не кельтская церковь, потрясающие строки будоражащего память заклинания никогда бы не были написаны.
Что ж, хорошо. Прошел еще год, и я взялся за книгу. Мне пришла в голову оригинальная мысль — пли она только казалась оригинальной? Но я собрал все, что мне не понравилось в "Жизни" прекрасного учителя, и все, что удалось узнать о тайнах кельтов, — и соединил воедино.
Вот и начало, основа! Все мои мысли и идеи, которые я вынашивал с самого рождения, получили воплощение в романе. Помните критика "Итансвильской газеты"? Ему поручили подготовить для этого великолепного издания работу но китайской метафизике. Мистер Пот рассказывал впоследствии, как создавалась статья: "По моей просьбе он брал материал в энциклопедии "Британника": о метафизике — под буквой "М" и о Китае — под буквой "К", а затем соединял информацию".
ЧАСТЬ I
Глава I
Ночной ветер быстро разгонял тяжелые облака, обнажая небесный шатер и далекую звезду, озарявшую землю лучистым светом; высоко-высоко над темной землей и черневшими на тропинке тенями раскинулся удивительный сверкающий мир. В конце октября с запада пришел ураган, и теперь сквозь оголенные ветви искривленного дуба Амброз Мейрик взирал на серебряный свет звезды. Когда на небе угас последний отблеск дня, Мейрик прислонился к воротам и пристально посмотрел вверх; затем его взгляд опустился к земле, вобрав ее тяжелое усталое дыхание, на обширный крут распаханного поля и серый луг, уходившие в темноту горизонта, мрачного как тюремная стена. Внезапно его осенило, что, наверное, уже очень поздно; ему следовало вернуться еще час назад, а он до сих пор бродит по окрестностям по меньшей мере в миле от окраин Люптона. Мейрик оторвал взгляд от звезды и быстро зашагал по тропинке, шлепая по лужам и липкой глине, пропитанной трехнедельными проливными дождями.
Наконец он увидел слабый свет пригородных улиц, где обитали сапожники, и спешно пересек квартал бедноты, оставив позади дешевые магазинчики, примитивную таверну, обшарпанную часовню, стоящую на двенадцати камнях, исписанных именами двенадцати лидеров конгрегации[108] Люптона, и ревущих детей, не желавших ложиться спать. Потом миновал здание бесплатной библиотеки, представлявшее собой, по мнению "Меркурия Люптона", превосходный образец адаптации готики к современным требованиям. Из некоего подобия башни, украшавшей это здание, когда-то стреляла пушка, а на стене башни были установлены огромные круглые часы, возвышавшиеся над улицей, и Мейрик ужаснулся, обнаружив, что уже гораздо позднее, чем он предполагал. Ему еще надо было попасть на другой конец города, а часы показывали начало восьмого! Вспомнив о том, что его судьба всецело зависит от дяди, Мейрик побежал; он пронесся мимо "нашей старой большой приходской церкви" (полностью восстановленной в начале сороковых[109]), мимо остатков торговой площади, превращенной в поилку для собак и скота, что вполне устраивало местных жителей; по пути мальчик ловко уворачивался от запоздалых покупателей и ранних бездельников, слонявшихся туда-сюда по главной улице.
Дотронувшись до колокольчика на двери Старой усадьбы, Мейрик вздрогнул. Пока служанка открывала дверь, он мужественно собирался с силами, надеясь прошмыгнуть через холл сразу в класс, но девушка остановила его:
— Учитель велел, чтобы вы зашли к нему в кабинет, господин Мейрик, сразу, как только придете.
Она смотрела на него так странно, что мальчика сковал болезненный страх. Мейрик был паникером до мозга костей и сходил с ума от страха по двенадцать раз на дню. Несколько лет назад его дядя сказал: "Люптон сделает из тебя человека", и Люптон всячески старался оправдать его надежды. Лицо несчастного мальчика побелело, на лбу выступил пот; Мейрик судорожно хватал ртом воздух и сотрясался в ознобе.
Нелли Форан, служанка, продолжала смотреть на него странным, напряженным взглядом, потом внезапно прошептала:
— Вам надо идти прямо сейчас, господин Мейрик, я знаю, что учитель слышал звонок; но, впрочем, это ваше дело.
Амброз не видел ничего, кроме приближающейся гибели. Он глубоко вздохнул, постучал в дверь кабинета и, получив разрешение дяди, вошел.
Кабинет выглядел очень уютно. Красные гардины были плотно зашторены, скрывая мрачную ночь, и все освещалось ярким пламенем угля, который елейно пузырился и выбрасывал большие всполохи огня, — в классе обычно использовался кокс. Ноги утопали в мягком ворсе ковра, кресла обещали телу теплый уют, стены были скрыты книгами — Теккерей[110], Диккенс[111], лорд Литтон[112], в одинаковом красном сафьяне с позолотой; Кембриджская Библия для студентов в нескольких томах. "Жизнь Арнольда" Стэнли[113]. "Prataectiones Academia" Коплстона[114], комментарии, словари, первые издания Теннисона[115], а также школьные и коллежские призы за игру в гольф, и, конечно, великолепный набор римских и греческих классиков. В комнате висели три прекрасные и в то же время ужасные картины Пиранези[116], которыми мистер Хорбери восхищался скорее из-за тематики, нежели из-за их глубокого смысла, и в которых, по его словам, отсутствовала "позолоченная посредственность" — яркий признак патологии. Газ в светильниках был наполовину прикрыт, ибо Высокий Служитель писал за своим столом, и затененная лампа отбрасывала яркий круг света на кипы бумаг.
Когда вошел Мейрик, Хорбери обернулся. Его энергичное лицо с высоким прямым лбом было обрамлено рыжеватыми бакенбардами, а в серо-зеленых глазах дяди мальчик уловил опасный огонек. Первые слова прозвучали малообещающе:
— Итак, Амброз, ты должен совершенно четко усвоить, что подобное положение вещей я больше терпеть не намерен.
Возможно, все не кончилось бы для мальчика так плачевно, если бы его дядя не обедал перед этим с директором школы, в результате чего произошла определенным образом выстроенная цепь событий, каждое из которых способствовало тому, чтобы сделать положение Амброза Мейрика безнадежным. Во-первых, на обед была вареная баранина — ненавистное для тонкого вкуса мистера Хорбери блюдо. Во-вторых, к горячему подали херес. Херес мистер Хорбери любил, но, к несчастью, вино директора, хотя и вполне приятное на вкус, было очень далеко от совершенства и изобиловало той жгучей и раздражающей основой, что заставляет печень пылать и бушевать. Затем Чессон счел практически провальной работу своего главного помощника. Он, конечно, не сказал Хорбери прямо, что тог не умеет учить, но, однако, заметил:
— Знаете. Хорбери, я тут вдруг с удивлением обнаружил, что у ваших ребят из пятого класса совсем нет хватки. Некоторые — просто поразительные распиты, если вы понимаете, что я имею в виду: ими владеет какая-то неопределенность, взять, к примеру, их высказывания о Песне Школы. Сами-то вы не замечали?
Затем директор продолжил:
— И, кстати, Хорбери, я совершенно не представляю, что делать с вашим племянником, Мейриком. Он ведь племянник вашей покойной жены, не так ли? Да. Так вот, я не уверен, что могу определенно высказать свое мнение о мальчике, но ведь нельзя же и просто констатировать, что с ним что-то не так, этим ему не поможешь. Его работа удивила меня — очень достойная, даже выше среднего уровня класса, — но, используя музыкальный термин, скажу, что он вроде как диссонирует с общим тоном. Возможно, эго всего лишь моя фантазия, однако мальчик напоминает мне тех весьма нежелательных субъектов, о которых говорят, что они за глаза смеются. Сомневаюсь, что Мейрик как-то клеймит Люптон, но его пребывание в школе тревожит меня, я опасаюсь его влияния на других мальчиков.
И снова Хорбери почувствовал в тоне собеседника обвинительные нотки, а к тому времени, как он добрался до Старой Усадьбы, нм уже и вовсе овладело бешенство. Он никак не мог решить, что было оскорбительнее — угощение Чессоиа или его лекция. Слишком привередливый в еде, Хорбери зримо представлял себе огромного жирного барана, истекающего тонким красным ручейком из зияющей раны, нанесенной Директором, и к этой отвратительной мысли примешивалась обида на косвенный нагоняй, который, как ему казалось, он получил, а каждая капля жгучего хереса добавляла масла в огонь, и так уже вовсю бушевавший. Хорбери мрачно пил чай, лелея свою ярость, все более лютую и жаждущую выхода; однако в душе он вряд ли был сердит, когда в шесть часов сообщили, что Мейрик не явился. Вот тут-то он и увидел возможность, и даже более того — реальную перспективу наконец-то получить удовлетворение и облегчение.
Некоторые философы утверждают, что врачи сумасшедших (или психиатры) со временем достигают некоторого сходства со своими пациентами, иными словами, сами становятся полусумасшедшими. Такая позиция вполне удобна; в действительности же, обречь человека на вечное заключение в компании маньяков и дебилов из-за того, что он поет в ванной или надевает пурпурно-красный халат к ужину, возможно, куда более опасное безумие, чем представлять себя императором Китая. Однако такое может произойти, и нередко учитель уподобляется школьнику, правда несколько обрюзгшему в силу возраста, — то же чудовище, только с обостренными до крайней формы болезненными признаками. Благожелателям великой Системы частных закрытых школ для мальчиков свойственно хвалить своих любимых наставников в выражениях, которые превозносят, более того, восславляют подобную схожесть. Почитайте памятные некрологи умершим директорам школ в известной и наиболее респектабельной церковной газете. "До самого конца он оставался в душе мальчишкой", — пишет Кенон Дайвер о своем друге, неграмотном старом подхалиме, который посредством лояльной политики по отношению к евреям, туркам, еретикам и неверным убедил большинство в школе, что он как никто достоин стать епископом. "Я всегда знал, что его чаще можно увидеть на игровом поле, чем в комнате шестого класса…Его отличал здоровый ужас английского мальчишки ко всему, близкому позерству и эксцентричности…Он мог строго блюсти дисциплину, временами проявляя излишнюю жестокость, но все в школе знали, что грамотно поставленный "блок", техничный прием либо гол, красиво забитый пли отлично предотвращенный, искупят любые серьезные проступки". Можно заметить и другие черты, которые свидетельствуют о сходстве учителя и ученика: например, и тот, и другой отличаются жестокостью и склонностью к совершенно ненормальным шуткам с причинением боли. Подлый мальчишка издевается над слабыми животными, не способными сопротивляться. Ходят рассказы (тщательно заминаемые всеми истинными друзьями Системы) о потрясающе изобретательных оргиях в заброшенных оврагах пустошей, в темных укромных чащах: истории об одном или двух мальчиках, ящерице или жабе и медленно разгорающемся пламени костра. Но это развлечения исключительно виртуозов; для обычного юного обывателя существует множество шуток, чтобы выделиться из толпы более хилых товарищей, среди которых есть даже приверженцы здорового образа жизни. В конце концов, слабейшие упрутся в стену, и если их промахи не прекратятся, им конец. Когда маленькие бедолаги после пары лет многочисленных изощренных пыток тела и ума найдут последний выход в самоубийстве, кто знает, как выпускники школы смогут продолжать жить и галантно заявлять, что дни, проведенные в "любимой старой школе" были самыми счастливыми в их жизни, что "Доктор" был их отцом, а шестой класс — кормящей матерью, что они приходили в восторг от легенд о магометанском рае и только скучный, выматывающий спорт, хотя и сопровождавшийся радостью счастливого утомления, заставлял их сердца, как рассказывал вдохновенный певец мучения, трепетать еще много лет при мысли о холме. Они пишут отовсюду, эти храбрые выпускники: из завоеванного с трудом деканата в результате многолетней неутомимой атаки фундаментальных доктрин христианской веры; из роскошных апартаментов комфортабельной виллы, ставшей наградой за коммерческую активность и сообразительность на фондовой бирже; из судов и кемпингов; с заоблачных вершин успеха; и большинство из них — убедительный аргумент для похвалы. Как тут не согласиться?! И мы говорим, что нет ничего лучше нашей великой частной закрытой школы, и в общем гомоне восхвалении тонут слабые возражения матери и отца, похоронивших ребенка, на шее которою чернел след от веревки. По мы спешим успокоить их: мальчик просто плохо играл, хотя его мучения были интересным спортом, правда, пока он выдерживал их.
Старый люптонианец, мистер Хорбери был, как говорил Кенон Дайвер, "большим мальчишкой в душе" и потому распорядился, чтобы Мейрика, как только тот появится, сразу же отправили к нему в кабинет, так что теперь он смотрел на часы, стоявшие перед ним на столе, с удовлетворением и даже с нетерпением. С таким же нетерпением, почти с яростью ждет запоздалого ужина голодный человек, не в силах успокоиться мыслью о том, как замечательно будет наслаждаться супом, когда тот наконец появится.
Пробило семь, мистер Хорбери облизал губы. Он поднялся и осторожно заглянул за одну из книжных полок. Предмет его внимания был на месте. Мистер Хорбери удовлетворенно сел и прислушался: звук шагов за окном наполнил его радостью. А! Вот и долгожданный звонок. Затем краткое ожидание и стук в дверь. Огонь полыхал красными вспышками, но несчастная лягушка была в безопасности.
— Итак, Амброз, ты должен совершенно четко усвоить, что подобное положение вещей я больше терпеть не намерен. Ты опаздываешь в третий раз за семестр. Тебе известны правила: шесть часов — и ни минутой позже. А сейчас уже двадцать минут восьмого. Что ты скажешь в свое оправдание? Чем ты все это время занимался в одиночестве? Был на поле?
— Нет, сэр.
— Почему? Ведь ты видел резолюцию шестого на доске объявлений в Старшей школе? Знаешь, что она обещает любому, ето уклоняется от игры в футбол? "Ласковый звук палочных ударов в количестве не менее тридцати". Боюсь, тебе придется туго в понедельник, когда Грэхем сообщит твое имя в Кабинет.
Повисла пауза. Мистер Хорбери спокойным долгим взглядом смотрел на бледного мальчика, стоявшего перед ним. Это был болезненный, некрасивый паренек лет пятнадцати. Но во всем его облике сквозил развитый интеллект, и именно его взглядами возмущался Чессон, директор. Сердце мальчика выскакивало из груди, дыхание было прерывистым, и по телу струился пот ужаса. Хорбери еще какое-то время пристально рассматривал племянника, потом наконец снова заговорил:
— Но что ты делал? Где ты был все это время?
— С вашего позволения, сэр, я прогулялся до Шелдонского аббатства.
— До Шелдонского аббатства? Но оно по меньшей мере в шести милях отсюда! Какого черта тебе понадобилось идти туда? Любишь старые развалины?
— С вашего позволения, сэр, я хотел посмотреть на нормандские арки[117]. В толковом словаре Паркера есть их иллюстрация.
— А, понятно! Ты многообещающий исследователь древности, не так ли, Амброз, отсюда и интерес к нормандским аркам, да? Полагаю, ты предвкушаешь время, когда твои исследования принесут Люптону известность? Может, ты мечтаешь читать лекции в школе при Соборе Св. Павла[118]? Прикинь, каков на твой взгляд возраст Стоунхенджа?
Острота была слишком грубой, а положение говорившего придавало его критике мучительную колкость. Мистер Хорбери видел, что каждый его удар достигал цели, и, без ущерба для сиюминутного острого наслаждения, решил, что такая остроумная сатира должна иметь более широкую аудиторию, пройдет еще немало времени, прежде чем Амброз Мейрик услышит о нормандских арках в последний раз. Метод был рост до абсурдности. "Удобный случай" предоставлялся каждый день. Например, если мальчик совершал ошибку в пере-оде, возражения были следующими: "Спасибо, Мейрик, за твои оригинальные новаторские идеи. Возможно, если ты будешь изучать греческую грамматику чуть больше, а твой любимый "Словарь архитектуры" чуть меньше, тебе удастся избежать ошибок. Напиши ‘‘новый значит неизвестный" пятьсот раз".
Когда же они обращались к классическим ордерам[119], мистер Хорбери начинал объяснять различия между ионическим[120] и дорическим[121]. Его рассуждения слушались с жалкой имитацией интереса. Внезапно наставник обрывал свою речь: "Прошу прощения. Я совсем забыл, что среди нас присутствует великий авторитет в архитектуре. Будьте любезны, просветите нас, Мейрик. Что но этому поводу говорит Паркер? Или, может быть, вы предложите нам какую-нибудь свою версию? У вас весьма оригинальный ум, что очевидно из ваших последних упражнений по стихосложению, объем которых поистине огромен. Кстати, я должен просить вас написать "е в venio — краткая" пятьсот раз. Сожалею, что вмешиваюсь в ваши более важные архитектурные изыскания, но, боюсь, от них нет никакого толка".
И далее в том же духе, пока класс не зарыдает от смеха.
Но мистер Хорбери хранил подобные сокровища для будущего публичного использования. В данный момент он предавался более приятному занятию. Внезапно он крикнул:
— Дело в том, Амброз Мейрик, что ты жалкий маленький обманщик! Тебе не хватает честности прямо признаться, что ты боишься футбола и шляешься без дела за городом в поисках озорства, к которому можно было бы приложить руку. Вместо того чтобы сказать правду, ты сочиняешь небылицу о Шелдонском аббатстве и нормандских арках, тогда как любому известны проделки сообразительных мальчишек, способных даже зарабатывать пару пенсов на своих шалостях! Надеюсь, ты провел вечер не в каком-нибудь дешевом кабаке? Молчи! Я не хочу больше слушать твое вранье. Но, как бы то ни было, правила ты нарушил и потому должен усвоить, что правила следует выполнять. Стой спокойно!
Мистер Хорбери подошел к книжной полке и достал спрятанный за ней предмет. Он встал на небольшом расстоянии позади Мейрика и начал процедуру с безжалостного удара по правой руке мальчика чуть выше локтя. Затем настала очередь левой руки, и наставник получал такое радостное наслаждение от ударов палкой, что нанес их более дюжины. Потом он переключил свое внимание на бедра мальчика и завершил экзекуцию, традиционно наклонив Мейрика на кресло.
Тело Амброза было сплошной массой пылающего жгучего страдания; и хотя он в течение всей процедуры не издал ни звука, слезы текли по его щекам. Но не от физических мучений, хотя они и были невыносимыми, а от воспоминании о далеких днях. Он представлял себя совсем маленьким, когда отец, давным-давно умерший, показывал ему западный портал унылой церкви на высоком холме и разъяснял разницу между "поленом" и "балкой".
— Ты же знаешь, Амброз, — внушал ему тем временем наставник, — что хныкать нехорошо. Полагаю, ты считаешь меня слишком строгим, но, хотя сейчас тебе и трудно в это поверить, наступит день, когда ты всем сердцем будешь благодарить меня за то, что я только что сделал. Пусть этот день станет поворотным пунктом в твоей жизни. А теперь возвращайся к своей работе.
Глава II
Как ни странно, Мейрик так и не пришел выразить дяде благодарность за полученную в тот день порцию физического и душевного страдания. Даже уже став взрослым, он нередко просыпался в холодном поту, когда ему во сне являлся мистер Хорбери, и вновь засыпал с облегчением и радостью, понимая, что больше не находится во власти "ненавистной старой свиньи", этого "отвратительного, лицемерного и жестокого животного", как называл Мейрик учителя.
По мнению старых люптонианцев, двое никогда не смогут понять друг друга. У большинства мальчиков Высокий служитель слыл весьма популярным учителем. В свое время он был выдающимся атлетом и до конца своего пребывания в школе Оставался ярым энтузиастом футбола. Хорбери даже организовал в Люптоне множество игр, имевших огромный успех, пока директор не был вынужден запретить их: одни говорили — из-за того, что он любил при каждом удобном случае добавит!" ложку дегтя в бочку меда Хорбери; другие — с большей правдоподобностью — утверждали, что это произошло вследствие заключения школьного врача, в котором отмечалось, что все эти новые разновидности футбола вызывают у слабых игроков всевозможные виды сердечных заболеваний.
Однако, как бы то ни было, нет сомнений в значительной и глубоко укоренившейся привязанности Хорбери к школе. Его отец тоже был люптонианцем. Окончив школу, Хорбери уехал в университет, но по истечении года или двух после получения ученой степени вернулся в Люптон в качестве учителя. Многие считали, что Высокий служитель не меньше, а может быть даже и больше директора Чессона, влиял на значительный рост престижа и популярности школы; все были уверены, что когда Чесеон полу чит епископскую мантию, триумф Хорбери станет несомненным. К несчастью, все оказалось сложнее, и назначили совершенно постороннего человека, который ничего не знал о традициях Люптона и (по слухам) утверждал, что польза "этих атлетических занятий" слегка преувеличена. Друзья мистера Хорбери были в бешенстве, да и сам Хорбери, говорили, очень расстроился. Он удалился в один из тех скромных приходов, что пережили волну аграрной депрессии; но хорошо знавшие Хорбери люди, сомневались, что духовные обязанности могли стать для него достаточным утешением после потери желанного директорства в Люптоне.
Сошлемся на статью, появившуюся в "Гардиан" вскоре после его смерти, под которой стояли хорошо известные инициалы:
Друзья были потрясены, когда увидели его в Резиденции. Он казался тем же, но за шесть месяцев, как отмечали некоторые из них, постарел больше, чем за дюжину лет. Старый счастливый Хорбери, полный радости, прекрасный мастер игры слов и логических поединков, стал каким-то "унылым", по удачному выражению бывшего коллеги, декана Дочестера. Выпускники, помнившие его блестящее остроумие и пикантность, которые он привносил в обычную работу в классе, делая ее интереснее, чем в других школах игры, потеряли, по замечанию одного из них, что-то неопределимое от того человека, которого они так долго и сильно любили. Другой коллега Хорбери, удивленный, как и все попавшие в аркан его дружбы (когда-нибудь они еще назовет эту привилегию величайшим благодеянием в своей жизни), попытался вызвать в старом учителе возмущение с помощью экстравагантного юмора, который потом разошелся по всей публичной прессе в виде рассказа о последствиях существенных изменении, введенных в принудительную систему игр в "X", одну из величайших в нашей великой школе. Хорбери воодушевился; прежний свет озарил его глаза; он напоминал своим друзьям старого боевого коня, вновь услышавшего вдохновляющий зов трубы. "Я не мог в это поверить, — говорил он, и в его голосе звучало потрясение. — Они бы не отважились. Даже У. (директор "X") не совершил бы такую подлость, как эта. Я не поверил". По воодушевление быстро спало, и вернулась апатия. "Теперь, — говорил он, — я бы не удивился, если бы все было именно так. Маши дни проходят, и, похоже, через несколько лет их можно будет вместить в краткий конспект, а любимой игрой в "X" станет домино".
Боюсь, те последние годы в Уорхэме не были счастливыми. Думаю, Хорбери ощущал себя вне общей настроенности его окружения, и, с позволения читателей "Гардиан", я усомнюсь, что ему вообще было комфортно на своем месте. Как-то Хорбери признался одному из старых товарищей, что сомневается в мудрости всей кафедральной системы. "Чтобы сказал святой Петр, — говорил он в своей характерной манере, — если бы мог войти сюда и увидеть это вычурное окно, на котором он изображен в митре, одеянии священника и с ключами?" Не думаю, что он когда-либо смиренно принимал ежедневные чтения литургии, сопровождаемые, как и во всех подобных заведениях, тщательно недобранной музыкой и помпезностью одеяний хора. Слышали, как он на одном дыхании бормотал "Рим и вода, Рим и вода", когда литания подходила к середине, и, полагаю, перед тем, как умереть, ом почувствовал удовлетворение оттого, что многие сильные мира сего соглашались с его взглядами.
По до самого конца жизни Хорбери не забывал Люптон. За год или два до смерти он написал главную Песню Школы "Вперед, вперед, вперед!". Я знаю, что он был польщен ее появлением в "Люптонианце", и известный выпускник сообщил мне, что никогда не забудет радость Хорбери, когда ему сказали, что песня уже стала самой любимой в "Часовне". Многим читателям знакомы ее слова, но я не могу отказать себе в удовольствии процитировать первый куплет:
Я стар и сед, холмы вдали сокрыты.
Не слышен горн мне — провозвестник утра;
В охоте общей все мы были слиты.
Транжиря дни, но следу мчались сворой,
И ясным день был, и охота — спорой.
Щелчки охотничьих хлыстов! — И словно
Сигнал нам дан. Казалось, звуки плыли
В тиши безмолвной, и уже не здесь я,
А где-то далеко, не в этом мире.
По звуки разливались и рвались Как нар с низины, поднимаясь ввысь.
И эхом в голове моей неслись:
"О. Люптон, Люптон, лишь вперед стремись!"
Припев:
Люптон, поспеши вперед!
Тьма осталась позади, впереди — день новый ждет.
Вслед за солнцем поспеши,
Завоюй весь мир души
И на новый оборот, Люптон, — лишь вперед, вперед!
Вышине ученики пели ему этот куплет на его смертном одре, и думаю, что по меньшей мере некоторые из читателей "Гардиан" признают, что Джордж Хорбери умер "укрепленным", и здравом уме, приник "обряды Церкви" — Церкви Высшего Стремления.
Такое впечатление произвел мистер Хорбери на своего старого друга, но Мейрик отличался непримиримым скептицизмом. Он прочитал эти строки в "Гардиан" (ибо никогда не выписывал "Люптонианца") и беспощадно высмеял сентиментальность статьи, как, впрочем, и стихи.
"Не правда ли это невероятно? — рассуждал Мейрик. — Допустим, что главная цель великой Системы частных закрытых школ — подготовка отменных среднестатистических болванов посредством спорта, упорства, лицемерия и прочего. Кроме того, бытует мнение, что подобные школы способствуют высокому развитию — посредством преподавания двух великих литератур, литератур, которые формировали всю западную мысль более двух тысяч лет. И животным вроде Хорбери платят, чтобы они преподавали эти литературы, — доверяют неокрепшие души свинье, которая Не достаточно образована даже для спасения души от вшей!
Досмотрите на эти стихи! Непридирчивый четвероклассник тот постыдился бы поставить под ними свое имя!"
Конечно, глупо было так говорить. И люди просто считают что, очевидно, Мейрик — одна из неудач великой Системы частных закрытых школ для мальчиков; а в кругах верных приверженцев Песней восхищались. Та же песня на прекрасной латыни появилась в "Гардиан" вскоре после публикации статьи, и под текстом перевода стояли инициалы декана литературы.
Итак, осенним вечером в далекие семидесятые юный Мейрик оставил кабинет мистера Хорбери в искреннем бешенстве горя, боли и гнева. Он бы убил своего учителя без малейших зазрений совести и, более того, с огромным удовольствием. С точки зрения психологии ход его мыслей представляется весьма интересным, поскольку он был всего лишь школьником, недавно получившим взбучку за нарушение правил.
Не последнюю роль сыграло и то, что Хорбери, если бы не раздражение, вызванное встречен с директором и в частности отвратительным хересом, был не таким уж плохим. На мгновение он стал беспощадно жестоким, по любой человек склонен к беспощадной жестокости, когда страдает от жжения в печени и оскорблений начальства, особенно если в его власти находится подчиненный, совершенно не способный ответить. Но в целом Хорбери был весьма покладистым типом среди английских учителей, и Мейрик никогда не подозревал в нем такой придирчивости. В своих рассуждениях о школах и учителях мальчик опирался на неверную предпосылку: он осуждал их за то, что они не были такими, какими быть и не собирались. Это все равно, что упрекать простую старомодную молельню в том, что она по меньшей мере не Линкольнский собор. Дымоход может не быть декоративным объектом, но в таком случае он и не претендует на то, чтобы казаться шпилем или бельведером в далеком духовном городе.
Мейрик же всегда не любил молельни именно потому, что они не соборы. Многие слышали, как он часами неистовствовал по поводу практичных скромных колпаков на дымоходах, не обладавших сходством с церковными шпилями. Так или иначе, может, из-за наследственности, может, из за влияния товарищеских отношений с отцом, но он бессознательно приобрел жизненную позицию, мало подходившую к реальностям мира. Эта позиция стала девизом Мейрика в последующие годы, и ей суждено было прочно, хотя и неотчетливо, присутствовать в его мыслях на протяжении всего детства. Взять, например, комментарии Мейрика к стихам бедного каноника Хорбери. Он судит о них, как мы видели, но правилам высокой литературы и считает стихи никуда не годными. Однако любой люптонианец сказал бы ему, что звучание голосов всех шести сотен мальчиков, объединенных в хор и поющих "Люптон, — лишь вперед, вперед!", — одно из лучших впечатлений в его жизни; недаром стихи стали песней, несмотря на их недостатки с литературной точки зрения, песней, полностью удовлетворяющей тем целям, для которых она была написана. Иными словами, это был великолепный дымоход, но Мейрик упорно предавался безрассудным и тщетным рассуждениям о его отличиях от шпиля. В дальнейшем ошибки в главном исходном пункте приводили к новым, еще более серьезным ошибкам, например, что великие частные закрытые школы для мальчиков созданы как вспомогательный и второстепенный объект распространения духовности и красоты греческой и латинской литератур. Вполне возможно, что когда-то давно так и было. Гуманитарии рассматривали школы и университеты как учреждения, в которых должны изучаться греки и римляне, причем в качестве объектов восхищения великой мыслью и великим слогом античного мира. Кто-то, например, отнесет сюда и Рабле[122]. Изучение классики представляет собой прекрасное путешествие, и чтобы научиться понимать ее, надо стать духовным Колумбом, открывателем новых морей и неизвестных континентов, пьющим старо-новое вино на старо-новой земле. Дни таинственно затонувшей Атлантиды вновь величественно встают перед студентом из пучины волн. Именно это (бессознательно и безоговорочно) ожидал обнаружить Мейрик в школьных буднях, а не найдя, он набросился с бранью на Систему и не унимался в течение всей последующей жизни, хотя, подобно Джиму в Гекльберри Финне"[123], абсолютно не понял сути.
В современном преподавании греки и римляне предстают оголишь как самые необычные и интересные анахронизмы, так что способные студенты уже не имеют возможности наслаждаться их текстами, понять мысль и красоту оригиналов; сегодня учат так, что каждое упоминание этих уроков будет вызывать тошноту у учеников до конца их дней. Однако изучение классики выжило, превратившись в любопытный и тщательно продуманный ритуал, лишенный как смысла, так и духа. Остается только вспоминать уроки школьного учителя, посвященные "Одиссее"[124] или "Вакханкам"[125], а потом смотреть на свободных масонов[126], празднующих загадочную смерть и воскрешение Хирама Абиффа[127]; аналогия готова, ибо ни учитель, ни масон не имеют даже отдаленного понятия о том, что делают. Оба из-за глубоко укоренившегося консерватизма упорно продолжают свое странное и таинственное действо.
Мейрик был поклонником античности и особенно ее проявлений в современной ему действительности, но не понимал, что череда из греческого синтаксиса и римской прозы, из элегий и глаголов, из всех ее "μι", с загадкой ораторского уклонительства и желательного наклонения, — самое странное и красочное олицетворение античности в сегодняшней жизни. Кстати, замечу, что само значение слова "ученый" претерпело значительные изменения. Так, известный авторитет указывал, что "Меланхолия" Бертона[128] не имела "научности" в полном смысле этого слова; он просто использовал свои значительные познания в древней и современной литературе, чтобы создать одну из самых увлекательных и любопытных книг, какие когда-либо существовали в мире. Истинная "ученость", как ее понимают сегодня, искома не в якобинских переводах Библии, а в викторианских изменениях. Одни создали величайшие английские книги вне их древнееврейских и греческих источников; другие же поняли силу их новаторства. Любопытно думать, что "ученый" когда-то означал человека литературного вкуса и знания.
Мейрик никогда не мог усвоить сих различий, а если позднее все-таки справился с этим, никогда не признавался в своем знании, продолжая бранить молельню, которая, как он настаивал, претендует на то, чтобы называться собором. Слышали, как он удивлялся, почему некий декан, обративший внимание на многочисленные улучшения, привнесенные корректорами, не наймет несколько молодых студентов отделения гуманитарных наук из Кенсингтона, чтобы изменить позорные росписи на стеклах собора четырнадцатого столетия. Он был неисправим, причем был таким всегда, поэтому в детстве, темным ноябрьским вечером всерьез размышлял об убийстве своего хорошего учителя и дяди — по край ней мере, в течение четверти часа.
Он помнил, что его отец всегда отзывался о готической архитектуре как о самом восхитительном и красивом явлении в мире, достойном изучения, любви и почитания. Однако его отец никогда столько не проповедовал, сколько пресловутый поборник спорта, утверждавший, что только таким способом может быть спасен английский мальчишка. Поэтому Амброз в душе не сомневался, что его посещение Шелдонского аббатства заслуживало скорее награды, нежели наказания, и ожесточенно возмущался днкой несправедливостью (как он думал) побоев.
Глава III
Если и не во всем, то хотя бы в одном мистер Хорбери оказался прав. Тот вечер действительно стал поворотным в жизни Мейрика. Чутко улавливая жгучую ярость неприятеля, Амброз решил, что больше не будет трусом. Он никогда не уподобится крошке Фиппсу, который был запутан, "пропитан "футболом" и забит до такого жалкого состояния, что рухнул как подкошенный, потеряв сознание, пока директор отчитывал его за "систематическое и намеренное вранье". Фиппс не только упал к ногам директора, но и, будучи в основе своей, выражался доктор Джонсон, разумным, демонстрировал сильное нежелание возвращаться в сознание к драгоценным наставлениям "дорогого старины директора". Чессон даже некого испугался, а школьный доктор сухо заметил, что, по его мнению, парня лучше отправить домой на пару неделек.
Итак, Фиппс прибыл домой в таком состоянии, что его мать горько заплакала, а отец пришел к выводу, что, похоже, тему частных закрытых школ для мальчиков слегка перехвалили. Старый семейный доктор вообще рассвирепел и вал "негодяями" тех, кто довел двенадцатилетнего ребенка до нервного срыва на грани "церебральной неврастении". Доктор Уолфорд получил свое образование в какой-то жалкой провинциальной академии, поэтому и не мог понять и оценить дух великих частных закрытых школ.
Теперь Амброз Мейрик наблюдал за достижениями несчастного Фиппса с беспокойством и жалостью. Бедное маленькое существо с помощью тщательной обработки учителями и соучениками было доведено до такой степени нервного расстройства, что хватило бы одного резкого хлопка по ею спине или руке, чтобы вызвать необузданный водопад слез из его глаз. И всякий раз, когда кто-то задавал ему самый простой вопрос, он подозревал коварную ловушку, а потому лгал, вилял и неумело хитрил. Хотя его втаптывали каблуками в грязь раза три в неделю, чтобы он смог овладеть полезными навыками плавания, Фиппс, казалось, лишь становился все грязнее и грязнее. Его школьные книги были порваны на клочки, тетрадки с упражнениями использовались в качестве дротиков; у него была заготовлена ложь для оправдания потери книг и отговорки, чтобы не делать упражнения, и он лгал и плакал все больше и больше.
Мейрик никогда не опускался так низко. Он был сильным мальчиком, а Фиппс всегда оставался маленьким слабым животным; но после взбучки, но дороге из кабинета в классную комнату Мейрик почувствовал, что находится у самого края пропасти и от падения его отделяет всего лишь шаг. Но нет, решил он, никогда, никогда он не ступит на этот путь, и потому с равнодушным видом, причем вовсе не напускным, Мейрик прошел через обитые сукном двери в комнату, где другие мальчики готовили уроки.
Мистер Хорбери был неограничен в средствах и не беспокоился о проблемах и обязанностях большого дома. Однако в Старой Усадьбе была запасная комната, и, помимо своего племянника, он взял к себе еще трех мальчиков. Эти трое с предвкушающими ухмылками ждали, когда во время беседы со "старым Хорбери" Мейрик покажет свой нрав — в том, что нечто подобное произойдет, они не сомневались. Но Амброз вошел со словами: "Привет, ребята!" и сел на свое место, как будто ничего не случилось. Это было невыносимо.
— Я уверен, Мейрик, — начал Пелли, пухленький мальчик с красным лицом, — что ты рыдал! Напишешь об этом домой? А, я забыл. Это ведь твой дом, не так ли? Сколько ударов? Я что-то не слышал, чтобы ты выл.
Амброз не произнес ни слова. Он достал свои книги, как если бы никто ничего не говорил.
— Ты можешь ответить? — вступил другой мальчик. — Сколько ударов, а, маленький трус?
— Иди к черту!
На мгновение все трое ошеломленно переглянулись; они подумали, что Мейрик должно быть сошел с ума. Но вскоре один из них, наблюдательный Бейтс, начал тихо посмеиваться, видя, как заводится Нелли, к которому он никогда не питал симпатии. Толстый от природы, Пелли становился все толще и толще; глаза его расширились от ярости.
— Я тебе устрою, — выпалил он и направился к Амброзу, спокойно листавшему латинский словарь.
Амброз не ожидал нападения, но быстро вскочил и встретил Пелли на полпути ожесточенным ударом, направленным прямо в нос. Пелли отлетел в сторону, рухнул на пол и мгновение лежал оглушенный. Потом он медленно поднялся и, шатаясь на неустойчивых ногах, с трогательно смущенным видом посмотрел вокруг себя. Он стоял посреди комнаты, не понимая, что бы это значило и правда ли, что Мейрика больше не удастся подловить на ехидную шутку или какой-нибудь подвох. Похоже, тот, кто всегда был трусом, претерпел ужасное и совершенно невероятное превращение. Пелли дико смотрел по сторонам, пытать остановить льющуюся из носа кровь.
— Запрещенный прием! — отважился Роусон, тощий парень, любивший заламывать руки мальчикам помладше до тех пор, пока те не начинали молить о пощаде. Суть произошедшего не доходила до него; он смотрел с недоверием, как материалист, отвергающий чудо даже тогда, когда видит его собственными глазами. — Запрещенный прием, Мейрик!
Но Амброз спокойно вернулся на свое место и снова приелся листать словарь. Это был толстый, тяжелый том в твердом переплете, и именно ребром переплета Амброз нанес несчастному Роусону огромной силы удар в лицо. Роусон закрыл лицо руками и заплакал тихо и уныло, раскачиваясь взад-вперед на месте и едва воспринимая беглый поток проклятий, коими осыпал его недавний тихоня Мейрик, проверявший таким образом, достаточно ли хорош был удар.
Амброз поднял словарь и обрушил на изумленных зрителей целый ряд замечаний, которые сделали бы честь старомодному режиссеру на генеральной репетиции спектакля.
— Ты только послушай его! — слабо, почти благоговейно, произнес Пелли. — Ты только послушай его!
Но бедный Роусон, раскачиваясь взад-вперед, тихо рыдал и, зажав голову руками, не говорил ни слова.
Мейрик всегда отличался внимательностью к мелочам и в тот вечер пришел к выводу, что определенные римские традиции следовало бы перенять. Благоразумный Бейтс продолжал корпеть над своим школьным упражнением по стихосложению на латыни, тихо ухмыляясь. Бейтс был циником. Он всем сердцем презирал обычаи и в то же время очень тщательно соблюдал их. Он мог бы стать изобретателем и автором футбольных игр, если бы кто-нибудь оценил ту страсть, с какой он предавался этим занятиям. Но его имя вошло в историю спорта: Бейтс совершил прыжок, бросил молот и пробежал кросс так, будто от этого зависела вся его жизнь. Однажды мистер Хорбери случайно подслушал, как Бейтс говорил что-то о "чести дома", который вошел в его сердце. Что касается крикета, то Бейтс играл с таким рвением, словно его личное честолюбие требовало, чтобы он стал первоклассным профессионалом. И он искренне радовался, закончив свои латинские стихотворения, написанные (к изумлению других мальчиков) "будто письмо" — то есть без черновика. Бейтс имел "наклонность" ко всему в Системе, от спорта до латинских стихов, и его рукописи пользовались неизменным успехом. Он ухмыльнулся в тог вечер отчасти над превращением Мейрика, а отчасти над строкой, которую набросал:
"Mira loquor, coelo resonans vox fundulur alto"[129].
В дальнейшем Бейтс написал пару романов и продал их, по словам журналиста, "словно горячие пирожки". Мейрик пошел навестить его вскоре после того, как тираж первого романа дошел до тридцати тысяч, а Бейтс читал "положительные рецензии" и радовался приятному хрусту только что полученного чека.
"Mira loquor, populo, resonans, cheque fundutur alto"[130], — сказал ему Бейтс. — Я знаю, чего хотят школьные учителя, мальчики и публика, и я забочусь о том, чтобы они это получили — sale espece de sacres cochons de N. de D.![131]
Остальные занятия протекали в полной тишине. Пелли приходил в себя от полученного шока и начинал обдумывать месть. Мейрик своим поведением довел его до безрассудства, и он должен был как-то ответить. Это была просто случайность; Пелли решил вызвать Мейрика на драку и устроить обидчику самую страшную трепку, какую тот когда-либо получал. Он был полным, но смелым парнем. Роусон, напротив, был ужасным трусом и подлецом, а потому решил, что с него хватит, и время от времени бросал в сторону Мейрика смиренные, примирительные взгляды.
В половине десятого они все вместе пошли в столовую за хлебом с сыром и пивом. Без четверти десять мистер Хорбери появился в форменной одежде и шапочке и прочитал главу из послания св. Павла римлянам, а также одну или две бессвязные и унылые молитвы. Когда мальчики уже поднимались в их комнаты, Хорбери остановил их.
— Что это, Пелли? — спросил он. — Твой нос раздулся. И как огляжу, из него идет кровь. Что ты с собой сделал? А ты, Роусон, как ты объяснишь синяки вокруг глаз? Что все это значит?
— С вашего позволения, сэр, на футболе сегодня была очень жаркая битва, к чему мы с Роусоном оказались не очень готовы.
— И ты участвовал в столкновении, Бейтс?
— Нет, сэр; я был крайним нападающим. Но все ребята играли отчаянно, и я видел, как ударили Роусона и Пелли, когда мы менялись.
— О! Ясно. Весьма рад обнаружить в вас таких азартных игроков. Что касается тебя. Бейтс, то я вижу, что ты лучший среди нападающих твоего возраста, лучше всех, кто когда-либо был у меня. Спокойной ночи!
— Спасибо, сэр! — в едином порыве откликнулись псе трое, как будто исполнили их самое сокровенное желание, и Хорбери мог бы поклясться, что Бейтс даже покраснел от удовольствия после его похвалы. На деле же Бейтс упивался собственной хитростью и способностью выходить из любого сложного положения.
Мальчики ушли, и мистер Хорбери вернулся к своему столу. Он редактировал сборник избранных произведений под названием "Английская литература для младших классов". Хорбери начал читать приготовленную к работе рукопись:
"Весь день грохочет битвы шум В горах за зимним морем;
Пока сподвижники Артура[132], плечом к плечу, единым строем
Не сложат головы в нолях под Лайонессом…"[133]
Он остановился и поставил звездочку над словом "Лайонесс", после чего на чистом листе повторил знак и сделал примечание: "Лайонесс = острова Слили".
Затем Хорбери взял еще один лист и написал: "Найти древнее название островов Силли".
Эта работа полностью поглотила его внимание, и лишь когда часы пробили двенадцать, он отложил рукопись: настало время вечернего стакана виски с содовой; днем Хорбери никогда не прикасался к алкоголю, но вечером позволял себе немного выпить, торжественно смешивая напиток и затягиваясь сигарой, которую выкуривал за двадцать четыре часа. Ожог от директорского хереса и неприятного разговора больше не терзал его изнутри; время, работа и несколько ударов палкой, выданных Мейрику, успокоили его душу, и, откинувшись в кресле, он погрузился в размышления, глядя на яркие всполохи огня.
Хорбери размышлял о том, что мог бы сделать, если бы унаследовал пост директора. Уже пошли слухи, что Чеесои отказался от епископства в Св. Дубрике, чтобы не ограничивать свою свободу и принять Дочестер, где очень скоро должна была появиться вакансия. Хорбери не сомневался, что пост директора достанется ему; его влиятельные друзья уверяли, что Совет не будет колебаться не минуты. Тогда он покажет всему миру, какой можно сделать английскую частную закрытую школу. Лет через пять, по его подсчетам, он удвоит количество учеников. Хорбери видел приближающуюся необходимость использования достижений современности и особенно наук. Лично он питал отвращение к "новаторам", но знал, какое впечатление произвел бы с лабораторией, великолепно оснащенной современной аппаратурой и управляемой высоко квалифицированным специалистом. Поэтому усовершенствованная гимназия необходима; в ней должны быть инженерные, а также столярные мастерские. Да и люди начали жаловаться, что образование, полученное в частных закрытых школах, не находит Применения в городе. В новой школе должен быть учитель по бизнесу и специалист с фондовой биржи.
Тут Хорбери вспомнил, что большинство мальчиков — выходцы из семей, принадлежащих к землевладельческому классу. Почему деревенский джентльмен должен зависеть от милости посредника и из-за отсутствия технических знаний вынужден соглашаться с утверждениями, которые не может проверить? Очевидно, что управлению землей и большими имениями необходимо найти место в общей системе; и опять известнейших репетиторов следует нанимать на его условиях, так, чтобы мальчики, желающие пойти служить в армию или выбравшие гражданскую службу, не могли обойтись без обучения в Люптоне. Он уже видел статьи в "Гардиан" и в "Таймс" — да и в других газетах, — статьи, в которых говорилось бы, что девяносто пять процентов лучших кандидатов для гражданской службы в Индии получили образование в учреждении "отважного Мартина Ролла".
Между тем при всем этом изобилии нововведений старые традиции необходимо поддерживать сильнее, чем когда-либо. Это значит, что каждый школьный учитель должен пользоваться неизменным уважением, для чего, если получится, следует собрать для работы в школе известных людей, которые будут не просто хорошими, но и выдающимися учеными, Ги, знаменитый исследователь Крита, прославившийся в гуманитарных науках своими замечательными книгами "Дедал" и "Секрет лабиринта", необходим в Люптоне любой ценой; и Мейнард, обнаруживший несколько очень важных греческих рукописей в Египте, тоже должен получить класс. Следует привлечь и Ренделла, известного своим "Thucydides", и Дэвиса, автора "Оливковой ветви Афины", дерзкой, но замечательной книги, которая обещала перевернуть всю общепринятую доктрину мифологии; если бы это удалось, он имел бы такую поддержку, о какой ни одна школа и не мечтала.
"У нас не возникнет никаких трудностей с оплатой их работы, — размышлял Хорбери, — число учеников будет расти все быстрее и быстрее, и гонорары поднимутся до пяти сотен фунтов в год — такие условия сделают нас лучшими из лучших".
Хорбери принялся обдумывать детали. Он должен спросить совета у специалиста насчет целесообразности содержания школьного бюджета на его личном счете и относительно снабжения мальчиков мясом, молоком, хлебом, маслом и овощами по оптимальным ценам. Наверняка это можно осуществить; он найдет хорошего фермера-шотландца и сделает его начальником над школьными наделами с хорошим жалованьем и с долей прибыли. Да и реклама получится неплохая: "Диетические продукты, доставляемые со школьных ферм под контролем мистера Дэвида Андерсона, выходца из Хадденеука, самого большого арендованного поместья во владениях герцога Эйра". Пища будет значительно лучше и дешевле, однако без излишеств.
"Спартанская программа" всегда нуждалась в доработке; кому-то в расцвете творческих сил необходимо обратить на это внимание; но ни в коем случае нельзя потерять серьезность старой закрытой частной школы. С другой стороны, мальчикам нужно разрешить свободно распоряжаться своими карманными средствами: здесь не должно быть никаких ограничений. Если мальчик решил потратить их на Dindonneau aux iruffes[134] или на Pieds de mouton a la Ste Menehould[135], то это его личное дело. Почему бы школе не предоставить некоторые уступки крупной лондонской фирме, которая бы щедро платила за привилегию поставлять голодным школярам все виды дорогостоящих деликатесов?
Сумма может быть заслуженно увеличена, так как любой конкурирующий магазин готов тут же предложить более выгодные условия. С одной стороны — confiserie[136] с другой — charcuterie[137], высокие цены легко покрываются за счет мальчиков из состоятельных семей, которых наберет школа. К тому же высокопоставленные посетители — судья, епископ, лорд и так далее — будут обедать в доме директора, где смогут отведать те же блюда, которые подают мальчикам, и, отобедав, уйдут со словами, что это была лучшая еда, какую они когда-либо пробовали. Трапеза будет состоять из свежей баранины, поджаренной, но не подгоревшей; рассыпчатого картофеля и цветной капусты; яблочного пирога с настоящим английским сыром и кружки отличного школьного пива, явственного и очень вкусного напитка из солода и хмеля, сделанного на хорошо оборудованном школьном пивоваренном заводе. Хорбери знал достаточное количество популярных блюд и напитков, чтобы угодить по меньшей мере девяти богатым людям из десяти; однако все это укладывалось в его "Спартанскую программу" и представлялось ему совершенно лишенным роскоши и хвастовства.
И вновь Хорбери вернулся от деталей и мелочей к великим наполеоновским планам. Тысяча мальчиков по пятьсот фунтов в год; доход для школы в пять тысяч фунтов! Прибыль была бы огромной. После значительной, даже непомерной, оплаты персонала, после вычета всех затрат на строительство, он едва отваживался представить, какая значительная сумма будет поступать год за годом Совету. Воображаемая им картина начала принимать такие великолепные и грандиозные очертания, что стала подавлять; она была сродни блеску и очарованию наркотических галлюцинаций, слишком невероятных и слишком пронизывающих для смертных сердец, чтобы те могли их выдержать. Но это был не мираж; каждое предполагаемое действие, основанное на серьезных фактах и деловых размышлениях, вполне поддавалось осуществлению.
Хорбери попытался сдержать свое растущее возбуждение, убедить себя в том, что это только мечта, но факты были слишком настойчивыми. Он отчетливо видел, что ему предначертано бороться за создание такого же чуда в мире науки, какое воплотили крупные американские владельцы магазинов в мире розничной торговли. Принцип был абсолютно тот же: вместо сотни маленьких магазинчиков, приносящих весьма скромные, хотя и постоянные доходы, вы владеете огромным торговым центром, осуществляющим бизнес в гигантских масштабах со значительно сокращенными издержками и баснословной прибылью.
И снова намек. Хорбери подумал об Америке: он знал, что там — неистощимый золотой прииск, о котором никакой другой золотоискатель от науки никогда и не мечтал. Богатая Америка печально известна голодом до всего английского, от сюртуков до скота. Он никогда не стремился отправить своего сына в английскую частную закрытую школу, ибо до последнего времени считал эту Систему бесполезной. Но усовершенствованный Люптон будет похож на другие частные закрытые школы, как новейший нью-йоркский отель — на деревенскую пивную лавку. К тому же юный американский миллионер будет расти в компании отпрысков английских джентльменов, усваивая уникальную культуру английской жизни, и в то же время сможет наслаждаться всеми преимуществами современных идей, современной науки и современного обучения бизнесу. Земля в Люптоне пока еще сравнительно дешевая; школа могла бы покупать ее тайно, постепенно, не привлекая всеобщего внимания, чтобы потом одно за другим огромные здания поднялись пред удивленными взорами горожан. Он видел сыновей богачей, собранных со всех концов мира в Великую школу для обучения секретам англосаксов.
Чессон ошибался в идее создания специального Еврейского дома, где бы раздавалась кошерная пища, хотя сам и считал ее смелой и оригинальной. Богатый еврей, посылающий своего отпрыска в английскую частную закрытую школу, в девяти случаях из десяти будет обеспокоен этим вопросом, ибо мечтает привить сыну незыблемую связь с еврейской культурой. Он слышал слова Чессона о "нашей христианской обязанности перед семенем Израилевым" в отношении воспитания такой связи. Все это было глупо. Нет, конечно, чем больше евреев, тем лучше, но только не Еврейский дом. И же не puseyism[138]: серьезное религиозное учение, с уклоном к сдержанному англиканству, должно стать вероисповеданием Люптона. Здесь Чессону, конечно, не откажешь в логике. Он всегда отстаивал прочную позицию против церковности в любой форме. Хорбери всецело понимал среднего английского родителя, принадлежащего к богатому классу; называя себя приверженцем церкви, такой "столп общества" был бы вполне доволен, если бы его сыновей готовил к конфирмации признанный агностик.
Конечно, подобная свобода не должна быть ограничена, даже когда Люптон станет полностью космополитичным. "Мы ним все достойные объединения государственной церкви размышлял Хорбери, — и в то же время будем совершенно свободны от влияния догматических учений". Неожиданно у него возникла блестящая идея. В церковных кругах все говорили, что английские епископы ужасно перегружены, что даже самые энергичные их представители, движимые самыми высокими намерениями, не способны эффективно руководить огромной епархией, которая существовала еще в малозаселенной средневековой Англии. Повсюду требовалось все больше и больше викариев. В последнем "Гардиан" были напечатаны три письма на эту тему, причем одно — от священника их епархии. Епископа критиковал некий ритуальный фанатик, обративший внимание на то, что за десять лет со дня его назначения каждые девять из десяти приходов ни разу не видели цвета епископского капюшона. Архидиакон Мелби разразился в ответ рукописным письмом, едким и даже сатиристическим.
Хорбери обратился к листу бумаги, лежавшему на столе возле его кресла, и просмотрел письмо. "Во-первых, — писал архидиакон, — ваш корреспондент, кажется, не понял, что епархия Мелби не похожа на епархии остального духовенства. Непреклонный народ Мидленда еще не забыл уроки нашей великой Реформации и не желает видеть восстановления безукоризненно механической религии Средних веков — системы священных жертвоприношений и таинств ех ореге operato[139]. Мидлендцы рассматривают епископство совершенно в ином свете, нежели ваш корреспондент, который, как мне кажется, считает епископа разновидностью христианизированного медиума, наделенного некоей волшебной мистической силой, переданной ему (воображаемым) духом. Это не было точкой зрения Хукера и, отважусь заметить, не отвечало взглядам настоящего представителя духовенства государственной церкви Англии. К тому же надо признать, что в настоящее время епископство Мелби громоздко и, честно говоря, неуправляемо".
Затем следовал юмористический анекдот о сэре Бойле Роше и птице, а в завершение архидиакон привел просьбу, которую Бог в свое время вложит в сердца правителей Церкви и государства: дать их епископату хорошего викария.
Хорбери поднялся со своего кресла и принялся ходить взад-вперед по кабинету; его возбуждение было таким сильным, что он больше не мог сохранять ясность мысли. Его сигара давным-давно погасла, и он просто потягивал виски с содовой. Глаза Хорбери блестели от волнения. Казалось, обстоятельства играли ему на руку; судьба мира зависела от его решения. Он был словно Bel Ami[140] на своей свадьбе. И едва не начал верить в Провидение.
Хорбери был уверен, что все это можно осуществить. Казалось, ни один человек не способен выполнить работу в епархии. Здесь необходим викарий, и Люптон должен даровать новому епископу его титул. И ни один другой город не сможет сделать этого. Данхэм, конечно, еще в восьмом столетии имел епархию, но сейчас он не больше деревни и обслуживается убогой маленькой железнодорожной веткой; в то время как Люптон стоит на главном пути большой железнодорожной системы центральных графств и имеет удобное сообщение со семи частями страны. Архидиакон, одновременно носящий титул лорда, бесспорно, стал бы первым епископом Люптона и главным капелланом Великой школы!
"Капеллан! Его преосвященство лорд Селвин, лорд епископ Люптона". Хорбери задыхался; это было слишком великолепно, слишком ослепительно. Он очень хорошо знал лорда Селвина и не сомневался в его поддержке. Лорд беден, так что договориться с ним будет нетрудно. Архидиакон просто создан этого места. Он не был педантичным богословом, напротив придерживался весьма либеральных взглядов и отличался терпимостью. Хорбери чуть ли не с исступленным восторгом вспомнил, с каким огромным успехом архидиакон читал лекции по всем Соединенным Штатам. Американская пресса была увлечена его работой, а первая Конгрегационная церковь Чикаго умоляла Селвина остаться и проповедовать то, что он сочтет нужным, пообещав ему гонорар в двадцать пять тысяч долларов за год. С другой стороны, что может быть желаннее, чем священник, который не только наделен саном епископа, но и является пэром королевства. Великолепно! Целых три птицы — Либерализм, Православие и Преподобие в палате лордов — надежно и крепко пойманы в один капкан.
Игры? Их популярность следовало бы поддерживать, а то даже и поднять на еще более высокую ступень. Это касается крикета и стикера (люптонского хоккея), тенниса и файвза (разновидности игры в мяч); более того. Люптон должен стать единственной школой, располагающей теннисным кортом. Дворянская jeu de paume[141], игра королей, самая аристократичная из всех видов спорта, займет достойное место в Люптоне. Здесь будут готовить чемпионов; Люптон пригласит французских и английских маркеров, имеющих хороший опыт в последних разработках chemin de fer[142] службы. "Более половины ярда, что ж, — сказал себе Хорбери, — думаю, они сделают все, что в их силах, чтобы превзойти это достижение".
Но больше всего он надеялся на футбол. Люптонский вариант футбола, такой же необычный, как и итонская игра у стены. Считалось, что название игре дало слово-гибрид, комбинация регби и футбола; на самом деле оно произошло от поля, где раньше обычно играли в эту игру горожане. Как и в большинстве других мест, футбол в Люптоне был своеобразным поводом для массового сражения между двумя городскими приходами: Св. Михаила и Св. Павла-на-полях. Каждый год, в последний день масленицы, все горожане, и стар, и млад, собирались на городском поле и жестоко сражались, отстаивая свои убеждения.
Поверхность поля была неровной: в одном из углов его пересекал глубокий, неторопливый поток, а в середине зияли карьеры и разбитые известняковые булыжники. Поэтому футбол в городе называли "играющие глыбы", что вполне соответствовало действительности, — это было отличное место для того, чтобы сбросить человека с края карьера на глыбы, и именно таким образом в 1830 году некий Джонас Симпсон из Св. Михаила сломал позвоночник. И хотя в тот же день в канаве был утоплен мальчик из Св. Павла, подобный результат игры всегда считался лотереей. Это шло от особенностей старых традиций английского спорта, на которых школа основывала свои игры.
Городское ноле впоследствии, конечно, отобрали у горожан и застроили; но мальчики, что интересно, увековечили его традиции в виде особого футбольного ритуала. Один угол поля был помечен низким белым столбиком, который указывал направление несуществующего русла ручья, и по всей длине этой воображаемой канавы допускалось схватить противника за горло и душить, пока его лицо не начнет синеть — самая лучшая замена утоплению, какую только смогли придумать хранители традиций игры. В центре поля также размещались два высоких столба, обозначающие месторасположение карьеров, и между ними разрешалось со всей силы бить мячом в живот: удар в живот представлял собой более мягкую версию падения на камни; Хорбери, конечно же, поддерживал именно Атакой, наиболее смелый вариант игры. Этому притягательному спорту он предсказывал всемирную славу.
В люптонский футбол должны играть везде, где бы ни развивался английский флаг: на западе и на востоке, на севере и юге; от Гонконга до Британской Колумбии; в Канаде и в Новой Зеландии должен быть Temenoi этого великого обряда; путешественник, увидев мистическое ограждение — двое ворот, линию маленьких столбиков, отмечающую "ручей", и а столба, указывающих "карьеры", — узнает английскую землю так же хорошо, как и государственный флаг Соединенного Королевства. Специальные команды футболистов станут частью англосаксонского наследия; весь мир услышит о "драчунах" и "громилах", о "краях" и "форвардах". Это потребует усилий, но обязательно должно быть сделано; появятся статьи в журналах и в газетах, а возможно, об истории школьной жизни расскажет новый "Том Браун"[143]. Надо показать всем, что в центральных графствах и на севере есть деньги, а остальное — детали.
Только одно беспокоило Хорбери. Он видел прекрасные новые здания, которые будут построены, но понимал, что старина все еще имеет большое значение, а Люптон, к сожалению, мало чем мог похвастаться в плане настоящей древности. Сорок лет назад Стэнли, первый директор, начавший перестройку, снес старую Высшую школу. Однако остались ее изображения: деревянно-кирпичное здание пятнадцатого столетия с покатой крышей и подвесным верхним ярусом; в ней были тусклые, освинцованные окна и серое арочное крыльцо — Стэнли называл его "уродливый сарай". Затем пригласили Скота, и тот соорудил новую Высшую школу, которая стоит до сих нор, — великолепное здание красного кирпича во французском стиле тринадцатого века с венецианскими элементами; оно было восхитительно. Но Хорбери сожалел, что разрушена старая школа; впервые он понял, какой бесценной привлекательностью она обладала. Сменивший Стэнли Доусин разделил галереи на части; осталось только одно крыло четырехугольного здания, оно было огорожено и использовалось как жилье для садовников. Хорбери ничего не мог сказать о разрушении Распятия, которое в прежние времена стояло в центре двора. Несомненно, Доусин был прав, считая это суеверием; однако, если бы оно осталось как достопримечательность, его демонстрировали бы посетителям так же, как показывают всем любопытствующим инструменты пережитой жестокости — дыбу и "железную деву"[144]. Не было никакой опасности в поклонении Распятию, столь же безобидному, сколь и топор палача или плаха лондонского Тауэра[145]; Доусин уничтожил то, что могло бы лечь в основу благополучия школы.
Однако возможно, что-то еще удастся исправить. Высшая школа разрушена, и ее, конечно, не восстановить, но галереи и Распятие можно отреставрировать. Хорбери знал, что монумент перед станцией "Чаринг-Кросс" многими рассматривался как подлинная реликвия; так почему бы не нанять хорошего мастера, чтобы тот возвел Распятие? Но, естественно, не копируя старое — тот "Целомудренный крест с нашей Пречистой Девой Марией и Иоанном", в основании которого были помещены сцены из жития святых и ангелов. Однако громоздкая готическая постройка со множеством королей и королев, с мнимой внутренностью школы, с маленьким чугунным крестом, венчающим все сооружение, не дала бы никому ни единого повода усомниться в ее принадлежности к прекрасным памятникам Средних веков. Здесь подошел бы мягкий камень, обработанный природой в течение нескольких лет, а слой невидимого антикоррозийного покрытия защитил бы резьбу и скульптурный ряд, которые имели бы обветшавший от времени вид.
Хорбери не пренебрегал ничем. Каждая деталь его грандиозного плана заслуживала отдельного рассмотрения, формируя общую картину, которую он все время держал в голове. Сомнений в успехе не было: никакие препятствия не смогут ему помешать. Хорбери считал, что необходимо создать школьную легенду. В реальной ее истории он не видел того, чего бы хотел, но историю школы можно было бы соотнести с более легендарным происхождением Люптона. Воспользоваться, например, Textus Receptus[146] основания города Мартином Роллом — наследство 1430 года, чтобы вписать туда главу о строительстве школы, где сотни мальчиков обучались грамматике, а десяток бедных учителей да шесть связников молились за душу основателя.
Одного этого уже вполне бы хватило, однако кто-то мог бы заметить, что Мартин Ролл всего лишь заново отстроил и обеспечил старую школу, имевшую саксонское происхождение, которая, возможно, была основана в Лаппасской долине самим королем Альфредом[147]. Да и кто, скажите, рискнет утверждать, что в Люптоне не бывал Шекспир? Какой-нибудь известный ученик, "неохотно, как улитка, ползущий в школу", вполне мог привлечь внимание поэта, избравшего берег ручья для прогулки. Многие знаменитые люди вышли из Люптона — нетрудно составить правдоподобный список таких лиц. Однако делать это надо осторожно и аккуратно, используя выражения типа: "Существует придание, что сэр Вальтер Ралей[148] часть образования получил в Люптоне"; или: "Старшее поколение люптонианцев хранит память об инициалах "У. Ш. С. на А.", глубоко вырезанных на каминной доске старой Высшей школы, ныне, к сожалению, уничтоженной".
Исследователи древности будут смеяться? Возможно; но кого они волнуют? Для простого человека "Придание" получено от "chere reine"[149], что ему так любо, а Хорбери предпочитал опираться на простого человека. Будучи школьным учителем, он никогда не был отшельником и всегда замечал движение мира из своего тихого кабинета в Люптоне; поэтому он осознавал огромную ценность пунктирной нити шарлатанства на общем полотне плана, рассчитывая на простых смертных. Однако ошибочно было считать, что нечто из области шарлатанства имело бы успех, да к тому же долговременный и во всем; еще более роковой ошибкой было бы предположение о том, что полное отсутствие шарлатанства гарантирует щедрое вознаграждение. Среднему англичанину скорее но душе аромат, в котором чувствуется petit point d' ail[150], благодаря которому просто хорошее блюдо превращается в триумф, в увенчанное лавром завершение. И нет нужды упоминать слово "чеснок" перед гостями. Люптону вовсе не обязательно пропитываться чесноком без меры: в школьном питании будут представлены самые лучшие блюда из тех, что когда-либо готовились, — продукты, их составляющие, должны быть непревзойденного качества. Но легенды, подобные истории об основании королем Альфредом школы в Лаппасской долине или об инициалах "У. Ш. С. на А.", глубоко вырезанных на каминной доске исчезнувшей Высшей школы, могли бы стать последним пикантным штрихом, le petit point d' ail.
Это был великий план, потрясающий и выдающийся; и более всего поражала реальность его осуществления. План не имел недостатков от начала и до конца. Совет города обязательно назначит его. Хорбери. — он был почти уверен в этом, — а значит, лишь год или два, а то и месяц или два отделяют его от того момента, когда это великое и блестящее начинание превратится в реальный и ощутимый факт. Он залпом допил виски с содовой; напиток выдохся и стал противным, но для Хорбери это был нектар, исполненный восторга.
Поднимаясь в свою спальню, Хорбери внезапно нахмурился. Неприятное воспоминание на мгновение омрачило его сладостные мечты; но он выбросил из головы эту мысль, как только она возникла. Все уже кончилось, нет никаких оснований ждать неприятностей с той стороны; поэтому его мысли вновь наполнились образами грядущего триумфа, он блаженно заснул, и во сне Люитон привиделся ему центром целого мира, подобно Иерусалиму на древних картах.
Знаток мистицизма знаком с любопытными элементами комедии в развитии человеческих судеб; несомненно, долю юмора можно усмотреть и в роковой судьбе Хорбери, ведь той Же ночью, пока он строил великолепный Люптон будущего, отец его мысли и его жизни был обращен в никчемную пыль небытие. Но это было так. Тщательно подготовленная опала приговаривала несчастного каноника из Уорхэма к неминуемому краху. Фантастическими были воплощения сил, призванных исполнить этот великий приговор: вульгарный дух жгучего хереса, наглость (или нечто похожее на нее) пожилого священника, вареная баранья нога, непокорный и причиняющий беспокойство мальчик и — еще один человек.
ЧАСТЬ II
Глава I
Он стоял посреди дикого поля. Было что-то смутно знакомое в том, как, натужно поднимаясь и опускаясь, устало дышала земля, в огромном коричневом круге распаханного поля и в серой безбрежности луга, терявшегося без обещаний и надежд в темноте горизонта, мрачного как тюремная стена. Бесконечная меланхолия осеннего вечера нависла над миром, и небо спряталось за белой вуалью облаков.
Открывавшаяся его взору картина напоминала о чем-то давно забытом, и в то же время он знал, что впервые вглядывается в эту печальную равнину. Царила глубокая и тягостная тишина; тишина, наполненная дрожанием листьев. Казалось, деревья вокруг были странной формы, странным представлялся ему и чахлый кустарник, разбросанный по заброшенному полю, на котором он стоял. Узенькая тропинка под ногами, окаймленная колючим кустарником, уходила налево в тусклые сумерки; над тропинкой витал неопределенный дух загадочности, словно она вела в таинственный мир, где все земное утрачивало свое значение.
Он сел под огромное дерево с голыми сплетенными ветвями и смотрел на унылую землю, постепенно погружавшуюся в темноту; мальчику было интересно, где он и как попал сюда, он с трудом извлекал из глубин памяти схожие впечатления. Человек однажды проходит мимо знакомой стены и открывает дверь, которую раньше не замечал, и оказывается в новом мире неожиданных и невероятных событий. Другой пустит стрелу дальше, чем его друзья, и станет мужем волшебницы. Но это была не волшебная страна; это были просто печальные поля, а не жилище бесконечной радости и вечного удовольствия. И все же он чувствовал, что здесь витает предвестие чуда.
Только одно он знал точно. Его имя — Амброз, и это печальное изгнание призвано уберечь его от огромного, неописуемого восторга. Он пришел издалека, отыскав скрытый путь, окутанный тайной; он испил напиток горечи и вкусил пищу тлена, поэтому радость жизни ушла от него. Вот и все, что Амброз мог вспомнить; теперь же он заблудился и не знает, каким образом оказался здесь, на дикой печальной земле, а ночь между тем окутывала его покрывалом мрака.
Внезапно в туманной тишине прозвучал крик, и колючие кусты начали шелестеть от резкого ветра, который поднялся с наступлением ночи. От этого зова плывшие по небу тяжелые облака рассеялись, открыв непорочные небеса с последней розовой вспышкой умирающего заката, и засиял серебряный свет вечерней звезды. Сердце Амброза устремилось к свету, от которого он не мог оторвать взгляда: мальчик видел, что звезда становится все больше и больше; она двигалась к нему сквозь воздушное пространство; ее лучи проникали в го душу, словно звуки серебряного горна. Океан серебристо блеска не произвел на Амброза впечатления, ибо маль-йк находился внутри звезды.
Но это было всего лишь мгновение: он по-прежнему сиял под деревом с переплетенными ветвями. Чистое небо казалось умиротворенным; ветер утих, и счастливый свет заполнил огромную равнину. Амброз испытывал невыносимую жажду, и вдруг он увидел позади дерева родник, почти скрытый изогнутыми корнями. Неподвижная вода сверкала как зеркальная гладь черного мрамора, а рядом возвышался огромный камень, на котором были выбиты слова:
FONS VITAI IMMORTALIS[151].
Амброз встал и, склонившись над родником, начал нить, ощущая, как душа и тело наполняются внезапно нахлынувшей радостью. Теперь он понимал, что дни изгнания, исполненные болью и несчастьем, укрепили и обогатили его тело. Горем пропиталась каждая его частичка, невыносимо ныла каждая косточка; ноги тащились но земле медленно и устало, словно были закованы в кандалы. Но смутные предчувствия, печальные образы и искаженные картины мира стояли перед глазами Амброза, ибо глаза его были затуманены болезнью и приближением смерти.
Амброз пил большими глотками темную, искрящуюся воду, казалось, впитывая отраженный свет звезд, и наполнялся жизнью. Каждое сухожилие, каждый мускул, каждая частичка его живой плоти обретала силу и упругость под целительным действием родниковой воды. Нервы и вены ликовали; все его существо наполнилось счастьем. Амброз снова склонился над родником, и тело мальчика пронзила судорога необъяснимого удовольствия. От блаженства сердце забилось быстрее, так что трудно стало переносить этот ритм; чувства, разум и душа Амброза были вознесены к серебристому пламени наслаждения.
Но все равно он знал, что это только одно из самых незначительных удовольствий великолепного царства, всего лишь наполнение и погружение к основанию небесной чаши. Без удивления наблюдал он, как, несмотря на то что солнце уже село, небо снова вспыхнуло и окрасилось в красный цвет, словно это было северное сияние. На смену вечеру мрачно шествовала ночь. Но тьма отступила в те часы, когда мальчик бесконечно долго наслаждался живительной влагой; и, возможно, каждая ее капля несла бессмертие. Природа тем временем уже готовилась к наступлению дня. И Амброз услышал слова:
"Dies venit, dies Та a In qua reflorent omnia"[152].
Слова исходили из его сердца, и он видел, что все готово к великому празднику. В воздухе повисла тишина ожидания; чем дольше мальчик всматривался, тем яснее понимал, что находится уже не на печальной серовато-коричневой земле вспаханного поля и луга, не среди диких голых деревьев и странных колючих кустов. Он стоял на склоне холма, раскинувшегося на краю огромного леса; внизу, в долине, едва шелестел ручеек под листьями серебряных ив, а далеко на востоке невозмутимо поднималась в небо огромная круча горы; Амброз попал в зеленый пленительный мир растений, даривший ему благоухание летней ночи в глубине таинственной чащи леса, аромат множества цветов и холодное дыхание ручейка. К утру мир становился все бледнее, и по мере того как светало, розовые облака наполняли небо, и земля сверкала розово-красными искрами и бликами пламени. Восток превратился в розовый сад, красные цветы живого света сияли над горой, и когда солнечные лучи осветили землю, в глубине леса послышалась птичья трель. Затем торжествующий восторг песни освобождения. In exitu[153], сменился мелодией неутомимо радостного вторения хоров, парящих, предсказывающих пришествие торжества, поющих о вечном.
Песня взмывала ввысь, и вдруг перед Амброзом подпись стены и башни огромной церкви, скрытой высоким хол-м. Она была далеко и в то же время настолько близко, что мальчик видел изысканные и прекрасные скульптурные барельефы на ее камнях. Огромная западная дверь была чудесна: все цветы, лепестки, стебли и папоротники были собраны в узоре капители, а на круглой арке над лепниной рельефно упали все чудовища, когда-либо созданные Богом. Амброз увидел высокое окно, лабиринт лепного узора, вздымаются стрелы ровных стен, изумительные колонны, стоящие наподобие ангелов вокруг святого дома, башни которого напоминали чащу ровных, прямых деревьев. А высоко над раскрытым сводом крыши поднимался золотой от солнечного света шпиль. Колокола звонили к празднику; Амброз слышал, как где-то внутри, за высокими стенами, все громче и громче нарастал звук органа:
О pius о bonus о placidus sonus hymnus eorum[154]
Окруженный священниками в белых одеждах, мальчик не знал, как он оказался в этом великом шествии, как стал участником этой бесконечной литании. Он не представлял, через какие неведомые земли прошли эти святые и их величественный орден, знамена которого сверкали высоко в небе. Но казалось, что мир был наполнен чистым спокойным воздухом и коронован золотом солнечного света.
Участники шествия несли огромные восковые свечи, красиво и необычно расписанные золотым и алым орнаментом. Тонкое пламя этих свечей сияло в солнечном свете, поднимая и опуская в сверкающие серебряные курильницы бледное облако. Священники время от времени задерживались у придорожных святынь, вознося благодарность, после чего вновь продолжали шествие, поднимаясь к своей неизведанной цели среди далеких голубоватых гор, что возвышались над равниной. Перед Амброзом проплывали лица и образы неземной красоты: глаза одних светились бессмертным сиянием небес; золотой ореол волос сверкал над головами других: третьи шествовали в подпоясанных белых одеждах, прикрытых покрывалами; четвертые вообще походили на неяркие огни.
Великолепная белая процессия исчезла из виду, и Амброз снова остался один. Он посмотрел на таинственную тропинку, которая то выныривала, то исчезала в глубине леса. Этим скрытым путем он прошел мимо укромных водоемов, могучих зеленых дубов, родников и ручьев, мимо покрытых мхом кипящих источников; тропинка то взбиралась на холмы, то спускалась вниз, но он продолжал продвигаться вперед, уходя, как ему казалось, все дальше и дальше от людей. Теперь сквозь зеленые ветви Амброз видел сияющую гладь моря, страну святых старцев; видел их церкви и даже слышал еле уловимый звон святых колоколов. Когда же, наконец, он пересек Старую дорогу, прошел Землю молнии и Родник Рыбака[155], перед ним, между лесом и горой, возникла маленькая старинная часовня; Амброз различил звон святого колокола, звучащий так чисто и нежно, словно он услышал пение ангелов. Внутри было темно и тихо. Мальчик присмотрелся и с трудом разглядел, что часовня разделена на две части занавесом, который поднимался к куполу крыши. На ткани красовались сверкающие образы, будто занавес был расписан золотыми фигурами, излучающими серебристый блеск, а внутри фигур светилось яркое полуденное солнце. И плоть мальчика затрепетала, ибо все вокруг источало благоухание Рая, и слышался звон священного колокола, переплетающийся с голосами хора, и эта песнь воспевала волшебных птиц Рианнон[156], возглашая:
"Хвала Победи тело смерти —
Источнику вечной жизни".
Девять раз прозвучала эта фраза, а затем все наполнись ослепительным светом. Открылась дверь, и из нее выел старик в сияющих белых одеждах и золотой короне, ред ним шел юноша, звонящий в колокольчик, а по обе стороны от старца шествовали молодые люди с факелами; старик нес в руках Таинство Таинств, скрытое покрывалом, "писанным всеми цветами сразу, так что на него невозможно было смотреть; он прошел мимо занавеса, и небесный свет струился из того, что он нес. Затем старец вошел в дверь на другой стороне часовни, и святые предметы скрылись из виду.
Вдруг Амброз услышал из-за двери величественный голос, говоривший:
"Горе и великая печаль уготованы ему, ибо, недостойный, приобщился к Страшной Тайне и Тайной Славе, что скрыта от святых ангелов".
Глава II
"Поэзия — единственный способ сказать то, что заслуживает быть сказанным". Позднее эту аксиому друзья Мейрика должны были выслушивать почти непрерывно. Амброз не прекращал утверждать, что понимает слово "поэзия" в самом широком значении, включающем в себя всю мистическую и символическую прозу, всю живопись и скульптуру, достойные носить звание искусства, всю великую архитектуру и всю истинную музыку. Он имел в виду, что мистерия может быть выражена только через символы; но, к сожалению, Мейрик не всегда ясно выражал свои мысли и потому иногда наносил оскорбления — например, ученому джентльмену, который, попав в его комнату, вылетел оттуда очень быстро, громко и саркастически интересуясь, не хотел ли "ваш ученый друг" перевести биологию в метрическую систему мер или измерить Евклидовой геометрией органные фуги Баха.
Однако Великая Аксиома (как называл ее Мейрик) была оправданием его тезисов в защиту того, о чем мы говорили в предыдущей части.
"Конечно, — сказал бы он, — символизм недостаточен, это дефект любой речи. Нехватка выразительности — всего лишь незначительный эпизод в великой трагедии человечества. Только осел думает, что преуспевает в провозглашении сути своих совершенных мыслей без какого-либо избытка или недостатка".
"И опять же, — мог бы продолжить он, — символизм вводит в заблуждение огромное количество людей; но что делать? Я уверен, многие хорошие люди считают Тернера[157] сумасшедшим, а Диккенса — утомительным. И если великие однажды исчезнут, какую надежду можно возлагать на простых смертных? Не все способны быть популярными новеллистами".
Конечно, эти вопросы появились много лет спустя после события, которое в них упоминается; они были продуманной интерпретацией всех прекрасных и неописуемых впечатлений ребенка, и многих "слов" (или символов), использованных в них, пятнадцатилетний юноша просто не знал.
"Тем не менее, — утверждал он, — это лучшие слова, которые я сумел подобрать".
Как уже говорилось, Старая усадьба была большой и вместительной; она легко могла бы дать приют полудюжине мальчиков, если бы Высокий служитель надумал похлопотать за них. Присутствие в доме Хорбери считалось честью, и для доступа в него требовались личные причины. Пелли, например, был сыном старого друга Хорбери: Бейтс — дальним родственником; а отец Роусона директорствовал в маленькой начальной школе на севере, и кто-то из родственников Хорбери некогда поддерживал с ним тесные отношения. Старая усадьба представляла собой большой красивый дом в каролингском стиле[158]. Об этом свидетельствовали мрачный фасад из красного кирпича, потемневшего от времени, ряды высоких узких окон, увитых зеленью, и крутая красночерепичная крыша. Над главным входом возвышалась богатая и изящная односкатная крыша, украшенная деревянной резьбой; в центре было множество прекрасных панно и несколько каминных досок, сохранившихся, казалось, со времен Адама.
Хорбери заметил удобства усадьбы и много лет назад по дешевке выкупил безусловное право собственности на нее. Школа быстро расширялась уже тогда, и он понимал, что сникнет необходимость в увеличении количества зданий, ли бы Хорбери решил оставить Люптон, он легко сдал бы старую усадьбу внаем, а мог бы даже выставить ее на аукционе" так как рента покрыла бы до пятидесяти процентов его вложений. Большинство комнат были значительно больше, требовали нужды мальчиков, перегородки обошлись бы дешево, и девять или десять вполне пригодных комнат могли послужить для занятий двадцати или даже двадцати пяти мальчиков.
Природа наделила Высокого служителя осторожностью и предусмотрительностью во всех делах, как больших, так и маленьких; но справедливости ради отметим, что в своем отъезде в Уорхэм из Люптона он руководствовался скорее предчувствиями, нежели разумом. К тому времени его племянник, Чарлз Хорбери, занимающий высокий пост в правительстве, получал приличный доход от самого разумного вложения дяди, ибо в доме легко размещались двадцать пять мальчиков. Репин, унаследовавший пост от Хорбери, оказался весьма изобретательным и придумал прекрасный план, как избежать расходов от установления новых окон в нескольких выгороженных учебных комнатах. После долгих размышлений он соорудил деревянные перегородки, подняв потолок на четыре дюйма, и таким образом, можно было заниматься перед окном при естественном рассеянном свете, который, как объяснял Рейни родителям, намного полезнее для детских глаз, чем прямой.
В те далекие времена, когда Амброз Мейрик еще только готовился стать взрослым мужчиной, четверо мальчиков "с воодушевлением работали" в большом доме. Их комнаты размещались в отдаленных углах, на расстоянии друг от друга и, как казалось, подальше от всех остальных. Комната Мейрика была самой изолированной из всех и в то же время самой удобной зимой, так как находилась над кухней, в левой стороне усадьбы. Эта часть дома, скрытая от дороги ветвями огромного кедра, была построена позже из серого камня георгианской эпохи[159], и именно здесь, в одной из меблированных комнат для трех или четырех человек, расположенных над кухней и служебными помещениями, жил Амброз. Он хотел бы, чтобы его дни были такими же спокойными и уединенными, как и ночи. Он любил смотреть па тени, появляющиеся у кровати летним утром; ветви кедра были густыми, а плющу позволялось виться вокруг стекол окна, поэтому свет, проникавший в комнату сквозь темные ветви и завитки плюща, был тусклым и зеленоватым.
К тому же после десяти вечера мальчик каждую ночь мог чувствовать себя в безопасности в этом своем убежище. Снова и снова мистер Хорбери наносил неожиданные ночные визиты, чтобы проверить, выключен ли свет: но, к счастью, полы и лестницы в Старой усадьбе рассохлись и оповещали о приближении непрошеного гостя скрипом, похожим на пистолетные выстрелы, даже если очень стараться идти бесшумно. Таким образом, Амброз всегда слышал приближение учителя и успевал погасить и спрятать под кровать свечу в маленьком подсвечнике (который надежно прикрывал пламя со всех сторон, дабы ни один лучик света не мог просочиться из-под двери). Обслюнявленный палец тушил огонь так, чтобы нельзя было почувствовать запах погашенного огарка: во избежание появления подозрительных жирных пятен на постельном белье доставать свечу из-под кровати нужно было очень аккуратно. Но все получалось отлично, так что достаточно редкие визиты старого Хорбери не представляли для Амброза опасности.
Итак, той ночью, когда злоба из-за побоев все еще терзала тело, хотя и перестала уже беспокоить разум, Амброз, вместо того, чтобы согласно правилам школы отправиться в постель, уселся на сундук, пытаясь найти разгадку в неразберихе хаотичных фантазий и собственного тщеславия. Он снял одежду и накрыл свое ноющее тело покрывалом, а через некоторое время, задув казенную парафиновую лампу, зажег свечу, уже готовый к первому предупреждающему скрипу ступенек и к тому, чтобы, погасив свет, нырнуть в постель.
Поначалу мысли Амброза были слишком разрозненными. Он сожалел, что ему пришлось обидеть бессовестного хвастуна Пелли и подвергнуть опасности зрение Роусона, ударив беднягу тяжелым томом словаря! Это было странно, ибо за последние пару лет Амброз претерпел слишком много обид от этих двух юных апачей. Пелли не отличался злобностью: он был глуп и невероятно силен, а великая Система частных забытых школ, благодаря культу достойных поступков, и решила его в одного из отменных среднестатистических болванов, которых Мейрик позже постоянно высмеивал. Пелли, всей вероятности (его судьба не была прослежена), пошел в армию и устраивал своим более разумным, но кротким поденным адскую жизнь. Где-нибудь в Индии он удачно "притаился" в ожидании горных племен, вооруженных мушкетами семнадцатого столетия и несколькими варварскими ножами; возможно, он был одним из очевидцев той "Встречи держав", что так ярко описана мистером Киплингом. Получив звание капитана, Пелли сражался с отменной храбростью в Южной Африке, завоевав Крест Виктории за спасение раненого рядового с риском для собственной жизни, но в конце концов завел свои войска в ловушку, расставленную старым фермером, которую даже кролик со средним интеллектом унюхал бы заранее и обошел стороной.
Что касается Роусона, то Амброз, сожалевший, что так грубо с ним обошелся, ничего хорошего сказать о нем не мог, хотя и хвалил его за тактичность. Роусон стал капелланом при епископе Дочестера, на дочери которого, Эмели, и женился.
Но в те далекие времена, по мнению Мейрика, особой разницы между Пелли и Роусоном не было. Оба демонстрировали дьявольскую изобретательность в искусстве надоедливости, из зависти глумясь над другими и высмеивая друг друга, и Амброз не сомневался, что скоро они перейдут к более активным действиям. Он все выносил смиренно, доброжелательно реагируя на беспрерывный поток замечаний, которые предназначались для того, чтобы ранить его чувства, выставить его дураком перед любыми мальчиками, что оказывались в тот момент рядом. Он только спокойно вопрошал: "Зачем ты это делаешь, Пелли?", когда тот отвешивал ему подзатыльник. "Потому что я ненавижу подлиз и трусов", — отвечал Пелли, но Амброз оставлял его слова без внимания. Роусон требовал меньших жертв, когда дело касалось физических пыток, однако именно он выдумал самую обидную историю про Мейрика, распространил ее по школе, и все в нее поверили. Словом, эти двое делали все возможное, чтобы довести его до полной депрессии, а он теперь сожалеет, что дал кулаком в нос одному и ударил словарем другого!
Дело в том, что его предки вовсе не были трусами; более того, сомнительно, что чувство страха вообще ему было свойственно. Тогда он действительно жил в страхе, но не перед оскорблением, а перед злобой, рождающей оскорбление или удар. Страх перед разъяренным быком далек от того ужаса, который испытают многие люди при виде гадюки: эта мысль делала жизнь Мейрика обременительной для него самого. И вновь ои удивлялся, ловя себя на том, что испытывает глубокую ненависть к самому обыкновенному стремлению победить соперника, сбить его с йог. Амброз был хитрее Роусона и Пелли; он мог бы снова и снова с сокрушительным эффектом давать сдачу, но сдерживался, ибо такие победы были ему отвратительны. Это необычное настроение управляло его действиями и чувствами; он не любил "первенство" в принципе, не любил выигрывать в играх не из-за приобретенного достоинства, а в силу врожденного характера. Но в то же время автор "Беса извращений" был так глубоко пронизан сокровенными секретами человеческой сущности, что англосаксонская критика осуждала его как совершенно "бесчеловечного" писателя.
Провокации только укрепляли его в этой жизненной позиции; чем больше ему причиняли боль, тем дальше он уходил от мысли о мщении. Надо сказать, что сентиментальность была присуща ему и в более зрелые годы. Амброз скорее отправился бы из своего убежища на поиски свежего воздуха на крыше омнибуса и мирно вернулся бы обратно, нежели боролся бы с неистовой толпой. И дело даже не в том, что он не любил физического противоборства. Он вполне откровенно говорил, что люди, которые "пихаются", напоминают ему голодных поросят, дерущихся за самую большую долю помоев; казалось, он считал, что такая форма поведения не подходит для людей именно потому, что она естественна для поросят, а в раннем детстве Амброз старался как можно дольше сохранить эти свои мысли в тайне; он прикидывался трусом и малодушным; без каких-либо осознанных религиозных мотивов подчинялся внутренним порывам, стремился играть роль примитивного христианина в великой частной закрытой школе для мальчиков! Amа nesciri et pro nihilo aestimari[160]. Это изречение было неотъемлемой частью его внутреннего мира, хотя он никогда и не слышал его. Возможно, даже если бы Амброз объездил в поисках весь мир, ему так и не удалось бы найти более неподходящего поля для упражнений, чем эта семинария, где широкие либеральные принципы христианства преподавались в форме, которая устроила бы прессу, общественность и родителей.
Он сидел в своей комнате, переживая, что нарушил собственные принципы. Так поступать было нельзя; но его учеба еще не закончилась, и ему не хотелось скатиться до уровня несчастного маленького Фиппса, который в конце концов стал больше похож на хныкающего чесоточного котенка, чем на человеческое существо. Он не мог позволить кому-либо делать из него идиота, поэтому вынужден был нарушить свои принципы — но только внешне, а не внутренне! Мейрик не сомневался в этом и чувствовал себя защищенным, уверенный, что в его сердце нет злости.
Амброзу, конечно, не доставляло удовольствия терпеть присутствие Пелли и Роусона; но негодование некоторых людей по поводу неприятного соседства с кошкой, мышью или тараканом не может повлиять на само существование объекта их неприязни. Его удары по лицу Пелли и голове Роусона, его замечания (собранные благодаря тщательному наблюдению за берегами каналов Люптона и Бирмингема) — все это было не началом военных действий, а гарантией мира и тишины в будущем.
Амброзу не грозила смерть от этой вечной Системы частных закрытых школ; он не уподобится Фиппсу, поведение которого было сродни меланхолии; не сломается из-за отношения к нему остальных, что также было бы признаком меланхолии, ибо легче излечиться от нервного расстройства, чем сносить удары Системы, калечащие психику и душу. Мейрику глубоко претили ужасные предрассудки школы, ее наигранный энтузиазм, ее "атмосфера", притворство, лояльное сотрудничество — "учителя и ученики вместе работают на благо школы", — все ее нелепые идолопоклоннические традиции и абсурдные церемонии, совместные затеи молодых глупцов и старых мошенников. Но свою стойкость он временно должен хранить в тайне; "драк" будет не больше, чем требуется.
И Амброз твердо решил, что сделает все возможное: станет работать как тигр и осилит всех доступных греков, римлян и французов, помимо тех, что с идиотским педантизмом преподаются в школе. Школьные задания он будет выполнять ровно настолько, чтобы избежать неприятностей; по ночам в своей комнате Мейрик действительно учил языки, которые недостаточно глубоко проходили в классе, где половину времени тратили на переписывание поддельной прозы Цицерона, из-за чего Цицерон имел бледный вид, а его стихи казались ужасно дурными — Вергилия и то начало бы тошнить. Затем был французский, преподававшийся в основном без напыщенных архаизмов восемнадцатого столетия: со списками неправильных глаголов, выученных наизусть, с чепухой о причастии прошедшего времени и кучей других прогнивших формул и правил, придающих языку вид утомительной головоломки, которая была раскопана в доисторическом захоронении. Нет, не такой французский был нужен Мейрику; но он мог писать неправильные глаголы днем и учить язык ночью.
Амброз спрашивал себя, неужели несчастным французским мальчикам приходится учить английский язык по "Бродяге"[161], "Проповедям" Блеера[162]. "Ночным думам" Янга[163]. Он имел некоторое представление об английской литературе, которую в частной закрытой школе не очень-то стремились изучать, к и жил он с этой своей внутренней борьбой: мало кто был столь мудр в пятнадцать лет. Возможно, правда, что французский среднего английского школьника способен вызвать только жалость и ужас; возможно, никто, кроме декана и учителя не имел понятия о формулах и божественных доктринах (таких, как Желанная тайна и Учение Дама) двух великих литератур. Без сомнения, было бы неплохо рассказать немного об истории и литературе родной страны воспитанникам частной закрытой школы; несметное количество комичной чепухи можно обнаружить по взглядах Мейрика и в его познаниях о великой науке теологии — скажем, о Floreal![164]
Мысли мальчика вернулись от размышлений о мудрости древних и преподавателях к более ощутимым предметам. Раны от пристрастных побоев все еще давали о себе знать, вызывая саднящую боль, ибо умение и успех руководили рукой мистера Хорбери, так что он был неспособен не бить дважды по одному и тому же месту. Но в побагровевшей и опухшей левой руке мальчика таилось и своего рода благо: ярость ушла, и Амброз, чувствуя боль и страдание, испытывал нечто вроде восторга; он смотрел на безобразные отметины злобного юмора Высокого служителя, словно они были покровом величия. Мейрик ничего не знал об отвратительном хересе и о встрече Хорбери с директором; но он прекрасно помнил, что, когда Пелли опаздывал, ему просто задавали кучу вопросов, а потому считал себя мучеником за интерес к знаменитым Нормандским аркам, привитый ему еще его дорогим отцом, покойным энтузиастом, который с неугасающей страстью любил готическую архитектуру и все остальные прекрасные "непрактичные" вещи. Как только Амброз научился ходить, он начал свои паломничества к скрытым таинственным святыням; отец водил его по диким землям к местам, известным разве что только ему самому, и там, среди руин, возле спокойных холмов, рассказывал о давно минувшем времени, времени "святых старцев".
Глава III
Мейрик убедил себя, что избиение было прекрасной наукой для него, как и глубокие рубцы на теле в виде красных и пурпурных полос. Он помнил часто повторяемое отцовское восклицание "cythrawl Sais!"[165], но понимал, что эти слова проклинали вовсе не англичан как таковых, а англосаксонство — ту силу убеждения, что строит Манчестер, "делает бизнес", создает всеобщий раскол, представительный парламент, фальсификации, окраины и Систему частных закрытых школ. Отец учил его, что это — мировоззрение "хозяина мира", мировоззрение, удобное для обретения комфорта, успеха, приличного счета в банке, всеобщего поклонения, разумной и реальной победы и успеха; и он наказал своему маленькому мальчику, который все впитывал, но почти ничего не понимал, отстраниться от искушений, ненавидеть их и сражаться с ними, как если бы он сражался с самим злом; а в завершение Николас Мейрик добавил: "Это единственное зло, с которым ты должен встретиться".
Маленький Амброз мало что понимал тогда, и если бы его спросили — даже лет в пятнадцать, — что все это значит, он, возможно, ответил бы, что то был великий спор между нормандскими святынями и мистером Хорбери, Армагеддон[166] Шелдонского аббатства и Футболиста. В действительности, Николас Мейрик тоже согрешил в плане объективности, ибо забыл все, что можно было бы сказать в защиту другой стороны. Забыл, что англосаксонство (сохранившееся в Соединенных Штатах) действует по тем же законам; что гражданский мятеж (за исключением, конечно, лейбористского движения) имеет скорее кельтскую основу, нежели саксонский порок; что казнь через сожжение заживо неизвестна англосаксам, разве в случаях, когда провокация доходит до крайности; что англичане заменили "связанными договором наемными рабочими" прежние ужасы рабства; что английское правосудие равно карает виновных — богатых и бедных; что люди больше травятся быстродействующими ядами, хотя и сейчас иногда продают нездоровую пищу. Старый Мейрик однажды сказал своему ректору, что считает бордель святым домом по сравнению с современным заводом, а когда он начинал рассказывать интересные истории о трех милосердных куртинах острова Британии, ректор и вовсе сбегал в ужасе — он был из Сайденхема. Все это послужило неплохой основой Люптона.
Восхитительный восторг, блаженный экстаз нарастал в сердце мальчика по мере того, как он убеждал себя, что оказался свидетелем, хоть и единственным, старой веры, веры загадочных, прекрасных и исчезающих тайн, веры столь отличной от веры футболиста, задиры и лицемера, от "мысли школы, как вдохновляющего мотива в жизни" — о чем говорилось в последней воскресной проповеди. Мейрик обнажил свои руки, поцеловал пурпурные шрамы и помолился, чтобы всегда было так, чтобы и телом, и духом, и умом он был избит, оскорблен и осмеян за священные вещи, чтобы всегда он был на стороне презренного и несчастного, чтобы его жизнь всегда была в тени — в тени тайны.
Он подумает о месте, в котором находился, об отвратительной школе, ужасном городе среди мрачных равнин тускло-ко-ричневого пейзажа центральных графств, уходящих в темный, безнадежный горизонт; и мысли его возвратились к волшебным холмам, лесам и долинам Запада. Он вспомнил, как давным-давно отец разбудил его очень рано в тишине и волшебстве летнего утра. Весь мир был безмолвен и спокоен, таинственный запах ночи поднимался от земли, а когда они пересекли лужайку, тишину нарушила чарующая песнь птицы, вспорхнувшей с колючего дерева. Густой белый туман окутывал небо, и только они знали, что поднимется солнце и сорвет этот покров, серебря леса, луга и воду в веселом ручье.
Они пересекли дорогу и ручей на краю поля по старому пешеходному мостику, шаткому от ветхости, и начали подниматься по крутому склону горы, которую каждый мог видеть из своих окон: преодолев хребет горы, мальчик попал в неведомый мир: перед ним раскинулись глубокие тихие долины, омываемые стекающими с гор потоками; бесшумные леса, наполненные волшебным утренним воздухом; извилистые тропинки, убегавшие куда-то в даль. Отец вел его вперед до тех пор, пока они не достигли вершины (путь, не превышающий двух миль, показался мальчику путешествием в другой мир), а там, на горе, обратил внимание Амброза на несколько разрозненных следов на земле и прошептал:
"Берег морском — обитель Илтид[167],
Девятой волною алтарь омыт,
В смятенном гробнице земли — Моргана[168].
Град Легионов[169] — обитель Деви[170],
Ему алтарей повинуются девять.
Хвалебную песнь ему хор поет.
Гвент сокровенный — обитель Сиби[171],
Девять холмов его охраняют,
Девять песен о нем вспоминают[172]".
"Видишь, — указал он вперед. — там девять холмов". И отец рассказал мальчику историю святого Сиби и его священного колокола: по легенде, плавал Сиби через море от Сиона и входил в Северн, в Аск, в Соар и Кантвр; однажды, прогуливаясь вдоль маленького ручья, который почти окружал холм в своем изгибе, Сиби увидел колокол, "сделанный из металла так умело, как не дано сделать ни одному смертному", колокол плыл по ручью под ольхами, возглашая:
"Свято, свято, свято,
Я приплыл от Сиона[173]
К святому Сиби!"
"И так сладко звучал колокол, — продолжал Николас Мейрик, — что всем казалось, будто им была дарована радость ангелов, ym Mharadwys, и шло это не от земного, а от прославленного небесного Сиона".
Амброз стоял в разреженном прозрачном воздухе утра, на ровной земле, похожей на то место, где святой однажды приносил свою жертву, где были произнесены оживляющие слова после Старой мессы британцев, и, затаив дыхание, слушал отца:
"Затем пришла Желтая Ведьма Чумы и забрала тела Кимру[174], за ней — Красная Ведьма Рима, что увела с праведного пути их души; последней появилась Черная Ведьма Женевы, отправляющая тела и души в ад. С тех пор перестали почитать святых".
По дороге домой Амброзу все время слышался звон откуда-то из самой глубины Сиона, громко возвещающий: "Свято. Свято. Свято!" И звук этот, казалось, отражался от застывшей воды маленького ручья, что струился, кружась, мимо блестящих камней, огибая одинокие холмы.
Они совершили странное паломничество по любимой земле, уходя все дальше и дальше от родного дома. Они посетили самое сердце лесных чащоб, где таились глубокие родинки, рядом с которыми были разбросаны разрушенные камни — возможно, останки уединенного жилища. "Ffynnon Ilar Bysgootwr — родник Святого Илара-Рыбака", — объяснял Николас Мейрик. И заводил рассказ об Иларе, о котором никто не знал, откуда он родом и кем были его родители. Маленьким ребенком его нашел на камне в реке в Арморике и спас Король Алан[175]. И с тех пор подле камня в реке, где лежал ребенок, каждый день плавала серебристая рыба, этой рыбой и питался Илар. Вот так он и появился в окружении святых в Британии, и бродил по всей земле.
"В конце концов святой Илар пришел в этот лес, носящий ныне имя св. Гилария, ибо люди забыли про Илара. И был он утомлен своим странствием, да и день выдался жаркий; поэтому остановился Илар у родника и начат пить. И на огромном камне увидел он сияющую рыбу и остался там, и построил алтарь и церковь из ивовых сучьев, и принес жертву не только для живых и мертвых, но и для всех диких тварей лесов и рек.
Когда святой Илар звонил в свой священный колокол и начинал возносить молитвы, приходили не только принц и его слуги, но и все живые обитатели леса. Там, под ветвями деревьев, можно было увидеть зайца, что так легко убегает от людей, — падая ниц, он горько стенал о страстях Сына Девы Марии. Словно раскаявшиеся грешники, печальной песне зайца вторили горностай и горный барс; а волки и ягнята вместе поклонялись Илару; и люди видели слезы, текущие из глаз ядовитых змей, когда Илар говорил тихим голосом ’Господи, помилуй’ — змея, что со злобной скорбью пришла в этот мир, обрела знание. И когда, во время священных обрядов, потребовалось объединиться в многоголосый хор и пропеть многократное Аллилуйя, святой Илар задался вопросом, как это сделать, ибо никто в лесу не владел искусством пения. Но свершилось великое чудо, со всех веток леса, с каждого куста и с каждого дерева раздалось Аллилуйя, долго лившееся в волшебном звучании, и никогда епископ Рима не слышал в своей церкви такого сладостного пения, какое ему довелось услышать в лесу. Ибо и соловей, и дрозд, и черный дрозд, и славка-черноголовка, и все их собратья, в едином порыве возносили хвалу Богу, соединяя различные ноты и голоса в мелодию восхитительной сладости, — такова была месса Рыболова.
Но и это не все: однажды, когда святой молился у родника, он вдруг увидел, что вокруг его головы кружит пчела — она тихо жужжала, но не пыталась ужалить его. Пчелка полетела впереди Илара и привела его к старому изогнутому дереву неподалеку; тут же появился целый рой пчел, оставляющий позади себя огромные запасы воска. Это была их жертва Богу, из воска святой Илар изготовил свечи высокого качества, которые зажигали во время жертвоприношения; и с того дня чела — святая, поскольку ее воск помогает творить свет, озаряющий Священные Дары".
Вот часть той истории, что рассказал Амброзу отец: и они снова отправились в путь, чтобы увидеть Святой Родник, мальчик смотрел на развалины камней, позволяющие отлить этот источник от обыкновенных родников; а в глубине темного леса, сквозь сплетенные сучья, в летнем полдне он услышал необыкновенный звук колокола святого, увидел лесных существ, спешащих по земле, чтобы присутствовать во время жертвоприношения. Горностай бил себя по маленькой грудке за свои грехи; крупные слезы текли по доброй мордочке зайца; гадюка рыдала в пыли; а хор птиц возносил к небу песню: "Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя!"
Дважды они далеко отошли от Верна, идя на восток до тех пор, пока не достигли Великой горы, как называли ее люди. Свернув с большой дороги, они спустились на узкую извилистую тропинку, которая привела их к подножию горы, где у одинокой таверны стояли лошадь и багаж. Они с трудом начали карабкаться вверх, пересекая блестящие веселые потоки, стремительно мчавшие холодную воду от известняковой скалы; они поднимались все выше и выше по влажной земле, где среди тростника рос редкий ятрышник[176], через ореховые рощицы, через поля, и чем выше они поднимались, тем более дикой становилась природа, а с высокого хребта устремлялся вниз сильный ветер. Они повернулись, и вся сверкающая земля предстала перед ними; белые лошади блестели в солнечном свете, а вдалеке виднелось желтое море с двумя островами.
Николас Мейрик указал на заросли деревьев на вершине далекого холма и объяснил сыну, что за ними лежит Верн; и они начали карабкаться еще выше до тех пор, пока не закончились поля и растительность — дальше была только пустынная горная земля. И на этой границе стоял старый фермерский дом с крепкими стенами, примыкавшими к скале, укрытый от ветра рядом сплетенных буков. Стены дома сверкали белизной, у крыльца рос кустарник, покрытый яркими желтыми цветами. Мистер Мейрик постучал в дубовую дверь, покрашенную в черный цвет и обитую тяжелыми гвоздями.
Дверь открыл старик в фермерской одежде, и Амброз заметил, что отец обращается к нему с таким почтением в голосе, будто разговаривает с какой-нибудь высокой особой.
Они сели в длинной комнате, тускло освещенной через толстое зеленоватое оконное стекло, а некоторое время спустя старый фермер поставил перед ними большой кувшин пива.
Путники утолили жажду, и Николас Мейрик спросил:
— Вы сами варите эль, мистер Крадок?
— Да, я последний. Все прочие, как дрянной пивовар, посылают лучше, чем делают cwrw dda[177].
— Сейчас весь мир предпочитает хорошему напитку разную мерзость.
— Вы правы, сэр. Старые времена и древние рецепты наших отцов ушли навсегда. Неделю или две назад в часовне появились пьяные проповедники, говорившие, как мне рассказывали, что они все будут низвергнуты в ад, если не отдадут должного имбирному пиву. А я слышал, как один из них заявлял, что человек может делать свою ежедневную работу хорошо только с брюхом, раздутым от доброго пива. Вы когда-либо слышали большего лжеца, чем этот?
Старик был взбешен словами нечестивцев; он шипел сквозь зубы и говорил очень эмоционально. Мистер Мейрик кивнул головой, одобряя его негодование.
— Мы имеем то, что заслужили, — сказал он. — Лживые проповедники, плохая выпивка, целые дни, наполненные болтовней глупцов, — даже в горах. Как вы думаете, в Лондоне также?
В длинной темной комнате наступила тишина. Они могли слышать свист ветра в буковых деревьях, и Амброз видел, как ветви колыхались взад-вперед, и думал, на что должны быть кожи зимние ночи, здесь, высоко на Великой горе, когда с оря обрушиваются штормы, пришедшие с дикого севера, где струи дождя подобны натиску армии, а воющие ветры кружат вокруг стен.
— Мы можем увидеть Это? — неожиданно спросил мистер Мейрик.
— Я предполагал, с какой целью вы пришли. Теперь оставь слишком мало того, что живет в памяти.
Крадок вышел и вернулся со связкой ключей. Он открыл дверь в комнате и предостерег "молодого господина", чтобы был осторожнее на лестнице. Амброз и в самом деле едва различить дорогу. Отец провел его вниз по короткому чету лестницы с неровными каменными ступеньками в комнату, которая поначалу показалась мальчику очень темной. Свет еле пробивался из единственного узкого окна под окном, а снаружи виднелись тяжелые железные решетки.
Крадок зажег две высокие свечи желтого воска, стоявшие в медных подсвечниках на столе; и когда пламя стало ярче. Амброз увидел, как фермер открывает нечто вроде стенного шкафа. Дверца была из отличных досок прочного дуба, в три или четыре дюйма толщиной, что Амброз заметил, когда она открывалась; откуда-то из глубоко из темноты Крадок достал железный ящик и осторожно поставил его на пол, а Николас Мейрик помогал ему. Они были сильными мужчинами, но и их пошатывало под весом ящика, железные стенки которого казались такими же толстыми, как и дверца шкафа: тяжелый древний замок со скрипучим скрежетом уступил ключу. Внутри находился еще один ящик из красноватого металла с темными вековыми прогалинами; и из него фермер благоговейно достал спрятанную под вуалью блестящую чашу и поставил ее на стол между двумя свечами.
Это был кубок на короткой ножке великолепной выделки. Все краски мира смешались в его убранстве, все сокровища, казалось, сияли из него; и сама чаша, и ножка кубка были покрыты эмалью странных и магических цветов, попеременно вспыхивающих и гаснущих; они переливались то красными бликами, то бледным сиянием, вперемешку с синевой далекого неба, зеленью сказочных морей и серебристым светом вечерней звезды.
Но прежде чем Амброз смог рассмотреть чашу получше, он услышал, как старик произнес звучно и распевно на чистом валлийском наречии, а не на ломаном английском:
— Разреши нам пасть и поклониться удивительной и восхитительной работе Всевышнего.
На что отец Амброза отвечал:
— Agyos, Agyos, Agyos[178]. Всевышний Господь Бог могуществен и прославлен во всех своих трудах и прекрасных созданиях. Curiluson, Curiluson, Curiluson[179].
Они преклонили колена — Крадок посредине, перед чащей, а Амброз и его отец по бокам. Священный сосуд светился перед глазами мальчика, пораженного великолепием и красотой чаши. Она восхищала изысканным переплетением золотых, серебряных, медных и бронзовых узоров, которые, казалось, приковывали к себе взгляд и держали его в плену, поражая яркостью, необычностью резьбы и орнамента; но не только; каждая частичка души и тела приходила в восторг и вбирала в себя тот далекий яркий мир, откуда исходила священная магия чаши. Среди драгоценных камней, украшавших это чудо, был огромный хрусталь, искрящийся чистым светом луны; но краю камня вилась тусклая тоненькая дорожка пыли, но его сердцевина излучала белое сияние; а когда Амброз вгляделся в камень получше, ему показалось, что откуда-то из самого сердца драгоценного хрусталя льется не прерывный поток сверкающих звезд, ослепляющих глаза своим постоянным движением и блеском.
Тело мальчика задрожало от неожиданного неописуемого наслаждения, дыхание стало прерывистым; и восхитительный восторг наполнил все его существо, когда три совершение формы переплелись в золотом сиянии. Внезапно волшебное содержимое сосуда стало звонким лесом из золотых, бронзовых и серебряных деревьев; со всех стороны раздаваясь чистые звуки священного колокола и ликующие песни сказочных птиц; Амброз больше не слышал звучные голоса Крадока и отца, повторяющие хором слова какой-то древней литургии.
Потом перед его глазами возник дикий морской берег, погруженный в темную ночь, с пронзительно завывающим ветром", что пел о вершинах острой скалы, вторя голосам, звуча-из глубин штормового моря. Белая четырнадцатидневная на мгновение появилась в просвете между двумя огромными темными облаками и осветила своим лучом пустынный берег расщелины, уходящие в горы, потрясающие зубчатые вершины которых почти касались небесного свода, а подножия омывались потоками шипящей пены морских волн.
На самой высокой из величественных вершин Амброз различил стены и шпили, башни и бойницы, и казалось, что они доставали до звезд; а в центре этого невероятного замка вздымались в высь своды большой церкви, и окна ее сверкали таким ярким и восхитительным светом, будто были сделаны из брильянтов. И Амброз услышал голоса, воспевающие славу Телу Христову, или звучание золотых труб с непрекращающимся пением хора ангелов.
И понял он, что это была обитель бессмертного хора, Корарбенник[180], в чью тайну едва ли мог проникнуть смертный. Но в своем видении, когда появились тени святыни, он лежал не дыша на полу перед сверкающей стеной святилища; и ему показалось в тот момент, что он видит перед собой невыносимый свет Тайны Тайн, покрытой вуалью, и образы мученичества и воскресения.
На мгновение сон прервался, и Амброз услышал, как его отец тихо поет:
— Gogoniant у Tad ас у Маb ас yr Yspryd Glan[181].
А старик отвечал:
— Agya Trias eleeson уmas[182].
И снова душа мальчика погрузилась в яркие глубины кристалла, и он видел корабли святых, плывущих без весел и парусов по волшебному морю в поисках призрачного острова. Целая группа почтенных святых с острова Британии странствовала по волнам; на рассвете и закате, ночью и утром, их озаренные лица ни разу не дрогнули; и Амброз подумал, что наконец они увидели яркие берега в угасающем свете красного солнца, вдыхая аромат таинственных яблоневых садов Аваллона[183] и благоухание Рая.
Когда мальчик наконец вернулся к реальности, он стоял рядом с отцом, а Крадок благоговейно укрывал чашу блестящей вуалью и приговаривал на чистом валлийском языке:
— Оставайся здесь, о, священная и божественная чаша Иисуса. Теперь я не знаю, вернусь ли к тебе когда-нибудь или нет; но, возможно. Господь разрешит мне увидеть тебя в Церкви Первенца, что на небесах, на алтаре жертвоприношения, которое совершается из поколения в поколение.
Амброз поднялся по лестнице и вышел на солнечный свет на склон горы в замешательстве от странных снов, похожих на цветную дымку. Он видел старые белые стены и желтое крыльцо; выше — дикие горные склоны; а ниже — всю прелестную землю Гвента, счастливую в летнем воздухе, все ее леса и поля, ее округлые холмы и покатые склоны, весь ее золотой мир. Холодный источник бил из глубин земли рядом с Амброзом и тонкой струйкой лился из серой скалы, а в поднебесье пел ликующий жаворонок. Горный ветерок был полон счастья жизни; шелест и колыхание лесов, сверкание и мерцание листьев внизу заставляли мальчика думать, что деревья, словно живые существа, восхитительны. А в темной комнате, за множеством замков, за слоем дерева и железа, скрытая золотом сверкающей вуали, лежала, спрятанная от всех, прекрасная и величественная чаша из великолепного стекла — преддверие божественного мира.
Отец объяснил мальчику увиденное. Он рассказал, что Амброзу посчастливилось увидеть Священную Чашу Тейло[184], которую святому велено было получить от Бога в Раю, и что когда Тейло вел мессу, используя тот потир, рядом зримо присутствовал хор ангелов; это была Чаша чудес и тайн, дар предвидений и божественных милостей.
— Но что бы ты ни делал, — сказал Николас Мейрик сыну, — не говори никому о том, что видел сегодня, ибо, если произойдет, тайна будет осмеяна и поругана. Ты знаешь, твои дядя и тетя из Люптона сказали бы, что мы все тут ли с ума? Это потому что они глупцы, но сейчас большинство людей глупцы, да к тому же озлобленные глупцы, ты поймешь это позже, когда вырастешь. А посему всегда помни, что должен скрывать то, что увидел здесь; и если ты не убережешь тайну, тебе придется пожалеть об этом.
Затем Николас Мейрик рассказал сыну, почему к старому Крадоку надо обращаться с уважением, даже с почтением.
Он столь же свят, сколь и кажется, этот старик с маленькой фермой здесь на высокогорном склоне; ты слышал, его английский не лучше, чем язык любого другого фермера и наших краях. Но с Крадоком не может сравниться даже герцог Норфолка[185]. Он из рода святого Тейло: он последний, в прямом поколении, потомственный хранитель Священной Чаши: его род охраняет эту реликвию уже тринадцать столетий. Запомни: сегодня на горе ты видел великие чудеса, которые должен сохранить в секрете.
Бедный Амброз! Впоследствии он не раз страдал, позабыв наказ отца. Вскоре после приезда юного Мейрика в Люптон одни из мальчиков поразил своих друзей рассказом о брильянте из королевских драгоценностей, которые он видел во время рождественских каникул. Все были восхищены, и Амброз, поддавшись порыву, поведал мальчикам о прекрасной Чаше, увиденной им однажды в старом фермерском доме. Скорее всего ему не поверили, ибо слушатели громко смеялись и сопровождали его рассказ ехидными замечаниями. Наставник, пришедший повеселиться над шуткой, выслушав историю о сияющей Чаше, ударил мальчика по голове, назвав его проклятым маленьким лжецом. Этот урок сослужил Амброзу неплохую службу, как и тот, когда один из учителей, осведомленный о случившемся, поздравил его в принятом в школе стиле, перед всем классом, с прекрасным и богатым воображением.
Я вижу в тебе, Мейрик, подающего надежды писателя-романиста, — с издевкой в голосе заметил он, — Бесант[186] и Райс[187] померкнут, когда ты однажды начнешь писать. Я предполагаю, что ты уже разрабатываешь образы? Ты нас не разочаруешь? Мы должны теперь быть осторожными, не правда ли? Как нам вести себя? Кое-кто среди нас делает заметки", — и так далее, и в том же духе.
Но Мейрик сдерживался. Он не сказал своему классному руководителю, что считает его скотиной, дураком и трусом"
однако с тех пор понял, что истину, подобно многим драгоценным вещам, следует скрывать от профанов. Позже достойная месть обрушилась на того глупого учителя. Много лет спустя он обедал в известном лондонском ресторане и в течение всего обеда развлекал леди из свое" компании искусной смесью отвратительной дерзости и вульгарным подшучиванием над одним из официантов, смиренным маленьким итальянцем. Учитель получал огромное удовольствие от своего фривольного обращения: его голос становился все громче и громче, а шутки — все более безжалостными. За это он получил огромную мясную запеканку, шесть перепелов, маленькие луковички и несколько сладких, но горячих соков прямо в физиономию. Официант был неаполитанцем.
Пробил час ночи, а Амброз все сидел в своей комнате в Старой усадьбе, восстанавливая в памяти многие прекрасные воспоминания, мечтая о тайных снах на земле Гвента и о волшебном видении; а его дядя в то же время, несколькими ярдами дальше, в другой комнате дома, был также погружен в мир воображения, представляя новый Люптон, спускающийся Подобно невесте из рая для учителей. Амброз думал о Великой горе, о тайне долин, о святилищах и гробницах святых, о бостон отделке одиноких церквей, скрытых среди холмов и лесов. Ему вспомнился фрагмент старой поэмы, которую он так любил:
Во мраке древности не подведи меня, о память,
По дай забыть восславить землю Гвента, возлюбленную милую мою.
Коль заключат меня в глубокую тюрьму иль в дом презренья,
Я и тогда свободным буду, лишь стоит вспомнить солнца лик над Минидд-Маен[188].
Там жаворонка песню слушал я и с каждым звуком душою возносился в небеса;
Там облака пушистые фрегатами моей души стремились в гавань Всемогущего Творца.
Тот, кто достиг вершины Горы Великой, познал почет. Она сверкает блеском многих вод —
О, сладость, — тень лесных чащоб,
Но не прославлю я сокровище, что там хранится.
Оно пленительно и глубоко сокрыто.
Когда б Тепло вернулся, когда бы возродилось счастье в Кимру,
А Деви и Дифриг служили свою мессу, — тогда б великое то чудо снова стало зримым.
О, труд святом и чудотворным, мое блаженство тогда бы блаженству ангелов не уступало;
Я ощутил сем Дар яснее, чем поцелуи, что даровали уста родные Гвенллиана.
О Гвент, любимая моя земля! О quam dilccta tabernacula!
Здесь реки подобны драгоценным блистающим потокам Рая,
Холмы — горе Сион;
И лучше уж могила в Твин-Барлум[189], чем трон в саксонском замке в Каэр-Ллудде[190].
И вдруг, словно для контраста, Амброз вспомнил первую версию великой школьной песни "Футбол", одной из самых ранних поэм, которые его дядя посвящал восхвалению милой старой школы:
Однажды в книгах, что скучны мне были,
О прежних временах нашел я были:
Игрой в те годы город Люптон жил
Ее история сеть также в главах
(Ведь Люптон был тогда на пике славы,
Любимцем королей и церкви слыл).
О той игре вы все должны узнать:
Давным-давно се "футболом" звать.
Хор:
Берегитесь "ручьев", иль утонете вы.
Берегитесь "канав" — упадете, увы, —
Так играли в футбол когда-то,
Правил свод был ценнее злата.
В травмах правила не виноваты,
Просто так играли когда-то
В городе Люптон играли в футбол.
Размышляя об этих двух песнях, Амброз погасил свет и, как был одетым, провалился в глубокий сон.
Глава IV
Английский школьник на взгляд тех, кто заставил его учиться по специальной программе частных закрытых школ, не отличается особой одаренностью или талантом. А если сказать точнее, его наблюдательные способности, сильно ограниченные системой уничтожения какой-либо мысли и мнения (основанной преимущественно на крикете и футболе), подавлялись совершенно безжалостно; это была одна основных задач Системы — убить, истребить, разрушить уничтожить любую частичку воображения, которой он может обладать. В противном случае перестанут существовать и консервативное, и либеральное управление, палата общин исчезнет, а епископство пойдет по пути Великого бастарда; "неразбериха во всем" (ярчайшая драгоценность британской короне, отнятой баронами у короля Джона[191]) превратится в забытое искусство. Все последствия станут действительно непоправимыми, поэтому знаменитые частные закрытые школы максимально усовершенствовали систему разрушения отравляющего воображения, и было зафиксировано очень мало случаев провалов.
Тем не менее определенные факты даже полным дуракам и безнадежным болванам, не говоря уж о многих разумных мальчиках, помогли увидеть, что с Мейриком "что-то не так", когда он появился в часовне воскресным утром. Новость о проявленной прошлой ночью но отношению к нему жестокости, как словесной, так и физической, еще не успела широко распространиться. Вейте следил за кафедрой, но он был ограничен во времени; а грубые ответы Пелли и Роусона не объясняли синяков под глазами и разбитого носа, и потому не вызывали доверия. Позже, когда эта история все же была раскрыта, и Бейтс, изложив фольклорную сторону происшествия, изобразил Нелли, лежащего в луже крови. Роусона, вопившего от мук неудачи, и Мейрика, отчетливо произносившего в течение четверти часа клятвы — все оригинальные и в то же время ужасные, только тогда школа наконец-то удовлетворила свое любопытство; и не удивительно, что Мейрик с подозрением следил за развитием событий. Дух старины приводит к бесстрашию, а атмосфера восторга и гак была всем понятна. Вероятно, если бы английский школьник мог встретить святого Франциска Ассизского[192], он решил бы, что святой только что получил двести очков в первоклассном крикете.
Амброз путешествовал в странном мире: он проникал в невообразимые места, но с первым проблеском солнца просыпался утром в своей комнате в усадьбе, вновь возвращаясь в реальность: вокруг были стены из камня и кирпича, твердая земля, небо и люди, которые говорили, двигались и казались живыми, — мнимые призраки, странные иллюзии воображения.
В пятнадцать минут восьмого старый Тобт, мастер на все руки, постучал в его дверь, грохоча ботинками о доски. Амо-роз проснулся, сел на кровати и с удивлением огляделся. Что это? Четыре стены, покрытые нелепой бледно-голубой и бледно-коричневой цветастой бумагой, белый потолок, голые доски пола с узкой полосой ковра у постели: он ничего не узнавал. Мальчик ужаснулся, ибо точно знал, что всего этого не существовало, это какая-то причудливая фантазия, возникшая в тот момент в его голове. Даже большой черный деревянный сундук, в котором лежали его книги (в том числе и Паркер, презираемый Хорбери), не помогал Мейрику осознать реальность; комод, белый кувшин для воды с голубой каемкой ему действительно были не знакомы. Это напомнило Амброзу один трюк, который он иногда проделывал: надо тщательно выбрать положение, закрыть глаза и пристально смотреть — и убогий сарай может исчезнуть за очертаниями горы!
Итак, эти стены и вещи — все, во что Амброз пристально вглядывался, — навязывали ему обманчивую истину. Желтый умывальник был прикреплен к сверкающим вратам вечности, цветастые стены вторгались в обитель великих тайн, комод расположился в волшебном саду роз — всюду царила атмосфера необычной шутки, и Амброз громко рассмеялся над собой, поняв, что лишь ему ведомо то, что скажут все: "Это — белый кувшин с голубой каемкой". — ибо он, и только он, видел чудо и славу священной Чаши из сияющего металла, с бесчисленными переплетениями линий, чудесными изображениями и оттенками гор и звезд, зеленого леса и сказочного моря, где в настоящем раю была безопасная пристань для кораблей, направлявшихся к Аваллону.
Мальчик искренне верил, что он открыл земное присутствие и загадку вечной небесной Тайны.
Амброз вновь улыбнулся улыбкой ангела со старой итальянской картины: ну разве не странно и не смешно, что ему следует наслаждаться "активной игрой" в футбол?! Вот уж действительно, чудесная игра притворства: например, запятнанные стены не были реальны, но ему приходилось держать — так, как если бы они существовали на самом деле. Некоторое время спустя Амброз поднимется и пройдет через ритуал пантомимического одевания и умывания, наденет чудесные ботинки и примет участие в различных нелепых церемониях, называемых завтраком, богослужением и обедом, в компа-и призраков, с которыми он будет согласовывать славные обязательства для истинного бытия. И вся эта прелестная фантасмагория будет продолжаться изо дня в день, а он будет хранить свои секрет. Что за чудесное наслаждение — играть в футбол! Мейрику казалось, что твердая земля, дорогая старая школа и сам футбол — все это явлено посланнику, чтобы увеличить его удовольствие; они были тьмой, которая делала видимым свет. На мгновение Амброз проник в самый сокровенный уголок своей души, где таился истинный мир, в который он был посвящен; и, одеваясь, мальчик запел любимую школьную песню "Победи свой страх":
Если судья на помощника бедного злобно орет,
Если удар твой "разбойника" не тормозит, не берет,
Если получишь пятерку и сразу — "препятствия призрак".
Если охотничий нес чуть быстрее тебя всеми признан;
Если ставить подножки не можешь из принципа ты.
Если мяч запустив, ты не в лунку попал, а 15 кусты,
Победи свой страх, ничего не бойся, даже если падаешь в лет,
Упадет и Дик перед самым подъемом, а Тома невысок, но растет,
Победи свой страх,
Чтобы сильным стать, только слабых к стенке припрет,
— Победи свой страх!
Амброз был не в состоянии понять, как Колумб мог так просчитаться. И тем не менее великий мореплаватель потерял свою команду и возвратился один с печальной историей о крушении; с тех пор его считали сумасшедшим и раскаивающимся шарлатаном, который объехал весь мир со своими бредовыми причудами о материке по ту сторону вод Атлантики. О, если бы ему удалось сделать это, если бы ему хватило мудрости, сколь велика была бы его радость! На него бы показывали пальцем, когда он шагал по улице в своем убогом одеянии; мальчишки пели бы песни о нем и о его безумии; великие мира сего встречали бы его презрительным смехом. А он в своем сердце видел бы необъятный далекий мир запада, богатые острова, омываемые бурным прибоем, странные земли и странных людей; и знал бы, что он один владеет этим секретом. Однако Амброз понимал, что его собственная радость еще сильнее, ибо мир, который открыл он, был не далеко за морями, а в нем самом.
В свирепой тишине Пелли пристально смотрел прямо на Мейрика в течение всего завтрака; он был убежден, что к сокрушительному поражению его привела обыкновенная случайность, и обдумывал план образцовой мести. Пелли не заметил в Мейрике ничего странного, да и не мог заметить, даже если бы увидел образы эльфов в глазах Амброза. В противоположность ему, Роусон был полон доброжелательности и дружелюбия; в каждом своем слове, в каждом движении он старался выглядеть "другом" и "старым приятелем". Роусон был далек от интеллигентности и, украдкой посматривая на Мейрика, отмечал в нем нечто совершенно необычное и необъяснимое.
В глазах Амброза горели загадочные огни, отражавшие что-то неведомое; выражение его лица также приобрело какую-то необычную особенность, не поддающуюся пониманию Роусона. Мейрик всегда был довольно уродливым, похожим на собаку мальчиком; его черные волосы и некоторые черты характера придавали ему экзотичный, чуть ли не азиатский облик; поэтому рассказ Роусона о том, что мать Амброза была негритянкой с плохим материальным положением и с равнодушным отношением к морали, считался в школе вполне правдоподобным.
Однако сейчас некрасивость грубых черт Мейрика казалась ужасающей; его лицо сияло, словно было соткано из замени, но пламени какого огня? Роусон, который в своих наблюдениях не вникал в такие темы, без труда сделал собственные умозаключения и поделился ими с Пелли после посещения часовни.
Послушай, дружище, — сказал он, — ты обратил внимание на маленького Мейрика во время завтрака?
Пелли за завтраком нагрубил Мейрику и заявил о своем прении устроить ему такую взбучку, какую ему никто никогда не устраивал раньше.
— Не пытайся. — посоветовал Роусон. — Я наблюдал за ним вое утро. Мейрик не видел, что я слежу за ним. Он выжил из ума: Амброз опасен. Я не удивлюсь, если через неделю он окажется в смирительной рубашке в дурдоме. Мой отец много работал с сумасшедшими, и он всегда говорил, что может определять их но глазам. Я клянусь. Мейрик сходит с ума.
— Вот чепуха! — воскликнул Пелли. — Да и что ты знаешь об этом?!
— Ладно, но смотри, приятель, и не говори потом, что я тебя не предупреждал. Тебе ведь известно, что помешанный в три раза сильнее, чем нормальный человек? Он один способен повалить троих и переломать им ребра. Тебе понадобится по меньшей мере полдюжины помощников, прежде чем ты сумеешь сделать это.
— Заткнись!
Роусон больше ничего не сказал, но остался при своем мнении относительно симптомов Амброза. Со злобной радостью ожидал он катастрофу. Ему было интересно, что предпримет Мейрик: перережет бритвой горло старого Хорбери или, крадучись, войдет ночью в комнату Пелли и разорвет его на части — такой ловкий трюк мог совершить с совершенной легкостью только сумасшедший. На самом деле ни одно из этих предположений не сбылось. Пелли был упертым мальчиком, поэтому он отхлестал Амброза по лицу несколько дней спустя перед целой толпой приятелей и получил в ответ такой страшный удар в левое ухо, что официальное сражение в духе Тома Брауна больше не вызывало вопросов.
Пелли рухнул на землю и некоторое время пребывал в бессознательном состоянии; а остальные мальчики решили, что лучше оставить Мейрика в покое. Его могли ударить, но Амброз бесспорно был сильнее. Что касается Пелли, то такой здравомыслящий парень, как он, просто сделал вывод, что Мейрик для него слишком хорош. Пелли не совсем осознавал это; он смутно подозревал, что произошло вмешательство каких-то странных сил, а с такими вещами ничего не поделаешь. Эго был прекрасный нокаут, и — конец.
Бейтс лишь приподнял голову, когда воскресным утром Амброз Мейрик вошел в столовую. Он отметил сияющее лицо и восторженные глаза Амброза и молча удивился, ибо увиденное превосходило все его предположения.
Тем временем воскресенье в Люптоне текло как обычно, по давно заведенному порядку. В одиннадцать часовню заполнили мальчики. Их было около шестисот, старшие — в сюртуках, с высокими остроконечными воротничками, делавшими их похожими на извозчиков. У младших были большие отложные воротнички со стойками и короткие квадратные жакеты в баскском стиле. Аккуратные стрижки всех без исключения придавали мальчикам хотя и благопристойный. МО все же устрашающий вид. Учителя в сутанах сидели на месте хора. Высокий служитель мистер Хорбери, одетый в ^ниспадающую мантию, начал утреннюю молитву, а директор занял нечто похожее на трон возле алтаря.
Часовня не особо вдохновляла. Она была построена в стиле четырнадцатого века. Да, безусловно, это было четырнадцатое столетие, но перемещенное в 1840 год и, вероятно, ужасно воплощенное строителями. Узор окон — бледен и мелковат, украшения колонн и сводов — со всевозможными изъянами, алтарь — нелеп и непропорционален, а сосновые скамейки и места для хора — просто смешны. В память старым люптонианцам, что пали в Крыму, был установлен цветной витраж. Но его расцветка напоминала простенькие дешевые леденцы.
Служба проходила в спешке. Уже отзвучали молитвы, стихи и псалмы; священники и прихожане явно торопились и так отчаянно стремились к окончанию службы, что два-три слова в конце строфы и несколько фраз в начале следующей терялись в шуме соревнующихся голосов. Но Venite[193], Те Deum[194] и Benedictus[195] были исполнены четко и громко с резвым английским воодушевлением. Орган то грохотал, то нежно блеял подобно стаду овец; сейчас кто-то может поклясться, что до ушей доносились звуки свистулек; а потом органист, используя всю мощь своего инструмента, так стукнул по клавишам, что показалось, будто газовый взрыв и Армия спасения борются друг против друга. Известный аристократ, находившийся в тот момент в люптонской часовне, впоследствии сказал об этом случае следующее: "Небеса знают, я не приверженец обрядности, но признаю, что люблю искреннюю службу".
И все же это была, прежде всего, проповедь, сделавшая часовню местом, к которому часто возвращались многие воспоминания. Выпускники говорят — и, похоже, серьезно, — что высокая, величественная фигура доктора, возвышавшегося над всеми, его ярко-красный капюшон, выделявшийся светлым пятном на фоне тусклой и желчной краски бледно-зеленых стен, вдохновляли их в борьбе со всевозможными трудностями и соблазнами жизни.
Один из выпускников писал, что во время сложных, запутанных сделок на фондовой бирже он всегда помнил наставление доктора Чессона, которое было опубликовано в книге "Сражение в хорошем бок".
"Вы повторили то, что мне не раз приходилось слышать: 'Играй в игру'. Возможно, вы и не знаете этой фразы и зачастую произносите ее в шутку, но это все же лишь ваше современное мальчишеское изложение древнего, волнующего послания, которое я вам только что прочитал. "Сражайся в хорошем бою". "Играй в игру" — помните эти слова во время борьбы, беспокойства и стресса, которые, быть может, еще предстоят вам", — и т. д., и т. д., и т. д.
"Когда кризис миновал, — пишет тот же работник фондовой биржи, — я с благодарностью вспоминал эти слова".
"Голос, звучавший подобно призыву трубы на поле боя, приказывал нам всем не забывать, что Успех — это вознаграждение за Усилие и Выносливость", — вспоминал известный журналист.
"Мне помогли сказанные когда-то доктором слова о "соревновании в беге", — уверял молодой солдат, совершивший прекрасно продуманный побег из жестокого вражеского плена.
И я смог сохранить верность собственным установкам".
Тем воскресным утром Амброз Мейрик сел на свое место, испытывая огромное удовольствие от учиненного нм скандала, который привносил веселье в его мысль о том, что все это всего лишь ритуал религии. Бесцельное и взбалмошное веселье достигло своего апогея, когда зазвучал Те Deum, и Амброз с трудом сдерживал смех; а во время исполнения гимна "Радостен Твой высший Суд" ему так сдавило горло от смеха, что мальчик, стоявший за ним, испуганно отшатнулся.
Но проповедь!
Ее можно найти на странице сто двадцать пять "Проповедей Люптона". Она была связана с притчей о талантах и показывала мальчикам, в чем состоит грех человека, который, обладая талантом, скрывает свой дар.
"Полагаю, — говорил директор, — что многих из старшеклассников заинтересовало, в чем действительно состоял грех этого человека. Вы можете внимательно прочитать греческие заветы и затем попытаться сформулировать в уме некоторую аналогию с событиями притчи, но я не удивлюсь, если вы скажете мне, что потерпели фиаско. Что это был за человек? Я представляю ваши беседы друг с другом. И догадываюсь, что на ваш взгляд, ответа на этот вопрос не существует. Да, вы не жаждете на него ответить. Вы — истинные английские мальчики, сыновья английских джентльменов, коим атмосфера казуистики, тайны и коварства не знакома, и смею думать, подобная атмосфера была бы отвергнута вами с презрением. Вы приходите из домов, где отсутствуют тени и темные углы, в которые нельзя совать нос. Ваши родные и друзья не скрывают свои дарования от других. Некоторые из вас, возможно, имели привилегию слышать беседы кого-то из тех великих государственных деятелей, что проводят в жизнь теории нашей необъятной империи. Я уверен, вы заметите, что в мире политики нет бесполезного культа скромности, нет выдуманного нежелания упоминать о достойных подвигах. Все вы члены замечательного общества, в котором каждый из вас так горд, о котором мы думаем, как о великой идее, что стимулирует нашу жизнь. Здесь, скажете вы, нет скрытых талантов, ибо цель английской частной закрытой школы — благодарю Бога за нее! — откровенность, искренность и здоровое соперничество; каждый делает все возможное для общего блага. В наших занятиях и и наших играх каждый желает отличиться, выиграть приз. Мы боремся за купленный приз, полагая, что он неподкупен, и это дисциплинирует нас. Так человек клянется в любви к Богу, которого никогда не видел, а не к родному брату, которого видел не раз! Позвольте вашему свету гнить перед людьми. Будьте уверены, что мы никогда не победим Небеса, презирая землю.
Еще в пеленках человек начинает скрывать свой талант. Что эта история означает? Какое сообщение она несет нам сегодня? Я расскажу вам.
Несколько лет назад, во время летних каникул, я участвовал в прогулочном туре в горном районе на севере Англии. Небо было ярко-голубым, солнце светило, как будто оно проповедовало счастье на земле. К концу дня я вошел в спокойную прекрасную долину среди холмов, и тут бриз донес до меня три печальные ноты колокола. Затем последовала пауза. Снова три удара, и через мгновение эти мрачные, заунывные звуки в третий раз потрясли мой слух. Я пошел в сторону колокольного звона, заинтересовавшись, откуда он и что означает; и скоро я увидел перед собой великолепные величественные здания, окруженные мрачной и очень высокой стеной.
Это был римский католический монастырь. Колокол звонил к Angelus[196].
Мне удалось войти и поговорить с некоторыми из несчастных монахов. Я вас удивлю, если упомяну имена кое-кого из обманутых людей, добровольно заточивших себя в эту тюрьму. Достаточно сказать, что среди них были солдат, отличившийся на поле боя, художник, государственный деятель и врач с приличной репутацией.
Теперь вы понимаете? А! Придет день — думаю, вы знаете, как он называется, — когда эти бедные люди не смогут ответить на прямые вопросы: "Где Талант, что так щедро вам дарован? "Где была твоя шпага, когда над страною нависла опасность?"; "Где картина твоя затерялась, твоя жертва искусством во благо нравственности и человечества, когда двери Великой Выставки были открыты?'’; "Куда делось твое Богом данное искусство врачевания, когда Особу Королевской Крови приковал к постели ужасный, даже смертельный, недуг? А в ответ? — "Я загубил его еще в пеленках…" И в том же духе, и т. д., и т. п.
Затем все шестьсот мальчиков запели: "О Рай! О Рай!" с такой страстью и искренностью, что были неотразимы. Орган гремел до тех пор, пока не задребезжали от сотрясения стекла, на чем служба и закончилась.
Глава V
Самые последние слова, которые Амброз услышал перед пробуждением, были очень необычны и прочно засели у него голове — вновь и вновь всплывали они в памяти, даруя сладостную негу и нежные поцелуи его несчастному избитому телу. На самом деле в другое время эти слова никогда бы не извели на него такого впечатления, хотя многие люди могли придать им более серьезное значение, чем они имели той чью! Осуждение звучало примерно так:
"Жестокое, отвратительное животное! Он будет жалеть о содеянном всю свою жизнь, и каждый удар отразится горем для него. Мой дорогой! Я обещаю тебе, что он заплатит за этот вечер десятикратно. Его сердце будет болеть, пока не перестанет биться".
Без сомнения, он воспринял это обещание буквально, никто не знал не только о том, что злая сатира на мистера Хорбери вышла за пределы Люптона, но и о том, что с этого дня началось исполнение приговора. Вечером Высокий служитель, нанося визит другу в городе, решил срезать дорогу и пошел по темным, слабо освещенным улицам. Внезапно он пришел в ужас, услышав свое имя, выкрикиваемое вместе с самым отвратительным обвинением. Его сердце замерло в груди, а лицо побледнело; Хорбери бросился туда, откуда, как казалось, звучал голос.
Но там никого не было. Обычная грязная узкая аллея в интерьере трущоб; она тянулась между низкими стенами и пустынными задними двориками, мрачными и неосвещенными. Хорбери пробежал аллею до конца, но и там не обнаружил ничего примечательного. Лишь несколько женщин болтали у дверей своих домов, да двое мужчин брели в пивную на углу — вот и все. Он спросил у одной из женщин, не видела ли она кого-либо убегающего, и та ответила, причем вполне учтиво, что нет. Хорбери даже показалось, что она посмотрела на него искоса.
Он развернулся и пошел назад, домой. Ему уже совсем не хотелось идти в гости. Это было еще до того, как он научился успокаивать себя. Позже он любил повторять, что случай, даже неприятный, не обязательно является неким предупреждением. Но тогда ему казалось, что везде расставлены капканы и ловушки, а его судьба предрешена.
Однако на время неприятности Хорбери кончились, и он вскоре забыл об этом странном происшествии на узкой аллее. Но с того воскресенья грязная клевета словно бы отбрасывала тень на всю деятельность Высокого служителя. Никто не говорил ему ничего определенного, но все ощущали что-то неприятное каждый раз, когда упоминалось имя Хорбери. Люди странно смотрели друг на друга и меняли тему разговора.
Один из молодых преподавателей в беседе с коллегами мимоходом заметил, что Хорбери похож на Xanthias Phoceus[197]. Другой учитель, мужчина средних лет, вскинул брови и молча покачал головой. Очевидно, клевета, распускаемая за спиной Хорбери, была весьма разнообразна по содержанию; но, как уже говорилось, все это было достаточно неопределенным, неосязаемым, чем-то вроде инфекции, возможно даже смертельной для здоровья.
Одни поддерживали ужасные обвинения, которые про звучали тем памятным вечером; другие соглашались с молодым учителем; из уст в уста передавалась страшная история
об умственно отсталой девочке из далекой деревеньки Дербишира. И, надо сказать, неискоренимость подобных небылиц была удивительна.
Это произошло за четыре года до того, как Генри Вибарт Чессон, доктор богословия, взошел на трон святого Гутмана в Дочестере; и в течение всех четырех лет сплетни так и не улеглись. Было неясно, насколько укрепилась и обосновалась вера в истинность этих слухов или насколько велика вероятность, что их распространяли больные люди, ненавидящие Хорбери, но сами при этом в глубине сердца не допускавшие мысли о его виновности в грехах худших, чем тщеславие и высокомерие. Последняя версия представлялась наиболее правдоподобной.
Конечно, подробности совещания членов городского совета держались в строжайшем секрете, а сообщение о том, что председатель, маркиз Данхэм, что-то сказал о жене Цезаря, — просто сообщение, и ничего более. Очевидно, лондонская пресса не догадывалась о существовании некой тайной мести, а потому две ежедневные газеты оценили назначение Высокого служителя на должность директора как неизбежный исход, единственно возможное пророчество, более того, к образец феноменального успеха. А затем Миллворд из Винчестера отметил нездоровый интерес Хорбери к некоторым вопросам схоластики, назвав его "не совсем нормальным человеком", "даже немного иезуитом"; люди также стали поговаривать о болезненной одержимости Высокого Служителя. Из-за всего этого Хорбери чувствовал себя разбитым и начал понемногу угасать.
Как ни странно, обретя спасение злосчастным воскресным вечером, он никогда впоследствии не видел своего врага; Хорбери даже и не подозревал, что это был враг, и то происшествие на аллее после короткого размышления классифицировал как оскорбление. Существовало только одно напившееся чудовище, которое знало его лично и хотело бы оскорбить, что свойственно налившимся чудовищам.
И это все. Общество Люптона было слишком осторожным, чтобы допустить огласку своих подозрений. В любом случае, лживые слухи означали скрытый скандал и могли повлечь за собой неприятные последствия для клеветников. Кроме того, никто не хотел оскорбить Хорбери, у которого, по мнению окружающих, был мстительный характер; и потом, жители Люптона не были уверены, что сплетни, ими же и распространяемые, лишат Высокого служителя шансов на ноет директора. В действительности каждый слышал только себя, не понимая, что если огромное количество людей одновременно начнет говорить, то поднимется ужасный шум.
Кое-кто из учителей держался с ним холодно. Не все обладают даром лицемерия и могут изображать сердечность. Но Хорбери, заметивший такое отношение, приписывал его зависти и неудовлетворенности, а потому решил, что обретет по решению совета вожделенную власть в школе гораздо раньше, чем полагали учителя.
На самом деле К. Л. Вуд (впоследствии он стал директором Марсестера и умер в Египте несколько лет назад) знал любопытную историю, которая частично относилась к указанным учителям и, возможно, проливала хоть какой-то свет на загадочный крах Хорбери.
Вуд был старым люптонианцем. В свое время он слыл могучим атлетом, а его рекорды в прыжках в длину и дальности метания мяча в крикете не побиты в Люптоне по сей день. Вуд был одним из первых пансионеров в Старой усадьбе. Близкие отношения между ним и Хорбери продолжались всю жизнь, а когда стало известно о решении совета, Вуд находился рядом с учителем. Однако некоторые предполагают, что Хорбери предложил ему хоть и неофициальный, но все же важный пост в своей новой модели школы; по признанию Вуда, идея состояла в том, чтобы в его лице создать нечто вроде Департамента информации при директоре. Казалось, Вуд сам не очень ясно представлял себе точные границы своих предполагаемых обязанностей. Конечно, не исключено, что он просто не хотел распространяться на эту тему. Вот как Вуд вспоминал о том роковом утре:
Я ни разу не ни дел Хорбери в более прекрасном состоянии духа. Помню, я еще подумал, что он выглядит моложе, чем когда-либо, — моложе, чем в старые времена, когда он был начинающим преподавателем, а я учился в третьем классе. Хорбери всегда отличался повышенной энергией: понятия "Хорбери" и "энергия" были неразделимы, и я даже в шутку предлагал ему включить эти два термина в новое издание моей маленькой книги "Латинские и английские синонимы". Чем бы он ни занимался: преподавал в пятом классе, редактировал классиков для своих мальчиков или играл в футбол — никто не мог соперничать с его яркой кипучей энергией. Возможно, это и есть одна из причин, почему бездельники всегда опасались его.
По в те последние дни в Люптоне жизнестойкость Хорбери поразила меня своей почти сверхчеловеческой силой. Как известно, получение им места Директора касалось каждого, кто был уверен в нем; Хорбери же целиком и полностью отдавал себя великой задаче, которая, как он верил, стояла перед ним. Однако здесь не время и не место выяснять, заслужил он или нет этот пост, позволявший j ему осуществить годами лелеемую мечту.
Некоторые люди, располагая, как мне кажется, неполной информацией, объявили взгляды Хорбери на современную закрытую частную школу революционными. Они были такими же революционными, как новейший скоростной двигатель по сравнению с запряженным волами фургоном. По те, кто считал каноника Хорбери равнодушным к хорошим традициям закрытой частной школы, мало что знали о нем, как о человеке. Так или иначе, вне зависимости оттого, хорошими или плохими были планы Хорбери, он всегда мыслил глобально. Во время моего первого визита к нему Хорбери заставил меня до двух часов ночи слушать его рассуждения, до тех пор пока он не изложил мне все свои идем, причем некоторые из них, как он удачно выразился, были доверены мне для того, чтобы я их осуществил. Хорбери показал мне груды рукописей, которые у него накопились: сотни страниц о многочисленных департаментах пели кои организации, коей он собирается руководить: листки со всевозможными подсчетами, кипы смет, составленные им при разработке первоочередных действий.
Ничто не было упущено. Помню, я видел заметку о необходимости издания "Книги гимнов Люптона" для ее использования в часовне и другую — относительно создания ботанического сада, чтобы школьный курс ботаники изучался, как прекрасно выражался Хорбери, "непосредственно на природе", а не но сухим печатным текстам и гравюрам. Я также заметил на полях учебника ботаники краткую заметку, простую поспешную запись, требующую дальнейшего обдумывания и рассмотрения: "Нужно ли изучать Индию? Написать Таккеру о Мулви Ахмед-Хане".
Я уже потерял надежду дать читателю хоть какое-то представление о широте этих прекрасных записей. Помнится, я говорил Хорбери, что, похоже, он способен одновременно использовать и микроскоп, и телескоп. Хорбери весело рассмеялся и попросил меня подождать, пока он по-настоящему не займется работой. "Обещаю, ты тоже будешь участвовать в этом", — добавил он. Его высокий дух был исключительным и заразительным. Великолепный рассказчик, Хорбери то и дело вплетал занимательные истории в свое повествование о Новом Люптоне, идею величия которого он готов был воплотить в жизнь. К сожалению, мне не удалось удержать в памяти его удивительные истории. Тu ne quasieris[198]. Не раз приходили мне на ум эти слова, когда я думал о счастье Хорбери, о его эмоциональной энергии, что делала каждую задержку на день или на два просто невыносимой. К го разум и кончики его пальцев дрожали от нетерпения начать предначертанную ему великую работу. Хорбери напоминал мне могучую армию, ожидающую только приказа генерала, чтобы броситься вперед с непреодолимой силой.
В нем не осталось и следа от плохого предчувствия. На самом деле я сильно бы удивился, если бы заметил нечто подобное. Правда, Хорбери сказал мне, что некоторое время назад он предполагал существование некой группы заговорщиков против него. "А. и X., Б. и И., М. и Н., и, я думаю, 3. были в ней, — сказал он, называя кое-кого из учителей. — Они завистливы, и, полагаю, хотят все усложнить, насколько им это удастся. По они трусы, и я не верю, что кто-нибудь из них, за исключением разве что М., не предпочтет покорность, или даже раболепство, когда дойдет до дела. Я собираюсь сократить штат". И Хорбери рассказал мне о своем намерении избавить школу от подобных предательских элементов. "Совет поддержит меня, я знаю, — добавил он, — но мы должны попытаться избежать лишних разногласий", — и Хорбери изложил мне план того, как можно удалить этих учителе!!. "Па нашем корабле не будет нерешительных офицеров", — декларировал он, и я искренне соглашался с ним.
Возможно, Хорбери недооценивал силу оппозиции, с которой так слабо боролся; возможно, он в корне неверно представлял себе ситуацию. Хорбери, естественно, рассматривал назначение, как свершившийся факт. В том же были убеждены и все, кто что-либо знал о Люптоне и Великом служителе.
Я никогда не забуду день, когда пришло известие. Хорбери весело завтракал, просматривал письма, делал заметки и строил свои грандиозные планы. Я на время оставил его, чтобы ненадолго сбросить груз постоянного напряжения, и бродил туда-сюда по прекрасному саду Старой усадьбы, размышляя о том, как отнесутся подчиненные к шефу, который, будучи очень энергичным человеком, ожидает того же и от них. Я присоединился к Хорбери через час, найдя его в кабинете, где он как обычно был занят — "завален снегом", по его собственному выражению, или горами бумаги корреспонденции.
Хорбери радушно кивнул мне и указал на кресло, а спустя несколько минут пришла служанка с письмом. Она объяснила, что только что нашла его в холле. Я взял книгу и начал читать. И лишь звук, подобный стону от невыносимой боли, вернул меня к реальности, заставив взглянуть на Хорбери с удивлением, даже с опаской. Я был поражен видом моего старо го друга: мертвенно бледное лицо, широко раскрытые глаза, устремленные в пустоту, а выражение лица было и вовсе ужасным — самым ужасным, какое я когда-либо видел. Не могу описать этот взгляд. В нем сквозили агония горя и отчаяния, блеск безмерного удивления, страх, как при приближении смерти, да плюс к тому — самая свирепая и самая жгучая ярость, какую только можно вообразить на человеческом лице. Хорбери сжимал в руке письмо. Я боялся двинуться или произнести хотя бы слово.
Прошло целых пять минут, прежде чем к нему вернулось самообладание. Хорбери с трудом приходил в себя, на него было страшно смотреть: такая тяжелая борьба отражалась на его лице. Мой друг объяснил мне дрожащим и неровным от шока голосом, что он получил очень плохие новости: большая сумма денег, необходимая для исполнения его проектов, была растрачена некоей недобросовестной личностью, и теперь он просто не знает, что делать.
Хорбери не выглядел расстроенным, или даже пораженным, когда позже пришла телеграмма, перечеркнувшая цель его жизни — чужак захватил власть в его любимом Люптоне. Хорбери шептал, что теперь это не имеет для него никакого значения. С тех пор он никогда больше не поднимал головы.
Это — отрывок из книги "Джордж Хорбери: воспоминания", которая была написана доктором Вудом для узкого круга друзей и тайно напечатана в маленькой типографии тиражом в сто пятьдесят экземпляров. Автору казалось, что он объяснил в своем кратком вступлении причину столь маленького тиража. Он считал, что необходимо ограничить круг читателей теми, кто либо лично знал Хорбери, либо очень интересовался его работой, ведь в своих воспоминаниях Вуд касался вопросов, которые вряд ли могли войти в книгу, предназначенную для широкой публики.
Фрагмент, процитированный здесь, интересен по двум причинам. Во-первых, он показывает, что Хорбери ничего не подозревал о событиях, происходивших все четыре года перед отставкой Чессона, а во-вторых, что он совершенно неверно истолковал те немногие слабые знаки внимания, которые были ему оказаны. Хорбери собирался уничтожить нескольких мрачных стражей, когда под его ногами везде были расставлены ловушки! Но еще любопытнее другое. Из рассказа Вуда видно, какой ужасный эффект произвело на Хорбери письмо, полученное за несколько часов до роковой телеграммы с решением совета. "Позже в тот же день" — говорится в "Воспоминаниях"; на самом же деле, последнее заседание совета Люптона, проходившее в отеле Маршалла на Албемарль-стрит началось в половине двенадцатого и не окончилось к без четверти двум. Невероятно и то, что решение Совета могло достичь Старой усадьбы раньше пятнадцати минут третьего, тогда как письмо, найденное в холле, было прочитано Хорбери до десяти утра: время завтрака в Старой усадьбе неизменно — восемь часов.
К. Л. Вуд пишет: "Я присоединился к Хорбери через час", а письмо принесли "спустя несколько минут". Позже, когда шла роковая телеграмма, как отмечено в "Воспоминании", Хорбери не был даже "поражен". Из этих фактов почти неминуемо следует, что он узнал о своем крахе из письма, содержание которого относительно его счетов оказалось ложью от начала и до конца. Самые удачные инвестиции Высокого служителя были в безупречных руках "Уитхема" (господ Уитхема, Венаблеса, Давенпорта и Уитхема), "Реймонд билдингс", "Грейз инн"[199] — адвокатской корпорации, не включающей понятия "растрата" в свою теорию и практику закона; и впоследствии племяннику Хорбери, Чарльзу, со смертью дяди выпало настоящее счастье — восемь тысяч фунтов стерлингов со Старой усадьбой и выгодной рентой от нескольких земельных участков в новом районе Люптона. Бесспорно, Хорбери не потерял ни пенни в результате растраты или по какой-нибудь другой причине, если, конечно, вообще бывает что-либо бесспорное.
Можно, однако, только строить предположения относительно содержания того рокового письма. И к тому же неизвестно, рассказал ли автор всю историю; например, никто не знает, упоминалось там имя Мейрика или нет; было ли там что-то, что могло навести на мысль о темном ноябрьском вечере, когда учитель с дикой жестокостью бил провинившегося мальчика. Но из описания внешнего вида несчастного Хорбери, сделанного доктором Вудом, читатель поймет, насколько неожиданным был для Высокого служителя обрушившийся на него сокрушительный удар. Это была вспышка света в синеве неба перед тем, как внезапный и ужасный порыв превратил всю его жизнь в зловещие руины.
"Он никогда больше не поднимал головы". Кто-то скажет, что Хорбери вообще больше не жил, если только этот беспрерывный круг страдания, ярости и горького тщетного сожаления можно назвать жизнью. От него остался не человек, а оболочка, полная злобы и огня; но, возможно, Хорбери был не первым из "Алмазного фонда", кто удостоился канонизации.
Поскольку мы не обладаем достаточными данными, чтобы точно предположить, о чем говорилось в письме, нельзя точно сказать, узнал ли Хорбери, как странно или даже оригинально было организовано его наказание. Nec deus intersit[200] несомненно; но этот принцип может завести слишком далеко; а критики не преминут указать на то, что, мечтая о мести, он способен дойти до другой крайности, посчитав причиной великой катастрофы плохой херес, поданный директором, пареную баранину, недисциплинированного мальчишку или служанку. Но это всего лишь выдуманные поводы, из чего можно сделать вывод, что все мы не понимаем устройства мира. Вывод очень опасный, и позже он грозит привести нас к худшим ошибкам темных веков.
Конечно, спорны истинность или ложность различных выдумок, которые привели к такому ужасному результату. Худшие из этих выдумок были лживы — что вызывает легкое сожаление, — и наконец, следует заметить, что, уподобляя Хорбери Xanthias Phoceus, молодой учитель был очень далек от истины. Миссис Хорбери умерла несколькими годами раньше, и имелись подозрения, что между Высоким служителем и Нелли Форан существовали некие отношения, осуждаемые общественным мнением. Трудно передать всю эту историю, но отчаянность мести заставила кое-кого поверить в то, что девушка требовала расплаты не только за Амброза, но и за некоторые тяжелые обиды, нанесенные ей самой.
А тем временем Амброз Мейрик не переставал удивляться восхищаться; он постепенно постигал многие тайны, раскрывая смысл услышанного однажды голоса, который, казалось, говорил с ним, осуждая за то, что он, недостойный, приютился к Тайне, скрытой даже от святых ангелов.
ЧАСТЬ III
Глава I
Железнодорожное расписание относилось к числу наиболее любимых Амброзом Мейриком книг. Он провел немало часов, изучая страницы замысловатых символов и выписывая на клочке бумаги время прибытия и отправления поездов. Карта, на которой он отмечал предполагаемые маршруты, пестрела пересекающимися линиями. В результате этих занятий Амброз нашел наиболее короткий путь домой, на родину, где он не был уже пять лег. Отец Мейрика умер, когда мальчику исполнилось десять.
Манипуляции с расписанием позволяли наметить вполне конкретный маршрут: так, например, поезд, уходящий в семь тридцать, прибывал в Бирмингем в девять тридцать пять; а в десять тридцать отправлялся столичный поезд, и Амброз еще до часа дня мог успеть увидеть величественное здание Минидд-Мор[201] с часами. Наваждение часто приводило его к мосту, что пересекал железнодорожный путь в миле от Люптона. На западе и востоке рельсы сходились в прямую линию, бросая вызов мудрости Евклида.
Повернувшись спиной к востоку, Амброз пристально посмотрел на запад и, когда красный поезд прошел мимо в правильном направлении, перегнулся через мост, глядя вслед поезду до тех пор, пока последний вагон не исчез вдали. Он представил себя в том поезде и подумал о радости, которую испытает, когда придет время — а ото будет еще очень нескоро. — о счастье от каждого оборота колеса, от каждою гудка паровоза; Амброз хотел как можно скорее уехать от ненавистной школы и от этого ужасного места.
Уходили в прошлое год за годом, а мальчик так и не сумел посетить древнюю землю своего отца. На время каникул его оставляли в огромном пустом долге под присмотром слуг — за исключением одного лета, когда мистер Хорбери отправил его к своему кузену, который жил в Ярмуте.
На второе лето после смерти Николаса Мейрика случилась ужасная засуха. День за днем небо пылало огнем, и в центральных графствах, расположенных далеко от дыхания моря и спасительного горного бриза, земля была высохшей и потрескавшейся. От нее поднимался серовато-коричневый дым со слабым тошнотворным зловонием. Тело и душа Амброза изнывали от жажды, навевая мысли о холмах и лесах; сердце мальчика молило о заводях в тени леса; а в ушах постоянно слышался плеск холодной воды, льющейся, струящейся и капающей с серых скал в просторном горном крае. Амброз видел, какой ужасной стала земля, которую Бог сотворил, несомненно, для того, чтобы подготовить людей к вечной жизни; видел, как изнуряющие волны жары неистовствовали на земле под невозмутимо ярким небосводом; видел заводские трубы Люптона, выбрасывающие в небо грязный дым, видел убогие раскаленные улицы и маленькие переулочки, каждый из которых обладал своим собственным адским зловонием, и, наконец, видел унылую запыленную дорогу. Потоки, бегущие поло черному маслу между грязными берегами, испарялись здесь, словно кипящая отрава из фабричных утроб; какие-то мерзкие башни извергали из своих недр игристую шипучую пену, но ничто не мешало Мейрику свободно вглядываться в лесные запруды и в их темно-зеленый напиток в баках серно-кислотной фабрики. Это был самый короткий путь из Люптона, который считался высокоразвитым городом.
Амброз чувствовал головокружение от обжигающей жары и вездесущей грязи, душа его изнывала от одиночества. Мальчик уже полностью овладел своими эмоциями и узнал мост над железнодорожными путями, где день за днем, перегнувшись через перила, он наблюдал за тем, как раскаленные рельсы исчезали на западе в тонкой знойной дымке, висевшей над всей землей. Поезда мчались но направлению к месту его грез, и ему было интересно, увидит ли он когда-нибудь снова дорогую, любимую страну, услышит ли песню соловья в гулкой тишине прозрачного утра, в окружении зеленых холмов. Мысли, внушенные ему отцом в счастливые прежние времена, были о сером доме в тихой долине, они переполняли сердце Амброза, и он горько плакал — такой никому не нужной и беспросветной казалась ему собственная жизнь.
Это случилось в конце того ужасного августа, когда однажды ночью он все бросил и в течение многих часов слушал звон колоколов, впадая от их зова в лихорадку. Амброз пробуждался от опасных и тягостных снов, чтобы выразить словами свое несчастье; он спускался вниз, словно старик, и оставлял завтрак нетронутым, поскольку не мог ничего есть. Пламя солнца, казалось, сжигало мозг, а жаркий воздух душил его. Все тело мальчика мучительно ныло с головы до ног. Он шел неверной походкой по дороге к мосту и вглядывался отчаявшимися глазами сквозь густой жгучий туман в темноту, пытаясь найти путь к своей мечте. Вдруг сердце Амброза забилось быстрее, и он громко заплакал от восхищения, увидев в изменчивом волшебстве тумана очертания огромного зеленого склона Великой горы, вздымающейся не то чтобы далеко, но и не очень близко. И вот уже Амброз стоит на ее склоне, а под ногами шелестит папоротник-орляк, распространяющий вокруг сладкий аромат; внизу, овеваемая легким ветерком, шепчется лесная чаща, а с каменной скалы струится холодная искрящаяся вода. Мальчик слышал серебряные ноты жаворонка, звучащие пронзительно и высоко, видел желтые цветы, шевелящиеся от ветра у крыльца белого дома. Ему казалось, что мир перевернулся и перед ним во всем своем великолепии и красоте раскинулась дорогая и постоянно поминаемая земля: луга, пшеничные поля, холмы, долина, лесной массив между горами и далекое море. Амброз глубоко вдохнул этот живительный непередаваемый воздух и вдруг осознал, что жизнь продолжается. Он еще раз пристально посмотрел вниз на железнодорожный путь в тумане, силы и надежда вернулись к нему, и глаза вновь наполнились светом и радостью.
Бесспорно, дарованное ему видение было плодом мучительной и настоятельной необходимости. Больше оно не возвращалось, и он уже не видел красивых высот Минидд-Мор, поднимающихся из тумана. Но с того дня это место на мосту стало для него священным. В моменты невзгод и усталости оно было его приютом, дарующим отдых и надежду. Здесь он мог грезить об освобождении и возвращении, которое когда-нибудь обязательно произойдет. Здесь он мог напоминать себе, что вырвался из пасти ада и смерти, в которую попал.
К счастью, по этой дороге ходило мало людей — только жители небольших окрестных ферм, и воскресным ноябрьским днем наставления директора за обеденной трапезой позволили мальчику побыть наконец пару часов одному на свободе.
Амброз стоял, прислонившись к стене, и как только он обратил лицо к западу, душа его наполнилась ошеломляющим восторгом. Он все глубже и глубже проникал в таинство изумительных глубин наслаждения. На его родине ходили истории о магах, которые иногда покидали убежища уединенных лесных прудов и являлись людям, поражая их своим блеском; могли рассказать о секретах этой земли, где наиболее материальной субстанцией было пламя, земли, обитатели которой наслаждались жизнью среди живых трепещущих цветов и ласкающих слух прекрасных мелодий. В темноте ночи все легенды обретают реальность.
Удивительно, но Амброз Мейрик, пятнадцатилетний ученик частной закрытой школы, сумел сохранить в себе восхитительную невинность. Вероятно, в школе, как и в любом другом месте, образование, какое бы оно ни было, дается только тем, кто его добивается, а возможно, срабатывает защита магов, охраняющих тех, кто способен спуститься в темные глубины и возродиться в ореоле света, без каких-либо грязных пятен на белых одеждах. Таким людям дано слышать бессмертные песни, но они не выносят негармоничных голосов: их глаза ослеплены волшебным сиянием, не позволяющим видеть дурное.
Так или иначе, детские воспоминания об отце и его тайне вытягивали Мейрика из адской долины той жизни, в которую он попал, подобно тому, как кто-то с силой тянет зверя, упавшего в глубокую гибельную западню. Здесь можно порекомендовать сразу несколько методов. Например, существует способ, который называется нравственным обучением, а также физиологический способ и способ совершенной тишины; но Николае Мейрик выбрал странное заклинание. Таким образом, Амброз был вытянут из непрерывно вращающегося замкнутого крута ужасной долины, из зловонного мира беспорядка, драк, необузданного разврата и мерзкого существования в ядовитой атмосфере поразительного и отвратительного безумия, которое практичные люди называют жизнью, и присоединился к тому бесконечному шествию, что из века в век поет в горах бессмертные литании, покоряя вершину за вершиной в своем великом поиске.
Душа Амброза сливалась с зеленым шепотом лесов, плескалась в чистой воде священных источников; Амброз преклонял колена перед древними алтарями до тех пор, пока вся земля не стала для него святилищем, а жизнь — обрядом и церемонией, венец которой заключался в достижении мистической безгрешности — Святого Грааля. А в чем же еще? Это было тем, что маленькая птичка воспевает на ветке, чирикая темными вечерами печальные ноты, словно ее трепетное сердечко безмерно страдает из-за того, что она не смогла принести в этот мир ничего лучше сей грустной песни, с благоговением прославляющей прозрачное утро на холмах и дыханий лесов на рассвете. Это было отображено и в красной церемонии закатов, когда пламя освещало вершину великой горы розы распускались в далекой небесной равнине. Это были тайны темных уголков в сердце лесов. Это была загадка солнечного света на вершине горы. Каждый маленький цветок, узорный папоротник, камыш или тростник на равных участвовали в великом таинстве, совершенные заключительные обряды которого были даны людям, чтобы они смогли реализоваться. И во всем этом сняло истинное искусство: поднимающееся вдалеке великолепие восхитительного собора, магические слова и звуки — все свидетельствовало о совершенстве единственного дара, о высшем служении Граалю.
Помимо песен, горящих факелов, пестрых одежд и дыма ладана великое таинство было отмечено магической добродетелью, давно исчезнувшей из мира, красными далматиками мучеников, чьи песни триумфа и ликования тонули в священных родниках и прудах — источниках слез. Именно так будет отслужена месса в Корарбеннике, когда вернется Кадваладр[202] и Тейло Аджиос вновь возвеличит сияющую Чашу.
Вполне естественно, что мальчик, взращенный на подобных заклинаниях, не обращал внимания на нелепые беды, происходившие с ним, и на презрение глупых подростков, которые были похожи на "завядшие лилии в навозной куче". Амброз не слушал их мерзкие и безрассудные идеи, не слышал и понимал их вечную болтовню о "ручьях", "карьерах", "ударах ногой" и "учителях, посланных куда подальше". А когда удобная фраза все-таки достигала его ушей, в ней было не больше смысла, чем в любом другом глупом жаргоне, какие вменялись изо дня в день, смешиваясь с причастиями и главами прошедшего времени. Для него все это было пустым ом: Амброз грезил о соединении хотя бы частички волшебного мира с действительной жизнью, как он ее понимал.
С тех пор эта мысль стала для него буквально всем — пленительной и чудесной частью великого служения святыне, в котором олицетворялась слава жизни. Если кто-то видел пресные цветы — ими следовало бы усыпать алтарь. Пчела священна, ибо ее воском освящены Дары. Амброз знал, в обители счастья, наслаждения и красоты все это — лишь частица тайны, славное облачение которой ниспослано Небесами. Если бы кто-то сказал ему, что песня соловья непристойна, Амброз изумился бы так, словно тот оскорбил святого. Красные розы были для него не менее священны, чем одеяния мучеников. Белые лилии олицетворяли чистую светящуюся добродетель, а Песнь Песней представлялась неоспоримым образцом совершенства, — потому-то и не было в мире ничего отвратительного. И ему, Амброзу Мейрику была дарована сопричастность к великой тайне.
Итак, Амброз стоял на мосту над железнодорожной веткой центральных графств, тянущейся из Люптона в Бирмингем, в экстазе предаваясь своим размышлениям. Перед ним простирался отвратительный Люптон: трубы, выбрасывающие черный дым, красные пунктиры улиц рабочих кварталов, устремляющиеся к безобразным полям, дымящиеся керамические заводы и ужасная высотка обувной фабрики. Не лучше был и чудовищный пейзаж на востоке центральных графств, которые казались обителью инакомыслящих, — скучный, монотонный и запущенный, с поломанными изгородями и подстриженными деревьями, напоминавшими пуритан, с убогими фермами и столь же непривлекательными загородными особняками.
На соседнем поле некий прогрессивный фермер недавно использовал приятную смесь, состоящую из суперфосфата извести, нитрата соды и костной муки. Вонь стояла несусветная. А другое поле было недавно превращено во фруктовый сад. Взгляду открывались ряды мрачных молодых яблонь, посаженных на строго математическом расстоянии друг от друга, и вызывающие ужас маленькие могилы, вырытые между яблонями и кустами крыжовника. В междурядье фермер намеревался посадить картофель, так как земля здесь была основательно взрыхлена. Почва выглядела влажной и в то же время не радовала глаз.
Справа Амброз мог наблюдать за течением шустрого ручейка, что замысловато извивался вдоль долины: на каждой его берегу красовался кустарник, переплетенный с ветка деревьев и водными растениями. Летом берега освежали красные розы, — сейчас они как раз готовились к цветению. Вначале поток разделялся на два сильных канала с голыми необработанными берегами и ветками роз, ольхи, ив и других выкорчеванных с корнем кустов и деревьев. Старый амбар, видневшийся но левую сторону от линии горизонта, был разрушен уже более года назад. Возможно, его построили в семнадцатом веке. Крыша амбара, раскачиваясь, касалась воды, остатки красной черепицы вобрали в себя огненный жар солнца, а устоявшие деревянные стены уже не нуждались в рухнувшей подпорке. Некогда этот практически развалившийся старый сарай выглядел аккуратным строением с гофрированной железной крышей.
Все остальное скрывалось за линией горизонта, такой же мрачной и серой, как тюремная стена; но Амброз больше не вглядывался в нее тусклыми, безнадежными глазами старика. Среди его книг был католический требник, и он размышлял над прочитанными словами: Anima mea erepta est sicul passer de laqueo venantium[203], осознавая, что в надлежащее время его тело тоже исчезнет. А изгнание наконец-то закончится.
Амброз вспомнил старую легенду, которую любил рассказать отец — историю о короле Эосе по прозванию император Соловей. Давным-давно, говорилось в этой легенде, величайшим и прекраснейшим двором среди всех государств читался двор короля Эоса, что, подобно императору Рима, был королем среди всех королей. Даже Гвин ап Нудд[204], славный повелителем фей и эльфов острова Британии, служил будучи не таким способным в различных областях волшебства и магии. Двор Эоса находился в огромном зеленом Вентвудском лесу, в его наиболее темных чащобах между Каэрвентом и Каэрмаэном; люди называли это место Городом Легионов или, как утверждали другие, — Городом Водопадов.
Здесь находился и дворец Эоса, построенный в римском стиле из самых прекрасных камней, и было в нем столько великолепных комнат, сколько и вообразить невозможно, ибо они не имели числа, поскольку их нельзя было подсчитать. Бессмертные камни дворца радовали короля. Если бы он пожелал, его великолепный зал мог бы вместить всех правителей мира. Но в обычные дни королевские празднества проходили в девяти огромных залах, каждый из которых в девять раз превышал любой другой зал в странах нормандских народов. Праздниками руководил сэр Коу, сенешаль[205]: и если бы вы захотели узнать, сколько людей находится под его управлением. — проще было бы посчитать, сколько воды в реке Аск. А если бы вы внимательно осмотрели дворец, то поняли бы, что Эос украсил стены замка рассветом и закатом и осветил его солнцем и луной. На территории дворца имелся колодец, который называли Океаном.
Девять церквей, оплетенных кривыми сучьями, были построены обособленно, в них Эос мог слушать мессу, а когда его подданные пели вместе с ним, под эту чарующую мелодию великолепный дворец вздымался над землей, сияя, подобно звездам в небе. Тогда устанавливался мир, покой воцарялся в стране и люди были счастливы. Но Эоса огорчало, что простые смертные не могли до конца постичь очарование этой песни.
И вот что он сделал: лишив себя красоты и королевских отличий, превратился он в невзрачную коричневую птицу, и облетел лес, желая донести до людей сладость и волшебство восхитительной мелодии. Но лесные птицы возмутились: "Что за презренный незнакомец?!" Орел не принял его даже за достойную добычу; ворон с сорокой назвали его простаком; фазан спросил, откуда взялся такой уродец; дрозду было интересно, почему чужак прятался в тени деревьев; ну а павлин не пожелал даже узнать его имя. До сих пор Эосу еще никогда не приходилось быть отвергнутым. Однако мудрые люди знали, что волшебная песня всю ночь звучала под кронами деревьев и им первым на Британском острове довелось услышать ее.
Амброз Мейрик тоже слышал волшебную песню. Она нашептывала ему что-то в ухо, она наполняла дыханием его грудь, она оживала поцелуями на его губах. Амброз никогда не был одним из тех, кто презирал Эоса.
Глава II
Мистер Хорбери на протяжении нескольких дней раза два страдал от приступов угрызения совести после того, как он жестоко проучил своего племянника. Но, справедливости ради, надо заметить, что страдал он не очень сильно: в конце концов, Амброз не впервые скандально не выполнил правила, да к тому же усугубил свое поведение наглой ложью. Высокий служитель искренне понимал, как важно было для мальчика увлечение нормандской архитектурой, но резонно полагал, что если каждый ученик в Люптоне будет приходить и уходить, когда ему вздумается, и выбирать, какие правила следует выполнять, а какие нет, то школа быстро превратится в "то еще" заведение.
Однако в его голове по-прежнему гудел неясный, еле уловимый ропот по поводу того, что он сорвал на Мейрике свое раздражение, вызванное не только проступком мальчика, но И директором, поваром и винным торговцем. И Хорбери сожалел об этом, пытаясь быть объективным, что ему не всегда удавалось.
Но слабые его сомнения быстро исчезли, сменившись удовлетворением от произошедших в поведении мальчика перемен. Амброз больше не старался избегать футбола. Играл хорошо и с видимым удовольствием. Вероятно, в его душе селился покой: стоило преподать ему урок, и бездельник встал на путь истинный. Из секретных источников, которые известны лишь учителям, Хорбери довольно быстро узнал о том, при каких обстоятельствах были травмированы Роусон и Пелли, но ни в коей мере не сердился на племянника. Очевидно, что оба мальчика нарывались на неприятности и получили о заслугам. Конечно, если бы он узнал о случившемся от должностного лица, а не при помощи обычных мистических преподавательских каналов, то ему пришлось бы наказать Мейрика во второй раз, так как по школьным правилам драка — очень серьезное нарушение, такое же, как курение, и даже хуже. По в данной ситуации Хорбери ничего предпринимать не стал. К тому же школьные успехи Мейрика были весьма удовлетворительными. Амброз усердно трудился, а его последняя работа и вовсе заслуживала самой высокой оценки. Греческая проза Мейрика показала реальную силу языка. Высокий Служитель был доволен. Его жесткий урок принес даже более ощутимые результаты, чем он рассчитывал, и Хорбери предвидел день, когда сможет гордиться тем, что он был преподавателем этого замечательного ученика.
Среди мальчиков Амброз стал бесспорным лидером. Он не только научился играть в футбол, но и показал Пелли, как следует отражать удар в ухо. Все признавали, что Амброз — хороший товарищ. Но ребята недоумевали, почему он вдруг иногда ни с того ни с сего разражался громким смехом. Мейрик объяснял, что у него что-то не так внутри, а доктора не могли понять, что именно, — и это казалось интересным.
Впоследствии Амброз часто мысленно возвращался в то время, когда Люптон "делал из него человека", и не переставал удивляться странности тех лет. Мальчики и учителя считали его абсолютно нормальным школьником, с теми же интересами, что и у остальных. Было, конечно, кое-что подозрительное в его поведении, когда он только появился в Люптоне; но все довольно великодушно решили, что, несмотря на блеск любопытства в глазах, Мейрик такой же образцовый люптонианец, как и любой другой из шестисот. Все полагали, что он хорошо прижился, подчинив свою собственную индивидуальность, мнение и привычки общей атмосфере, царящей в школе, что, как бы очистившись от светской пыли, он надел платье братства. Это и было основной целью школы — вылепить из очень разнообразных личностей единый тип, чтобы каждая большая частная закрытая школа имела характерные черты, которые легко бы узнавались во взрослом человеке уже после того, как минуют школьные дни. В далеких странах — Индии и Египте. Канаде и Новой Зеландии — каждый сразу определит оживленную настороженность Итона[206], изящную вежливость Харроу, глубокую серьезность Регби; Люптон же был примечателен своей завершенностью. Старого люптонианца обсуждение проблемы волнует не больше, чем святого отца; а его речь — цепочка неоспоримых догм каверзного человека, который подвергает сомнению любое утверждение, ощущая себя хамом и посторонним.
Проще некуда: два человека, впервые встретившись в загородном доме, вместе выпили вечером по виски с содовой и выкурили по сигаре. Они имели идентичные представления в таких важных вопросах, как управление хозяйством, Трансвааль[207] или свободная торговля, и когда более образованный из двоих утверждал, что повешение было слишком хорошим наказанием для Бланка (известного государственного деятеля), другой ответил примерно следующее:
— Я, пожалуй, соглашусь с вами, повешение действительно слишком мягкое наказание для Бланка.
— Его надо сжечь заживо, — развил свою мысль первый.
— Если ставить вопрос так, то сначала его нужно посадить на кол, а уж потом сжечь, — возразил другой.
— Посмотрите, как он обращался с Дэшем! Подлый трус и негодяй!
— Вы абсолютно правы. Он действительно ужасный негодяй!
Великолепно было то, что каждый думал о своем милейшем собеседнике. Но, к сожалению, по стечению обстоятельств беседа меняла направление от несправедливости Бланка к секретам кулинарии — ирландскому тушеному мясу, которое было призвано образно выразить их взгляды на разрушительную и несправедливую политику государственного деятеля в отношении Ирландии. А так как оба уже заявили свою позицию в этом вопросе, то их мнения о кулинарии не совпали, как и в случае с Бланком.
Тот, что предлагал сжечь Бланка, сказал:
— Нет ничего лучше английской кухни. Никакой другой народ в мире не сравнится с нами по части готовки. Посмотрите на французскую кухню — в ней так много гадкого и ужасно путаного.
Теперь, уже не столь оживленно и твердо, второй спросил:
— А вы много раз бывали во Франции? Жили там?
— Никогда моя нога не ступала по земле этой скотской страны! Я не люблю их кухню и не собираюсь есть на обед улиток и лягушек, плавающих в масле.
Тогда его собеседник начал рассказывать о простой, но очень вкусной нище, которую он пробовал во Франции. — несладком croute-au-pot[208], bouilli[209] — великолепном блюде, если оно приправлено одним или двумя маленькими огурчиками; бархатном epinards au jus[210], жареной куропатке, салате, душистом рокфоре и нежнейшем винограде. Но при упоминании о супе, оппонент говорившего повернулся к собеседнику спиной, предоставив тому прекрасную возможность полюбоваться его сильными мышцами и спортивным сложением. Он ничего не сказал, просто взял сигару и продолжил курить.
Наблюдавшие за этой сценой люди смотрели в изумлении, защитник французской кухни выглядел раздраженным. Но хозяин — старик с острым взглядом и светлыми усами, яростный враг лягушек, улиток и жира — вдруг небрежно бросил:
— Я не знал, Малок, что вы из Люптона.
Малок пристально посмотрел на него. Остальные на мгновение задержали дыхание, а затем разразились диким пронзительным смехом. Комната наполнилась криками радости. Восхищение было безграничным. На мгновение все стихло, так как людям просто не хватало дыхания, а затем крики и смех возобновились даже более громко, чем в первый раз, пока старый сэр Генри Роунсли, невысокий и полный мужчина, не начал задыхаться, издавая, вперемешку с хихиканьем, звуки, похожие на карканье вороны. На следующее утро Малок немедленно освободил комнату и покинул дом. Он принес извинения хозяину, а друзьям сказал, что ненавидит грубиянов.
Эта история, истинная или ложная, показывает отличие Люптона от других городов.
"Мы должны попытаться научить мальчиков распознавать свои собственные способности", — декларировал директор, и, похоже, эта попытка в большинстве случаев оказывалась успешной. Как однажды отметил Хорбери в своей статье о Системе частных закрытых школ, ожидалось, что каждый мальчик перестроится и переформирует себя в соответствии с законами школы.
"Иногда я сравниваю нашу работу с работой литейщика, — рассуждает он в этой статье. — Подобно грубой бесформенной массе металла, прибывающего на литейный завод, новобранец великой частной закрытой школы представляет собой необработанную руду, но через восемь или девять лет, покидая дорогую старую школу, он еле преодолевает нежелание расставаться с нею и говорит ей "до свидания", плотно стиснув зубы. Но я думаю, что наша задача намного сложнее задачи литейщика, который имеет дело с металлом, не содержащим различных примесей, тогда как основная масса нашей руды не только бесформенна, но и содержит много бесполезного мусора.
Прибывая сюда, мальчик покидает родной дом, который, Возможно, оказал на формирование его характера ценное влияние; и здесь, как мы часто обнаруживаем, он стремится твердить атмосферу своего индивидуализма, часто создающего в нем заблуждение, будто он вошел в этот мир для того, чтобы жить своей собственной жизнью и иметь обо всем свое собственное мнение. Этот мальчик — руда, которую мы бросаем в нашу печь. Мы сжигаем все примеси и мусор, смягчаем упрямый сопротивляющийся металл до тех пор, пока он не превращается в чернозем, удобренный единым чувством и духом большого сообщества. Мы препятствуем развитию его индивидуальности, делаем его похожим на других мальчиков в Люптоне, мы отучаем его жить своей жизнью и думать своей головой, заставляя жить нашей жизнью и думать, как мы. Едва ли я должен говорить, что очень часто этот несколько неприятный процесс приводит к тому, что рано или поздно даже самый твердый металл поддается очистке и под влиянием общественного мнения из бесформенной массы приобретает форму Великой школы.
Недавно бывший ученик пришел повидать меня и признался, что в течение всего первого года пребывания в Люптоне он чувствовал себя глубоко несчастным. "Я был мечтательным молодым дураком, — сказал он. — Моя голова переполнялась всевозможными странными грезами, и думаю, если бы я не приехал в Люптон, меня бы ждала участь абсолютного бездельника. Но тот ужасный первый год я люто ненавидел. Я терпеть не мог футбол, правда, и думал, что все мои товарищи похожи на дикарей. А затем я начал потихоньку проникаться школьной атмосферой. Понимаете, сэр, я терял свое старое Я, делался другим, не осознавая, как это происходило. Затем, весьма внезапно, все стало легко и ясно. Я увидел цель — это была совместная работа учителей и мальчиков на благо дорогой старой школы. Мы ощущали себя "частью друг друга", как сказал доктор в часовне; я тоже всецело отдавался общей большой работе. Все произошло мгновенно, словно яркая вспышка света: минуту назад я был всего лишь никому не нужным бедным маленьким мальчиком, и в следующий момент вдруг понял, что не менее важен, чем доктор, что я — такая же часть неудачи или успеха всего этого, как и он. Вы знаете, что я сделал, сэр? У меня была книга, питавшая мои безрассудные мечты, — "Поэмы и рассказы" Эдгара Аллана По. Книгу дала мне сестра; она умерла за год до моего приезда в Люптон, когда ей было всего лишь семнадцать. Перед смертью она написала на обложке этой книги мое имя, поскольку знала, как я любил читать ее. В минуты, когда товарищи позволяли мне побыть одному, я предавался причудливым грезам, читая странные поэмы Эдгара По. Но, осознав свою настоящую жизнь, поняв ее истинное значение, я разорвал книгу на мелкие клочки. Для меня это было равнозначно тому, как если бы разорвали мое тело. Но я знал, что при всей красоте поэм и рассказов американца, я уже ничего не мог почерпнуть из книги. Хотя и неосознанно, я уже соответствовал планам доктора относительно духа школы и желания играть в футбол не хуже других. Я знал, что моя бедная сестра поймет, почему я так поступил; и в результате, благодаря Люптону, я ушел далеко вперед. Вспоминая того мечтательного рассеянного пятнадцатилетнего подростка, я едва могу поверить, что когда-то был таким настороженным мальчиком, который каждый момент своей жизни поверял силой и мощью окружающего мира"".
Вот какому влиянию подвергался Амброз Мейрик, и, надо сказать, процесс "переплавки" шел успешно, ибо все, кто наблюдал за ним, отмечали это. Изменения в поведении мальчика расценили как отличный пример эффективности Системы: он долго отказывался подчиняться законам школы, упрямо подставляясь под ее жернова, которые пытались растереть его в порошок, и не скрывал своей ненависти к этому месту и к окружающим людям, а потом вдруг сдался, причем с радостью. Это было замечательно! Как и полагается, учителя обсудили между собой произошедшую с ним метаморфозу, а Хорбери похвастался, что он применил к Мейрику действенный метод убеждения, за что впоследствии снискал немало лавров.
Глава III
Несколько лет назад небольшая книга под называнием "Половинчатый праздник" привлекла к себе некоторое внимание в полусхоластических, полуконторских кругах. Все это происходило анонимно и заслужило скромный девиз Crambe bis cocta[211]. Последнюю сцену книги приписывали Чарлзу Палмеру, уже много лег преподававшему в Люптоне. Среди ею известных работ есть одна небольшая полезная брошюра, посвященная краткой истории Рима — от падения Республики до Romulus Augustulus[212]. "Половинчатый праздник" содержит забавный отрывок, в котором не сложно найти сходство между N., упомянутым в нем, и Амброзом Мейриком:
Даже самый умный педагог иногда обнаруживает, что он жил в придуманном дураком рас, что он был обманут тихой и постоянной нежностью, которая однажды способна ударить с дьявольской силой. Такое может случиться к с английским школьником. Много ерунды было написано о мальчиках людьми, в действительности знающих о них очень мало; недостатки характера, чувства, неуемные желания и болезненная сентиментальность, о которых говорили эти люди, чужды подросткам. Я могу поверить в смертельно опасную кошачью шалость Сталки и его друзей, но признаю, что инцидент с британским флагом оставляет меня холодным скептиком. Подобное восприятие не было свойственно английскому мальчику — во всяком случае такому, каким я его знал. Будучи простодушным, он не умел скрывать свои чувства, и, чтобы обнаружить и пресечь самые его сокровенные схемы и маневры, не понадобился бы талант Шерлока Холмса. Много грязи было вылито по поводу нашего английского плана, успешно осуществленного во французских школах, согласно которому мальчикам необходимо предоставлять относительную свободу.
Английский школьник находится практически под постоянным наблюдением сотен своих товарищей, тогда как во французской школе один несчастный служитель должен заботиться о целой орде мальчишек. В действительности, каждый школьник живет под неусыпным оком сторожевого пса, чья бдительность никогда не ослабляется. Мальчик не знает об этом. Он справедливо думает, что участвует в поддержании чести школы и соблюдении се традиций, и, общаясь с лентяями и бездельниками, возмущается, опасаясь того, что они способны дискредитировать так горячо любимое им место. Без сомнения, он абсолютно прав; и тем не менее помимо воли он выполняет работу учителя. Когда каждый думает об этом и об обязательной системе игр, предполагающей, что все ученики должны находиться в определенном месте и в определенное время, реплика о недостатке нашего наблюдения представляется мне просто фразой, не более. Не существует никакой известной человеческому разуму системы наблюдения, которая тщательно и поминутно следила бы за жизнью мальчика в английской частной закрытой школе.
Когда же, несмотря на то, что школа переполнена неоплаченными помощниками, тем не менее кому-то удается выйти из-под наблюдения, это естественно вызывает удивление. Я припоминаю лишь один такой случай и все еще поражаюсь той действительно адской способности, с помощью которой указанный мальчик жил двойной жизнью на глазах учителей и шести сотен школяров. N., назовем его так, не был в моей усадьбе, и я едва ли могу передать, с каким огромным интересом приехал понаблюдать за его успехами; было в нем что-то, что меня очень сильно интересовало. Возможно, его появление в школе.
N. ничем не выделялся среди других мальчиков. Он был темноволосым, смуглым, с мечтательными глазами и отсутствующим взглядом, и в течение первых лет своей школьной жизни проявил себя типичным бездельником. Конечно, такие мальчики весьма необычны в большой школе, но несколько подобных экземпляров имеется повсюду. Никто никогда не знает, чего от него ждать: он может написать удачную книгу, нарисовать великолепную картину или стать приспешником дьявола; как ни прискорбно, но, по-моему, последний вариант встречается наиболее часто.
Едва ли нужно говорить, что такие мальчики пользуются малым влиянием; это не тот тип, ради которого существует частная закрытая школа, помогающая ученику, ощущающему себя материей, попавшей в чуждую среду, распроститься со споим болезненным самоанализом. Конечно, он может оказаться и сокрушительным гением Если подобное когда-либо и случится, это будет большой неудачен; до сих нор и любом обществе меньшинство страдает из-за большинства, поэтому я всегда искренне мечтал управлять судьбой. На мой взгляд, о чем я уже говорил, особенный мальчик в девяти случаях из десяти оказывается не гением, а намного хуже обычного подростка; как правило, обнаруживается, что он — типичный подлец.
Итак, меня интересовал N. Я испытывал к нему жалость, поскольку его родители были мертвы и он относился к тем бедным школьникам, которые не имеют родного дома, а потому особо не ждут приближения каникул. Его упрямство удивило меня; в большинстве случаев к концу первого триместра давление общественного мнения приводит бездельника к ощущению ошибочности его прежнего поведения. По казалось, N. с помощью своего мечтательного сопротивления, которое все больше сердило нас, мог противостоять всем. Пе думаю, что он приятно проводил время. Его поведение в обществе напоминало поведение мудреца, попавшего на остров, населенный отвратительным деградирующим племенем дикарей, и вряд ли нужно пояснять, что другие мальчики старались заставить N. осознать чрезвычайную нелепость такого поведения. Он отличался острым умом, но трудно было принудить его играть в различные игры, а еще труднее — заставить играть в футбол. Казалось, N. пытался увидеть в нас что-то свое, а ученики и учителя не любили, когда с ними обращаются как с незначительными иллюзиями. И вдруг, весьма внезапно, N. полностью изменился. Я верю, что наставник, измученный до потери сознания, преподал мальчику серьезный урок; во всяком случае, перемена в нем была налицо.
За несколько дней до превращения N. мы обсудили на еженедельной встрече учителей вопрос о норке. Признаюсь, что сомневался в эффективности такого способа воспитания. Я уже забыл аргументы, которые тогда приводил, но помню, что был серьезно настроен принять сторону "Партии противников норки", как шутливо называл либералов директор. Несколько месяцев спустя, когда наставник N. заметил, что мальчик играет в футбол подобно молодому демону, а блеск в глазах N. напомнил мне о той позиции, которую я занял на встрече учителем, мне пришлось признать, что я был не прав. Конечно, в этом случае палка для норки оказалась воистину волшебном палочкой. Неисправимым бездельник превратился с ее помощью в одного из самых умелых и энергичных ребят во всей школе. Мне доставляло удовольствие' наблюдать за ним в играх, и я помню, насколько потрясающей по скорости и точности была его великолепная подача мяча.
N. продолжал свой обман — а это действительно был обман — в течение трех или четырех лет. Он сдавал экзамены в Оксфорд, и вся школа пророчила ему блестящую карьеру, в исключительности которой никто не сомневался. Научные статьи N. удивляли даже авторитетных ученых. Я помню одного из выпускников, написавшего нашему директору проникнутое энтузиазмом письмо, и все мы узнали, что несравненная подача мяча позволила N. войти в число одиннадцати основных игроков в его первой университетской команде. Игроки в крикет еще не забыли того представления, которое он устроил на поле, и, как заметил наблюдательный журналист, препятствия падали перед ним, подобно зрелым зернам под ударами серпа.
И вдруг N. исчез. Всю школу охватило беспокойство: учителя и мальчики растерянно смотрели друг на друга, но всей стране были отправлены поисковые команды; о произошедшем известили полицию; каких только версий случившегося не было. Большинство склонялось к тому, что из-за сверхурочной работы и умственного напряжения у N. произошел упадок сил и он потерял память. О нем ничего не было слышно до тех нор, пока в конце второй недели наставник N. не вошел в нашу комнату, оглядываясь с весьма, как мне показалось, испуганным и озадаченным видом.
— Не понимаю, — сказал он. — Я получил это письмо по почте. Почерк N. Но не могу понять, где здесь начало, а где конец. По-видимому, оно написано по-французски.
Он протянул бумагу, тщательно исписанную изящным почерком N., всегда напоминавшим мне о чем-то восточном в его характере. Учителя качали головами, передавая письмо из рук в руки, чтобы потом отдать учителю французского языка. По поскольку, когда все это произошло, я самостоятельно изучал старофранцузскнй, мне не составило труда разобраться в тексте письма, которое N. прислал своему учителю.
Оно было написано в раблезианском стиле. Не припомню, чтобы мне доводилось читать что-либо более мерзкое и грубое. Автор действительно нарушил все мыслимые границы приличия, так что могло показаться, что этот опус — своего рода кошмарное видение для школы, учителей и мальчиков. Всё и все были ужасно искажены, рассмотрены как бы в отвратительном кривом зеркале, хотя любая особенность школы легко узнавалась; письмо навевало мысли о мерзких йеху[213] Свифта, при воспоминании о которых по телу пробегала болезненная дрожь, — иначе его просто невозможно было истолковать.
Один фантастический эпизод особенно мне запомнился. Был среди нас весьма честолюбивый преподаватель, который но какой-то причине стал непопулярным наряду с несколькими другими учителями; именно его и вывел автор письма в этом фантастическом эпизоде, где было описано, какой поднимается на школьную башню, а там, на самом верху, над часами, находится объект его поисков, который, как утверждал создатель "Темных птиц ночи", всеми возможными и невозможными способами сопротивляется установлению контакта с учителем. Попытка понять, к чему бы могла иметь отношение эта экстраординарная тема, была обречена на провал. Несчастный учитель поднялся на стену высоко-высоко, и я никогда не забуду описание его лица, повернутого к объекту поисков. Даже в наиболее гадких раблезианских картинах или в мерзких зарисовках Свифта не было столь откровенном жестокости. Строки письма пылали адским огнем безбрежной клоаки.
Я читал вслух и переводил лишь наиболее пристойные фразы. Не могу сказать, что преобладало в нас — чувство отвращения или замешательство. Один из моих коллег остановил меня, посчитав, что они услышали уже достаточно; мы молча смотрели друг на друга. Поразительная жестокость и непристойность письма ошеломили нас, и я не перестаю утверждать, что, если бы пул ка и внезапно начал извергать клубы пыли и грязи посреди футбольного поля, я едва ли удивился бы больше. И все это было делом рук N., чьи блестящие способности в играх и в школе служили образцом для многих тысяч, любимый ученик X., как утверждал один из моих коллег! Это был мальчик, которого в течение последних четырех лет мы считали великим примером влияния школы на формирование личности! Это был N., который, как мы думали, готов умереть за честь школы, который говорил, что никогда не сможет возместить то, что Х. сделал для него!
Мы смотрели друг на друга с изумлением и ужасом. Наконец кто-то сказал, что N., должно быть, сошел с ума, и мы пробовали предположить, какая ужасная беда привела его к подобному безумию, — наша терпимость превосходила все, что при подобных обстоятельствах позволяло здравомыслие. Вряд ли я должен говорить, что эта филантропическая гипотеза оказалась необоснованной: N. был совершенно нормален; он просто мстил за подавление его истинных чувств в течение четырех лет школьной жизни.
"Превращение", которым мы так гордились, обернулось ужасным обманом; вся его жизнь была продуманным организованным лицемерием, причем базировалось оно на неизменных навыках, приходивших с каждым годом его школьной жизни. Помочь ему уже невозможно, не трудно сдержать удивление, когда рассматриваешь внутреннюю жизнь этого несчастного мальчика. Думаю, каждое утро он просыпался с проклятиями в душе; N. улыбался всем нам и участвовал в играх со страшной злобой, пожирающей его изнутри. Насколько можно судить, он всегда был весьма искренним в своих скрытых убеждениях.
Неприязнь, ненависть и презрение ко всему, что связано со школой, столь откровенно выраженные, сильно задели меня. Читая письмо, я не мог не вспомнить одухотворенное, восторженное лицо N., когда он пел в хоре; казалось, он вдохновлял других мальчиков своей энергией и преданностью. Видение было ужасным; я чувствовал, что на мгновение сдернул покров с картины ада.
Учитель французского внес в эту экстраординарную ситуацию присущий ему такт. Конечно, директор обязан был рассмотреть данный прецедент; мне и учителю французского М. поручили сделать полный перевод письма. К моему удивлению, М. читал сей мерзкий пасквиль с выражением восторга на лице, а закончив читать, положил письмо и сказал:
— Eh bien: maître François est encore en vie, évidemment. С'est le vrai renoweau de la Renaissance; de la Renaissance en tres mauvaise humeur, si vous voulez, mais de la Renaissance lout-de-même. Si, si; c'est de la crû véritable, je vous assure. Mais, noire bon N. est un Rabelais qui a habité une terre affreusemenl sèche[214].
Я действительно думаю, что аморальный аспект случившегося показался ему либо полностью незначительным, либо абсолютно несущественным; он просто смотрел на отвратительную и гадкую работу N. как на небольшой шедевр в специфическом литературном жанре. Небеса знают! Никто не хочет быть фарисеем; но я видел М., довольно усмехающегося по этому поводу, и не могу удержаться от ощущения, что падение Франции прежде Германии не принесло бы никакой неразрешимой проблемы историку.
Можно сказать немного больше об этом вопиюще неприятном деле. Произошедшее, конечно, постарались насколько возможно замять. Никакие дальнейшие попытки обнаружить местонахождение N. не были предприняты. Спустя несколько месяцев мы окольными путями узнали, что несчастный N. отказался от ученой степени Баллиольского колледжа[215] и блестящих перспектив в жизни ради того, чтобы присоединиться к компании бродячих комедиантов, или "Драматическим художникам", поскольку я предполагаю, что it настоящее время они называются именно так. Думаю, последующая карьера N. была тесно связана с таким началом, но я не желаю говорить об этом.
Приведенная история наглядно показывает, сколь успешно приспособился Амброз Мейрик к окружающей среде Люптона. Палмер, действовавший из лучших побуждений, хотя и был чрезвычайно глупым человеком, описал голые факты, воспроизведя их достаточно точно; однако следует сказать, что его выводы и "размышления по поводу" нелепы все без исключения. Он был образованным человеком, но в глубине души считал, что Рабле, Мария Монк[216], "Чрево Парижа" и "La Terre"[217] по существу — одно и то же.
Глава IV
Старая записная книжка, сохраненная Амброзом Мейриком, начинается с любопытного вступления, проливающего свет на некоторые странные события тех лет, что описаны Палмером. Нижеследующий отрывок весьма интересен:
Я сказал ей, чтобы она не приезжала какое-то время. Она удивленно спросила меня, почему — разве я не люблю ее? Я объяснил, что, напротив, люблю ее слишком сильно, а потому боюсь, что, если мы будем видеться часто, я не смогу без net' жить. Я должен умереть счастливым, ибо считается, что наши тела, находясь в сердцевине белого пламени, долго не живут. Я лежал на кровати, а она стояла рядом. Я посмотрел на нее. В комнате царили темнота и безмолвие. Я едва мог видеть ее, хотя она находилась так близко ко мне, что было слышно ее дыхание. Я думал о белых цветах, которые росли в укромных уголках старого сада в Верне, рядом с большим падубом. Мне нравилось бродить летними ночами, когда воздух был тихим, а небо — облачным. Пока лес и холмы еще утопали в темноте, можно было слышать журчание ручейка на лугу. Очертания горы вообще не просматривались. По я любил стоять у стены и вглядываться в темноту, и спустя короткое время цветы, казалось, вырасти! из тени. В темноте виднелось только их слабое мерцание. Когда я лежал на кровати во мраке комнаты, она была для меня подобна тем цветам.
Иногда я мечтаю о чудесных вещах. Особенно часто — во время пробуждения. Человек в этот момент не понимает, где он и что было таким прекрасным, но осознает, что, проснувшись, все потерял. Всего мгновение даровано ему, чтобы познать звезды, холмы, ночь, день, леса и древние песни. Однако в этот момент он переполнен своим знанием и сам будто соткан из света. Свет льется звуками музыки, а музыка — темно-красным вином из золотого кубка, благоухающего ароматом июньской ночи. Я понимал все это, потому что она стояла рядом с кроватью, протягивая руку, чтобы коснуться моей груди.
Помню пруд в старом-старом сером лесу в нескольких милях от Верна. Лес был серым из-за древних дубов, которые, но рассказам, сохраняли наготу и уродство в течение тысячи лет. В большинстве своем они были пусть! внутри, а у некоторых было всего лишь несколько веток, да и на тех, как говорят, каждый год вырастало на листочек меньше. В книгах их называют дубами Форестера. Рядом с ними вы чувствуете дыхание древних времен. Рос в лесу и великим тис, и был он намного древнее дубов. Этот гигант возвышался в тени пруда. Я долго гулял у моря, а вернувшись к и руду, видел, как в его водах вспыхивали звезды.
Она стояла на коленях у моей кровати, глядя на меня в темноте, и я мог лишь видеть, как сверкали ее глаза — это были звезды в темном и руду!
Я никогда не подозревал, что в мире может существовать нечто столь прекрасное. Отец рассказывал мне о многих великолепных святынях, о всех небесных тайнах, дарованных тем, кто знает вечную жизнь, и об остальных вещах, которые доктор, мои дядя, и другие священнослужители в часовне… (пропущена очень раблезианская фраза), ибо им действительно вообще ничего не известно, кроме названии; поэтому они похожи на собак, свиней и ослов, случайно попавших в красивую комнату, наполненную драгоценностями и хрупкими сокровищами. Отец много рассказывал мне о них и о великой тайне жертвоприношения.
Я узнал о чудесах старых почтенных святых, которые, в свою очередь, тоже были чудом на нашей земле: как говорится в уэльской поэме, они поднялись в горы и избороздили просторы океана, окинув взором все творения, что сияли у их ног. Я видел их заметки и письма, колющие словно острия камней. Я знаю, где захоронен Саграмнус в Улад-Моргане[218]. И я не забуду, как видел благословенную Чашу Тейло Аджиоса, доставленную под покровом ночи из Минидд-Мор, не забуду звезды, сотворенные из драгоценных камней, не забуду море святых и духовных вещей к Корарбеннике. Отец зачитывал мне истории о Тейло, Деви и Илтид, об их изумительных потирах и алтарях рая; впоследствии они составили книгу о Граале. Но как сказал помазанным бард: "Я пригубил виноградный напиток, призванный насытить плоть, я наслаждался духовным нектаром, с помощью которого можно понять бессмертных. Святой Михаил попросил, чтобы смешали оба напитка в одном кубке. Позвольте открыться двери между душой и телом. В этот день земля станет раем, а тайные слова бардов подтвердятся". Я всегда знал значение этих слов, хотя отец сказал мне, что многие люди думали, будто все это — просто глупость. Они называли глупостью то, что менее реально, чем поэма любимого мною барда, где говорится следующее:
"По удалось мне скрыть свой грех — когда старухи на мосту в меня персты уперли.
Мне стало стыдно.
Когда уехал я из Каер-Невидд[219] и упрекали в том меня мальчишки.
Мне было горько и обидно.
По почему тогда я не стыдился под указующим перстом Творца?
Упрек Всевышнего не мог я пережить, предчувствуя агонию конца.
Кулак Рис Фоур[220] для меня страшней, чем Бога длань".
Думаю, он подразумевает, что наша самая большая потеря связана с тем, что однажды мы отгораживаемся и затем делаем это снова и снова. Таким образом мы превращаем менее реальное в более реальное; это все равно, что предполагать, будто стакан, сделанный для того, чтобы наливать в него вино, важнее, чем даже само вино, содержащееся в нем. Вот примерно то, что я чувствовал. Во второй раз я понял, что познал чудо своего тела, когда увидел Чашу святого Тейло и представшие мне в видении горы; и, как говорит бард, в тот момент дверь была
закрыта. Жизнь материальных вещей так же трудна, как тверд стакан с вином. Мы можем осязать его, чувствовать и видеть перед собой. Вино выпито и забыто; ему не дано настаиваться вечно. Мне кажется, воздух вокруг нас столь же существенен, сколь гора пли собор. И мы будем убеждены в атом, пока не напомним себе, что воздух — ничто. Это не трудно сделать. По теперь, после того, как я побывал в раю, мои тело и душа слились в едином пламени и выросли из одного огня. Смертные и бессмертные виноградные лозы переплелись между собой. Обладая радостью тела, я постиг счастье духа. И было поистине странно осознавать, что ко всему этому причастна женщина — женщина, которую я видел десятки раз и не задумывался ни о чем, кроме того, что она мила и цвет ее волос, похожий на медь, очень красив.
Не могу понять этого, не могу до конца прочувствовать, что она — действительно та Нелли Форан, которая открывает дверь и ждет за столом, потому что она — чудо. Представляю свое удивление, если бы однажды я увидел, как камень, лежащий у обочины дороги, превратился в драгоценность огня и славы! По даже случись такое, произошедшее со мной все равно еще более странно. И я уже не вижу черного платья, шляпы служащего, прихожей. Передо мной лишь прекрасное, чудесное тело, сияющее в темноте моей комнаты и представляющее собой звездное мерцание белых цветов во мраке лесного и руда.
О дар бессмертных!
О чудо сокровенной тайны!
Секретов много было мне даровано судьбой.
Я долго познавал деревьев мудрость;
Дуб, ясень, вяз поддерживали связь во мне с далеким детством;
Береза, и орешник, и прочие деревья зеленой чащи не были немыми.
Я расскажу о лесе; его сокровища известны Бардам.
Немало было тех, кто Каер-Педрифан[221] надеялся найти Семь одиноких странников[222] с Артуром возвратились, и дух мой жизнь обрел.
В саду прекрасном произрастает семь яблонь:
Я их плоды вкушал, неведомые смертным.
Я ничего не знаю о саксонском Главе почтенном.
Вот бесконечная для воинов отрада; бессмертна радость их.
И если бы они открыли дверь южную[223], то праздновать могли бы вечно,
Слух ублажая песней райских птиц.
Об Острове Блаженных я не позвано всуе рассуждать.
Весь в одеяниях святых, вернувшихся оттуда. Бессмертный запах Ра[224] по-прежнему живет.
Я знал все это, но в познаниях моих невежество сквозило.
И вот — тот день, когда гулял я в лесу у Каэр-рио[225], главной чаще Гвента.
Я видел золотую Мифанви — она в ручье Тароджи омывалась.
По тему волосы ее струились. Корона короля Артура растворилась в тумане призрачном.
Я пристально смотрел в ее небесно-голубые очи.
Не видя прелестей прекрасных тела.
О дар бессмертных!
О чудо сокровенной тайны!
В момент, когда я обнял Мифанви, я стал бессмертным*
*Перевод уэльских стихов, указанных в записной книжке.
Я все же осмелился рассказать о "золотой Мифанви", которую люди называют "обычной девушкой". Возможно, она выполняла тяжелую работу, и никто о ней не заботился до тех нор, пока бард не нашел ее, купающейся в ручье Тароджи. Лесные птицы все видели и не преминули сказать: "Это — презренный незнакомец!"
24 июня. С момента, как я закончил писать свою книгу, прошло немало времени и уже наступило лето. Утром я проснулся очень рано, и даже в этом ужасном месте после восхода солнца воздух был свеж и ясен. Длинные солнечные лучи озаряли ветви кедра. Я думаю, она приехала ко мне но запретному пути: и она была похожа на белый и золотой мир во время рассвета. Под окном начал петь черный дрозд. Мне кажется, он прилетел издалека и этим утром пел на горе для меня. Лес хранил безмолвие, и только маленький блестящий ручеек струился со склона между темно-зелеными ольхами.
"В Долине Вышней[226] птица поет.
Деви, Тегфит и Сиби царствуют здесь;
Сладость — это долина с милым сердцу журчанием вод.
В Долине Вышней птица поет.
Подобен звону святых колоколов голос се золотой;
Сладость — это долина, что вторит эхом мелодии той.
В долине Вышней птица поет.
Тегфит на юге познал мудрость[227] Муки,
В вечных небесных хорах песни слышатся звуки.
В долине Вышней птица поет.
У Деви на западе — райский алтарь. И, как встарь,
Хочет он, чтоб Аллилуйя над Англией вечно звучала.
В долине Вышней птица ноет.
Сиби на севере Принцам наставником был:
Песни хвалебной Эдлоган в небе свободно парил.
В долине Вышней птица пост.
Когда доведется мне снова услышать ее?
Когда вновь увижу я Глэдис в долине, где птица поет?"[228]
"В сладком Вышнем Долине, где раздавались Некогда гимны святые.
С отрогов холмов тот звук повторяют Птичьи трели простые.
В сладкой Вышней Долине, где ручеек Рябью покрытый течет,
Взгляд перспектив восхитительных полон,
Песней Фил мел а слух околдован, той, что вечно живет.
В сладкой Вышней Долине,
Жизнь мирскую презрев, сбросив нут ее прах,
Девица в хоры земные ушла,
Те, что и ныне звучат в небесах".
Размышляя о том, что я знаю — о чудесах заката и рассвета, не могу поверить, что мне даровано это чудо, утраченное остальным миром. Я слышал разговоры некоторых ребят о женщинах. Их слова и истории были глупы и пусты, словно беседу вели нелюди, а свиньи. По-видимому, в силу возраста они просто ничего не знали об этом, и в их ограниченных, глупых умах могли родиться только такие противные и пошлые рассказы. Но в городе я слышал, как бедные женщины ругаются на своих мужей и как мужчины орут на них в ответ; однако еще хуже, когда они думают, что занимаются любовью.
"В сладкой Вышней Долине Давидовы речи,
Духом евангельским диких британцев пленили,
И те непотребную брань, что за жизнь накопили.
В мелодию музыки нежной оборотили.
В сладкой Вышней Долине Сиби учил
Надменного принца святому закону;
Путь показал ему к небесам,
Почтенье и страх внушил племенам.
В сладкой Вышней Долине песня Филмела
Звучит и тревожит, как прежде.
Могу ли лелеять я счастье надежды
В объятиях Глэдис вновь рай ощутить?"
Это можно отнести не только к мальчикам и беднякам; среди подобных людей встречаются и учителя и их жены. О таких говорят: "Живут, как кошка с собакой". Да что далеко ходить: известно, что дочь директора была выставлена на аукционе и куплена богатым промышленником из Бирмингема — ужасным, жирным животным с глазами свиньи, который был старше се в два раза. Они называли это "прекрасной партией".
Итак, я начал задумываться о том, что, скорее всего, в мире мало сведущих людей; что истинная тайна похожа на большой город, скрытый на дне моря и только что замеченный одним или двумя счастливцами.
Возможно, это — не те сияющие Острова, что искали святые, где потрясающие яблоневые сады и все радости рая. Но чтобы найти Аваллон, или Остров Блаженных, нужно отдаться на волю волн в лодке без весел и парусов. Иногда святые могли стоять на скалах, смотреть на те Острова, которые находились далеко посреди моря, вдыхать приятные ароматы и слышать колокола, зовущие па трапезу, в то время как остальные вообще ничего не видели и не слышали.
Сейчас я понимаю, как было бы странно, если бы обнаружилось, что практически каждый из нас похож на тех, кто стоял на скалах и мог видеть простирающиеся вокруг волны, синее небо и туман вдалеке, если бы все мы вдруг оказались в неправильном мире, мире замечательных сокровищ, что окружают нас. Но мы не понимаем сущего — швыряем драгоценные камни в грязь, используем потиры в качестве мусорных ведер и превращаем святые одежды в тряпки для мытья посуды. И таким образом мы поклоняемся огромному зверю — монстру с головой обезьяны, телом свиньи, копытами козла и роящимися но всему его телу вшами. По что, если люди, коих ныне принято называть суеверными и отсталыми, в действительности очень мудры, в то время как все мы, напротив, безнадежные глупцы?! Не правда ли, похоже на историю о человеке, жившем в сияющем дворце со сто одной дверью. Сто из них открывались к сады радости, счастья дома удовольствии, в красивые страны, волшебные моря золотые пещеры, алмазные холмы и другие прекрасные места. По одна дверь вела в глубокую яму, и это была единственная дверь, которую человек когда-либо открывал. Шли годы, и уже его сыновья и внуки не раз открывали все ту же единственную дверь. И так продолжалось до тех пор, пока они не поняли, что есть и другие двери. Подобным образом, если кто-то посмеет говорить о дорогах, саде счастья или золотых холмах, его назовут сумасшедшим либо очень злым человеком.
15 июля. На днях случилось нечто странное. Перед обедом я отправился на короткую прогулку за город но данхэмской дороге и пришел к перекрестку четырех дорог. Это весьма симпатичное место для Люптона; там есть участок со старым большим вязом посередине, а вокруг дерева — грубо вытоптанная площадка, где часто отдыхают люди. Бывая там, я слышал какую-то музыку, исходящую от дерева. Это напоминало танец фей, а затем к нему присоединялись странные торжественные звуки, походившие на речитатив священников, и хор вторил им глубокой, раскатистой, волнующей мелодией. А феи продолжали кружиться в танце. Во время службы я, так или иначе, думал о серой церкви на высоком утесе над ноющим морем и о праведниках, не танцующих на душистом торфе. И тут я вдруг услышал морские волны, ветер, крик чаек и восхитительный высокий звук музыки, словно феи, камни, волны и дикие танцы — все было подчинено тому пению, что исполнялось в церкви.
Заинтересовавшись, я огляделся и увидел поддеревом оборванца, играющего на скрипке: он играл для себя, играл вдохновенно, раскачиваясь из стороны в сторону. Заметив меня, он прервал свою музыку и сказа:!:
— О! Юный господин доставит себе удовольствие, дав бедному старому скрипачу пенни пли, возможно, два. Люптон — ужасный город, Когда я играю грязным жуликам воинский рил[229], они просят сыграть им какую-нибудь бездарную песенку — пусть черное проклятие дьявола сойдет на них. Это всего лишь скучная поделка, исполняющаяся с листа. Но зеленая земля — благословение святых — ожила в вашей душе сегодня, в этот день и навсегда! Поверьте, ваша светлость, в течение всего этого длинного дня я мечтал о кружке пива.
Я дал ему шиллинг, ибо его музыка была прекрасной. Он неотрывно смотрел на меня и, закончив говорить, изменился в лице. Я подумал, что он, возможно, напуган, отсюда и его странный взгляд. Я спросил, не болен ли он.
— Я могу обрести прощение, — вместо ответа произнес музыкант, и теперь его голос звучал очень серьезно, без какой-либо тени лести, проскользнувшей в начале разговора. — Я могу получить прощение за разговор с таким человеком, как вы. Весь день я просил милостыню, а подал мне тот, кому предначертано стать Кровавым Мучеником.
Он снял старую помятую шляпу и продолжил, поразив меня своими словами до глубины души:
— Вспомните обо мне во дни вашей славы, — сказал он и быстро пошел прочь от Люптона.
Вскоре я потерял его из виду. Наверное, он был немного сумасшедшим, но играл, тем не менее, чудесно.
ЧАСТЬ IV
Глава I
Описание странной истории, произошедшей в жизни Амброза Мейрика, можно найти в своего рода сборнике, который он назвал "О Веселье". Интересующий нас эпизод произошел, когда Амброзу исполнилось восемнадцать с половиной лет.
Не знаю, пишет он, как все это происходило. Я вел две активные жизни. Я играл в игры и успешно учился в школе, но это была моя внешняя жизнь, а внутренне я все чаще погружался в святилище бессмертных вещей. Жизнь трансформировалась для меня в сияющую славу, в живительное католическое причастие; об отупляющем воздействии школы нужно говорить особо, но, несмотря ни на что, я все более понимал, что стал участником потрясающего и очень важного ритуала. Думаю, я начинал проявлять нетерпение и внешне: мне кажется, я испытывал нечто вроде жалости, оттого что вынужден пить вино познания в одиночестве, оттого что сущность подчас бывает столь агрессивна.
В глубине сердца я просто хотел знать, что из великолепных невидимых фонтанов течет вино, хотел знать вещи, действительно "олицетворяющие" обнаженную красоту, без всевозможных драпировок. Сомневаюсь, понял ли Рэскин[230] мотив монаха, бредущего по горам с застланными печалью тазами и потому не способного видеть глубины и высоты вокруг себя. Рэскин называет это узким аскетизмом; думаю, это было результатом очень тонкого эстетизма. Внутренним мир монаха может достигать катарсиса на невиданных высотах и глубинах, зачастую пугающих, но, вероятно, именно таким образом он добивается, чтобы ничто не нарушало его экстаза.
По-видимому, в каком-то момент аскетический и эстетический принципы перестают различаться. Индийский факир, выкручивающий свои конечности и лежащий на раскаленных углях, внешне кажется более необычным, чем люди эпохи Ренессанса. В обоих случаях истинная линия искажена и искривлена, и ни в какой системе не достигает ни красоты, ни святости. Факир, как и художник Ренессанса, останавливается на поверхности. Ни в том, ни в другом случае не существует невыразимого сияния невидимого мира, проникающего через поверхность. Вне сомнений, кубок работы Челлини[231] прекрасен; но все же его нельзя сравнить с красотой старого кельтского кубка.
Думаю, в то время мне угрожала опасность пойти в неправильном направлении. В целом я был слишком нетерпелив. Небеса не позволяют мне утверждать, что я когда-либо приближался к тому, чтобы стать протестантом; но, возможно, я был склонен к фундаментальной ереси, на которой протестантство строит свою критику ритуала. Полагаю, что эта ересь действительно маниакальна; это — обвинение в развращенности и зле, совершенном против всей видимой вселенной, которая, как уже подтвердилось, — "не очень хороша, но и не очень плоха" и, уж во всяком случае, почти не используется в качестве проводника духовной правды. Между прочим, удивительно, но думающий протестант не чувствует того, что этот принцип отвергает постулаты Библии и всех учений так же, как отвергает свечи и ризы. В действительности протестант вовсе не считает, что логическое понимание — подходящий проводник вечной правды и что Бог может быть правильно и удовлетворительно определен и объяснен человеком. В противном случае, он просто осел. Фимиамы, одеяния, свечи, церемонии, процессии и обряды — все это весьма не соответствует требованиям; но и не превалирует в ужасных ловушках, недоразумениях и ошибках, которые неотделимы от человеческих речей, выдаваемых за высказывания Церкви. В танцах дикарем может быть больше правды, чем во многих гимнах в церковных книгах.
В конце концов, как говорил Мартинес[232], мы должны быть довольны тем, что имеем, даже если это — курильница, силлогизм или и то и другое вместе, даже если курильница более безопасна, чем я уже рассказывал. По, мне кажется, что крушение внешнем вселенной не так губительно, как разрушение людей. Цветок пли частичка золота без сомнения приближается к своему архетипу намного быстрее, чем это делает человек; следовательно, их привлекательность гораздо чище речей либо суждений людей.
Однако в те дни в Люптоне моя голова была переполнена сентенциям и, которые я черпал то там, то здесь, — вероятно, они представляли собой перевод из какой-то восточной книги. Я знал их дюжины; но вот все, что могу вспомнить теперь:
"Если Вы желаете опьянеть, воздержитесь от вина".
"Если Вы желаете красоты, не смотрите на красивые вещи".
"Если Вы желаете видеть, завяжите себе глаза".
"Если Вы желаете любви, не возвращайтесь к Любимому".
Думаю, мне понравилась парадоксальность высказываний. В этой связи можно допустить, что для человека с врожденным аппетитом к изысканности и правде, пусть даже не такой жестокой и ярко выраженной, атмосфере частной закрытой школы — благодатная почва для обострения его аппетита до безумия и неразборчивого голода. Подумайте о нашем друге Кол он еле, который, между прочим, — fin gourmet[233] вообразите его в пансионе, где пища — повторяющийся цикл ирландского тушеного мяса, вареного кролика, холодном баранины и соленой трески (без устриц и какого бы то ни было соуса!). Затем, когда он сполна вкусит прелести пансионной кухни, позвольте ему отведать яства в "Café Anglais"[234]. Его пристрастие к экзотическим блюдам будет поистине поразительным. Не следует забывать, что в каждом триместре мне приходилось слушать по воскресеньям одну из проповедей доктора, поэтому вовсе но удивительно, что я с трепетом внимал голосу "Персидской Мудрости" — по-моему, так называлась эта книга — и держал Нелли Форан на расстоянии в течение девяти или десяти месяцев, а при виде роскошного заката отводил глаза. Я жаждал духовной любви, подобной закату солнца.
Думаю, мне доводилось мельком видеть и более глубокие askesis[235], чем та, о которой пойдет речь. Возможно, в деле водителя Билла askesis присутствует в своей наипростейшей и наиболее рациональной форме, — не помню, в какой из великих работ "Theologia Moralis"[236] я нашел этот пример; в жизни Билл, вероятно, действительно был Quidam[237] и его занятие приравнивалось к Nauarchus[238]. Во всяком случае, Билл любил выпивать по четыре кружки нива; но он чувствовал, что две кружки этого напитка, выпитые перед работой, нагоняли на него сон и делали его менее внимательным в выполнении весьма ответственных обязанностей. Учитывая это, Билл мудро удовлетворялся одной кружкой, прежде чем сесть в свой кэб. Он ограничивал себя в хорошем, чтобы сохранить разум и гарантировать себе еще лучшее, — и не рисковал во время поездки с пассажирами. К этому простому аскетизму,
я думаю, приближается обычная дисциплина церкви — отказ от хороших товаров, приводящих к духовной смерти; отклонение от типичного к индивидуальному, от видения глазами к видению души. Поэтому в истинном аскетизме, в любой степени, всегда существует стремление к некоторому концу, к восприятию хорошего. Не из этих ли побуждений действует факир, истязающий сам себя? Не знаю; но если нет, его дисциплина — уже не аскетизм, а безумие, и к тому же безумие impius[239]. Умерщвляя себя просто ради умерщвления, он загрязняет и поносит храм. По это в скобках.
Как я уже говорил, мне только мельком доводилось видеть другую область askesis. Мистики меня поймут, если я скажу, что существуют моменты, когда темная ночь души видится более яркой, чем самый яркий ее день; существ) ют моменты, когда необходимо отогнать даже ангелов, коим дано лицезреть Всевышнего. Можно подниматься в пространства, столь отдаленные от обычной суеты жизни, что становится трудно находить аналогии в искусстве. По представьте живописца — нет нужды уточнять, что я имею в виду художника, — который осенен идеей о такой потрясающей, такой недостижимой красоте, что неизбежно понимает свое бессилие; он знает, что никакие краски, никакая техника не уберегут его видение от искаженной передачи. Хорошо, он покажет свое величие, не пытаясь раскрасить видение; он будет писать на голом vidil anima sed non pinxit manus[240]. He сомневаюсь, что существует много романов, которые никогда не были написаны. Парадоксально, но даже опасная философия, подтверждающая существование Бога, весьма Non-Ens[241], чуть Ens; однако в зависимости от настроения каждый по-своему оценивает эту мысль.
Мне кажется, я уловил отдаленное видение ночи, превосходящей в своем блеске день. Все началось с отведенных от заката глаз и с губ, отказывающихся от поцелуев. И тогда сердце получило команду прекратить грезить о дорогой земле Гвента, заглушить мечту, которая никогда не умирала в течение многих лет, приятную и мучительную мечту о древней земле, ее холмах и лесах. Помню, однажды, еще будучи шестнадцатилетним грубияном, я поехал посмотреть люптонскую ярмарку. Мне всегда нравились большие киоски, караваны и карусели, а также зеленое, красное и золотое варварское пламя, пылающее посреди растоптанного проклятого ноля на фоне Люптона и влажного серого осеннего неба. Туда стекались деревенские жители в длинных блузах, придававших им какую-то особенную мужественность. Кто видел скопление этих бравых людей на ярмарке, сразу узнает их: настоящие унылые джуты[242] с широкими розовыми лицами в обрамлении светло-русых шелковистых волос.
Мне нравилось смотреть на их белые одежды с оригинальной вышивкой; эти пышущие здоровьем люди были представителями старой жизни английской деревни в нашем гадком "индустриальном центре". Они с тоской глядели по сторонам, как бы удивляясь безобразию этого места, но не могли не восхищаться столь наглядным свидетельством богатства! Да, они олицетворяли Старую Англию; они любили длинные изгибы широкой деревенской улицы, строгие фронтоны древних гладких каменных стен, соломенные крыши здесь и там, треснутое окно деревенского магазина, старую церковь, вздымавшуюся среди унылых вязов, и, конечно же, веселую таверну — прекрасную обитель искренней радости и пива, пережиток тех времен, когда люди еще были людьми, способными по-настоящему жить. Люптон находится очень далеко от земли Гарди[243], и все же, я думаю, что деревенские жители в своих блузах-платьях и сама сущность Гарди дисциплинировали меня. Я вижу деревенскую улицу, усыпанную белым снегом, и свет, льющийся из высокого окна, затем раздастся звон колоколов, и устремляется к небу песня:
"Помни паденье Адама.
О, человек".
Мне нравится смотреть, как вращаются карусели, и люди, гордо восседающие на абсурдных деревянных лошадках, с восторгом мчатся по кругу до тех пор, пока их глаза не затуманиваются. Гремят барабаны, странные гудки разносят свои хриплые звуки на многие кварталы, механическая музыка, под которую вращаются лошадки, грохочет, свистя и хрипя; затем наступает короткая тишина, и вновь окрестности оглашаются звуком музыки, а лошадки устремляются на новым круг.
Но в тот праведным день, о котором идет повествование, я предпочел позолоченным кабинам и сверкающим каруселям бескрайнее ноле, где лошади были возбуждены до состояния, схожего с безумием или с электрическим разрядом. Когда я подходил к киоску, мужчина, оказавшимся рядом со мной, радостно крикнул слог, а приветствия, увидев своего друга. Он говорил о Гвенте с тем замечательным акцентом и тем гоном, что очаровывают меня больше, чем вся музыка мира. Я не слышал этих чудесных звуков в течение всех долгих лет моего томительного изгнания. А ведь это были всего лишь одна или две фразы из обычного приветствия! Ярмарка закончилась: больше ничего не крутилось, кричащие голоса, ржание лошадей, бои барабанов, скрежетание труб и металлической музыки — все кануло в бездну. Осталась лишь тишина, которая неизменно следует за страшным грохотом грома. Было раннее утро, и я стоял среди пышно распустившихся колючих кустов и смотрел в дал"" лесистых холмов, возвышавшихся над руслом светлой реки на востоке. Да, я был большим бездельником в свои шестнадцать, но слезы блестели у меня в глазах, а сердце разрывалось от тоски.
Казалось, теперь я должен был подавить подобные мысли, забыть о пылающем солнечном свете над горой, не думать о приятном аромате сумрака, сгустившегося над быстрым ручейком. Я очень любил "путешествия" — путешествия в мир фантазии. Наверное, я боялся, что, если не восстановлю облик старой земли в споем воображении, он может потускнеть и стать ело различимой исчезающей картинкой. Но я должен постепенно забыть тайный путь, те глухие, переплетающиеся тропинки, что расходились в разных направлениях, чтобы соединиться вновь в стране холмов, лесов и водоемов под скупыми мрачными кронами деревьев, дарующих прохладу во время невыносимого летнего зноя. Блуждающие дорожки, бегущие но полям, вели в потаенные сокровенные уголки этой земли, и я знал, что никто не отговорит меня ходить гуда, где заканчивалась увитая зеленью поломанная изгородь, что сливалась с чащей. В этой обители дикорастущих сливовых деревьев, леса, синего неба и большого разрушенного дома сходились все те пути, что я хранил в своем воображении как великую тайну, которой они в сущности и были. Таким образом, я восстанавливал в памяти живую картину Гвента, "чтобы не забыть о чуде цветов, чтобы не перестать замечать луга и потоки".
Но как я уже говорил, время пришло, и, наконец, пробил час. С усилием я лишил свою душу памяти, желания и сожаления о тех мгновениях, когда идолы обреченного Твин-Барлума, большого Минидд-Маена и серебряных вод Аска появлялись предо мной и я полностью отдавался им. Не размышлял я и о белом Карлионе, сияющем за рекой. Мне кажется, боль моя была ужасна. До Куинси, замечательный художник, этот искатель и хранитель тайн, описал страдания человека, когда опиум ломает узы его порока. Подобное происходило и со мной в виде отвращения к Люптону: его обманчивая энергия, мораль и энтузиазм — все его воинство ханжества в едином порыве избивало меня. Уступал ли я под натиском безумия, ускользал ли потайной дорожкой, которая, как я знал, заканчивалась в безопасной долине, где безумец никогда бы не смог потревожить меня? Бывало, я валился с ног, напившись волшебной родниковой воды, и бродил, блуждая, но зеленым лощинам и диким лесным тропам. По я изо всех сил старался отгородить свое сердце от подобных вещей, удержать свой дух посредством серьезном дисциплины воздержания. Постоянно стремясь к этому, я добивался все больших и больших успехов.
Существовала и еще более неизведанная глубина в этом процессе catharsis[244]. Я уже говорил, что иногда необходимо изгнать ангелов, чтобы освободить место для Бога. И сейчас мне было дано строгое указание: перестать грезить о кельтской святости, которая всегда была для меня мечтой, наиболее скрытой во мне святыней, целительным домом, где излечивались все раны души и тела. Никто не хочет быть грубым; думаю, мы должны признать, что умеренное практичное англиканство[245] должно обладать чем-то таким, ибо абсолютный обман не может более продолжать свое существование. А значит, оно являет собой высоко благопристойную моральную жизнь, которая поощряет умеренную и хорошо регулируемую атмосферу преданности. Прекрасная и (согласно ее понятиям) весьма набожная женщина своей интерпретацией "Аnima Christi"[246] превратила меня из "пьяницы" в "очищенного человека". Она была очень набожна и ненавидела чтение "Calix meus inebrians"[247]. Отец всегда учил меня соответствовать самому себе внешне и с нежностью терпеть Любимых Братьев, в то время мы праздновали в наших сердцах древнюю английскую мессу и ждали возвращения Кадваладра.
Я почитал его учение и продолжаю почитать сегодня, полагая, что мы должны следовать ему. По в глубине сердца я всегда сомневался, что умеренное англиканство хоть в чем-то соотносится с христианством в любом его проявлении, и вообще считал заблуждением, когда о нем говорили как о религии. Конечно, я не сомневаюсь, что многие действительно верующие люди исповедовали его: я говорю о системе и атмосфере, которая исходит от него. И когда когда ethos[248] закрытых частных школ добавился к нему, итоги обучения практически привели к утверждению, что Небеса и Бог — постоянные союзники.
Никто не должен превращаться в духовного калеку; я просто хочу сказать, что никогда и не мечтал о поиске религии среди стен нашей часовни. Без сомнения, Те Deum все еще был Те Deum, но даже самый благороднейший из гимнов можно опошлить, очернить и выставить на посмешище, так что вы примите его за мелодию, недостойную даже паршивого пенни. Лично я думаю, что органные композиции почитаются куда больше, чем англиканское пение, и уверен, что многие популярные мелодии гимна по торжественности значительно хуже "E Dunno where’е are"[249].
Нет, религия, которая вела, манила и понуждала меня, была замечательным и удивительным мифом кельтской церкви. Это было обучение, больше, чем обучение, — смысл жизни моего отца. И я действительно крестился водой Святого Источника[250], и таким образом, великая легенда о святых и их бытии затмила все мои устремления и стала для меня пылающей ризой великой тайны. Кто-то, утомленный жизнью и испытывающий отвращение ко всему, может и не разглядеть яркое божество на мерзких змеиных губах. Другой же будет пленен рассказом и откроет для себя красоту мира. Я воспринимал кельтский миф как Совершенство, дочь Короля: Omnius Gloria ejus filiae Regis ab, intus, Intermedium fimbriis aureis circumamicta uarietatibus[251]. Начиная с тех дней, я узнал очень много об этой великой тайне.
Я видел, что вера моего детства оправдана абсолютно и полностью. Нo даже тогда, когда мне мало что было известно, я предпочитал благородною рыцаря и христианство — иными словами, некий кодекс морали и метафорические небеса, дарованные как награда за праведную жизнь и великое мистическое путешествие в неизведанную святость. Представьте епископа признанной церкви, садящегося в лодку без весел и парусов! Представьте его, если сможете, совершающего что-то хотя бы отдаленно похожее на подобное действие. Вообразите последнего архиепископа Тайта, который в течение трех дней и трех ночей ходит в одиночестве в ламбетскую часовню[252]. А потом представьте людей на противоположном берегу, освещенном сверхъестественным ослепляющим светом, идущим из окна часовни. Безусловно, развал кельтской церкви был крушением всего. Потому то Дон Кихот живет только 15 литературе, тогда как Санчо Панса продолжает свой земной путь, оставаясь все тем же жирным, преуспевающим крестьянином. Конечно, он унаследовал кое-что от рыцаря, но не изменил своему пристрастию к деревне.
Да, кельтская церковь была частью великой тайны, и хотя сокровенная эта тайна скрыта сегодня патиной времени, ее подобный красной розе светильник все еще не потух; с самого раннего детства я впитывал идеологию кельтской церкви во время незабвенного корарбенникского обряда. Будучи глупым юнцом, я смеялся над священной реликвией, но никогда не забуду о священной магии святости. Каждый небольшой лесок, каждая скала и родник, каждый прозрачный ручеек Гвента был для меня священным, олицетворяя восхитительную мистическую легенду. Мысль о загадочном высокодуховном городе и благословенной конфессии могла в мгновение ока отвести от меня все уродливо нелепые и непонятно что означающие предчувствия, которые составляли основу того места, где я влачил свои дни, как в тюрьме.
Теперь же я с сожалением прощался ненадолго (надеясь, что так оно и будет) с этой золотой легендой, мое сердце освободилось от сокровищ, огни на алтаре были зажжены, а образы неразличимы. За тихим пением суверенного вечного хора скрывалась высшая святость. Нет, я больше не следую за ними в их кельи в диких холмах. Не взираю со скал на запад в надежде увидеть очертания Аваллона. Увы!
Казалось, страшная тишина обрушивалась на меня, тишина земного чрева. А с ней приходила и темнота. Лишь в потаенном месте горела одинокая тоненькая свеча — свет соответствия совершенно!! дисциплины, олицетворявший в этом мире горя и лишений скрытую, но наиболее значимую радость. Теперь, когда я оглядываюсь назад, это напоминает мне таинство очищения души, и в памяти всплывает история, которую я некогда вычитал у одного арабскою алхимика. А случилась эта история во времена правления калифа Харуна.
Калиф восседал во всем своем блеске на дворцовой площади в окружении придворных, визирей, прислуги и прочих, как то было принято на Востоке. Нежась в лучах своего величия, он изрекал: "Зло наказано, добро вознаграждено, имя Бога возвеличено, пророк же его был древним старцем". И тут он увидел старика в поношенных рваных одеждах бродячего поэта. Придавленный грузом лет, старик всем своим видом являл пришествие нищеты. Он выглядел таким несчастным, что один из придворных, сведущий в поэзии, не мог не процитировать известные строки:
"Между ливня стеной и маленькой капелькой дождевой разницы нет никакой.
Солнца свет и свечи огонек небольшой равно малость даруют свою богачу и тому, у кого ничего за душой.
Соразмерить возможно ль, скажите, песчинку и шар наш земной?
Корочка хлеба, как и правление короля, не насытит голодного, это знает любой.
И крупица упорства, и безграничная одержимость в равной степени могут успех гарантировать твой.
Камень* в оправе ничем не ценнее, чем горной гряды гордый лик вековой.
Напором иль златом пленил обожатель девицу, итог одинаков: ее назовет он женой.
Король и Поэт пред Всевышним равны, и нет в мире правды другой".
* Бриллиант.
Поборник веры, восхваляющий Бога, милосердие и сострадание, Вершитель правосудия и мудрый правитель, калиф велел привести старика, дабы воздать ему по заслугам. И спросил он странника о цели его визита. И старик, чья нищета не вызывала сомнений, поведал калифу, как в течение многих лет страдал он от преследований за свое стремление постичь магию и алхимию, астрономию и всевозможные искусства в городах язычников — везде, где можно было найти магов. Для доказательства своего мастерства принес он с собой маленькую коробочку, с помощью которой мог рассказать любому желающему всю его жизнь: прошлое, настоящее и будущее.
Калиф приказал одному из своих слуг, чтобы тот испытал на себе могущество нищего, что-то чертившего тем временем на песке в строгом соответствии правилам геомантического искусства[253]. Старик не заставил себя долго упрашивать и тут же сорвал завесу с самых темных помыслов слуги. Предсказал он ему и смерть в течение года от несчастного случая.
Поборник веры и окружавшие его придворные были удивлены, и нищему Магу велели продолжить его историю. Когда он вновь заговорил, все отметили изысканность и уместность его речи. А под конец он сообщил, что в результате своих исследований обнаружил магический талисман, заключающий в себе Асрар[254], и с помощью этого талисмана, как он сказал, калиф мог бы стать самым известным правителем из всех, кто когда-либо жил на земле, включая и Соломона[255], сына Давида. Он хотел спасти мир, этот нищий. Поборник веры должен был собрать все богатства своих владений, не упустив ничего. А маг в это время построил бы печь из особого материала, в которой переплавил бы все открытия и сокровища мира, дабы выпустить на волю огонь искусства; в течение многих дней, подвергая субстанцию разнообразным процессам, он добыл бы тот сокровенный талисман, тот спасительный эликсир, одна капля которого, размером не больше жемчужины, но прекрасная, подобно солнцу в сравнении с луной и звездами, способна, вобрав в себя чудеса сострадания, оградить калифа от всех бед Вселенной.
Поборник веры, его визири и придворные были ошеломлены словами старца, и многие сочли его сумасшедшим. Однако калиф попросил мага прийти наследующий день, чтобы со всей подобающей мудростью рассмотреть его предложение.
Нищий пал ниц перед калифом, смешался с толпой, и больше его никто никогда не видел.
"Одна капля, размером не больше жемчужины" и "Где нет Ничего, там есть все". Нередко я вспоминал эти слова во времена, когда, как сказал Чессон, я был одним из тех "сердечных, крепких и надежных молодых ребят, чьими усилиями честь и безопасность Англии могли бы в один день стать совершенными". Я пожертвовал всеми богатствами, которыми обладал. Вновь и вновь переплавлялись они в огне при тщательно подобранной температуре. Я видел "рождение Ворона"[256], черного, как смола, полет Голубя с серебряными крыльями, и, наконец, великолепную красную розу. Я не мог совладать с собой и вознес небесам благодарность за этот чудеснейший дар — "Солнце благословенного огня"! Я лишил себя всего и лишь тогда понял, что обладаю всем. Я выкинул свой кошелек с деньгами, и стал богаче, чем был когда-либо ранее. Я умер и обрел новую жизнь.
Я говорил о "значимом радости" и теперь вынужден объяснить уместность этих слов. Цепь моих размышлении очевидна. Побоюсь, что все-таки должен кое-что добавить.
Однажды я прочитал интересную статью в ежедневной газете. В ней рассказывалось о некоторых праздниках времен Шекспира, и в конце автор приходил к выводу, что современная Англия — более счастливая страна, чем Англия елизаветинской эпохи. Наверное, многие любители силлогизмов нашли бы это утверждение интересным; но меня привлекло высказывание, которое я привожу ниже:
""Счастливая Англия" с украшенными цветами столбами, пивом в Троицын день, Масленицей и сладкими молочными блюдами сегодня мертва для нас с религиозной точки зрения. Это — пуританская Англия… Ее дух исчез. Бесполезно пытаться восстанавливать былое. Может ли Королева быть одновременно "святой и мудрой" и при этом представать в символическом образе Девы Марии? И возможна ли радость от трапезы без предшествовавшего ей поста?"
Далее это в статье не разъяснялось. Но я думаю, автор в чем-то нрав, а именно в том, что существует некое родство между радостью и святостью. Возможно, это не любая реальная радость, а та, что несет в себе предчувствие тайны. Зачем, скажите, нужна жизнерадостность, если не наслаждаться ею? По, с другой стороны, нет ничего, что могло бы помешать какому-нибудь утонченному мыслителю впитать огромное количество нефти вместе с сырым духом России, который он находит приятным. Только реальная радость, или жизнерадостность, тут ни при чем, что, по-своему, даже мрачнее, чем чаепитие с протестантом. Истинная радость доступна лишь тем, кто умеет поститься. Вы, наверное, заметили, что я описал приготовление к любимому празднику.
Тучи рассеялись, и все оковы запретов внезапно рассыпались в прах. Однажды утром я проснулся оттого, что мое тело двигалось к опьяняющем танце и кровь пульсировала у меня в висках, наполняя меня новой жизнью, отзываясь покалыванием в нервных окончаниях и даруя наплыв волнующей энергии. Проснувшись, я радостно засмеялся, ибо осознал, что мне предстоит участвовать в странном загадочном приключении, хотя даже отдаленно не представлял, в каком.
Глава II
Приключение Амброза Мейрика было совершенно фантастическим. Помогла и поддержка дяди, который искренне поздравил Амброза с отличной работой на завершавшихся экзаменах. Мистер Хорбери был опекуном мальчика, и ему не составило труда подписать щедрый чек, чтобы племянник мог провести каникулы с толком.
— Ты должен, — сказал он, — хорошенько продумать свой отдых. Куда ты намерен поехать?
Амброз ответил, что подумывает о Северном Девоне[257], хотел бы посмотреть Эксмур[258], посетить Дун[259] и, возможно, проехаться дальше — до Дартмура[260].
— Это хорошая идея. Ты должен попробовать ловить рыбу в некоторых из тамошних рек рыбалка стала увлекательным спортом. Сначала может не получиться, но с твоей внимательностью и ощущением расстояния ты скоро станешь прекрасным рыбаком. Если захочешь половить форель, но расспроси кого-нибудь из местных жителей — совет тебе не помешает. В первую очередь, не имеет смысла ловить мух в роде. Хотя, когда я рыбачил в Гэмпшире[261]…
Мистер Хорбери продолжал, но дьявол озорства уже дик-вал Мейрику замечательный план, и той же ночью Амброз сообщил Нелли Форан, что она должна поехать с ним во Францию вместо намеченного путешествия в Блэкпул[262]. Он осуществил свой безумный план с изобретательностью, которую мистер Палмер скорее всего назвал бы "дьявольской". Педелю пришлось провести в Лондоне, чтобы Нелли могла купить кое-какую одежду; и эта педеля началась как переживание высшего наслаждения. Но к наслаждению примешивался и страх встретить кого-нибудь из учителей: Амброз боялся покидать Люптон даже на короткое время. Однако все обошлось. Достигнув Сент-Панкраса[263], они оставили багаж на станции, и Амброз, хорошо изучивший карту Лондона, постоял некоторое время в раздумье на тротуаре возле "Скоттс"[264] — этого великого шедевра архитектуры, пытаясь взглянуть на происходящее со всей возможной серьезностью и в то же время с юмором. Нелли была просто создана для приключений: она шла навстречу неведомому с чудовищной смелостью и постоянно пребывала в приподнятом настроении. Мейрик осмотрелся и выбрал старую Юстонскую дорогу[265], шумную, но в чем-то и привлекательную; он взял девушку за руку, и они направились в глубь Блумсбери[266].
В этом удобно расположенном и в то же время пустынном квартале в центре Лондона они сняли на тихой улочке комнаты, окна которых выходили на зеленые поля. Пока они в традициях Мистера Люптона пили чай, кто-то сходил за их багажом — возможно, муж хозяйки, успевший шокировать постояльцев неопрятными рыжими волосами и кучей хронических болезней. Во время еды они радовались как дети. Мистер Хорбери имел недостатки, но он следил за качеством пищи как в отношении себя, так и в отношении мальчиков и служащих. Неудивительно, что экзотический и странный аромат "хлеба с маслом" показался двум юным оболтусам невероятно забавным, как и едва уловимый терпкий запах самого дома: он врывался внутрь, когда открывалась входная дверь — тяжелый, будто настоянный на золоте.
— Я до сих пор не знаю, — говорил впоследствии Амброз, — смеяться или плакать, когда после долгого пребывания вдали от города я возвращаюсь и вдыхаю этот непередаваемый аромат старого Лондона. И он кажется даже более сильным, чем обычно. Пару раз я был разочарован обшарпанными зданиями на каких-то весьма неприглядных улицах, это правда, но если уподобить город выдержанному вину, я бы сказал, что это был второй урожаи не самого урожайного года — "Марго", без сомнения, только "Марго" начала семидесятых. Лондонский аромат можно сравнить с запахом грима — спустя месяц его просто перестаешь замечать. Хотя я не думаю, что это так.
— Должен признаться, — продолжал он, — мне нравится впитывать этот аромат, нравится благоухать им. Словно я вновь возвращаюсь в тот жаркий удушливый полдень, от которого меня отделяет так много лет. Он был действительно слишком жарким — девяносто два градуса, как я прочитал в газете на следующий день, да к тому же, когда мы приехали в Сент-Панкрас, налетел ветер, подобный дыханию раскаленной печи. Солнца не было видно, небо нависало над городом мрачным шатром, а болезненный, дымно-желтый обжигающий ветер становился все сильнее, и пыль, вздымаясь, шипела на тротуаре. Знаете ли вы, что запахи борделя подобны лондонскому духу в жаркий полдень? Знаете ли вы, что в Лондоне имеется масса ограничений в такие дни — владелец бара, например, заботясь о вашем здоровье, не подаст вам холодных напитков, понимая, чем это чревато при такой запредельной температуре? Я знаю. Нелли, бедная девочка, пила теплый лимонад, а я — теплое пиво, или, правильнее сказать, теплые химикаты. Но аромат! Почему бы какому-нибудь ученому не прекратить впустую тратить свое время на огромное количество бесполезного мусора и не найти способ хранить в бутылках аромат прошлого?
Хотя… Если бы сие удалось, в склянке из редкого кристалла пробкой, надежной как притвор Соломона[267], сына Давида, хранил бы лишь один, самый драгоценный для меня аромат, на пробке прекрасными пентаграммами начертал бы мистичную легенду: "№ 15, Литтл-Рассел-Роу"[268].
Вместе с чайным подносом появился кот. Это был черный кот, не очень большой, в меру упитанный, с намеком на мускулистую худощавость — худощавость расточителя жизни, а не бездомного заморыша. Его ярко-зеленые глаза, как заметил Амброз, излучали мудрость Египта: на мог иле этою кота хорошо бы смотрелась надпись: "Оправдан в Секте". Он торжественно шествовал перед хозяйкой, его тело изгибалось во всех направлениях, хвост величественно колыхался в воздухе, уши были прижаты к голове, а на морде светилось выражение лукавой хитрости. Кот, казалось, наслаждался "вседозволенностью", и когда Нелли почесала его спину, он издал громкий вопль радости и выразил готовность немного отдохнуть.
Во время чаепития они так от души смеялись, что, когда хозяйка вошла забрать посуду, бесцельное веселье буквально искрилось в комнате.
— Я люблю видеть молодых людей счастливыми, — добродушно заметила хозяйка и с радостью отдала им ключ от входной двери на случай, если они захотят вернуться поздно.
Она рассказала им много интересного, в том числе и о своей жизни на Джадд-стрит, около Кингз-Кросс[269] — в этом противном и шумном прибежище людей низкого происхождения, как она считала. Ей приходилось сталкиваться с разными людьми, хорошими и плохими, и продолжать семейный бизнес, хотя он уже не приносил таких доходов, как во времена ее матери.
Они еще немного посидели на диване, держась за руки и обмениваясь шутками по поводу своего пребывания в Лондоне, а также весело представляя гротескную сцену внезапного появления мистера Хорбери или доктора Чессона. Потом они вышли побродить по улицам, полюбоваться городом — весело и непринужденно, без обязательного посещения туристических достопримечательностей вроде колонны в память пожара 1666 года, или Британского музея, или музея Мадам Тюссо. Не волновала их и проблема еды: они не знали, когда, где и как им удастся перекусить и совершенно не заботились об этом! Впрочем, Британский музей они все-таки увидели, koi да, гуляя, неожиданно оказались перед его мрачной массивной дверью.
Пройдя по Биг-Рассел-стрит, они вышли к Тоттненхем-Корт-Роуд[270] и дальше на Оксфорд-стрит[271]. Роскошные магазины и толпы куда-то спешащих людей, которым даже жара была нипочем, производили сильное впечатление — вне всяких сомнений. Лондон был великолепен. Амброз почувствовал, что он здесь дома: это ощущение было всепоглощающим: рвотный смрад в воздухе, отрава в воде и ряды фабричных строений на скудной земле уходили в небытие. И тут им вдруг захотелось изучить южные кварталы: как сказал Амброз, невозможно было предугадать, где они в результате окажутся.
Недалеко от Оксфорд-стрит он неожиданно стал менять направление: несколько поворотов направо, затем налево, пока они окончательно не заблудились. Незнакомые переулки выглядели таинственно, морской компас словно взбесился, путая восток и запад, север и юг, так что стал совершенно бесполезным; это было приключение в бездорожной пустыне, в австралийских джунглях, хотя и в более безопасном месте, но зато и на более интересной сцене с георгианскими и августанианскими декорациями.
Они шли по мрачным и почти пустынным темным улицам, где каждый дом мог бы поведать не одну историю: некогда величественные, эти здания были теперь унижены, став пристанищем для типографий, соляных складов и бесчисленных ремесленных мастерских, в которых ковали железо, изготовляли надгробия и тнгели. Но как замечательно было узнать, где создаются все эти вещи! Амброзу приходилось читать о разных ремеслах, но он всегда воспринимал их как нечто нереальное, а то и вовсе несуществующее. Однако в окна были видны вполне реальные тигели, странной формы глиняные горшки серо-желтоватого цвета, настоящие музыкальные инструменты, аравийские диковинки. И он уже не Удивился, когда, чуть позже, увидел клавесин, о котором Прежде не имел ни малейшего представления, хотя и слышал это название: красивый и богато инкрустированный клавесин был датирован 1780 годом, о чем Амброз узнал из надписи на инструменте.
Удивительная и прекрасная страна! Не успел Амброз осмыслить невероятную легкость, с какой здесь чуть ли не на каждом углу можно было купить оружие, как перед ним возник прекрасный костюм шестнадцатого века, со вкусом отделанный и красиво смотревшийся между двумя черными фраками. Эти улицы были сравнительно тихими; но стоило повернуть за угол, и о чудо! Всю дорогу, а не только тротуар, заполняло бескрайнее море людей — прогуливающихся, беседующих, смеющихся: женщины были коротко подстрижены, и со всех сторон неслось мелодичное французское "р", звучавшее как мотив счастливой песенки. Газеты в магазинах были сплошь французские, плакаты гласили: "Vins Fins", "Beaune Superieur"[272]; табак продавали в квадратных синих, желтых и коричневых пачках; "Charcuterie"[273] представлял смелое и привлекательное шоу. Рядом находился ресторан-кафе "Château de Chinon"[274]. Пройти мимо заведения с таким названием было невозможно. Они должны пообедать именно здесь, решил Амброз, чтивший великого Рабле.
Вероятно, это был не самый лучший обед. Но ои намного превосходил качество обедов в Сохо в те дни, когда под натиском искусства, интеллекта и предместий стиль и обычаи некогда хорошей кухни были уничтожены. Амброз запомнил только два блюда: цыпленка-гриль и салат. Цыпленок показался ему и восхитительным на вид, и очень вкусным, а салат выглядел красиво, но был немного странный — с добавлением разнообразных трав, уксуса и провансальского масла в большом количестве, с chapon, или сухариками, натертыми чесноком и уложенными на дно салатницы, после того как "Madame" довела их до нужной кондиции, — тем не менее, это было блюдо из сказки. Таких салатов теперь нет во всем Сохо.
"Позвольте мне отдать должное прежде всего красному вину, — писал впоследствии Амброз в своих заметках. — Ни одни земной виноградник не способен родить виноград, из которого создан этот напиток, — его взлелеяла сердечность не видимого нами солнца и напоила влага не того дождя, что изливается из обычной тучи. И давили сей виноград, чтобы соки его устремились в горла сосудов, не на земле, даже такой священной, как земли Шинона, и сладостные звуки его брожения не раздавались ни в одном из прекрасных подвалов Нижнего Турена[275]. Ибо был он рожден там, где Ките распевал "Русалочью Таверну"[276], — далеко-далеко на юге, среди звездных равнин, где раскинулась Terra Turonensis Celestis[277] — сказочная страна, которую Рабле созерцал в своем видении, где могучий Гаргантюа вечно пьет из неистощимых чанов, где Пантагрюэль вечно испытывает жажду, хотя и постоянно удовлетворяет ее. Там, на земле Коронованного Бессмертного Пьяницы, было создано это вино: созвездие Пса придало ему красный цвет, Венера наделила его волшебством, а Меркурий наполнил сверкающим счастьем. О редчайший и самый насыщенный совершеннейший из соков, творение звезд судьбы, благодаря тебе мы удостоились высокой чести попасть в товарищество той Таверны, о которой древний поэт говорил: "Mihi est propositum in Taberna mori!"[278]
В "Château de Chinon" было мало англичан — можно сказать, что их не было вовсе, если не считать одного уроженца Люптона. Этот единственный британец оказался весьма примечательным человеком по имени Кэррол. Он не состоял ни в каком обществе, не водил дружбу с журналистами и не посещал клубы, он даже отдаленно не был знаком хоть с кем-нибудь, кого можно было бы назвать действительно влиятельным или знаменитым. Незаметный литературный поденщик, он каждые пять-шесть лет издавал небольшими тиражами свои произведения: время от времени о нем вспоминали, когда не было дел поважнее или нечего было печатать, а иногда рецензент благосклонно хвалил его опус, отмечая, однако, что ему еще многому надо учиться. За год до смерти Кэррола читающая публика признала, что одна или две его вещи были действительно хороши.
Позже, когда он уже умер, все вдруг как будто прозрели, обнаружив, что пять его стихотворных сборников поистине уникальны, что от нас ушел самобытный поэт, поднявший английский язык на новую высоту, подаривший ему мелодию и волшебство. Больше его читать не стали, но книги начали раскупать одну за другой, издание за изданием, от большого quatro до последующего octavo[279]. Читающие интеллектуалы приобретают его произведения, отпечатанные на японском пергаменте, с иллюстрациями шести различных художников, упакованные в небольшие подарочные коробки. Эти поклонники его творчества не обсуждают статей о нем; они записывают свои имена в "Книге дней рождения Кэррола"; они хранят в своих будуарах календарь Кэррола; они цитируют его строки в Вестминстерском аббатстве[280] и в Соборе Св. Павла; они поют его стихи в известном кружке песен Кэррола; и даже сегодня новомодный американский драматург, самый лучший из всех, мечтает увидеть шедевры поэта на сцене.
Клуб Кэррола, конечно, давно уже вошел в историю. Членство в нем ограничено уровнем интеллекта и искусства; тех, кто вхож в этот клуб, приглашают на обеды иностранные принцы, банкиры, генералы и прочие сильные мира сего. — если, конечно, они очарованы книгами мастера; заметки, восхваляющие клуб, печатаются во всех газетах. Жалко, что Кэррол умер. Он не стал бы их упрекать, он просто посмеялся бы над ними.
Даже когда он не достиг еще пика славы, к его мнению прислушивались. О той ночи в "Château de Chinon" он оставил нам краткий набросок.
"Я сидел в своем излюбленном углу, — вспоминал он, размышляя, какого дьявола я пишу так беспомощно, какого дьявола не могу не писать?! Обед в старом "Château" тогда не был так плох, хотя сейчас говорят, что стеклянные тарелки лучшее, что есть в этом заведении. Но я любил "Château" с его низкими потолками и полумраком, с его сомнительной репутацией, с его завсегдатаями — французами и итальянцами. Все мы знали друг друга, а некоторые из посетителей просиживали за одним и тем же столиком ночь за ночью. Мне нравилось там все: грубые скатерти и тупые ножи, погнутые ложки и сырость, слипшаяся соль и острый черный перец. В те времена там хозяйничала "Madame", и должен признаться, я никогда не видел более безобразной, но и более добродушной женщины. В тот вечер я по обыкновению поглощал цыпленка-гриль с салатом, как вдруг вошли два новых посетителя — юноша и девушка, прибывшие, очевидно, из волшебной страны! Я видел, что они никогда не бывали в таком месте прежде; более того, мне показалось, что это их первое знакомство с Лондоном. Они так удивлялись, восхищались и излучали столько удовольствия, что я будто съел еще одну порцию цыпленка с салатом и выпил еще полбутылки вина. Я наблюдал за ними с истинным наслаждением, понимая, что их еда и их вино совсем не похожи на мои. Когда-то я знал ресторан, в котором они на самом деле сейчас пребывали. "Grand Cafe de Paradis"[281] — по-моему, он так назывался. Почти мальчишка, юноша был черноволосый, смуглый, с не обыкновенным взглядом ярко горящих глаз! Не знаю почему, но я подумал, что он органичнее смотрелся бы в одежде монаха. Девушка была совсем другая — красивая, с удивительными медными волосами и в скромном платье. Но какой замечательной веселостью она обладала! Я не слышал, о чем они говорят, однако любой улыбнулся бы, глядя на ее живое, подвижное лицо — оно буквально лучилось радостью, создавая гармонию счастья. Полагаю, хороший музыкант мог бы выразить это своей игрой. Хотя передать мелодию ее губ, наверное, не удалось бы. Возможно, это была странная музыка, но мне нравилось слушать ее!"
Амброз закурил. — он купил сигареты по дороге. То за одним, то за другим из соседних столиков время от времени появлялась бутылка соблазнительной округлой формы, и счастливые юные покорители Лондона также не отказали себе в удовольствии познакомиться с местным "бенедиктином".
Рассказывают, что впоследствии, когда его как-то угостили ароматным ликером. Амброз заметил: "О да, это прекрасно, ликер действительно хорош. Но вы должны попробовать настоящий напиток. Я отведал его в Сохо несколько лет назад в небольшом кафе "Château de Chinon". Нет, не имеет смысла идти туда теперь, это бесполезно. Стены из стекла и с позолотой; главный официант называется метрдотелем, и мне говорили, что как в южных, так и в северных предместьях принято устраивать в "Château" приемы — все в лучшем виде: вечерние туалеты, вентиляторы, манто и накидки, шампанское "из запасников" и — настоящий свинарник после вечеринки. Таким образом, каждый получает представление о жизни Богемы, и все неизменно отмечают, что вечер был немного странный, но вместе с тем и весьма приятный. Однако теперь вам не подадут там настоящий "бенедиктин".
Где можно найти его? А! Хотелось бы знать. Я, например, так и не нашел. Бутылка похожа, но аромат совсем другой. Возможно, дело в филлоксере[282], хотя я сомневаюсь. А может, бутылка, которая пошла той ночью по кругу, была подобна снадобью в "Джекиле и Хайде"[283], и свойства содержавшегося в ней напитка стали результатом какого-нибудь странного стечения обстоятельств. Несомненно одно: напиток был волшебный".
Юные авантюристы вновь углубились в лабиринт улиц, не ведая, куда идут. Лишь небесам известно, какими путями они бродили, как с ярко горящими глазами, держась за руки, впитывали они бесподобное действо, происходившее на сцене, которая, они это знали, есть не что иное, как Лондон, — да и чем же еще могла она быть?! И снова Амброзу казалось, что он узнавал какие-то характерные для этих мест черты, памятники и здания, о которых он читал. И еще! То вино из "Château" было, по всем мирским меркам, лучшим из лучших, и один небольшой стакан "бенедиктина" с кофе не мог бы опьянить даже самую слабую голову: так Лондон ли это, в конце концов?
То, что они видели, было, без сомнения, обычным миром улиц и площадей, веселых аллей, широких освещенных проспектов и темных, гулких переулков: и все же они воспринимали все это, словно таинственный спектакль, через завесу. Но завеса перед их глазами была воображаемым видением — переливчатым, как парча с восхитительным золотым узором. Именно так в восточных сказках люди внезапно переносятся в неизвестную волшебную страну, в города, которые сами по себе образцы чуда и очарования, не говоря уже об их золотых стенах, освещенных сиянием необыкновенных драгоценных камней. Впоследствии Амброз признавался, что до того вечера он не понимал удивительную и совершенную истинность арабских сказок из "Тысячи и одной ночи". Те, кому довелось присутствовать при его разговоре с "джентльменом из общества", сказавшим, что за правдой он обращается к Джордж Элиот[284], никогда не забудут возражений Амброза.
"Я говорил о мужчинах и женщинах, сэр, — ответил он, — а не о вшах".
Джентльмен, весьма влиятельный человек — но слухам, редактор, — был, естественно, очень раздражен.
Однако Амброз стоял на своем, доказывая, что для настоящего реализма восточные сказки — совершенно уникальный материал.
"Конечно, — пояснил он, — я говорю о реализме, чтобы обозначить абсолютную и необходимую правдивость описания, в противоположность голой условности. Золя — реалист, но не потому, как полагают тупицы, что он описал — мастерски и скрупулезно — мельчайшие детали обыденной жизни — звуки, запахи, эмоции и тому подобное, а потому, что он был поэт, провидец; потому, что, несмотря на свою псевдофилософию и дешевый материализм, он видел истинную сущность вещей. Возьмите "La Terre". Вы думаете, что "реализм" этого романа вытекает из натуралистичного и, несомненно, правдивого описания рождения теленка? Вовсе нет. Любой ветеринар, если вы к нему обратитесь, сделает это не хуже, а то и лучше. Реализм "La Terre" отнюдь не в детальном отображении зверств, извращении и жестокости ужасных людей, а в том, что Золя показывает нам дикую, безумную, необыкновенную страсть, которая стоит над всем этим — страсть к земле, страсть, нагоняющую тоску, горящую, пожирающую, воспламеняющую, ведущую людей в ад и на смерть, похожую на страсть к недостижимой богине.
Помните, как земля поднимается и опускается, как каждая ее пядь оплакивает свою судьбу и бессмысленную жертвенность — вот, что я называю реализмом.
Сказки "Тысячи и одной ночи" также глубоко реалистичны, хотя и предмет, и стиль их весьма далеки от прозы Золя. Конечно, всегда найдутся люди, которые с пеной у рта будут доказывать, что, описывая свинарник, вы — "реалист", а рассуждая об алтаре, — "романтик"… Что ж, умственные процессы кретинов порою дают любопытную пищу для обсуждения".
Кто-то может заметить, что внезапная перемена в жизни уже сама по себе способна породить восторженные бредни. Отвратительный Люптон, эта клоака смердящих ядами фабрик и кварталов рабов, остался в прошлом вместе с ненавистной школой, которая по части идиотизма могла бы поспорить с Академией Лагадо[285] — достаточно вспомнить ее рутину, дисциплину, игры, уроки и проповеди Доктора. Переход к свободе легендарного Лондона с его таинственными улицами и бесконечным разнообразием жизни был подобен прыжку через бескрайнюю пропасть.
Амброз признался как-то, что не хотел говорить о той прогулке, опасаясь, что его назовут лгуном. Несколько часов бродили они по городу, дарившему им незабываемые впечатления. Но странность этой прогулки была сродни истории с "бенедиктином" — обнаружить места, в которых они побывали, Амброз уже никогда бы не смог. Где-то, сказал он, рядом с "Château de Chinon" должен быть проход, закрытый с тех самых пор. Это был путь в волшебную страну.
Когда, наконец, они нашли Литтл-Рассел-Роу, черный кот встретил их с выражением удовольствия и набожности — он пожирал огромную порцию несвежего масла. Амброз еще долго курил крепкие сигареты в постели, пока не закончилась пачка.
Глава III
Неделя, проведенная в Лондоне, была поистине изумительной. Дня два Нелли занималась тем, что покупала "вещички" и "всякую всячину", и — надо отдать ей должное — блестяще справилась с этой ролью. Она начисто отвергла излюбленные цвета своего сословия — вроде царственного пурпура, средиземноморской лазури и кричащих лиловых тонов — и под конец всем своим видом излучала радость и веселье.
Между тем, пока Нелли совершала свое паломничество по магазинам и выслушивала советы внушающих трепет статных, темноризых, златоволосых идолов Изящества, которые ведают сокровенными портняжными таинствами, Амброз сидел дома, на Литтл-Рассел-Роу, и усердно предавался размышлениям. Собственно, в эти дни он и начал делать заметки, ставшие впоследствии основой его прелюбопытной "Защиты таверн" — ныне весьма раритетной книги, о которой мечтают многие коллекционеры. Полагают, будто именно это сочинение имел в виду бедный Палмер, когда упоминал с какой-то мрачноватой сдержанностью о позднейшем периоде в жизни Мейрика. Скорее всего, он не прочел ни строчки из этой книги, а заглавие по всем общепринятым ученым стандартам, конечно же, было не слишком благозвучным. Надо сказать, и критики встретили книгу без особого восторга. Одна газета искренне удивлялась, зачем такое вообще было написано и напечатано; другая в добротных устоявшихся выражениях клеймила автора врагом великого движения трезвости; а третья — некое "Ежемесячное обозрение" — утверждала, что от этой книги кровь закипает.
Но даже самые суровые моралисты должны были понять по эпиграфу, что Обезьяны, Совы и Древние скрывают некую тайну; ведь не стал бы писатель, действительно преследующий цели злостные и нетрезвые, выбирать себе такой девиз: "Джалалуддин[286] восхвалял пути пьяниц и пил ключевую воду". Впрочем, газетные обозреватели сочли это невнятной бессмыслицей, лишь добавлявшей еще одни штрих к общей печальной картине.
Черновые наброски содержатся в первой из "Записных книжек", которые до сих пор не напечатаны, да и вряд ли когда-нибудь будут напечатаны. Мейрик записывал обрывки своих мыслей в меблированной квартире в Блумсбери, в мрачноватой комнатке на втором этаже, "окна на улицу", сидя за палисандровым "бюро" (которое хозяйке дома казалось "последним писком" мебельной моды).
Ménage[287] вставала поздно. Каким счастьем было, наконец, избавиться от этих ужасных звонков, отравлявших отдых в Люптоне, нежиться в постели сколько захочется, выкуривая утреннюю сигарету-другую и попивая чай! Постепенно и Нелли пристрастилась к курению. Поначалу ей совсем не понравился сигаретный дым, но благодаря завидному упорству и бесшабашной тренировке она сделалась заядлой курильщицей. И пока они убивали таким образом лучшее время суток, Амброз развлекался тем, что заставлял проходить у края кровати длинную вереницу учителей, и каждый произносил какую-нибудь характерную фразу, выражая ужас и возмущение, а потом, на полуслове, исчезал, увлекаемый прочь невидимой силой. Например, возникал Чессон, облаченный в рясу, шапку и мантию:
"Мейрик! Возможно ли это? Неужели ты не сознаешь, что такое поведение совершенно несовместимо с правилами вели-кой частной закрытой школы? Разве игры…" — Но тут он испарялся; его ноги исчезали в вихре, уносившемся в дымоход.
А потом прямо из ковра вырастал Хорбери:
"Скромность, умеренность и ясность мысли — вот составляющие Системы. Спартанская дисциплина. Мейрик! Это ты называешь спартанской дисциплиной? Курить табак и возлежать с…" — Тут он стрелой вылетал вслед за директором.
"Мы осуждаем роскошь любыми доступными нам средствами. Мальчик! Это же роскошь! Мальчик, мальчик! Ты уподобился римлянам эпохи упадка, о, мальчик! Гелиогабал[288], бывало…" — Дымоход поглотил и Палмера: на его месте уже стоял другой.
"Строго говоря, мальчик должен находиться либо в школе, либо на игровом поле. Ему не пристало бездельничать и распускаться. Так ты понимаешь идею о благотворном воздействии игр? Говорю тебе, Мейрик…"
Представление забавляло Нелли скорее теми "действиями" и мимикой, которыми оно сопровождалось, нежели содержанием диалогов, остававшимся для нее несколько туманным. Амброз понял, что она не улавливает всего комизма разыгрываемых им сценок, и тогда придумал некую идиллию между доктором и небезызвестной красоткой барменшей из "Колокола". О девице этой по всему Люптону ходила громкая, хотя и весьма сомнительная слава. Затея имела большой успех; начавшись с маленького эпизода, она разрослась в сложную вязь происшествий и приключений, безудержных стремлений и прихотливых побегов, козней и ловушек, переодеваний и страхов. Пока Амброз с важным видом наставлял Нелли, его идиллия — поначалу бесхитростная повесть о любви пастуха Чессона и нимфы Беллы — быстро обретала эпический размах. Он уже заговорил о том, что неплохо бы разбить ее на двенадцать книг! Особенно подробно остановился он на разгроме поклонников. В этой сцене старый добрый директор, переодетый букмекером, подмешивал дурмана в виски молодых оболтусов, имевших обыкновение толпиться у внутренней стойки бара в "Колоколе". Довольно длинный пассаж был посвящен рецепту этого зелья, настоянного на разных травах, а также толстенной кухарке, которая, взяв на себя роль Канидии[289], помогала директору смешивать нужную дозу дурмана.
"Миссис Белпер, — говорил доктор. — это просто поразительно. Я и знать не знал, что вы так хорошо разбираетесь в снадобьях. Вы действительно уверены, что эти и травы вызовут вполне определенные симптомы?"
"Сохрани Господь вашу душу, доктор Чессон, и простите, что я осмеливаюсь говорить это столь ученому джентльмену, как вы, да в придачу к тому же и доброму, но поверьте мне, нет на свете другого такого средства. Частенько я слышала от моей бедной матушки — скоро уж сорок лет будет, как померла она на Свечной день…"[290]
"Миссис Белпер, миссис Белпер, вы меня удивляете! Разве вам не известно, что судебная комиссия Тайного совета осудила соблюдение этого праздника, название какового вы с такой легкостью произносите, осудила как отъявленное суеверие? Так значит, второго февраля будущего года исполнится сорок лет, как преставилась ваша мать? Да?"
"Вообще-то сорок лет стукнуло нынешним Сретеньем, а ведь до чего хорошая женщина была! Никто не мог похвастаться такой большущей бородавкой на носу, какая имелась у моей матушки, да только ноги-то год от году все слабее и слабее у нее становились!"
"Подробности эти, несомненно, весьма важные лично для вас, едва ли столь же важны для нашего нынешнего предприятия. Впрочем, миссис Белпер, продолжайте".
"Сердечно благодарствую, сэр, я-то помню, что вы священник. Да что там! Нельзя же быть всем на свете сразу. Так вот, сэр, матушка моя не раз говорила, что, будь она как иные-другие, так разжилась бы золотишком на этой вот самой травке, что у меня в руках".
"Миссис Белпер! Ваши слова весьма любопытны. Я часто задумывался, как неразумно с нашей стороны пренебрегать щедрыми дарами благословенной земли, — а ведь мы пренебрегаем ими с завидным постоянством. Ваша покойная матушка с большим успехом пользовалась этим самым снадобьем?"
"Боже милостивый, доктор Чессон! Да против этого зелья ни слон, ни кит не устоит, ведь оно посильнее самого сильного пороху, какой только ни приготовлялся и ни взрывался, и уж куда как лучше той дряни, что можно купить в лекарских лавках! А цена на эту дрянь и вовсе непомерная, хотя по мне, сэр, так она не лучше ртути. И каким бы сильным ни было снадобье из самой лучшей лекарской лавки, я на Евангелии вам поклянусь — оно никогда не сможет сравниться с тем, какое бедная моя матушка делала, и всякий вам это скажет в Мачмоддлском приходе, ведь если кто принимал какую-нибудь микстуру миссис Марджорем да потом выкарабкивался — хоть мужчина, хоть женщина, хоть дитя малое, — уж помнил это всю жизнь, до самого смертного мига. Матушка моя, надо сказать, забавница была — веселее не сыщешь! Когда Том Копус, хромой скрипач, женился, она, хоть и еле ходила, бедняжка, нош ее уже плохо слушались, все-таки явилась, ну и подлила чуть-чуть снадобья в пиво, когда никто не видел! Ах, она душенька! Сама потом говорила: "Из веселья выходит свадьба", — и ведь верно, ох и весело же было тем, кто в тот день не прикасался к пиву, а налегал на виски, до которого она не добралась — ну не подлость ли держать виски запертым, просто низость какая-то, право слово!"
"Довольно, миссис Белпер, довольно! Вы полностью удовлетворили мое любопытство в том, что касается могущества фармакопеи покойной миссис Марджорем. А теперь, если не возражаете, давайте закончим приготовление нашего снадобья и сделаем его, говоря словами Шекспира, ‘вязким и густым’"[291].
"Да благослови вас Господь, сэр, вы всегда были мне добрым и славным хозяином, и коли это зелье не уложит как есть всех жителей Люптона, можете звать меня голландкой, хоть я ею никогда не была, и бедняга мистер Белпер тоже".
"Разумеется, миссис Белпер. Голландцы принадлежат к другой ветви тевтонского племени, а если какое-то родство когда-либо и существовало, оба народа уже давным-давно обособились. Полагаю, миссис Белпер, что выдающиеся врачи признавали благотворное воздействие мягкого слабительного в коварную (хотя и восхитительную) весеннюю нору?"
"Благослови вас Закон, сэр, вы как всегда правы. А все почему? Как говаривала моя мать, когда готовила свои смеси: "Кто нутро прочистит — улучшенье сыщет"! Толкла себе травы и так при этом смеялась — я уж думала, лопнет, — и тряслась вся будто бланманже".
"Миссис Белпер, вы сняли камень с моей души. Значит, вы полагаете, я буду избавлен от несправедливого соперничества и смогу спокойно, без помех, ухаживать за юной мисс Флойер?"
"Будете вольным, как птичка в небе, мистер Чессон, сэр. Эти юнцы еще долго не поднимутся на ноги, им останется только выть и стонать, как самым несчастным из несчастных, да испускать предсмертное дыхание. А вы, сэр, заполучите юную леди, благослови ее Господь, в полное свое обладание, и коли у вас родятся близнецы, меня не вините!"
"Миссис Белпер, ваше предположение, если я могу так выразиться, носит несколько преждевременный характер. Впрочем, не сомневаюсь, что вы руководствовались самыми лучшими побуждениями. Ну вот! Звонок зовет меня на школьные занятия".
Голос доктора звучал пронзительно и резко, чем-то напоминая скрежет гребенки и шорох оберточной бумаги, а у толстухи кухарки было утробное сиплое контральто. Амброз воспроизводил эти особенности своих героев с талантом прирожденного имитатора, дополняя представление соответствующей мимикой и жестами, — Нелли просто умирала со смеху.
День за днем Амброз сочинял новые эпизоды. Директор, не в силах совладать с охватившей его постыдной страстью, прятался в угольном погребе "Колокола", а когда кто-нибудь обращал внимание на доносившиеся из погреба звуки, он принимался лаять, изображая терьера, который выслеживает крысу. Нелли нравилось, как Амброз лаял в этом месте рассказа — "Гав! Гав! Гав!". Нравилась ей и позорная развязка, когда разнорабочий из "Колокола" врывался в бар и восклицал: "Пусть ослепнут мои глаза, если это не доктор! Я видел его шапку и мантию; он бегал на четвереньках вокруг мешков с углем, громко лаял и рычал". Здесь вступала хозяйка: "Что за глупые выдумки! С чего бы ему вдруг лаять и рычать — он же священник?!" Ей поддакивал хор завсегдатаев: "Верно, Том! Зачем ты мелешь такую чушь, он же священник!"
Амброз и Нелли так весело и громко смеялись за утренним чаем над этими сумасбродствами, что хозяйка начала сомневаться в подлинности их брачного свидетельства. Однако ей было все равно. Они заплатили вперед, и она рассудила: "Молодые люди всегда будут развлекаться с девушками — так к чему все усложнять?"
За утренним чаем следовал завтрак. Они предупреждали хозяйку звонком за полчаса, так что странноватые блюда не были, по крайне мере, холодными. После завтрака Нелли отправлялась по магазинам, что, надо полагать, доставляло ей огромное удовольствие, а Амброз оставался в одиночестве. Его уже ждали перо, чернила и пухлый блокнот, приобретенный в канцелярской лавке.
Вот при таких странных обстоятельствах он и написал вчерне свою бесценную "Защиту таверн", которую теперь счастливцы, обладающие экземплярами этого сочинения, называют единственным в своем роде золотым трактатом. Хотя в последующие годы он многое добавил, переделал и сильно видоизменил, есть в первоначальном наброске какая-то энергия и свежесть, по-своему привлекательные. Чего, например, стоит описание охваченного трезвостью мира: пагубное отсутствие опьянения способно уничтожить и разрушить все труды и думы людей, привести мир к гибели из-за нехватки Доброго питья и добрых выпивох. Мейрик высказывает здесь опасение, что ввиду такого прискорбного пренебрежения дионисийскими мистериями[292] человечество вскоре низвергнется с высоких вершин, некогда покоренных им, и окажется под страшной угрозой возврата к бессловесному, слепому и косному состоянию скотины.
Иначе, рассуждает он, как можно объяснить то приниженное состояние, в котором пребывает весь животный мир, пораженный извечным бессилием? Ведь животным дарованы чудесные и безграничные силы и способности. Рассмотрим, к примеру, любопытные свойства двух противоположных представителей царства зверей — муравья и слона. Муравьи, если можно так выразиться, очень похожи на людей. У нас есть крупные центры промышленности, наша Черная страна, и рабы, которые, даже не будучи чернокожими, превратились в рабов у нас на службе. У муравьев тоже есть свои порабощенные черные племена, выполняющие всю грязную работу, а поработители при этом, возможно, также упиваются своими привилегиями, которые приобщают их к благам цивилизации, — пусть это всего лишь иллюзия. Муравьиные рабы, полагаю, живо сбегаются на защиту своих жилищ и личинок, ведь говорят, что трудящиеся классы великодушны по природе. Мало того: мы искусственно выращиваем грибы — и они тоже. В разных местах выстраивают они гигантские муравейники, к досаде и ужасу местных обитателей. Но и у нас ведь есть свои Манчестер, Люптон, Лидс и множество подобных мест, и, можно подумать, все они вполне цивилизованны.
Слон же обладает многими качествами, которых мы лишены. Взять хотя бы любопытный инстинкт (или, скорее, предчувствие) опасности. Например, слон знает, когда обветшал мост, и отказывается по нему идти, — а человек беспечно шагает навстречу своей гибели. Таким же образом можно изучить всех прочих животных, и у каждого мы обнаружим исключительные способности.
При этом животным неведомо искусство. Они видят — но не видят. Слышат — но не слышат. И даже имея великолепное обоняние, они не способны оценить всю сладость запахов. Они не могут поведать обо всех чудесах, которые им известны. Их жилища порой устроены не менее изобретательно, чем химический завод, но там нет места красоте ради самой красоты.
А все потому, что их придавливает к земле висящая над ними всеми тяжелая туча трезвости; и едва ли нашим поборникам умеренности приходило в голову, что, ставя нам в пример природное воздержание животных, они тем самым выдвигают неопровержимый довод против собственной же теории. Гигантский зимородок — без сомнения, абсолютный трезвенник, но ни один человек в здравом уме не захочет стать зимородком.
История людей, достигших высот, совершивших великие деяния на земле и навечно прославившихся, так или иначе связана с поисками Чаши. Дионис, утверждали древние греки, привнес в мир культуру, а вакхические мистерии, без сомнения, были сердцем и душой греческой цивилизации.
Вспомним ветхозаветную метафору Лозы и Виноградника[293].
Вспомним Поиски Святого Грааля.
Вспомним Рабле с его la Dive Bouteille[294].
Перенесемся мысленно в готический собор XIII века и постоим на торжественной обедне. А затем отправимся в ближайшую "маленькую скинию"[295] — посмотрим, послушаем. Сопоставим оба строения, сравним молящихся в соборе и слушающих, спорящих в скинии. Разница между пьяным и трезвым видна в их творениях. Как убогая молельня относится к Тинтерну[296], так и трезвость — к опьянению.
Современная цивилизация во многом продвинулась вперед? Что ж, фасад молельни покрыт штукатуркой. Материал этот совершенно неведом строителям Тинтернского аббатства. Движение вперед? А что это такое? Свобода от излишеств, от чудачеств, от пылкого воображения? Мелкие ремесленники-протестанты, разумеется, от этого всего свободны. По разве радость Разбавления должна быть конечной целью, последним посвящением рода человеческого? Caelumque tueri[297] — и в сахар подсыпать песок?
В кувшинах из Песни Песней хранилось отнюдь не имбирное пиво.
Хуже всего то, что мы падем не до скотского уровня, а гораздо ниже. Черный человек хорош, и белый хорош. Но белый "разжигающий страсти" не становится негром — он становится чем-то бесконечно худшим, жуткой, отвратительной иллюстрацией порока.
Только освободив свое сознание от мерзкого ханжества нашей "цивилизации" и по-новому, без гнета заблуждений, взглянув на современный "промышленный центр", мы кое-что узнаем о том беспросветном ужасе, к которому катимся в своем стремлении уподобиться муравьям и пчелам — созданиям, ничего не ведающим о
CALIX INEBRIANS[298].
Сомневаюсь, сможем ли мы сделать это. Подозреваю, что мрак, вонь, отчаяние, отрава, адовы кошмары заполонили абсолютно все и приняли образ и подобие наших мыслей. Мы трезвы, и дверь таверны, вероятно, навсегда захлопнулась для нас.
Быть может, время от времени, с каждым разом все реже и реже, кто-то из нас отчетливо услышит далекие отголоски священного безумия за плотно закрытой дверью:
Все выше тирс, священных оргий звук,
Как прежде снова царствует вокруг.
Таков Sonus Epulantium Intermedium Aeterno Convivio[299].
Но мы этого не услышим. Скорее всего, мы приняли бы шум высокого хора за жуткое веселье преисподней. Обряд посвящения — не что иное, как пиршество, и потому особенно странно, что те, кто, так сказать, законно и торжественно призван совершать сей обряд, обречены всеми помыслами, словами и делами своими непрестанно хулить и ниспровергать любые обычаи и цели пиршеств и празднеств.
Это не отказ от вида ради гармоничного процветания прекраснейшего и желанного рода; это отрицание и вида, и рода, это провозглашение идеи, будто Добро есть Зло. Когда отвергается всеобщее, тем самым унижается и оскверняется частное. Так называемое "проклятие пьянства" — естественное и неизбежное следствие и порождение "протестантской Реформации". Если засыпать чистые источники волшебного леса, то люди (а им необходимо питье) отправятся к илистым топям и ядовитым омутам.
В книгах о Граале говорится о проклятье — о злых чарах, насланных на королевство Логрис[300] из-за пренебрежения таинствами священного Сосуда. Рыцарь видит кровоточащее копье и сияющую Чашу, но не произносит ни слова. Он не спрашивает о смысле и цели происходящей церемонии. И потому земля эта проклята, бесплодна и лишена песен, а ее обитатели вызывают жалость.
Ежедневно Святой Грааль являет нам свой прекрасный образ, и раз за разом мы вновь уходим от вопроса; так мистерия остается в небрежении и забвении. Но если бы мы задали этот вопрос, склонившись пред сим небесным великолепием и славною святыней, — тогда каждый человек обрел бы ту еду и то питье, коих жаждет его душа; чертоги наполнились бы благоуханием рая, и воссиял бы свет бессмертия.
Из книг мы знаем, что со временем Грааль исчез, ибо люди оказались недостойны его. Полагаю, так все и будет. Даже сейчас приключение искателя безнадежно: мало кто обретет Цель.
Проветривание и очищение — вещи сами по себе хорошие. Но едва ли приятно было бы провести сутки в хорошо проветренном и идеально чистом аду без еды и питья. Когда умираешь от голода и жажды, то уже не до свежести и чистоты.
Как славно, как чудесно было бы воскресить Царство великих пьяниц! Если б мы только могли низвергнуть власть трезвенников — строителей заводов, отравителей, политиков, дурных писак и бездарных мазил, заодно с сектантскими молельнями и моралью мистера Майлдмея, викария… (Следует еще ряд предложении негативного толка.)…Представьте, как на каждом лице сияет великий свет великою Опьянения и всякое творение рук человеческих, от собора до перочинного ножика, несет на себе печать таверны! Весь мир — великое празднество, каждый колодезь — источник дурманящего зелья, все реки полнятся новым вином. Святой Грааль перенесен из Сарраса[301], возвращен в величественное святилище Корарбенннка, оракул Божественной Бутылки вновь вещает, засохший виноградник расцвел, окруженный сияющими нетленными стенами! И тогда мы снова услышим древние песни, и вновь закружатся в древних плясках счастливые, свободные люди, сотрапезники и собутыльники из вечной Таверны".
Трактат, из которого здесь приведен лишь черновой незавершенный фрагмент, несомненно, являет собой пылкий призыв к воскрешению животворного, буйного воображения, и не только в искусстве, а во всех сокровенных проявлениях жизни. И еще. То здесь, то там можно уловить шепот потаеннейших таинств, различить намеки на великий опыт и великое свершение, к которым кто-то из людей оказывается призван. Сам Амброз об этом пишет так: "В таверне всегда имеется внутренняя Таверна, но дверь ее дано увидеть лишь немногим".
В последнее время записи тех лег стали очень дороги Амброзу, поскольку в них ощущался аромат прошлого, в котором смешивались реальность и фантазия. Причем ценно было не то, что написано, а то, когда и при каких обстоятельствах делались эти записи, напоминавшие о Литтл-Рассел-Роу, о Нелли и о вечерах в "Château de Chinon", где, ночь за ночью, наслаждались они незнакомой кухней, вкушая восхитительное мясо и отдавая должное божественному красному вину, не уступавшему напитку из чистейшего небесного источника. Один вечер запомнился Мейрику странной встречен.
Среднего возраста мужчина, сидящий за соседним столом, попросил прикурить, и Амброз вручил ему спички с той сочувственной улыбкой, которой одни курильщик одаривает другого в подобных случаях. Незнакомец — у него были черные усы и маленькая бородка клинышком — поблагодарил Амброза на беглом английском с французским а к центом, и они начали говорить о том о сем, постепенно перейдя к обсуждению направлений в искусстве. Француз улыбнулся, заметив энтузиазм Мейрика.
— Какая жизнь у вас впереди! — сказал он. — Знаете ли вы, что народ всегда ненавидит художника — старается уничтожить его при первой возможности? Вы — художник и мистик! Что за судьба!
— Да; но это — те аплодисменты, те Réclame[302], что раздаются только после смерти художника, — возразил он на высказанное Амброзом соображение. — Это самая ужасная и жестокая несправедливость. Такова судьба Бёрнса[303], чьи соотечественники, не переставая, расточали в его адрес свои благоглупости в течение последних восьмидесяти лет. Шотландцы? Но они и вовсе недостойны того, чтобы говорить о них! А Ките, а многие другие и в моей стране, и в вашей, да везде?! Яркая индивидуальность художника вовсе не означает, что нужно чернить его, подвергать гонениям, превращать его жизнь в ад! Но толпа не успокоится, пока не сведет его в могилу! Похвала народных масс! Похвала свиней! Чего стоят их хвалебные речи после смерти художника, которому они нанесли столько оскорблений при жизни?!
Француз ненадолго замолчал, но по его виду можно было понять, что он мысленно проклинает "толпу" в самых нелицеприятных выражениях. Потом он вновь обратился к Амброзу:
— Художник — и мистик. Да! Не исключено, что вам предстоит стать мучеником. Доброго вечера и… приятных мучений!
Он ушел с очаровательной улыбкой на устах, не; забыв отвесить изящный поклон Madame. Амброз наблюдал за ним с озадаченным видом. Последние слова собеседника вызвали в его памяти какие-то ассоциации, но он никак не мог понять, какие. И вдруг он вспомнил старого скрипача-ирландца, игравшего странные "фантазии" поддеревом в предместье Люптона. Музыкант тогда тоже пророчил ему судьбу кровавого мученика. Наверное, это просто совпадение.
Глава IV
В голове Амброза не переставая крутились разные мысли с того самого момента, как он отправился с Нелли в путешествие по странным многоликим улицам с роскошными окнами и ярко сверкающими фонарями, и потом, когда они блуждали среди постоянно меняющихся лиц, голосов и случайного смеха, наблюдая, как у дверей театров колышутся толпы любителей искусства вперемежку с двухколесными экипажами, как тяжело громыхают конки в направлении незнакомых районов, названия которых — Тэрнхем-Грин, Кастлено, Крикл-вуд и Стоук-Ньювингтон — были столь же чужды для его ушей, сколь и названия китайских городов.
Ночь выдалась темная и жаркая; парило, и весь город был погружен в какую-то дымку; далеко на востоке между облаками пробивалась темно-желтая луна. Амброз неожиданно представил, как луна — этот сверкающий мир — сияет где-нибудь в далекой стране, на диком скалистом побережье, над вздымающим свои волны морем, в волшебных яблоневых садах Аваллона, там, где вызревают только золотые плоды, а их никогда не увядающие цветы вечно смотрят в небо.
Они шли по слабо освещенной улице, когда мечты Амброза были внезапно прерваны резкими грохочущими звуками шарманки. На мгновение показались нечеткие детские фигуры, отчаянно плясавшие вразнобой и не в лад с музыкой. Длинный узкий проход вывел Амброза и Нелли к церковной башне со шпилем и дальше — к римско-католической церковной лавке с выставленными на обозрение предметами и произведениями искусства. Но как странно все это выглядело! В центре витрины стояла вызывающе грубой работы статуэтка какого-то святого. Он был одет в яркие красные одежды, усеянные золотыми звездочками; из раны на лбу стекала кровь; одной рукой он приоткрывал свое алое одеяние, указывая на ужасную глубокую рану чуть выше сердца, из которой тоже обильно сочилась кровь. Все было выполнено в кричащих тонах, и тем не менее в этом жалком примитивном подобии произведения искусства, казалось, светился какой-то исступленный восторг. Выраженная в статуэтке идея была столь высока, что сама по себе в определенной степени преодолевала убожество исполнения.
Они шли без особой цели, скорее подчиняясь заведенной привычке. Амброз молчал; он размышлял об Аваллоне, "кровавом мученичестве" и сказанных на прощанье словах француза в видении из одной старинной книги: "Человек был в багровых одеждах, столь ярких и сверкающих, что они походили на пламя. Его руки и лик также как будто пламенели. Вокруг него стояли пять ангелов в огненных одеяниях, а под ногами сего человека земля была покрыта красной росой".
Они прошли под старой церковной башней, четко выделявшейся белым силуэтом в лунном свете. Туман рассеялся, воздух стал прозрачным, небо теперь испускало фиолетовое свечение, и выточенные в классической форме белые камни сияли в вышине. Оттуда, сверху, внезапно раздались жизнеутверждающие звуки торжественного колокольного звона с его постоянно меняющимся строем, словно возвещавшие великую победу, но до улицы, что вела вниз от храма, долетал лишь тривиальный беспокойный шум. Амброз размышлял об одном вычитанном где-то пассаже, который припоминал неотчетливо: некое судно возвращалось в родну ю гавань после тяжелого и опасного плавания по многочисленным бурным морям, и когда жители города завидели паруса, то немедленно повалили к причалу. С борта корабля моряки слышали радостные, ликующие крики встречающих, к торжествующему хору толпы внезапно добавился перезвон колоколов со всех городских церквей, заглушавший даже шум прибоя.
Амброз заставил себя вернуться из грез в действительность. Все это время они бродили по кругу и теперь оказались недалеко от "Château". Их познания в местной географии не отличались глубиной, но юные покорители Лондона находились под таким впечатлением, что прошли на милю или около того дальше намеченного пункта. Случилось, так случилось. Впереди открывалась новая улица, но они вдруг встали как вкопанные, зачарованные внезапным видением горящего изнутри цветного витража. Богатство и полнота красок поражали. На витраже были изображены развернутые с завитушками свитки, гротески, выполненные в манере эпохи Возрождения, множество украшенных геральдическими символами щитов с преобладанием рубинового, золотого и голубого цветов; центр композиции занимал двор Пивного короля — веселой и почтенной фигуры, сопровождаемой толпой карликов и домовых, все с огромными пивными кружками в руках.
Амброз и Нелли решительно вошли внутрь заведения, которое оказалось знаменитым баром "Три короля". Однако его лучшие времена приходились на славную дореформенную эпоху, о которой наши путешественники ничего не знали. Помещение имело обыкновенные для подобных заведений размеры. Очень низкий побеленный потолок рассекали огромные потемневшие балки. Стены тоже были побелены. По штукатурке черными готическими буквами с инициалами киноварью был выведен текст, прославляющий искусство пьющего, а из темных углов на посетителей глядели странного вида домовые в красных и черных одеяниях. Освещение, по-видимому, было газовым, однако они не заметили здесь никаких иных приспособлений, кроме больших старинных фонарей на железных крюках, бросавших сквозь унылые зеленые плафоны тусклый свет на тяжелые дубовые столы и лица пьющих. Сверху с центральнон балки свисала огромная вязанка хмеля.
Публика приглушенно разговаривала, и время от времени раздавалось звяканье крышек на кружках, когда заказывали новые порцни пива. В углу было оборудовано нечто вроде барной стойки, за которой хлопотали две угрюмые женщины, по всей вероятности, тоже нз гномьей породы. А выше их, на специальной полке стояли высокие пивные кружки и другие сосуды того же назначения всяческих размеров и форм на любой вкус. Были там и простые глиняные кружки безо всяких украшений, и кружки кричащие, причудливо украшенные изображениями козлов с гирляндами, охотничьими сценами, башнями замков, яркими цветочными букетами. Кроме того, один друг пьяниц, мудрец, проникший в тайны жажды, создал несколько диковинных вещей из стекла, таких сияющих и прозрачных, что, когда на них смотришь, кажется, будто смотришь в родник, и каждая их сверкающая грань словно обещает удовлетворить любой взыскательный вкус. Кружки были вместительные, весьма глубокие, и почти у всех сверху имелись крышки, да не простые, какими обыкновенно увенчивают подобные сосуды, но с высокими богато украшенными оловянными верхушками — очевидно, они сохранились еще со Средневековья.
У Амброза заблестели глаза. Место в целом оказалось именно таким, каким он себе его и представлял. Нелли же порадовалась возможности присесть, так как гуляли они дольше обычного. Она решила освежиться стаканом холодного напитка из огуречного цветка с плавающей внутри вишенкой, а Амброз заказал кружку пива.
Неизвестно сколько таких жбанов он опустошил. Как мы уже отметили, стояла душная ночь, ветер гонял но улицам пыль, и стакан бенедиктина после обеда не столько утолял жажду, сколько пробуждал демона этого желания. Тем не менее мюнхенское пиво не относилось к напиткам, которые горячили кровь и будоражили дух, так что причину последующих событий, по-видимому, следовало искать в чем-то ином. Амброз сделал изрядный глоток живительного пива, посмотрел на потолок и заказал себе еще кружку, а Нелли — новую порцию изысканного прохладительного напитка из цветов.
Когда их обслужили, он без всяких предисловий завел разговор:
— Нелли, дорогая, вы должны знать, что последовавшая в назначенное время (согласно предсказанию и совету Божественной Бутылки) женитьба Панурга отнюдь не принесла ему удачи. Так как вопреки рекомендациям Пантагрюэля, брата Жана и, разумеется, всех его приятелей Панург женился в припадке уныния и по своему упрямству на кривой и косоглазой дочери маленького старикашки, торговавшего зеленым соусом на Rue Quincangrogne at Tours, — через несколько дней вы побываете там и сами во всем разберетесь. Вы меня не поняли? Дитя мое, с того времени, как люди стали предъявлять претензии Духу времени — без сомнения, единственному когда-либо существовавшему богу, — они впали в неверие, в чем вы на месте убедитесь гораздо нагляднее, нежели по трудам Гексли[304] и Спенсера и всем передовым статьям наиболее уважаемых газет. Quod erat demonstrandum[305]. Чтобы вы меня поняли еще лучше: когда я умру и, разумеется, в моем лице умрет великий человек, тысячи людей со всех концов света — не забывайте про Соединенные Штаты — соберутся в Люптоне. Они будут пристально разглядывать Старую усадьбу, на стене которой появится мемориальная доска обо мне; они будут часами сидеть за партами в люптонской школе, бродить вокруг игровых полей, изучая "ручьи" и "карьеры". Потом направятся посмотреть производство серной кислоты, фабрику химических удобрений и Открытую библиотеку, а заодно и все прочие выгребные ямы Люптона; наконец, они смогут насладиться видом товарной станции Мидлендской железной дороги. Тогда они скажут: "Вот теперь мы его понимаем. Теперь всякий видит, что его вдохновляло в этой красивой старой школе и в этой изумительной английской сельской местности". Так что стоит мне показать вам Rue Quincangrogne, как вы прекрасно поймете эту историю. Давайте выпьем. Мир больше не захлестнет потоп, можете не бояться.
Итак, факт остается фактом: Панург, женившись на вышеупомянутой омерзительной девице, был очень и очень несчастлив. Напрасно он препирался с женой на всех известных и нескольких неизвестных языках, поскольку, по ее же утверждению, она знала всего два — язык солодосушилки и язык палки, и в ту же секунду доказала ему это на деле per modum passion[306], то есть побила, да так основательно, что бедолага покрылся болячками с головы до пят. Он был достойным парнем, но при том первым трусом из всех, когда-либо появлявшихся на свете. Поверьте мне, он слыл прославленным пьяницей и самым большим… Нелли, мир не видывал человека несчастнее Панурга, с тех пор как рай отверг Адама. Это истинный взгляд. Я узнал сие в Элевсине[307]. Вы спросите, в чем было дело? Почему, во-первых, эта подлая негодяйка… — они все ее так называли, поскольку одинаково ненавидели — La Vie Mortale, или смертная жизнь, именно негодяйка, я не оговорился, так вот: что, по-вашему, она сделала после того, как замер последний звук скрипки и приглашенные на свадьбу гости перебрались в кабачок "Три миноги" заморить червячка? Если этот "червячок" выдержал свадебный пир, то он наверняка бессмертен! Итак, что сделала мадам Панург? Всего лишь обобрала своего мужа до нитки. Вы, конечно же, помните, как в былые деньки Панург растратил денежки, которые ему дал Пантагрюэль, и при более пристальном наблюдении мы видим, что ему, пока он еще пользовался благосклонностью друзей, пришлось одалживать зерно задолго до сева. По правде говоря, этот добрый человек никогда не имел ни пенни на благословенное существование, и именно из-за этого Пантагрюэль любbл его такой нежной любовью. Так что, когда Dive Bouteille выдала пророчество, и Панург выбрал себе супругу, Пантагрюэль показал, сколь высоко он ценил этого беззаботного транжиру, дав ему такое сокровище, что ювелиры, которые живут колоколом Сен-Гатьена[308], до сих нор говорят о нем перед обедом, потому что от этого у них обильно текут слюнки и улучшается пищеварение. Почитайте Галена[309]. Если бы вы знали, каким большим и прекрасным было это сокровище, то пошли бы в Архиепископскую библиотеку в Туре, где вам покажут массивный фолиант в переплете из свиной кожи, название которого я запамятовал. Книга эта — не что иное, как перечень всех диковин и торжеств, преподнесенных или посвященных Панургу в честь его свадьбы Пантагрюэлем; в ней есть удивительные вещи, скажу я вам, ибо ничто не могло сравниться с этими дарами, разве что изрядная сумма в звонкой монете. Помимо обычных денег там были древние предметы, самые названия которых нынче никому не понятны, и таковыми они останутся до пришествия Coqcigrues. Например, большое золотое солнце, слово-в-себе, как совершенно справедливо заметили бы некоторые, мириады звезд, все из серебра тончайшей в мире чеканки, — я даже не берусь сказать сколько, — и Ангельские сады, о ко торых сведущие люди наверняка подумают, что они отчеканены в Анжере[310], другие, правда, могут посчитать этих ангелов подобными нашим. Что же касается райских роз и Couronnes Immorteles[311], то я полагаю, он получил их такое количество, какое мог себе представить. Красоту и радость он держал в кармане в качестве разменной монеты; мелочь порой бывает важнее больших барышей.
И, как я уже сказал, не успел Панург жениться на противной дочке торговца с Rue Quincangrogne, как она отняла у него все до последнего гроша. Верно, га женщина была ведьмой и, может быть, кем-то еще, о чем я пока умолчу. Поверите ли вы, она навела на Панурга порчу и принудила его считать себя абсолютно нищим. В итоге он смотрел на Sol d' Or[312], вопрошая: "Какая от него польза? Так, просто блестящая глыба, на которую я могу пялиться каждый день". А когда завистники интересовались Ангельскими садами, он обыкновенно отвечал вопросом на вопрос: "Где они? Вы их видели? Лично я — нет. Покажите их мне". И так обстояло дело со всеми прочими дарами. И все это время жена-негодница лупила его почем зря, отчего в глазах несчастного Панурга постоянно стояли слезы, а соседи утверждали, что его вопли раздавались по всей земле. Тогда круг ом поговаривали, что он не справился с мужним делом и ничего хорошего из их брака не выйдет.
К счастью для Панурга, эта… ведьма-жена временами засыпала на ходу на несколько минут, и тогда у него случались маленькие периоды мира и спокойствия, когда он задавался вопросом: что стало с теми веселыми девчонками и обходительными леди, коих он знавал в прежние времена и сыграл в их жизни роковую роль, преподав им овидиеву arte amoris[313]? Теперь, конечно, при его нынешней жизни, стоило бы упомянуть имя одной из них, а что до тайных визитов, похищенных ласк, объятий украдкой или каких-либо других пустяков подобного рода, то они заканчивались неизменным "Прощай, увидимся после дождичка в следующий четверг". Это все мелочи, тем более худшее всегда позади; и я знаю, что от мысли, которую я пытаюсь до вас донести, ветер стенает и плачет зимними вечерами, облака изливаются слезами, а небо становится черным. Так как, говоря по справедливости, она несет в себе величайшую печаль от начала мира. Мне обязательно нужно высказать ее, и побыстрее, пли я не сделаю этого никогда, причем высказать на простом английском. Слова мои — такая же правда, как и то, что я сижу перед вами и попиваю доброе пиво: со дня женитьбы Панург не отведал ни глотка, ни капельки, ни пеннивейта[314] спиртного! Он взывал к состраданию жены, рассказывал, как служил Гаргантюа и Пантагрюэлю и пристрастился пить во сне, но супруга просто-напросто послала его к черту — она даже не позволяла ему смотреть, по ее словам, на это противное зелье. "Попробуй только тронь, только пригуби, только понюхай!" — приговаривала она словно девиз. Чтобы восполнить такую потерю, она наградила его значком члена общества трезвости. "Далось вам это пойло? — говаривала она. — Ступайте-ка лучше займитесь делом. Вам это будет полезнее".
Жалко и грустно было смотреть на несчастного Панурга. В конце концов он дошел до такого отчаяния, что однажды, когда жена задремала, воспользовался моментом и дал деру к Пантагрюэлю, которому выложил всю свою историю в таких красках, что по щекам Пантагрюэля от искреннего сострадания к бедствиям друга потекли слезы, и в каждой слезинке было ровным счетом по сто восемнадцать галлонов, согласно вычислениям лучшего из геометров. Великий муж понял, что перед ним безнадежный случай. Только богу известно, сказал он, можно ли тут что-нибудь поправить; однако в одном он был уверен — подобные дела не улаживаются второпях, поскольку речь шла не об игре в биту, где можно было обойтись одним-двумя галлонами вина. Поэтому он рекомендовал Панургу запастись терпением и смириться с* характером супруги на несколько тысяч лет, а там поглядим, что можно будет сделать. Но чтобы терпение друга не истощилось, он дал ему необычное снадобье или лекарство, приготовленное великим искусником с китайских гор. Это лекарство Панург должен был бросить в стакан жены, а сам при этом не пить вовсе. Жене следовало давать дозу дурманящего напитка по три раза на дню, отчего сон ее постепенно станет продолжительнее. В эти моменты Панург сможет наслаждаться покоем. Панург в точности выполнял рекомендации друга и время от времени получал отдых. Поговаривали, что когда чертова женщина храпела и фыркала во сне, он успевал пару раз приложиться к настоящему напитку — доброму крепкому пиву из пузатого бочонка, — откуда ои лакал нетерпеливо, словно котенок сливки. Другие утверждали, будто одни пли два раза он рассказывал о своих прежних проделках, пока жена храпела под солнцем. Женщины, не таясь, сплетничали про то, как их старая госпожа, мадам София, танком бегала к нему в дом, и бог ведает, чем она там занималась за плотно закрытыми дверьми. Однако туренцы всегда были горазды разносить дурные вести, так что не следует верить всему, что они говорят. Не стану пересказывать того, о чем шептались низкие сплетники, падкие на скандальные новости и всегда готовые оговорить человека, будто он содержит одну хозяйку в Иерусалиме, другую в Элевсине, а третью в Египте, и вообще жен у него столько же, сколько в гареме Великого тюрка, рассеянных по городам и селам Азии. Однако я и в самом деле считаю, что он, бывало, целовался по темным углам, а занавес поперек одной из комнат дома мог бы поведать немало забавных историй. При всем при том La Vie Mortale (чума на нее!) чаще только прикидывалась спящей, и если просыпалась по-настоящему, то дело было совсем дрянь. Так как, вы сами видите, женщина была не дура и быстренько смекнула, что тут творится нечто неладное. Пива в бочонке явно поубавилось, и она не раз заставала муженька навеселе и гонялась за ним по всему дому, чтобы намылить уши. Был случай, когда мадам София прибрала к рукам ее колечко, а в другой раз как-то под утро эта очаровательная леди появилась до того надушенной, что от нее пропах весь дом. Когда же проснулась La Vie, в жилище стоял запах, что в твоей церкви. Тут она выдала такое, скажу я вам… удары, проклятья и вопли были слышны как в Амбуазе, на одном берегу, так и на другом, в Луине[315]. В тот год Уровень воды в Луаре поднялся на десять футов выше, чем накопилось панурговых слез. В качестве наказания она заставила его вкалывать, и Панург построил десять тысяч фабрик По производству вонючей продукции с двадцатью тысячами труб, отчего все деревья, листья, зеленая трава и цветы во все мире почернели и погибли, а поды оказались отравленными до такой степени, что в Луаре перестали водиться окуни, и за фунт лососины на рынке Шинона[316] требовали до сорока солей[317].
Что касается мужчин и женщин, то они превратились в желтых человекообразных обезьян и начали слушать чудаковатого старикашку по имени Кальвин[318], который учил, что все прокляты навечно (кроме его самого и сподвижников), и нашли сию теорию весьма утешительной и даже вполне правдоподобной, коль скоро сообразили, что уже прокляты больше чем на половину. Не берусь судить, к какому фатальному исходу привела бы Панурга судьба в том пли другом варианте после того, как жена нашла среди его бумаг книгу, целиком исписанную стихами. Часть виршей была посвящена чудесным сокровищам, подаренным ему Пантагрюэлем, о которых Панург предположительно успел позабыть; часть была адресована ветреным женщинам нашего героя, а пространная поэма восхваляла достоинства нынешней владычицы его сердца, Софии. Он за это сильно поплатился. Целый день Панург просидел на хлебе и воде, сопровождаемыми адовыми мучениями, и La Vie поклялась, что, если он поступит так еще раз, она сошлет его в Манчестер на всю оставшуюся жизнь. Угрозы жены до того напугали Панурга, что он свалился без чувств и лежал как бревно, отчего люди приняли его за покойника.
Великий Пантагрюэль все это время не сидел сложа руки. Понимая, сколь отчаянный оборот приняло дело, он призвал мудрецов со всех концов обширного мира на тысячу первый Большой экуменический совет, и после того как отцы прибыли и отстояли торжественную мессу в Сент-Гатьенском соборе, провозгласил заседание открытым. Собрание проходило в павильоне на лугах Луары как раз под фонарем Рош-Корбон, отчего за ним навсегда закрепилось название Фонарного Совета. Если вы пожелаете узнать, где это, то нет ничего проще, так как на месте павильона теперь стоит таверна, где вам подадут malelotte[319] и friture[320] с янтарным вином из Вуврэ[321]. Это лучшая таверна в Турени[322]. Что касается деяний Большого совета, то о них все еще пишут, и пока изданы только две тысячи томов в обложке из слоновой кожи sub signо Lucernae cum permissu superiorum[323]. Однако, no необходимости быть кратким, могу сказать, что псе отцы Фонарного Совета, выслушав дело, как оно было изложено великими чиновниками Пантагрюэля, обсудив возможные аргументы и изучив подобные прецеденты, обратились к высокому учению. Исследовав тайную мудрость и сверившись с канонами, поискав в писаниях, серьезно испытав догму, рассмотрев различия и ответив па вопросы, они единогласно решили, что Панургу ничто в мире уже не поможет и есть только одно средство: он должен без промедления отправиться на поиски самого высокого, благородного и великолепного, что есть на земле, — Святого Грааля, и нет под небесами иного пути, которым он мог бы избавиться от зловредной супруги своей, La Vie Mortale.
Как-нибудь при случае, сказал Амброз, я расскажу вам о последнем путешествии Панурга к Прозрачному острову Святого Грааля, о невероятных приключениях и страшных опасностях, через которые ему довелось пройти, о великих чудесах и диковинных вещах, о том, как нежданно-негаданно встречал он помощь на своем пути и как ему удалось заполучить титул Plentyn y Tonay, обозначающий "Дитя наводнений", и, наконец, о блистательном завершении путешествия, когда он сподобился увидеть Святой Грааль и самым счастливым образом был огражден от власти La Vie Mortale.
— И где же он теперь? — спросила Нелли, которая нашла историю занятной, но мрачной.
— Точно неизвестно, на этот счет есть множество мнений. Однако с данной загадкой связаны две странные вещи: согласно одной версии, он в точности похож на человека в красных одеяниях, статую которого мы сегодня видели в витрине магазина; по другой, с того самого дня и по сию пору Панург ни на минуту не оставался трезвым.
"Calix meus inebrians quam praeclarus est!"[324]
Глава V
Амброз большим глотком допил пиво и тут же постучал крышкой, заказывая еще одну кружку. Нелли была несколько возбуждена. Она боялась, как бы он не начал петь, ибо в истории о Панурге было немало нелепого и преувеличенного, проистекающего, как ей казалось, от алкоголя. Но он не запел. Он погрузился в молчание и принялся внимательно изучать закопченные перекладины, подвешенный хмель, броско украшенные высокие пивные кружки и посетителей, рассеянных по разным частям помещения. За соседним столом двое немцев весело уминали внушительные отбивные и время от времени облизывали губы, как будто еда приводила их в исступленно-восторженное состояние. Он не очень хорошо знал немецкий, но сумел разобрать фрагменты разговора.
Один из немцев воскликнул:
— Божественные свиные котлеты!
Другой ему отвечал:
— Великолепная еда!
Амброз обратился к Нелли:
— Меня посетило великое вдохновение! — Нелли явно дрожала. — Н-нда, я что-то разговорился, и от этого у меня разыгрался аппетит. Почему бы нам не поужинать?
Они просмотрели перечень необычных яств и не без помощи официанта выбрали ливерную колбасу и картофельный салат — легкую и безопасную еду. Кроме того они съели по изогнутой посыпанной тмином булке и запили все это большим количеством мюнхенского "Лёвенброй", цветочным напитком и черным кофе, а потом еще fine[325] и мараскином[326].
Нелли почудилось, что домовые по углам заплясали гротескный и таинственный танец, стеклянные пивные кружки на стойке как-то странно заблестели, белые стены с красными и черными буквами широко раздвинулись, а букет из хмеля, казалось, был прикреплен к далекой звезде. Что касается Амброза, то он, по классификации барона, безусловно, не был ebrius[327]; он был всего лишь ebriolus[328] и сохранял ясность ума. К примеру, чувствовал легкое оживление фантазии, испытывал более яркое и острое удовольствие от ситуации в целом, неописуемую веселость от этого сумасбродного бегства из буднично однообразного Люптона.
"Помнится, был вечер четверга, — рассказывал Амброз спустя много лет. — Мы обдумывали, когда стоит отправляться в Турень: на следующее утро или самое позднее в субботу. Я никогда не забуду те яркие впечатления: помещение с низким потолком, опирающимся на дубовые балки, сверкающие пивные кружки, свисающий с потока хмель, и Нелли, сидящая передо мной и потягивающая душистый напиток из зеленого стакана. Это был последний вечер развлечений, и даже веселость шла вперемешку с необычными вещами — разговором француза о мученичестве, статуей указывавшего на причины своих страданий святого в окрашенных одеждах и с ликующим лицом; потом финальная песнь восторга и избавления, исполненная на церковных колоколах с белой колокольни. Мне кажется, торжественный оттенок этого заключительного явления превратил мое сердце в один горящий светильник. Я погрузился в то странное состояние, в котором человек радуется, когда его не понимают, — в частности, я рассказал бедняжке Нелли историю женитьбы Панурга на La Vie Mortale и уверен, она подумала, что я напился!
Домой мы возвращались в двухколесном экипаже и по дороге договорились, что выкурим по сигаретке и ляжем спать. Я решил, что завтра мы сядем на вечерний пароход, идущий до Дьепа[329], и мы вместе засмеялись от радости, предвкушая новые приключения. И тут — не помню, что послу жило толчком, — Нелли вдруг начала рассказывать о себе. Раньше она этой темы даже не касалась. Я никогда не просил ее, как не просил никого другого, просвещать меня на этот счет. Зачем? Вы знаете, есть категория романистов, которые любят использовать всякие там козни и интриги. В их историях счастье героя, как правило, рушится в тот момент, когда он узнает, что жизнь жены или возлюбленной не всегда была безупречна и незапятнанна как снег. Но почему она должна быть незапятнанна как снег? Что это за герой такой, которого нужно одаривать любовью райских девственниц? Я называю это лицемерием, и оно мне ненавистно; надеюсь, что ангелочек Клэр в конечном итоге попала в сети молодого человека из цирка Пиккадилли[330] — хотя она, быть может, слишком для него хороша! Таким образом, вы сами убедились, что я вряд ли стал бы задавать Нелли испытующие вопросы; у нас и без того было о чем поговорить.
Но в тот вечер, как я предполагаю, она была немного возбуждена. Мы провели бурную и замечательную неделю. Достаточно одного лишь перемещения от орошаемых травных лугов в Центральных графствах в Телемское аббатство[331], чтобы голова пошла кругом. Мы смеялись до колик. Наихудшим в порядках нашей жалкой школы было то, что она вынуждала каждого получать безумное и совершенно несоразмерное удовольствие от мелких вещей, от самых что ни на есть пустяков, которые нужно было принимать за нечто само собой разумеющееся. Уверяю вас, что каждая лишняя минута моего лежания в кровати после семи часов была для меня словно крупица рая, моментом наивысшего наслаждения. Конечно, это покажется смешным. Стоит позволить человеку вставать рано или поздно, как ему нравится, или как он считает для себя удобнее, и вопрос будет исчерпан. Но в несчастном Люптоне ранний подъем занимал существенную часть наших досужих и вздорных пересудов и сделал жизнь там подобной затянувшемуся обеду, где все блюда подавали под одним и тем же соусом. Этот соус мог быть и не плохим, но у всех он вызывал болезненное неприятие. Наши школьные бонзы утверждали, что ранние подъемы зимой — высокая добродетель, приобретаемая привычкой. Думаю, мне самому нравилось бы сидеть в жестком кресле, если бы один из наших старых дураков — Палмер — перестал постоянно бормотать о страшной роскоши некоторых из воспитанников, у которых в кабинете стояли мягкие кресла. Пока вы придумывали разные способы лишить себя каких-нибудь удобств, он обычно говорил, что вы походите на "поздних римлян". Я убежден, он свято верил, что сумасшедшие, купавшиеся в Змеином ручье на Рождество, прямиком попадут на небеса!
И вот вам: я по привычке вставал в семь утра и смеялся, когда до меня доходило, что я не на Литтл-Рассел-Роу, а в Старой усадьбе. После этого я спал на ходу и пробуждался через регулярные интервалы — в восемь, в девять, в десять — и смеялся в душе от все возраставшего удовольствия. То же самое было с курением. Я думаю, что не прикоснулся бы к сигарете еще многие годы, если бы в декалоге нашего заведения для сумасшедших курение не считалось одним из смертных грехов. Не берусь судить, плохо ли курение сказывается на здоровье мальчиков, однако всегда полагался в этом вопросе на мнение голландцев: крепкие ребята начинают пыхтеть толстыми сигарами лет с шести или около того; но я точно знаю, наши надутые старые дуралеи, болваны и лысые черепа придумали лучший способ заставить мальчиков считать, что пачка "Rosebuds"[332] содержит в себе квинтэссенцию непередаваемых восторгов.
Вот так это и было, так Лнттл-Рассел-Роу — мрачное, консервативное, темное пристанище в старом Блумсбери — стала обителью удивительных радостей, яркой частью волшебной страны. Ах! Мы словно отведали молодого крепкого вина, и оно ударило нам в головы, что не удивительно. Постепенно дело шло к своей высшей точке до того самого четверга, когда мы зашли в бар "Три короля", устроились под связкой хмеля, пили "Лёвенброй" и цветочный напиток, в то время как я рассказывал сумасбродные истории про Панурга. В это время занавес в нашей комедии уже опускался.
Одна сигарета превратилась в три или четыре. Потом Нелли начала рассказывать о себе. Вино подействовало и на ее голову. Она описала первое, что помнила: махонькую хижину посреди диких холмов и каменистых полей на западе Ирландии, бескрайнее вечно ревущее море на расстоянии мили от дома, неизменные ветер и дождь со стороны набегавших волн. Она говорила о родном крае с любовью, хотя ее отец с матерью были до того бедны, что беднее некуда, да и с едой у них всегда было плохо, запасов никаких. Она вспомнила мессу в небольшой часовенке, в старом-престаром местечке в почти необитаемой части страны, куда вела потайная дорога.
Часовенка была темной и голой внутри, разве что на алтаре горели свечи, да с краю стояли одна или две ярко размалеванные статуи святых. Ирландцы называли ее скитом святого Кайэрана[333], и считалось, что богослужение здесь никогда не прерывалось, даже в самые мрачные дни гонений. Нелли довольно хорошо помнила престарелого священника, его одеяния и жесты, и как все кланялись при звуке колокольчика. Она изображала дрожащий голос священника, повторяющий латинские слова. Отец Нелли, по ее рассказу, был грамотным человеком, хотя его образование нельзя было назвать английским. Он не мог прочесть напечатанные буквы, не умел писать; он вообще понятия не имел о печатных книгах, но знал наизусть множество ирландских песен и приданий и имел палочки, на которых записывал поэмы и всяческие вещи, вырезая особые знаки — огамы[334], как их называл священник. Кроме того отец Нелли знал немало чудесных историй про святых и простых людей.
В целом они жили счастливо. По бедности они мало о чем мечтали, воздавали хвалы Господу и ничего не ждали от жизни. Мать Нелли умерла от изнурительной болезни, скоро за ней последовал отец, так и не оправившийся от горя. И в девять лет девочка осталась сиротой. Священник написал ее тетке в Англию, и вот в один черный день Нелли оказалась на станции ужасного маленького рабочего поселка в Ланкашире. Все было черно — небо, земля, здания и сами люди. От их грубых и резких голосов ей делалось дурно. Тетя вышла замуж за индепендента[335] и обратилась в протестантизм, так что, по мнению Нелли, тоже стала черной. Долгое время девочка вела жалкую жизнь. Тетка была с ней довольно любезна, но местечко и населяющие его люди — ужасны. Мистер Дикин, муж тетки, заявил, что не будет потакать папизму в своем доме, и по воскресеньям ей приходилось ходить в молельню и выслушивать всякий вздор, который они называли "религией", — длиннющие проповеди, неизменно заканчивавшиеся отвратительными гимнами в исполнении визгливых громких голосов. Постепенно она забыла старые молитвы, и ее приняли в воскресную школу, где она читала и слушала истории о храме царя Соломона, об Ионадаве, сыне Рехава[336], об Иезавели[337] и о книге Судей[338]. Им казалось, что в этой школе она многому научится; Нелли даже несколько раз поощрили за знание Библии.
Шестнадцати лет от роду она в первый раз пошла на службу. Нелли была рада удрать из дому — трудно представить себе что-нибудь хуже Фарнворта[339]. А работа сулила хотя бы разнообразие. Ей было что рассказать! Мне еще ни разу не открывали так широко глаза на чудные и в чем-то отвратительные привычки мелкой английской буржуазии — класса, особенно гордящегося своей респектабельностью и в первую очередь тем, что зовется "нравственностью" — что означает соблюдение одной особой заповеди. Вы знакомы с представителями этого класса: по воскресеньям прогулки в белых шляпах, опрятный небольшой особнячок с ухоженным палисадником, гостиная, которую почитают в доме чуть ли не святым местом, обязательная Библия на видном месте. Почти всегда такое семейство ревниво посещает часовню пли церковь, однако тянет из обоих источников. Как правило, они предпочитают яркие вещи — не только светлые шляпы по воскресеньям, но также мебель, линолеум, цвет волос, и сама плоть их ухожена до какого-то нездорового состояния. Они отдают предпочтение самым лощеным растениям и кустам.
К таким жилищам Нелли ходила как рабыня; с этого времени она чаще бывала в более пли менее процветающих промышленных городках и скоро стала глубоко переживать о неприкрытой грязи и безобразии Фарнворта. Любой дикобраз с его грубыми колючками лучше ядовитой слизкой рептилии. Эти истории все еще ждут своего писателя, достаточно проницательного и отважного (кстати, как его имя?), чтобы заглянуть за жалюзи и белые занавески, который знает слово, которое отворит перед ним полированную дверь у расписного подъезда! Какие закрученные сюжеты, какие образы, какие характеры даются его проворному перу! Обидно, ей-богу, что такой блестящий материал лежит никому не известный, без пользы, хотя художник слова, обработав эту первичную материю в своем творческом тигле, мог бы превратить ее в чистое золото.
Вы знаете, что мне никогда не удавалось проникнуть в сферы, где обитают подобные люди, без глубоких переживаний, без страстных желаний. Поэтому не мне уготовано создать шедевр из всего того, о чем я говорю. Помните, как Золя во время своего путешествия в Лондон буквально стонал, наблюдая из окна вагона бытовые картины, из-за того, что не знал английского языка и, стало быть, не имел ключика, чтобы открыть сокровищницу, которая лежала перед ним? Уж он-то, несомненно, был великим прорицателем и видел, какое бесконечное разнообразие сюжетов для романтической литературы скрывается под бессчетными аккуратными крышами. Как бы мне хотелось, чтобы он наблюдал все это по-английски, а писал по-французски. Золя был храбрым человеком, о чем говорит его позиция по делу Дрейфуса, и я, оценивая его умственные и творческие способности, полагаю, что у него достало бы мужества правдиво описать жизнь лондонских предместий языком их обитателей.
Да, по воскресеньям в лучшие часы я люблю гулять по длинным улочкам этих поселков. Иногда, если правильно выбрать время, удается подсмотреть в "комнату для завтра-ков одного-другого из таких жилищ, наполовину вросших в землю: везде одинаковый стол, накрытый для чая в очаровательном порядке с непременными и одинаковыми предметами сервировки. Пить чай в гостиной, как я полагаю, считалось у них святотатством. Интересно, как бы они себя повели, если бы кто-то из гостей отказался от чая и попросил стакан пива, а еще лучше бренди с содовой? Думаю, центральное озеро, лежавшее на несколько сотен футов ниже уровня Лондона, вышло бы из берегов и залило окрестности. Да, стоит получше рассмотреть эти дома, чтобы оценить их скромность, внутренний порядок и наружную привлекательность и, как я уже говорил, поразмыслить над тем, какая атмосфера царит внутри.
Вообще говоря, вы знаете, что к "нравственности" (в том смысле, как ее понимают в английских предместьях) здесь всегда относились равно терпимо. Мне трудно представить, что пресловутые "поздние римляне", не дававшие покоя бедняге Палмеру, были много лучше или хуже ранних вавилонян; а Лондон в целом в этом смысле мало чем отличается от Пекина. Современный Берлин и Венеция шестнадцатого столетия могут тут соперничать на равных, за исключением того, что Венеция, я уверен, весьма живописный город, а в Берлине, в чем я также нимало не сомневаюсь, все пропахло свининой. Кто поспорит с тем (используем простую аналогию), что человек по своим природным свойствам всегда хочет есть и — у нас как раз тот случай — порой обедает слишком часто, да при том желает, чтобы обеды устраивались как-нибудь по-особенному, а иногда еще и помогает себе побочными перекусончиками перед завтраком и после ужина. Чего уж тут добавить!
Однако представьте себе общество, не желающее официально считаться с фактором голода, где малейший намек на пустой желудок считался бы грубой и ужасной непристойностью, наимерзейшим попранием святых религиозных чувств. Предположим, ребенку сделали выговор за то, что он всего лишь заикнулся о хлебе с маслом, или кого-то насильно заперли в темной комнате за чтение рецепта приготовления сливового пудинга. Так вот, представьте себе целое общество, организованное в строгом официальном согласии с принципом, гласящим, что приличный человек не должен когда-либо в прошлом и будущем и даже в помышлениях своих ощущать физический недостаток в пище. Представьте себе общество, в котором завтраки, ланчи, полдники, обеды и ужины рассматриваются как оргии безнравственных испорченных негодяев, обреченных на страшную и вечную погибель. В таком мире, я думаю, вы обнаружите немало нездоровых нарушений в диете. Факты, как известно, вещь упрямая, но если с ними не считаться, они становятся жестокими и ужасными обстоятельствами. Ковентри Патмор[340] не без основания рассердился, когда услышал, что даже в Ватикане статуям было предписано прикрывать плоть фиговым листком.
Нелли прошла через этих манихеев[341]. Она побывала в мире за ставнями, белыми муслиновыми занавесками и индийскими каучуковыми деревьями, и она поведала мне о своих впечатлениях. Они, эти свиньи, рассуждают о нравственности театра! В театре — если таковой или что-нибудь ему подобное оказывается в их сфере — они в равной степени видят пример никчемной расточительности и источник разврата, который даже не пытается скрыть своей сущности. Театр, конечно, не сравнишь с ночными проникновениями главы дома в девичью спальню с Библией под мышкой — упомянутая Библия призвана мастерски показать нелепость того, что желания "главы дома" должны выполняться сразу под угрозой физического наказания и не только в этом мире, но и в грядущем.
Каждое воскресенье, не забывайте, девочка видела, как ее "господин'’ то подобострастно склоняется на своей скамейке, то предстает в образе церковного служителя или даже церковного старосты, а еще более вероятно — с пастырскими подарками в кошмарном молитвенном доме. "Господнин" молится с замечательным усердием; он говорит с Богом как человек с человеком; в отдельных эмоциональных пассажах его голос приобретает хрипотцу, и прихожане все как один не нарадуются на своего священника. То он дьякон, попечитель бедных (что за благородное звание!), то убежденный сторонник Британского и иностранного библейского обществ — одним словом, он и есть тот средний класс, основа английского общества и протестантской церкви. Он присоединяется к избранному обществу, преследующему книготорговцев за распространение "Декамерона" Боккаччо[342]. У него от десяти до пятнадцати детей, причем всех их мама нашла в огороде.
"Мистер Кинг был ужасным человеком, — заявила Нелли, описывая свое первое место работы. — С большим жирным лицом, бледной кожей и красными бакенбардами, к тому же лысый. Он был толстым, и когда улыбался, окружающим делалось нехорошо. Вскоре после того, как я получила место, он появился на кухне. Госпожа отлучилась на три дня, а дети уже были в постели. Он сел у очага и спросил, чувствую ли я себя спасенной и почитаю ли я Бога должным образом, а также не посещают ли меня нехорошие мысли в отношении молодых парней? После этого он открыл Библию, прочитал мне отвратительные места из Ветхого Завета и поинтересовался, правильно ли я поняла их смысл. Я ответила, что не знаю, а он заявил на это, что нам следует обратиться к Богу с молитвой и испросить Его благоволения на совместное изучение Писания. Я должна была встать на колени прямо перед ним, а он обнял меня за талию и стал молиться, по крайней мере он так это называл; а когда мы поднялись, он посадил меня к себе на колени и сказал, что испытывает ко мне такие же чувства, как к своей собственной дочери".
Ну, довольно о мистере Кинге. Вы можете вообразить, через какие испытания пришлось пройти бедной девочке за это время. Дабы избежать ночных молении, она придумала придвигать комод к двери своей спальни. Хозяин осторожно толкал дверь снаружи, безуспешно пытаясь открыть, после чего мягким тихим голосом начинал ее уговаривать: "Дитя мое, почему ты ожесточилась в сердце своем и противишься? " Мне кажется, на примере этого "хозяина" можно вывести общий типаж главы семьи. Над образом "миссис", конечно, придется поработать. Ее отрицательные черты чаще всего ассоциируются с истязаниями детей, пьянством втихомолку и гнусной любовной связью с льстивыми коммивояжерами.
Согласитесь, довольно омерзительный мирок. А как вам понравится то обстоятельство, что мы в сущности живем под управлением таких вот типов? "Хозяин" — это "человек на своей улице", "упрямый, расчетливый, умудренный жизнен* ным опытом’. ’потомок стойких пуритан", имеющих конечное суждение но всем вопросам от поэтики до литургики[343]. Вряд ли этот образ поправится самому "человеку с улицы" — вычисленная нами линия поведения вызовет у практического человека отвращение. Мило, не правда ли? Suburbia locuta est: causa finita est[344].
Мне кажется, что от природы эти люди испорчены не более, чем обыкновенный черный африканец. Их отвратительные наклонности происходят, как я предполагаю, от внутреннего гнусного притворства. Вы же знаете, как они любят пустословить о библейском учении — "простой евангельской нравственности" и прочей тошнотворной белиберде. А каков был бы приговор это пригородного царства человеку, который решил больше не заботиться о грядущем дне, который жил бы подобно полевому цветку и осмелился бы посмеяться над одной мыслью об экономии денег? Вы прекрасно знаете, что родня этого человека объявила бы его сумасшедшим. В этом вся низость их натуры. Если вы постоянно изображаете идолопоклонническую, елейную преданность основе учения, которое вы в то же время упорно и постоянно игнорируете и не выполняете его самых простых, элементарных предписаний, тогда в скором времени вами заинтересуются рыбаки в поисках наживки.
Да, таков мир за индийскими каучуковыми деревьями, куда вошла Нелли. Я полагаю, что она с успехом отразила натиски "хозяина". Причина ее конечного провала пришла с другой стороны, и боюсь, что тут главную роль сыграли не столько попытки "хозяина" обольстить девушку с помощью Библии, сколько воздействие на ее психику, притупление ее чувств. Она горько плакала, рассказывая об этом, и призналась: "Я готова его убить!" Это была мерзкая и, увы, печальная история! Самая печальная из всех, которые я знаю. Вдумайтесь только: покинуть старую лачугу, где вокруг но диким холмам вечно гулял ветер, оторваться от шума океана, от чистого дыхания волн и влажного соленого ветра, чтобы окунуться в зловоние и ядовитые испарения наших "промышленных центров"! Она пришла от родителей, которые не имели ничего и в то же время были наделены всем, в нашу цивилизацию, где есть все что угодно, и все это покоится на куче дерьма, произведенной фактически у самых ворог рая в атмосфере богооставленности, лишенной всех подлинных сокровищ, среди язв, паразитов и коррупции. Ее воспитывали на замечательных старинных преданиях о святых и феях; она слушала песни, сочиненные и записанные ее отцом в краткой форме с помощью огамического письма; а общество дало ей грошовый заработок и кабальную работу. Она падала на колени перед алтарем в почтении перед святой жертвой Спасителя на литургии; а теперь ей ради молитвы приходилось преклонять колена рядом с "хозяином", облизывавшем при этом свои жирные губы. Более чудовищную перемену трудно вообразить.
Не знаю как или почему такое могло произойти, но, слушая историю Нелли, я внутренним оком просматривал собственные деяния и поступки и первый раз в жизни почувствовал себя грешником. Вы мне вряд ли поверите, но все это время в своей исключительной невинности я был очень далек от того, чтобы специально задумываться о своей виновности. В некотором смысле меня нельзя было назвать наивным. Теперь, опять же в определенном смысле, я почувствовал себя полным невеждой. Под впечатлением от наслаждений, пережитых в одной из величайших мистерий, испытав благоволения и благословения — причастившись великой тайной природы — человеческой жизни, я, безусловно, совершил то, что называют тяжким грехом.
Знал ли я о том, что поступаю неправильно? Я догадывался, что, если кто-нибудь из хозяев найдет меня с Нелли, мне грозят неприятности с печальными последствиями. Да, я знал это. Но если бы кто-то из хозяев поймал меня за курением сигареты или за сквернословием, или застукал на пути в трактир, где я собирался выпить стакан пива, или застиг с браконьерской снастью, или за чтением Рабле, то в этом случае мне также не поздоровилось бы. Я знал, что согрешил против "духа" великой частной закрытой школы. Нетрудно вообразить, как глубоко я переживал вину за этот проступок! И, конечно, я слышал от ребят немало глупых и непристойных баек; но так или иначе моя любовь к Нелли никак не была связана с их вульгарными разговорами и грязными шутками; в самом деле, не более, чем полуночная тьма наводит на мысль о дневном свете, или мучения символизируют удовольствия. Признаюсь, была догадка, скорее слабая интуиция: где-то глубоко в сознании теплилось подозрение, что все это не к добру. Однако я не находил этому обоснования. Я считал это болезненным наваждением, если хотите, фантазией перевозбужденного воображения. Я не стал прислушиваться к слабому голосу, который не предлагал мне смысла или аргументов.
И вот теперь этот голос звенел у меня в ушах ясным, звучным, пронзающим трубным зовом. Я представлял, как далеко внизу меня призывает на суд назойливая толпа, о которой я только что говорил. И в самом деле, мой грех был еще хуже, поскольку меня взрастили на свету, а их — в темноте. Беспечный, без знаний, без подготовки, не посвященный в мистические тайны, я приблизился к святыне; недостойный, я дерзнул пройти сквозь завесу и взглянуть на сокрытое чудо, на тайную славу, неведомую даже святым ангелам. Горе мне и великие страдания! Я ощущал себя как священник, который благочестиво предлагает жертву, но нечаянно узнает, что произносимые им по невежеству слова на самом деле мерзки и богохульны и что вместо Святого Духа он вызывал сатану. Я закрыл лицо ладонями и в душевных муках завопил.
Знаете, мне померещилось, что Нелли словно освободилась после того, как я попробовал ей рассказать о своей ошибке, назвать ее. И хотя я старался выбирать мягкие выражения, мое заблуждение, как я уже говорил, было тотальным. Нелли обрела свободу, потому что впервые с уверенностью почувствовала цельность моих ощущений. Я могу это понять. Моя точка зрения, должно быть, показалась ей граничащей с безумием, поскольку от начала и до конца исповеди я ни на мгновение не дал ей повода усомниться в искренности своего раскаяния, но я был неунывающим грешником, который знает, что он шалопай, однако не собирается кончать с порочным образом жизни. Нелли, опираясь на свой отрицательный опыт, вспоминала про себя те слова, что я иногда произносил в порыве сумасбродства, и, как она потом призналась, задавалась вопросом: не схвачу ли я ее ни с того ни с сего ночью в приступе безумия за горло? Скорее всего она и сама не понимала, боится ли такой смерти или, напротив, давно ее ждет.
"Вы изъясняетесь так странно, — заметила она. — Мы все время делали не то, что следовало. Я знала это и удивлялась".
Конечно, даже после моих пусть и неловких разъяснений она не могла скрыть изумления и терзалась догадками, чем объяснить мое теперешнее настроение. Тем не менее она понимала, что я не безумен, и была свободна, как я уже сказал.
Я ничего не знаю о ее первоначальном расположении ко мне, как вышло, что в ту ночь она прокралась в комнату, где я лежал избитый и больной. Думаю, что здесь сыграли роль как жалость, так и желание отомстить. По ее словам, ей стало меня жалко. Она увидела мое одиночество, мою ненависть к этому месту и ко всем его обитателям, и поняла, что я не англичанин. Думаю, мои дикие валлийские черты лица также показались ей привлекательными.
Увы! Веселый вечер сменился грустной ночью. Мы все сидели и сидели, пока через ставни не начали пробиваться первые лучи утренней зари. Я заметил, что пора поспать, или мы завтра не встанем. Мы пошли в спальню, но уже наступил рассвет — грустный и бледный. Небо затянули тяжелые облака, и по листьям большого дерева, что росло напротив окна, забарабанил прямой мягкий дождик. В лужи на дороге падали крупные капли.
Было тихо, как в горах, округа заполнилась бесконечной печалью, и случайные шаги по тротуару на площади делали уныние еще невыносимее. Я стоял у окна и тупо смотрел, как плачет мокрое дерево, на капли дождя, на неподвижные свинцовые облака — на воле ни малейшего ветерка, — и мне казалось, что я слышу самую печальную музыку. Ее звуки говорили о муках и отчаянии, они выли и плакали. Тема задана: я и сам был мокрый от слез. Музыка прорывалась в более пронзительном крике, в более жалобной мольбе; она отдавалась эхом, в котором слышалась горечь, и слезы капали все чаще, вторя каплям дождя с плачущего дерева. Неумолимо повторяя свой печальный и, быть может, жестокий мотив, эта музыка стенала и причитала, и каждый ее звук усиленно отзывался в моем сердце, порождая в душе тяжелое и безнадежное состояние. Тяжелое, как эта тишина, как свинцовые облака, неподвижно зависшие в небе. Ни одного облегчающего пассажа не разбавляло эту наводящую печаль мелодию, скорее добавились мучительные нотки; а потом на какой-то момент, словно для того, чтобы окончательно отравить меня горечью, вступил фантастический смеющийся воздух — музыкальная тема веселых груб и стремительных скрипок со звонким эхом танцующих ног. Но она была забита новым наплывом безнадежности, вечного осуждения, безжалостности, непреклонности. Налетевший ветер сотряс намокшие ветви дерева, и на дорогу обрушился ливень, отчего последние ноты звучавшей в голове музыки превратились во взрыв отчаянного плача.
Я отвернулся от окна и окинул взглядом небольшую темную комнату, где мы так хорошо смеялись. Убранство комнаты было довольно унылым: бледно-голубые в полоску обои, расшатанная старая мебель, картины с невнятными сюжетами. Единственным, что навевало веселое настроение, был туалетный столик, где бедняжка Нелли пристроила кое-какие вещички, безделушки и фантазии, которые купила в последние дни. Среди них посеребренная щетка, флакончик духов — этот запах мне нравился, — маленькая брошь из оливина в ее вкусе и пуховка в очаровательной золотой коробочке.
Созерцание этих глупостей вызывало в сердце глубокие эмоции. Но Нелли! Она стояла у кровати наполовину раздетая и смотрела на меня с тоской и одновременно со страстным желанием. Мне кажется, она действительно испытывала ко мне нежные чувства. Я, наверное, никогда не забуду очарование ее грустного личика, ее красивых сбегавших на плечи медно-красных волос и слез на щеках. Она протянула было ко мне голые руки, но они опять безвольно повисли. Раньше я никогда не задумывался о ее необычной привлекательности. Я довел ее образ в уме до символа, до олицетворения радости, и вот она передо мной — не символ, нет, — обнаженная ослепительной красоты. Я осознал ее по-новому, и я возжелал ее. У меня было достаточно сил, только и всего".
Эпилог
К счастью или к несчастью — оставим это на суд читателя, — эпизодом посещения Лондона заканчиваются подробные сведения о жизни Амброза Мейрика. Разрозненные сведения, случайные записи и краткие записки — вот все, что от него осталось. О другой части жизни Мейрика мы можем судить лишь по смутным и в каком-то смысле легендарным следам.
Лично я считаю отсутствие документальных свидетельств большой потерей. В четырех предыдущих частях в основном описывались его детские годы, и поэтому в них было много случаев безрассудного поведения. Кто-то наверняка задумается над вопросом, который уже мучил бедняжку Нелли: правда ли у Мейрика было все в порядке с головой? Возможно, если бы мы обладали исчерпывающими сведениями о жизни Амброза в зрелые годы, то могли бы объявить его бесспорным эксцентриком, но в целом исполненным благих намерений.
Однако я не уверен, что он в конце концов отделался так легко. Конечно, он вряд ли повторял свой вояж на Литтл-Рассел-Роу, и, насколько мне известно, его раблезианское послание было обращено исключительно к старому школьному наставнику. Некоторые безумные поступки вполне сходят за проявление героизма. Причем человек в своей жизни, как правило, совершает их всего один раз.
Но Мейрик продолжал совершать странные поступки. Вместо того, чтобы окончить Баллиольский колледж, он выбрал путь бродячего актера. Если бы он пошел учиться дальше в университет, то подвергся бы благотворному воспитательному влиянию Жюве[345]. В течение двух или трех лет он с другими актерами исходил страну вдоль и поперек и написал следующее обращение к своим старым друзьям:
"Я снимаю шляпу, когда слышу музыку минувших лет, поскольку в этот момент вспоминаю старых друзей и былые дни, думаю о театре на лугах близ таинственной реки и о разносящихся по округе соловьиных песнях в ласковые весенние ночи. Мы вне всякого сомнения можем благополучно разделять с Платоном его точку зрения и с уверенностью считать, что все яркие земные образы — всего лишь изломанные копии и бледные подобия бессмертных вещей. Поэтому я надеюсь и верю, что снова соединюсь с правдой предписанного сердцу пути quae sursum est[346], которую можно считать очищенным и благородным отображением того, кто описан ниже, и кто играет в театре на асфоделевых лугах для любого встречного великую мистерию, кто бродит не зная горя вдоль светлых потоков и пьет из Вечного Кубка в блаженной и вечной Таверне на небесах. "Ave, cara sodalitas, ave semper"[347].
В странствиях по стране он переводил на дикое наречие егере как волосы и размалевывал масляными красками грязные гримерные и убогое жилье. А покончив с бродячим житьем, он осел в Лондоне и временами навещал свой старый дом на западной окраине. Он написал три или четыре книги, по-своему довольно любопытные, хотя широкая публика никогда их читать не станет. И наконец, он отправился со странным поручением на Восток и не вернулся.
Помните, что он говорил об одной кельтской Чаше, хранившейся в некоем семействе много сотен лет? По смерти последнего "хранителя" Чашу доверили Мейрику. Он получил ее с условием, что когда-нибудь отнесет в одну скрытую святыню в Азии и передаст в руки тех, кому ведомо, как навсегда сокрыть славу Чаши от мира зла.
Он отправился путешествовать в неизведанные страны по разбитым дорогам и горным перевалам, через песчаные пустыни и могучие реки. Он прошел сомнительным курсом, чреватым опасностями и одиночеством, через Кевир — огромную соляную топь.
Наконец он добрался до назначенного места и передал сокровище с необходимым комментарием тому, кто умел прятать от посторонних глаз истинные чувства и хранить святыни по данному некогда обету верности. Затем он отправился в обратный путь. И почти достиг ворот западного мира, когда решил задержаться на пару дней, составив компанию уставшим христианским паломникам. Но турки или курды — не имеет значения — напали на это местечко и сделали то, что делают обычно. Амброза они увели с собой.
Один местный христианин тайком подсмотрел, что было дальше, и потом рассказывал, как злодеи вывели "чужеземца Аброзиана", как держали перед ним изображение Распятого (т. е. Христа), заставляя пленника плюнуть на образ и попрать Его ногами. Но Амброз поцеловал образ с большой радостью, раскаянием и преданностью. Разбойники привязали его к дереву и долго над ним издевались.
После того как он провисел на древе несколько часов, язычники, разъяренные тем, что его лицо излучало восторг и свет — именно так выразился туземец, — закололи его копьями.
Вот так Амброз Мейрик стяжал славу кровавого мученика и приобщился к тайне самого славного источника рыцарских приключений — Святого Грааля.
Примечания
1
Центр Лондона и средоточие торговли.
(обратно)2
Тонкий шарф вокруг шляпы, свисающий сзади.
(обратно)3
Аристократическая часть Лондона на северном берегу Темзы.
(обратно)4
Район Лондона.
(обратно)5
Район Лондона.
(обратно)6
Фланировать, бродить (франц.).
(обратно)7
Собор Св. Павла (Сент-Пол) построен архитектором К. Реном в 1675–1710 гг., когда готика уже вышла из моды.
(обратно)8
Перегородка отделяет клирос от нефа.
(обратно)9
Одна из главных улиц Мейфэра, самостоятельного района в Уэст-Энде.
(обратно)10
Дворец Хэмптон-Корт построен в 1515–1536 гг. Восточные и южные крылья построены знаменитым английским архитектором К. Реном в 1689–1694 гг.
(обратно)11
Невозделанная земля, покрытая кустарником (в Австралии и Южной Африке).
(обратно)12
Имеется в виду старая римская дорога.
(обратно)13
Удачный ход (франц.).
(обратно)14
Утренняя звезда — герметическая звезда, которой любуются прежде всего в зеркале искусства, или Меркурия, перед тем как обнаружить ее в химическом небе. "Наша звезда — единственная, — говорил таинственный адепт XX века Фулканелли, — но, однако, она двойная. Умейте различать реальную звезду и ее отражение и вы заметите, что она светит гораздо ярче днем, чем в ночной тьме". (Тайны готических соборов. М., REFL-book/Ваклер, 1996. С. 15.) Этот афоризм подкрепляет и дополняет точку зрения Василия Валентина ("Двенадцать ключей"), не менее категоричную: "Две звезды были даны людям Богами, чтобы привести их к Великой Мудрости; разгляди их, о человек! И следуй за их светом, ибо в нем найдешь Мудрость".
(обратно)15
Город, расположенный в 8 милях западнее Лондона, ныне известный своими фешенебельными кварталами.
(обратно)16
И не свои плоды (лат.).
(обратно)17
Аскеза (лат.).
(обратно)18
Только невероятное заслуживает доверия (лат.).
(обратно)19
Свадьба Свадеб — философский брак Сульфура и Меркурия, активного и пассивного начал, или, говоря алхимическим языком, Короля Королевы.
"Знай, сын мой, что наше делание есть философский брак, где должны участвовать начала мужское и женское" (Ph. Rouillas. Abrégé du Grand-Œuvre).
(обратно)20
Священный источник не должен находиться в общем употреблении (лат.).
(обратно)21
Земля Иоло (лат.).
(обратно)22
Бернар Тревизанский описывает Таинственный святой источник в последней притче своей книги "Натурфилософия металлов": "Он шел долго; он блуждал по ложным путям и сомнительным дорогам; но наконец он достиг цели! Ручей живой течет к его ногам. Он бьет из старого дуплистого дуба. И вот, отбросив лук и стрелы, которыми по примеру Кадма он поразил Дракона, адепт смотрит на светлый ручей, о чьих рас-творительных свойствах и летучей эссенции рассказывает ему птица, сидящая на ветви". В мифологии этот источник называется Libethra и говорится, что это был источник Магнезии, рядом с которым находился другой источник, называвшийся Сиала. Оба вытекали из скалы, похожей по форме на женскую грудь; так что вода была похожа на молоко, вытекающее из сосков.
(обратно)23
Сион (Цион, т. е. солнечный) — одна из гор Иерусалима, древняя крепость Иевусеев (И. Нав. 15:63), которая была взята Давидом и стала главной крепостью нового царского города, называемого "город Давида" (2 Цар. 5:7,9; 1 Пар. 11:5). В нем был похоронен Давид (3 Цар. 2:10).
(обратно)24
Согласно легенде о св. Иосифе Аримафейском и роману Робера де Борона "Иосиф Аримафейский", написанному в конце XII в., это — Гластонбери.
(обратно)25
Лилит — в иудейской демонологии злой дух. В талмудических трактатах Лилит рисуется демоном с ликом женщины, длинными, струящимися волосами и крыльями. В Библии упоминается как демон пустыни (Ис. 34:14). В каббалистической астрологии Лилит связывали с Сатурном; все, кто был предрасположен к меланхолии — в ком преобладали "черные соки", — были детьми Лилит (Зогар, III, 227В). Некоторые каббалисты различали старшую (жену дьявола Самаэля) и младшую (жену Асмодея) Лилит.
Самаэль — в раввинистической литературе дьявол, отождествляемый с Сатаной и имеющий двенадцать крыльев вместо шести.
(обратно)26
Дыхание ада (лат.).
(обратно)27
Король бриттов Артур (V–VI вв.), боровшийся с англосаксонскими завоевателями, — центральный персонаж кельтских народных преданий, получивших название "артуровских легенд". По этим легендам Грааль часто связывают с Артуром и рыцарями Круглого стола, хотя прежде всего его следует связывать с кельтской церковью и кельтскими святыми, которые были хранителями Святой Чаши.
(обратно)28
При исходе Израиля (лат.).
(обратно)29
А сейчас я совершенно точно знаю, что все реальные истории и все вымышленные — словом, все написанное рассказано обо Мне (лат.).
(обратно)30
Имеется в виду сражение, состоявшееся во время Первой мировой войны. Намюр, преграждавший дорогу во Францию, был защищен 10 фортами, которые считались неприступными, а также минными полями; пал 20 августа под натиском немецкой армии.
(обратно)31
Фон Клук — немецкий генерал, командующий армией во время Первой мировой войны.
(обратно)32
Имеются в виду сражения, состоявшиеся в ходе Первой мировой войны.
(обратно)33
Жоффр — главнокомандующий союзных войск в ходе Первой мировой войны, маршал. 20 авг. 1914 г. Германия начала наступление, разработанное фон Мольтке, а французы начали осуществлять "План 17" генерала Жоффра. В течение пяти дней две огромные армии сражались вдоль границ Германии, Люксембурга и Бельгии от Монса в Бельгии до швейцарской границы. Семи немецким армиям противостояли пять французских и одна английская. По плану Жоффра состоялись четыре операции: Лотарингская, Арденнская, Самбро-Маасская и Монсская, получившие общее название "Пограничного сражения".
(обратно)34
Ангелы Монса — согласно легенде, духи английских лучников, воевавших при Креси и Азенкуре во время Столетней войны.
(обратно)35
Св. Тейло — один из трех кельтских святых (наряду со св. Давидом и св. Иларем), которые, согласно легенде, сохранили Грааль.
(обратно)36
Пришелец, новичок (лат.).
(обратно)37
В I-м тыс. до н. э. территорию современной Великобритании заселяли кельты. В I-м веке н. э. большая часть Британских островов была завоевана римлянами, а после их ухода в V–VI вв. — англосаксами. После Нормандского завоевания Англии 1066 г. завершился процесс феодализма, вылившийся в политическое объединение страны и централизацию государственной власти.
(обратно)38
Де Куинси, Томас (1785–1859) — английский писатель, оригинальный мыслитель. Эссе, о котором идет речь, — "Убийство как одно из излишних искусств".
(обратно)39
Немцы рассчитывали захватить Париж в первые недели войны… — 20–24 августа 1914 г. после пограничного сражения пять германских армий устремились во Францию на участке от Амьена до Вердена.
(обратно)40
В сражении на реке Марне в сентябре 1914 г. немцы потеряли около 800 тысяч человек, и германское командование отдало приказ об общем планомерном отходе. Шанс на быстрое окончание войны был потерян.
(обратно)41
Цеппелин, Фердинанд (1838–1917) — немецкий конструктор дирижаблей, генерал.
(обратно)42
Гунны — кочевой народ, сложился во И — IV вв. в Приуралье из тюркоязычных хунну и местных угров и сарматов. Массовое передвижение гуннов на запад (с 70-х гг. IV в.) дало толчок к т. н. Великому переселению народов. Подчинив ряд германских и других племен, предпринимали опустошительные походы во многие страны. Наибольшего могущества достигли при Аттиле.
(обратно)43
Арфон — город в Уэльсе (графство Карнарвон) близ острова Мона (Англси). В легендах Уэльса Арфон часто упоминается как королевская резиденция, что обеспечивается его близостью к Аберфрау — резиденции королей.
(обратно)44
Фуксия — род кустарников и небольших деревьев сем. кипрейных. Многие виды выращиваются в комнатах и садах.
(обратно)45
Маркони, Гульельмо (1874–1937) — итальянский радиотехник и предприниматель. В 1897 г. получил патент на изобретение радиоприемника, о котором и идет речь. Нобелевский лауреат 1909 г.
(обратно)46
Боги предоставили Ахиллесу (Ахиллу) возможность выбрать себе судьбу: долгую, бездеятельную жизнь или короткую, героическую. Юноша выбрал второе, тогда как черепаха символизирует бездеятельное долголетие.
(обратно)47
Дарвин, Чарлз Роберт (1809–1882) — английский естествоиспытатель, создатель дарвинизма.
(обратно)48
Гексли, Томас Генри (1825–1895) — английский биолог, соратник Ч. Дарвина и виднейший пропагандист его учения.
(обратно)49
Спенсер, Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма, основатель органич. школы в социологии. Развил механическое учение о всеобщей эволюции.
(обратно)50
Состояние сильного истощения организма, наблюдаемое при некоторых хронических болезнях (чахотка, рак, нагноения).
(обратно)51
Следовательно (лат.).
(обратно)52
Франко-прусская война — 1870–1871 гг. Предлогом войны явился вопрос о кандидатуре принца Гогенцоллернского на испанский престол. 19 июля 1870 г. Наполеон объявил войну. В результате войны Эльзас и Лотарингия отошли к Германии. Последствиями войны были падение империи Наполеона III, образование Третьей французской республики и создание Германской империи.
(обратно)53
Мольтке, Хельмут (1800–1891) — с 1870 граф, германский фельдмаршал; служил сначала на датской военной службе, с 1822 — на прусской, 1835–1839 — на турецкой, с 1839 — снова на прусской; 1858–1888 — начальник генерального штаба прусской, потом германской армии; войны 1864, 1866 и 1870–1871 велись по его планам; блестящий их успех увенчал Мольтке славою первого полководца своего времени.
(обратно)54
Букв, "третий радующийся"; третье лицо, извлекающее пользу из борьбы двух противников.
(обратно)55
Преступный гуманизм (лат.).
(обратно)56
Гоббс, Томас (1588–1679) — известный английский философ; согласно его учению, только тела имеют реальность, свойство тел суть величина и движение, все остальные свойства субъективны, источником познания является движение. Главный предмет философии Гоббса — политико-социальное учение, изложенное в сочинениях "De cive" (1642) и "Левиафан" (1651). Гоббс выводит государство из идеи естественного состояния людей и кладет в основу государства договор. Естественное состояние людей — это "война каждого против всех" ("человек человеку волк") и т. д. "Левиафан" в свое время был запрещен в Англии; перевод "Левиафана" на русский язык был сожжен в 1868 г.
(обратно)57
Китченер, Гораций Герберт (1850–1916) — граф, английский фельдмаршал. В 1914–1916 гг. — военный министр.
(обратно)58
"Лузитания" — пассажирский лайнер, принадлежавший британской компании, был потоплен во время Первой мировой войны немецкой подводной лодкой "И-20" 7 мая 1915 г. южнее Ирландии. На "Лузитании" находилась большая группа американцев, и гибель их стала одной их причин серьезного кризиса в отношениях между Германией и Америкой, который предшествовал вступлению США в войну.
(обратно)59
Иносказательное имя Бога Отца в западной традиции.
(обратно)60
Колридж, Сэмюэл Тейлор (1772–1834) — английский поэт и литературный критик, представитель "озерной школы".
(обратно)61
Чосер, Джефри (1340?—1400) — английский поэт. "Кентерберийские рассказы", о которых идет речь, охватывают жизнь различных социальных групп. Это один из первых памятников на общеанглийском языке.
(обратно)62
Орфей — в греческой мифологии фракийский певец, сын музы Каллиопы. Чудесным пением очаровывал богов и людей, укрощал дикие силы природы.
(обратно)63
Калибан — получеловек-получудовище, олицетворение грубой стихийной животности в человеке.
(обратно)64
Тейлор (Taylor), Джереми (1613–1667) — английский священник и писатель, известный своими проповедями и книгами "Святая жизнь" и "Святая смерть" (1651).
(обратно)65
Бентли (Bentley), Ричард (1662–1742) — выдающийся филолог, богослов и ученый критик. Окончил курс в Кембриджском университете и потом много работал в Оксфорде в Бодлеанской библиотеке. По поручению дирекции благотворительного учреждения, основанного Бойлем, он в 1692 г. произнес восемь проповедей ("Sermones") "В опровержение атеизма" (выдержали 5 изданий, много раз переводились на другие языки). В 1693 г. ему было поручено заведование королевской библиотекой в Сент-Джеймсе. В 1700 г. Бентли был назначен директором Тринити-колледжа в Кембридже и в 1717 г. профессором богословия в Кембриджском университете. В 1713 г. вышло его сочинение "К защите истинной веры", направленное против вольнодумца Коллинза. Полное собрание сочинений Бентли (3 тт., Лондон, 1836) осталось неоконченным.
(обратно)66
"Красные мундиры" — так в Средние века называли английских солдат за цвет их формы. Позднее красную форму носила королевская гвардия, а после того как Генрих И Плантагенет (Генрих Анжуйский) (1133–1189, английский король с 1154 г.) объявил охоту на лис королевским спортом, то и егеря.
(обратно)67
Император Тиберий Цезарь Август (лат.). Тиберий (42 до н. э. — 37 н. э.) — римский император из династии Юлиев — Клавдиев, пасынок Августа, правил с 14 по 37 г. н. э. и одержал за свою жизнь множество побед над внешними врагами и мятежниками.
(обратно)68
Город, расположенный в 8 милях западнее Лондона, ныне известный своими фешенебельными кварталами.
(обратно)69
Район Лондона с Паддингтонским вокзалом в центре. С середины XIX в. — один из наиболее космополитичных районов города, где расположены еврейская, греческая, индийская и арабская общины.
(обратно)70
Улица Лондона почти в милю длиной. Стрэнд связывает Вестминстер и Сити, здесь расположены фешенебельные магазины, мюзик-холлы, рестораны и отели.
(обратно)71
Один из наиболее крупных парков Лондона; традиционное место политических митингов и собраний.
(обратно)72
Сикомор (библейская смоковница) — дерево из рода фикус семейства тутовых. Древесина твердая, прочная (в Древнем Египте использовалась на гробы для мумий). С древности культивируется из-за съедобных плодов. Сикомором (распространен в Восточной Африке) иногда называют явор, а также планеру водную — дерево семейства ильмовых из Северной Америки.
(обратно)73
Комитеты бдительности — временные объединения американских переселенцев, призванные поддерживать правопорядок и законность. Впервые появились в Калифорнии во время золотой лихорадки. Деятельность одного такого комитета подробно описана у американского писателя Брета Гарта (Harte, 1836–1902) в его "Изгнанниках с Покер Флэта".
(обратно)74
Протил — в некоторых эзотерических учениях обозначение изначальной, однородной, предвечной субстанции.
(обратно)75
Эфир — в физике (до конца XIX в.), а также у разного рода эзотериков — материальный посредник или проводник космических и прочих эманаций и влияний.
(обратно)76
Район Лондона, ныне часть Уэнсфорда. Клэфем знаменит своим парком и "Деревом капитана Кука", посаженным старшим сыном знаменитого путешественника.
(обратно)77
Декарт (Descartes), Рене (латинизированное имя — Картезий; Renatus Cartesius; 31.3.1596, Лаэ, Турень, — 11.2.1650, Стокгольм) — французский философ и математик, представитель классического рационализма. "Метафизические размышления", вышедшие в свет в 1641 г., наряду с "Рассуждениями о методе" (1637) и "Началами философии" (1644) относятся к числу основных его сочинений.
(обратно)78
Gesta Romanorum (лат.), "Деяния римлян" — сборник новелл на латинском языке (многие из которых заимствованы из арабских источников), с обязательной моралью в конце, что позволяло использовать их в качестве примеров во время проповедей. Составление сборника относят к концу XIV в., а его название является, скорее всего, прихотью составителей, поскольку многие из новелл не имеют ничего общего с римлянами и их деяниями. Этой книгой как первоисточником пользовались многие английские поэты, в том числе Чосер и Шекспир, который взял оттуда сюжет "Перикла", а также эпизод с тремя ларцами в "Венецианском купце".
(обратно)79
Неизвестная земля (страна) (лат.).
(обратно)80
Поп (Pope), Александр (1688–1744) — английский поэт. Среди наиболее значительных произведений — стихотворный трактат "Опыт о критике" (1711), манифест английского просветительского классицизма; поэма "Похищение локона" (1712), пасторальная поэма "Виндзорский лес" (1713), сатира "Дунсиада" (1728), философская поэма "Опыт о человеке" (1732–1734); переводы поэм Гомера.
(обратно)81
"Об устройстве мира" (лат.). Помпоний Мела — римский географ, уроженец Тингентера, его сочинение "Об устройстве мира" относят приблизительно к 44 г. н. э.
(обратно)82
Солин, Гай Юлий — латинский грамматик и писатель III в. н. э. Происхождение неизвестно. Издал "Собрание вещей достопамятных". В основном опирался на труды Плиния Старшего.
(обратно)83
Питт (Pitt), Уильям Старший, граф Чатам (Chatham) (1708–1778) — премьер-министр Великобритании в 1766–1768 гг., министр иностранных дел в 1756–1761 гг. (с перерывом). Лидер группировки вигов — сторонников колониальной экспансии.
Питт Уильям Младший (1759–1806) — премьер-министр Великобритании в 1783–1801 и 1804–1806 гг., лидер т. н. новых тори. Сын Питта Старшего. Один из главных организаторов коалиций европейских государств против революции, а затем наполеоновской Франции. В 1798 г. правительство Питта Младшего подавило ирландское восстание, в 1801-м — ликвидировало автономию Ирландии.
Из контекста неясно, который из Питтов имеется в виду. Мы предполагаем, что речь идет о Младшем.
(обратно)84
Никаких следов обратно (лат.). Выражение это, означающее невозможность поворота назад, восходит к Горацию ("Послания", i, 1, 69–75).
(обратно)85
Обыгрывается созвучие английских слов fairy — фея, эльф и fair — честный, справедливый.
(обратно)86
Догадка, предположение (лат.) — восстановление испорченного места старинной рукописи на основании общего смысла или контекста.
(обратно)87
Добросовестность (лат.) — термин римского права.
(обратно)88
Линней (Linne), Карл (1707–1778) — шведский естествоиспытатель, особо прославившийся на ниве ботаники. Автор "Системы природы" (1735), "Философии ботаники" (1751) и др. Первый президент Шведской АН (1739).
(обратно)89
Элиот (Eliot), Джордж (наст, имя Мэри Анн Эванс) (1819–1880) — английская писательница, автор романов "Мельница на Флоссе" (1860), "Сайлес Марнер" (1861), "Даниель Дерон-да" (1876) и др. Лучшим из своих романов сама писательница считала "Миддлмарч" (1872), однако наибольшим успехом у публики пользовался роман "Ромола" (1863) из истории Флоренции XV в.
(обратно)90
"Роберт Элсмер" — роман (1888) английской писательницы Хамфри Уорд (1851–1920), названный Л.Толстым "драмой жизни верующего мужа с неверующей женой". Уорд приходилась тетушкой писателю Олдосу Хаксли и была ярой антифеминисткой.
(обратно)91
"Тит-Битс" — лондонская еженедельная газета, просуществовавшая с 1881 по 1984 г.
(обратно)92
Centesimo — cento, сто итал.) — мелкая разменная монета Италии, равная 1/100 лиры; после Второй мировой войны применяется как единица счета.
(обратно)93
Путь страданий, крестный путь (лат.) — дорога, по которой вели Христа на распятие.
(обратно)94
Суждение (лат.).
(обратно)95
Все проистекает втайне (лат.).
(обратно)96
Район Лондона, где много ювелирных, часовых и оптических магазинов.
(обратно)97
Имеется в виду "Исповедь англичанина, употреблявшего опиум" — знаменитая книга английского писателя Томаса Де Куинси (De Quincey; 1785–1859). Изданная в 1822 г., эта автобиографическая "Исповедь" поразила публику красотой слога и необычайной силой в описании грёз и галлюцинаций, порождаемых употреблением опиума. В первом русском переводе (1834 г.) авторство "Исповеди…" было приписано Мэтьюрину.
(обратно)98
Ливия — древнее название Северной Африки.
(обратно)99
Памфилия — в древности так называлась прибрежная область южной части Малой Азии, между Киликией и Ликеей.
(обратно)100
Месопотамия — древнее название страны, расположенной между верхним Евфратом и Тигром и тянущейся от Армянского плоскогорья до Персидского залива.
(обратно)101
Живи, играя! (франц.)
(обратно)102
Панург (греч. мастер на все руки; пройдоха) — один из самых популярных персонажей романа Ф.Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль", друг Пантагрюэля, ведший крайне беспутный образ жизни и отличавшийся остроумием, цинизмом, презрением к условностям и предрассудкам и невероятной трусостью.
(обратно)103
Возможно, здесь Мейчен имеет в виду Фауста, героя ряда немецких легенд и основанной на них драмы И. В. Гёте.
(обратно)104
Любезности (франц.).
(обратно)105
"Чудо Пурун Бхагата" — рассказ из "Второй книги джунглей" (1895), которая является "прелюдией" к "Книге джунглей" — классическому произведению Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936) — и рассказывает о жизни Маугли, 10-летнего мальчика, выросшего в джунглях Индии. В "Чуде Пурун Бхагата" Киплинг описывает мистические искания индийского мудреца, которые были и его исканиями.
(обратно)106
Святой Грааль (San Kgreal) — святая чаша, из которой пил Спаситель перед предательством Его. По другому преданию, Иосиф Аримафейский, собиравший в нее кровь распятого Христа, увез чашу в Англию. Мистический культ Чаши — Святого Грааля — восходит к языческим, вероятно кельтским, или еще иберийским мифам. Само слово "грааль" (Graale, совр. grail) производится большинством исследователей от греч. crater, cratalis (через gradalis) в значении "сосуд" (см. Nitre N. Concerning the word graal. — "Modern Philology", V, 22, 1924–1925, p. 99—100; Веселовский A.H. Где сложилась легенда о Святом Граале. СПб., 1900; Дашкевич Н. П. Сказание о Святом Граале. Киев, 1877). Так, латинская запись Гластонберийской легенды об Иосифе Аримафейском называлась "De Gradali", хотя о чаше-граале там еще не упоминается. По другой гипотезе, graal восходил к ирл. cryol, "корзина изобилия" (см. Rhys J. W. Studies in Arthurian Legend. Oxford, 1891).
(обратно)107
Кельтская церковь. — Согласно свидетельствам Тертуллиана и Оригена, первые христиане появились в Англии и Ирландии в начале И в. н. э. Кельтское христианство, особенно в Ирландии, опиралось на монастыри, а не на диоцезы, как на континенте, сохраняя известную автономию, точнее, даже изоляцию, от прочих христианских церквей. Вплоть до 597 г., когда в Кент прибыл Августин Кентерберийский, кельтская церковь ревностно хранила предания и обычаи своих первосвятых и основателей, отказываясь от всяких инноваций. Затем существующее положение вещей изменилось. А к восьмому веку кельтская церковь фактически полностью прекращает свое существование.
(обратно)108
Конгрегации (отлат. congregatio — соединение) — в католической церкви религиозные организации, руководимые монашескими орденами; в них входят наряду со священнослужителями и миряне.
(обратно)109
Имеются в виду сороковые годы XIX в.
(обратно)110
Теккерей, Уильям Мейкпис (Thackeray, William Makepeace) (1811–1863) — английский писатель, автор знаменитого романа "Ярмарка тщеславия" (Vanity Fair, 1847–1848). Другие масштабные романы Теккерея: "Пендениис" (Pendennis, 1848–1850), "История Генри Эсмонда" (The History of Henry Esmond, 1852), "Нью-комы" (The Newcomes, 1853–1855), "Виргинцы" (The Virginians, 1857–1859), "Приключения Филиппа" (The Adventures of Philip, 1861–1862). Писатель находил время и для более скромных литературных предприятий: выпустил пять рождественских книг (среди них хрестоматийное "Кольцо и роза" — The Rose and the Ring, 1854), писал стихи и баллады, читал лекции в Англии и Америке (изданы в 1853 под названием "Английские юмористы XVIII века" — The English Humourists of the Eighteenth Century).
(обратно)111
Диккенс, Чарлз (Dickens, Charles) (1812–1870) — один из самых знаменитых англоязычных романистов, прославленный создатель ярких комических характеров и социальный критик. В конце 1850 г. Диккенс совместно с Булвер-Литтоном основали Гильдию литературы и искусства для помощи нуждающимся литераторам. В качестве пожертвования Литтон написал комедию "Мы не так плохи, как кажемся", премьера которой в исполнении Диккенса с любительской труппой состоялась в лондонском особняке герцога Девонширского в присутствии королевы Виктории. Диккенс похоронен в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства.
(обратно)112
Лорд Литтон — Булвер-Литтон, Эдуард Джордж (Bulwer Lytton, Edward George) (1803–1873) — английский писатель. Получив образование в частных школах и Тринити-колледже Кембриджского университета, погрузился в светскую жизнь и литературные занятия. Был видным деятелем либеральной, позднее консервативной партии. В 1859 — министр колоний; в 1866 — член палаты лордов. Наиболее примечательные произведения: "Пелэм, или Приключения джентльмена" (Pelham, or the Adventures of a Gentleman, 1828), прекрасный образец "дэндистской школы" английского романа; "Юджин Эрам" (Eugene Агат, 1832), сочувственная трактовка знаменитого уголовного дела, наряду с другими его романами о великосветских преступниках доставившая ему славу создателя "ньюгейтского романа" (от названия тюрьмы в Лондоне); роман "Последние дни Помпеи" (The Last Days of Pompey, 1834), воссоздавший живую картину античной культуры, и др.
(обратно)113
"Жизнь Арнольда" Стэнли — двухтомный труд Артура П. Стэнли (Arthur Penrhyn Stanley "Life and Correspondence of Dr. Arnold", 1844), посвященный жизни Арнольда Томаса (1795–1842), знаменитого педагога и директора школы Регби, имевшего большое влияние на школьное образование в Англии. Томас Арнольд был отцом поэта и критика Мэтью Арнольда и автором пяти томов проповедей и трехтомной хронологии Рима.
(обратно)114
Коплстон, Фредерик Чарлз (1907–1994) — известный английский историк философии. В 1929 со степенью магистра гуманитарных наук окончил Оксфордский университет. С 1930 член ордена иезуитов, с 1937 священник. Профессор истории философии в Оксфордском университете (1939–1970); профессор метафизики в Григорианском университете в Риме (1952–1969). С 1974 — заслуженный профессор истории философии в Лондонском университете. Из трудов Коплстона наиболее известна его многотомная "История философии".
(обратно)115
Теннисон, Альфред (1809–1892) — английский поэт. Наиболее известные произведения: цикл поэм "Королевские идиллии" (1859), основанный на Артуровских легендах; драмы "Королева Мария" (1875), "Бекет" (1879).
(обратно)116
Пиранези, Джованни Баттиста (1720–1778) — знаменитый итальянский гравер.
(обратно)117
Нормандские арки — яркий образчик нормандской архитектуры, или английской архитектуры XИ в., в основе которой лежит романская архитектура.
(обратно)118
Собор Св. Павла — кафедральный собор англиканской церкви; находится в Лондоне; одна из наиболее известных достопримечательностей Лондона. Построен архитектором К. Реном в 1675–1710 после Великого лондонского пожара.
(обратно)119
Ордера архитектурные — определенные сочетания несущих и несомых частей стоечно-балочной конструкции, их структура и художественная обработка. Классическая система ордеров сложилась в Древней Греции. Основные ордера получили названия от племен и областей: дорический, ионический, коринфский.
(обратно)120
Ионический ордер — один из трех основных архитектурных ордеров. Имеет стройную колонну с базой, стволом, прорезанным вертикальными желобками (каннелюрами); капитель состоит из двух крупных завитков (волют).
(обратно)121
Дорический ордер — один из трех основных архитектурных ордеров. Колонна не имеет базы, ствол прорезан каннелюрами; капитель состоит из эхина и абака.
(обратно)122
Рабле (Rabelais), Франсуа (около 1494–1553) — французский писатель. В молодости монах; с 1527, покинув монастырь, изучал право, топографию, археологию, медицину. Доктор медицины с 1537. Вел жизнь странствующего гуманиста, лектора и врача. В 1532 в качестве продолжения популярного лубочного романа о великанах издал "Пантагрюэля", а затем, на протяжении двадцати лет, еще три книги романа "Гаргантюа и Пантагрюэль", встреченного современниками с восторгом. Каждая из частей романа подвергалась запрету за откровенное и дерзкое свободомыслие, автору не раз приходилось скрываться от преследований за границей. Посмертно изданная под именем Рабле "Пятая книга Пантагрюэля" (1564) написана неизвестным автором — вероятно, с использованием оставшихся после Рабле материалов.
(обратно)123
Имеется в виду персонаж романа "Приключения Гекльберри Финна" (1884) американского писателя Марка Твена (1835–1910). Негр Джим наделен в романе сознанием своего человеческого достоинства, что противопоставляется его приниженному положению раба.
(обратно)124
"Одиссея" — героическая эпопея, приписываемая отцу греческой поэзии Гомеру (жил ок. 900 до н. э.).
(обратно)125
"Вакханки" — трагедия Еврипида (ок. 480–406 до н. э.), последнего из трех классических поэтов Древней Греции. Из 92 его произведений до наших времен дошли только 19 трагедий. Являлся новатором традиционной аттической драмы. За принижение трагедии, рационализм и непристойность подвергался критике. Из-за отсутствия успеха в Афинах в 408 переселился в Фессалию, а затем в Македонию, где и умер при дворе царя Архелая. После смерти стал наиболее популярным драматургом. Мильтон, со ссылкой на Плутарха, приводит предание, по которому в 404 до н. э. спартанцы, услышав пение хора в "Электре", пощадили Афины. Аристотель называл Еврипида "самым трагическим среди поэтов". В античной мифологии Вакханка — спутница бога Вакха.
(обратно)126
Масоны (франкмасоны, от франц. franc macon — вольный каменщик) — представители средневековых цехов (братств) строи-телей-каменщиков, отчасти рыцарских орденов, объединенные в религиозном братском союзе. В начале XVИI в. в Англии оформилось религиозно-этическое движение — масонство, — получившее распространение во многих странах, в том числе и в России.
(обратно)127
Хирам Абифф — искусный мастер, сын вдовы, по одной версии, из колена Неффалимова, по другой — Данова, изготовивший медные и железные украшения для Соломонова Храма, важнейшими из которых были две колонны храмового портика. Масонские легенды окружают Мастера Хирама ореолом полубо-жественной славы, называют его главным строителем и архитектором Храма; предательски убит тремя подмастерьями за отказ назвать пароль Мастера, открывающий перед ними возможность получать более высокую заработную плату.
(обратно)128
"Меланхолия" Бертона — имеется в виду "Анатомия меланхолии" (1621) английского ученого, писателя и англиканского священнослужителя Роберта Бертона (1577–1640); представляет собой исследование человеческой психопатологии. В подражание этой книге Бертона Мейчен написал свою "Анатомию табака", опубликованную в 1884.
(обратно)129
Удивительная речь, вызывающая резонанс невероятно высокого звучания (шт.).
(обратно)130
Удивительная речь, опустошающая, резонансом которой становится веский чек невероятно высокого звучания (лат., англ.).
(обратно)131
Грязная порода священных свиней Богородицы! (франц.)
(обратно)132
Король Артур (Артус) — легендарный король бриттов, герой старинных кельтских сказаний, а позднее рыцарских романов. Бритты, племена кельтского происхождения, обитали еще со времен глубокой древности на острове Альбионе в Британии. В I в. до н. э. римляне завоевали Британию. Она стала римской провинцией, но бритты во многом сохранили свою самобытность, свой язык и общественный уклад. В начале V в. римляне отозвали из Британии свои легионы. Вскоре в Британию начали вторгаться племена англов и саксов. Англы и саксы, жившие на севере нынешних Германии и Дании, переплывали Немецкое море на кораблях и высаживались на южном и восточном побережьях Альбиона. Артур упоминается в старинных летописях как храбрый воин, предводитель бриттов в их борьбе за независимость. В начале VI в. он одержал победу над англосаксонскими завоевателями при горе Бадон. Артур был убит в битве, но британский народ наделил бессмертием своего любимого героя. Возникла легенда о том, что Артур когда-нибудь вернется: не умер он, а живет в волшебном царстве фей. Имя Arthur большинство исследователей производят от заимствованного римского родового имени Artorius, которое мог носить и кельтский племенной вождь. Однако на уровне кельтской мифологии существует несколько этимологий этого имени, позволяющих отождествлять Артура с верховным кельтским божеством Браном.
(обратно)133
Лайонесс — легендарная земля, якобы находившаяся между Лендс-Энд и островами Силли в юго-западной Англии, впоследствии ушедшая под воду; по преданию, на ней был древний и богатый город с многочисленными церквами; там произошел последний бой между королем Артуром и сэром Модредом.
(обратно)134
Индюшонок с трюфелями (франц.).
(обратно)135
Бараньи ножки а-ля Сент-Менегуль (франц.). Сент-Менегуль — город в провинции Шампань (Франция).
(обратно)136
Кондитерская, кондитерское искусство (франц.).
(обратно)137
Торговля свининой (франц.)
(обратно)138
Puseyism — пьюзиизм, направление "Высокой церкви" в Англии, связанное как с общим возрождением религии — и в особенности католицизма — в XIX в., так и с политическими условиями местного характера. Пьюзиизм исходил из вражды к общественному порядку и мировоззрению, основанному на свободе личности и на критицизме: он обращался к идеям Средних веков и патристики как к мировоззрению эпохи господства священного авторитета церкви и патриархальных связей, под охраной которых личность выполняла свое земное назначение и в которых находила безусловные правила жизни. Движение исходило главным образом из Оксфорда. Имя движению дал английский богослов Эдуард Буверн Пьюзи (1800–1882).
(обратно)139
В силу самого таинства или обряда (лат.).
(обратно)140
Милый друг (франц.) ассоциируется с коварным обольстителем из одноименного мопассановского романа.
(обратно)141
Игра в мяч, жедепом (франц.)
(обратно)142
Железная дорога (франц.).
(обратно)143
"Том Браун" — "Школьные дни Тома Брауна" (1857), книга британского юриста, реформатора и романиста Томаса Хаге-са (1822–1896). В романе автор прослеживает жизнь своего героя Тома Брауна в школе Регби с 1834 по 1842 год. Книга, выдержавшая 50 изданий, пропагандирует систему подобных школ, популяризирует доктрину "мускульного христианства" и преисполнена любви и почтения к директору Регби Томасу Арнольду. Новый роман о Томе Брауне, где рассказывается о его жизни в Оксфорде, не имел такого успеха.
(обратно)144
Гильотина.
(обратно)145
Тауэр — с конца XI в. замок-крепость в Лондоне, одна из королевских резиденций (до XVИ в.); главная государственная тюрьма (до 1820 г.); затем — музей.
(обратно)146
Греческий трактат, так называемый канонизированный "Общепринятый текст", служивший оригиналом для перевода Нового Завета.
(обратно)147
Король Альфред — Альфред Великий (ок. 849—ок. 900), король англосаксонского королевства Уэссекс с 871. Объединил под своей властью ряд соседних англосаксонских королевств. При Альфреде Великом составлены первый общеанглийский сборник законов и часть "Англосаксонских хроник".
(обратно)148
Сэр Вальтер Ралей (1552–1618) — английский мореплаватель и писатель. В 1584 основал первую британскую колонию в Северной Америке; в 1595 завоевал о. Тринидад и вошел в р. Ориноко; в 1600 — губернатор Джерси; в 1603 за участие в заговоре против Иакова I заключен в Тауэр; в 1617 назначен начальником экспедиции для разработки золотых рудников; не найдя их, сжег испанский форт Св. Фомы; по возвращении в Англию казнен для удовлетворения Испании.
(обратно)149
Королева (франц.).
(обратно)150
Маленькая толика чеснока (франц.).
(обратно)151
Для жизни вечной (лат.).
(обратно)152
День придет, Твой день, когда все вернется назад (лат.).
(обратно)153
В завершение, в исходе (лат.).
(обратно)154
О благочестивое, о доброе, о ясное слово, гимн тебе (лат.).
(обратно)155
"Родник Рыбака" — сакральный источник мудрости. Мистический смысл рыбной ловли и рыболова подтверждается всеми исследователями мифологии и антропологии. Рыбная ловля приравнивается к извлечению бессознательных элементов из глубоко запрятанных источников — "ускользающего сокровища" легенды, иными словами, мудрости. Один из братьев, по имени Брус, был известен также как "Богатый Рыболов", потому что ему неизменно сопутствовала удача в ловле рыбы, которой он мог утолить голод всех вокруг себя; Петр был назван "ловцом людей". Рыба стала символом Христа; король Грааля встречается Парсифалю в образе рыболова. Хранитель Грааля "Король-Рыбак", или "Король-Рыболов", отождествляется во французских текстах с отцом (иногда братом) властителя потустороннего мира короля Пелеса. Образ этот сопоставляют с "Рыбаком" — героем ирландских сказок.(См. Nitze W. How did the Fisher King get his Name? Cambridge, 1948 и др.)
(обратно)156
Волшебные птицы Рианноп — непременные спутницы богини Рианнон. Согласно легенде, они могли своим пением "оживлять мертвых и усыплять живых". Рианнон — один из главных персонажей Ветвей Мабиноги. Ее образ и имя унаследованы от древней кельтской богини-матери, тесно связанной с плодородием и конским культом.
(обратно)157
Тернер, Вильям (1775–1851) — знаменитый английский пейзажист.
(обратно)158
Речь идет о стиле, сложившемся в эпоху "каролингского возрождения" (центр — кружок, т. н. Академия, при дворе Карла Великого). По имени Карла Великого королевские (с 751) и императорские (с 800) династии во Французском государстве и получили название "Каролинги".
(обратно)159
Георгианская эпоха — эпоха правления королей Георга I (1714–1727), Георга II (1727–1760) и Георга III (1760–1811).
(обратно)160
Люби так, чтобы тебя не знали и считали никем (лат.).
(обратно)161
"Бродяга" — периодическое издание Сэмюэля Джонсона (1709–1784), выходившее два раза в неделю в 1750–1752; охватывало широкий диапазон тем: ежедневные факты; литература, включая критику; эссе, "внушающие мудрость или благочестие", и т. д.
(обратно)162
"Проповеди" Блеера — сочинение шотландского поэта и ученого Роберта Блеера (1699–1746), чья поэма "Могила" перекликается с "Ночными думами" Янга.
(обратно)163
"Ночные думы" Янга — "Night Thoughts" (1742–1745), длинная дидактическая поэма о смерти, вдохновленная последовательными смертными случаями в семье английского поэта, драматурга и литературного критика Эдварда Янга (1683–1765).
(обратно)164
Процветание (лат.).
(обратно)165
Черт побери саксонцев (англосаксов)! (валл.)
(обратно)166
Армагеддон — в христианстве (в Апокалипсисе) место эсхатологической битвы на исходе времен, в которой будут участвовать "цари всей земли обитаемой". В данном контексте Армагеддон — обозначение самой битвы.
(обратно)167
Илтид (Иллтад) — один из трех святых, в честь которых назван город Ллантрисант (в пер. "Церковь трех святых"). По преданию, этот кельтский святой основал в Уэльсе монашеский колледж, который был известен как центр духовного влияния на кельтскую церковь.
(обратно)168
Моргана — ирландская богиня войны, смерти и загробного мира Морриган (Morrigan), принимающая облик вороны; впоследствии она стала предтечей бретонской феи рек Морган и единоутробной сестры короля Артура феи Морганы.
(обратно)169
Град легионов — Карлион-на-Аске в южном Уэльсе (Caerleon переводится как "город легионов"), бывшая столица Си-лурии Iska Silurum (Иска Силурийская). В этом городе родился Артур Мейчен. По преданию, Карлион возник на месте легендарного Камелота короля Артура в Логрском Королевстве, духовной мекке Англии, Англии великих деяний и еще более великих легенд. В Уэльсе и по сей день сохранились римские виллы и укрепления, воздвигнутые после завоевания Англии Клавдием (главным образом в эпоху Адриана), здесь и сегодня — пусть в искаженной и деградированной форме — живы друидические практики, и сюда, в Гластонбери, пришли первосвятители Англии — ученики апостола Филиппа и Иосиф Аримафейский, а позже — святой Давид, патрон Уэльса, и Августин Кентерберийский.
(обратно)170
Деви — уэльский Dewi (520–600, день памяти — 1 марта), в английской традиции известен под именем Давид; св. Деви (Давид) — покровитель Уэльса. О его жизни известно немного. Согласно работам уэльских исследователей, он был сыном вождя Санта. Именно ему приписывают заслугу подавления ереси в кельтской церкви. Давид основал многочисленные церкви в Южном Уэльсе (более 50 церквей в Уэльсе до сих пор носят его имя). Канонизирован Римским Папой в 1120.
(обратно)171
Сиби (Саби) — кельтский святой, покровитель Гвента.
(обратно)172
Девять песен о нем вспоминают. — Число девять встречается в кельтской традиции столь часто, что его называют "северным аналогом священной семерки" культур Ближнего Востока. В валлийских законах, например, говорится, что крестьяне должны строить для короля девять домов, а собственный дом крестьянина должен состоять из центрального зала и восьми других помещений. В произведениях Гутора Глуна (XV в.) постоянно упоминаются дома, состоящие из девяти малых домов, или отдельных покоев, и это подтверждает существование валлийской традиции, согласно которой законченный дом должен включать в себя девять элементов. Можно вспомнить о девяти орехах мудрости, которые растут у истока семи главных рек Ирландии. Ирландская литература изобилует "компаниями из девяти человек", и в большинстве случаев совершенно ясно, что девятка состоит из вожака и восьми равноправных членов. Так, с королевой Медб в "Похищении быка из Куальнге" всегда ехало девять колесниц — две впереди, две позади, по две с каждой стороны от нее, а ее собственная колесница посередине. Когда король Лойгайре послал своих людей задержать св. Патрика, он снарядил для этого девять колесниц, "как было в обычае у богов". У Кухулина было по девять штук каждого вида оружия, причем восемь маленьких и один большой. И так далее, и тому подобное. В средневековом валлийском обществе девятое поколение было признано пределом родственных отношений; даже человеческое тело, как принято было считать, состояло из девяти частей. Важное место число девять занимало и в календаре кельтских народов, у которых была девятидневная, а точнее — "девятиночная неделя", поскольку счет времени они вели не по дням, а по ночам.
(обратно)173
Сион (Дион, т. е. солнечный) — одна из гор Иерусалима, древняя крепость Иевусеев (Нав. 15:63), которая была взята Давидом и стала главною крепостью нового царского города, называемого "город Давида" (2 Цар. 5:7,9; 1 Пар. 11:5). В нем был похоронен Давид (3 Цар. 2:10). По древнему преданию предполагалось, что Сионом называлась юго-западная высота, одна из тех, на которых был построен Иерусалим. Однако же слово "Сион" часто употребляется по отношению к восточной высоте Иерусалима, горе, на которой был построен храм.
(обратно)174
Cymru — Уэльс, уэльсцы (валл.).
(обратно)175
Король Алан — бретонский король, брат Паскветэна. Алан, прозванный впоследствии "Великим", собрал под свои знамена всех бретонцев. Норманны были разбиты в сражении у Кес-тембера в 890, после чего они не решались высаживаться у берегов Бретани в течение нескольких лет. Начало легенде Алана Великого было положено. И в самом деле, до конца его правления Бретань восставала понемногу из своих руин, материальных и духовных. Однако все рухнуло со смертью Алана в 907. Его наследник, граф Гурмаэлан, не был достаточно хорош для своего высокого предназначения и не смог объединить страну в тот момент, когда это было так необходимо.
(обратно)176
Род растений семейства орхидных (Orchis). Многолетние травы с прямыми, обычно облиственными стеблями и с подземными клубнями.
(обратно)177
Хороший эль (валя.).
(обратно)178
Боже, святой (греч.).
(обратно)179
Господи, помилуй (искаж. греч.).
(обратно)180
Корарбенник (Корбеник) — замок Святого Грааля. Название, по остроумной гипотезе Лумиса, произошло от франц. Сог Benoit, где cor, cors — латинизированная форма валлийского слова "рог", и, стало быть, речь идет о замке Благословенного Рога (рога изобилия), т. е. опять же — Грааля.
(обратно)181
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (валл.).
(обратно)182
Единая Троица здесь (валл.).
(обратно)183
Аваллон (от ирл. abal, валл. afal, "яблоко") — в кельтской мифологии "остров блаженных", потусторонний мир, чаще всего помещавшийся на далеких "западных островах". Символика, связанная с "островами блаженных" (стеклянная башня или дворец, дарующие бессмертие чудесные яблоки, которые предлагают населяющие остров женщины, и т. д.), первоначально встречается как имя собственное в валлийских генеалогиях применительно к мифическому предку древнейших династий Британии. По преданию, на остров Аваллон после сражения при Камлане был перенесен феей Морганой смертельно раненный король Артур.
(обратно)184
Святой Тейло — кельтский святой (VI в.), внесенный в святцы (празднуется 9 февраля), особенно почитаемый в Южном Уэльсе. Житие святого Тейло, хранителя Грааля, было составлено около 1130 г. монахом Джефри (Гальфридиус) из Хандафа. Единственное документальное упоминание об этом святом — запись в книге церкви Св. Клэда. Известно, что Тейло родился в Пенэлли, вырос в Тенби, в Пермброкшире, и до принятия монашества носил имя Элиуд. Вместе со св. Давидом Тейло совершает паломничество в Иерусалим. Вернувшись в Британию, Тейло поселяется в Доле вместе со св. Самсоном. Через семь лет он возвращается в Уэльс, где вскоре умирает.
(обратно)185
Герцог Норфолка — лорд Маубри. Герцоги Норфолка происходят от Роберта Маубри, графа Нортумберленд, главы мятежа баронов против короля Вильгельма II в 1095.
(обратно)186
Бесант, Уолтер (Walter Besant) (1836–1901) — английский писатель, автор романов "Бунт человека", "Внутренний дом", "Нерешительность дива".
(обратно)187
Райс, Элмер Л. (Rice, Elmer L.; наст, имя — Элмер Райзенстайн, Reizenstein) (1892–1967) — американский драматург.
(обратно)188
Mynydd Maen — в пер. с валл, означает "Каменная гора".
(обратно)189
Twyn Barlwm — в нер. с валл, означает "Ячменный Холм".
(обратно)190
Caer-Ludd — в пер. с валл. означает "Город Лудда", Лудд (Ллуд) — мифологический персонаж, герой Мабиноги, происходит от кельтского бога-прародителя Нуаду.
(обратно)191
Король Джон — исторический персонаж и герой пьесы У. Шекспира "Король Джон" (1596). Король Джон — Иоанн Безземельный (John Lackland) (1167–1216) — английский король (с 1199) из династии Плантагенетов. Младший сын Генриха И (прозван "Безземельным" потому, что, в отличие от старших братьев, не получил владений во Франции). Политический нажим Иоанна на крупных феодалов, сопровождавшийся откровенным произволом, а также его неудачи во внешней политике вызвали в Англии в 1215 восстание баронов, которое было поддержано рыцарями и горожанами, недовольными резким увеличением налогов. Иоанн был вынужден подписать Великую хартию вольностей.
(обратно)192
Франциск Ассизский (лат. Franciscus Assisiensis, итал. Francesco d’Assisi) (настоящее имя — Джованни Бернардоне; Вег-nardone) (1181 [или 1182] — 1226) — итальянский религиозный деятель. Из купеческой семьи. Отказался от богатства и с 1206 посвятил себя проповеди евангельской бедности. В 1207–1209 основал братство миноритов (меньших братьев), преобразованное в монашеский орден францисканцев. Церковь сумела использовать в своих целях проповедь св. Франциска, завоевавшего большую популярность у широких масс. В качестве странствующего проповедника св. Франциск побывал в Испании, Южной Франции, Египте, Палестине; всюду под влиянием проповедей св. Франциска складывались организации его последователей. По возвращении с Востока (где он пытался распространять христианство среди мусульман) св. Франциск в 1220 отошел от руководства орденом францисканцев, противясь его перерождению при содействии папства в обычный монашеский орден. В 1228 был канонизирован. Рассказы, легенды о нем собраны в анонимном сборнике "Цветочки свыше Франциска Ассизского" (рус. пер. 1913).
(обратно)193
Venite — покаянная молитва.
(обратно)194
Те Deum — Те Deum Laudamus ("Тебя, Бога, хвалим", лат.) — церковный гимн, приписывавшийся св. Амвросию Медиоланскому. В католической церкви этот гимн поется в конце заутрени во время Великого поста, а также при благодарственных церемониях по случаю победы и какого-либо торжественного события.
(обратно)195
Benedictus — "Benedictus, qui venit" (лат.) — начальные слова хвалебного гимна Захарии ("Благословен грядый"; Лк. 1:68–79), духовная песнь, составляющая часть католической мессы. Исполняется хором или одним голосом перед концом мессы.
(обратно)196
Angelus (Angelus Domini; Salutatio angelica) — "Ангел Господень" (лат.) — католическая молитва, которая повторяется три раза в день: утром, в полдень и вечером, когда в церквах звонят в большой колокол.
(обратно)197
Тюлень (лат.).
(обратно)198
Ты не спрашивай (лат.) — начальные слова из стихотворения римского поэта Горация (полное имя Квинт Гораций Флакк [Qu’ntus Horatius Flaccus)] (65 до н. э. — 8 до н. э.): "Tu ne quaesieris, scire nefas, quern mihi, quem tibi finem di dederint, Leukonoe" ("Ты не спрашивай, Левконоя, знать нельзя, какой конец мне, какой тебе дадут боги").
(обратно)199
"Грейз инн" (Gray’s Inn) — самый новый из "Судебных иннов"; назван по имени первого владельца здания инна. "Судебные инны" представляют собой четыре корпорации барристеров в Лондоне; пользуются исключительным правом приема в адвокатуру; существуют с XIV в., первоначально как гильдии, где ученики обучались у опытных юристов в качестве подмастерьев; ныне в школах при этих корпорациях готовят барристеров.
(обратно)200
И бог пусть не вмешивается; пусть все идет своим путем (лат.).
(обратно)201
В пер. с валл. Mynydd Mawr означает "Большая (или Великая) Гора"*
(обратно)202
Кадваладр — брат Оуэна Гвинеда (ум. 1170), последнего великого короля Гвинеда (Северный Уэльс) из рода Грифида ап Кинана, прославившийся борьбой за независимость Уэльса.
(обратно)203
Душа моя спасена, как птица из сети ловцов (лат.) — перефразированная строка из псалмов Давида.
(обратно)204
Гвин ап Нудд — Гвин, сын Нудда, один из самых загадочных персонажей валлийской мифологии. Это повелитель потустороннего мира, господин фей и эльфов, великий мудрец и астролог. Одновременно он известен как злой дух, которого Господь, как сказано далее в повести, "поставил стеречь демонов Аннуина", злодей, заставивший Киледира, сына Нейтона, съесть сердце собственного отца. Его отец Нудд, видимо, то же лицо, что и Ллудд Серебряной Руки, и именно за его дочь (свою сестру) Крейддилад Гвин каждые календы января бьется с Гуитиром, сыном Грейдаула. Крейддилад под именем Корделии встречается в легенде о короле Ллире (Ллудде) у Гальфрида Монмутского. Что касается Гвина (имя его означает "белый"), то он, как и ирландские сиды, живет под холмом, куда может ненароком забрести случайный путник (сохранились упоминания о встречах с ним Давида ап Гвиллима и святого Коплена, жившего в VIII в.).
(обратно)205
Сенешаль (от позднелат. siniscalcus — старший слуга) — главный управляющий королевским дворцом во Франкском государстве в V–VIII вв. С VIII в. приобрел судебные и военные функции. С X в. должность стала наследственной; сенешаль стал именоваться "великим сенешалем". В период раннего Средневековья сенешалей имели и крупные сеньоры.
(обратно)206
Итон, Регби, Хэрроу — наиболее известные в Англии частные закрытые школы-пансионы; школа Регби — родоначальница одноименной спортивной игры.
(обратно)207
Трансвааль — независимая бурская республика (в 1852 г. ее независимость признана Великобританией).
(обратно)208
Корочки в горшочке (франц.).
(обратно)209
Вареная говядина (франц.).
(обратно)210
Шпинат под соусом (франц.).
(обратно)211
Дважды сваренная капуста (лат.) — о чем-то надоедливо повторяющемся (греческая поговорка гласит, что "дважды капуста — смерть").
(обратно)212
Romulus Augustulus — Ромул Августул (Flavius Momyllus Romulus Augustulus), последний император Западной Римской империи.
(обратно)213
Йеху — герои "Путешествия Гулливера" (1726) Джонатана Свифта (1667–1745), отвратительные звероподобные существа, воплотившие в себе все пороки человеческого рода.
(обратно)214
Прекрасно: мэтр Франсуа, по-видимому, еще жив. Это настоящее возвращение Ренессанса; пусть это Ренессанс плохого сорта, если хотите, но все же Ренессанс, самый что ни на есть. Да, да, это очень сильно, подлинно, я Вас уверяю. Наш дорогой N. — это Рабле, который населил землю отвратительными каракатицами (франц.).
(обратно)215
Баллиольский колледж — старинное учебное заведение в Англии, основанное в 1282 вдовой барона Джона де Баллиола Шотландского, который в течение жизни поддерживал многих студентов и ученых в Оксфорде.
(обратно)216
Мария Монк — автор скандальной книги "Ужасные разоблачения" ("Awful Disclosures", 1836) о сексуальных связях монахинь женского монастыря в Монреале и священников соседней семинарии. Умерла в тюрьме в 1849.
(обратно)217
"Чрево Парижа", "La Terre" ("Земля") — романы французского писателя Эмиля Золя (1840–1902), датируемые соответственно 1873 и 1887.
(обратно)218
Ульстер (ныне — Ольстер), город в Ирландии.
(обратно)219
Caer-Newydd — в переводе с валл. "Новый город".
(обратно)220
Рис ап Грифид "Приносящий удачу" ("Fawr") (около 1129–1197) племянник и сподвижник последнего великого короля Северного Уэльса Оуэна Гвинеда.
(обратно)221
Caer-Pedryfan — в переводе с валл. означает "Город, поделенный на четыре".
(обратно)222
Число семь для кельтов, судя по всему, было не менее значимо, чем девять, что роднит их с другими индоевропейскими народами дохристианской эпохи. Необходимо отметить, что порой семь чередуется с пятью. Так, например, рассматривая Фир Болг не как одно, а как три равноправных племени, некоторые тексты говорят не о пяти, а о семи захватах Ирландии. У королевы Медб было семеро сыновей, все они носили имя Мане, и, как можно предположить, каждый персонифицировал определенный день недели. Известно, что вся Шотландия была поделена на семь районов, по числу сыновей короля пиктов. Соответствующие гептархии отмечались и в Англии, и в Ирландии.
(обратно)223
В ирландской традиции слово, обозначающее "юг" (dess), имеет значения "приятный, милый, красивый, правильный" и отождествляется с "правым". Thuas ("на юге") происходит от основы uas, означающей "верх"; словосочетания "верхняя часть (uachtar) Ирландии" и "верхушка (ceann) Ирландии" являются синонимами слов "Юг Ирландии", тогда как слово, традиционно употребляемое для обозначения "севера" (tuath), означает "зло" и отождествляется с "левым". Обычай, согласно которому в Ирландии место хозяина всегда находилось в северной части дома, упомянут в объяснении А. и Б. Рисов, почему шкуру овцы подвешивали к южной двери дома, а ягненка — к северной: "Почему южная дверь считается более благородной?" Ответ: "Потому что на нее обращен взор хозяина". В Ирландии поворот по солнцу, или поворот направо, традиционно считался благоприятным и приносящим удачу, тогда как поворот против солнца и соответственно налево приносил несчастье, однако именно это направление использовалось в магии и проклятиях.
(обратно)224
Ра — в мифах древних египтян бог солнца. Центр его культа — город Гелиополь. Воплощался в образе сокола (иногда — огромного кота), изображался человеком с головой сокола, увенчанной солнечным диском. Ра участвует в загробном суде Осириса, давая свет и тепло умершим. Согласно мифу, Ра днем плывет по небесному Нилу (небу) в барке, освещая землю, вечером он пересаживается в другую барку и спускается в преисподнюю, где, сражаясь с силами мрака, плывет по подземному Нилу, а утром вновь появляется на горизонте. По другим мифам, Нут (небо) каждый вечер проглатывает Ра и утром рождает его вновь. Ра правит миром подобно царю. Со своей барки он видит все, что делается на земле, разбирает жалобы, отдает распоряжения, а Тот (бог луны, мудрости), являющийся его верховным сановником, пишет указы и запечатывает письма. Ряд мифов о Ра связан с представлениями о смене времен года: весенний расцвет природы возвещает возвращение из пустыни любимой дочери Ра — Тефнут (Око Ра) и ее вступление в брак с Шу. Летний зной египтяне объясняли гневом Ра на людей, а ослабление солнечного жара тем, что Ра ужалила змея, посланная богиней Исидой. Древние греки отождествляли Ра с Гелиосом.
(обратно)225
Caer-rhiu — в переводе с валл. "Город-холм".
(обратно)226
"Вышняя Долина" — долина наслаждения. Согласно кельтским текстам, это — страна истины, мира и вечной жизни. Вот как описывается она в "Плавании Брана":
Там неведома горесть и неведом обман На земле родной, плодоносной,
Нет ни капли горечи, ни капли зла.
Все — сладкая музыка, нежащая слух.
Без скорби, без печали, без смерти,
Без болезней, без дряхлости…
(Пер. А. Смирнова)
(обратно)227
Тегфит на юге познал мудрость… — В кельтской мифологии и литературе музыка соотносится в первую очередь с Югом и с низшим классом свободных "земледельцев", однако это лишь одна сторона. И в архаических текстах, и в народных сказаниях прекрасная музыка выступает как один из главных атрибутов Иного мира. Ее звуки нередко знаменуют приближение чего-то сверхъестественного, с ее помощью люди из сидов наводят на земных мужчин и женщин свои "чары". Понимание музыки соответствует постижению тайного источника.
(обратно)228
Перевод некоторых версий этих стихов появился в "Поэмах старых бардов" Талиесина в бристольском издании 1812 г.
Талиесин (Taliesin, "Сияющее чело") — знаменитый полумифический бард, живший, по преданию, в VI в. Считается автором записанной в XIII в. "Книги Талиесина" — сборника поэм и пророчеств. Исторический Талиесин был придворным бардом Ури-ена, короля Регеда (бриттского королевства на северо-западе Англии), упоминается как один из крупных бриттских бардов в англосаксонских хрониках и в "Истории" Ненния
(обратно)229
Быстрый шотландский танец.
(обратно)230
Рэскин, Джон (1819–1900) — художник, ученый, поэт, защитник окружающей среды, философ и выдающийся художественный критик XIX в.; профессор искусства в Оксфорде (где имеется художественный колледж, названный его именем).
(обратно)231
Челлини (Cellini), Бенвенуто (1500–1571) — итальянский скульптор, ювелир и писатель. Учился у ювелира М. Бандинелли; испытал влияние Микеланджело. Работал во Флоренции, Пизе, Болонье, Венеции, Риме (1532–1540), Париже и Фонтенбло при дворе Франциска I (1540–1545). Выступал и как теоретик искусства, создав "Два трактата о ювелирном искусстве и скульптуре" (1568).
(обратно)232
Мартинес — Франциско Мартинес де ла Роса (1787–1862) — испанский поэт и прозаик, историк.
(обратно)233
Тонкий знаток, гурман (франц.).
(обратно)234
"Кафе Ангелы" (франц.).
(обратно)235
Аскеза (лат.).
(обратно)236
"Теология морали" (греч.+лат.).
(обратно)237
Лицо, имя которого неизвестно или не упоминается (франц.).
(обратно)238
Капитан корабля (лат.).
(обратно)239
Нечестивцы, безбожники, изменники (лат.).
(обратно)240
Душа видела, но рука не нарисовала (лат.).
(обратно)241
Non-Ens — не есть, не существующее (лат). В философском понятии, Ens — то, что есть, вещь, которая есть, бытие.
(обратно)242
Джуты — потомки англосаксонских завоевателей V в. Джуты не имеют никакой зарегистрированной хронологии на европейском континенте, но существует доказательство того, что их родина — Скандинавия и что те, кто не мигрировал, были позже поглощены датчанами. Согласно Беде Достопочтенному, в Британии джуты в основном осели в Кенте, на о. Уайт и в части Гемпшира.
(обратно)243
Земля Гарди — сельские округа южной части Британского острова, описанные в "Романах о характерах и среде" крупнейшим английским писателем XIX в. Томасом Гарди (1840–1928). Гарди называет эту местность Уэссексом, и серию произведений о ней часто называют "уэссекскими романами" (Wessex novels). Эта древняя земля хранит предания о временах англосаксонских королей. Здесь и там попадаются руины старинных каменных строений, в народе живут поверья отдаленных языческих времен, но больше всего дух вечности отражается в природе — прекрасной и страшной, величественной и суровой, могучей и неизменной, как тысячелетия назад.
(обратно)244
Catharsis — очищение (греч.) — введенный Аристотелем ("Поэтика") термин учения о трагедии: душевная разрядка, испытанная зрителем в процессе сопереживания.
(обратно)245
Англиканство — одно из течений христианства, которое иногда считают самостоятельным направлением христианской религии. Начало англиканству положено в 1534 г., когда английский король Генрих VIII специальным актом был провозглашен главой церкви в Англии (вместо Папы Римского). Постепенно были отвергнуты католические положения о верховенстве Пап, о чистилище, святых мощах, почитании икон, монашестве, таинствах (англикане признают только установленные самим Христом: крещение и причащение). Как и в других протестантских конфессиях, в англиканстве существует положение о спасении души личной верой, не отвергается полностью православная и католическая доктрина о спасающей силе Церкви. Обрядность в англиканстве существенно упрощена. Богослужение ведется на национальном языке. Англикане ведут историю своей церкви с 100 г. н. э. и отвергают, что Генрих VИI был основателем церкви Англии.
(обратно)246
"Душа Христа" (лат.) — классическая молитва, автор которой неизвестен, хотя некоторые приписывают ее блаженному Бернадино из Фельтре. Это любимая молитва св. Игнатия Лойолы (1491–1556), который и способствовал ее распространению. Входит в таинство отпущения грехов.
(обратно)247
"Чаша моя хмельная" (лат.) — строка из латинской Библии (греч. псалмы 22:5).
(обратно)248
Этос (греч.) — термин античной философии, обозначающий характер какого-либо лица или явления.
(обратно)249
Он сущий пребывает здесь (валл).
(обратно)250
Святой Источник — источник Гластонбери, где, согласно монастырской легенде, была сокрыта священная Чаша. Вплоть до начала нашего века в Ландейло Лвидарт, что в северной части Пермбокшира, Уэльс, существовал культ источника святого Тейло. Вода из этого источника исцеляла все немощи и болезни (таковы же свойства Грааля), если выпить ее из хранящегося в доме у источника черепа святого Тейло, поднесенного прямым потомком семьи (непрерывная цепь хранителей святого сосуда!).
(обратно)251
Дочь этого Короля, обернутая со всех сторон разнообразной золотой бахромой (лат.).
(обратно)252
Ламбетская часовня — часовня в Ламбетском дворце (Lambeth Palace), резиденции главы англиканской церкви архиепископа Кентерберийского.
(обратно)253
Гадание по земле.
(обратно)254
Переводится с фарси как "тайна" и "сердце".
(обратно)255
Соломон — царь израильский, около 1015—975 или, по другой хронологии, 970–938 до P. X., сын и преемник царя Давида и Вирсавии, построил великолепный храм в Иерусалиме, строил дворцы, водопровод, новые города, отправил морем корабли для добычи золота из страны Офир, обременил народ тяжкими налогами и поборами. Позже слыл в преданиях за мудреца и автора книг: "Притчи Соломона", "Екклезиаст" и "Песнь песней".
(обратно)256
А. Мейчен приводит здесь четыре этапа алхимического процесса Великого Делания, обозначавшихся различными цветами: черный (символом которого был ворон) — греховность, начало, низшие силы или для "первичной материи" — символ души в ее начальном состоянии; белый (серебристый) — простейшая работа, первое превращение, ртуть; красный — сера, страсть; и, наконец, солнце — золото.
(обратно)257
Северный Девон — графство в Великобритании.
(обратно)258
Эксмур — невысокое гранитное плато в северной части полуострова Корнуолл.
(обратно)259
Дун — город в Шотландии.
(обратно)260
Дартмур — суровый край холмов и болот в графстве Девоншир.
(обратно)261
Гэмпшир — графство в южной Англии.
(обратно)262
Блэкпул — один из наиболее популярных приморских курортов Великобритании.
(обратно)263
Сент-Панкрас — крупная конечная железнодорожная станция в Лондоне (также станция метро).
(обратно)264
"Скоттc" — дорогой лондонский ресторан в районе Мейфэр.
(обратно)265
Юстонская дорога — дорога, ведущая от большого лондонского вокзала "Юстон".
(обратно)266
Блумсбери — район в центральной части Лондона: в нем находятся Британский музей и Лондонский университет.
(обратно)267
Притвор Соломона — восточная часть колоннады, окружавшей Иерусалимский храм; упоминается в Новом Завете (Ин. 10:23; Деян. 3:11; 5:12).
(обратно)268
Литтл-Рассел-Роу — улица в Лондоне в районе Блумсбери.
(обратно)269
Кингз-Кросс — большой вокзал в Лондоне; конечная станция для поездов, обслуживающих север Великобритании; также пересадочный узел метро.
(обратно)270
Тоттенхем-Корт-Роуд — улица в центральной части Лондона; известна своими магазинами по продаже радиотелевизионной и акустической аппаратуры.
(обратно)271
Оксфорд-стрит — одна из главных торговых улиц в центральной части Лондона.
(обратно)272
"Тонкие вина" (франц.). "Бон Суперьер", вино, производящееся на виноградниках Кот-де-Бон в Бургундии.
(обратно)273
"Колбасный магазин" (франц.).
(обратно)274
"Замок Шинон" (франц.).
(обратно)275
Нижний Турен — историческая провинция во Франции, в бассейне Луары.
(обратно)276
"Русалочья Таверна" — знаменитая лондонская таверна, в которой на рубеже XVI и XVII вв. собирались актеры, драматурги и поэты — Шекспир, Бен Джонсон, Уолтер Рэли и др. Джон Ките (1795–1821) в "Стихах о Русалочьей Таверне" пишет: "…напиток дивный / Распивающих со смаком / Где-то там за Зодиаком" (пер. М. Зенкевича).
(обратно)277
Небесная Турская Земля (лат.).
(обратно)278
"Mihi est propositum in Taberna mori!" — "Чего бы я хотел, так это — умереть в трактире!" (старобаварский) — первая строка из стихотворения вагантов "Завещание" (автор неизвестен) из сборника "Кармина Бурана" ("Carmina Burana", XIII в.), рукопись которого была обнаружена в 1803 в баварском городе Бенедиктбейрен (название памятника восходит к латинизированному наименованию города). "Завещание" представляет собой один из вариантов "Исповеди" архипиита Кёльнского (1163). В переводе Л. Гинзбурга первая строфа этого стихотворения звучит так:
Я желал бы помереть не в своей квартире,
а за кружкою вина где-нибудь в трактире.
Ангелочки надо мной забренчат на лире:
"Славно этот человек прожил в грешном мире…"
(БВЛ, т.23, М., 1974)
(обратно)279
Имеются в виду форматы книг.
(обратно)280
Вестминстерское аббатство — особая королевская церковь в Лондоне; прекрасный образец раннеанглийской архитектуры; место коронации английских монархов; в ней похоронены многие выдающиеся люди, в т. ч. Исаак Ньютон, Чарлз Дарвин; построена в XI в., частично перестроена в XIII в.
(обратно)281
Большое кафе рая (франц.).
(обратно)282
Филлоксера — род тлей отряда равнокрылых хоботных насекомых; паразитирует на растениях; виноградная филлоксера, завезенная в Европу из Америки, приносит огромные убытки виноградарству.
(обратно)283
"Джекиль и Хайд" — имеется в виду роман Роберта Луиса Стивенсона (1850–1894) "Необычайная история доктора Джекиля и мистера Хайда" (1886).
(обратно)284
Джордж Элиот (1819–1880) — знаменитая английская писательница, представительница реалистической школы.
(обратно)285
Академия Лагадо — сатирический собирательный образ "прожектеров от науки"; описана Джонатаном Свифтом в "Путешествиях Лемюэля Гулливера".
Выдающийся писатель-сатирик Джонатан Свифт охотно издевался над бесплодием современной ему науки. Описания опытов Академии в Лагадо напоминают занятия придворных Королевы Квинты в романе Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль" (кн. V, гл. XXИ). Свифт использовал описания такого рода для осмеяния современных ему экспериментов и умозрительных теорий. Знаменитое описание Академии в Лагадо, в Третьей части "Путешествий", было сатирой, и несомненно оправданной, на деятельность большинства так называемых "ученых" его времени, которых Свифт именует "прожектерами".
(обратно)286
Джалалуддин (Джалалуддин Руми, 1207–1273) — один из самых почитаемых персидских мистических поэтов и учителей. Вся жизнь мауланы (буквально: нашего господина) Джалалуддина Руми, основателя ордена Вращающихся дервишей, может служить подтверждением восточной поговорки: "Гиганты приходят из Афганистана и воздействуют на весь мир". Джалалуддин Руми родился в знатной семье в Бактрии в начале XIII в. Он жил и учился в Икониуме (Руме) в Малой Азии до возникновения Оттоманской империи, от трона которой он, как говорят, отказался. Его произведения, написанные на персидском языке, столь почитаются в Иране за их поэтические и литературные достоинства и мистическое содержание, что их называют "Кораном на языке пехлеви", несмотря на то, что Руми отрицательно относился к шиизму, национальному культу Ирана, критикуя его ограниченность. Хотя Руми утверждал, что стихи Корана аллегоричны, а сам Коран обладает семью различными значениями, арабы, а также мусульмане Индии и Пакистана считают его одним из величайших мистических учителей. Степень воздействия Руми было бы очень трудно определить, но следы его влияния можно обнаружить в литературных и философских произведениях различных школ.
(обратно)287
Хозяйка (франц.).
(обратно)288
Гелиогабал (204–222 н. э.) — римский император, добивавшийся того, чтобы в Риме почитался только один бог Гелиогабал (финикийский бог Солнца). Кроме того, он говорил, что в Рим надо принести религиозные обряды иудеев и самаритян, а равно и христианское богослужение для того, чтобы "жречество" Гелиогабала держало в руках тайны всех культов. Сам Гелиогабал в возрасте 14 лет (218 г. по РХ.) занимал пост верховного "жреца" Непобедимого Солнца и вел весьма развратный образ жизни, из чего можно понять, что он был одной из марионеток исторически реальной и вполне властной "мировой закулисы".
(обратно)289
Колдунья, упоминающаяся в 5-м эподе Горация.
(обратно)290
Свечной день. — 2 февраля отмечался католический праздник Свечей — свечи освящали и раздавали прихожанам. В старинных песнях упоминается, что, если солнце выглянет в Свечной день, зима будет долгой. Римские легионы во время своего вторжения в северные земли передали эту примету тевтонам, или германцам. Последние интерпретировали ее примерно так: "Если в Свечной день солнце покажется из-за туч, чтобы ежик отбросил тень, зима будет тянуться еще долго". А в православной традиции 2 февраля по старому стилю отмечают Сретенье Господне.
(обратно)291
Слова ведьмы из пьесы У. Шекспира "Макбет" (акт IV, сцена I).
(обратно)292
Дионисийские мистерии. — Культ Диониса был культом противостояния утвержденной традиции. Это был культ вина, веселья, культ отказа от норм надоевшей однообразной и скучной жизни, культ буйства и свободы. Ему предавались здоровые, не находящие достойного выхода своим душевным силам женщины, которые становились на время мистерии вакханками или менадами — спутницами Диониса. Культ опирается на мифологию скитаний обезумевшего по воле Геры Диониса. При этом за ним следовали его поклонницы — также обезумевшие женские духи — менады. В описаниях дионисийских мистерий мы находим бегущих, движущихся толпой вакханок, все уничтожающих на своем пути. Они полуобнажены, одеты в шкуры леопардов, вооружены жезлами, увитыми плющом, подпоясаны змеями. На воротах греческого храма Мистерий Вакха, или Диониса, висела надпись: "Посвященных немного, хотя многие несут жезл". Вакхический жезл, или посох, передавался тому, кто искал мудрость в мистериях Диониса. Этот посох был сплетен из виноградных лоз и увенчан сосновой шишкой, символизирующей открытие "третьего глаза".
(обратно)293
Ветхозаветная метафора лозы и виноградника. — Виноградная лоза не упоминается в Писании до повествования о потопе, но потом, особенно после исхода израильтян из Египта, очень часто употребляется как символический образ для описания их жизни и их отношения к своему Богу. Виноград возделывался в Палестине повсеместно, и ему уделялось много внимания. Закон наряду с полями и другой собственностью дает подробные указания и насчет виноградников. Ухоженная виноградная лоза (виноградник) есть символ мира и благополучия. Господь Иисус Христос Себя назвал истинной виноградной лозой, а Своих учеников — ее ветвями. Последний храм, отстроенный и украшенный Иродом, имел над входом огромное золотое изображение виноградной лозы.
(обратно)294
Божественная Бутылка (франц.).
(обратно)295
"Маленькая скиния" — имеется в виду Little Bethel — молельня из "Лавки древностей" Ч. Диккенса.
(обратно)296
Тинтерн — Тинтернское аббатство, живописные развалины в 8 км севернее Чепстоу (Уэльс), до 1537 г. здесь помещался цистерцианский монастырь, основанный Уолтером де Клэром в 1131 г. Аббатство, расположенное на широком лугу на правом берегу реки Уай, принадлежит к числу наиболее романтических руин Британии. Собор, который доминирует среди строений в их нынешнем виде, датируется временем между 1270 и 1325 г. Это сооружение высотой в 69 м — прекрасный образец готической архитектуры; крыша, колокольня и северная стена нефа разрушены. Главная достопримечательность собора — громадное (высотой 20 м), богато декорированное восточное окно; впрочем, не менее прекрасны и другие резные элементы убранства. Тинтернское аббатство воспел в стихах Уильям Вордсворт ("Лирические баллады", 1798).
(обратно)297
На небо взирать (лат.).
(обратно)298
Хмельная чаша (лат.).
(обратно)299
Возглас пирующих на вечном пиру (лат.).
(обратно)300
Королевство Логрис — так обычно называется в арту-ровских легендах и книгах Англия короля Артура. Это старинное кельтское название (валл. Lloegr) связывают с Англией к югу от Трента и к востоку от Северна, как с территорией, находящейся под властью завоевателей англосаксов. В том же значении употреблялось оно Мэлори, Васом и Кретьеном де Труа. Но у Робера де Борона и в более поздних прозаических обработках Logres, Loundres — это уже город, отождествляемый с Лондоном.
(обратно)301
Саррас — город, где, согласно средневековым христианским легендам, хранится либо изредка появляется перед случайными очевидцами Святой Грааль. Место известно также тем, что в Сарра-се Иосиф Аримафейский обратил в христианство местного короля.
(обратно)302
Здесь: хвалебные отзывы.
(обратно)303
Бёрнс (Burns), Роберт (1759–1796) — шотландский поэт. Родился в бедной крестьянской семье. Всю жизнь боролся с крайней нуждой. Писать стихи начал с 15 лет. Поэтическое творчество Бёрнс совмещал с работой на ферме, затем с должностью акцизного чиновника (с 1789). Сатирические поэмы "Два пастуха" (1784) и "Молитва святоши Вилли" (1785) распространялись в рукописи и укрепили за Бёрнсом репутацию вольнодумца. Первая книга "Стихотворения, написанные преимущественно на шотландском диалекте" (1786; 2 изд. — 1787; 3 изд. в 2 тт. — 1793) сразу принесла поэту широкую известность. Бёрнс подготовил к печати шотландские песни для эдинбургского издания "Шотландский музыкальный музей" (изд. С. Джонсона) и "Избранное собрание оригинальных шотландских мелодий" (изд. Дж. Томсона).
(обратно)304
Гексли, Томас-Генри (1835–1895) — выдающийся английский биолог и зоолог; был врачом, с 1854 профессор естественной истории и физиологии горной школы и Королевского института в Лондоне. Спенсер, Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма. Работал инженером на железной дороге (1837–1841), затем сотрудничал в журнале "Экономист" ("Economist") (1848–1853), большую часть жизни провел как кабинетный ученый.
(обратно)305
Что и требовалось доказать (лат.).
(обратно)306
Через страдание (лат.).
(обратно)307
Элевсин — Элефсис (Eleusis), город в Атгике (Греция), в 22 км от Афин. Поселение в Элевсине существовало непрерывно с эпохи неолита. Во 2-м тыс. до н. э. — центр одного из государств ахейцев. Остатки оборонительных стен, дворца, царской усыпальницы и погребений знати указывают на значительную роль Элевси-на в XVI–XИ вв. до н. э. Элевсин — культовый центр Деметры и Персефоны, где в 1-м тыс. до н. э. проводились Элевсинские мистерии. Раскопками (с 1882) открыты часть священной дороги, ведущей из Афин в Элевсин, остатки святилищ VI в. до н. э. — ИI в. н. э. и др. Архитектурные памятники и комплексы (сохранились фрагментарно): некрополь с толосами и мегарон (оба XV–XИI вв. до н. э.), святилище с остатками расположенных один под другим теле-стерионов (залов для собраний, посвященных мистериальному культу) времен Перикла (основное строительство — архитектор Иктин) и других правителей, Малыми (около 40 до н. э.) и Большими (2-я половина И в. н. э.) пропилеями, древнеримские постройки (2 триумфальные арки, храм Артемиды). В Элевсине около 525 до н. э. родился Эсхил. В 396 н. э. город был разрушен готами.
(обратно)308
Готический собор XIII–XVI вв.
(обратно)309
Гален, Клавдий (131–201) — после Гиппократа знаменитейший врач древности, родился в Пергаме, жил также в Александрии и Риме. Приобрел известность своей удачной врачебной практикой и работами по анатомии и физиологии; имел огромное влияние на последующее время и до Парацельса считался авторитетом для всех медицинских школ.
(обратно)310
Игра слов: по-французски "ангел" — "ange", оттого Ангельские сады — "Anges-Gardiens".
(обратно)311
Венки из бессмертника (франц.).
(обратно)312
Золотое солнце (франц.).
(обратно)313
Наука любви (лат.).
(обратно)314
Мера веса = 1,555 г.
(обратно)315
Амбуаз и Луин — города во французском департаменте Эндр-и-Луар, на реке Луаре.
(обратно)316
Шинон — город и один из самых старых замков на Луаре. Здесь Жанна д’Арк встретила и безошибочно опознала короля в толпе придворных. Отсюда они начали освобождение Франции. Именно здесь жил огромный великан и добрый правитель Гаргантюа.
(обратно)317
Древняя монета. В настоящее время (с 1991 г.) — денежная единица Перу.
(обратно)318
Кальвин, Жан (1509–1564) — французский деятель Реформации, основатель кальвинизма. Главное сочинение — "Наставление в христианской вере". Став с 1541 г. фактическим диктатором Женевы, превратил ее в один из центров Реформации. Отличался крайней религиозной нетерпимостью.
(обратно)319
Самец налима (франц.).
(обратно)320
Пряженая рыба (франц.).
(обратно)321
Вуврэ — город в бассейне Луары и знаменитое белое вино, которое называют лучшим вином Луары и Турени. Этот довольно обширный апелласьон раскинулся на правом берегу Луары. Здесь на теплых, хорошо пропускающих влагу почвах выращивают виноград сорта Шенен. В Вуврэ производят сухие, десертные и игристые вина.
(обратно)322
Турень, Турен (Touraine) — историческая область во Франции, в западной части страны, в бассейне р. Луара. Главный город — Тур.
(обратно)323
Записанные и освещенные с вышнего позволения (лат.).
(обратно)324
Чаша моя хмельная (лат.) — строка из латинской Библии (греч. псалмы 22:5).
(обратно)325
Fine — водка высшего качества (франц.).
(обратно)326
Мараскин — ликер из мараскиновой вишни.
(обратно)327
Пьян (лат.).
(обратно)328
Подвыпивший (лат.).
(обратно)329
Дьеп — город и порт на севере Франции, на берегу пролива Ла-Манш, в департаменте Приморская Сена. Климатический морской курорт.
(обратно)330
Цирк Пиккадилли — богемный район Лондона.
(обратно)331
Телемское аббатство — построено по просьбе монаха Жана по прозвищу Зубодробитель (см. роман Ф. Рабле "Гаргантюа и Пантагрюэль"). Благодаря исключительной щедрости Гаргантюа на берегу французской реки Луары появилась великолепная Телем-ская обитель, весьма не похожая на все другие католические монастыри. В новой обители не отрекаются от радостей жизни, не истязают себя постами и ночными бдениями, не ищут спасения в невежестве. Юноши и девушки, отличающиеся красотой, статностью, обходительностью и любознательностью, живут здесь под одной крышей, вместе занимаются, вместе проводят досуг. При желании каждый может беспрепятственно покинуть обитель и уйти куда захочет. Здесь не дают монашеских обетов целомудрия, бедности и послушания. Любой телемит "вправе сочетаться законным браком, быть богатым и пользоваться полной свободой". И все в Теле-мской обители устроено так, чтобы человек радовался жизни, все здесь ласкает глаз и дает богатую пищу уму. Телемское аббатство вовсе не монастырь. Более того — оно дерзкий вызов монастырским порядкам и самому духу монашества. В его уставе записано только одно правило: "Делай что хочешь" (Телема — по-гречески: желание).
(обратно)332
"Бутоны роз" (англ.) — марка сигарет.
(обратно)333
Святой Кайэран — один из двенадцати ирландских апостолов, высадившийся в Ирландии в VI в.
(обратно)334
Огамическое письмо — буквенное письмо древнеирландского языка.
(обратно)335
Букв, независимые (англ.) — наиболее радикально настроенная часть английских пуритан.
(обратно)336
Ионадав, сын Рехава. — См. Иер. 35:1-19.
(обратно)337
Иезавель. — См. 2 Цар. 9:30–37.
(обратно)338
Книга Судей — одна из книг Ветхого Завета.
(обратно)339
Город недалеко от Блэкбурна.
(обратно)340
Ковентри Патмор (1823–1896) — английский поэт. Первый сборник стихов опубликовал в 1844 г., его высоко оценили прерафаэлиты. Печатался в журнале "The Germ" ("Зародыш").
(обратно)341
Манихеи — последователи самой влиятельной из дуалистических религий — манихейства, основанной пророком Мани (216–276), который родился в баптистской общине в Месопотамии, проповедовал в Персии и мученически погиб при Бахраме И. Манихейство распространилось на Западе до Рима, где, несмотря на преследования, существовало до VI в., на Востоке достигло Китая (694), а в государстве тюрок-уйгуров на время стало государственной религией (763–840). Манихейство характеризуется радикальным дуализмом, присущей лишь ему идеей о мире как о "смеси" Света и Тьмы, антикосмическим оптимизмом и суровым аскетизмом. Оно приписывает акт сотворения мира благому демиургу, именуемому Духом Жизни. Манихейство признает ряд пророков, завершившийся самим мани, а Иисусу приписывает некую космическую функцию.
(обратно)342
Боккаччо, Джованни (1313–1375) — итальянский поэт, новеллист и гуманист. "Декамерон" — главнейшее произведение Боккаччо, сборник из 100 новелл, рассказанных 10 лицами (7 женщин, 3 мужчин) в 10 дней на вилле Пальмиери, где они спасались от чумы во Флоренции (1348).
(обратно)343
Литургика — теологическая наука о церковном богослужении.
(обратно)344
Сказанное предместьями — причина конца (лат.).
(обратно)345
Жюве, Джордж Фрусдейл (1891–1969) — известный "стронгмэн" и бодибилдер в начале XX в. Прославился во всем мире как изобретатель тренажеров и владелец фирмы спортивного оборудования, а также как автор нескольких буклетов по физической культуре и как тренер, учитель и наставник молодых атлетов.
(обратно)346
То, что наверху, вышний (лат.).
(обратно)347
Привет тебе, дорогое товарищество, вечно здравствуй! (лат.).
(обратно)
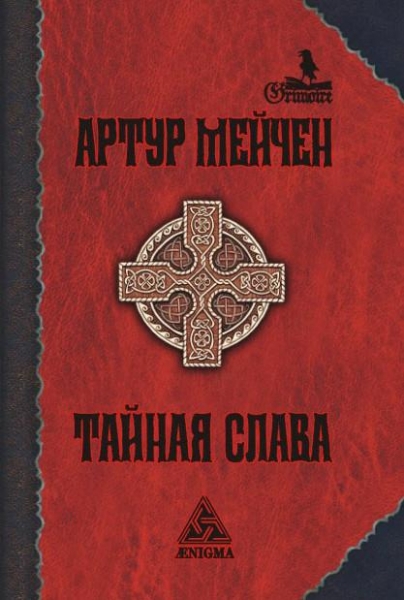



Комментарии к книге «Тайная слава», Артур Ллевелин Мэйчен
Всего 0 комментариев