ВИКТОРЪ ГЮГО Ганъ Исландецъ РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ КНИГАХЪ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
— Вотъ до чего доводитъ любовь, сосѣдъ Ніэль! Бѣдняжка Гутъ Стерсенъ не лежала бы теперь на этой большой черной плитѣ, какъ морская звѣзда, забытая отливомъ на отмели, если-бы заботилась только о починкѣ челнока и ветхихъ сѣтей своего отца. Да утѣшитъ святой Усуфъ нашего стараго товарища въ постигшемъ его несчастіи!
— Да и женихъ ея, — подхватилъ чей-то пронзительный дрожащій голосъ: — этотъ красавецъ Жилль Стадтъ, не лежалъ-бы тутъ рядомъ съ ней, если бы вмѣсто того, чтобы волочиться за богатствомъ въ проклятыхъ рудникахъ Рерааса, онъ качалъ люльку маленькаго брата подъ закоптѣлой кровлей своей хижины.
— Э! Матушка Олли, твоя память старѣетъ вмѣстѣ съ тобою, — возразилъ сосѣдъ Ніэль, къ которому обращена была первая рѣчь. — У Жилля никогда не было брата и тѣмъ труднѣе бѣдной вдовѣ Стадтъ переносить свое горе. Хижина ея теперь совсѣмъ осиротѣла и взоры матери, ища утѣшенія въ небѣ, будутъ встрѣчать лишь ветхую кровлю, подъ которой виситъ опустѣлая люлька сына, въ цвѣтѣ лѣтъ простившагося съ жизнью.
— Несчастная мать! — вздохнула старая Олли:- а парень самъ виноватъ… зачѣмъ понесло его въ Рераасскія рудокопни?
— Право, — сказалъ Ніэль:- эти адскіе рудники берутъ съ насъ по человѣку за каждый аскалонъ мѣди. Не такъ-ли, кумъ Брааль?
— Рудокопы — это безумный народъ, — отвѣтилъ рыбакъ. — Чтобы жить, рыба не должна покидать воды, а человѣку не слѣдъ спускаться въ нѣдра земли.
— Но если работа въ рудникахъ нужна была Жиллю Стадту, чтобы сыграть свадьбу съ своей невѣстой? — замѣтилъ изъ толпы молодой парень.
— Э! — прервала его Олли:- развѣ можно подвергать жизнь свою опасности ради страсти, которая не стоитъ такой жертвы. Нечего сказать, славное брачное ложе доставилъ Жилль своей возлюбленной!
— Значитъ, молодая дѣвушка утопилась съ отчаянія, узнавъ о смерти своего жениха? — освѣдомился другой любопытный.
— Что за вздоръ! — грубо закричалъ какой-то солдатъ, расталкивая толпу. — Я хорошо знаю эту дѣвочку, она действительно была помолвлена съ молодымъ рудокопомъ, придавленнымъ обваломъ скалы въ шахтахъ Сторваадсгрубе, близъ Рераасса. Но она также была любовницей одного изъ моихъ товарищей, и когда третьяго дня она тайкомъ отправилась въ Мункгольмъ отпраздновать съ своимъ дружкомъ смерть жениха, лодка ея наткнулась на подводный камень и Гутъ утонула.
Смѣшанный шумъ голосовъ поднялся въ толпѣ. «Врешь, служба» кричали старухи; молодежь молчала, а сосѣдъ Ніэль ехидно напомнилъ рыбаку Браалю свое глубокомысленное изреченіе: «Вотъ до чего доводитъ любовь!» Солдатъ, не на шутку раздраженный сварливымъ бабьемъ уже послалъ ему названіе: «старыхъ вѣдьмъ кираготской пещеры», оскорбительный эпитетъ, съ которымъ трудно было безропотно примириться, какъ вдругъ повелительный грубый голосъ, закричавшій: «тише, тише, болтуны!» положилъ конецъ препирательствамъ.
Все смолкло, подобно тому какъ при крикѣ пѣтуха водворяется тишина въ средѣ раскудахтавшихся куръ.
Прежде чѣмъ продолжать нашъ разсказъ, не лишне будетъ описать мѣсто, гдѣ происходила вышеописанная сцена. Читатель, безъ сомнѣнія, уже догадался, что мы въ одномъ изъ тѣхъ зданій, которыя человѣколюбіе и общественное призрѣніе посвящаетъ для послѣдняго пріюта безвѣстныхъ труповъ, по большей части самоубійцъ, жизнь которыхъ не богата была красными днями.
Здѣсь безучастно толпятся любопытные, зѣваки холодные или сердобольные, но часто безутѣшные друзья и родные, которымъ долгая, невыносимая неизвѣстность оставила эту послѣднюю горькую надежду.
Въ эпоху давно минувшую, въ странѣ мало цивилизованной, куда мы переносимъ читателя, еще и не помышляли превращать эти убѣжища въ вычурно мрачные памятники, какъ то дѣлаютъ теперь наши столицы, блещущія золотомъ и грязью. Солнечные лучи не проникали туда и, скользя по артистически украшенному своду, не освѣщали ряда возвышеній, изголовья которыхъ готовятъ какъ бы для сна. Если отворялась дверь сторожки, взоръ, утомленный зрѣлищемъ голыхъ, изуродованныхъ труповъ, не могъ отдохнуть, какъ въ наше время, на изящной мебели и рѣзвящихся дѣтяхъ.
Смерть являлась здѣсь во всей своей отвратительной наготѣ, во всемъ ужасѣ: тогда не пытались еще украшать полуистлѣвшій скелетъ лентами и саваномъ.
Помѣщеніе, въ которомъ происходила вышеописанная сцена, было обширно, а парившая въ немъ темнота придавала ему еще болѣе фантастическіе размѣры. Дневной свѣтъ проникалъ туда лишь черезъ низенькую, четырехугольную дверь, ведшую къ Дронтгеймской пристани, да въ отверстие, вырубленное топоромъ въ потолкѣ, откуда, смотря по времени года, падали дождь, градъ или снѣгъ на трупы, расположенные какъ разъ противъ отверстія.
Желѣзная балюстрада, высотою по грудь взрослаго, дѣлила это помѣщеніе во всю ширину. Въ переднее отдѣленіе входили посѣтители через вышеупомянутую четырехугольную дверь, въ заднемъ — виднелось шесть длинныхъ чернаго гранита плитъ, размѣщенныхъ въ рядъ и параллельно другъ дружкѣ. Боковая, маленькая дверь служила входомъ въ каждое отдѣленіе для сторожа и его помощника, которые занимали остальную часть зданія, примыкавшую къ морю.
Рудокопъ и его невѣста лежали рядомъ на двухъ смежныхъ гранитныхъ плитахъ. Тѣло молодой дѣвушки начало уже разлагаться, судя по широкимъ синимъ и багровымъ полосамъ, которыя тянулись вдоль ея членовъ, соотвѣтственно ходу кровеносныхъ сосудовъ. Черты лица Жилля были мрачны и суровы, но трупъ его такъ страшно былъ изуродованъ, что невозможно было судить, тотъ-ли это красавецъ, о котором говорила старая Олли.
Перед этими-то обезображенными останками, среди молчаливой толпы начался вышеприведенный разговоръ.
Рослый, сухощавый человѣкъ пожилыхъ лѣтъ, скрестивъ руки и опустив голову на грудь, сидѣлъ въ самомъ темномъ углу морга [1] на поломанной скамьѣ. Казалось, онъ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на происходившее вокруг него, но вдруг поднявшись съ мѣста, онъ крикнулъ: «Тише, тише, болтуньи!» и протянулъ руку солдату.
Воцарилась тишина. Солдатъ обернулся и громко расхохотался при видѣ новаго собесѣдника, изможденное лицо котораго, рѣдкiе, растрепанные волосы, длинные пальцы и полный костюмъ изъ оленьей кожи достаточно оправдывали столь неожиданную веселость. Между тѣмь въ толпѣ женщінъ поднялся сдержанный говоръ:
— Это сторожъ Спладгеста [2]. Это адскій тюремщикъ мертвецовъ! — Это дьявольскій Спiагудри! — Проклятый колдунъ…
— Тише, болтуньи, тише! Если сегодня день вашего шабаша, спѣшите къ вашимъ помеламъ, не то они улетятъ безъ васъ. Оставьте въ покоѣ этого благороднаго потомка бога Тора.
Съ этими словами Спіагудри, попытавшись скроить граціозную улыбку, обратился къ солдату:
— Ты сказалъ, товарищъ, что эта жалкая женщина…
— Старый негодяй! — пробормотала Олли: — Мы дѣйствительно для него жалкія женщины, такъ какъ наши тѣла, попадись они въ его когти, не принесутъ ему по таксѣ болѣе тридцати аскалоновъ, межъ тѣмъ какъ за любой негодный остовъ мужчины онъ имѣетъ вѣрныхъ сорокъ.
— Тише, вѣдьмы! — повторилъ Спіагудри: — Право, эти чортовы дочери что ихъ котлы; какъ согрѣются, начинаютъ шумѣть. Скажи-ка мнѣ, мой храбрый воинъ, твой товарищъ, любовницей котораго была Гутъ, безъ сомнѣнія наложилъ на себя руки, потерявъ ее?..
Эти слова произвели взрывъ долго сдерживаемаго негодованія.
— Слышите, что толкуетъ басурманъ, старый язычникъ? — закричало разомъ двадцать пронзительныхъ, нестройныхъ голосовъ: — ему хочется заполучить еще новаго покойника ради лишнихъ сорока аскалоновъ!
— А если бы и такъ, — продолжалъ сторожъ Спладгеста: — Нашъ милостивый король и повелитель Христіернъ V, да благословитъ его святой Госпицій! — развѣ онъ не объявилъ себя покровителемъ всѣхъ рудокоповъ, такъ какъ они обогощаютъ его королевскую казну своимъ скуднымъ заработкомъ.
— Не слишкомъ ли много чести для короля, сосѣдъ Спіагудри, — замѣтилъ рыбакъ Брааль:- когда ты сравниваешь королевскую казну съ сундукомъ твоей мертвецкой, и его особу съ своей?
— Сосѣдъ! — повторилъ Спіагудри, уязвленный такой фамильярностью: — Твой сосѣдъ! Скажи-ка лучше твой хозяинъ, такъ какъ легко можетъ статься, что со временемъ я и тебѣ, мой милѣйшій, одолжу на недѣльку одну изъ моихъ каменныхъ постелей. Впрочемъ, — добавилъ онъ, смѣясь: — я вѣдь заговорилъ о смерти этого солдата въ надеждѣ видѣть продолженіе обычая самоубійствъ подъ вліяніемъ сильныхъ, трагическихъ страстей, внушаемыхъ подобными женщинами.
— Хорошо, хорошо, великій хранитель труповъ, — сказалъ солдатъ: — но что хотѣлъ ты сказать своей милой гримасой, такъ удивительно похожей на послѣднюю усмѣшку висѣльника?
— Чудесно, мой храбрый воинъ! — вскричалъ Спіагудри: — я всегда думалъ, что подъ каской латника Турна, побѣдившаго діавола саблей и языкомъ, кроется болѣе ума, чѣмъ подъ митрой Ислейфскаго епископа, сочинившаго исторію Исландіи, или подъ четырехугольной шапкой профессора Шонинга, описавшаго нашъ соборъ.
— Въ такомъ случаѣ послушай меня, старый кожанный мѣшокъ, брось эту мертвецкую и продай себя въ кабинетъ рѣдкостей вице-короля въ Бергенѣ. Клянусь тебѣ святымъ Бельфегоромъ, тамъ на вѣсъ золота скупаютъ экземпляры рѣдкихъ животныхъ. Однако, что же ты хотѣлъ мнѣ сказать?
— Если трупъ, доставленный сюда, вынутъ изъ воды, мы обязаны платить половину таксы рыбакамъ. Вотъ потому-то я и хотѣлъ просить тебя, славный потомокъ латника Турна, уговорить твоего злополучнаго товарища не топиться, а избрать какой либо иной способъ покончить свое существование. Ему не все ли равно, а умирая, онъ навѣрно не захочетъ обидѣть бѣднаго христіанина, который окажетъ гостепріимство его трупу, если только утрата Гутъ натолкнетъ его на такой отчаянный поступокъ.
— Ну, здѣсь ничего не выгоритъ, мой сердобольный и гостепріимный тюремщикъ. Плоха надежда на моего товарища, что онъ сдѣлаетъ тебѣ удовольствіе, воспользовавшись твоей соблазнительной гостинницей о шести постеляхъ. Неужто ты думаешь, что другая какая нибудь валкирія не утѣшила его въ потерѣ этой? Клянусь моей бородой, ваша Гутъ уже давно порядкомъ надоѣла ему.
При этихъ словахъ буря, минуту тому назадъ висѣвшая надъ головой Спіагудри, обрушилась всей своей тяжестью на злосчастнаго солдата.
— Что, несчастный негодяй! — кричали старухи: — Такъ-то вы нами дорожите? Вотъ любите послѣ этого такихъ бездѣльниковъ.
Молодухи все еще молчали, нѣкоторыя изъ нихъ даже находили, что этотъ бездѣльникъ недуренъ собой.
— Ого! — сказалъ солдатъ: — шабашъ-то снова расходится. Мучения Вельзевула поистинѣ ужасны, если ему каждую недѣлю приходится выслушивать подобные хоры!
Неизвѣстно, чѣмъ кончилось бы это новое препирательство, если бы въ эту минуту всеобшее вниманіе не было привлечено шумомъ, несшимся съ улицы.
Шумъ постепенно усиливался и вскорѣ толпа полунагихъ мальчишекъ, крича и вертясь вокругъ закрытыхъ носилокъ, которыя несли два человѣка, въ безпорядкѣ ворвалась въ Спладгестъ.
— Это откуда? — спросилъ сторожъ морга носильщиковъ.
— Съ Урхтальскихъ береговъ.
— Оглипиглапъ! — закричалъ Спіагудри.
Малорослый лапландецъ въ кожанной одеждѣ появился на этотъ зовъ въ одной изъ боковыхъ дверей и сдѣлалъ знакъ носильщикамъ слѣдовать за нимъ. Спіагудри тоже пошелъ съ ними и дверь захлопнулась, прежде чѣмъ толпа любопытныхъ успѣла угадать по длинѣ трупа, покоившагося на носилкахъ, мужчина то былъ, или женщина.
Всевозможныя предположенія и догадки прерваны были появленіемъ Спіагудри и его помощника, которые внесли трупъ мужчины во второе отдѣленіе морга и положили его на одну изъ гранитныхъ плитъ.
— Давненько ужъ не попадалась мнѣ такая прекрасная одежда, — промолвилъ Оглипиглапъ, качая головою.
Приподнявшись на цыпочкахъ, онъ прикрылъ мертвеца красивымъ капитанскимъ мундиромъ. Голова трупа быда обезображена, все тѣло въ крови. Сторожъ нѣсколько разъ окатилъ его водою изъ стараго поломаннаго ведра.
— Клянусь Вельзевуломъ! — закричалъ солдатъ: — Это офицеръ нашего полка!.. Кто бы это могъ быть?.. Ужъ не капитанъ ли Болларъ… съ горя, что потерялъ своего дядю? Но нѣтъ, онъ его прямой наслѣдникъ. — Не баронъ ли Рандмеръ? Вчера онъ поставилъ на ставку свое имѣніе, но завтра же вернетъ его съ замкомъ противника въ придачу. — Быть можетъ это капитанъ Лори, у котораго утонула собака, или казначей Стункъ, которому измѣнила жена? — Однако во всѣхъ этихъ поводахъ я не нахожу ни малѣйшей уважительной причины къ самоубійству.
Толпа зрителей увеличивалась съ каждой минутой. Въ это время молодой человѣкъ, проѣзжавшій по пристани, примѣтилъ это стеченіе народа, соскочилъ съ лошади и, бросивъ поводья слѣдовавшему за нимъ слугѣ, вошелъ въ Спладгестъ.
Вновь прибывшій одѣтъ былъ въ простой дорожный костюмъ, вооруженъ саблей и закутанъ въ широкій зеленый плащъ. Черное перо, прикрѣпленное къ его шляпѣ брильянтовымъ аграфомъ, ниспадало на его благородное лицо и колыхлось надъ его высокимъ лбомъ, обрамленномъ длиннымя каштановыми волосами; его забрызганные грязью сапоги и шпоры свидѣтельствовали, что онъ прибылъ издалека.
Когда онъ вошелъ въ Спладгестъ, какой-то малорослый приземистый человѣкъ, закутанный тоже въ плащъ и пряча свои руки въ огромныхъ перчаткахъ, спрашивалъ солдата:
— А кто тебѣ сказалъ, что онъ самоубійца? Что онъ не самъ покончилъ съ собой, это также вѣрно, какъ то, что крыша вашего собора не загорѣлась сама собой.
Подобно тому, какъ обоюдоострый мечъ наноситъ двойную рану, такъ и эти слова породили два отвѣта.
— Нашъ соборъ! — повторилъ Ніэль: — Его кроютъ теперь мѣдью. Говорятъ, что это злодѣй Ганъ поджегъ его, чтобы доставить работу рудокопамъ, среди которыхъ находился его любимецъ Жилль Стадтъ.
— Что за чортъ! — вскричалъ въ свою очередь солдатъ: — Кто смѣетъ спорить со мной, со мной, вторымъ стрѣлкомъ Мункгольмскаго гарнизона, что этотъ человѣкъ не пустилъ себѣ пулю въ лобъ?
— Этотъ человѣкъ былъ убитъ, — холодно возразилъ малорослый субъектъ.
— Скажите на милость, какой оракулъ! Отваливай, твои маленькiе сѣрые глазки видятъ такъ же зорко, какъ и руки въ этихъ длинныхъ перчаткахъ, въ которыя ты прячешь ихъ среди лѣта.
Глаза незнакомца сверкали.
— Ну, служба, моли своего патрона, чтобы эти руки не оставили въ одинъ прекрасный день своего отпечатка на твоей рожѣ.
— А, посмотримъ! — вскричалъ солдатъ, вспыхнувъ отъ гнѣва, но вдругъ сдержалъ себя и добавилъ: — Нѣтъ, не слѣдъ говорить о поединкѣ при мертвыхъ.
Малорослый человѣкъ пробормоталъ что-то на незнакомомъ языкѣ и замѣшался въ толпу.
— Его нашли на Урхтальскихъ берегахъ, — произнесъ чей-то голосъ.
— На Урхтальскихъ берегахъ? — повторилъ солдатъ: — Капитанъ Диспольсенъ долженъ былъ высадиться тамъ сегодня утромъ, возвращаясь изъ Копенгагена.
— Капитана Диспольсена еще нѣтъ въ Мункгольмѣ.
— Говорятъ, что Ганъ Исландецъ скитается на этихъ берегахъ.
— Въ такомъ случаѣ весьма возможно, что это капитанъ, замѣтилъ солдатъ: — если Ганъ отправилъ его на тотъ свѣтъ. Кому неизвѣстна проклятая манера Исландца убивать свои жертвы такъ, чтобы онѣ имѣли видъ самоубійцъ.
— Каковъ изъ себя этотъ Ганъ? — спросилъ кто-то изъ толпы.
— Великанъ, — отвѣчалъ одинъ.
— Карликъ, — поправилъ другой.
— Развѣ его никто не видѣлъ?
— Тотъ, кто видѣлъ его въ первый разъ, видѣлъ его въ послѣдній.
— Шш! — сказала старая Олли. — Говорятъ, только троимъ удалось перекинуться съ нимъ человѣческимъ словомъ: это окаянному Спіагудри, вдовѣ Стадтъ и бѣднягѣ Жиллю, который лежитъ теперь здѣсь. Шш!
— Шш! — послышалось со всѣхъ сторонъ.
— Ну, — вдругъ вскричалъ солдатъ: — теперь я убѣжденъ, что это капитанъ Диспольсенъ. Я узнаю стальную цѣпь, которую подарилъ ему при отъѣздѣ нашъ узникъ, старый Шумахеръ.
Молодой человѣкъ съ чернымъ перомъ поспѣшно вмѣшался:
— Ты дѣйствительно увѣренъ, что это капитанъ Диспольсенъ?
— Клянусь Вельзевуломъ, это онъ! — отвѣтилъ солдатъ.
Молодой человѣкъ быстро вышелъ изъ Спладгеста.
— Ступай, найми лодку въ Мункгольмъ, — приказалъ онъ слугѣ.
— Но, сударь, а какъ же генералъ?
— Ты отведешь къ нему лошадей, завтра же я самъ буду у него. Кажется, я воленъ поступить, какъ мнѣ заблагоразсудится… Ступай, скоро ужъ вечеръ, а мнѣ дорога каждая минута. Лодку!
Слуга повиновался и нѣсколько минутъ слѣдилъ глазами за своимъ юнымъ господиномъ, который удалялся отъ берега.
II
Читатель знаетъ уже, что дѣйствіе нашего разсказа происходитъ въ Дронтгеймѣ, одномъ изъ четырехъ наиболѣе значительныхъ городовъ Норвегіи, хотя и не служившемъ резиденціей вице-короля.
Въ 1699 году — время дѣйствія нашего разсказа — Норвежское королевство было еще соединено съ Даніей и управлялось вице-королями, жившими въ Бергенѣ, столицѣ, далеко превосходящей Дронтгеймъ величиною, мѣстоположениемъ и красотой, не взирая на пошлое названіе, которымъ окрестилъ ее знаменитый адмиралъ Тромпъ.
Со стороны залива, отъ котораго Дронтгеймъ получилъ свое названіе, городъ представлялъ привлекательное зрѣлище. Гавань, достаточно широкая, хотя корабли и не всегда могли проникать въ нее безъ затрудненія, представляла собою родъ длиннаго канала, уставленнаго съ правой стороны судами датскими и норвежскими, съ лѣвой же — иностранными кораблями — дѣленіе, предписанное королевскимъ указомъ. Въ глубинѣ залива виднѣлся городъ, расположенный на прекрасно обработанной равнинѣ и высившійся надъ окрестностями длинными шпицами своего собора.
Эта церковь — одинъ изъ лучшихъ образцовъ готической архитектуры, насколько можно судить по книгѣ Шонинга, котораго съ такимъ ученымъ видомъ цитировалъ Спіагудри и который описалъ соборъ, прежде чѣмъ частые пожары успѣли обезобразить его, — церковь эта имѣла на своемъ главномъ шпицѣ епископальный крестъ — отличительный знакъ собора, принадлежавшего лютеранской епископіи Дронтгейма. Въ синеватой дали за городомъ рисовались бѣлоснѣжныя, льдистыя вершины Кольскихъ горъ, похожія на остроконечный бордюръ античной короны.
Посреди гавани, на разстояніи пушечнаго выстрѣла отъ берега одиноко высилась на грудѣ скалъ, омываемыхъ морскими волнами, крѣпость Мункгольмъ, мрачная тюрьма, заключавшая тогда въ своихъ стѣнахъ узника, знаменитаго блескомъ своего продолжительнаго могущества и своимъ быстрымъ паденіемъ.
Шумахеръ, вышедшій изъ низкаго сословія, былъ осыпанъ милостями своего монарха, затѣмъ съ кресла великаго канцлера Даніи и Норвегіи попалъ на скамью измѣнниковъ, былъ возведенъ на эшафотъ и изъ милости брошенъ въ уединенную темницу, вдали отъ обоихъ королевствъ. Тѣ люди, которыхъ онъ самъ вывелъ изъ ничтожества, теперь низвергли его, не давъ даже права жаловаться на неблагодарность. Могъ ли онъ жаловаться, видя какъ ломаются подъ его ногами тѣ ступени, которыя онъ самъ воздвигалъ для своего возвышенія?
Основатель дворянскаго сословія Даніи видѣлъ изъ глубины своей темницы, какъ вельможи, созданные имъ, дѣлили промежъ себя его собственныя почести. Графъ Алефельдъ, его смертельный врагъ, наслѣдовалъ его канцлерское достоинство; генералу Аренсдорфу, какъ великому маршалу, достались воинскія почести; епископъ Споллисонъ сдѣлался попечителемъ университета. Единственный изъ его враговъ, который не былъ ему обязанъ своимъ возвышеніемъ, — это графъ Ульрикъ Фредерикъ Гульденлью, вице-король Норвегіи, побочный сынъ короля Фредерика III. Онъ былъ великодушнѣе всѣхъ.
Къ этой-то мрачной Мункгольмской скалѣ медленно приближалась лодка молодаго человѣка съ чернымъ перомъ.
Солнце быстро опускалось къ горизонту за массу крѣпости, которая прерывала его лучи, падавшіе столь отлого, что крестьянинъ на отдаленныхъ восточныхъ холмахъ Ларсиниа могъ слѣдить за двигавшейся передъ нимъ по верестняку не ясной тѣнью часоваго, расхаживавшаго на самой высокой башнѣ Мункгольма.
III
Эндрю, распорядись, чтобы черезъ полчаса подали сигналъ къ тушенію огня. Серсиллъ смѣнитъ Дукнесса у главной подъемной рѣшетки, а Мальдивій пусть станетъ на платформѣ большой башни. Необходимъ строжайшій надзоръ со стороны башни Шлезвигскаго Льва. Не забудьте также въ семь часовъ выстрѣлить изъ пушки, чтобы подняли цѣпь въ гавани… нѣтъ, нѣтъ, я забылъ, что ждутъ капитана Диспольсена. Напротивъ, надо зажечь маякъ и посмотрѣть, горитъ ли Вальдерлонгскій; объ этомъ уже послано туда приказаніе, — а главное, чтобы была готова закуска для капитана. Ну теперь все, ахъ нѣтъ, чуть не забылъ посадить на два дня подъ арестъ втораго стрѣлка Торикъ Бельфаста, который пропадалъ гдѣ-то цѣлый день.
Эти приказанія отдавалъ сержантъ подъ черными, закоптѣлыми сводами Мункгольмской гауптвахты, находившейся въ низкой башнѣ, высившейся надъ главными воротами крѣпости.
Солдаты, къ которымъ онъ обращался, бросали игру или поднимались съ коекъ, спѣша исполнить приказанія, и на гауптвахтѣ водворилась тишина.
Черезъ минуту мѣрный плескъ веселъ послышался со стороны залива.
— Ну, должно быть это капитанъ Диспольсенъ, — пробормоталъ сержантъ, открывая маленькое рѣшетчатое окошко, выходившее на заливъ.
Лодка дѣствительно причалила къ желѣзнымъ воротамъ крѣпости.
— Кто тамъ? — окликнулъ сержантъ хриплымъ голосомъ.
— Отвори! — былъ отвѣтъ: — Миръ и безопасность.
— Входъ воспрещенъ: есть ли у васъ пропускъ?
— Есть.
— А вотъ посмотримъ. Если же вы налгали, клянусь всѣми святыми, я заставлю васъ отвѣдать воды залива.
Затѣмъ отвернувшись и закрывъ окошко, онъ прибавилъ:
— Однако это не капитанъ!
Свѣтъ блеснулъ за желѣзными воротами; ржавые запоры заскрипѣли, засовы были подняты и пріотворивъ калитку, сержантъ принялся разсматривать пергаментъ, предъявленный ему вновь прибывшимъ.
— Проходите, — проговорилъ онъ: — позвольте, впрочемъ, — прибавилъ онъ поспѣшно: — вамъ надо оставить здѣсь брильянтовую пряжку вашей шляпы, такъ какъ въ государственныя тюрьмы нельзя входить съ драгоцѣнными украшеніями. Въ регламентѣ ясно сказано, что только «король и члены королевской фамиліи, вице-король и члены его фамиліи, епископъ и командиры гарнизона исключаются изъ этого правила». Вы навѣрно не обладаете ни однимъ изъ этихъ титуловъ?
Молодой человѣкъ безъ возраженій отстегнулъ пряжку и кинулъ ее вмѣсто платы рыбаку, который доставилъ его къ крѣпости. Лодочникъ, опасаясь, чтобы онъ не раскаялся въ своей щедрости, поспѣшилъ широкимъ пространствомъ моря отдѣлить благодѣяніе отъ благодѣтеля.
Между тѣмъ какъ сержантъ, ворча на неблагоразуміе правительства, злоупотребляющаго правомъ входа въ государственныя тюрьмы, задвигалъ тяжелые засовы и мѣрный стукъ его ботфортъ раздавался на ступеняхъ лѣстницы, ведшей на гауптвахту, молодой человѣкъ, перекинувъ плащъ черезъ плечо, быстрыми шагами прошелъ подъ черными сводами низкой башни, миновалъ длинный плацъ-парадъ и артиллерійскій паркъ, гдѣ находилось нѣсколько старыхъ негодныхъ кулевринъ [3], которыя можно видѣть теперь въ Копенгагенскомъ музеѣ. Предупрежденный окликомъ часоваго, онъ подошѣлъ къ подъемной рѣшеткѣ, которая поднята была для осмотра его пропуска.
Отсюда, въ сопровожденіи солдата, онъ ни минуты не задумываясь и какъ бы хорошо знакомый съ мѣстностью, направился по діагонали одного изъ четырехъ квадратныхъ дворовъ, примыкавшихъ по бокамъ къ главному круглому двору, посреди котораго высилась обширная и круглая скала съ башней подъ названіемъ Замка Шлезвигскаго Льва и гдѣ заключенъ былъ своимъ братомъ Рольфомъ-Карликомъ герцогъ Шлезвигскій, Джоатамъ Левъ.
Мы не станемъ описывать здѣсь Мункгольмской башни, тѣм болѣе, что читатель, заключенный въ государственную тюрьму, пожалуй станетъ опасаться, что оттуда нельзя спастись черезъ садъ. Опасеніе напрасное, такъ какъ замокъ Шлезвигскаго Льва, назначенный для высоко поставленныхъ узниковъ, между прочими удобствами доставлялъ имъ возможность прогуливаться въ довольно обширномъ запущенномъ саду, гдѣ среди скалъ вокругъ высокой тюрьмы и въ оградѣ крѣпостныхъ стѣнъ росли кусты остролиста, нѣсколько старыхъ тиссовъ и черныхъ сосенъ.
Поровнявшись съ подошвой круглой скалы, молодой человѣкъ взошелъ по грубо вырубленнымъ въ ней ступенямъ, которыя вели къ одной изъ башенъ ограды, служившей входомъ въ центральное зданіе. Тутъ онъ громко затрубилъ въ мѣдный рогъ, полученный имъ у часоваго опускной рѣшетки.
— Отворите, отворите! — съ живостью закричалъ голосъ изнутри. — Это навѣрно окаянный капитанъ!..
Дверь отворилась в вновь прибывшій, войдя въ плохо освѣщенную комнату готической архитектуры, примѣтилъ молодого офицера, небрежно развалившагося на грудѣ плащей и оленьихъ шкуръ, близъ одного изъ тѣхъ ночниковъ съ тремя рожками, которые наши предки подвѣшивали къ розеткамъ потолка, но который въ эту минуту стоялъ на полу. Богатство и изысканная роскошь его костюма составляли разительный контрастъ съ голыми стѣнами и топорной мебелью комнаты.
Не выпуская книги изъ рукъ, онъ полуобернулся къ вошедшему.
— Это вы, капитанъ? Добро пожаловать! Безъ сомнѣнія вы не предполагали, что заставляете ждать человѣка, не имѣющаго чести васъ знать, но мы скоро познакомимся поближе, не правда ли? На первыхъ порахъ дозвольте мнѣ выразить вамъ мое искреннее сожалѣніе, что вы вернулись въ этотъ гостепріимный замокъ. За тотъ недолгій промежутокъ времени, который я провелъ здѣсь, я сдѣлался такъ же веселъ, какъ и сова, прибитая вмѣсто пугала къ воротамъ башни. Клянусь дьяволомъ, когда я вернусь въ Копенгагенъ на свадьбу моей сестры, и четыре дамы изъ цѣлой сотни не признаютъ меня! Скажите, пожалуйста, не вышли ли изъ моды банты изъ красныхъ лентъ у подола кафтана? Не переведено ли какихъ нибудь новыхъ романовъ этой француженки, мадмуазель Скюдери? У меня теперь ея Клелія, которою навѣрно еще зачитываются въ Копенгагенѣ. Теперь, когда я томлюсь вдали отъ столькихъ прелестныхъ глазокъ, эта книга мое единственное утѣшеніе… потому что какъ ни хороши глазки нашей узницы, — вы знаете о комъ я говорю — они ничего не говорятъ моему сердцу. Ахъ! ужъ эти порученія родителя!.. Сказать по секрету, капитанъ, мой отецъ — пусть это останется между нами — поручалъ мнѣ… понимаете… приволокнуться за дочерью Шумахера. Но всѣ старанія мои пошли прахомъ: это не женщина, а прекрасная статуя; она плачетъ по цѣлымъ днямъ и не обращаетъ на меня ни малѣйшаго вниманія.
Молодой человѣкъ, не имѣвшій до сихъ поръ случая прервать болтовню словоохотливаго офицера, вскрикнулъ отъ удивленія.
— Что? Что вы сказали? Вамъ поручили обольстить дочь несчастнаго Шумахера?
— Обольстить! Пожалуй, если теперь такъ выражаются въ Копенгагенѣ, но тутъ самъ дьяволъ спасуетъ. Представьте себѣ, позавчера, находясь на дежурствѣ, я спеціально для нея надѣлъ роскошныя французскія брыжи, полученныя мною прямо изъ Парижа; ну и что-жъ бы вы думали, она ни разу не взглянула на меня, не смотря на то, что я раза три или четыре проходилъ чрезъ ея комнату, брянча новыми шпорами, колесцо которыхъ будетъ пошире ломбардскаго червонца. Это вѣдь самый новѣйшій фасонъ, не правда-ли?
— Боже мой! — прошепталъ молодой человѣкъ, сжимая голову руками: — это ужасно!
— Не правда-ли? — подхватилъ офицеръ, ложно истолковавъ смыслъ этого восклицанія: — Ни малѣйшаго вниманія ко мнѣ! Невѣроятно, а между тѣмъ сущая правда!
Страшно взволнованный, молодой человѣкъ заходилъ по комнате большими шагами.
Не хотите ли перекусить, капитанъ Диспольсенъ? — крикнулъ ему офицеръ.
Молодой человѣкъ опомнился.
— Я вовсе по капитанъ Диспольсенъ.
— Что! — вскричалъ офицеръ грубымъ тономъ, поднявшись съ своего ложа: — Но кто же вы, если осмѣлились проникнуть сюда, въ такой часъ?
Молодой человѣкъ развернулъ свой пропускъ.
— Мнѣ надо видѣть графа Гриффенфельда… я хочу сказать, вашего узника.
— Графа! Графа! — пробормоталъ офицеръ недовольнымъ тономъ: — Однако, бумаги ваши въ порядкѣ, за подписью вице-канцлера Груммонда Кнуда: «Предъявитель сего имѣетъ право во всякое время дня и ночи входить во всѣ государственныя тюрьмы». Груммондъ Кнудъ — братъ старшаго генерала Левина Кнуда, губернатора Дронтгейма, и вы должны знать, что этотъ старый воинъ воспиталъ моего будущаго зятя…
— Очень вамъ благодаренъ, поручикъ, за эти семейныя тайны. Но, быть можетъ вы и безъ того слишкомъ много распространялись о нихъ?
— Грубіянъ правъ, — подумалъ поручикъ, закусивъ себѣ губы: — Эй! Тюремщикъ! Тюремщикъ! Проводи этого господина къ Шумахеру, да не ворчи, что я отцѣпилъ у тебя ночникъ о трехъ рожкахъ съ одной свѣтильней. Мнѣ интересно было разсмотрѣть поближе вещицу временъ Скіольда-Язычника или Гавара-Перерубленнаго, и къ тому же теперь вѣшаютъ на потолокъ только хрустальныя люстры.
Между тѣмъ какъ молодой человѣкъ и его проводникъ проходили по уединенному саду крѣпости, поручикъ — эта жертва моды — снова принялся упиваться любовными похожденіями амазонки Клеліи и Горація Криваго.
IV
Между тѣмъ слуга съ двумя лошадьми въѣхалъ на дворъ дома дронтгеймскаго губернатора. Соскочивъ съ сѣдла и тряхнувъ головой съ недовольнымъ видомъ, онъ хотѣлъ было отвести лошадей въ конюшню, какъ вдругъ кто то схватилъ его за руку и спросилъ:
— Что это! Ты одинъ, Поэль! А гдѣ же твой баринъ? Куда онъ дѣвался?
Этотъ вопросъ сдѣланъ былъ старымъ генераломъ Левиномъ Кнудомъ, который, примѣтивъ изъ окна слугу молодого человѣка, поспѣшилъ выйти на дворъ. Устремивъ на слугу испытующій взоръ, онъ съ безпокойствомъ ждалъ его отвѣта.
— Ваше превосходительство, — отвѣтилъ Поэль съ почтительнымъ поклономъ: — моего барина нѣтъ уже въ Дронтгеймѣ.
— Какъ! Онъ былъ здѣсь и уѣхалъ, не повидавшись со мной, не обнявъ своего стараго друга! Давно онъ уѣхалъ?
— Онъ пріѣхалъ и уѣхалъ сегодня вечеромъ.
— Сегодня вечеромъ!.. сегодня вечеромъ!.. Но, гдѣ же онъ остановился? Куда отправился?
— Онъ сошелъ съ коня на пристани у Спладгеста и переправился въ Мункгольмъ.
— А!.. Кто бы могъ думать, что онъ такъ близко… Но зачѣмъ его понесло въ замокъ? Что онъ дѣлалъ въ Спладгесте? Вотъ по истинѣ странствующій рыцарь! А виноватъ въ этомъ все я: къ чему было давать ему такое воспитаніе? Мнѣ хотѣлось, чтобы онъ былъ свободенъ, не смотря на свое сословіе…
— Ну, нельзя сказать, чтобы онъ былъ рабомъ этикета, — замѣтилъ Поэль.
— Да, но за то онъ рабъ своихъ прихотей. Однако, тебѣ пора отдохнуть, Поэль… Скажи мнѣ,- вдругъ спросилъ генералъ, на лицѣ котораго появилось озабоченное выраженіе: — скажи мнѣ, Поэль, порядкомъ вы колесили?
— Нѣтъ, генералъ, мы прибыли сюда прямо изъ Бергена. Мой баринъ былъ не въ духѣ.
— Не въ духѣ! Что бы это могло произойти у него съ родителемъ? Можетъ быть ему не по душѣ этотъ бракъ?
— Не знаю, но говорятъ, что его свѣтлость настаиваетъ на этомъ бракѣ.
— Настаиваетъ! Ты говоришь, Поэль, что вице-король настаиваетъ? Но если онъ настаиваетъ, значитъ Орденеръ противится.
— Не могу знать, ваше превосходительство, только мой баринъ былъ не въ духѣ.
— Не въ духѣ? Знаешь ты, какъ принялъ его отецъ?
— Въ первый разъ — это было въ лагерѣ близъ Бергена — его свѣтлость сказалъ ему: «Я не часто вижу васъ, сынъ мой.» — «Тѣмъ отраднѣе для меня, государь и отецъ мой», отвѣтилъ мой баринъ: «если вы это замѣчаете». Затѣмъ онъ представилъ его свѣтлости подробный отчетъ о своихъ поѣздкахъ по сѣверу и вице-король одобрилъ ихъ. На другой день, вернувшись изъ дворца, мой баринъ сказалъ мнѣ: «меня хотятъ женить; но сперва мнѣ необходимо повидаться съ генераломъ Левиномъ, моимъ вторымъ отцомъ». Я осѣдлалъ лошадей и вотъ мы здѣсь.
— Правда ли, мой добрый Поэль, — спросилъ генералъ голосомъ, дрожащимъ отъ волненія: — онъ назвалъ меня своимъ вторымъ отцомъ?
— Точно такъ, ваше превосходительство.
— Горе мнѣ, если этотъ бракъ не пришелся ему по сердцу! Я готовъ скорѣе впасть въ немилость у короля, чѣмъ дать свое согласіе. А между тѣмъ — дочь великаго канцлера обоихъ королевствъ!.. Да кстати, Поэль! Извѣстно Орденеру, что его будущая теща, графиня Альфельдъ, со вчерашняго дня находится здѣсь инкогнито и что сюда же ждутъ самого графа?
— Я не слыхалъ объ этомъ, генералъ.
— О! — пробормоталъ старый губернаторъ: — Онъ должно быть знаетъ объ этомъ, если съ такой поспѣшностью оставилъ городъ.
Благосклонно махнувъ рукою Поэлю и отдавъ честь часовому, который сдѣлалъ ему на караулъ, генералъ, еще болѣе озабоченный, вернулся въ свое жилище.
V
Когда тюремщикъ, пройдя винтовыя лѣстницы и высокія комнаты башни Шлезвигскаго Льва, открылъ наконецъ дверь камеры, которую занималъ Шумахеръ, первыя слова коснувшіяся слуха молодого человѣка были:
— Вотъ наконецъ и капитанъ Диспольсенъ.
Старикъ, произнесшій эти слова, сидѣлъ спиною къ двери, облокотившись на рабочій столъ и поддерживая лобъ руками. Онъ одѣтъ былъ въ шерстяную черную симарру; а въ глубинѣ комнаты надъ кроватью виднѣлся разбитый гербовый щитъ, вокругъ котораго порванныя цѣпи орденовъ Слона и Даннеброга; опрокинутая графская корона была прикрѣплена подъ щитомъ и два обломка жезла, сложенные на крестъ, дополнили собою эти странныя украшенія. — Старикъ былъ Шумахеръ.
— Нѣтъ, это не капитанъ, — отвѣтилъ тюремщикъ и, обратившись к молодому человѣку, добавилъ: — вотъ узникъ.
Оставивъ ихъ наединѣ, онъ захлопнулъ дверь, не слыхавъ словъ старика, который замѣтилъ рѣзкимъ тономъ:
— Я никого не хочу видѣть, кромѣ капитана.
Молодой человѣкъ остановился у дверей; узникъ, ни разу не обернувшись и думая, что онъ одинъ, снова погрузился въ молчаливую задумчивость.
Вдругъ онъ вскричалъ:
— Капитанъ навѣрно измѣнилъ мнѣ! Люди!.. Люди похожи на кусокъ льда, который арабъ принялъ за брильянтъ. Онъ тщательно спряталъ его въ свою котомку и когда хотѣлъ вынуть, то не нашелъ даже капли воды…
— Я не изъ тѣхъ людей, — промолвилъ молодой человѣкъ.
Шумахеръ быстро вскочилъ.
— Кто здѣсь? Кто подслушивалъ меня? Какой-нибудь презрѣнный шпіонъ Гульденлью?..
— Графъ, не злословьте вице-короля.
— Графъ! Если изъ лести вы такъ титулуете меня, ваши старанія безплодны. Я въ опалѣ.
— Тотъ, кто говоритъ съ вами, не зналъ васъ во время вашего могущества, но тѣмъ не менѣе онъ вашъ искренній другъ.
— И все-же, чего-нибудь хочетъ добиться отъ меня: память, которую хранятъ къ несчастнымъ, всегда измѣряется видами, которые питаютъ на нихъ въ будущемъ.
— Вы несправедливы ко мнѣ, благородный графъ. Я вспомнилъ о васъ, вы-же меня забыли. Я — Орденеръ.
Мрачные взоры старика сверкнули радостнымъ огнемъ. Невольная улыбка, подобная лучу, разсѣкающему тучи, оживила его лицо, обрамленное сѣдой бородой.
— Орденеръ! Добро пожаловать, скиталецъ Орденеръ! Тысячу кратъ благословенъ путникъ, вспомнившій узника!
— Однако, вы забыли меня? — спросилъ Орденеръ.
— Я забылъ васъ, — повторилъ Шумахеръ мрачнымъ тономъ: — какъ забываютъ вѣтерокъ, который, пролетая мимо, освѣжилъ насъ своимъ дуновеніемъ. Счастливы мы, что онъ не превратился въ ураганъ и не уничтожилъ насъ.
— Графъ Гриффенфельдъ, — возразилъ молодой человѣкъ: — развѣ вы не разсчитывали на мое возврашеніе?
— Старый Шумахеръ ни на что не разсчитываетъ. Но тутъ есть молодая дѣвушка, которая еще сегодня замѣтила мнѣ, что 8-го мая минулъ годъ съ тѣхъ поръ, какъ вы уѣхали.
Орденеръ вздрогнулъ.
— Какъ, великій Боже! Неужели ваша Этель, благородный графъ!
— А то кто-же?
— Ваша дочь, графъ, удостоила считать мѣсяцы со времени моего отъѣзда! О! Сколько печальныхъ дней провелъ я съ тѣхъ поръ! Я объѣздилъ всю Норвегію, оть Христіаніи вплоть до Вардхуза, но путь мой всегда направленъ былъ къ Дронтгейму.
— Пользуйтесь вашей свободой, молодой человѣкъ, пока есть возможность. Но скажите мнѣ наконецъ, кто вы? Мнѣ хотѣлось бы знать васъ, Орденеръ, подъ другимъ именемъ. Сынъ одного изъ моихъ смертельныхъ враговъ носитъ это имя.
— Быть можетъ, графъ, этотъ смертельный врагъ болѣе доброжелателенъ къ вамъ, чѣмъ вы къ нему.
— Вы не отвѣчаете на вопросъ. Но храните вашу тайну; можетъ быть я узнаю со временемъ, что плодъ, утоляющiй мою жажду, — ядъ, который меня убьетъ.
— Графъ! — вскричалъ Орденеръ раздражительно: — Графъ! — повторилъ онъ тономъ мольбы и укора.
— Могу-ли довѣриться вамъ, — возразилъ Шумахеръ: — когда вы постоянно держите сторону этого неумолимаго Гульденлью?..
— Вице-король, — серьезно перебилъ молодой человѣкъ: — только-что отдалъ приказаніе, чтобы впредь вы пользовались безусловной свободой внутри башни Шлезвигскаго Льва. Эту новость узналъ я въ Бергенѣ и безъ сомнѣнія вы немедленно получите ее здѣсь.
— Вот милость, на которую я не смѣлъ разсчитывать, о которой ни съ кѣмъ-бы не рѣшился говорить кромѣ васъ. Впрочемъ, тяжесть моихъ оковъ уменьшаютъ по мѣрѣ того, какъ возростаютъ мои лѣта, и когда старческая дряхлость певратитъ меня въ развалину, мнѣ скажутъ тогда: «ты свободенъ».
Говоря это, старикъ горько усмѣхнулся и продолжалъ:
— А вы, молодой человѣкъ, сохранили-ли вы ваши безумныя мечты о независимости?
— Въ противномъ случаѣ, я не былъ-бы здѣсь.
— Какимъ образомъ прибыли вы въ Дронтгеймъ?
— Очень просто! На лошади.
— А въ Мункгольмъ?
— На лодкѣ.
— Бѣдный безумецъ! Бредитъ о свободѣ и мѣняетъ лошадь на лодку. Свою волю приводитъ онъ въ исполненіе не своими членами, а при посредствѣ животнаго или вещи; а между тѣмъ кичится своей свободой!
— Я заставляю существа повиноваться мнѣ.
— Позволять себѣ властвовать надъ извѣстными существами — значитъ давать другимъ право властвовать надъ собой. Независимость мыслима лишь въ уединеніи.
— Вы не любите людей, достойный графъ?
Старикъ печально разсмѣялся.
— Я плачу о томъ, что я человѣкъ, я смѣюсь надъ тѣми, кто утѣшаетъ меня. Если вы еще не знаете, то убѣдитесь впослѣдствіи, что несчастіе дѣлаетъ человѣка недовѣрчивымъ, подобно тому, какъ удачи дѣлаютъ неблагодарнымъ. Послушайте, вы прибыли изъ Бергена, скажите мнѣ какой благопріятный вѣтеръ подулъ на капитана Диспольсена. Должно быть счастіе улыбнулось ему, если онъ забылъ меня.
Орденеръ пришелъ въ мрачное смущеніе.
— Диспольсенъ, графъ? Я нарочно прибылъ сюда поговорить съ вами о немъ. Зная, что онъ пользуется вашей довѣренностью…
— Моей довѣренностью? — съ безпокойствомъ прервалъ узникъ: — Вы ошибаетесь. Никто въ мірѣ не пользуется моей довѣренностью. Правда, въ рукахъ Диспольсена находятся мои бумаги, бумаги чрезвычайно важныя. По моей просьбѣ онъ отправился къ королю въ Копенгагенъ, и даже я долженъ признаться, что разсчитывалъ на него болѣе, чѣмъ на кого либо другого, такъ какъ во время моего могущества я не оказалъ ему ни малѣйшей услуги.
— Да, благородный графъ, я его видѣлъ сегодня…
— Ваше смущеніе подсказываетъ мнѣ остальное; онъ измѣнилъ.
— Онъ умеръ.
— Умеръ!
Узникъ скрестилъ свои руки, голова его упала на грудь. Затѣмъ, устремивъ взоръ на молодаго человѣка, онъ тихо произнесъ.
— Не говорилъ ли я вамъ, что счастіе улыбнулось ему!..
Обратившись къ стѣнѣ, на которой висѣли знаки его низвергнутаго величія, онъ махнулъ рукой, какъ бы для того, чтобы удалить свидѣтелей горя, которое онъ пытался побороть.
— Не о немъ скорблю я: однимъ человѣкомъ меньше или больше, не все ли равно; и не о себѣ: чего мнѣ терять? Но дочь моя, моя злополучная дочь!.. Я буду жертвой этого гнусного заговора, а тогда что станется съ дочерью, у которой отнимутъ отца?..
Онъ cъ живостью обернулся къ Орденеру.
— Каким образомъ онъ умеръ? Гдѣ вы его видѣли?
— Я виделъ его въ Спладгестѣ, но неизвѣстно, самъ-ли онъ покончилъ съ собою или былъ убитъ.
— А это чрезвычайно важно узнать. Если онъ былъ убитъ, я знаю откуда направленъ былъ ударъ, и тогда все пропало. Диспольсенъ везъ мнѣ доказательства заговора, затѣянного противъ меня; эти доказательства могли спасти меня и погубить моихъ враговъ… Они сумѣли ихъ уничтожить!.. Несчастная Этель!..
— Графъ, — сказалъ Орденеръ: — завтра я скажу вамъ какимъ образомъ онъ умеръ.
Не отвѣтивъ ни слова, Шумахеръ проводилъ выходившаго изъ комнаты Орденера взоромъ, выражавшимъ такое спокойствіе отчаянія, которое ужаснѣе спокойствія смерти.
Очутившись за дверью комнаты узника, Орденеръ не зналъ въ какую сторону ему направиться. Ночь наступила, и въ башнѣ царила темнота.
Отворивъ на удачу первую попавшуюся дверь, онъ вошелъ въ длинный коридоръ, освѣщенный лишь луной, по которой быстро пробѣгали блѣдныя облака. Ея печальный свѣтъ падалъ по временамъ на узкія высокія окна, рисуя на противоположной стѣнѣ какъ бы длинную процессію призраковъ, которые разомъ являлись и исчезали въ глубинѣ галереи.
Молодой человѣкъ медленно перекрестился и направился на красноватый свѣтъ, слабо мерцавшій въ концѣ коридора.
Дверь была полуоткрыта. Молодая дѣвушка, колѣнопреклоненная передъ простымъ алтаремъ въ готической молельнѣ, читала въ полголоса молитвы Святой Дѣвѣ, молитвы простодушныя, но возвышенныя, въ которыхъ душа, возносясь къ Матери всѣхъ скорбящихъ, просила только ея заступничества.
Молодая дѣвушка одѣта была въ черный крепъ и бѣлый газъ, какъ бы желая показать, что дни ея до сихъ поръ протекали въ горестяхъ и невинности. Несмотря на ея скромный костюмъ, на всемъ существѣ ея лежалъ отпечатокъ натуры исключительной. Ея глаза и длинные волосы были черны какъ смоль — красота рѣдкая на сѣверѣ; ея взоры, блуждавшіе по сводамъ часовни, казалось, скорѣе были воспламенены экстазомъ, чѣмъ потушены сосредоточенностью въ самой себѣ. Словомъ, это была дѣва съ береговъ Кипра или полей тибурскихъ, облеченная въ фантастическіе покровы Оссіана и распростершаяся предъ деревяннымъ крестомъ и каменнымъ алтаремъ Спасителя.
Узнавъ молящуюся, Ореденеръ вздрогнулъ и чуть не лишился чувствъ.
Она молилась за своего отца; молилась за низвергнутаго властелина, за старца узника и покинутаго всѣми, и громко прочла псаломъ освобожденія.
Она молилась и за другаго; но Орденеръ не слыхалъ имени того, за кого она молилась, не слыхалъ, такъ какъ она не произнесла этого имени; она прочла только гимнъ Суламиты, супруги, ожидающей супруга и возвращенія возлюбленнаго.
Орденеръ отошелъ отъ двери. Онъ благоговѣлъ передъ этой дѣвственницей, мысли которой летѣли къ нему; молитва — таинство великое, и сердце его невольно переполнилось невѣдомымъ, хотя и мірскимъ восхищеніемъ.
Дверь молельни тихо отворилась и на порогѣ появилась женщина, бѣлая въ окружающей ее темнотѣ. Орденеръ замеръ на мѣстѣ, страшное волненіе охватило все его существо. Отъ слабости онъ прислонился къ стѣнѣ, всѣ члены его дрожали и біеніе его сердца раздавалось въ его ушахъ.
Проходя мимо, молодая дѣвушка услышала шорохъ плаща и тяжелое, прерывистое дыханіе.
— Боже!.. — вскричала она.
Орденеръ кинулся къ ней; одною рукою поддержавъ молодую дѣвушку, онъ другою тщетно пытался удержать ночникъ, который выскользнулъ у нея изъ рукъ и потухъ.
— Это я, — нѣжно шепнулъ онъ.
— Орденеръ! — вскричала молодая дѣвушка, когда звукъ голоса, которого она не слыхала цѣлый годъ, коснулся ея слуха.
Луна, выглянувшая изъ-за облаковъ, освѣтила радостное лицо прекрасной дѣвушки. Робко и застѣнчиво освободившись изъ рукъ молодаго человѣка, она сказала:
— Это господинъ Орденеръ?
— Это онъ, графиня Этель…
— Зачемъ вы называете меня графиней?
— Зачѣмъ вы зовете меня господинъ?
Молодая дѣвушка замолчала и улыбнулась; молодой человѣкъ замолчалъ и вздохнулъ.
Этель первая прервала молчаніе:
— Какимъ образомъ очутились вы здѣсь?
— Простите, если мое присутствіе огорчаетъ васъ. Мнѣ необходимо было переговорить съ графомѣ, вашимъ отцомъ.
— И такъ, — сказала Этель взволнованнымъ тономъ: — вы пріѣхали сюда только для батюшки?
Орденеръ потупилъ голову: этотъ вопросъ показался ему слишкомъ жестокимъ.
— Безъ сомнѣнія, вы уже давно находитесь въ Дронтгеймѣ, - продолжала молодая дѣвушка укоризненнымъ тономъ: — ваше отсутствіе изъ этого замка не казалось для васъ продолжительнымъ.
Орденеръ, уязвленный до глубины души, не отвѣчалъ ни слова.
— Я одобряю васъ, — продолжала узница голосомъ, дрожавшимъ отъ гнѣва и печали: — но, добавила она нѣсколько надменно: — надѣюсь, что вы не слыхали моихъ молитвъ.
— Графиня, — отвѣчалъ наконецъ молодой человѣкъ: — я ихъ слышалъ.
— Ахъ, господинъ Орденеръ, нехорошо подслушивать такимъ образомъ.
— Я васъ не подслушивалъ, благородная графиня, — тихо возразилъ Орденеръ: — я васъ слышалъ.
— Я молилась за отца, продолжала молодая дѣвушка, не спуская съ него пристальнаго взора и какъ бы ожидая отвѣта на эти простыя слова.
Орденеръ хранилъ молчаніе.
— Я также молилась, — продолжала она, съ безпокойствомъ слѣдя, какое дѣйствіе провзводятъ на него ея слова: — я также молилась за человѣка, носящаго ваше имя, за сына вице-короля, графа Гульденлью. Надо молиться за всѣхъ, даже за враговъ нашихъ.
Этель покраснѣла, чувствуя, что сказала ложь; но она была раздражена противъ молодаго человѣка и думала, что назвала его въ своихъ молитвахъ, тогда какъ назвала его лишь въ своемъ сердцѣ.
— Орденеръ Гульденлью очень несчастливъ, благородная графиня, если вы считаете его въ числѣ вашихъ враговъ; но въ то же время онъ слишкомъ счастливъ, занимая мѣсто въ вашихъ молитвахъ.
— О! Нѣтъ, — сказала Этель, смущенная и испуганная холодностью молодаго человѣка: — нѣтъ, я не молилась за него… Я не знаю, что я дѣлала, что я дѣлаю. Я ненавижу сына вице-короля, я его не знаю. Не смотрите на меня такъ сурово: развѣ я васъ оскорбила? Неужели вы не можете простить бѣдной узницѣ, вы, который проводитъ жизнь подлѣ какой-нибудь прекрасной благородной женщины, такой же свободной и счастливой какъ и вы!..
— Я, графиня!.. — вскричалъ Орденеръ.
Этель залилась слезами; молодой человѣкъ кинулся къ ея ногамъ.
— Развѣ вы не говорили мнѣ, - продолжала она, улыбаясь сквозь слезы: — что ваше отсутствіе не казалось вамъ продолжительнымъ?
— Кто? Я, графиня?
— Не называйте меня такимъ образомъ, — тихо сказала она: — теперь я ни для кого уже не графиня, и тѣмъ болѣе для васъ…
Орденеръ съ живостью поднялся на ноги и не могъ удержаться, чтобы въ страстномъ порывѣ не прижать къ своей груди молодую дѣвушку.
— О! Моя обожаемая Этель, называй меня твоимъ Орденеромъ!.. — вскричалъ онъ, останавливая свой пламенный взоръ на заплаканныхъ глазахъ Этели: — Скажи, ты любишь меня?..
Отвѣта молодой дѣвушки не было слышно, такъ какъ Орденеръ, внѣ себя отъ восторга, сорвалъ съ ея губъ вмѣстѣ съ отвѣтомъ эту первую ласку, этотъ священный поцѣлуй, котораго предъ лицемъ Всевышняго достаточно для того, чтобы соединить на вѣки два любящія существа.
Оба остались безмолвны, находясь въ одномъ изъ тѣхъ торжественныхъ моментовъ, столь редкихъ и столь краткихъ на землѣ, когда душа какъ бы вкушаетъ нѣчто изъ небеснаго блаженства. Въ эти неизъяснимыя мгновенія двѣ души бесѣдуютъ между собою на языкѣ, понятномъ только для нихъ однѣхъ; тогда все человѣческое молчитъ, и два невещественныя существа таинственнымъ образомъ соединяются на всю жизнь въ этомъ мірѣ и на вѣки въ будущемъ.
Этель медленно освободилась изъ объятій Орденера и освѣщенные блѣднымъ свѣтомъ луны, они въ упоеніи смотрѣли другъ на друга. Пламенный взоръ молодаго человѣка сверкалъ мужественной гордостью и храбростью льва, между тѣмъ какъ полуоткрытый взоръ молодой дѣвушки исполненъ былъ тѣмъ смущеніемъ, той ангельской стыдливостью, которая въ сердцѣ дѣвственницы нераздѣльна съ восторгами первой любви.
— Сейчасъ, въ этомъ коридорѣ,- произнесла, наконецъ, Этель: — вы избѣгали меня, мой Орденеръ?
— Я не избѣгалъ васъ, я подобенъ былъ тому несчастному слѣпцу, который, когда послѣ долгихъ лѣтъ возвратилось къ нему зрѣніе, на минуту отворачивается отъ дневнаго свѣта.
— Ваше сравненіе болѣе подходитъ ко мнѣ, потому что во время вашего отсутствія мое единственное утѣшеніе заключалось въ моемъ несчастномъ отцѣ. Эти долгіе дни провела я, утѣшая его, и, — прибавила она, потупивъ глаза: — надѣясь на васъ. Я читала моему отцу сказанія Эдды, а когда онъ разочаровывался въ людяхъ, я читала ему Евангеліе, чтобы, по крайней мѣрѣ, онъ не терялъ вѣры въ небо; затѣмъ я говорила ему о васъ и онъ молчалъ — доказательство его любви къ вамъ. Но когда я по цѣлымъ вечерамъ безплодно просиживала у окна, смотря на дорогу, по которой проѣзжали путешественники, и на гавань, куда приплывали корабли, съ горькой улыбкой качалъ онъ головой и я плакала. Темница, гдѣ до сихъ поръ я провожу мои дни, стала мнѣ ненавистной, не смотря на то, что со мной былъ отецъ, который до вашего появленія составлялъ для меня все. Но васъ не было и я страстно жаждала невѣдомой для меня свободы.
Въ глазахъ молодой дѣвушки, въ ея простодушной нѣжности и миломъ запинаніи ея рѣчи дышала прелесть, невыразимая человѣческими словами. Орденеръ слушалъ ее съ мечтательнымъ наслажденіемъ существа, перенесеннаго изъ міра реальнаго въ міръ идеальный.
— А я, — сказалъ онъ: — теперь я не хочу той свободы, которую вы не можете раздѣлять со мной.
— Какъ, Орденеръ! — съ живостью спросила Этель: — Вы не оставите насъ болѣе?
Этотъ вопросъ напомнилъ молодому человѣку дѣйствительность.
— Милая Этель, я долженъ оставить васъ сегодня же. Завтра я снова увижусь съ вами и завтра же снова покину для того чтобы возвратившись, не покидать васъ болѣе.
— О! — вскричала съ тоской молодая дѣвушка: — Новая разлука!..
— Повторяю вамъ, моя ненаглядная Этель, что я скоро возвращусь, чтобы вывести васъ изъ этой тюрьмы или похоронить въ ней себя вмѣстѣ съ вами.
— Въ тюрьмѣ вмѣстѣ съ нимъ! — прошептала она. — О, не обманывайте меня. Могу ли я надѣяться на такое блаженство?
— Какихъ клятвъ нужно тебѣ? Чего ты отъ меня хочешь? — вскричалъ Орденеръ: — Скажи мнѣ, Этель, развѣ ты не жена моя?…
Въ увлеченіи страсти онъ крѣпко прижалъ ее къ своей груди.
— Твоя, — слабо прошептала она.
Два благородныхъ, чистыхъ сердца отрадно бились другъ противъ друга, дѣлаясь еще благороднѣе, еще чище.
Въ эту минуту грубый взрывъ хохота раздался позади ихъ. Человѣкъ, закутанный въ плащъ, открылъ потайной фонарь, который держалъ подъ полой, и вдругъ освѣтилъ фигуру испуганной и смущенной Этели и надменно изумленное лицо Орденера.
— Смѣлѣй, смѣлѣй, прекрасная парочка! Но мнѣ кажется, что слишкомъ мало проблуждавъ въ странѣ Нѣжности и не прослѣдовавъ по всѣмъ изгибамъ ручья Чувствъ, вы черезчуръ краткимъ путемъ достигли хижины Поцѣлуя.
Читатели, безъ сомнѣнія, узнали уже поручика, страстнаго поклонника мадмуазель Скюдери. Оторванный отъ чтенія Клеліи боемъ часовъ полночи, которыхъ не слыхали наши влюбленные, онъ отправился сдѣлать ночной обходъ башни.
Проходя въ глубинѣ восточнаго корридора, онъ услышалъ звукъ голосовъ и примѣтилъ два призрака, двигавшіеся въ галлереѣ на лунномъ свѣтѣ. По природѣ смѣлый и любопытный, онъ спряталъ подъ плащемъ свой фонарь, неслышными шагами приблизился къ привидѣніямъ и своимъ грубымъ хохотомъ потревожилъ ихъ сладостное упоеніе.
Въ первую минуту Этель хотѣла было бѣжать отъ Орденера, но затѣмъ, вернувшись къ нему и какъ бы инстинктивно ища защиты, спрятала свое вспыхнувшее личико на груди молодаго человѣка.
Орденеръ съ величіемъ короля поднялъ голову и сказалъ:
— Горе тому, кто осмѣлится потревожить и опечалить мою Этель!
— Вотъ именно, — сказалъ поручикъ: — горе мнѣ, если я имѣлъ неловкость испугать нѣжную Маидану.
— Господинъ поручикъ, — сказалъ Орденеръ надменнымъ тономъ: — я совѣтую вамъ молчать.
— Господинъ наглецъ, — отвѣчалъ офицеръ: — я совѣтую вамъ молчать.
— Послушайте! — вскричалъ Орденеръ громовымъ голосомъ: — понимаете ли вы, что только молчаніемъ вы можете заслужить себѣ прощеніе.
— Тіbі tuа [4], отвѣчалъ поручикъ: — возьмите назадъ свои совѣты и сами молчаніемъ заслужите мое прощеніе.
— Молчать! — вскричалъ Орденеръ голосомъ, отъ котораго дрогнули оконныя стекла и, опустивъ трепещущую молодую дѣвушку въ одно изъ старыхъ креселъ коридора, онъ крѣпко схватилъ руку офицера.
— О, мужикъ! — сказалъ поручикъ и насмѣшливо, и раздражительно: — Вы не примѣчаете, что рукава, которые вы такъ безбожно мнете, изъ самаго дорогого авиньонскаго бархата.
Орденеръ пристально взглянулъ на него.
— Поручикъ, мое терпѣніе гораздо короче моей шпаги.
— Понимаю, мой храбрый молодчикъ, — сказалъ офицеръ, иронически улыбаясь: — вамъ хотѣлось-бы, чтобы я оказалъ вамъ эту честь. Но знаете ли кто я? Нѣтъ, нѣтъ, какъ хотите, князь противъ князя, пастухъ противъ пастуха, какъ говорилъ прекрасный Леандръ.
— И если сказать трусъ противъ труса! — возразилъ Орденеръ: — То я все-же не имѣлъ-бы чести помѣряться съ вами.
— Я разсердился-бы, мой уважаемый пастушекъ, если-бы только вы носили мундиръ.
— У меня нѣтъ ни галуновъ, ни эксельбантовъ, поручикъ, но за то у меня есть сабля.
Молодой человѣкъ, гордо откинувъ плащъ за плечо, надѣлъ шляпу на голову и схватился за эфесъ своей сабли; но Этель, испуганная грозной опасностью, бросилась къ нему на шею съ крикомъ ужаса и мольбы.
— Вы поступаете благоразумно, прекрасная дѣвица, не желая, чтобы я проучилъ этого молодчика за его дерзость, — промолвилъ поручикъ, который безстрашно принялъ оборонительную позу при угрожающемъ движеніи Орденера: — такъ, какъ Киръ, поссорясь съ Камбизомъ, хотя быть можетъ я дѣлаю слишкомъ большую честь этому вассалу, сравнивая его съ Камбизомъ.
— Ради самаго неба, господинъ Орденеръ, — шептала Этель: — не дѣлайте меня причиной подобнаго несчастія?.. Орденеръ, — прибавила она, поднявъ на него свои прекрасные глаза: — умоляю тебя!..
Орденеръ медленно вложилъ въ ножны полуобнаженную саблю.
— Клянусь честью, рыцарь, — вскричалъ поручикъ: — я не знаю, имѣете-ли вы право на это званіе, но даю вамъ этотъ титулъ, такъ какъ мнѣ кажется, что вы его заслуживаете, — клянусь честью, мы поступаемъ согласно законамъ храбрости, но не рыцарства. Молодая дѣвица права, поединокъ, который чуть было не завязался у насъ, не долженъ происходить въ присутствіи дамъ, хотя не во гнѣвъ будь сказано прелестной дѣвицѣ, дамы могутъ быть причиной его. Теперь мы можемъ только условиться относительно duellum remotum [5] и, какъ обиженный, вы имѣете право назначить время, мѣсто и оружіе. Мой острый толедскій клинокъ или меридскій кинжалъ къ услугамъ вашей тяпки, вышедшей изъ кузницъ Ашкрота, или охотничьяго ножа, закаленнаго въ озерѣ Спарбо.
Отсроченный поединокъ, который офицеръ предложилъ Орденеру, пользуется правомъ гражданства на сѣверѣ, откуда, по мнѣнію ученыхъ, ведетъ свое начало обычай дуэли. Самые знатные вельможи предлагали и принимали duellum remotum. Поединокъ откладывался на нѣсколько мѣсяцевъ, иногда даже на нѣсколько лѣтъ и въ продолженіе этого промежутка времени противники обязаны были ни словомъ, ни дѣйствіемъ не касаться того, что послужило поводомъ къ вызову.
Такимъ образомъ, напримѣръ, въ любовной интригѣ, соперники не имѣли права видѣться съ предметомъ ихъ страсти, въ виду того, чтобы обстоятельства дѣла оставались въ одномъ и томъ-же положеніи, — и въ этомъ отношеніи полагались на рыцарскую честность. То-же самое происходило и на древнихъ турнирахъ, когда судьи поединка, считая законъ рыцарства нарушеннымъ, бросали жезлъ на арену, въ ту-же минуту сражающіеся останавливались, но, вплоть до разъясненія недоразумѣній, шпага побѣдителя ни на волосъ не отдѣлялась отъ шеи побѣжденнаго.
— Итакъ, рыцарь, — промолвилъ Орденеръ, послѣ минутнаго раздумья: — мой секундантъ увѣдомитъ васъ о мѣстѣ.
— Прекрасно, — отвѣчалъ поручикъ: — тѣмъ болѣе, что я до тѣхъ поръ успѣю побывать на бракосочетаніи моей сестры и такимъ образомъ вы будете имѣть честь драться съ шуриномъ благороднаго вельможи, сына вице-короля Норвегіи, барона Орденера Гульденлью, который, по случаю этого блестящаго союза, какъ говоритъ Артамена, получитъ титулъ графа Данескіольда, чинъ полковника и орденъ Слона; я же, какъ сынъ великаго канцлера обоихъ королевствъ, безъ сомнѣнія, буду произведенъ въ капитаны.
— Хорошо, хорошо, поручикъ Алефельдъ, — терпѣливо перебилъ Орденеръ: — но вы еще не капитанъ, сынъ вице-короля не полковникъ… а сабля всегда останется саблей.
— А мужикъ всегда мужикомъ, какъ-бы вы его ни шлифовали, — пробормоталъ сквозь зубы офицеръ.
— Рыцарь, — произнесъ Орденеръ: — вамъ должны быть извѣстны законы рыцарства. Вы не войдете болѣе въ эту башню и сохраните строжайшее молчаніе относительно сегодняшняго происшествія.
— Относительно молчанія, вы можете положиться на меня, я буду нѣмъ, какъ Муцій Сцевола, когда держалъ въ огнѣ свою руку. Въ башню тоже не будутъ ходить, ни я, ни одинъ изъ аргусовъ гарнизона, такъ какъ я только-что получилъ приказаніе оставить впредь Шумахера безъ надзора, приказаніе, которое я обязанъ былъ сообщить ему сегодня же вечеромъ, но не успѣлъ, провозившись съ новыми краковскими сапожками… Приказаніе, сказать между нами, довольно неблагоразумное… Хотите вы посмотрѣть мои сапожки?
Во время этого разговора Этель, убѣдившись, что противники успокоились, и не понимая, что значитъ duellum remotum, исчезла, тихо шепнувъ на ухо Орденеру:
— До завтра.
— Я бы попросилъ васъ, поручикъ Алефельдъ, чтобы вы помогли мнѣ выйти изъ крѣпости.
— Охотно, — отвѣчалъ офицеръ: — хотя уже довольно поздно, или лучше сказать очень рано. Но какимъ образомъ раздобудите вы лодку?
— Это ужъ моя забота, — возразилъ Орденеръ.
Дружески разговаривая, они прошли садъ, дворы круглый и квадратный, и Орденеръ, сопровождаемый дежурнымъ офицеромъ, нигдѣ не былъ задержанъ. Миновавъ большую опускную рѣшетку, артиллерійскій паркъ, плацъ-парадъ, они достигли низкой башни, желѣзная дверь которой была открыта по приказанію поручика.
— До свиданія, поручикъ Алефельдъ: — сказалъ Орденеръ.
— До свиданія, — отвѣчалъ офицеръ: — объявляю васъ храбрымъ бойцомъ, хотя не знаю кто вы и будутъ ли достойны титула секунданта тѣ, которыхъ вы приведете на мѣсто нашего поединка.
Размѣнявшись рукопожатіемъ, они разстались. Желѣзная дверь затворилась и поручикъ, напѣвая арію Люлли, возвратился въ свою комнату восхищатъся польскими сапогами и французскимъ романомъ.
Орденеръ, оставшись одинъ на порогѣ двери, скинулъ съ себя одежду, завернулъ ее въ свой плащъ и привязалъ къ головѣ сабельной портупеей. Затѣмъ, примѣняя на практикѣ идеи Шумахера о независимости, онъ кинулся въ холодныя, спокойныя воды залива и поплылъ въ темнотѣ къ берегу, направляясь въ сторону Спладгеста, почти увѣренный, что мертвый или живой онъ достигнетъ мѣста своего назначенія.
Дневныя усталости до такой степени изнурили его, что лишь съ большимъ трудомъ успѣлъ онъ выбраться на берегъ. Одѣвшись наскоро, онъ направился къ Спладгесту, черная масса котораго обрисовалась на портовой площади. Луны, закрытой облаками, не было видно.
Приблизившись къ зданію, онъ услыхалъ какъ бы звукъ голосовъ; слабый свѣтъ выходилъ изъ верхняго отверстія. Изумленный, онъ сильно постучалъ въ четырехугольную дверь, шумъ прекратился, свѣтъ исчезъ. Онъ снова постучался: свѣтъ вновь появился, позволивъ ему примѣтить что-то черное, проскользнувшее черезъ верхнее отверстіе и притаившееся на плоской крышѣ строенія. Орденеръ, ударивъ въ третій разъ рукоятью сабли, закричалъ:
— Именемъ его величества короля, отворите! Именемъ его свѣтлости вице-короля, отворите!
Дверь наконецъ медленно отворилась и Орденеръ очутился лицомъ къ лицу съ длинной, блѣдной и сухощавой фигурой Спіагудри. Одежда его была въ безпорядкѣ, глаза блуждали, волоса стояли дыбомъ. Въ окровавленныхъ рукахъ держалъ онъ надгробный свѣтильникъ, пламя котораго дрожало гораздо менѣе примѣтно, чѣмъ громадное тѣло Спіагудри.
VI
Часъ спустя послѣ ухода молодаго путешественника изъ Спладгеста, сумерки сгустились и толпа зрителей мало по-малу разошлась. Оглипиглапъ заперъ лицевую дверь мрачнаго зданія, а Спіагудри въ послѣдній разъ окатилъ водой трупы, лежавшіе на черныхъ плитахъ.
Затѣмъ оба разошлись по своимъ неприхотливымъ каморкамъ и между тѣмъ какъ Оглипиглапъ заснулъ на своемъ жесткомъ ложѣ, подобно трупамъ, ввѣреннымъ его надзору, почтенный Спіагудри, усѣвшись за каменнымъ столомъ, заваленнымъ древними книгами, высушенными растеніями и очищенными отъ мяса костями, углубился въ свои ученыя занятія, въ сущности весьма невиннаго свойства, но которыя составили ему въ народѣ репутацію волшебника и чародѣя — жалкій удѣлъ науки въ эту эпоху!
Въ теченіе нѣсколькихъ часовъ онъ оставался погруженнымъ въ глубокомысленныя размышленія и прежде чѣмъ промѣнять на постель свои книги, остановился на слѣдующемъ мрачномъ афоризмѣ Ториодуса Торфеуса:
«Когда человѣкъ зажигаетъ свѣтильникъ, смерть можетъ настичь его раньше, чѣмъ онъ успѣетъ его потушить…»
— Не во гнѣвъ будь сказано ученому доктору, — прошепталъ Спіагудри: — этого не случится сегодня съ мною.
Онъ взялъ ночникъ, намѣреваясь его потушить.
— Спіагудри! — закричалъ чей-то голосъ, выходившій изъ мертвецкой.
Старый смотритель Спладгеста вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, однако не отъ мысли, которая пришла бы въ голову быть можетъ всякому другому на его мѣстѣ, что печальные гости Спладгеста взбунтовались противъ своего хозяина. Онъ былъ довольно ученъ, чтобы не пугать себя такими воображаемыми ужасами. Его страхъ былъ не безоснователенъ, такъ какъ онъ отлично зналъ голосъ, назвавшій его по имени.
— Спіагудри! — снова послышался неистовый голосъ: — Неужели, чтобы вернуть тебѣ слухъ, я долженъ прійти оторвать уши?
— Да хранитъ святой Госпицій не мою душу, но тѣло! — пробормоталъ въ страхѣ старикъ.
Невѣрнымъ, колеблющимся шагомъ направился онъ ко второй боковой двери, которую поспѣшилъ открыть. Читатели не забыли, что эта дверь вела въ мертвецкую.
Ночникъ, находившійся у него въ рукахъ, освѣтилъ своеобразную, отвратительную картину. Съ одной стороны худощавая, длинная, слегка сгорбленная фигура Спіагудри; съ другой — малорослый субъектъ, плотный и коренастый, одѣтый съ ногъ до головы шкурами всевозможныхъ звѣрей, еще покрытыхъ пятнами подсохшей крови.
Онъ стоялъ у ногъ трупа Жилля Стадта, занимавшаго вмѣстѣ съ молодой дѣвушкой и капитаномъ глубину сцены. Эти три послѣдніе свидѣтеля, скрываясь въ полутемнотѣ, одни могли безъ содроганія ужаса смотрѣть на два живыя существа, начавшія разговоръ.
Черты лица малорослаго человѣка, котораго свѣтъ ночника заставилъ быстро обернуться, были запечатлѣны какой то особенной дикостью. Его борода была густая, рыжая; такого-же цвѣта волосы стояли щетиной надъ его лбомъ, покрытымъ шапкой изъ лосиной кожи. Ротъ широкій, губы толстыя, зубы бѣлые, острые, рѣдкіе, носъ загнутый, подобно орлиному клюву; сѣро-синіе глаза, чрезвычайно подвижные, искоса смотрѣли на Спіагудри и свирѣпость тигра, сверкавшая въ нихъ, умѣрялась лишь злостью обезьяны.
Это необыкновенное существо было вооружено широкой саблей, кинжаломъ безъ ноженъ и опиралось на длинную рукоятку топора съ каменнымъ лезвіемъ; на рукахъ его были огромныя перчатки изъ шкуры синей лисицы.
— Это старое привидѣніе порядкомъ заставило меня ждать, — пробормоталъ онъ, какъ-бы говоря самъ съ собою, и подобно лѣсному звѣрю испустилъ дикій ревъ.
Спіагудри поблѣднѣлъ бы отъ ужаса, если-бы только могъ блѣднѣть.
— Знаешь-ли ты, — продолжалъ малорослый человѣкъ, обращаясь непосредственно къ нему: — что я пришелъ сюда съ Урхтальскихъ береговъ? Можетъ быть ты хотѣлъ, заставляя меня ждать, перемѣнить свое соломенное ложе на одно изъ этихъ каменныхъ?
Спіагудри дрожалъ какъ въ пароксизмѣ лихорадки; послѣдніе два зуба, которые у него оставались, сильно застучали одинъ о другой.
— Простите, повелитель мой, — прошепталъ онъ, изгибая свое длинное туловище дугой къ ногамъ малорослаго незнакомца: — я крѣпко спалъ…
— Ты должно быть хочешь, чтобы я познакомилъ тебя съ сномъ, еще болѣе крѣпкимъ.
Лицо Спіагудри изобразило гримасу ужаса, которая одна была смѣшнѣе его веселыхъ гримасъ.
— Это что такое? — продолжалъ малорослый человѣкъ: — Что съ тобою творится? Можетъ быть тебѣ не нравится мое посѣщеніе?
— О! Повелитель и государь мой, — простоналъ старикъ: — что можетъ быть пріятнѣе для меня лицезрѣнія вашего превосходительства?
Усиліе, съ какимъ онъ пытался придать своей испуганной физіономіи радостное выраженіе, разсмѣшило-бы даже мертвеца.
— Старая безхвостая лисица, мое превосходительство приказываетъ тебѣ принести сюда одежду Жилля Стадта.
При этомъ имени на свирѣпомъ, насмѣшливомъ лицѣ малорослаго незнакомца появилось выраженіе мрачной тоски.
— О! Повелитель мой, простите меня, но это невозможно, — отвѣчалъ Спіагудри: — Вашей свѣтлости извѣстно, что мы обязаны доставлять въ королевскую казну пожитки умершихъ рудокоповъ, такъ какъ король наслѣдуетъ имъ въ качествѣ опекуна.
Малорослый человѣкъ обернулся къ трупу, скрестилъ руки на груди и произнесъ глухимъ голосомъ:
— Онъ правъ. Эти несчастные рудокопы похожи на гагу [6]. Имъ дѣлаютъ гнѣзда, чтобы потомъ воспользоваться ихъ пухомъ.
Поднявъ на руки трупъ и сильно прижавъ его къ своей груди, онъ испустилъ дикій крикъ любви и горести, подобный ворчанію медвѣдя, ласкающаго своего дѣтеныша. Къ этимъ безсвязнымъ звукамъ примѣшивались иногда слова на какомъ-то нарѣчіи, непонятномъ для Спіагудри.
Снова опустивъ трупъ на гранитную плиту, онъ обратился къ смотрителю Спладгеста:
— Извѣстно тебѣ, проклятый колдунъ, имя солдата, родившагося подъ злосчастной звѣздою и котораго эта женщина имѣла несчастіе предпочесть Жиллю?
Съ этими словами онъ толкнулъ холодные останки Гутъ Стерсенъ.
Спіагудри отрицательно покачалъ головой.
— Ну, клянусь топоромъ Ингольфа, родоначальника моего поколѣнія, я сотру съ лица земли всѣхъ, носящихъ этотъ мундиръ, — вскричалъ онъ, указывая на одежду офицера: — Тотъ, кому я хочу отомстить, попадется въ числѣ ихъ. Я сожгу цѣлый лѣсъ, чтобы уничтожить растущій въ немъ ядовитый кустарникъ. Въ этомъ поклялся я въ день смерти Жилля и уже доставилъ ему товарища, который долженъ развеселить его трупъ… О, Жилль! Ты лежишь теперь здѣсь безсильный, бездыханный, когда такъ недавно ты настигалъ тюленя вплавь, серну на бѣгу, задушилъ въ борьбѣ медвѣдя Кольскихъ горъ. Ты теперь недвижимъ, между тѣмъ какъ въ одинъ день пробѣгалъ Дронтгеймскій округъ, отъ Оркеля до Сміазенскаго озера, взбирался на вершины Дофрфильда подобно бѣлкѣ, карабкающейся на дубъ. Ты теперь нѣмъ, Жилль, а давно ли своимъ пѣніемъ заглушалъ раскаты грома, стоя на бурныхъ утесахъ Конгсберга. О, Жилль! Напрасно засыпалъ я для тебя шахты Фарöрскія, напрасно поджогъ Дронтгеймскій соборъ. Всѣ старанія мои пошли прахомъ, мнѣ не суждено было видѣть въ тебѣ продолженіе поколѣнія дѣтей Исландіи, потомства Ингольфа Истребителя. Ты не наслѣдуешь моего каменнаго топора, напротивъ, ты завѣщалъ мнѣ свой черепъ, чтобы отнынѣ я пилъ изъ него морскую воду и человѣческую кровь.
Съ этими словами, схвативъ голову трупа, онъ закричалъ:
— Спіагудри, помоги мнѣ!
Сбросивъ перчатки, онъ обнажилъ свои широкія руки, вооруженныя длинными ногтями, крѣпкими и загнутыми, какъ у краснаго звѣря.
Спіагудри, увидѣвъ, что онъ уже готовъ былъ сорвать саблей черепъ трупа, вскричалъ съ ужасомъ, котораго не могъ подавить:
— Праведный Боже! Повелитель мой!.. Мертваго!..
— Что же, — спокойно возразилъ малорослый незнакомецъ: — ты предпочитаешь, чтобы этотъ клинокъ вонзился въ живаго?
— О! Дозвольте мнѣ умолять ваши рыцарскія чувства… Развѣ можетъ ваша честь рѣшиться на такое святотатство?.. Ваше превосходительство… Государь мой, ваша свѣтлость не захочетъ…
— Скоро ли ты кончишь? Развѣ нужны мнѣ эти титулы, живой скелетъ, чтобы убѣдиться въ твоемъ глубокомъ уваженіи къ моей саблѣ.
— Именемъ святаго Вальдемара, святаго Усуфа, святаго Госпиція, заклинаю васъ, пощадите мертвеца!..
— Помоги мнѣ и не толкуй дьяволу про святыхъ.
— Государь мой, — продолжалъ Спіагудри умоляющимъ тономъ: — ради вашего знаменитаго предка, святаго Ингольфа!..
— Ингольфъ Истребитель былъ такой же отверженный, какъ и я.
— Заклинаю васъ небомъ, — простоналъ старикъ, падая передъ нимъ ницъ: — не навлекайте на себя его гнѣва.
Малорослый незнакомецъ вышелъ изъ терпѣнія. Его тусклые сѣрые глаза горѣли какъ два раскаленныхъ угля.
— Помоги мнѣ! — повторилъ онъ, взмахнувъ саблей.
Эти два слова сказаны были такимъ голосомъ, какимъ произнесъ бы ихъ левъ, если бы могъ говорить.
Смотритель Спладгеста, дрожащій и полумертвый отъ ужаса, опустился на черную плиту и поддерживалъ руками холодную и влажную голову Жилля, въ то время, какъ малорослый человѣкъ съ изумительнымъ проворствомъ снималъ черепъ съ помощью кинжала и сабли.
Когда эта операція была кончена, нѣсколько времени разсматривалъ онъ окровавленный черепъ, произнося странныя слова. Затѣмъ онъ вручилъ его Спіагудри, приказавъ вымыть и вычистить, и съ стономъ, похожимъ на вой, сказалъ:
— А я, умирая, я не найду утѣшенія въ мысли, что наслѣдникъ духа Ингольфа будетъ пить человѣческую кровь и морскую воду изъ моего черепа.
Послѣ минутнаго мрачнаго размышленія онъ продолжалъ:
— Ураганъ слѣдуетъ за ураганомъ, лавина влечетъ за собою лавину, а я, я буду послѣднимъ въ родѣ. Зачѣмъ Жилль, подобно мнѣ, не возненавидѣлъ все, что только носитъ человѣческій обликъ. Какой демонъ, враждебный демону Ингольфа, толкнулъ его въ эти роковыя шахты за крупинкой золота?
Спіагудри, возвращая ему черепъ Жилля, осмѣлился вставить свое замѣчаніе:
— Ваше превосходительство правы: по словамъ Снорро Стурлесона, золото часто покупается слишкомъ дорогою цѣной.
— Ты напомнилъ мнѣ, - сказалъ малорослый незнакомецъ: — порученіе, которое я долженъ возложить на тебя. Вотъ желѣзная шкатулка, которую я нашелъ у этого офицера, такъ что ты видишь, что тебѣ достались не всѣ его пожитки. Шкатулка такъ крѣпко заперта, что, должно быть, заключаетъ въ себѣ золото — единственная цѣнная вещь въ глазахъ людей. Отнеси ее вдовѣ Стадтъ въ деревушку Токтре, какъ плату за сына.
Съ этими словами онъ вынулъ изъ своей кожаной котомки маленькій желѣзный ящикъ. Спіагудри взялъ его и поклонился.
— Выполни въ точности мое приказаніе, — сказалъ малорослый человѣкъ, пронизывая его пристальнымъ взглядомъ: — Подумай, что ничто не въ силахъ воспрепятствовать свиданію двухъ демоновъ. На мой взглядъ, ты болѣе подлъ, чѣмъ жаденъ. Ты отвѣчаешь мнѣ за этотъ ящикъ…
— О, повелитель, моей душой…
— О, нѣтъ! Твоими костями и мясомъ.
Въ эту минуту въ лицевую дверь Спладгеста раздался сильный ударъ.
Малорослый незнакомецъ удивился, Спіагудри зашатался и закрылъ рукою ночникъ.
— Что это значитъ? — заворчалъ малорослый человѣкъ: — А ты, презрѣнный, какъ задрожишь ты, услышавъ трубный гласъ страшнаго суда?
Послышался второй болѣе сильный ударъ.
— Это какой нибудь мертвецъ торопится войти, — замѣтилъ собесѣдникъ Спіагудри.
— Нѣтъ, повелитель, — пробормоталъ смотритель Спладгеста: — послѣ полуночи сюда не приносятъ покойниковъ.
— Мертвый это или живой, а онъ меня прогоняетъ. Спіагудри, будь вѣренъ и нѣмъ. Клянусь тебѣ духомъ Ингольфа и черепомъ Жилля, ты увидишь на смотру въ своей гостинницѣ труповъ весь Мункгольмскій полкъ.
Малорослый незнакомецъ, привязавъ къ поясу черепъ Жилля и надѣвъ перчатки, съ легкостью серны прыгнулъ съ плечъ Спіагудри въ верхнее отверстіе и исчезъ.
Третій ударъ въ дверь потрясъ до основанія зданіе Спладгеста. Голосъ извнѣ приказывалъ отворить именемъ короля и вице-короля. Старый смотритель, волнуемый въ одно и то же время двумя различными страхами, изъ которыхъ одинъ можетъ назваться страхомъ воспоминанія, а другой — страхомъ надежды, направился къ четырехугольной двери и поспѣшилъ ее открыть.
VII
Оставивъ Поэля, дронтгеймскій губернаторъ возвратился въ свой кабинетъ и опустился въ широкое кресло. Чтобы разсѣять свою озабоченность, онъ приказалъ одному изъ секретарей доложить ему о прошеніяхъ, поступившихъ на его имя.
Секретарь, поклонившись, началъ:
«1. Преподобный докторъ Англивіусъ проситъ опредѣлить его на мѣсто преподобнаго доктора Фокстиппа, директора епископальной библіотеки, за неспособностью послѣдняго. Просителю неизвѣстно, кто бы другой могъ замѣстить упомянутаго неспособнаго доктора; онъ же, докторъ Англивіусъ, надо замѣтить, уже съ давнихъ поръ исправлялъ должность библіотек…»
— Направьте этого чудака къ епископу, — перебилъ генералъ.
«2. Пасторъ Атанасъ Мундеръ, тюремный духовникъ, проситъ о помилованіи двѣнадцати раскаявшихся осужденныхъ, по случаю именитой свадьбы его высочества Орденера Гульденлью, барона Торвика, кавалера ордена Даннеброга, сына вице-короля, съ благородной Ульрикой Алефельдъ, дочерью его сіятельства великаго канцлера обоихъ королевствъ».
— Отложите, — замѣтилъ генералъ. — Мнѣ жаль этихъ осужденныхъ.
«3. Фаустъ-Пруденсъ Дестромбидесъ, подданный норвежскій, поэтъ латинскій, проситъ соизволенія написать свадебную оду въ честь благородныхъ супруговъ».
— А! а! Этотъ поэтъ должно быть очень старъ, потому что еще въ 1674 году готовилъ оду въ честь союза, предполагавшагося, но не состоявшагося между Шумахеромъ, тогда графомъ Грифенфельдомъ, и принцессой Луизой-Шарлотой Гольштейнъ-Аугустенбургской… Боюсь, — пробормоталъ губернаторъ сквозь зубы: — чтобы Фаустъ-Пруденсъ не оказался поэтомъ расторгнутыхъ браковъ… Отложите и продолжайте. Надо справиться, не найдется ли для этого поэта свободной кровати въ дронтгеймскомъ госпиталѣ.
«4. Рудокопы Гульдбрансгаля, острововъ Фа-Рöрскихъ, Сундъ-Мöра, Губфалло, Рёрааса и Конгсберга просятъ освободить ихъ отъ королевской опеки».
— Эти рудокопы самый безспокойный народъ. Говорятъ, что они начинаютъ роптать, не получая скораго отвѣта на ихъ прошеніе. Надо подвергнуть его зрѣлому обсужденію.
«5. Брааль, рыбакъ, заявляетъ въ силу Одельсрехта [7] о непреклонномъ намѣреніи выкупить свое родовое имѣніе».
«6. Синдики Нöса, Лöвига, Индаля, Сконгена, Стода, Спарбо и другихъ городовъ и деревень Дронтгеймскаго сѣвернаго округа просятъ, чтобы назначена была премія за голову разбойника, убійцы и поджигателя Гана, родомъ, какъ говорятъ, изъ Клипстадуры въ Исландіи. — Протестуетъ противъ этой просьбы Николь Оругиксъ, палачъ Дронтгеймскаго округа, предъявляя свои права на Гана. Поддерживаетъ эту просьбу Бенигнусъ Спіагудри, смотритель Спладгеста, который долженъ получить трупъ».
— Этотъ разбойникъ очень опасенъ, — замѣтилъ генералъ: — особенно въ виду броженія среди рудокоповъ. Надо объявить за его голову премію въ тысячу королевскихъ экю.
«7. Бенигнусъ Спіагудри, медикъ, антикварій, скульпторъ, минералогъ, натуралистъ, ботаникъ, юристъ, химикъ, механикъ, физикъ, астрономъ, теологъ, грамматикъ…»
— Но развѣ это не тотъ Спіагудри, который занимаетъ мѣсто смотрителя Спладгеста? — перебилъ генералъ.
— Онъ самъ, ваше превосходительство, — отвѣтилъ секретарь и продолжалъ: — «…смотритель, по волѣ Его Величества, учрежденія, именуемаго Спладгестъ, въ королевскомъ городѣ Дронтгеймѣ, считаетъ долгомъ поставить на видъ, что именно онъ, Бенигнусъ Спіагудри, открылъ, что такъ называемыя неподвижныя звѣзды не освѣщаются звѣздою, именуемою солнцемъ; itеm [8], что настоящее имя Одина Фригге, сынъ Фридульфа; іtеm, что морская змѣя питается пескомъ; іtеm, шумъ народонаселенія отгоняетъ рыбу отъ береговъ Норвегіи, такъ что средства къ пропитанію уменьшаются пропорціонально возрастанію числа жителей; іtеm, что заливъ, называемый Отте-Сундъ, прежде извѣстенъ былъ подъ именемъ Лимфіорда и получилъ названіе Отте-Сунда, послѣ того какъ Отонъ Рыжій бросилъ въ него свое копье; іtеm, что по его указаніямъ и подъ его надзоромъ старая статуя Фрейя передѣлана въ статую Правосудія, украшающую главную площадь Дронтгейма, а Левъ, находившійся у ногъ статуи, въ дьявола — олицетвореніе преступленія; іtеm…»
— Ну, довольно объ его важныхъ заслугахъ. Что ему нужно?
Секретарь перелисталъ много страницъ и продолжалъ:
«…Принимая во вниманіе свои столь полезные труды въ наукахъ и искусствахъ, проситель рѣшается всеуниженно умолять его превосходительство увеличить таксу за каждый мужской и женскій трупъ на десять аскалоновъ, что не можетъ быть непріятно мертвецамъ, доказывая имъ…»
Въ эту минуту дверь кабинета отворилась и лакей доложилъ громкимъ голосомъ:
— Ея сіятельство, графиня Алефельдъ.
Въ кабинетъ вошла знатная дама, съ маленькой графской короной на головѣ, роскошно разодѣтая, въ платьѣ изъ краснаго атласа, обшитомъ горностаемъ и золотой бахромой. Пожавъ руку генерала, она опустилась возлѣ него въ кресло.
Графиня была женщина лѣтъ пятидесяти, но возрастъ не прибавилъ ей морщинъ, уже давно проведенныхъ на ея лицѣ заботами гордости и честолюбія. Она обратилась къ старому губернатору съ гордымъ взоромъ и принужденной улыбкой.
— Однако, генералъ, вашъ воспитанникъ заставляетъ себя ждать. Онъ долженъ былъ прибыть сюда еще до восхода солнца.
— Онъ и прибылъ, графиня, но тотчасъ же отправился въ Мункгольмъ.
— Въ Мункгольмъ! Надѣюсь не къ Шумахеру?
— Весьма возможно.
— Первый визитъ барона Торвика будетъ сдѣланъ Шумахеру!
— Отчего же нѣтъ, графиня? Шумахеръ несчастливъ.
— Какъ! генералъ, сынъ вице-короля имѣетъ сношенія съ государственнымъ преступникомъ!
— Фредерикъ Гульденлью, поручая мнѣ своего сына, просилъ меня, графиня, воспитать его какъ своего роднаго. Я полагалъ, что знакомство съ Шумахеромъ принесетъ пользу Орденеру, который современемъ достигнетъ такого же могущества. Въ виду этого, съ соизволенія вице-короля, я получилъ отъ моего брата Груммонда Кнуда пропускъ во всѣ тюрьмы и вручилъ его Орденеру. Онъ имъ воспользовался.
— А давно ли, генералъ, баронъ Орденеръ завелъ это полезное знакомство?
— Не болѣе года, графиня. Кажется, общество Шумахера пришлось ему по душѣ, такъ какъ онъ часто посѣщалъ его, живя въ Дронтгеймѣ, и лишь съ большимъ сожалѣніемъ, вслѣдствіе моихъ настояній, предпринялъ годъ тому назадъ поѣздку по Норвегіи.
— А Шумахеръ, знаетъ онъ, что утѣшитель его сынъ одного изъ заклятыхъ его враговъ?
— Онъ знаетъ, что это его искренній другъ, и этого для него достаточно, какъ и для насъ.
— А вы, генералъ, — спросила графиня, бросая на губернатора испытующій взглядъ: — покровительствуя и укрѣпляя это знакомство, знали вы, что у Шумахера есть дочь?
— Я это зналъ, графиня.
— И это обстоятельство казалось вамъ малозначущимъ въ отношеніи вашего воспитанника?
— Воспитанникъ Левина Кнуда, сынъ Фредерика Гульденлью человѣкъ честный. Орденеру извѣстна преграда, отдѣляющая его отъ дочери Шумахера. Онъ не способенъ увлечь, безъ серьезнаго намѣренія, дѣвушку и притомъ дочь несчастнаго человѣка.
Графиня Алефельдь вспыхнула и поблѣднела. Она отвернулась, какъ-бы желая избѣгнуть спокойнаго взора стараго генерала, какъ-бы чуя въ немъ обвинителя.
— Все таки, генералъ, — проговорила она: — это знакомство кажется мнѣ, извините за выраженіе, страннымъ и неблагоразумнымъ. Носится слухъ о мятежѣ рудокоповъ и сѣверныхъ поселенцевъ. Имя Шумахера замѣшено въ этомъ дѣлѣ.
— Графиня, вы удивляете меня! — вскричалъ губернаторъ: — Шумахеръ до сихъ поръ спокойно переносилъ свое несчастіе. Этотъ слухъ, безъ сомнѣнія, неоснователенъ.
Въ эту минуту дверь отворилась и слуга доложилъ, что посланный отъ его сіятельства великаго канцлера проситъ дозволенія говорить съ графиней.
Графиня поспѣшно поднялась, простилась съ губернаторомъ, который снова занялся разсмотрѣніемъ прошеній, и торопливо удалилась въ аппартаменты, занимаемые ею въ одномъ изъ флигелей губернаторскаго дома, приказавъ прислать туда посланца.
Уже нѣсколько минутъ сидѣла она на роскошной софѣ, среди приближенныхъ къ ней дамъ, когда вошелъ посланецъ. Графиня при видѣ его не могла сдержать жеста отвращенія, который тотчасъ же скрыла подъ благосклонной улыбкой. Внѣшность посланца, однако, на первый взглядъ не представляла ничего отталкивающаго: это былъ скорѣе низенькій чѣмъ высокій человѣкъ, дородство котораго мало гармонировало съ его должностью. Но при болѣе внимательномъ осмотрѣ на открытомъ лицѣ его можно было примѣтить выраженіе наглости, а въ веселыхъ взорахъ что-то дьявольское, коварное.
Отдавъ графинѣ глубокій поклонъ, онъ вручилъ ей пакетъ съ печатью и шелковымъ шнуркомъ.
— Ваше сіятельство, — сказалъ онъ: — дозвольте мнѣ осмѣлиться положить къ вашимъ стопамъ драгоцѣнное посланіе вашего именитаго супруга, моего высокочтимаго господина.
— Развѣ онъ не прибудетъ сюда самъ? И зачѣмъ послалъ онъ съ письмомъ васъ? — спросила графиня.
— Важныя дѣла, о которыхъ сообщитъ вамъ письмо, воспрепятствовали прибытію его сіятельства. Что же касается меня, графиня, то по приказанію моего благороднаго господина я удостоенъ величайшей чести имѣть съ вами конфиденціальный разговоръ. Графиня поблѣднѣла и вскричала дрожащимъ голосомъ:
— Со мной! Конфиденціальный разговоръ съ вами, Мусдемонъ?
— Если это хоть на мигъ огорчаетъ васъ, высокородная графиня, вашъ недостойный слуга прійдетъ въ отчаяніе.
— Огорчаетъ меня! Вовсе нѣтъ, — возразила графиня, пытаясь улыбнуться: — но развѣ этотъ разговоръ такъ необходимъ?
Посланецъ поклонился до земли.
— Рѣшительно необходимъ! Письмо, которое сіятельная графиня удостоила принять изъ моихъ рукъ, должно содержать точныя указанія на этотъ счетъ.
Странно было видѣть какъ дрожала и блѣднѣла гордая графиня Алефельдъ передъ служителемъ, который такъ раболѣпствовалъ передъ ней. Она медленно распечатала конвертъ и прочла письмо.
— Оставьте насъ однихъ, — сказала она слабымъ голосомъ, обрашаясь къ окружающимъ ее дамамъ.
— Да соблаговолитъ сіятельная графиня, — сказалъ посланецъ, преклоняя колѣно: — извинить мою смѣлость за неудовольствіе, которое я, кажется, причинилъ ей.
— Напротивъ, будьте увѣрены, что ваше присутствіе доставляетъ мнѣ величайшее удовольствіе, — возразила графиня съ принужденной улыбкой.
Дамы удалились изъ комнаты.
— Эльфегія, ты забыла то время, когда наши свиданія не внушали тебѣ отврашенія.
Съ этими словами обратился посланецъ къ благородной графинѣ, сопровождая ихъ смѣхомъ подобнымъ тому, какимъ смѣется дьяволъ, завладѣвая душой, продавшейся ему по договору.
Знатная женщина униженно поникла головой.
— О, зачѣмъ я дѣйствительно не забыла его! — пробормотала она.
— Глупая! Къ чему краснѣть изъ-за того, чего не видитъ ни одинъ человѣческій глазъ?
— Чего не видятъ люди, то видитъ Богъ.
— Богъ, слабая женшина! Ты не достойна была чести обманывать своего мужа, такъ какъ онъ менѣе легковѣренъ, чѣмъ ты.
— Вы низко издѣваетесь надъ угрызеніями моей совѣсти, Мусдемонъ.
— Прекрасно! Но, Эльфегія, если ты чувствуешь угрызенія совѣсти, зачѣмъ же ты сама издѣваешься надъ ними ежедневно, совершая новыя преступленія?
Графиня Алефедьдъ закрыла лицо руками.
— Эльфегія, — продолжалъ Мусдемонъ: — надо выбрать что нибудь одно: или угрызенія, отказавшись отъ преступленій, или преступленія, отказавшись отъ угрызеній. Бери примѣръ съ меня и выбери послѣднее; такъ будетъ лучше, по крайней мѣрѣ веселѣе.
— Дай Богъ, — прошептала графиня, — чтобы эти слова не припомнились вамъ на томъ свѣтѣ.
— Ну, милая моя, теперь шутки въ сторону, — сказалъ Мусдемонъ, садясь возлѣ графини и обвивая руками ея шею.
— Эльфегія, — продолжалъ онъ: — постарайся по крайней мѣрѣ духовно остаться такою, какой была двадцать лѣтъ тому назадъ.
Несчастная графиня, раба своего сообщника, пыталась отвѣтить на его отвратительныя ласки. Въ позорныхъ объятіяхъ этихъ двухъ существъ, которыя взаимно презирали и проклинали другъ друга, было нѣчто черезчуръ возмутительное даже для ихъ развращенныхъ душъ. Преступныя ласки, въ былое время составлявшія для нихъ наслажденіе, и которыя неизвѣстно какое ужасающее приличiе заставляло ихъ расточать и теперь, превратились въ ихъ пытку. Странное и справедливое превращеніе преступныхъ страстей! Ихъ преступленіе стало для нихъ наказаніемъ.
Чтобы положить конецъ этой мучительной пыткѣ, графиня, вырвавшись изъ объятій своего ненавистнаго любовника, спросила его, съ какимъ словеснымъ порученіемъ прислалъ его ея мужъ.
— Алефельдъ, — отвѣчалъ Мусдемонъ: — предвидя, какъ усилится его могущество черезъ бракъ Орденера Гульденлью съ нашей дочерью…
— Нашей дочерью! — высокомѣрно вскричала графиня, бросая на Мусдемона взоръ, полный гордости и презрѣнія.
— Да, — холодно продолжалъ Мусдемонъ: — мнѣ кажется, Ульрика съ полнымъ правомъ можетъ считаться и моей дочерью. Я хотѣлъ сказать, что этотъ бракъ не вполнѣ удовлетворитъ твоего мужа, если въ то же время не будетъ окончательно уничтоженъ Шумахеръ. Этотъ старый временщикъ въ глубинѣ своей тюрьмы почти столь же опасенъ, какъ и въ своемъ дворцѣ. Онъ имѣетъ при дворѣ друзей не знатныхъ, но могущественныхъ, быть можетъ, именно потому, что они незнатны. Мѣсяцъ тому назадъ, узнавъ, что переговоры великаго канцлера съ герцогомъ Голштейнъ-Плёнскимъ не двигаются впередъ, король нетерпѣливо вскричалъ: Гриффенфельдъ одинъ зналъ больше, чѣмъ всѣ они вмѣстѣ взятые. Какой-то проныра Диспольсенъ пріѣзжалъ изъ Мункгольма въ Копенгагенъ, съумѣлъ добиться нѣсколькихъ секретныхъ аудіенцій, послѣ чего король потребовалъ хранившіеся у канцлера документы и дипломы Шумахера. Неизвѣстно, чего добивается Шумахеръ; по всей вѣроятности — свободы, что для государственнаго преступника равнозначуще съ стремленіемъ къ могуществу. Необходимо, чтобы онъ умеръ, умеръ, такъ сказать, судебнымъ порядкомъ, и мы стараемся теперь взвалить на него какое-нибудь преступленіе.
«Твой мужъ, Эльфегія, подъ предлогомъ обревизовать инкогнито сѣверные округа, отправится лично убѣдиться въ результатахъ, которыми увѣнчались наши происки среди рудокоповъ. Мы хотимъ именемъ Шумахера поднять мятежъ въ ихъ средѣ, мятежъ, который потомъ не трудно будетъ подавить. Въ настоящее время насъ озабочиваетъ только пропажа нѣсколькихъ весьма важныхъ бумагъ, относящихся къ этому дѣлу, тѣмъ болѣе, что есть полное основаніе подозрѣвать, что онѣ попали въ руки Диспольсена. Зная, что онъ уѣхалъ изъ Копенгагена въ Мункгольмъ, везя Шумахеру его бумаги, дипломы и, быть можетъ, тѣ документы, которые могутъ погубить или, по меньшей мѣрѣ, скомпрометировать насъ, мы размѣстили въ Кольскихъ ушельяхъ нѣсколько надежныхъ клевретовъ, поручивъ имъ убить Диспольсена и захватить его бумаги. Однако, если Диспольсенъ, какъ увѣряютъ, возвратился изъ Бергена моремъ, всѣ наши старанія пойдутъ прахомъ… Теперь одна надежда, что оправдается слухъ, ходящій по городу, объ убійствѣ какого-то капитана по имени Диспольсена… Увидимъ, что-то будетъ… а пока надо розыскать знаменитаго разбойника Гана Исландца, котораго намъ бы хотѣлось поставить во главѣ взбунтовавшихся рудокоповъ. А ты, моя милая, какія добрыя вѣсти можешь ты сообщить мнѣ? Поймана ли въ клѣткѣ красивая мункгольмская птичка? Попала ли, наконецъ, дочь стараго министра въ лапки нашего сына Фредерика?..
Гордость графини снова возмутилась.
— Нашего сына! — вскричала она презрительно.
— Конечно, который ему теперь годъ? Двадцать четвертый. А мы знакомы съ тобой, Эльфегія, вотъ ужъ двадцать шесть лѣтъ.
— Богу извѣстно, — продолжала графиня, — что мой Фредерикъ законный наслѣдникъ великаго канцлера.
— Что Богу извѣстно, — отвѣчалъ Мусдемонъ, смѣясь: — то діаволъ можетъ не знать. Впрочемъ, твой Фредерикъ вертопрахъ недостойный меня и изъ за такого вздора не стоитъ намъ пререкаться. Онъ годенъ лишь для обольшенія простушекъ. Успѣлъ ли онъ въ этомъ по крайней мѣрѣ?
— Нѣтъ еще, сколько мнѣ извѣстно.
— Однако, Эльфегія, постарайся принять болѣе дѣятельное участіе въ нашихъ дѣлахъ. До сихъ поръ мы трудимся только вдвоемъ съ графомъ. Завтра я возврашусь къ твоему мужу, ты же, пожалуйста, не ограничивайся только молитвами за наши грѣхи, подобно мадоннѣ, къ которой взываютъ итальянцы, убивая кого-нибудь… Необходимо также постараться, чтобы Алефельдъ пощедрѣе вознаграждалъ мои труды, чѣмъ до сихъ поръ. Хотя моя судьба связана съ вашей, мнѣ надоѣло быть слугой супруговъ, когда я любовникъ жены, быть гувернеромъ, наставникомъ, педагогомъ, когда я, почти, отецъ…
Въ эту минуту пробило полночь и въ комнату вошла служанка напомнить графинѣ, что согласно дворцовымъ правиламъ всѣ огни должны быть погашены въ этотъ часъ. Графиня, радуясь, что можетъ прекратить этотъ тяжелый разговоръ, приказала позвать своихъ горничныхъ.
— Да, позволитъ мнѣ милостивая графиня, — сказалъ Мусдемонъ, уходя изъ комнаты: — сохранить надежду снова свидѣться съ нею завтра и повергнуть къ ея стопамъ увѣренiя въ моемъ глубочайшемъ уваженіи.
VIII
— Правду сказать, старикъ, — замѣтилъ Орденеръ Спіагудри: — я ужъ началъ думать, что обязанность отпирать дверь возложена тобою на трупы, находящіеся въ этомъ зданіи.
— Простите, милостивый господинъ, — пробормоталъ смотритель Спладгеста, у котораго еще раздавались въ ушахъ имена короля и вице-короля, и повторилъ свое банальное извиненiе: — я… я крѣпко заснулъ.
— Ну, значитъ не спали твои мертвецы, такъ какъ я только что явственно слышалъ ихъ разговоръ.
Спіагудри смутился.
— Вы, милостивый господинъ, вы слышали?..
— Само собою разумѣется, но дѣло не въ томъ. Я пришелъ сюда не для того, чтобы заниматься твоими дѣлами, а чтобы занять тебя моими собственными. Войдемъ.
Спіагудри вовсе не хотѣлось пускать вновь прибывшаго къ трупу Жилля, но послѣднія слова нѣсколько успокоили его, и притомъ могъ ли онъ воспротивиться?
Онъ пропустилъ молодаго человѣка и заперъ за нимъ дверь.
— Бенигнусъ Спіагудри, — сказалъ онъ: — къ вашимъ услугамъ во всемъ, что касается человѣческихъ знаній. Но, судя по вашему ночному посѣщенію, если вы разсчитывали встрѣтить здѣсь колдуна, вы ошиблись, nе fаmаm сredas [9] Я не болѣе какъ ученый… Пройдемте, милостивый господинъ, въ мою лабораторію.
— Незачѣмъ, — возразилъ Орденеръ: — мы остановимся у этихъ труповъ.
— У этихъ труповъ! — вскричалъ Спіагудри, вздрогнувъ отъ испуга: — Но, милостивый господинъ, вамъ нельзя ихъ видѣть.
— Какъ! Мнѣ нельзя видѣть трупы, которые нарочно для того и выставляются здѣсь! Повторяю тебѣ, мнѣ необходимо собрать свѣдѣнія объ одномъ изъ твоихъ кліентовъ и ты долженъ сообщить мнѣ ихъ. Повинуйся добровольно, старикъ, если не хочешь, чтобы я употребилъ насиліе.
Спіагудри питалъ глубокое уваженіе къ саблѣ и видѣлъ, какъ она сверкала на боку Орденера.
— Nihil nоn аrrоgаt аrmіs, пробормоталъ онъ и порывшись въ связкѣ ключей, отперъ рѣшетку и ввелъ посѣтителя во второе отдѣленіе мертвецкой.
— Покажи мнѣ одежду капитана, — сказалъ ему Орденеръ.
Въ эту минуту лучъ свѣта упалъ на окровавленную голову Жилля Стадта.
— Милосердый Боже! — вскричалъ Орденеръ: — Какое гнусное святотатство!
— Ради святаго Госпиція, сжальтесь надо мною! — простоналъ старый смотритель.
— Старикъ, — продолжалъ Орденеръ грознымъ голосомъ: — неужели ты такъ далекъ отъ смерти, что рѣшаешься издѣваться надъ нею! Неужели, несчастный, ты думаешь, что живые не съумѣютъ заставить тебя уважать мертвыхъ!
— О! — вскричалъ злополучный смотритель: — Сжальтесь надо мною, я не виноватъ!.. Если бы вы только знали!..
Онъ вдругъ замолчалъ, вспомнивъ слова малорослаго человѣка: Будь вѣренъ и нѣмъ.
— Не видали ли вы кого-нибудь, проскользнувшаго въ это отверстіе? — спросилъ онъ слабымъ голосомъ.
— Да, это твой сообщникъ?
— Нѣтъ, это преступникъ, единственный преступникъ, клянусь вамъ всѣми муками ада, всѣми блаженствами неба, даже этимъ столь недостойно поруганнымъ тѣломъ!..
Съ этими словами онъ бросился къ ногамъ Орденера.
Несмотря на всю гнусность Спіагудри, его отчаяніе, его протесты звучали такъ правдиво, что молодой человѣкъ былъ убѣжденъ.
— Встань, старикъ, — сказалъ онъ: — если ты не издѣвался надъ смертью, не унижай по крайней мѣрѣ старости.
Спіагудри поднялся на ноги, Орденеръ продолжалъ:
— Кто же виновникъ?
— О! Не спрашивайте, милостивый господинъ, вы не знаете, о комъ говорите! Не спрашивайте! — вскричалъ Спіагудри, внутренно повторяя про себя: Будъ вѣренъ и нѣмъ.
— Кто преступникъ? Я хочу знать его имя, — холодно возразилъ Орденеръ.
— Заклинаю васъ именемъ неба, милостивый господинъ! Не спрашивайте о немъ, страхъ…
— Страхъ не заставитъ меня молчать, скорѣе онъ заставитъ тебя говорить.
— Простите меня, — простоналъ Спіагудри, внѣ себя отъ отчаянія: — я не могу…
— Можешь, если я того хочу. Назови мнѣ имя святотатца.
Спіагудри попытался еще разъ увильнуть.
— Милостивый господинъ, человѣкъ, надругавшійся надъ трупомъ — убійца этого офицера.
— Такъ этотъ офицеръ былъ убитъ? — спросилъ Орденеръ, вспомнивъ при этихъ словахъ цѣль своего посѣщенія.
— Безъ сомнѣнія.
— Но кѣмъ? кѣмъ?
— Во имя святой, которую призывала ваша мать, рождая васъ на свѣтъ, не старайтесь узнать это имя, не принуждайте меня открывать его.
— Старикъ, твои слова только увеличиваютъ мое любопытство. Я приказываю тебе назвать этого злодѣя.
— Ну, — вскричалъ Спіагудри: — посмотрите на эти глубокіе слѣды на тѣлѣ несчастнаго длинными, кривыми ногтями… Они назовутъ вамъ убійцу.
Съ этими словами старикъ указалъ Орденеру длинныя глубокія царапины на голомъ обмытомъ трупѣ.
— Какъ! — вскричалъ Орденеръ: — неужели красный звѣрь?..
— Нѣтъ.
— Но если это не дьяволъ…
— Шш, не спѣшите угадывать. Неужели вамъ не приходилось слышать, — продолжалъ смотритель, понизивъ голосъ: — о человѣкѣ, или чудовищѣ во образѣ человѣческомъ, ногти котораго такъ же длинны какъ у Астарота, который насъ погубилъ, или у Антихриста, который насъ погубитъ?..
— Говори яснѣе.
— Горе! Гласитъ Апокалипсисъ…
— Я спрашиваю у тебя имя убійцы.
— Убійцы… имя… милостивый господинъ, сжальтесь надо мною, пожалѣйте себя.
— Вторая изъ этихъ просьбъ уничтожила бы первую, если бы даже не было у меня серьезныхъ причинъ вырвать у тебя это имя. Не испытывай далѣе…
— Хорошо, вы сами того хотѣли, молодой человѣкъ, — вскричалъ Спіагудри громкимъ голосомъ, выпрямляясь: — этотъ преступникъ, этотъ святотатецъ — Ганъ Исландецъ.
Орденеру было извѣстно это страшное имя.
— Какъ! — вскричалъ онъ: — Ганъ! Этотъ гнусный бандитъ!
— Не называйте его бандитомъ, онъ дѣйствуетъ всегда одинъ.
— Но, несчастный, почему ты знаешь его? Какія преступленія сблизили васъ другъ съ другомъ?
— О! Благородный господинъ, не вѣрьте наружности. Развѣ дубъ становится ядовитымъ, когда змѣя укроется въ его листвѣ?
— Довольно болтовни! Злодѣй имѣетъ друга только въ сообщникѣ.
— Я совсѣмъ не другъ его, а тѣмъ менѣе сообщникъ. Если мои клятвы не были для васъ убѣдительны, вспомните, что это гнусное преступленіе подвергнетъ меня черезъ двадцать четыре часа, когда придутъ хоронить трупъ Жилля Стадта, наказанію за святотатство. Въ такомъ ужасномъ положеніи врядъ-ли когда находился невинный!
Эти доводы личной отвѣтственности показались Орденеру убѣдительнѣе умоляющихъ возгласовъ несчастнаго смотрителя. Эти доводы вѣроятно въ значительной степени воодушевляли его, въ его патетическомъ, хотя и безполезномъ сопротивленіи святотатству малорослаго человѣка.
Орденеръ на минуту погрузился въ размышленіе, между тѣмъ какъ Спіагудри пытался прочесть на его лицѣ возвѣщаетъ ли эта тишина миръ или угрожаетъ бурей.
Наконецъ, Орденеръ сказалъ суровымъ, но спокойнымъ голосомъ:
— Старикъ, говори правду. Нашелъ ты бумаги у этого офицера?
— Ни клочка, клянусь честью.
— Но можетъ быть ихъ нашелъ Ганъ Исландецъ?
— Клянусь святымъ Госпиціемъ, я не знаю.
— Не знаешь! Но можетъ быть ты знаешь, гдѣ скрывается Ганъ Исландецъ?
— Онъ никогда не скрывается, онъ постоянно блуждаетъ.
— Хорошо, но гдѣ же его убѣжище?
— У этого язычника, — отвѣтилъ старикъ, понизивъ голосъ: — столько убѣжищъ, сколько подводныхъ камней у острова Гиттерена, сколько лучей у звѣзды Сиріуса.
— Еще разъ повторяю тебѣ, выражайся яснѣе, — перебилъ Орденеръ: — я хочу показать тебѣ примѣръ, слушай. Какая то таинственная связь соединяетъ тебя съ этимъ разбойникомъ, хотя ты и увѣряешь, что ты ему не сообщникъ. Если ты знаешь его, ты долженъ также знать куда онъ теперь отправился… Не перебивай меня… Если ты не сообщникъ его, ты не колеблясь поможешь мнѣ розыскать его…
Спіагудри не могъ сдержать движенія ужаса.
— Вы, благородный господинъ; великій Боже! Вы, юноша полный силъ и здоровья, хотите накликать на себя, розыскать этого злаго духа! Когда четырехрукій Ингіальдъ сразился съ великаномъ Никтольмомъ, онъ обладалъ по крайней мѣрѣ четырьмя руками….
— Что же, — замѣтилъ Орденеръ, улыбаясь: — если такъ необходимы четыре руки, развѣ ты не будешь моимъ проводникомъ?..
— Я! Вашимъ проводникомъ?.. Какъ можете вы издѣваться надъ бѣднымъ старикомъ, который самъ уже нуждается въ проводникѣ?
— Послушай, — перебилъ его Орденеръ: — не издѣвайся ты надо мною. Если это преступленіе, въ которомъ мнѣ не хотѣлось бы считать тебя виновнымъ, повлечетъ за собой наказаніе за святотатство, ты не можешь остаться здѣсь болѣе. Тебѣ необходимо бѣжать и я беру тебя подъ свою защиту, но съ условіемъ, что ты проводишь меня въ логовище злодѣя. Будь моимъ проводникомъ, я же буду твоимъ покровителемъ; даже болѣе, если я разыщу Гана Исландца, я доставлю его сюда мертваго или живаго. Ты можешь тогда доказать свою невинность, а я обѣщаю тебѣ выхлопотать прежнюю должность… А пока, вотъ тебѣ столько королевскихъ экю, сколько не выработать тебѣ въ цѣлый годъ.
Орденеръ, приберегая кошелекъ подъ конецъ, наблюдалъ въ своихъ аргументахъ послѣдовательность, предписываемую законами здраваго смысла. Но и безъ того каждый изъ этихъ аргументовъ самъ по себѣ могъ заставить Спіагудри призадуматься. Онъ началъ съ того, что взялъ деньги.
— Благородный господинъ, вы правы, — сказалъ онъ затѣмъ, и взоръ его, до сихъ поръ нерѣшительный, устремился на Орденера: — Если я пойду съ вами, то подвергнусь современемъ мщенію страшнаго Гана. Если я останусь, завтра же попаду въ лапы палача Оругикса… Все равно… въ обоихъ случаяхъ опасность грозитъ моей бѣдной головѣ; но такъ какъ, согласно справедливому замѣчанію Семонд-Сигфуссона, прозваннаго Мудрымъ, іnter duо реrісulа аеquаlіа, mіnus іmmіnеns еlіgеndum еst [10] я слѣдую за вами… Да, милостивый господинъ, я буду вашимъ проводникомъ; только во всякомъ случаѣ не забудьте, что я употребилъ всѣ зависящія отъ меня старанія, чтобы отвратить васъ отъ столь смѣлаго замысла.
— И такъ, — сказалъ Орденеръ: — ты будешь моимъ проводникомъ. Но, старикъ, — добавилъ онъ съ выразительнымъ взглядомъ: — я полагаюсь на твою честность.
— Ахъ, милостивый господинъ, — возразилъ смотритель Спладгеста: — честь Спіагудри такъ же чиста, какъ и золото, которымъ вы такъ щедро одарили меня.
— Пусть она навсегда останется такою, въ противномъ случаѣ я докажу тебѣ, что и сталь моя ничуть не хуже золота… Гдѣ, ты думаешь, находится теперь Ганъ Исландецъ?
— Такъ какъ южный дронтгеймскій округъ занятъ въ настоящее время войсками, посланными туда неизвѣстно съ какой цѣлью великимъ канцлеромъ, Ганъ, по всей вѣроятности, направился къ Вальдергогской пещерѣ или къ Сміазенскому озеру. Намъ надо идти черезъ Сконгенъ.
— Когда же ты можешь отправиться со мною?
— День уже занялся; такъ вотъ, когда наступитъ ночь и Спладгестъ будетъ запертъ, вашъ бѣдный служитель приметъ на себя обязанности проводника, ради которыхъ мертвецы лишены будутъ его попеченій. Въ теченіи дня мы постараемся скрыть отъ народа изуродованную голову рудокопа.
— А гдѣ я найду тебя вечеромъ?
— На главной площади Дронтгейма, если вамъ угодно, у статуи Правосудія, бывшей нѣкогда Фрейей. Она, безъ сомнѣнія, укроетъ меня въ своей тѣни, въ благодарность за великолѣпнаго дьявола, котораго я вылѣпилъ у ея подножія.
Спіагудри, быть можетъ, повторилъ бы Орденеру слово въ слово всѣ доводы своей просьбы къ губернатору, если бы тотъ не поспѣшилъ его перебить.
— И такъ, старикъ, договоръ заключенъ.
— Заключенъ, — повторилъ смотритель Спладгеста.
Когда онъ произносилъ это слово, звукъ, похожій на рычанье, послышался надъ ними. Спіагудри затрясся всѣмъ тѣломъ.
— Что это такое? — прошепталъ онъ.
— Нѣтъ ли тутъ какого-нибудь другаго живаго существа кромѣ насъ? — спросилъ Орденеръ, удивленный не менѣе его.
— Вы напомнили мнѣ о моемъ помощникѣ Оглипиглапѣ, - возразилъ Спіагудри, успокоенный этой мыслью: — безъ сомнѣнія, это онъ спитъ такъ громко. По мнѣнію епископа Арнгрима, спящій лапландецъ шумитъ не менѣе старой бабы.
Съ этими словами они подошли къ двери Спладгеста. Спіагудри тихо открылъ ее.
— Прощайте, милостивый господинъ, — сказалъ онъ Орденеру: — и да благословитъ васъ небо. До вечера! Если вы пройдете мимо церкви святаго Госпиція, помолитесь за вашего несчастнаго служителя Бенигнуса Спіагудри.
Поспѣшно захлопнувъ дверь, боясь, чтобы его не примѣтили, и чтобы утренній вѣтеръ не задулъ ночника, онъ вернулся къ трупу Жилля Стадта и принялся укладывать его голову такимъ образомъ, чтобы раны не было видно.
Серьезныя причины заставили трусливаго смотрителя принять смѣлое предложеніе незнакомца. Мотивами, побудившими его на такое отважное рѣшеніе, были: во первыхъ, страхъ, внушаемый Орденеромъ; во вторыхъ, страхъ, внушаемый палачемъ Оругиксомъ; въ третьихъ, старинная ненависть къ Гану Исландцу, ненависть, въ которой онъ едва осмѣливался признаться самому себѣ, до такой степени умѣрялась она ужасомъ; въ четвертыхъ, любовь къ наукамъ, которымъ это путешествіе могло принести пользу; въ пятыхъ, надежда на свою хитрость, чтобы отвести глаза Гану; въ шестыхъ, затаенное влеченіе къ извѣстному металлу, наполнявшему кошелекъ молодаго искателя приключеній и которымъ, по его мнѣнію, былъ наполненъ желѣзный ящикъ, украденный у капитана и предназначавшійся вдовѣ Стадтъ, посылка, которая теперь имѣла всѣ шансы никогда не разставаться съ посыльнымъ.
Наконецъ, послѣдняя причина- болѣе или менѣе основательная — надежда снова занять, рано ли, поздно ли, ту должность, которую онъ теперь покидалъ. А затѣмъ ему было совершенно безразлично, разбойникъ ли убьетъ незнакомца или незнакомецъ разбойника. При этой мысли онъ не могъ удержаться отъ восклицанія:
— Во всякомъ случаѣ я получу трупъ!
Въ эту минуту послышалось новое рычанье, и несчастный смотритель вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ.
— Нѣтъ, это не можетъ быть храпѣнье Оглипиглапа, — пробормоталъ онъ: — этотъ шумъ слышится сверху.
— Какъ глупо пугать себя такими пустяками, — добавилъ онъ послѣ минутнаго размышленія: — по всей вѣроятности, это собака проснулась на пристани и залаяла.
Уложивъ обезображенные члены Жилля и заперевъ всѣ двери, онъ легъ на постель отдохнуть отъ усталости минувшей ночи и собраться съ силами къ предстоящей.
IX
Фонарь Мункгольмской крѣпости былъ потушенъ и матросъ, проводящій судно въ Дронтгеймскій заливъ, видѣлъ вмѣсто него каску часоваго, сверкавшую подобно подвижной звѣздѣ на лучахъ восходящаго солнца, когда Шумахеръ, опираясь на руку дочери, сошелъ на свою обычную прогулку въ садъ, окружающій его тюрьму. Оба они провели безпокойную ночь: старикъ отъ безсонницы, молодая дѣвушка отъ сладостныхъ грезъ. Уже нѣсколько минутъ прогуливались они молча, какъ вдругъ старый узникъ устремилъ на свою прекрасную дочь печальный и серьезный взглядъ:
— Ты краснѣешь и улыбаешься сама себѣ, Этель; ты счастлива, такъ какъ не краснѣешь за прошлое, но улыбаешься будущему.
Этель покраснѣла еще болѣе и подавила улыбку.
— Батюшка, — сказала она, застѣнчиво обнимая отца: — я принесла съ собой книгу Эдды.
— Читай, дочь моя, — отвѣтилъ Шумахеръ, снова погружаясь въ задумчивость.
Мрачный узникъ, опустившись на скалу, осѣненную черною елью, прислушивался къ нѣжному голосу молодой дѣвушки, не слушая ея чтенія, подобно истомленному путнику, наслаждающемуся журчаниемъ ручейка, который оживилъ его силы.
Этель читала ему исторію пастушки Атланги, которая отказывала королю до тѣхъ поръ пока онъ не доказалъ ей, что онъ воинъ. Принцъ Регнеръ Ледброгъ женился на пастушкѣ, только побѣдивъ Клипстадурскаго разбойника, Ингольфа Истребителя.
Вдругъ шумъ шаговъ и раздвигаемой листвы прервалъ ея чтеніе и вывелъ Шумахера изъ задумчивости. Поручикъ Алефельдъ вышелъ изъ-за скалы, на которой они сидѣли. Узнавъ его, Этель потупила голову.
— Клянусь честью, прекрасная дѣвица, — вскричалъ офицеръ: — вашъ очаровательный ротикъ только что произнесъ имя Ингольфа Истребителя. Должно быть, вы заговорили о немъ, бесѣдуя о его внукѣ, Ганѣ Исландцѣ. Молодыя дѣвицы вообще любятъ разговаривать о разбойникахъ, и въ этомъ отношеніи Ингольфъ и его потомки доставляютъ тему весьма занимательную и страшную для слушателей. Истребитель Ингольфъ имѣлъ лишь одного сына, рожденнаго колдуньей Тоаркой; сынъ этотъ, въ свою очередь, тоже имѣлъ одного сына, и тоже отъ колдуньи. И вотъ ужъ въ теченіе четырехъ столѣтій родъ этотъ продолжается, къ отчаянію Исландіи, всегда однимъ отпрыскомъ, не производящимъ болѣе одной отрасли. Этимъ-то послѣдовательнымъ рядомъ наслѣдниковъ адскій духъ Ингольфа перешелъ нынѣ въ цѣлости и неприкосновенности къ знаменитому Гану Исландцу, который имѣлъ счастіе сію минуту занимать дѣвственныя мысли молодой дѣвицы.
Офицеръ остановился на мгновеніе. Этель хранила молчаніе отъ замѣшательства, Шумахеръ — отъ скуки. Въ восторгѣ отъ ихъ расположенія, если не къ отвѣтамъ, то, по крайней мѣрѣ, къ вниманію, онъ продолжалъ:
— У Клипстадурскаго разбойника одна лишь страсть — ненависть къ людямъ, одна лишь забота, — какъ-бы насолить имъ…
— Уменъ, — рѣзко перебилъ старикъ.
— Онъ живетъ всегда одинъ, — продолжалъ поручикъ.
— Счастливъ, — замѣтилъ Шумахеръ.
Поручикъ былъ обрадованъ этимъ двойнымъ замѣчаніемъ, которое, казалось ему, поощряло къ дальнѣйшей бесѣдѣ.
— Да сохранитъ васъ богъ Митра, — вскричалъ онъ: — отъ такихъ умниковъ и счастливцевъ! Да будетъ проклятъ злонамѣренный зефиръ, занесшій въ Норвегію послѣдняго изъ демоновъ Исландіи. Впрочемъ, я напрасно сказалъ: злонамѣренный, такъ какъ увѣряютъ, что счастіемъ имѣть въ средѣ своей Гана Клипстадурскаго обязаны мы епископу. Если вѣрить преданію, нѣсколько исландскихъ крестьянъ, изловивъ на Бессестедтскихъ горахъ маленькаго Гана, хотѣли убить его, подобно тому какъ Астіагъ умертвилъ Бактрійскаго львенка; но Скальголтскій епископъ воспротивился этому и взялъ медвѣженка подъ свое покровительство, разсчитывая превратить дьявола въ христіанина. Добрый епископъ употребилъ тысячу средствъ, чтобы развить этотъ адскій умъ, забывая, что цикута не превратилась въ лилію въ теплицахъ Вавилона. Въ одну прекрасную ночь дьяволенокъ отплатилъ за всѣ его заботы, убѣжавъ по морю на бревнѣ и освѣтивъ себѣ дорогу пожаромъ епископской обители. Вотъ какимъ образомъ переправился въ Норвегію этотъ исландецъ, который, благодаря своему воспитанію, въ настоящее время являетъ собою идеалъ чудовища. Съ тѣхъ поръ Фа-Рöрскія шахты засыпаны и триста рудокоповъ погребено подъ ихъ развалинами; висячая скала Гола сброшена ночью на деревню, надъ которой она высилась; Гальфбрёнскій мостъ низвергнутъ съ высоты скалъ вмѣстѣ съ путешественниками; Дронтгеймскій соборъ сожженъ; береговые маяки тухнутъ въ бурныя ночи и цѣлая масса преступленій и убійствъ, погребенныхъ въ водахъ озеръ Спарбо или Сміазенскаго, или скрытыхъ въ пещерахъ Вальдергога и Риласса и въ Дофре-Фильдскомъ ущельѣ, свидѣтельствуютъ о присутствіи въ Дронтгеймскомъ округѣ этого воплощеннаго Аримана. Старухи утверждаютъ, что послѣ каждаго преступленія у него выростаетъ волосъ на бородѣ, и въ такомъ случаѣ эта борода должна быть такъ-же густа, какъ у самаго почтеннаго ассирійскаго мага. Однако, прекрасная дѣвица должна знать, что губернаторъ не разъ пытался остановить необычайный ростъ этой бороды…
Шумахеръ еще разъ прервалъ молчаніе.
— И всѣ усилія захватить этого человѣка не увѣнчались успѣхомъ? — спросилъ онъ съ торжествующимъ взглядомъ и иронической улыбкой. — Поздравляю великаго канцлера.
Офицеръ не понялъ сарказма бывшаго великаго канцлера.
— До сихъ поръ Ганъ такъ-же непобѣдимъ, какъ Горацій Коклесъ. Старые солдаты, молодые милиціонеры, поселяне, горцы, всѣ гибнутъ или бѣгутъ при встрѣчѣ съ нимъ. Это демонъ, отъ котораго ничто не убережетъ, котораго не изловишь. Самымъ счастливымъ изъ искавшихъ его оказывается тотъ, кто его не находилъ. Прекрасная дѣвица, быть можетъ удивлена, — продолжалъ онъ, безцеремонно усаживаясь возлѣ Этели, которая придвинулась къ отцу: — что я знаю всю подноготную этого сверхъестественнаго существа. Но я не безъ цѣли собралъ эти замѣчательныя преданія. По моему мнѣнію — я буду въ восторгѣ, если прелестная дѣвица согласится съ нимъ — изъ приключеній Гана вышелъ-бы превосходный романъ въ родѣ замѣчательныхъ произведеній мадмуазель Скюдери, Амаранты, или Клеліи, которая, хотя я прочелъ лишь шесть томовъ, на мой взглядъ, представляетъ образцовое твореніе. Необходимо будетъ, напримѣръ, смягчить нашъ климатъ, изукрасить преданія, измѣнить наши варварскія имена. Такимъ образомъ Дронтгеймъ, превращенный въ Дуртиніанумъ, увидитъ какъ подъ моимъ магическимъ жезломъ его лѣса измѣнятся въ восхитительные боскеты, орошаемые тысячью маленькихъ ручейковъ, болѣе поэтичныхъ, чѣмъ наши отвратительные потоки. Наши черныя, глубокія пещеры смѣнятся прелестными гротами, разукрашенными золотистыми и лазурными раковинами. Въ одномъ изъ этихъ гротовъ будетъ обитать знаменитый волшебникъ Ганнусъ Тулійскій… согласитесь, что имя Гана Исландца непріятно рѣжетъ ухо. Этотъ великанъ… вы понимаете, было-бы абсурдомъ, если-бы великанъ не былъ героемъ такого творенія… этотъ великанъ происходилъ-бы по прямой линіи отъ бога Марса… имя Ингольфа Истребителя ровно ничего не говоритъ воображенію… и отъ волшебницы Теоны… не правда-ли, какъ удачно замѣнилъ я имя Тоарки?.. Дочери Кумской сивиллы. Ганнусъ, воспитанный великимъ Тулійскимъ магомъ, улетитъ въ концѣ концовъ изъ дворца первосвященника на колесницѣ, влекомой двумя драконами… Надо обладать весьма невзыскательной фантазіей, чтобы удержать прозаичное преданіе о бревнѣ… Очутившись подъ небомъ Дуртиніанума и прельстившись этой очаровательной страной, онъ избираетъ ее мѣстомъ для своей резиденціи и ареной своихъ преступленій. Не легко будетъ нарисовать картину злодѣяній Гана такъ, чтобы она не оскорбила вкуса читателя. Можно будетъ смягчить ея ужасъ искусно введенною любовною интрижкой. Пастушка Альциппа, пася однажды свою овечку въ миртовой и оливковой рощѣ, можетъ быть примѣчена великаномъ, котораго плѣнитъ могущество ея очей. Но Альциппа души не чаетъ въ Ликидѣ, офицере милиціи, расположенной гарнизономъ въ ея деревушкѣ. Великанъ раздраженъ счастіемъ центуріона, центуріонъ ухаживаньями великана. Вы понимаете, любезная дѣвица, сколько прелести придалъ-бы подобный эпизодъ приключеніямъ Ганнуса. Готовъ прозакладывать мои краковскіе сапожки противъ пары женскихъ ботинокъ, что эта тема, обработанная дѣвицей Скюдери, свела-бы съ ума всѣхъ дамъ въ Копенгагенѣ…
Это слово вывело Шумахера изъ мрачной задумчивости, въ которую онъ былъ погруженъ въ то время, какъ поручикъ безполезно расточалъ перлы своей фантазіи.
— Копенгагенъ? — рѣзко перебилъ онъ: — Господинъ офицеръ, нѣтъ-ли чего новаго въ Копенгагенѣ?
— Ничего, сколько мнѣ извѣстно, — отвѣчалъ поручикъ: — за исключеніемъ согласія, даннаго королемъ, на бракъ, интересующій въ настоящій моментъ оба королевства.
— Бракъ! — спросилъ Шумахеръ: — Чей бракъ?
Появленіе четвертаго собесѣдника помѣшало поручику отвѣчать.
Всѣ трое устремили взоръ на вновь прибывшаго. Мрачное лицо узника просвѣтлѣло, веселая физіономія поручика приняла напыщенное выраженіе, а нѣжная фигура Этели, блѣдная и смущенная во все время длиннаго монолога офицера, оживилась отъ радостнаго чувства. Она глубоко вздохнула, какъ будто съ сердца ея свалилась непосильная тяжесть, и печально улыбнулась Орденеру.
Старикъ, молодая дѣвушка и офицеръ очутились въ странномъ положеніи относительно Орденера; каждый изъ нихъ имѣлъ съ нимъ общую тайну, и потому они тяготились другъ другомъ.
Возвращеніе Орденера въ башню не удивило ни Шумахера, ни Этели, такъ какъ оба ждали его; но оно изумило поручика столько же, сколько встрѣча съ Алефельдомъ изумила Орденера, который могъ бы опасаться нескромности офицера относительно вчерашней сцены, если-бы не разубѣждало его въ томъ молчаніе, предписываемое законами рыцарства. Онъ могъ только удивляться, видя его въ мирной бесѣдѣ съ обоими узниками.
Эти четыре человѣка, находясь вмѣстѣ, не могли говорить, именно потому, что имѣли многое сказать другъ другу наединѣ. Такимъ образомъ, за исключеніемъ радушныхъ, смущенныхъ взглядовъ, Орденеръ встрѣтилъ совершенно молчаливый пріемъ.
Поручикъ расхохотался.
— Клянусь шлейфомъ королевской мантіи, любезный посѣтитель, наше молчаніе ужасно походитъ на молчаніе галльскихъ сенаторовъ, когда римлянинъ Бреннъ… Право, не помню хорошенько, кто былъ римлянинъ, кто галлъ, кто сенаторъ и кто полководецъ. Но все равно! Такъ какъ вы здѣсь, помогите мнѣ сообщить этому почтенному старику самыя послѣднія новости. До вашего неожиданнаго появленія на сцену, я началъ разсказывать о блестящемъ бракѣ, занимающемъ въ настоящее время мидянъ и персовъ.
— О какомъ бракѣ? — спросили въ одинъ голосъ Орденеръ и Шумахеръ.
— При взглядѣ на вашъ костюмъ, господинъ иностранецъ, — вскричалъ поручикъ, всплеснувъ руками: — я уже предчувствовалъ, что вы явились изъ какой-то невѣдомой страны. Вашъ вопросъ вполнѣ подтверждаетъ мое предположеніе. По всей вѣроятности, вы вчера сошли на берегахъ Ниддера съ колесницы феи, влекомой двумя крылатыми грифами, такъ какъ вы не могли проѣхать по Норвегіи, не услышавъ о блистательномъ союзѣ сына вице-короля съ дочерью великаго канцлера.
Шумахеръ обернулся къ поручику.
— Какъ! Орденеръ Гульденлью женится на Ульрикѣ Алефельдъ?
— Вотъ именно, — отвѣтилъ офицеръ: — и свадьба будетъ сыграна раньше, чѣмъ французскія фижмы выйдутъ изъ моды въ Копенгагенѣ.
— Сыну Фредерика должно быть теперь около двадцати двухъ лѣтъ, такъ какъ я провелъ уже годъ въ Коненгагенской крѣпости, когда дошелъ до меня слухъ о его рожденіи. Пусть лучше женится въ молодости, — продолжалъ Шумахеръ съ горькой улыбкой: — когда попадетъ въ немилость, по крайней мѣрѣ, его не станутъ упрекать въ домогательствѣ кардинальской шапки.
Старый временщикъ намекалъ на свои собственныя несчастія, но поручикъ не понялъ его.
— Конечно нѣтъ, — возразилъ онъ, расхохотавшись: — баронъ Орденеръ получитъ графскій титулъ, цѣпь ордена Слона и аксельбанты полковника, что ничуть не похоже на кардинальскую шапку.
— Тѣмъ лучше, — замѣтилъ Шумахеръ.
Затѣмъ, помолчавъ съ минуту, онъ добавилъ, качая головой, какъ будто уже видѣлъ предъ собою мщеніе:
— А черезъ нѣсколько дней, быть можетъ, почетную цѣпь превратятъ въ желѣзный ошейникъ, графскую корону разобьютъ на его лбу, ударятъ по щекамъ полковничьими аксельбантами.
Орденеръ схватилъ руку старика.
— Ради вашей ненависти, не проклинайте счастія врага, не убѣдившись прежде, дѣйствительно ли онъ счастливъ.
— Э! Что за дѣло барону Торвику до проклятій старика, — сказалъ поручикъ.
— Поручикъ! — вскричалъ Орденеръ: — Какъ знать… можетъ быть, они важнѣе для него, чѣмъ вы думаете. И при томъ, — добавилъ онъ послѣ минутнаго молчанія: — вашъ блистательный союзъ совсѣмъ не такъ вѣренъ, какъ вы предполагаете.
Fiаt quod ѵіs, отвѣчалъ поручикъ съ ироническимъ поклономъ: — Хотя король, вице-король, великій канцлеръ все приготовили къ этому браку, хотя они одобрили и желаютъ его, но такъ какъ онъ не нравится господину незнакомцу, то что значатъ великій канцлеръ, вице-король и король!
— Быть можетъ, вы правы, — серьезно замѣтилъ Орденеръ.
— О! Клянусь честью, — вскричалъ поручикъ, покатившись со смѣху: — это черезчуръ комично! Мнѣ ужасно хотѣлось бы, чтобы баронъ Торвикъ пришелъ сюда послушать колдуна, который такъ отлично угадываетъ будущее, что можетъ предрѣшить его судьбу. Повѣрьте мнѣ, мудрый пророкъ, ваша борода еще слишкомъ коротка для хорошаго колдуна.
— Господинъ поручикъ, — холодно возразилъ Орденеръ: — я не думаю, чтобы Орденеръ Гульденлью могъ жениться на дѣвушкѣ, не любя ея.
— Э! э! Вотъ мудрое изрѣченіе. Да кто же это вамъ сказалъ, господинъ въ зеленомъ плащѣ, что баронъ не любитъ Ульрики Алефельдъ?
— Но въ такомъ случаѣ, позвольте узнать, кто вамъ сказалъ, что онъ ее любитъ?
Тутъ поручикъ, какъ обыковенно бываетъ въ пылу разговора, принялся утверждать то, въ чемъ самъ не былъ хорошенько увѣренъ.
— Кто мнѣ сказалъ, что онъ ее любитъ? Смѣшной вопросъ! Мнѣ жаль вашихъ прорицаній; всѣмъ извѣстно, что этотъ бракъ столько же по страсти, сколько и по разсчету.
— За исключеніемъ, по крайней мѣрѣ, меня, — сказалъ Орденеръ серьезнымъ тономъ.
— Пожалуй, за исключеніемъ васъ. Но что за бѣда! Вы не можете воспрепятствовать сыну вице-короля быть влюбленнымъ въ дочь канцлера!
— Влюбленнымъ?
— До безумія!
— Дѣйствительно, ему надо быть безумнымъ, чтобы влюбиться.
— Что! Не забывайте, кому вы это говорите. Право можно подумать, что сынъ вице-короля не посмѣетъ влюбиться безъ одобренія этого вахлака.
Съ этими словами офицеръ поднялся съ своего мѣста.
Этель, примѣтивъ вспыхнувшіе взоры Орденера, бросилась къ нему.
— Ради Бога, — вскричала она: — успокойтесь, не обращайте вниманія на эти оскорбленія. Что намъ за дѣло, любитъ-ли сынъ вице-короля дочь канцлера, или нѣтъ.
Эта нѣжная ручка, положенная на сердце молодаго человѣка, утишила въ немъ бурю; взоръ его съ упоеніемъ остановился на Этели, онъ не слушалъ болѣе поручика, который, снова предавшись веселости, вскричалъ:
— Дѣвица съ замѣчательной граціей исполняетъ роль сабинянокъ между ихъ отцами и мужьями. Я выразился нѣсколько неосторожно и забылъ, — продолжалъ онъ, обращаясь къ Орденеру: — что между нами заключенъ союзъ братства, что мы не имѣемъ болѣе права вызывать другъ друга. Рыцарь, вотъ вамъ моя рука. Признайтесь съ своей стороны, что вы забыли, что говорите о сынѣ вице-короля его будущему шурину, поручику Алефельду.
При этомъ имени Шумахеръ, который до сихъ поръ то равнодушно, то нетерпѣливо наблюдалъ за обоими, вскочилъ со скалы, испустивъ крикъ негодованія.
— Алефельдъ! Одинъ изъ Алефельдовъ передо мною! Змѣя! Какъ это въ сынѣ не узналъ я гнуснаго отца? Оставьте меня въ покоѣ въ моей тюрьмѣ, я не былъ приговоренъ къ наказанію видѣть васъ. Теперь недостаетъ только, чтобы возлѣ сына Алефельда я увидѣлъ сына Гульденлью… Низкіе предатели! Зачѣмъ не явятся они сюда сами издѣваться надъ моими слезами изступленія и бѣшенства? Отродье! Проклятое отродье Алефельда, оставь меня!
Офицеръ, ошеломленный сперва пылкостью проклятій, вскорѣ вернулъ къ себѣ самообладаніе и гнѣвно вскричалъ:
— Молчи, старый безумецъ! Скоро ли ты кончишь свои демонскія заклинанія?
— Оставь, оставь меня, — продолжалъ старикъ: — неси съ собой мое проклятіе твоему роду и презрѣнному роду Гульденлью.
— Чортъ возьми, — вскричалъ офицеръ съ бѣшенствомъ: — ты наносишь мнѣ двойное оскорбленіе!..
Орденеръ остановилъ поручика, который вышелъ изъ себя.
— Не забывайте уваженія къ возрасту даже въ своемъ врагѣ, поручикъ. У насъ есть съ вами счеты и я дамъ вамъ удовлетвореніе за обиды, нанесенныя узникомъ.
— Все равно, — отвѣчалъ Алефельдъ: — если вы берете на себя двойную отвѣтственность. Поединокъ нашъ будетъ не на животъ, а на смерть, такъ какъ мнѣ придется отмстить и за самого себя и за моего зятя. Не забудьте, что поднявъ мою перчатку, вы въ то же время подняли перчатку Орденера Гульденлью.
— Поручикъ Алефельдъ, — отвѣтилъ Орденеръ: — вы заступаетесь за отсутствующихъ съ жаромъ, свидѣтельствующимъ о вашей великодушной натурѣ. Отчего же вы такъ мало имѣете состраданія къ злополучному старцу, которому несчастія даютъ нѣкоторое право быть несправедливымъ?
Алефельдъ обладалъ одной изъ тѣхъ натуръ, добрыя качества которыхъ пробуждаются похвалой. Пожавъ руку Орденера, онъ подошелъ къ Шумахеру, который, обезсиленный своей страстной вспышкой, упалъ на утесъ въ объятія плачущей Этели.
— Господинъ Шумахеръ, — сказалъ офицеръ: — вы употребили во зло вашу старость, а я, быть можетъ, употребилъ бы во зло мою молодость, если бы вы не нашли себѣ защитника. Въ это утро я въ послѣдній разъ зашелъ въ вашу тюрьму, чтобы объявить вамъ, что отнынѣ, по особенному приказанію вице-короля, вы будете свободны и безъ надзора въ этой башнѣ. Примите эту добрую вѣсть изъ устъ врага.
— Уйдите, — сказалъ старый узникъ глухимъ голосомъ.
Поручикъ поклонился и ушелъ, внутренно довольный одобрительнымъ взглядомъ Орденера.
Нѣсколько минутъ Шумахеръ, потупивъ голову и, скрестивъ руки на груди, оставался погруженнымъ въ глубокую задумчивость; и потомъ вдругъ устремилъ взоръ свой на Орденера, который молча стоялъ передъ нимъ.
— Ну-съ, — сказалъ онъ.
— Графъ, Диспольсенъ былъ убитъ.
Голова старика снова упала на грудь. Орденеръ продолжалъ:
— Его убійца знаменитый разбойникъ Ганъ Исландецъ.
— Ганъ Исландецъ! — вскричалъ Шумахеръ.
— Ганъ Исландецъ! — повторила Этель.
— Онъ ограбилъ капитана, — продолжалъ Орденеръ.
— Итакъ, — спросилъ старикъ: — вы ничего не слыхали о желѣзной шкатулкѣ, запечатанной гербомъ Гриффенфельда?
— Нѣтъ, графъ.
Шумахеръ опустилъ голову на руки.
— Я доставлю его вамъ, графъ; положитесь на меня. Убійство произошло вчера утромъ, Ганъ бѣжалъ къ сѣверу. У меня есть проводникъ, знающій всѣ его убѣжища, я самъ часто проходилъ по горамъ Дронтгеймскаго округа. Я отыщу разбойника.
Этель поблѣднѣла. Шумахеръ всталъ, его взоры радостно сверкнули, какъ будто онъ убѣдился, что еще есть добродѣтель въ людяхъ.
— Прощай, благородный Орденеръ, — сказалъ онъ и, поднявъ руку къ небу, исчезъ въ чащѣ кустарника.
Обернувшись, Орденеръ увидалъ на утесѣ, потемнѣвшемъ отъ моха, блѣдную Этель подобно алебастровой статуѣ на черномъ пьедесталѣ.
— Боже мой, Этель! — вскричалъ онъ, бросившись къ ней и поддерживая ее: — Что съ вами?
— О! — отвѣчала трепещущая молодая дѣвушка едва слышнымъ голосомъ: — Если вы имѣете хоть сколько нибудь, не любви, но сожалѣнія ко мнѣ, если вы вчера не обманывали меня, если вы удостоили войти въ эту тюрьму не для того, чтобы погубить меня, г. Орденеръ, мой Орденеръ, откажитесь, именемъ неба, именемъ ангеловъ заклинаю васъ, откажитесь отъ вашего безумнаго намѣренія! Орденеръ, дорогой Орденеръ, — продолжала она, заливаясь слезами и склонивъ голову на грудь молодаго человѣка: — принеси для меня эту жертву. Не преслѣдуй этого разбойника, этого страшнаго демона, съ которымъ ты намѣренъ бороться. Зачѣмъ тебѣ преслѣдовать его, Орденеръ? Скажи мнѣ, развѣ не дороже для тебя всего на свѣтѣ счастіе злополучной дѣвушки, которую ты еще вчера назвалъ своей возлюбленной супругой?..
Она замолчала. Рыданія душили ей горло. Обвивъ руками шею Орденера, она устремила свои молящіе взоры въ его глаза.
— Дорогая Этель, вы напрасно такъ убиваетесь. Богъ покровительствуетъ добрымъ стремленіямъ, я же руковожусь единственно только вашимъ благомъ. Эта желѣзная шкатулка заключаетъ въ себѣ…
Этель съ жаромъ перебила его:
— Моимъ благомъ! Твоя жизнь — мое единственное благо. Что станется со мною, если ты умрешь, Орденеръ?
— Но почему же ты думаешь, Этель, что я умру?..
— О! Ты не знаешь Гана, этого адскаго злодѣя! Знаешь ли ты, какое чудовище ждетъ тебя? Знаешь ли ты, что ему повинуются всѣ силы тьмы? Что онъ опрокидываетъ горы на города? Что подъ его ногами рушатся подземныя пещеры? Что отъ его дыханія тухнутъ маяки на скалахъ? И ты надѣешься, Орденеръ, своими бѣлыми руками, своей хрупкой шпагой восторжествовать надъ этимъ великаномъ, котораго оберегаютъ демоны?
— Но ваши молитвы, Этель, мысль, что я вступаю въ борьбу за васъ? Повѣрь, дорогая Этель, тебѣ черезчуръ преувеличили силу и могущество этого разбойника. Это такой же человѣкъ, какъ и мы, онъ убиваетъ до тѣхъ поръ, пока самъ не будетъ убитъ.
— Ты не хочешь слушать меня? Ты не обращаешь вниманія на мои слова? Но, подумай, что станется со мною, когда ты отправишься, когда ты будешь блуждать изъ одной опасности въ другую, рискуя, Богъ знаетъ для чего, своей жизнью, которая принадлежитъ мнѣ, выдавая свою голову чудовищу…
Тутъ повѣствованія поручика съ новой силой возникли въ головѣ Этели; любовь и ужасъ придали имъ фантастическіе размѣры. Голосомъ, прерывающимся отъ рыданій, она продолжала:
— Увѣряю тебя, мой возлюбленный, тебя обманули, сказавъ, что это обыкновенный смертный. Орденеръ, ты долженъ больше вѣрить мнѣ, ты знаешь, что я не стану тебя обманывать. Тысячу разъ пытались бороться съ нимъ, и онъ уничтожалъ цѣлые батальоны. О! Какъ хотѣлось бы мнѣ, чтобы тебѣ сказали это другіе, ты повѣрилъ бы имъ и не пошелъ бы.
Просьбы бѣдной Этели, безъ сомнѣнія, поколебали бы отважную рѣшимость Орденера, если бы она не была принята безповоротно. Отчаянныя слова, вырвавшіяся наканунѣ у Шумахера, пришли ему на память и еще болѣе укрѣпили его рѣшимость.
— Дорогая Этель, я могъ бы сказать вамъ, что не поѣду и, тѣмъ не менѣе, исполнилъ бы мое намѣреніе. Но я никогда не стану обманывать васъ даже для того, чтобы успокоить. Повторяю, я ни минуты не долженъ колебаться въ выборѣ между вашими слезами и вашимъ благомъ. Дѣло идетъ о вашей будущности, вашемъ счастье, вашей жизни, быть можетъ, о твоей жизни, дорогая Этель…
Онъ нѣжно прижалъ ее къ своей груди.
— Но что это значитъ для меня? — возразила Этель со слезами на глазахъ. — Дорогой мой Орденеръ, радость моя, ты знаешь, что ты составляешь для меня все, не накликай на насъ ужасныхъ, неизбѣжныхъ бѣдствій изъ-за несчастій пустыхъ и сомнительныхъ. Что значитъ для меня счастье, жизнь?…
— Этель, дѣло идетъ также о жизни вашего отца.
Она вырвалась изъ его объятій.
— Моего отца? — повторила она упавшимъ голосомъ и блѣднѣя.
— Да. Этель, этотъ разбойникъ, подкупленный, безъ сомнѣнія врагами графа Гриффенфельда, захватилъ бумаги, потеря которыхъ грозитъ жизни вашего отца и безъ того уже столь ненавистнаго его врагамъ. Я намѣренъ отнять эти бумаги, а съ ними и жизнь у этого разбойника.
Нѣсколько минутъ блѣдная Этель не могла выговорить слова. Она больше не плакала; ея грудь высоко вздымалась отъ глубокихъ дыханій, она смотрѣла на землю мрачнымъ, безучастнымъ взоромъ, какимъ смотритъ осужденный на казнь въ минуту, когда топоръ занесенъ надъ его головой.
— Моего отца! — прошептала она.
Медленно переведя взоръ свой на Орденера, она сказала:
— То, что ты замышляешь, не принесетъ пользы; но поступай, какъ приказываетъ тебѣ твой долгъ.
Орденеръ прижалъ ее къ своей груди.
— О, благородная дѣвушка, пусть сердца наши бьются вмѣстѣ. Великодушный другъ! Я скоро вернусь къ тебѣ. Ты будешь моей; я хочу спасти твоего отца, чтобы заслужить отъ него названіе сына. Этель, возлюбленная Этель!..
Кто въ состояніи изобразить то, что творится въ благородномъ сердцѣ, чувствующемъ, что оно понято другимъ, столь же благороднымъ? И если любовь неразрывными узами скрѣпляетъ эти двѣ великихъ души, кто можетъ описать ихъ невыразимое наслажденіе? Кажется, соединившись въ это краткое мгновеніе, онѣ испытываютъ все счастье, всѣ радости бытія, увѣнчаннаго прелестью великодушной жертвы.
— Иди, мой Орденеръ, и если ты не вернешься, безнадежная тоска убиваетъ. У меня останется это горькое утѣшеніе.
Оба поднялись. Взявъ подъ руку Этель, Орденеръ молча направился по извилистымъ аллеямъ мрачнаго сада.
Печально дошли они до двери башни, служившей выходомъ, и тутъ Этель, вынувъ маленькія золотыя ножницы, отрѣзала прядь своихъ прекрасныхъ черныхъ волосъ.
— Возьми ее, Орденеръ; пусть она сопровождаетъ тебя, пусть будетъ счастливѣе меня.
Орденеръ благоговѣйно прижалъ къ губамъ этотъ подарокъ своей возлюбленной.
Этель продолжала:
— Думай обо мнѣ, Орденеръ, я же стану молиться за тебя. Моя молитва, быть можетъ, будетъ столь же могущественна предъ Богомъ, какъ твое оружіе надъ демономъ.
Орденеръ сталъ на колѣни передъ этимъ ангеломъ. Его сердце было черезчуръ полно чувствъ, чтобы онъ могъ выговорить слово. Нѣсколько минутъ сердца ихъ бились одно подлѣ другаго. Въ минуту, можетъ быть, вѣчной разлуки Орденеръ съ печальнымъ восторгомъ наслаждался счастьемъ обнявъ еще разъ свою дорогую Этель. Наконецъ, запечатлѣвъ на блѣдномъ лбу молодой дѣвушки цѣломудренный долгій поцѣлуй, онъ поспѣшно бросился подъ темные своды винтовой лѣстницы, услышавъ въ послѣдній разъ это грустное и сладостное «прости»!
X
Послѣ безсонно проведенной ночи, графиня Алефельдъ встала и полулежа на софѣ, размышляла о горькихъ плодахъ порочной страсти, преступленіи, которое подтачиваетъ жизнь наслажденіями безъ счастья, горемъ безъ утѣшенія.
Она думала о Мусдемонѣ, который нѣкогда рисовался въ ея воображеніи столь обольстительнымъ и столь отвратительнымъ теперь, когда она поняла его, когда узнала душу, скрываемую тѣломъ. Несчастная плакала не о томъ, что обманулась, но о томъ, что не могла болѣе обманывать себя; плакала отъ сожалѣнія, а не раскаянія, и слезы не облегчали ее.
Въ эту минуту дверь отворилась. Она поспѣшно отерла глаза и съ раздраженіемъ обернулась, такъ какъ никого не велѣла пускать къ себѣ. При видѣ Мусдемона, гнѣвъ ея смѣнился ужасомъ, который смягчился, когда она примѣтила съ нимъ своего сына Фредерика.
— Матушка! — вскричалъ поручикъ: — Какимъ образомъ вы здѣсь? Я думалъ, что вы въ Бергенѣ. Развѣ нашихъ прекрасныхъ дамъ снова обуяла страсть къ путешествіямъ?
Графиня заключила Фредерика въ свои объятія, на которыя, какъ всѣ избалованныя дѣти, онъ отвѣчалъ доволъно холодно. Быть можетъ, это было наиболѣе чувствительнымъ наказаніемъ для этой несчастной. Фредерикъ былъ ея любимое дѣтище, единственное существо въ мірѣ, къ которому она питала безкорыстную привязанность. Часто въ падшей женщинѣ, въ которой заглохли всѣ чувства супруги, сохраняется еще нѣчто материнское.
— Я вижу, сынъ мой, что, узнавъ о моемъ присутствіи въ Дронтгеймѣ, вы поспѣшили увидѣться со мною.
— О! Совсѣмъ нѣтъ. Мнѣ наскучила крѣпость и я прибылъ въ городъ, гдѣ встрѣтилъ Мусдемона, который привелъ меня сюда.
Бѣдная мать глубоко вздохнула.
— Кстати, матушка, — продолжалъ Фредерикъ: — я радъ, что увидѣлся съ вами. Скажите, въ модѣ ли еще банты изъ розовыхъ лентъ у подола камзола? Привезли-ли вы мнѣ флаконъ съ «Масломъ Молодости», которое бѣлитъ кожу? Вы, конечно, не забыли захватить съ собой послѣдній переводный романъ, галуны чистаго золота, которые я просилъ у васъ для моего дорожнаго плаща огненнаго цвѣта, маленькія гребенки, которыя употребляются теперь въ прическѣ для поддержки буклей…
Несчастная женщина привезла сыну только свою любовь.
— Дорогой сынъ, я была больна, мои страданія помѣшали мнѣ позаботиться о твоихъ прихотяхъ.
— Вы были больны, матушка? Ну, а теперь вы себя лучше чувствуете?.. Кстати, какъ поживаетъ стая моихъ нормандскихъ псовъ? Готовъ побиться объ закладъ, что мою обезьяну не купаютъ каждый вечеръ въ розовой водѣ, и навѣрно, вернувшись, я найду моего бильбаоскаго попугая мертвымъ… Безъ меня некому позаботиться о моихъ животныхъ.
— По крайней мѣрѣ ваша мать заботится о васъ, сынъ мой, сказала мать дрогнувшимъ голосомъ.
Въ эту минуту ангелъ истребитель, ввергаюший души грѣшниковъ въ вѣчныя муки ада, и тотъ сжалился-бы надъ скорбью, которая сжимала сердце злополучной графини.
Мусдемонъ смѣялся въ углу комнаты.
— Господинъ Фредерикъ, — сказалъ онъ: — я вижу, что ваша стальная шпага не хочетъ ржавѣть въ желѣзныхъ ножнахъ. Вы не утратили, не забыли въ Мункгольмскихъ башняхъ добрыя преданія Копенгагенскихъ салоновъ. Но удостойте меня отвѣтомъ, къ чему всѣ эти «Масла Молодости», розовыя ленточки, эти маленькія гребенки, къ чему всѣ эти орудія осады, когда единственная женская крѣпость, заключенная въ Мункгольмскихъ башняхъ, неприступна?
— Клянусь честью, вы правы, — отвѣтилъ Фредерикъ, смѣясь. — Но, гдѣ не имѣлъ успѣха я, тамъ и самъ генералъ Шакъ потерпѣлъ-бы крушеніе. Да развѣ возможно взять крѣпость, всѣ части которой прикрыты и неусыпно охраняются? Что прикажете дѣлать противъ нагрудника, который позволяетъ видѣть только шею, противъ рукавовъ, скрывающихъ руки, такъ что только по лицу и кистямъ можно судить, что молодая дѣвушка не черна какъ Мавританскій императоръ? Дорогой наставникъ, вы сами стали бы школьникомъ. Повѣрьте, крѣпость неприступна, когда роль гарнизона исполняетъ у ней стыдливость.
— Правда, — согласился Мусдемонъ: — но нельзя-ли заставить стыдливость сдаться на капитуляцію, пустивъ любовь на приступъ, вмѣсто того, чтобы ограничивать блокаду волокитствомъ.
— Напрасный трудъ, мой милѣйшій. Любовь уже засѣла въ ней и подкрѣпляетъ стыдливость.
— А! Господинъ Фредерикъ, это новость. Съ любовью къ вамъ…
— Кто вамъ сказалъ Мусдемонъ, что ко мнѣ?..
— Такъ къ кому-же? — вскричали въ одинъ голосъ Мусдемонъ и графиня, которая до сихъ поръ слушала молча ихъ разговоръ и которой слова поручика напомнили объ Орденерѣ.
Фредерикъ хотѣлъ уже отвѣчать и обдумывалъ пикантный разсказъ о вчерашней ночной сценѣ, какъ вдругъ молчаніе, предписываемое законами рыцарства, пришло ему на умъ и измѣнило веселость его на смущеніе.
— Право, не знаю къ кому, — сказалъ онъ, запинаясь: — можетъ быть къ какому-нибудь мужику… вассалу…
— Къ какому-нибудь гарнизонному солдату? — спросилъ Мусдемонъ, покатываясь со смѣху.
— Какъ, сынъ мой! — вскричала въ свою очередь графиня: — Вы убѣждены, что она любитъ крестьянина, вассала?.. Какое счастіе, если-бы вы были правы!
— О, я въ этомъ нисколько не сомнѣваюсь, хотя онъ и не гарнизонный солдатъ, — добавилъ поручикъ обиженнымъ тономъ. — Но я настолько убѣжденъ въ этомъ, что прошу васъ, матушка, сократить мое безполезное пребываніе въ этомъ проклятомъ замкѣ.
Физіономія графини прояснилась, когда она узнала о паденіи молодой дѣвушки. Поспѣшный отъѣздъ Орденера Гульденлью въ Мункгольмъ представился тогда ей совершенно въ иномъ свѣтѣ. Она предположила въ немъ честь, оказанную ея сыну.
— Фредерикъ, вы теперь же разскажете намъ подробности любовныхъ похожденій Этели Шумахеръ. Это ничуть не изумляетъ меня: мужичка можетъ любить только мужика. А пока не проклинайте зáмокъ, доставившій вамъ вчера случай видѣться съ извѣстной личностью, сдѣлавшей первый шагъ къ сближенію съ вами.
— Что, матушка! — вскричалъ поручикъ, широко раскрывъ глаза: — Какой личностью?
— Оставь эти шутки, сынъ мой. Развѣ никто не посѣщалъ васъ вчера? Вы видите, что мнѣ все извѣстно.
— Дѣйствительно, лучше чѣмъ мнѣ, матушка. Чортъ меня возьми, если я видѣлъ вчера какое другое лицо, кромѣ смѣшныхъ рожъ, украшающихъ карнизъ старыхъ башенъ.
— Какъ, Фредерикъ, вы никого не видѣли?
— Никого, матушка, ей Богу!
Фредерикъ, не упоминая о своемъ соперникѣ въ башнѣ, повиновался закону молчанія; и притомъ какое значеніе могъ имѣть этотъ мужикъ.
— Какъ! — вскричала графиня. — Сынъ вице-короля не былъ вчера вечеромъ въ Мункгольмѣ?
Поручикъ расхохотался.
— Сынъ вице-короля! Право, матушка, вы или бредите, или смѣетесь надо мною.
— Ничуть, сынъ мой. Кто былъ вчера на караулѣ?
— Я самъ, матушка.
— И вы не видѣли барона Орденера?
— И не думалъ! — отвѣтилъ поручикъ.
— Но подумайте, сынъ мой, что онъ могъ прибыть инкогнито, что вы никогда его не видали, такъ какъ воспитывались въ Копенгагенѣ, а онъ въ Дронтгеймѣ; вспомните, что говорятъ о его капризахъ, причудахъ. Убѣждены ли вы, сынъ мой, что не видѣли никого?
Фредерикъ колебался нѣсколько мгновеній.
— Нѣтъ, — вскричалъ онъ: — никого! Мнѣ нечего болѣе прибавить.
— Но въ такомъ случаѣ, - возразила графиня: — баронъ, безъ сомнѣнія, не былъ въ Мункгольмѣ?
Мусдемонъ, сперва изумленный не менѣе Фредерика, не проронилъ ни одного слова изъ разговора.
— Позвольте, благородная графиня, перебилъ онъ мать молодаго Алефельда: — господинъ Фредерикъ, скажите, пожалуйста, какъ зовутъ вассала, любовника дочери Шумахера?
Онъ повторилъ свой вопросъ, такъ какъ Фредерикъ, погруженный въ задумчивость, не слушалъ его.
— Я не знаю… или скорѣе… Да, я не знаю.
— Но почему вы знаете, что она любитъ вассала?
— Развѣ я это сказалъ? Вассала? Ну, положимъ, вассала…
Замѣшательство поручика росло съ каждой минутой. Этотъ допросъ, мысли, порождаемыя имъ въ немъ, обѣтъ молчанія приводили его въ смущеніе, съ которымъ онъ боялся не совладать…
— Клянусь честью, господинъ Мусдемонъ, и вы, достойная матушка, если страсть къ допросамъ теперь въ модѣ, забавляйтесь промежъ себя, допрашивая другъ друга. Мнѣ же рѣшительно нечего болѣе вамъ прибавить.
Поспѣшно открывъ дверь, онъ исчезъ, оставивъ ихъ теряться въ безднѣ догадокъ и предположеній. Заслыша голосъ Мусдемона, который звалъ его, онъ опрометью бросился на дворъ.
Вскочивъ на лошадь, онъ направился къ гавани, откуда рѣшился снова переправиться въ Мункгольмъ, надѣясь застать тамъ незнакомца, который заставилъ погрузиться въ глубокія размышленія одинъ изъ самыхъ легкомысленныхъ умовъ одной изъ наиболѣе легкомысленныхъ столицъ.
— Если это дѣйствительно былъ Орденеръ Гульденлью, — разсуждалъ онъ самъ съ собой, — въ такомъ случаѣ моя бѣдная Ульрика… Но, нѣтъ, невозможно, чтобы онъ былъ такъ глупъ, предпочтя бѣдную дочь государственнаго преступника богатой дочери всемогущаго министра. Во всякомъ случаѣ дочь
Шумахера не болѣе, какъ одна изъ его прихотей. Ничто не мѣшаетъ, имѣя жену, завести въ то же время и любовницу… это даже бонтонно. Но нѣтъ, это не Орденеръ. Сынъ вице-короля не нарядился бы въ такой потасканный камзолъ; а это старое черное перо безъ пряжки, истрепанное вѣтромъ и дождемъ! А этотъ широкій плащъ, изъ котораго вышла бы палатка! Эти всклоченные волосы, незнакомые ни съ гребенкой, ни съ прической! Эти сапоги съ желѣзными шпорами, забрызганные грязью и пылью! Нѣтъ, рѣшительно это на него не похоже. Баронъ Торвикъ, кавалеръ ордена Даннеброга; этотъ же незнакомецъ не имѣлъ никакого знака отличія. Будь я кавалеромъ ордена Даннеброга, мнѣ кажется, я даже спалъ бы въ орденской цѣпи. О, нѣтъ! Онъ даже не слыхалъ о Клеліи. Нѣтъ, это не сынъ вице-короля.
XI
— Ну, кто тамъ еще? Ты, Поэль! Кто тебя послалъ?
— Ваше превосходительство забыли, что сами изволили приказать мнѣ.
— Да? — пробормоталъ генералъ: — А! Я хотѣлъ, чтобы ты подалъ мнѣ этотъ картонъ.
Поэль передалъ губернатору картонъ, который тотъ самъ легко могъ достать, протянувъ только руку.
Генералъ машинально отложилъ картонъ, не раскрывая его, и разсѣянно перелисталъ нѣсколько бумагъ.
— Поэль, что это хотѣлъ я спросить… Который часъ?
— Шесть часовъ утра, — отвѣтилъ слуга генералу, передъ глазами котораго висѣли часы.
— Что, бишь, я хотѣлъ сказать тебѣ, Поэль… Что новаго во дворцѣ?
Генералъ продолжалъ разсматривать бумаги, съ озабоченнымъ видомъ надписывая нѣсколько словъ на каждой.
— Ничего, ваше превосходительство, не считая того, что все еще ждутъ моего барина, отсутствіе котораго, видно, безпокоитъ и генерала.
Генералъ поднялся изъ-за стола, съ досадой взглянувъ на Поэля.
— Ты плохо видишь, Поэль. Мнѣ безпокоиться объ Орденерѣ! Мнѣ извѣстны причины его отсутствія, и пока я совсѣмъ не жду его.
Генералъ Левинъ Кнудъ такъ ревниво оберегалъ права своей власти, что они казались ему попранными, если какой-нибудь подчиненный дерзалъ угадать его тайную мысль и думать, что Орденеръ дѣйствовалъ безъ его вѣдома.
— Ступай, Поэль, — продолжалъ онъ.
Слуга вышелъ.
— Право, — вскричалъ губернаторъ, оставшись одинъ: — Орденеръ заходитъ слишкомъ далеко. Пытаясь согнуть клинокъ, ломаетъ его. Заставить меня провести ночь въ безсонницѣ и нетерпѣніи! Подвергнуть генерала Левина сарказмамъ канцлерши, догадкамъ лакея! И все для того, чтобы старый врагъ получилъ первый объятія, на которыя имѣетъ право старый другъ. Орденеръ! Орденеръ! Прихоти убиваютъ свободу! Пусть только вернется, пусть только покажется, чортъ меня побери, если я не встрѣчу его какъ порохъ встрѣчаетъ огонь. Нѣтъ, каково! Подвергать губернатора Дронтгейма догадкамъ слуги, сарказмамъ канцлерши! Пусть только появится!..
Генералъ продолжалъ помѣчать бумаги, не читая ихъ, до такой степени онъ былъ раздосадованъ.
— Генералъ, батюшка! — вскричалъ знакомый голосъ.
Орденеръ сжималъ въ своихъ объятіяхъ старика, который не могъ удержаться отъ радостнаго восклицанія.
— Орденеръ, мой храбрый Орденеръ! Чортъ побери!
Какъ я радъ!.. Я радъ, баронъ, — продолжалъ генералъ, вдругъ перемѣнивъ тонъ: — что вы умѣете обуздывать свои чувства. Кажется, вы были рады свидѣться со мною и если воздержались отъ этого въ теченіе сутокъ, то лишь для того, чтобы умѣть сдерживать свои порывы.
— Батюшка, не вы-ли часто говаривали мнѣ, что врагъ въ несчастіи предпочтительнѣе счастливаго друга. Я прибылъ сюда изъ Мункгольма.
— Не спорю, — возразилъ генералъ: — если несчастіе дѣйствительно грозитъ врагу. Но будущность Шумахера…
— Въ большей опасности, чѣмъ когда-либо. Достойный генералъ, гнусный заговоръ составленъ противъ несчастнаго. Его бывшіе друзья хотятъ погубить его. Его исконный врагъ долженъ его спасти…
Генералъ, выраженіе лица котораго постепенно смягчалось, перебилъ Орденера:
— Прекрасно, мой милый, но о чемъ ты толкуешь? Шумахеръ находится подъ моей защитой. Какіе друзья? Какіе заговоры?..
Орденеру затруднительно было дать опредѣленный отвѣтъ на этотъ вопросъ. Онъ обладалъ крайне скудными, слишкомъ недостаточными свѣдѣніями о положеніи человѣка, для котораго рисковалъ своей жизнью. Многіе нашли-бы, что онъ поступаетъ неразумно, но молодежь поступаетъ такъ, какъ она считаетъ справедливымъ инстинктивно, а не по разсчету; и при томъ на этомъ свѣтѣ, гдѣ благоразуміе такъ сухо, гдѣ мудрость такъ иронична, кто станетъ отрицать, что великодушіе не есть безуміе? Все относительно на землѣ, гдѣ все имѣетъ свои границы; сама добродѣтель почиталась-бы величайшей глупостью, если бы надъ людьми не было Бога. Орденеръ былъ въ томъ счастливомъ возрастѣ, который еще не утратилъ вѣры и довѣрія къ себѣ; ради послѣдняго онъ рисковалъ своей жизнью. Генералъ принялъ его доводы, которые не выдержали-бы холодной критики.
— Какіе заговоры? Какіе друзья? Дорогой батюшка. Въ нѣсколько дней я все это разузнаю и поспѣшу вамъ сообщить. Я намѣренъ отправиться сегодня вечеромъ.
— Что! — вскричалъ старикъ: — Ты удѣлишь мнѣ только нѣсколько часовъ! Но куда и зачѣмъ ты отправляешься, мой милый сынъ?
— Добрый батюшка, вы иногда позволяли мнѣ дѣлать добро в тайнѣ.
— Да, мой храбрый Орденеръ; но ты уѣзжаешь, почти не зная зачѣмъ, и при томъ вспомни какое важное обстоятельство требуетъ твоего…
— Отецъ далъ мнѣ мѣсяцъ на размышленіе, я посвящаю его на пользу другаго. Доброе дѣло приноситъ доброе наставленіе. Впрочемъ, по возвращеніи мы посмотримъ.
— Что! — возразилъ генералъ съ озабоченнымъ видомъ: — Развѣ этотъ союзъ не нравится тебѣ? Говорятъ, Ульрика Алафельдъ такъ хороша собой! Скажи мнѣ ты ее видѣлъ?
— Кажется, — отвѣтилъ Орденеръ: — она дѣйствительно хороша собой.
— Ну-съ! — спросилъ губернаторъ.
— Ну-съ, — отвѣтилъ Орденеръ: — она не будетъ моей женой.
Эти холодныя, рѣшительныя слова какъ громомъ поразили генерала. Подозрѣнія гордой графини пришли ему на память.
— Орденеръ, — сказалъ онъ, покачавъ головой: — мнѣ надо быть умнѣе, такъ какъ я наглупилъ. Право, я выжилъ изъ ума отъ старости! Орденеръ! Узникъ имѣетъ дочь…
— О! Генералъ, — перебилъ молодой человѣкъ: — я хотѣлъ поговорить съ вами о ней. Батюшка, я прошу вашего покровительства этой безпомощной, притѣсняемой дѣвушкѣ.
— Дѣйствительно, — серьезно замѣтилъ губернаторъ: — твои просьбы пылки.
Орденеръ нѣсколько опомнился.
— О! Развѣ можетъ быть иначе, когда просишь за злополучную узницу, которую хотятъ лишить жизни и, что еще дороже жизни, чести?..
— Жизни! Чести! Но вѣдь я губернаторъ города, а между тѣмъ пребываю въ невѣдѣніи объ этихъ ужасахъ. Объясни, что ты хочешь сказать.
— Дорогой батюшка, жизнь узника и его дочери беззащитна, ей угрожаетъ адскій заговоръ…
— Но это очень важно; есть у тебя доказательства?
— Старшій сынъ могущественнаго рода находится теперь въ Мункгольмѣ, чтобы обольстить графиню Этель… Онъ самъ признался въ этомъ.
Генералъ попятился.
— Боже мой, бѣдная, злополучная дѣвушка! Орденеръ! Этель и Шумахеръ подъ моимъ покровительствомъ. Кто этотъ презрѣнный, какой это родъ?
Орденеръ приблизился къ генералу и сжалъ ему руку.
— Родъ Алефельдовъ.
— Алефельдовъ! — повторилъ старый губернаторъ. — Да, сомнѣнія быть не можетъ, поручикъ Фредерикъ находится теперь въ Мункгольмѣ. Дорогой Орденеръ, и тебя хотятъ породнить съ этой семьей. Я понимаю твое отвращеніе, дорогой Орденеръ.
Скрестивъ руки, старикъ оставался нѣсколько минутъ въ задумчивости, затѣмъ, подойдя къ Орденеру, онъ прижалъ его къ своей груди.
— Молодой человѣкъ, ты можешь ѣхать; тѣ, которымъ ты покровительствуешь, не останутся беззащитны въ твое отсутствіе; я замѣню тебя. Да, поѣзжай, я одобряю всѣ твои поступки. Эта адская графиня Алефельдъ теперь здѣсь, можетъ быть ты знаешь объ этомъ?
— Высокородная графиня Алефельдъ, — доложилъ слуга, растворяя дверь.
Услышавъ это имя, Орденеръ машинально отступилъ въ глубину комнаты, и графиня не примѣтивъ его присутствія, вскричала:
— Генералъ, вашъ воспитанникъ издѣвается надъ вами. Онъ совсѣмъ не былъ въ Мункгольмѣ.
— Неужели! — сказалъ генералъ.
— Ахъ, Боже мой! Мой сынъ Фредерикъ только что вышелъ изъ дворца; онъ былъ вчера на дежурствѣ въ башнѣ и не видѣлъ никого.
— Неужели, графиня? — повторилъ генералъ.
— Такъ что, генералъ, вамъ нечего ждать вашего Орденера, — продолжала графиня съ торжествующимъ видомъ.
Губернаторъ оставался серьезенъ и холоденъ.
— Я дѣйствительно не жду его болѣе, графиня.
— Генералъ, — сказала графиня, обернувшись: — я думаю, что мы одни… Кто это?
Графиня устремила испытующій взоръ на Орденера, который поклонился ей.
— Неужели это… продолжала она: — Я видѣла его только разъ… но… если бы не этотъ костюмъ, можно было бы… Генералъ, это сынъ вице-короля?
— Онъ самъ, графиня, — отвѣтилъ Орденеръ, снова поклонившись.
Графиня улыбнулась.
— Въ такомъ случаѣ позвольте дамѣ, которая вскорѣ получить надъ вами большія права, спросить гдѣ вы были вчера, графъ…
— Графъ! Мнѣ не вѣрится, графиня, чтобы я потерялъ моего отца.
— О, вы не поняли меня. Гораздо лучше сдѣлаться графомъ, женившись, чѣмъ потерявъ отца.
— Ну, одно другого стоитъ, графиня.
Графиня, нѣсколько смутилась, однако разсмѣялась.
— О, мнѣ правду сказали о его нелюдимости. Онъ привыкнетъ къ дамскимъ подаркамъ, когда Ульрика Алефельдъ повѣситъ ему на шею цѣпь ордена Слона.
— Дѣйствительно цѣпь! — замѣтилъ Орденеръ.
— Вотъ увидите, генералъ Левинъ, — продолжала графиня съ принужденнымъ смѣхомъ: — вашъ несговорчивый воспитанникъ не захочетъ принять отъ дамы и чинъ полковника.
— Вы правы, графиня, — возразилъ Орденеръ: — человѣкъ, умѣюшій владѣть шпагой, не долженъ быть обязанъ своими аксельбантами юбкѣ.
Лицо графини совсѣмъ омрачилось.
— О! о! Но откуда вы явились, баронъ? Правда ли, что ваше высочество не были вчера въ Мункгольмѣ?
— Графиня, я не всегда отвѣчаю на всѣ вопросы. Ну, генералъ, мы увидимся…
Съ этими словами, пожавъ руку старику и поклонившись графинѣ, Орденеръ вышелъ, оставивъ графиню, изумленную его выходкой, наединѣ съ губернаторомъ, раздраженнымъ тѣмъ, что онъ узналъ.
XII
Если читатель перенесется теперь на дорогу, ведущую отъ Дронтгейма къ Сконгену, дорогу узкую и каменистую, пролегающую вдоль Дронтгеймскаго залива вплоть до деревушки Вигла, онъ не замедлитъ услышать шаги двухъ путниковъ, вышедшихъ подъ вечеръ изъ такъ называемыхъ Сконгенскихъ воротъ и довольно поспѣшно взбирающихся по уступчатымъ холмамъ, по которымъ извивается какъ змѣя дорога въ Виглу.
Оба закутаны въ плащи. Одинъ шагаетъ твердой юношеской поступью, держась прямо и поднявъ голову; наконечникъ сабли высовывается изъ подъ полы его плаща и, не смотря на сгустившіяся сумерки, на шляпѣ его замѣтно перо, развѣвающееся по вѣтру. Другой повыше ростомъ своего товарища, но слегка сгорбленъ; на спинѣ его можно примѣтить горбъ, образованный очевидно котомкой, скрытой подъ большимъ чернымъ плащемъ, черезчуръ зубчатый подолъ котораго свидѣтельствуетъ о долголѣтней, вѣрной службѣ. Все вооруженіе его ограничивается длинной палкой, которою онъ облегчаетъ свою неровную, торопливую походку.
Если ночная темнота препятствуетъ читателю различить черты обоихъ путниковъ, онъ быть можетъ узнаетъ ихъ по разговору, который началъ одинъ изъ нихъ послѣ часоваго скучнаго пути, проведеннаго въ молчаніи.
— Ну, молодой человѣкъ, мы находимся теперь въ такомъ пунктѣ, откуда можно видѣть сразу и башню Виглы и колокольни Дронтгейма. Передъ нами рисуется на горизонтѣ черная масса, это башня; а позади насъ кафедральный соборъ, стрѣльчатыя колонны котораго выдаются на болѣе свѣтломъ небѣ на подобіе реберъ мамонтова скелета.
— Далеко-ли отъ Виглы до Сконгена? — спросилъ другой путникъ.
— Намъ надо еще миновать Ордальсъ, такъ что раньше трехъ часовъ утра мы не будемъ въ Сконгенѣ.
— Который это часъ пробило сію минуту?
— Праведный Боже, вы заставили меня содрогнуться. Да, это звукъ Дронтгеймскаго колокола доносится къ намъ по вѣтру. Это вѣрный признакъ грозы. Сѣверо-западный вѣтеръ нагоняетъ тучи.
— Дѣйствительно, звѣздъ ужъ не видно позади насъ.
— Ускоримъ шаги, благородный господинъ, прошу васъ. Гроза приближается, а въ городѣ быть можетъ уже знаютъ про обезображенный трупъ Жилля и о моемъ бѣгствѣ. Ускоримъ шаги.
— Пожалуй. Старикъ, твоя ноша, кажется, тяжела, давай-ка ее сюда, я моложе и сильнѣе тебя.
— Нѣтъ, благодарю васъ, благородный господинъ; орлу не подобаетъ носить панцырь черепахи. Я не достоинъ отягощать васъ моей ношей.
— Но если она не подъ силу тебѣ, старикъ?.. Она кажется довольно увѣсистой. Что тамъ у тебя? Когда ты сейчасъ споткнулся, тамъ зазвенѣло точно желѣзо.
Старикъ поспѣшно отошелъ отъ молодаго человѣка.
— Зазвенѣло! О, нѣтъ, это вамъ почудилось. Тамъ ничего нѣтъ… кромѣ съѣстнаго, бѣлья… Нѣтъ, моя ноша нисколько не отягощаетъ меня.
Доброжелательное предложеніе молодаго человѣка, казалось, внушило его старому спутнику ужасъ, который онъ пытался скрыть.
— Ну, какъ знаешь, — отвѣтилъ молодой человѣкъ, ничего не примѣчая.
Старикъ успокоился и поспѣшилъ перемѣнить разговоръ.
— Да, господинъ, довольно скучновато бѣглецамъ брести ночью по дорогѣ, которая днемъ представляется путнику столь занимательной. По берегу залива, влѣво отъ насъ, находится гибель руническихъ камней, на которыхъ можно изучать письмена, начертанныя, какъ гласитъ преданіе, богами и великанами. Вправо отъ насъ, позади скалъ, обрамляющихъ дорогу, простирается Скіольдское соляное болото, очевидно сообщающееся съ моремъ какимъ-нибудь подземнымъ каналомъ, такъ какъ въ немъ ловится морской червь, эта достопримѣчательная рыба, которая, по наблюденіямъ вашего слуги и проводника, питается пескомъ. Мы приближаемся теперь къ башнѣ Виглы, въ которой король-язычникъ Вермондъ приказалъ изжарить груди святой великомученицы Этельдеры на горящемъ истинномъ крестѣ, привезенномъ въ Копенгагенъ Олаемъ III и отвоеванномъ норвежскимъ королемъ. Говорятъ, что съ тѣхъ поръ тщетно пытались превратить эту проклятую башню въ часовню; какіе бы кресты тамъ ни воздвигали, небесный огонь тотчасъ же истреблялъ ихъ.
Въ это мгновеніе сильная молнія освѣтила заливъ, холмы, скалы, башню и исчезла, прежде чѣмъ взорѣ путниковъ могъ различить какой-нибудь изъ этихъ предметовъ. Они невольно остановились и почти вслѣдъ за молніей раздался страшный громовой ударъ, эхо котораго раскатилось съ тучи на тучу на небѣ, съ скалы на скалу по землѣ.
Наши спутники взглянули на небо: звѣзды померкли, тяжелыя тучи быстро катились одна на другую и гроза, подобно лавинѣ, разразилась надъ ихъ головою. Сильный вѣтеръ, гнавшій тучи, не коснулся еще деревьевъ, на листву которыхъ, не волнуемую малѣйшимъ дуновеніемъ, еще не пало ни одной капли дождя. Съ высоты доносился бурный гулъ, который, сливаясь съ ревомъ залива, одинъ нарушалъ молчаливую ночную темноту, усилившуюся отъ мрака непогоды.
Это мятежное затишье вдругъ было прервано какимъ-то рычаньемъ, послышавшимся невдалекѣ отъ обоихъ путниковъ; старикъ весь затрясся отъ ужаса.
— Всемогущій Боже! — вскричалъ онъ, схвативъ руку молодаго человѣка: — Это дьявольскій смѣхъ бури, или голосъ…
Новый блескъ молніи, новый раскатъ грома прервали его слова. Гроза забушевала яростно, какъ будто ожидала только этого сигнала. Путники еще плотнѣе завернулись въ плащи, чтобы защититься отъ дождя, который потоками лилъ изъ тучъ, и отъ густаго песка, вихремъ вздымаемаго съ дороги.
— Старикъ, — произнесъ молодой путешественникъ: — при свѣтѣ молніи я только-что успѣлъ примѣтить вправо отъ насъ башню Виглы; свернемъ съ дороги и поищемъ тамъ убѣжища.
— Убѣжище въ проклятой башнѣ! — вскричалъ старикъ: — Да хранитъ насъ святой Госпицій! Подумайте, молодой человѣкъ, эта башня давно покинута.
— Тѣмъ лучше, старикъ. Намъ не придется ждать у дверей.
— Подумайте, какое гнусное преступленіе осквернило ее!..
— Такъ что же, она очистится, давъ намъ убѣжище. Ну, старина, слѣдуй за мною. Сказать откровенно, въ такую ночь я попросилъ бы убѣжища въ разбойничьемъ притонѣ.
Не обращая вниманія на предвѣщанія старика, онъ схватилъ его за руку и направился къ зданію, которое при частомъ блескѣ молніи виднѣлось невдалекѣ.
Приблизившись къ ней, они примѣтили свѣтъ въ одной изъ бойницъ башни.
— Посмотри, — замѣтилъ молодой путешественникъ: — эта башня обитаема. Теперь ты, безъ сомнѣнія, успокоишься.
— Господи, Боже мой! — вскричалъ старикъ: — Куда вы ведете меня? Святой Госпицій! Не попусти мнѣ войти въ вертепъ демона!
Путники находились у подножія башни. Молодой человѣкъ сильно постучалъ въ новую дверь этой мрачной развалины.
— Успокойся, старина; должно быть какой-нибудь благочестивый отшельникъ поселился тутъ и своимъ присутствіемъ освятилъ это оскверненное жилище.
— Нѣтъ, — отвѣчалъ ему спутникъ, — я не войду. Отвѣчаю вамъ, что никакой отшельникъ не можетъ здѣсь жить, если только нѣтъ у него вмѣсто четокъ одной изъ семи цѣпей Вельзевула.
Между тѣмъ, свѣтъ переходилъ изъ одной бойницы въ другую и наконецъ блеснулъ сквозь замочную скважину двери.
— Ты запоздалъ, Николь! — закричалъ чей-то пронзительный голосъ: — Висѣлицу ставятъ въ полдень, а шести часовъ достаточно, чтобы придти изъ Сконгена въ Виглу. Развѣ еще подвернулась какая работа?
Вопросъ былъ сдѣланъ въ ту минуту, какъ дверь отворилась. Женщина, открывшая ее, примѣтивъ вмѣсто того, котораго ожидала, двухъ незнакомцевъ, съ угрожающимъ и испуганнымъ крикомъ отступила назадъ.
Наружность женщины была мало успокоительна. Она была высокаго роста и держала надъ головой желѣзный ночникъ, освѣщавшій ея физіономію. Синеватыя черты ея лица, сухая, угловатая фигура сильно напоминали трупъ, а глубоко запавшіе въ орбиты глаза сверкали зловѣщимъ блескомъ, подобно погребальнымъ факеламъ. На ней надѣта была красная саржевая юбка, изъ подъ которой виднѣлись голыя ноги, и которая выпачкана была пятнами болѣе яркой красноты. Ея исхудалую грудь прикрывала мужская куртка, съ обрѣзанными по локоть рукавами.
Вѣтеръ, врываясь въ открытыя настежь двери, развѣвалъ на головѣ ея длинные, сѣдые волосы, слегка сдерживаемые мочалкой, что придавало еще болѣе дикости свирѣпому выраженію ея физіономіи.
— Добрая женщина, — сказалъ младшій изъ путниковъ: — дождь льетъ какъ изъ ведра, у тебя есть кровля, у насъ найдется золото,
Его старый спутникъ дернулъ его за плащъ и пробормоталъ тихимъ голосомъ:
— Милостивый господинъ! Что это вы говорите? Если это не дьявольское жилье, такъ навѣрно притонъ какого-нибудь разбойника. Наше золото не только не спасетъ насъ, а скорѣе погубитъ.
— Молчи, — произнесъ молодой человѣкъ и вытащивъ изъ кармана кошелекъ, блеснулъ имъ передъ глазами женщины, повторяя свою просьбу.
Та, опамятовавшись нѣсколько отъ удивленія, разсматривала поперемѣнно то одного, то другаго пристальнымъ, угрюмымъ взоромъ.
— Чужестранцы! — вскричала она, какѣ бы не слыша ихъ словъ: — Развѣ духи, покровительствовавшіе вамъ, отшатнулись отъ васъ? Что нужно вамъ отъ проклятыхъ обитателей проклятой башни? Не люди указали вамъ на эти развалины для убѣжища, каждый сказалъ бы вамъ: «лучше блескъ молніи, чѣмъ очагъ башни Виглы». Единственное живое существо, которое входитъ сюда, не имѣетъ доступа въ жилища другихъ людей, оно покидаетъ свое уединеніе только для народной толпы, живетъ только для смерти. Люди шлютъ ему проклятія, хотя оно мститъ за нихъ и существуетъ лишь ихъ преступленіями. Самый низкій злодѣй, въ минуту казни, слагаетъ на него всеобщее презрѣніе и еще считаетъ себя въ правѣ прибавить къ нему свое. Чужеземцы! Я считаю васъ чужеземцами, такъ какъ вы не отшатнулись съ ужасомъ отъ этой башни, не тревожьте долѣе волчицу съ волчатами; вернитесь на дорогу, по которой ходятъ другіе люди и если не хотите, чтобы васъ избѣгали ваши братья, не говорите имъ, что ночникъ башни Виглы освѣщалъ ваше лицо.
Съ этими словами, указавъ жестомъ на дверь, она приблизилась къ путникамъ.
Старикъ дрожалъ всѣми членами и съ умоляющимъ видомъ смотрѣлъ на своего молодаго товарища, который, не понявъ торопливыхъ, загадочныхъ словъ старухи, счелъ ее помѣшанной и не имѣлъ ни малѣйшаго желанія вернуться подъ ливень, бушевавшій съ удвоенной силой.
— Клянусь честью, добрая хозяюшка, ты описала намъ такую интересную личность, что я не хочу упустить случай познакомиться съ ней.
— Молодой человѣкъ, знакомство съ нимъ завязывается скоро, но еще скорѣе оканчивается. Если злой духъ подстрекаетъ васъ, убейте живое существо, или оскверните мертвеца.
— Оскверните мертвеца! — повторилъ старикъ дрожащимъ голосомъ, прячась за своего спутника.
— Къ чему такія сильныя средства, когда проще остаться здѣсь. Надо быть сумасшедшимъ, чтобы продолжать путь въ такую погоду.
— Но еще безумнѣе искать убѣжища отъ непогоды въ такомъ мѣстѣ, - пробормоталъ старикъ.
— Несчастные! Не стучитесь въ дверь того, кто отворяетъ только дверь могилы.
— Ну, старуха, если бы дѣйствительно для насъ заразъ отворилась дверь могилы, то и въ такомъ случаѣ я не испугался бы твоихъ зловѣщихъ словъ. Я полагаюсь лишь на свою саблю. Ну, вѣтеръ холоденъ, закрывай двери и возьми себѣ это золото.
— Э! На что мнѣ ваше золото! — возразила старуха: — Оно имѣетъ цѣну въ вашихъ глазахъ, для меня же не стоитъ и олова. Ну, оставайтесь за золото, оно можетъ защитить васъ отъ небесной грозы, но не спасетъ отъ людскаго презрѣнія. Оставайтесь; вы платите за гостепріимство дороже, чѣмъ платятъ за убійство. Подождите меня тутъ минутку и давайте ваше золото. Право, еще въ первый разъ вижу я здѣсь человѣка, у котораго руки полны золота и не запятнаны въ крови.
Съ этими словами, поставивъ свой ночникъ и затворивъ дверь, она исчезла подъ сводами черной лѣстницы, виднѣвшейся въ глубинѣ комнаты.
Между тѣмъ какъ старикъ дрожалъ отъ ужаса и, призывая на помощь святого Госпиція, отъ всей души тихо проклиналъ безразсудство своего молодаго спутника, тотъ, взявъ ночникъ, принялся разсматривать обширное круглое помѣщеніе, въ которомъ они очутились.
То, что увидалъ онъ, подойдя ближе къ стѣнѣ, заставило его содрогнуться, и старикъ, слѣдившій за нимъ взоромъ, вскричалъ:
— Боже мой! Вѣдь это висѣлица!
Большая висѣлица дѣйствительно прислонена была къ стѣнѣ и упиралась въ высокій сырой сводъ.
— Да, — согласился молодой человѣкъ: — а вотъ деревянныя и желѣзныя пилы, цѣпи, желѣзные ошейники, вотъ кобыла и висящіе надъ нею огромные клещи.
— Святители! — застоналъ старикъ: — куда это мы попали.
Молодой человѣкъ хладнокровно продолжалъ свой осмотръ.
— Вотъ свертокъ веревокъ, вотъ горны и котлы; эта часть стѣны увѣшана щипцами и ножами; вотъ кожаные кнуты съ стальными наконечниками, топоръ, дубина…
— Это адская кладовая! — перебилъ старикъ, перепуганный этимъ страшнымъ перечисленіемъ.
— А вотъ, — продолжалъ молодой человѣкъ: — мѣдные насосы, колеса съ бронзовыми зубцами, ящикъ съ большими гвоздями, домкратъ… Дѣйствительно, зловѣщая обстановка. Я раскаиваюсь, старикъ, что ты попалъ сюда изъ-за моей неосторожности.
— Теперь ужъ поздно раскаиваться.
Старикъ помертвѣлъ отъ страха.
— Не пугайся; что за бѣда, гдѣ ты, когда я съ тобою.
— Хороша защита! — пробормоталъ старикъ, въ которомъ сильнѣйшій страхъ превозмогъ боязнь и уваженіе къ его молодому спутнику: — Сабля въ тридцать дюймовъ противъ висѣлицы въ тридцать локтей.
Старуха возвратилась и, взявъ ночникъ, сдѣлала путникамъ знакъ слѣдовать за нею. Они съ трудомъ поднимались по узкой, полуразвалившейся лѣстницѣ, вдѣланной въ толщѣ башенной стѣны. У каждой бойницы, порывъ вѣтра и дождя угрожалъ потушить колеблющееся пламя ночника, который старуха прикрывала своими длинными прозрачными руками. Не разъ споткнувшись на камни, которые катились подъ ихъ ногами и въ тревожномъ воображеніи старика рисовались человѣческими костями, разбросанными по ступенямъ, достигли они перваго этажа зданія, круглой комнаты, похожей на нижнее помѣщеніе.
Посрединѣ комнаты топился очагъ, дымъ котораго, улетая въ отверстіе, продѣланное въ потолкѣ, не портилъ слишкомъ замѣтно воздуха. Пламя его, сливающееся съ пламенемъ желѣзнаго ночника, и было примѣчено путниками на дорогѣ. Кусокъ еще сыраго мяса жарился на вертелѣ предъ огнемъ очага.
— На этомъ гнусномъ очагѣ, проговорилъ старикъ, съ ужасомъ обращаясь къ своему спутнику: — на угольяхъ истиннаго креста сожжены были члены мученицы.
Столъ топорной работы находился невдалекѣ отъ очага. Старуха пригласила путниковъ сѣсть за него.
— Чужестранцы, — сказала она, ставя передъ ними ночникъ: — ужинъ скоро будетъ готовъ, а мой мужъ навѣрно торопится домой, чтобы не повстрѣчаться съ полуночнымъ духомъ, проходя мимо проклятой башни.
Орденеръ — читатель безъ сомнѣнія узналъ его и его проводника Бенигнуса Спіагудри — могъ на свободѣ разсмотрѣть странный костюмъ своего спутника, который, опасаясь быть узнаннымъ и арестованнымъ, изощрилъ на немъ все богатство своей фантазіи. Несчастный бѣглый смотритель Спладгеста перемѣнилъ свою одежду изъ оленьей кожи на полный черный костюмъ, оставленный нѣкогда въ Спладгестѣ знаменитымъ дронтгеймскимъ грамматикомъ, утопившемся съ горя, что не могъ добиться почему Jupiter имѣетъ въ родительномъ падежѣ Jоѵіs. Его орѣшниковыя башмаки смѣнились ботфортами почталіона, раздавленнаго лошадьми, въ которыхъ его тонкія ноги помѣщались такъ свободно, что онъ не могъ бы ступить шагу, если бы не набилъ ихъ сѣномъ. Огромный парикъ молодаго французскаго путешественника, убитаго грабителями у Дронтгеймскихъ воротъ, покрывалъ его плѣшивую голову и разстилался по его узкимъ и неравнымъ плечамъ. Одинъ изъ глазъ залѣпленъ былъ пластыремъ, а благодаря банкѣ румянъ, найденной имъ въ карманѣ старой дѣвы, умершей отъ любви, его блѣдныя впалыя щеки покрылись необычайнымъ румянцемъ, распространившимся отъ дождя до самаго подбородка.
Между тѣмъ какъ Орденеръ разсматривалъ своего проводника, Спіагудри, прежде чѣмъ сѣлъ за столъ, заботливо положилъ подъ себя пакетъ, который несъ на спинѣ, завернулся въ свой старый плащъ и все свое вниманіе сосредоточилъ на кускѣ жаркаго, приготовляемаго хозяйкой, и на которое онъ взглядывалъ по временамъ съ безпокойствомъ и ужасомъ, произнося отрывистыя безсвязныя фразы:
— Человѣческое мясо!.. Horrendas epulas!.. — Людоѣды!.. — Ужинъ Молоха!.. — Nec pueros coramo populo Меdеа truсіdеt… — Куда мы попали? Атрей… — Друидесса… — Ирменсулъ… Дьяволъ поразилъ Ликаона…
Вдругъ онъ вскричалъ:
— Праведное небо! Слава Богу! Я вижу хвостъ!
Орденеръ, слушая его внимательно и почти слѣдуя за теченіемъ его мыслей, не могъ удержаться отъ улыбки.
— Въ этомъ хвостѣ нѣтъ ничего утѣшительнаго. Быть можетъ это часть дьявола.
Спіагудри не слыхалъ этой шутки; взглядъ его устремленъ былъ въ глубину комнаты. Онъ задрожалъ и нагнулся къ уху Орденера.
— Господинъ, посмотрите, тамъ, въ глубинѣ, на ворохѣ соломы; въ тѣни…
— Ну? — спросилъ Орденеръ.
— Три голыхъ недвижимыхъ тѣла… Три дѣтскихъ трупа?..
— Стучатся въ дверь, — закричала старуха, сидѣвшая на корточкахъ у очага.
Дѣйствительно, учащенные удары въ дверь послышались среди шума и завыванья свирѣпѣющей бури.
— Наконецъ-то! Это Николь!
Съ этими словами старуха схватила ночникъ и поспѣшно спустилась внизъ.
Наши путешественники не успѣли обмѣняться ни однимъ словомъ, услыхавъ внизу смѣшанный шумъ голосовъ, среди которыхъ явственно раздались слѣдующія слова, произнесенные тономъ, заставившімъ содрогнуться Спіагудри.
— Молчи, старуха, мы останемся. Молнія влетаетъ въ запертыя двери.
Спіагудри придвинулся къ Орденеру.
— Господинъ! — простоналъ онъ: — Мы погибли!..
Стукъ шаговъ послышался на лѣстницѣ и въ комнату вошли два человѣка въ священническихъ одеждахъ, въ сопровожденіи испуганной хозяйки.
Одинъ изъ нихъ высокаго роста носилъ черный костюмъ и круглую прическу лютеранскаго пастора; другой, малорослый, одѣтъ былъ въ рясу отшельника, опоясанную веревкой. Изъ подъ капюшона, спускавшагося на его лицо, виднѣлась черная борода, а руки были спрятаны въ длинныхъ рукавахъ рясы.
При видѣ миролюбивой наружности вновь прибывшихъ, Спіагудри пришелъ въ себя отъ ужаса, внушеннаго ему страннымъ голосомъ одного изъ нихъ.
— Не тревожься, милая, — сказалъ хозяйкѣ священникъ: — христіанскіе пастыри воздаютъ добромъ даже тѣмъ, кто имъ наноситъ вредъ; станутъ-ли они вредить тѣмъ, кто оказываетъ добро? Мы смиренно умоляемъ дать намъ убѣжище. Если преподобный учитель, мой спутникъ, только-что рѣзко отвѣтилъ тебѣ, онъ конечно виноватъ предъ тобою, такъ какъ онъ забылъ наложенный на насъ обѣтъ умѣренности и воздержанія. Увы! И самые святые люди не безъ грѣха. Я заблудился на дорогѣ изъ Сконгена въ Дронтгеймъ, ночью, безъ проводника, не зная гдѣ укрыться отъ непогоды. Преподобный братъ, встрѣченный мною, тоже вдали отъ его обители, удостоилъ разрѣшить мнѣ отправиться съ нимъ сюда. Онъ восхвалялъ мнѣ твое радушное гостепріимство, добрая женщина, и очевидно не ошибся. Не говори намъ подобно злому пастырю: Аdѵеnа, сur intras [11]? Пріюти насъ, достойная женщина, и Господь убережетъ жнивы твои отъ грозы, Господь пошлетъ стадамъ твоимъ убѣжище отъ непогоды, подобно тому, какъ ты пріютила заблудившихся странниковъ.
— Старикъ, — сурово прервала его хозяйка: — у меня нѣтъ ни жатвы, ни стада.
— Ну, если ты бѣдна, Господь благословляетъ бѣдняка прежде богача. Долго лѣтъ проживешь ты со своимъ мужемъ въ почетѣ и уваженіи не за свое богатство, а за добродѣтели. Дѣти твои подростутъ, пользуясь всеобщей любовью, и пойдутъ по стопамъ отца…
— Молчи! — вскричала женщина: — Все останется такъ какъ есть и дѣти наши состарятся презираемыя людьми до конца нашего рода, изъ поколѣнія въ поколѣніе. Молчи старикъ! Благословенія обращаются для насъ въ проклятія.
— Силы небесныя! — вскричалъ священникъ: — Кто же вы? Въ какихъ преступленіяхъ проводите вашу жизнь?
— Что называешь ты преступленіемъ? И что добродѣтелью? Здѣсь мы пользуемся привилегіей: мы не можемъ быть добродѣтельными и не можемъ совершать преступленія.
— Разумъ этой женщины омрачился, — сказалъ священникъ, обратившись къ малорослому отшельнику, сушившему передъ очагомъ свою шерстяную рясу.
— Нѣтъ, старикъ, — возразила женщина: — узнай теперь, гдѣ ты находишься. Лучше внушить ужасъ, чѣмъ состраданіе. Я не помѣшанная, я жена…
Звучный отголосокъ сильнаго удара въ дверь башни заглушилъ, послѣднія слова старухи, къ величайшему разочарованію Спіагудри и Орденера, которые молча, но внимательно слушали разговоръ.
— Да будетъ проклятъ, — пробормотала женщина сквозь зубы: — синдикъ Сконгена, отведшій намъ для жилья эту башню при дорогѣ! Быть можетъ, и это не Николь.
Все же она взяла ночникъ.
— Что за бѣда, если и этотъ окажется путешественникомъ? Ручей можетъ течь тамъ, гдѣ пронесся потокъ.
Оставшись одни, четыре путешественника принялись осматривать другъ друга при свѣтѣ очага. Спіагудри, испуганный сперва голосомъ отшельника, но затѣмъ успокоившійся при видѣ его черной бороды, быть можетъ, снова затрясся бы всѣмъ тѣломъ, если бы примѣтилъ, какимъ пристальнымъ взглядомъ осматривалъ тотъ его изъ-подъ своего капюшона.
Воцарившееся молчаніе прервано было вопросомъ священника.
— Братъ отшельникъ, я принялъ васъ за католическаго священника, уцѣлѣвшаго отъ послѣдняго гоненія, и полагалъ, что вы возвратились въ свой скитъ, когда, къ моему счастью, я повстрѣчался съ вами. Не можете ли вы сказать мнѣ, гдѣ мы находимся?
Полуразрушенная дверь съ лѣстницы отворилась, прежде чѣмъ братъ отшельникъ успѣлъ отвѣтить на вопросъ.
— Жена, гроза собираетъ толпу и за нашимъ гнуснымъ столомъ, отъ грозы ищутъ убѣжища и подъ нашей проклятой кровлей.
— Николь, — отвѣчала старуха: — я не могла помѣшать…
— Да что намъ за дѣло до гостей, коли у нихъ есть чѣмъ платить? Не все ли равно, какъ заработать золото, давъ ли пріютъ путешественнику, или задушивъ разбойника.
Говорившій остановился въ дверяхъ, такъ что четыре гостя могли хорошо разсмотрѣть его. Это былъ человѣкъ колоссальнаго тѣлосложенія, одѣтый подобно хозяйкѣ въ красное саржевое платье. Его огромная голова, казалось, прямо сидѣла на широкихъ плечахъ, что составляло рѣзкій контрастъ съ длинной, костлявой шеей его граціозной супруги. Онъ былъ узколобый, курносый, съ густыми нависшими бровями, изъ-подъ которыхъ, какъ огонь, въ крови сверкали глаза, окруженные багровыми вѣками. Нижняя часть его лица, гладко выбритая, позволяла видѣть широкій ротъ, отвратительная улыбка котораго раскрывала губы, почернѣвшія подобно краямъ неизлѣчимой язвы. Два клока курчавыхъ бакенбардъ, спускаясь съ его щекъ на шею, придавали его фигурѣ четырехугольную форму. На головѣ его была войлочная шляпа, съ которой ручьями текла вода и къ которой онъ и не подумалъ прикоснуться рукой при видѣ четырехъ путешественниковъ.
Завидя его, Бенигнусъ Спiагудри вскрикнулъ отъ страха, а лютеранскій священникъ отвернулся съ удивленіемъ и ужасомъ, не смотря на то, что вошедшій, котораго онъ узналъ, обратился къ нему съ слѣдующими словами:
— Какъ, и вы тутъ, досточтимый пастырь! По правдѣ сказать, я совсѣмъ не разсчитывалъ имѣть удовольствіе снова видѣть сегодня вашу кислую испуганную физіономію.
Священникъ подавилъ возникшее въ немъ чувство отвращенія; черты его лица приняли серьезное, спокойное выраженіе.
— А я, сынъ мой, радуюсь случаю, приведшему пастыря къ заблудшей овцѣ, безъ сомнѣнія, для того, чтобы возвратить ее въ стадо.
— Ахъ, клянусь висѣлицей Амана, — возразилъ тотъ, покатываясь со смѣху: — еще въ первый разъ слышу я, чтобы меня сравнивали съ овцой. Повѣрьте, отецъ мой, если вы хотите польстить ястребу, не зовите его голубемъ.
— Сынъ мой, тотъ, кто обращаетъ ястреба въ голубя, тотъ утѣшаетъ, а не льститъ. Ты думаешь, что я боюсь тебя, между тѣмъ какъ я только тебя жалѣю.
— Должно быть, у васъ большой запасъ жалости, святой отецъ. А я вѣдь думалъ, что вы его весь истощили на томъ бѣднягѣ, предъ которымъ держали вы сегодня свой крестъ, чтобы закрыть отъ него мою висѣлицу.
— Этотъ несчастный, — возразилъ священникъ: — внушалъ менѣе сожалѣній, чѣмъ ты; онъ плакалъ, а ты смѣешься. Блаженъ, кто въ минуту смерти познаетъ, какъ могущественно слово Божіе сравнительно съ руками человѣческими.
— Ловко сказано, святой отецъ, — подхватилъ хозяинъ башни съ ужасающей иронической веселостью. — Блаженъ, кто плачетъ! А нашъ сегодняшній плакса и виноватъ то былъ только въ томъ, что до такой степени чтилъ короля, что дня не могъ прожить, не выбивъ изображенія его величества на маленькихъ мѣдныхъ медалькахъ, которыя потомъ искусно золотилъ, чтобы придать имъ болѣе привлекательную наружность. Нашъ милостивый монархъ не остался въ долгу и вознаградилъ его за такую преданность прекрасной пеньковой лентой, которая, да будетъ извѣстно моимъ достойнымъ гостямъ, возложена на него сегодня на главной площади Сконгена, мною, великимъ канцлеромъ ордена Висѣлицы, въ присутствіи находящагося здѣсь верховнаго жреца означеннаго ордена.
— Замолчи, несчастный! — вкричалъ священникъ. — Развѣ можетъ наказывающій забыть о наказаніи? Ты слышишь громъ…
— Ну, что же такое громъ? Хохотъ сатаны.
— Великій Боже! Онъ только что видѣлъ смерть и богохульствуетъ!..
— Оставь свои поученія, старый безумецъ, — вскричалъ хозяинъ раздражительно: — если не можешь проклинать дьявола, который дважды свелъ насъ сегодня на повозкѣ и подъ одной крышей. Бери примѣръ съ твоего товарища-отшельника, который молчитъ, потому что желаетъ вернуться въ свой Линрасскiй гротъ. Спасибо тебѣ, братъ отшельникъ, за благословенія, которыя шлешь ты проклятой башнѣ, проходя каждое утро на холмѣ; но, сказать по правдѣ, мнѣ казалось, что ты выше ростомъ и борода твоя не такъ черна… Но ты, конечно, Линрасскій отшельникъ, единственный отшельникъ Дронтгеймскаго округа?…
— Дѣйствительно единственный, отвѣтилъ отшельникъ глухимъ голосомъ.
— Ты забываешь меня, — возразилъ хозяинъ: — мы съ тобой два отшельника во всемъ округѣ… Эй! Бехлія, поторопись съ твоей бараниной, я проголодался. Я замѣшкался въ деревнѣ Бюрлокъ, по милости проклятаго доктора Манрилла, который не хотѣлъ мнѣ дать болѣе двадцати аскалоновъ за трупъ. Даютъ же сорокъ этому адскому сторожу Спладгеста въ Дронтгеймѣ… Э! Господинъ въ парикѣ, что это съ вами? Вы чуть не опрокинулись навзничь… Кстати, Бехлія, покончила ты съ скелетомъ отравителя Оргивіуса, этого знаменитаго колдуна. Пора отослать его въ Бергенскій музей рѣдкостей. Посылала ты одного изъ твоихъ поросятъ за долгомъ къ синдику Левича? Четыре двойныхъ экю за кипяченіе въ котлѣ колдуньи у двухъ алхимиковъ и за уборку балочныхъ закрѣпъ, безобразившихъ залу трибунала; двадцать аскалоновъ за снятіе съ висѣлицы Измаила Тифена, жида, на котораго жаловался преподобный епископъ; и одинъ экю за новую деревянную рукоять къ городской каменной висѣлицѣ.
— Плата еще у синдика, — рѣзко отвѣтила женщина: — твой сынъ забылъ захватить съ собой деревянную ложку, а ни одинъ изъ слугъ судьи не хотѣлъ отдать ему деньги прямо въ руки.
Мужъ нахмурилъ брови.
— Пусть только ихъ шея попадетъ въ мои лапы, увидятъ они нужна ли мнѣ деревянная ложка, чтобы прикоснуться къ нимъ. Съ синдикомъ впрочемъ не надо ссориться. Воръ Иваръ подалъ ему жалобу, говоритъ, что при допросѣ пыталъ его я, и ссылается на то, что до осужденія онъ не можетъ считаться лишеннымъ чести… Кстати, жена, не позволяй твоимъ ребятамъ баловаться съ моими клещами и щипцами; они такъ иступили мои инструменты, что сегодня я не могъ употребить ихъ въ дѣло… Гдѣ эти маленькіе уроды? — продолжалъ онъ, приближаясь къ вороху соломы, на которомъ Спіагудри почудилось три трупа. — А вотъ они, спятъ, не обращая вниманія на шумъ, какъ снятые съ висѣлицы.
По этимъ словамъ, ужасъ которыхъ составлялъ разительный контрастъ съ хладнокровіемъ и дикой веселостью говорящаго, читатель быть можетъ узналъ уже кто былъ хозяинъ башни Виглы. Спіагудри тоже сразу узналъ его, такъ часто видалъ при зловѣщемъ обрядѣ на Дронтгеймской площади, и чуть не обмеръ отъ страха, вспомнивъ вдругъ обстоятельство, заставившее его со вчерашняго дня избѣгать встрѣчи съ этой непріятной личностью.
Нагнувшись къ Орденеру, онъ прошепталъ ему прерывающимся голосомъ:
— Это Николь Оругиксъ, палачъ Дронтгеймскаго округа!
Невольно пораженный ужасомъ, Орденеръ вздрогнулъ и пожалѣлъ, что попалъ въ такое общество. Но въ ту же минуту какое-то необъяснимое любопытство овладѣло имъ и, сочувствуя смущенію и трусости стараго проводника, онъ въ то же время сталъ внимательно слѣдить за словами и дѣйствіями страшнаго существа, находившагося у него передъ глазами, подобно тому какъ жители городовъ жадно прислушиваются къ лаю гіены или рычанью тигра, привезеннаго изъ пустыни.
Несчастный Бенигнусъ пришелъ въ такое настроеніе духа, что не могъ съ своей стороны заняться психологическими наблюденіями. Спрятавшись за Орденеромъ, онъ завернулся въ плащъ, поддерживая дрожащей рукой пластырь, нахлобучилъ подвижной парикъ еще ниже на лобъ и затаилъ дыханіе.
Между тѣмъ хозяйка поставила на столъ большое блюдо съ жареной бараниной, хвостъ которой раньше примѣченъ былъ Спіагудри. Палачъ сѣлъ напротивъ Орденера и его проводника между священниками; а жена его, подавъ кружку сладкаго пива, кусокъ rindebrodа [12] и пять деревянныхъ тарелокъ, занялась у очага оттачиваніемъ зазубрившихся щипцовъ своего мужа.
— Вотъ почтенный отецъ, — сказалъ Оругиксъ со смѣхом: — овца подчуетъ тебя бараниной. А вы, господинъ въ парикѣ, ужъ не вѣтеръ-ли нахлобучилъ вамъ на лобъ вашу прическу?
— Вѣтеръ… милостивый государь, буря… — пробормоталъ Спіагудри, дрожа.
— Да ободритесь же, старина. Вы видите, что господа священнослужители и я славные малые. Повѣдайте намъ кто вы такой и кто вашъ молодой молчаливый спутникъ. Потолкуемъ немного и познакомимся. Если ваши рѣчи подтвердятъ то, что обѣщаетъ ваша наружность, вы должно быть весельчакъ большой руки.
— Вы шутите, — сказалъ смотритель Спладгеста, искрививъ губы, показывая зубы и скосивъ глазъ, чтобы изобразить улыбку: — я не болѣе какъ бѣдный старый…
— Старый ученый, старый колдунъ, — насмѣшливо перебилъ его палачъ.
— О! милостивый государь, ученый, но не колдунъ.
— Тѣмъ хуже, колдунъ дополнилъ бы нашъ веселый синедріонъ… Ну, гости, выпьемъ, чтобъ развязать языкъ стараго ученаго, который позабавитъ нашу компанію. За здоровье нашего висѣльника, братъ проповѣдникъ! Что это! Отецъ отшельникъ, вы отказываетесь отъ моего пива!
Отшельникъ дѣйствительно вынулъ изъ за пазухи большую тыквенную бутылку съ чистой водой и наполнилъ ею стаканъ.
— Чортъ возьми! Линрасскій отшельникъ, — вскричалъ палачъ: — если вы не хотите отвѣдать моего пива, я отвѣдаю этой воды, которую вы предпочитаете пиву.
— Изволь, — отвѣтилъ отшельникъ.
— Снимите сперва вашу перчатку, почтенный братъ, возразилъ палачъ: — пить даютъ только голой рукой.
Отшельникъ отрицательно покачалъ головой.
— Это обѣтъ, — сказалъ онъ.
— Ну, наливайте, — согласился палачъ.
Поднеся стаканъ къ губамъ, Оругиксъ поспѣшно оттолкнулъ его, между тѣмъ какъ отшельникъ опорожнилъ свой однимъ глоткомъ.
— Клянусь чашей Христа, почтенный отшельникъ, что это за адская жидкость? Я не пробовалъ ничего подобнаго съ тѣхъ поръ, какъ чуть не утонулъ, плывя изъ Копенгагена въ Дронтгеймъ. Воля ваша, это не вода Линрасскаго источника; это морская вода…
— Морская вода! — повторилъ Спіагудри съ испугомъ, который росъ при видѣ перчатокъ отшельника.
— Ну такъ что же, — спросилъ палачъ, съ хохотомъ обращаясь къ нему: — все тревожитъ васъ здѣсь, мой старый Авесаломъ, даже питье святаго отшельника, умерщвляющаго свою плоть.
— О! Нѣтъ, хозяинъ… Но морская вода!.. Только одинъ человѣкъ…
— Ну, вы не знаете что сказать, господинъ ученый, ваше смущеніе свідѣтельствуетъ или о нечистой совѣсти, или о презрѣніи…
Слова эти, произнесенныя съ досадой, заставили Спіагудри преодолѣть свой страхъ. Желая польстить своему страшному собесѣднику, онъ призвалъ на помощь свою обширную память и собралъ послѣдніе остатки храбрости.
— Мнѣ презирать васъ, милостивый государь! Васъ, одно присутствіе котораго въ этомъ округѣ доставляетъ ему merum іmperіum [13]! Васъ, исполнителя, мечъ общественнаго правосудія, щитъ невинности! Васъ, котораго Аристотель въ шестой книгѣ, въ послѣдней главѣ своей Политики помѣстилъ въ число членовъ судейскаго сословія, и которому Парисъ де-Путео въ трактатѣ своемъ Dе Sуndісо, опредѣлилъ окладъ жалованья въ пять золотыхъ экю, о чемъ свидѣтельствуетъ слѣдующее мѣсто: Quinque аurеоs mаnіѵоltо! Васъ, товарищи котораго въ Кронштадтѣ дѣлаются дворянами, отрубивъ триста головъ! Васъ, чьи страшныя, но почетныя обязанности съ гордостью исполняютъ: во Франконіи новобрачный, въ Ретлингѣ самый молодой совѣтникъ, Штединѣ послѣдній поселившійся въ городѣ человѣкъ. Развѣ не извѣстно мнѣ, добрый хозяинъ, что собратья ваши во Франціи пользуются правомъ взимать подать съ каждой больной въ Сентъ Ладрѣ, съ каждой свиньи и пирога наканунѣ крещенья! Могу-ли я не питать къ вамъ глубокаго уваженія, когда Сентъ Жерменскій аббатъ ежегодно присылаетъ вамъ свиную голову въ день святаго Викентія и позволяетъ вамъ идти во главѣ процессіи…
Тутъ ученое рвеніе его грубо было прервано палачомъ.
— Клянусь честью, я этого и не подозрѣвалъ! Ученый аббатъ, о которомъ вы упомянули, почтеннѣйшій, до сихъ поръ утаивалъ отъ меня эти прекрасныя права, такъ обольстительно обрисованныя вами… Но господа, — продолжалъ Оругиксъ: — оставивъ въ сторонѣ нелѣпости стараго сумасброда, карьера моя дѣйствительно не удалась. Теперь я не болѣе какъ бѣдный палачъ бѣднаго округа, а между тѣмъ было время, когда я могъ затмить славу Стиллисона Дикаго, знаменитаго палача московитовъ. Повѣрите-ли вы, что именно мнѣ двадцать четыре года тому назадъ поручено было привести въ исполненіе приговоръ надъ Шумахеромъ.
— Надъ Шумахеромъ, графомъ Гриффенфельдомъ! — вскричалъ Орденеръ.
— Это васъ удивляетъ, господинъ нѣмой. Да, надъ Шумахеромъ, котораго судьба можетъ опять толкнуть въ мои руки, въ случаѣ если король вздумаетъ отмѣнить отсрочку… Опорожнимъ по кружечкѣ, господа, и я разскажу вамъ какимъ образомъ начавъ такъ блистательно, я кончаю такъ скромно свою дѣятельность.
«Въ 1676 году служилъ я у Рума Стуальда, королевскаго палача въ Копенгагенѣ. Въ то время какъ осужденъ былъ графъ Гриффенфельдъ, хозяинъ мой захворалъ и, благодаря протекціи, мнѣ поручено было замѣстить его при исполненіи приговора. 5-го іюня — никогда не забуду этого дня — съ пяти часовъ утра я воздвигъ при помощи плотника большой эшафотъ на площади цитадели и обилъ его трауромъ въ знакъ уваженія къ осужденному. Въ восемь часовъ представители дворянства окружили эшафотъ и шлезвигскіе уланы сдерживали напоръ толпы, тѣснившейся на площади. Кто не возгордился бы на моемъ мѣстѣ! Съ топоромъ въ рукѣ прохаживался я по эстрадѣ. Взгляды всѣхъ были устремлены на меня: въ эту минуту я былъ самое важное лицо обоихъ королевствъ. Карьера моя обезпечена, — говорилъ я себѣ: — что подѣлала бы безъ меня вся эта знать, поклявшаяся низвергнуть Шумахера? Я уже воображалъ себя титулованнымъ королевскимъ палачомъ, имѣлъ уже слугъ, привиллегіи… Чу! Въ крѣпости пробило десять часовъ. Осужденный вышелъ изъ тюрьмы, прошелъ площадь твердыми шагами, спокойно поднялся на эшафотъ. Я хочу связать ему волосы, онъ оттолкнулъ меня и самъ оказалъ себѣ эту послѣднюю услугу. „Давно уже“, улыбаясь замѣтилъ онъ настоятелю монастыря святого Андрея: „давно уже я не причесывался самъ“. Я подалъ ему черную повязку, онъ презрительно отказался, но презрѣніе его относилось не ко мнѣ. „Другъ мой“, замѣтилъ онъ мнѣ: „быть можетъ еще въ первый разъ сходятся такъ близко два крайнихъ служителя правосудія, канцлеръ и палачъ“. Эти слова неизгладимо врѣзались въ мою память. Оттолкнувъ черную подушку, которую я хотѣлъ подложить ему подъ колѣни, онъ обнялъ священника и опустился на колѣни, проговоривъ громкимъ голосомъ, что умираетъ невинный. Тогда ударомъ молота разбилъ я щитъ его герба, провозгласивъ обычную формулу: это не дѣлается безъ основательной причины. Такое безчестіе поколебало твердость графа; онъ поблѣднѣлъ, но тотчасъ же сказалъ: король далъ мнѣ, король можетъ и отнять.
Онъ склонилъ голову на плаху, устремивъ взоръ на востокъ; а я, обѣими руками взмахнулъ я топоръ… Слушайте! Въ это мгновеніе услыхалъ я крикъ; помилованіе, именемъ короля! Помилованіе Шумахеру! Я обертываюсь и вижу адъютанта, несшагося во весь опоръ къ эшафоту, размахивая пергаментомъ. Графъ поднялся не съ радостнымъ, но довольнымъ видомъ. Пергаментъ въ его рукахъ. „Праведный Боже!“ вскричалъ онъ: „вѣчное заключеніе! Ихъ милость тяжелѣе смерти“. Въ уныніи спустился онъ съ эшафота, тогда какъ всходилъ на него съ спокойнымъ духомъ. Для меня такой исходъ дѣла не имѣлъ никакого значенія. Я и представить себѣ не могъ, что спасеніе этого человѣка будетъ моей гибелью. Разобравъ эшафотъ, я возвратился къ хозяину, все еще полный надеждъ, хотя и не разсчитывалъ получить золотой экю, цѣну срубленной головы. Однако, дѣло этимъ не кончилось. На другой день я получилъ приказаніе выѣхать изъ столицы и дипломъ палача Дронтгеймскаго округа! Палачъ округа и притомъ послѣдняго округа Норвегіи! Видите, господа, къ какимъ важнымъ послѣдствіямъ приводятъ незначительныя обстоятельства. Враги графа, желая выказать свое милосердіе, все такъ устроили, чтобы помилованіе опоздало. Они ошиблись въ какой нибудь минутѣ. Меня обвинили въ медленности, какъ будто прилично было не дать знатному узнику насладиться нѣсколькими, мгновеніями передъ смертью! Какъ будто королевскій палачъ, совершающій казнь великаго канцлера, могъ дѣйствовать безъ достоинства и поспѣшно, подобно провинціальному палачу, вѣшающему жида! Въ добавокъ присоединилось и недоброжелательство. У меня былъ братъ, который можетъ быть живъ еще и теперь. Перемѣнивъ имя, онъ втерся въ домъ новаго канцлера, графа Алефельда. Присутствіе мое въ Копенгагенѣ стѣсняло презрѣннаго, который ненавидѣлъ меня, быть можетъ, потому что раньше или позже мнѣ придется его повѣсить.
Тутъ словоохотливый разсказчикъ остановился дать волю своей веселости, потомъ продолжалъ:
— И такъ, любезные гости, я помирился съ моей участью. Да на кой чортъ быть честолюбивымъ! Здѣсь я добросовѣстно исполняю свое ремесло; продаю трупы, или Бехлія дѣлаетъ изъ нихъ скелеты, которые покупаетъ Бергенскій анатомическій кабинетъ. Смѣюсь надъ всѣмъ, даже надъ этой несчастной бабой цыганской, которую уединеніе сводитъ съ ума. Мои три наслѣдника подростаютъ въ страхѣ къ дьяволу и висѣлицѣ, моимъ имененъ стращаютъ ребятъ въ Дронтгеймскомъ округѣ. Синдики снабжаютъ меня колесницей и красной одеждой. Проклятая башня защищаетъ меня отъ дождя подобно епископскому дворцу. Старые попы, которыхъ приводитъ сюда буря, читаютъ мнѣ проповѣди, ученые льстятъ мнѣ. Словомъ, я такъ же счастливъ, какъ и всякій другой: пью, ѣмъ, вѣшаю и сплю.
Оканчивая свою рѣчь, палачъ прерывалъ ее глотками пива и взрывами шумной веселости.
— Онъ убиваетъ и спитъ! — прошепталъ священникъ. — Несчастный!
— Какъ счастливъ этотъ бѣднякъ! — вскричалъ отшельникъ.
— Да, братъ отшельникъ, — согласился палачъ: — я такъ же бѣденъ, какъ и ты, но счастливѣе тебя. Право, ремесло хоть куда, если бы только завистники не уничтожали его выгодъ. Представьте себѣ, не знаю, какая то именитая свадьба внушила вновь назначенному Дронтгеймскому священнику мысль просить помилованія двѣнадцати осужденнымъ, которые принадлежатъ мнѣ?..
— Принадлежатъ тебѣ! — вскричалъ священникъ.
— Само собою разумѣется. Семеро должны быть высѣчены, двое заклеймены въ лѣвую щеку и трое повѣшены, а это составляетъ двѣнадцать… да двѣнадцать экю и тридцать аскалоновъ, которые я потеряю, если просьба увѣнчается успѣхомъ. Какъ вамъ нравится, господа, этотъ священникъ, распоряжающійся моимъ добромъ? Зовутъ этого проклятаго попа Афанасій Мюндеръ. О! Пусть только онъ попадетъ въ мои лапы!
Священникъ всталъ изъ за стола и спокойнымъ голосомъ произнесъ.
— Сынъ мой, я Афанасій Мюндеръ.
При этихъ словахъ глаза Оругикса гнѣвно сверкнули и онъ быстро вскочилъ съ своего мѣста. Разъяренный взглядъ его встрѣтился съ спокойнымъ, добродушнымъ взоромъ священннка, и онъ снова опустился на свое мѣсто медленно, молча и смущенно.
На минуту воцарилось молчаніе. Орденеръ, тоже поднявшійся изъ за стола, чтобы защитить священника, первый прервалъ его.
— Николь Оругиксъ, — сказлъ онъ: — вотъ тринадцать экю, которые вознаградятъ васъ за помилованныхъ преступниковъ…
— Увы! — прервалъ его священникъ: — кто знаетъ, удовлетворятъ ли мое ходатайство! Мнѣ необходимо поговорить съ сыномъ вице-короля, все зависитъ отъ брака его съ дочерью канцлера.
— Батюшка, — отвѣчалъ молодой человѣкъ твердымъ голосомъ: — я добьюсь этого. Орденеръ Гульденлью не приметъ обручальнаго кольца, прежде чѣмъ не будутъ разбиты оковы вашихъ узниковъ.
— Молодой чужестранецъ, что можете вы сдѣлать; но да услышитъ и да вознаградитъ васъ Создатель!
Между тѣмъ тринадцать экю Орденера дополнили эфектъ, производимый взоромъ священника. Николь вполнѣ успокоился, прежняя веселость вернулась къ нему.
— Послушайте, преподобный отецъ, вы славный малый и достойны исправлять должность священника въ капеллѣ Святаго Илларіона. Я совсѣмъ не думалъ того, что говорилъ про васъ. Вы идите прямо по своей дорогѣ и не ваша вина, если она перекрещивается съ моей. Но вотъ до кого я дѣйствительно добираюсь, это хранитель труповъ въ Дронтгеймѣ, старый колдунъ, смотритель Спладгеста… Какъ бишь его зовутъ-то? Спіагудри?.. Спіагудри?.. Скажите мнѣ, мой древній ученый, вавилонская башня знанія, вамъ вѣдь все извѣстно, не поможете ли вы мнѣ вспомнить имя этого колдуна, вашего собрата? Вы должны были встрѣчаться съ нимъ на шабашахъ, гарцуя верхомъ на помелѣ.
Конечно, если бы въ эту минуту злополучный Бенигнусъ могъ улетѣть на какомъ нибудь подобномъ воздушномъ конѣ, несомнѣнно онъ съ радостью ввѣрилъ бы ему свое бренное, перепуганное существо. Никогда любовь къ жизни не проявлялась въ немъ съ такой силой, какъ съ той минуты, когда всѣ органы чувствъ стали убѣждать его въ грозной опасности. Все окружающее ужасало его; мысль о проклятой башнѣ, свирѣпый взглядъ красной женщины, голосъ, перчатки, питье таинственнаго отшельника, отважная неустрашимость его юнаго спутника, и, къ довершенію всего, палачъ; палачъ, въ логовище котораго попалъ онъ, убѣгая, чтобы не поплатиться за преступленіе. Онъ дрожалъ такъ сильно, что всѣ волевыя движенія были у него парализованы, въ особенности, когда разговоръ зашелъ о немъ и когда страшный Оругиксъ обратился къ нему съ вопросомъ.
Такъ какъ онъ не имѣлъ ни малѣйшаго желанія подражать героизму священника, его онѣмѣвшій языкъ отказывался ему служить.
— Ну что же! — повторилъ палачъ: — знаете вы имя смотрителя Спладгеста? Ужъ не оглохли-ли вы подъ тяжестью вашего парика?
— Немножко, милостивый государь… Но, — рѣшился онъ наконецъ отвѣтить: — клянусь вамъ, я не знаю его имени.
— Онъ не знаетъ! — страшнымъ голосомъ промолвилъ отшельникъ: — Онъ лжетъ, хотя и клянется. Этого человѣка зовутъ Бенигнусъ Спіагудри.
— Меня! Меня! Великій Боже! — съ ужасомъ застоналъ старикъ.
Палачъ покатился со смѣху.
— Да кто вамъ сказалъ, что васъ? Мы говоримъ о томъ язычникѣ, смотрителѣ Спладгеста. Рѣшительно, этотъ педагогъ боится всего. Вотъ была бы потѣха, если бы эти дурацкія гримасы имѣли серіозное основаніе. Этотъ старый сумасбродъ прекомично болтался бы на висѣлицѣ… Ну-съ, уважаемый ученый, продолжалъ палачъ, наслаждаясь испугомъ Спіагудри: — такъ вы не знаете Бенигнуса Спіагудри?
— Нѣтъ, милостивый государь, — отвѣчалъ смотритель Спладгеста, нѣсколько успокоенный своимъ инкогнито: — увѣряю васъ, я совсѣмъ не знаю его. И мнѣ вовсе непріятно будетъ познакомиться съ человѣкомъ, имѣвшимъ несчастіе прогнѣвить васъ.
— А вы, отшельникъ, — продолжалъ Оругиксъ: — кажется вы знаете его?
— Да, отлично, — отвѣтилъ отшельникъ: — это человѣкъ высокаго роста, старый, сухощавый, плѣшивый…
Спіагудри, страшно встревоженный этимъ перечисленіемъ примѣтъ, съ живостью поправилъ на головѣ свой парикъ.
— Руки у него, — продолжалъ отшельникъ: — длинныя какъ у вора, дней восемь не встрѣчавшаго путешественника, спина сгорбленная…
Спіагудри выпрямился сколько могъ.
— Словомъ, его можно было бы принять за одинъ изъ труповъ, которые онъ стережетъ, если бы не пронзительный взоръ его глазъ…
Спіагудри схватился рукой за свой спасительный пластырь.
— Спасибо, отецъ, — поблагодарилъ палачъ отшельника: — гдѣ бы мы съ нимъ не встрѣтились, я сразу узнаю теперь стараго жида…
Спіагудри, считавшій себя добрымъ христіаниномъ и возмущенный такой нестерпимой обидой, не могъ удержаться отъ восклицанія:
— Жида, милостивый государь!..
Онъ тотчасъ же умолкъ, съ ужасомъ чувствуя, что проговорился.
— Да, жида или язычника; не все ли равно, если онъ, какъ слышно, знается съ чортомъ!
— Я легко бы повѣрилъ этому, — возразилъ отшельникъ съ сардонической усмѣшкой, которую невполнѣ скрывалъ его капюшонъ: — не будь онъ завзятымъ трусомъ. Гдѣ ему знаться съ сатаною! Онъ настолько же трусливъ, насколько золъ. Когда онъ струситъ, онъ не узнаетъ даже самаго себя.
Отшельникъ говорилъ медленно, какъ бы измѣняя свой голосъ, и это придавало особенную выразительность его словамъ.
— Не узнаетъ самаго себя, — повторилъ про себя Спіагудри.
— Отвратительно, когда злодѣй въ добавокъ становится трусомъ, — замѣтилъ палачъ: — его даже не стоитъ ненавидѣть. Съ змѣей надо бороться, ящерицу же достаточно растоптать ногами.
Спіагудри рискнулъ сказать нѣсколько словъ въ свою защиту.
— Но, господа, развѣ вы дѣйствительно убѣждены въ томъ, что говорите объ этомъ должностномъ лицѣ? Его репутація…
— Репутація! — подхватилъ отшельникъ: — Самая гнусная репутація во всемъ округѣ!
Обезкураженный Бенигнусъ обратился къ палачу:
— Милостивый государь, въ какихъ преступленіяхъ обвиняете вы его? Безъ сомнѣнія ваша ненависть должна имѣть серьезныя основанія.
— Справедливое мнѣніе, старина. Такъ какъ наши коммерческіе интересы сталкиваются, Спіагудри не упускаетъ случая, чтобы не напакостить мнѣ.
— О! Господинъ, не вѣрьте этому!.. Но если бы даже это было справедливо, очевидно этотъ человѣкъ не видалъ васъ, какъ я, въ кругу семьи, съ прелестной супругой и восхитительными дѣтьми, гостепріимно принимающаго чужестранцевъ у своего домашняго очага. Если бы ему, подобно намъ пришлось воспользоваться вашимъ любезнымъ радушіемъ, этотъ несчастный не былъ бы вашимъ врагомъ.
Лишь только Спіагудри кончилъ свою ловкую рѣчь, высокая женщина, до сихъ поръ не проронившая ни слова, поднялась и сказала торжественнымъ, саркастическимъ тономъ:
— Нѣтъ ничего ядовитѣе жала ехидны, вымазаннаго въ меду.
Она снова сѣла у очага и продолжала оттачивать щипцы, хриплый и визгливый звукъ которыхъ, мучительно поражая въ промежуткахъ разговора слухъ четырехъ путниковъ, походилъ на хоръ греческой трагедіи.
— Право, эта женщина помѣшаласъ, — пробормоталъ Спіагудри, не зная какъ иначе объяснить себѣ такой плохой эффектъ своей лести.
— Бехлія права, сѣдовласый ученый! — вскричалъ палачъ: — Я повѣрю, что у васъ жало ехидны, если вы станете еще защищать этого Спіагудри.
— Избави Боже, хозяинъ! — подхватилъ тотъ: — Я совсѣмъ не защищаю его!
— Тѣмъ лучше. Вы понятія не имѣете до чего доходитъ его наглость. Вѣрите ли, этотъ нахалъ смѣетъ оспаривать у меня право на голову Гана Исландца?
— Гана Исландца!.. — рѣзко повторилъ отшельникъ.
— Ну да! Знаете вы этого знаменитаго разбойника?
— Знаю, — отвѣчалъ отшельникъ.
— Ну-съ, каждый разбойникъ составляетъ собственность палача, не такъ ли? Что же теперь придумалъ этотъ адскій Спіагудри? Онъ проситъ, чтобы голова Гана была оцѣнена…
— Онъ проситъ, чтобы голова Гана была оцѣнена? — переспросилъ отшельникъ.
— Да, онъ дерзнулъ на это, и единственно для того, чтобы тѣло попало въ его лапы, а я лишился своихъ выгодъ.
— Какая подлость, Оругиксъ, рѣшиться оспаривать то, что очевидно составляетъ твою собственность!
Злобная усмѣшка, сопровождавшая эти слова, ужаснула Спіагудри.
— Продѣлка тѣмъ болѣе низкая, братъ отшельникъ, что мнѣ во что бы то ни стало необходимо казнить такого человѣка, какъ Ганъ, чтобы выйти изъ неизвѣстности и составить себѣ карьеру, которой не сдѣлала мнѣ казнь Шумахера.
— Въ самомъ дѣлѣ, хозяинъ Николь?
— Да, братъ отшельникъ. Приходите сюда въ день ареста Гана, мы заколемъ жирную свинью въ честь моей будущей славы.
— Охотно; но почемъ знать, можетъ быть я не буду свободенъ въ этотъ день? А затѣмъ, не ты ли самъ только что посылалъ къ черту честолюбіе?
— Еще бы, когда я вижу, что достаточно какого нибудь Спіагудри и прошенія оцѣнить голову, чтобы разсѣять въ прахъ самые вѣрные мои разсчеты.
— А! — подхватилъ отшельникъ страннымъ тономъ: — Такъ Спіагудри проситъ оцѣнить голову!
Голосъ его производилъ на злополучнаго смотрителя такое же дѣйствіе, какое производитъ на птицу взглядъ жабы.
— Господа, — сказалъ онъ: — зачѣмъ судить такъ опрометчиво. Все это можетъ быть невѣрно, быть можетъ ложный слухъ…
— Ложный слухъ! — вскричалъ Оругиксъ: — Напротивъ, дѣло ясно какъ день. Прошеніе синдиковъ, скрѣпленное подписью смотрителя Спладгеста, получено уже въ Дронтгеймѣ. Ждутъ только рѣшенія его превосходительства генералъ-губернатора.
Палачъ видимо зналъ всю подноготную, такъ что Спіагудри не посмѣлъ болѣе оправдываться и въ сотый разъ принялся внутренно проклинать своего молодаго спутника. Но каковъ былъ его ужасъ, когда отшельникъ, послѣ нѣсколькихъ минутъ размышленія, вдругъ спросилъ насмѣшливымъ тономъ:
— Скажи-ка, хозяинъ Николь, какое наказаніе положено за святотатство?
Эти слова произвели на Спіагудри такое дѣйствіе, какъ будто съ него сорвали пластырь и парикъ. Съ тоской ждалъ онъ отвѣта Оругикса, который не торопясь опоражнивалъ свой стаканъ.
— Это смотря по тому, въ чемъ состояло святотатство, — отвѣтилъ палачъ.
— Ну, положимъ, поруганіе мертвеца?
Съ минуты на минуту, дрожащій отъ ужаса Бенигнусъ ожидалъ, что отшельникъ назоветъ его по имени.
— Въ былое время, — хладнокровно отвѣчалъ Оругиксъ: — святотатца закапывали въ землю живымъ вмѣстѣ съ поруганнымъ трупомъ.
— А теперь?
— Теперь наказаніе легче.
— Легче! — повторилъ Спіагудри, едва дыша.
— Да, — продолжалъ палачъ съ довольнымъ и небрежнымъ видомъ артиста, говорящаго о своемъ искусствѣ: — сперва каленымъ желѣзомъ клеймятъ ему икры буквою С…
— А потомъ? — чуть не вскрикнулъ старый смотритель, надъ которымъ было бы затруднительно произвести эту часть наказанія.
— А потомъ, — продолжалъ палачъ: — довольствуются его повѣшаніемъ.
— Пощадите! — вскричалъ Спіагудри: — повѣсить человѣка!
— Что это съ нимъ? Онъ смотритъ на меня съ видомъ преступника, взирающаго на висѣлицу.
— Съ удовольствіемъ вижу, — замѣтилъ отшельникъ: — что люди возвращаются къ правиламъ гуманности.
Въ эту минуту стихнувшая буря позволила отчетливо различить ясный, прерывистый звукъ рога.
— Николь, — замѣтила жена палачу: — это погоня за какимъ нибудь злодѣемъ, это рогъ полицейскихъ.
— Рогъ полицейскихъ! — повторилъ каждый изъ присутствующихъ съ разнообразнымъ оттѣнкомъ въ голосѣ, а Спіагудри съ выраженіемъ величайшаго ужаса.
Въ ту же минуту кто то постучался въ дверь башни.
XIII
Левигъ, большое селеніе, расположенное на сѣверномъ берегу Дронтгеймскаго залива, примыкаетъ къ цѣпи низкихъ холмовъ, голыхъ или причудливо испещренныхъ участками обработанной земли, подобно мозаичной плоскости, сливающейся съ горизонтомъ.
Селеніе представляетъ невеселый видъ. По обѣимъ сторонамъ узкихъ, извилистыхъ улицъ лѣпятся деревянныя и тростниковыя хижины рыбаковъ, коническія землянки, гдѣ доживаютъ остатокъ своихъ дней дряхлые рудокопы, которымъ сбереженная на черный день копѣйка позволяетъ отдохнуть на старости лѣтъ; легкіе срубы, которые охотникъ за сернами кроетъ соломой и обиваетъ звѣриными шкурами, по возвращеніи съ охоты.
На площади, гдѣ видны теперь развалины большой башни, возвышалась тогда древняя крѣпость, воздвигнутая Гордою, мѣткимъ стрѣлкомъ, владѣтелемъ Левига и соратникомъ языческаго короля Гольфдана. Въ 1698 году въ ней жилъ синдикъ селенія, пользовавшійся самымъ лучшимъ жилищемъ, которое уступало лишь жилищу серебрянаго аиста, каждое лѣто гнѣздившагося на остроконечной колокольнѣ церкви, подобно бѣлому шарику на заостренной шапкѣ мандарина.
Въ тотъ самый день, когда Орденеръ прибылъ въ Дронтгеймъ, въ Левигѣ высадился незнакомецъ, сохранявшій строжайшее инкогнито. Его золоченыя носилки, не имѣвшія впрочемъ герба, его четыре рослыхъ лакея, вооруженныхъ съ ногъ до головы, сразу сдѣлались предметомъ любопытства и толковъ левигскаго населенія.
Хозяинъ «Золотой Чайки», маленькой таверны, гдѣ остановился этотъ вельможа, тотчасъ принялъ таинственный видъ и на всѣ вопросы отвѣчалъ: «Не знаю» такимъ тономъ, какимъ говорятъ: я то все знаю, но вы не узнаете ничего. Рослые лакеи были нѣмѣе рыбъ и мрачнѣе отверстія шахты.
Синдикъ заперся сперва въ своей башнѣ, ожидая по своему сану, что незнакомецъ первый сдѣлаетъ ему визитъ. Однако вскорѣ поселяне съ удивленіемъ примѣтили какъ онъ дважды тщетно пытался пробраться въ «Золотую Чайку» и напрасно выжидалъ привѣтствія путешественника, сидѣвшаго у открытаго окна таверны. Кумушки заключили изъ этого, что незнакомецъ открылъ синдику свой высокій санъ, но ошиблись. Къ синдику являлся только лакей незнакомца визировать паспортъ своего барина, и синдикъ успѣлъ разсмотрѣть на зеленой восковой печати пакета два сложенные на крестъ жезла, поддерживающіе горностаевую мантію, увѣнчанную графской короной на щитѣ, вокругъ котораго обвиты были цѣпи ордена Слона и Даннеброга. Этого наблюденія достаточно было для смѣтливаго синдика, страстно желавшаго добиться у главнаго канцлера должности синдика Дронтгеймскаго округа. Но онъ скоро разочаровался въ своихъ ожиданіяхъ, такъ какъ вельможа не принималъ никого.
Вечеромъ на второй день по прибытіи путешественника въ Левигъ, содержатель гостиницы вошелъ въ его комнату съ низкимъ поклономъ и доложилъ о гонцѣ, ожидаемомъ его свѣтлостью.
— Пусть войдетъ, — сказалъ его свѣтлость.
Минуту спустя, гонецъ вошелъ, старательно заперъ дверь и поклонившись до земли незнакомцу, въ почтительномъ молчаніи ожидалъ, пока съ нимъ заговорятъ.
— Я ждалъ васъ сегодня утромъ, — промолвилъ вельможа: — что такое задержало васъ?
— Интересы вашей милости, графъ, у меня нѣтъ другихъ.
— Что дѣлаетъ Эльфегія, Фредерикъ?
— Они въ вождѣленномъ здравіи…
— Да, да, — нетерпѣливо перебилъ графъ: — нѣтъ ли у васъ чего нибудь интереснѣе? Что новаго въ Дронтгеймѣ?
— Рѣшительно ничего, за исключеніемъ того, что баронъ Торвикъ вчера прибылъ туда.
— Да, я знаю, онъ хотѣлъ посовѣтоваться съ этимъ мекленбуржцемъ Левинымъ на счетъ предполагаемаго брака. Можетъ быть вамъ извѣстенъ результатъ свиданія его съ губернаторомъ?
— До моего отъѣзда, сегодня въ полдень, онъ еще не видѣлся съ генераломъ.
— Что! Вѣдь онъ прибылъ наканунѣ! Я не понимаю васъ, Мусдемонъ; видѣлся ли онъ съ графиней?
— Тоже нѣтъ, графъ.
— Значитъ только вы видѣли его?
— Нѣтъ, милостивый графъ. Къ тому же я не знаю его въ лицо.
— Такъ какимъ же образомъ, если никто его не видѣлъ, знаете вы, что онъ въ Дронтгеймѣ?
— Отъ его слуги, который прибылъ вчера въ губернаторскій дворецъ.
— А самъ онъ остановился гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ?
— Его слуга увѣряетъ, что по прибытіи въ Дронтгеймъ онъ заходилъ въ Спладгестъ, а потомъ переправился на лодкѣ въ Мункгольмъ.
Глаза графа сверкнули.
— Въ Мункгольмъ! Въ тюрьму Шумахера! Правда ли это? Я всегда думалъ, что этотъ честный Левинъ окажется измѣнникомъ. Въ Мункгольмъ! Что онъ тамъ забылъ? Ужъ не за совѣтомъ ли Шумахера? Или…
— Милостивый графъ, — перебилъ вдругъ Мусдемонъ: — еще неизвѣстно навѣрно, туда ли онъ отправился.
— Что такое! Да вѣдь вы же сами сказали сейчасъ? Ужъ не вздумали ли вы шутить со мною.
— Простите, ваше сіятельство, но я повторилъ вамъ только то, что сказалъ слуга барона. А господинъ Фредерикъ, который былъ вчера на дежурствѣ въ башнѣ, не видалъ тамъ барона Орденера.
— Хорошъ доводъ! Да мой сынъ совсѣмъ не знаетъ сына вице-короля. Орденеръ могъ войти въ крѣпость инкогнито.
— Совершенно справедливо, но господинъ Фредерикъ утверждаетъ, что онъ не видѣлъ ни одной живой души.
Графъ повидимому успокоился.
— Это другое дѣло, но дѣйствительно ли мой сынъ увѣренъ въ этомъ?
— Онъ повторилъ мнѣ это три раза; при томъ интересы господина Фредерика вполнѣ отвѣчаютъ интересамъ вашего сіятельства.
Этотъ послѣдній доводъ окончательно успокоилъ графа.
— А! — вскричалъ онъ: — Я догадываюсь въ чемъ дѣло. По прибытіи въ Дронтгеймъ, барону захотѣлось прогуляться по заливу, а слугѣ показалось, что онъ отправился въ Мункгольмъ. Въ самомъ дѣлѣ, что ему тамъ дѣлать? Какъ глупо было съ моей стороны такъ встревожиться. Напротивъ, эта непочтительность моего будущаго зятя относительно стараго Левина доказываетъ, что дружба ихъ совсѣмъ не такъ сильна, какъ я опасался. Вѣрите ли, любезный Мусдемонъ, — продолжалъ графъ, улыбаясь: — я ужъ вообразилъ себѣ, что Орденеръ влюбился въ Этель Шумахеръ, и на этой поѣздкѣ въ Мункгольмъ построилъ цѣлую любовную интригу. Но, благодаря Богу, Орденеръ не такъ сумасброденъ, какъ я… Кстати, мой милый, что сдѣлалъ Фредерикъ съ этой юной Данаей.
Относительно Этели Шумахеръ Мусдемонъ вполнѣ раздѣлялъ опасенiя своего патрона, и хотя боролся съ ними, однако не могъ такъ легко ихъ преодолѣть. Однако примѣтивъ веселое настроеніе графа, онъ не хотѣлъ тревожить болѣе его безпечность, а напротивъ постарался усилить ее въ немъ, зная какъ выгодно для фаворита поддержать милостивое расположеніе вельможи.
— Высокородный графъ, вашему сыну не повезло съ дочерью Шумахера; но, кажется, другому болѣе посчастливилось.
Графъ съ живостью прервалъ его.
— Другому! Кому же?
— Не знаю, какой то мужикъ или вассалъ.
— Да вѣрно-ли? — вскричалъ графъ, суровая и мрачная наружность котораго просіяла отъ радости.
— Господинъ Фредерикъ завѣрилъ въ этомъ меня и благородную графиню.
Графъ поднялся и сталъ расхаживать по комнатѣ, потирая себѣ руки.
— Мусдемонъ, любезный Мусдемонъ, еще одно усиліе и мы достигнемъ цѣли. Отпрыскъ дерева засохъ, намъ остается лишь срубить самый стволъ. Нѣтъ ли еще какихъ новостей.
— Диспольсенъ убитъ.
Физіономiя графа окончательно просвѣтлѣла.
— А! Посмотрите, мы станемъ одерживать одну побѣду за другой! Были при немъ бумаги? Въ особенности желѣзная шкатулка?
— Съ прискорбіемъ вынужденъ сообщить вашему сіятельству, что не наши клевреты покончили съ нимъ. Онъ былъ убитъ и ограбленъ на Урхтальскихъ берегахъ; и это преступленіе приписываютъ Гану Исландцу.
— Гану Исландцу! — повторилъ графъ, лицо котораго омрачилось: — Какъ! Этому знаменитому разбойнику, котораго мы хотѣли поставить во главѣ возмущенія!
— Ему, ваше сіятельство. Но послѣ того, что я узналъ о немъ, я опасаюсь, что намъ не легко будетъ розыскать его. Я на всякій случай уже подыскалъ предводителя, который приметъ его имя и въ состояніи будетъ замѣнить Гана Исландца. Это одичалый горецъ, высокій и крѣпкій какъ дубъ, свирѣпый и отважный какъ волкъ снѣговыхъ пустынь. Врядъ ли, чтобы этотъ грозный гигантъ не былъ похожъ на Гана.
— Такъ Ганъ Исландецъ высокаго роста? — спросилъ графъ.
— Такъ по крайней мѣрѣ описываютъ его, ваше сіятельство.
— Я всегда изумлялся, любезный Мусдемонъ, искусству, съ какимъ вы все устраиваете. Когда же вспыхнетъ возстаніе?
— О! Въ самомъ непродолжительномъ времени, ваше сіятельство; быть можетъ даже въ эту минуту. Рудокопы давно уже тяготятся королевской опекой и съ радостью примутъ мысль о возстаніи. Мятежъ вспыхнетъ въ Гульдбрансгалѣ, распространится на Зундъ-Моёръ, захватитъ Конгсбергъ. Въ три дня можно поднять на ноги двѣ тысячи рудокоповъ; возмущеніе будетъ поднято именемъ Шумахера; отъ его имени дѣйствуютъ повсюду наши эмиссары. Противъ мятежниковъ мы двинемъ южные резервы, гарнизоны Дронтгейма и Сконгена, а вы явитесь какъ разъ во время, чтобы подавить бунтъ, окажете новую, отмѣнную услугу королю и освободите его отъ столь опаснаго для трона Шумахера.
Вотъ на какомъ несокрушимомъ основаніи воздвигнется зданіе, которое увѣнчаетъ бракъ высокородной дѣвицы Ульрики съ барономъ Торвикомъ.
Интимный разговоръ двухъ злодѣевъ никогда не бываетъ продолжителенъ, такъ какъ то, что остается въ нихъ человѣческаго быстро ужасаетъ адскую сторону ихъ натуры. Когда двѣ извращенныхъ души открываются другъ другу во всей ихъ безстыдной наготѣ, взаимное безобразіе возмущаетъ ихъ. Преступленіе приходитъ въ ужасъ отъ преступленія, и два злодѣя, съ цинизмомъ сообщая другъ другу глазъ на глазъ свои страсти, удовольствія, выгоды, представляютъ одинъ для другаго страшное заркало. Ихъ собственная низость срамитъ ихъ въ другомъ; ихъ смущаетъ ихъ собственная гордость, страшитъ ихъ собственное ничтожество, и они не пытаются бѣжать, не пытаются не признавать себя въ имъ подобномъ, такъ какъ ихъ ненавистная связь, ихъ ужасающее подобіе, ихъ гнусное сходство неустанно пробуждаетъ въ нихъ голосъ, неутомимо твердящiй о томъ ихъ истомленному слуху. Какъ бы не былъ секретенъ ихъ разговоръ, онъ всегда имѣетъ двухъ неумолимыхъ свидѣтелей: Бога, котораго они не видятъ и совѣсть, которая даетъ имъ себя чувствовать.
Конфиденціальныя сообщенія Мусдемона тѣмъ болѣе были тягостны для графа, что его клевретъ безпощадно удѣлялъ патрону половину участія въ совершенныхъ или замышляемыхъ злодѣяніяхъ. Многіе льстецы предпочитаютъ выгораживать вельможъ, хотя по наружности изъ темныхъ дѣлишекъ, принимаютъ на себя всю отвѣтственность и даже часто оставляютъ патрону постыдное утѣшеніе, что онъ какъ будто противился выгодному для него преступленію. Мусдемонъ съ утонченной хитростью дѣйствовалъ какъ разъ обратно. Онъ хотѣлъ какъ можно рѣже являться въ роли совѣтника, предпочитая роль повинующагося. Онъ зналъ душу своего патрона такъ же хорошо, какъ патронъ зналъ его душу, и онъ никогда не компрометировалъ себя, не компрометируя въ то же время и графа. Послѣ головы Шумахера, первая, которую графъ страстно желалъ видѣть на плахѣ, была голова Мусдемона, и послѣдній зналъ это, какъ будто самъ патронъ сообщилъ ему объ этомъ; графъ же догадывался, что желаніе его не тайна для Мусдемона.
Когда графъ получилъ нужныя для него свѣдѣнія, ему оставалось только отпустить Мусдемона.
— Мусдемонъ, — сказалъ онъ, милостиво улыбаясь: — вы самый преданный, самый ревностный изъ моихъ подчиненныхъ. Все идетъ отлично и этимъ я обязанъ вашему старанію. Я дѣлаю васъ личнымъ секретаремъ великаго канцлера.
Мусдемонъ низко поклонился.
— Это еще не все, — продолжалъ графъ: — я въ третій разъ буду просить для васъ ордена Даннеброга; но опять таки опасаюсь, что ваше происхожденіе, ваше позорное родство…
Мусдемонъ покраснѣлъ, поблѣднѣлъ и, снова поклонившись, скрылъ отъ графа свое смущеніе.
— Ступайте, — продолжалъ графъ, протягивая ему руку для поцѣлуя: — ступайте, господинъ секретарь, составьте ваше прошеніе. Быть можетъ оно застанетъ короля въ добромъ настроеніи духа.
— Дастъ ли его величество свое согласіе, или нѣтъ, а я глубоко признателенъ и горжусь милостями вашей свѣтлости.
— Поторопитесь же, мой милый, такъ какъ мнѣ надо ѣхать. Необходимо также собрать точныя свѣдѣнія объ этомъ Ганѣ.
Поклонившись въ третій разъ, Мусдемонъ открылъ дверь.
— Ахъ, да, — сказалъ графъ: — чуть не забылъ… Въ качествѣ личнаго секретаря напишите въ мою канцелярію, чтобы прислана была отставка синдику Левига, который компрометируетъ свой санъ въ округѣ, пресмыкаясь передъ чужестранцами, которыхъ совсѣмъ не знаетъ.
XIV
— Право, милостивый господинъ, намъ слѣдуетъ сходить на поклоненіе въ Линрасскую пещеру. Кто бы могъ думать, что этотъ отшельникъ, котораго я проклиналъ, какъ адскаго духа, окажется нашимъ ангеломъ-хранителемъ, что копье, каждую минуту просившее нашей жизни, какъ мостъ поможетъ намъ перешагнуть бездну.
Въ такихъ цвѣтистыхъ, довольно комичныхъ выраженіяхъ Бенигнусъ Спіагудри выражалъ Орденеру свою радость, удивленіе и свою признательность къ таинственному отшельнику. Оба путешественника давно уже покинули проклятую башню. Мы встрѣчаемъ ихъ уже довольно далеко отъ деревни Виглы, съ трудомъ пробирающихся по горной дорогѣ, пересѣкаемой лужами и загроможденной большими камнями, которыхъ стремительный, бурный потокъ оставилъ на сырой вязкой почвѣ.
Солнце еще не взошло на горизонтѣ; только кустарникъ, обрамлявшій по сторонамъ скалистую дорогу, рисовался черными фестонами на бѣлесоватомъ небосклонѣ; окружающіе предметы являлись взору еще безъ красокъ, но постепенно принимая свои очертанiя на тускломъ и какъ бы густомъ свѣтѣ, который утреннія сумерки сѣвера разливали въ холодном, утреннемъ туманѣ.
Орденеръ хранилъ молчаніе, уже нѣсколько минутъ погруженный въ сладкое забытье, которому не мѣшаетъ иногда машинальное движеніе ходьбы. Онъ не смыкалъ глазъ со вчерашняго дня, когда до своего возвращенія въ Мункгольмъ успѣлъ немного отдохнуть въ рыбачьей лодкѣ, стоявшей на якорѣ въ Дронтгеймской гаванѣ. Между тѣмъ какъ тѣло его подвигалось къ Сконгену, душа стремилась къ Дронтгеймскому заливу, въ ту мрачную темницу, въ ту печальную башню, въ стѣнахъ которой томилось единственное существо въ мірѣ, съ которомъ онъ могъ дѣлить мечты о счастіи и надеждѣ. Когда онъ бодрствовалъ, мечты объ Этели не покидали его ни на минуту. Во снѣ эти мечты, принимая фантастическіе размѣры, озаряли его грезы. Во снѣ, въ этой второй жизни, когда душа живетъ одна, когда физическая натура исчезаетъ со всѣмъ ея чувственнымъ зломъ, онъ видѣлъ свою возлюбленную не въ большей чистотѣ, не болѣе прекрасною: но свободною, счастливою, принадлежащею ему.
Однако на дорогѣ въ Сконгенъ такое забытье, такое оцѣпенѣніе не могло быть полнымъ; время отъ времени рытвина, камень, древесная вѣтка, встрѣчавшіеся на его пути, безжалостно возвращали его изъ міра идеальнаго въ міръ реальный. Онъ поднималъ голову, раскрывалъ свои утомленные глаза, съ сожалѣніемъ покидая свое восхитительное небесное странствіе для труднаго земного пути, гдѣ его изчезнувшія иллюзіи вознаграждались лишь мыслью о томъ, что у сердца его хранится локонъ Этели, въ ожиданіи пока сама она всецѣло будетъ принадлежать ему. Эта мысль снова вызывала въ его воображеніи милый фантастическій образъ и невольно погружался онъ не въ забытье, а въ какія то неопредѣленныя, упорныя грезы.
— Милостивый господинъ, — повторилъ Спіагудри болѣе громкимъ голосомъ, который вмѣстѣ съ толчкомъ о древесный стволъ вывелъ Орденера изъ задумчивости: — не бойтесь ничего. Отшельникъ по выходѣ изъ башни повелъ полицейскихъ направо, и теперь мы настоль далеко отъ нихъ, что можемъ свободно разговаривать. Конечно, до сихъ поръ благоразумнѣе было молчать.
— Ну, старина! Ты хватилъ черезъ край съ твоимъ благоразуміемъ, — замѣтилъ Орденеръ, зѣвая: — Прошло по меньшей мѣрѣ три часа, какъ мы потеряли изъ виду башню и полицейскихъ.
— Весьма возможно, милостивый государь, но благоразуміе никогда не вредитъ. Вообразите, что бы вышло, если бы я отозвался, когда начальникъ этихъ адскихъ капраловъ спросилъ Бенигнуса Спіагудри такимъ тономъ, какимъ Сатурнъ требовалъ себѣ на съѣденіе своего новорожденнаго сына. Гдѣ находился бы я теперь, благородный патронъ, если бы въ ту критическую минуту не прибѣгъ къ благоразумному молчанію?
— О, старина! Мнѣ сдается, что въ ту минуту даже щипцами нельзя было бы вытянуть у тебя твоего имени.
— Что-жъ въ томъ худого? Скажи я хоть слово, отшельникъ, да благословятъ его святой Госпицій и святой Усбальдъ-пустынникъ! — отшельникъ не успѣлъ бы спросить начальника полицейскихъ, не изъ солдатъ ли Мункгольмскаго гарнизона набрана его команда — пустой вопросъ, предложенный съ единственной цѣлью выиграть время. Обратили ли вы вниманіе, молодой человѣкъ, съ какой странной улыбкой, послѣ утвердительнаго отвѣта безтолковаго сыщика, отшельникъ пригласилъ его послѣдовать за нимъ, говоря, что ему извѣстно убѣжище бѣглаго Бенигнуса Спіагудри.
Тутъ смотритель Спладгеста умолкъ на минуту, какъ бы для того, чтобы собраться съ духомъ, и продолжалъ тономъ трогательнаго энтузіазма:
— Добрый священнослужитель! Достойный, добродѣтельный ошельникъ, осуществляющій на дѣлѣ правила христіанскаго человѣколюбія и евангельскаго милосердія! А я то! Что могло испугать меня въ его наружности, надо сознаться довольно зловѣщей, но за то скрывающей столь прекрасную душу! Примѣтили вы, мой благородный патронъ, съ какимъ особеннымъ выраженіемъ сказалъ онъ мнѣ: до свиданія! уводя полицейскихъ? При другихъ обстоятельствахъ оно встревожило бы меня; но ужъ это не вина благочестиваго, достойнаго отшельника. Очевидно, уединеніе придаетъ голосу такой странный оттѣнокъ, потому что я знаю — Бенигнусъ значительно понизилъ голосъ — другого отшельника, это ужасное существо, которое… Но нѣтъ, изъ уваженія къ почтенному Линрасскому отшельнику, я не могу рѣшиться на такое гнусное сравненіе. Въ перчаткахъ тоже нѣтъ ничего необычайнаго, погода довольно прохладная, чтобы ихъ носить; а его соленое питье не удивляетъ меня болѣе. Католическіе пустынножители налагаютъ на себя самые странные обѣты; это одинъ изъ нихъ и въ подтвержденіе приведу вамъ, милостивый государь, стихъ знаменитаго Урензіуса, инока Кавказской горы:
Rіѵоs dеsрісіеns, mаrіs endаm роtаt аmаrаm [14].И какъ не вспомнилъ я этого стиха въ проклятыхъ развалинахъ Виглы! Самая крошечка памяти избавила бы меня отъ столькихъ безумныхъ треволненій. Конечно, довольно затруднительно мыслить здраво въ подобномъ логовищѣ, сидя за столомъ палача! Палача! Существа, презираемаго и проклинаемаго всѣми, которое отличается отъ убійцы только обиліемъ и безнаказанностью своихъ убійствъ, сердце котораго со всей свирѣпостью страшныхъ злодѣевъ соединяетъ еще трусость, немыслимую въ отважныхъ преступленіяхъ послѣднихъ! Существо, которое предлагаетъ пищу и наливаетъ питье тою же рукою, которою играло орудіями пытки и дробило кости несчастныхъ въ тискахъ кобылы! Дышать однимъ воздухомъ съ палачомъ! Когда самый презрѣнный нищій, запятнанный нечистымъ столкновеніемъ съ нимъ, съ ужасомъ сбрасываетъ съ себя послѣднія лохмотья, защищавшія отъ холода его недуги и наготу! Когда самъ канцлеръ, приложивъ печать къ приговору, съ отвращеніемъ и проклятіемъ кидаетъ ее подъ столъ! Когда во Франціи, въ случаѣ смерти палача, служители превотства предпочитаютъ платить сорокъ ливровъ пени, чѣмъ занять его должность! Когда въ Пештѣ осужденный Чорчилль, которому предлагали помилованіе съ дипломомъ палача, предпочелъ быть казненнымъ, чѣмъ заняться этимъ презрѣннымъ ремесломъ! Развѣ вамъ неизвѣстно, благородный патронъ, что Турмеринъ, епископъ Маастрихтскій, повелѣлъ снова освятить церковь, куда вошелъ палачъ; что царица Петровна мыла себѣ лицо каждый разъ какъ возвращалась съ казни? Вы должны также знать, что французскіе короли изъ уваженія къ воинскимъ чинамъ издали указъ, чтобы они казнимы были своими товарищами, дабы этихъ благородныхъ людей, даже преступныхъ, не безчестило прикосновеніе палача. Наконецъ, что особенно убѣдительно, въ твореніи ученаго Мелазіуса Итургама, подъ заглавіемъ: «Сошествіе святаго Георгія въ адъ», прямо говорится, что Харонъ отдалъ предпочтеніе разбойнику Робину Гуду предъ палачомъ Флинкрассомъ… Да, милостивый государь, если я когда нибудь достигну могущества — все въ рукахъ Божіихъ — я уничтожу палачей и снова возстановлю древній обычай пени за преступленіе. За умерщвленіе князя будутъ платить, какъ въ 1150 году, тысячу четыреста сорокъ двойныхъ королевскихъ экю; за убійство графа — тысячу четыреста сорокъ простыхъ экю; за барона — тысячу четыреста сорокъ полуэкю; за убійство дворянина — тысячу четыреста сорокъ аскалоновъ; за мѣщанина…
— Постой! Мнѣ кажется я слышу конскій топотъ, — перебилъ его Орденеръ.
Они оглянулись и, такъ какъ солнце успѣло уже подняться надъ горизонтомъ, пока длился ученый монологъ Спіагудри, дѣйствительно примѣтили въ ста шагахъ позади себя человѣка въ черной одеждѣ, который одной рукой махалъ имъ, а другой подгонялъ одну изъ тѣхъ бѣлыхъ лошадокъ, которыя часто встрѣчаются укрощенныя и въ дикомъ состояніи въ нижнихъ горахъ Норвегіи.
— Ради бога, милостивый господинъ, сказалъ перетрусившій Спіагудри: — пойдемте скорѣе. Этотъ черный субъектъ сильно смахиваетъ на полицейскаго.
— Что ты, старина, насъ двое и мы побѣжимъ предъ однимъ!
— Увы! Иной разъ двадцать ястребовъ разгоняетъ одна сова. И что за слава ждать полицейскаго?
— Да кто тебѣ сказалъ, что это полицейскій? — возразилъ Орденеръ, взоровъ котораго не застилалъ страхъ: — Успокойся, мой храбрый путеводитель; я узнаю этого путешественника. Подождемъ его.
Надо было покориться. Минуту спустя, всадникъ поровнялся съ ними и Спіагудри успокоился, узнавъ суровую и спокойную наружность священника Афанасія Мюндера.
Остановивъ свою лошадь, онъ съ улыбкой поклонился нашимъ путникамъ и заговорилъ запыхавшимся голосомъ:
— Я вернулся для васъ, мои дорогія чада, и Господь, конечно, не допуститъ, чтобы мое отсутствіе, продолженное съ милосерднымъ намѣреніемъ, повредило тѣмъ, кому приноситъ пользу мое присутствіе.
— Преподобный отецъ, — отвѣчалъ Орденеръ: — мы почтемъ за счастье оказать вамъ какую нибудь услугу.
— Нѣтъ, благородный молодой человѣкъ, напротивъ, мнѣ слѣдуетъ оказать вамъ ее. Не удостоите ли вы сообщить мнѣ цѣль вашего путешествія?
— Не могу, почтенный отецъ.
— Желалъ бы я, сынъ мой, чтобы вами дѣйствительно руководила въ данномъ случаѣ невозможность, а не недовѣріе. Иначе горе мнѣ! Горе тому, котораго добрый человѣкъ, разъ увидѣвъ, тотчасъ же лишаетъ своего довѣрія!
Смиреніе и простосердечіе священника сильно тронули Орденера.
— Мы направляемся въ сѣверныя горы. Это все, что я могу вамъ сказать, святой отецъ.
— Такъ я и думалъ, сынъ мой, вотъ почему поспѣшилъ догнать васъ. Въ этихъ горахъ скитаются цѣлыя банды рудокоповъ и охотниковъ, часто весьма опасныя для путешественниковъ.
— Ну-съ?
— Ну, я знаю, что нечего и пытаться вернуть съ пути молодежь, ищущую всякаго рода опасностей; но уваженіе, которое я почувствовалъ къ вамъ, указало мнѣ на средство, которое можетъ вамъ пригодиться. Злосчастный фальшивый монетчикъ, которому преподалъ я вчера послѣднія утѣшенія Спасителя, былъ рудокопъ. Передъ смертью онъ передалъ мнѣ этотъ пергаментъ съ его именемъ, говоря, что этотъ документъ предохранитъ меня отъ всякой опасности въ случаѣ если когда либо путь мой будетъ лежать чрезъ эти горы. Увы! Какая польза въ этой бумагѣ бѣдному священнику, который живетъ и умретъ съ узниками и который къ тому же іnter саstrа latronum [15] долженъ искать защиты у терпѣнія и молитвы, этого единственнаго оружія Создателя! Если я не отказался принять этотъ пергаментъ, то для того лишь, чтобы не огорчить отказомъ сердце того, для котораго чрезъ какое нибудь мгновеніе все земное утратитъ всякую цѣну. Самъ Богъ руководилъ мною, потому что теперь я могу вручить его вамъ, дабы онъ сопровождалъ васъ при всякихъ случайностяхъ пути вашего, дабы даръ умирающаго оказалъ благодѣяніе путнику.
Орденеръ съ умиленіемъ принялъ даръ стараго священника.
— Да услышитъ Господь ваше желаніе, святой отецъ! Благодарю васъ. Но на всякій случай, — прибавилъ онъ, схватившись за саблю: — я уже запасся пропускомъ.
— Почемъ знать, молодой человѣкъ, — замѣтилъ священникъ: — можетъ быть эта ничтожная бумага защититъ васъ лучше вашей желѣзной шпаги. Взоръ кающагося могущественнѣе меча архангела. Простите, узники ждутъ меня. Помолитесь за нихъ и за меня.
— Святой отецъ, — возразилъ Орденеръ, улыбаясь: — я ужѣ обѣщалъ вамъ, что ваши узники будутъ помилованы, и опять повторяю свое обѣщаніе.
— О! Не говорите съ такой увѣренностью, сынъ мой, Не искушайте Господа. Человѣкъ не въ состояніи знать, что творится въ сердцѣ другаго, и вамъ неизвѣстно еще, на что рѣшился сынъ вице-короля. Увы! Быть можетъ онъ не удостоитъ даже принять смиреннаго священника. Простите, сынъ мой. Да благословитъ Богъ ваше странствіе, пусть ваша чистая душа вспоминаетъ иногда бѣднаго пастыря и мольбу его за несчастныхъ узниковъ.
XV
Въ комнатѣ, смежной съ аппартаментами Дронтгеймскаго губернатора, три секретаря его превосходительства усѣлись за чернымъ столомъ, заваленнымъ пергаментами, бумагами, печатями и письменными принадлежностями. Четвертый табуретъ у стола оставался незанятымъ, свидѣтельствуя, что четвертый писецъ запоздалъ. Въ теченіе нѣкотораго времени всѣ трое сосредоточенно занимались каждый своимъ дѣломъ, какъ вдругъ одинъ изъ нихъ вскричалъ:
— А знаете, Ваферней, говорятъ, что этотъ несчастный библіотекарь Фокстиппъ смѣщенъ епископомъ, благодаря рекомендательному письму, которымъ вы подкрѣпили прошеніе доктора Англивіуса?
— Что за вздоръ, Рихардъ! — съ живостью возразилъ другой секретарь, къ которому, однако, не относились слова Рихарда: — Ваферней не могъ писать въ пользу Англивіуса, потому что просьба его возмутила генерала, когда я доложилъ ему ея содержаніе.
— Дѣйствительно, вы говорили мнѣ объ этомъ, — согласился Ваферней: — но только на прошеніи я нашелъ слово tribuatur, написанное собственноручно его превосходительствомъ.
— Быть не можетъ!
— Право, милѣйшій; да и многія другія рѣшенія его превосходительства, о которыхъ вы говорили мнѣ, измѣнены равнымъ образомъ въ посткриптумѣ. Такъ, на прошеніи рудокоповъ генералъ надписалъ nеgеtur…
— Неужели! Но въ такомъ случаѣ я тутъ ровно ничего не понимаю; генералъ опасался ихъ мятежнаго духа.
— Быть можетъ, онъ хотѣлъ постращать ихъ строгостью. Меня убѣдило въ этомъ то обстоятельство, что и священнику Мюндеру, просившему помилованія двѣнадцати преступникамъ, тоже отказано…
Секретарь, къ которому обращался Ваферней, быстро вскочилъ съ своего мѣста.
— О! Ужъ этому я не повѣрю. Губернаторъ такъ добръ и, казалось мнѣ, такъ тронутъ былъ участью осужденныхъ, что…
— Ну, въ такомъ случаѣ прочтите сами, Артуръ, возразилъ Ваферней.
Артуръ взялъ просьбу и прочелъ роковой отказъ.
— Право, — сказалъ онъ: — я не вѣрю своимъ глазамъ. Я снова доложу объ этой просьбѣ генералу. Давно ли его превосходительство помѣчалъ эти бумаги?
— Кажется, третьяго дня, — отвѣчалъ Ваферней.
— Третьяго дня, — повторилъ Рихардъ тихимъ голосомъ: — значитъ утромъ въ тотъ день, когда явился сюда и съ такой таинственной поспѣшностью исчезъ баронъ Орденеръ.
— Смотрите! — съ живостью вскричалъ Ваферней, прежде чѣмъ Артуръ успѣлъ вымолвить слово: — tribuatur стоитъ и на шутовскомъ прошеніи Бенигнуса Спіагудри!..
Рихардъ расхохотался.
— Это не старый ли смотритель за трупами, тоже исчезнувшій страннымъ образомъ?
— Онъ самый, — отвѣтилъ Артуръ: — въ его мертвецкой нашли страшно обезображенный трупъ и уже отданъ приказъ преслѣдовать его какъ святотатца. Но помощникъ его, низенькій лапландецъ, который остался одинъ въ Спладгестѣ, полагаетъ вмѣстѣ съ народомъ, что этого колдуна утащилъ самъ дьяволъ.
— Вотъ, — сказалъ Ваферней, смѣясь: — субъектъ, который оставилъ по себѣ добрую славу!
При этихъ словахъ вошелъ въ комнату четвертый секретарь.
— Добро пожаловать, Густавъ, вы порядкомъ запоздали сегодня. Ужъ не женились ли вы вчера чего добраго?
— О, нѣтъ! — перебилъ Ваферней: — Онъ выбралъ самую дальнюю дорогу, чтобы показаться въ своемъ новомъ плащѣ подъ окнами прелестной Розали.
— Ваферней, — сказалъ вновь прибывшій: — мнѣ хотѣлось бы, чтобы вы были правы. Но причина моего замедленія совсѣмъ не такъ пріятна, и я сомнѣваюсь, чтобы мой новый плащъ произвелъ впечатлѣніе на субъектовъ, которыхъ я только что посѣтилъ.
— Откуда же вы явились? — спросилъ Артуръ.
— Изъ Спладгеста.
— Вотъ странно, — вскричалъ Ваферней, выронивъ перо: — мы только что о немъ говорили. Но если можно говорить о немъ для препровожденія времени, я не понимаю какъ можно входить туда.
— А еще болѣе тамъ оставаться, — подхватилъ Рихардъ: — но, любезный Густавъ, что вы тамъ видѣли?
— Э, — сказалъ Густавъ: — смотрѣть то вы не хотите, а послушать такъ вамъ интересно. Ну, вы пожалѣли бы, если бы я отказался описать вамъ ужасы, при видѣ которыхъ вы содрогнулись бы.
Всѣ тотчасъ же обступили Густава, который заставилъ себя просить, не смотря на то, что внутренно ему самому хотѣлось поскорѣе разсказать то, что онъ видѣлъ.
— Ну, Ваферней, вы можете передать мой разсказъ вашей юной сретрицѣ, которая до страсти любитъ ужасныя происшествія. Я внесенъ былъ въ Спладгестъ толпой, стремившейся туда со всѣхъ сторонъ. Туда только что принесли трупы трехъ солдатъ Мункгольмскаго гарнизона и двухъ полицейских, найденныхъ вчера въ четырехъ лье отсюда въ ущельяхъ на днѣ Каскадтиморской пропасти. Въ толпѣ зрителей увѣряли, что эти несчастные составляли отрядъ, посланный три дня тому назадъ по направленію къ Сконгену въ поиски за бѣглымъ смотрителемъ Спладгеста. Если это такъ, непонятно какимъ образомъ погибло столько вооруженныхъ людей. Увѣчье тѣлъ повидимому доказываетъ, что они сброшены были съ высоты скалъ. Просто волосы дыбомъ становятся.
— Неужто! И вы ихъ видѣли, Густавъ? — съ живостью спросилъ Ваферней.
— Они по сейчасъ мерещатся мнѣ.
— Кого же подозрѣваютъ въ этомъ преступленіи?
— Нѣкоторые думаютъ, что тутъ причастна банда рудокоповъ, увѣряютъ даже, что слышали вчера въ горахъ звукъ рожка, на который они собираются.
— Вотъ оно что, — замѣтилъ Артуръ.
— Да; но какой то старый крестьянинъ опровергъ эту догадку, указавъ, что въ стороне Каскадтиморы нѣтъ ни шахтъ, ни рудокоповъ.
— Такъ кто-же?
— Неизвѣстно; если-бы тѣла не были цѣлы, можно было бы подумать на дикихъ звѣрей, такъ какъ на членахъ остались длинныя и глубокія ссадины. Такія же ссадины находятся и на трупѣ старика съ сѣдой бородой, принесеннаго въ Спладгестъ третьяго дня утромъ, послѣ той страшной бури, которая помѣшала вамъ, любезный Леандръ Ваферней посѣтить на томъ берегу залива вашу Геро Ларсинскаго холма.
— Да, да, Густавъ, — сказалъ Ваферней, смѣясь: — но про какого старика повели вы рѣчь?
— По высокому росту, длинной сѣдой бородѣ, по четкамъ, которыя были крѣпко сжаты въ его окаменѣлыхъ пальцахъ, хотя онъ былъ найденъ буквально ограбленнымъ донага, въ немъ узнали, говорятъ, извѣстнаго окрестнаго отшельника, кажется Линрасскаго. Очевидно, что и этотъ бѣдняга былъ тоже убитъ… но съ какой цѣлью? Теперь не рѣжутъ за релігиозныя убѣжденія, а у этого стараго отшельника только и было, что шерстяной плащъ, да любовь народа.
— И вы говорите, — спросилъ Рихардъ: — что его тѣло, подобно трупамъ солдатъ, было истерзано какъ бы когтями дикихъ звѣрей?
— Да, милѣйшій; одинъ рыбакъ замѣтилъ такія же ссадины на тѣлѣ офицера, найденнаго убитымъ, нѣсколько дней тому назадъ на Урхтальскихъ берегахъ.
— Это странно, — замѣтилъ Артуръ.
— Это ужасно, — замѣтилъ Рихардъ.
— Довольно, господа, поболтали, пора и за работу, — возразилъ Ваферней: — того и гляди войдетъ генералъ. Любезный Густавъ, мнѣ хотѣлось бы самому видѣть трупы; если желаете, мы вмѣстѣ сегодня вечеромъ, выйдя отсюда, завернемъ на минуту въ Спладгестъ.
XVI
Въ 1675 году, то есть за двадцать четыре года до того времени, когда происходятъ описываемыя нами событія, вся деревня Токтре весело справляла свадьбу прелестной Люси Пельниръ съ рослымъ красивымъ парнемъ Кароллемъ Стадтъ. Правду сказать, они уже давно полюбили другъ друга; и можно ли было не сочувствовать этимъ юнымъ влюбленнымъ, когда столько пылкихъ желаній, столько мучительныхъ надеждъ смѣнялись наконецъ блаженствомъ!
Уроженцы одной и той же деревни, выросшіе вмѣстѣ на однихъ и тѣхъ же поляхъ, часто въ раннемъ дѣтствѣ послѣ игры Каролль засыпалъ на груди Люси, часто въ юности послѣ работы Люси отдыхала на рукахъ Каролля. Люси была самая скромная, самая красивая дѣвушка во всей странѣ, Каролль самый храбрый, самый славный юноша въ округѣ; они любили другъ друга и день, когда они впервые полюбили другъ друга, соединялся въ ихъ воображеніи съ первымъ днемъ ихъ жизни.
Но бракъ ихъ произошелъ не такъ легко, какъ явилась любовь. Тутъ замѣшались домашніе разсчеты, семейные раздоры, препятствія со стороны родителей; цѣлый годъ провели они въ разлукѣ, и Каролль сильно тосковалъ вдали отъ Люси, а Люси много пролила слезъ вдали отъ Каролля, до того счастливаго дня, когда они соединились, для того, чтобы отнынѣ если тосковать или плакать, такъ вмѣстѣ.
Каролль получилъ наконецъ свою Люси, избавилъ ее отъ страшной опасности. Однажды услыхалъ онъ крики, несшіеся изъ лѣсу. Разбойникъ, наводившій ужасъ на всѣхъ горцевъ, схватилъ его Люси и казалось намѣревался ее похитить. Каролль отважно напалъ на это чудовище во образѣ человѣческомъ, страшный ревъ котораго былъ подобенъ реву дикаго звѣря. Да, онъ напалъ на того, на кого еще никто не осмѣливался нападать; но любовь придала ему львиную силу. Онъ освободилъ свою возлюбленную Люси, возвратилъ ее отцу, а отецъ въ награду отдалъ ее ему.
И такъ вотъ почему вся деревня праздновала союзъ этой парочки. Одна лишь Люси казалась мрачной. Правда никогда еще взоры ея съ большей нѣжностью не останавливались на ея ненаглядномъ Кароллѣ, но въ этихъ взорахъ сквозила также печаль, и это обстоятельство среди общаго веселья возбуждало удивленіе.
Съ минуты на минуту по мѣрѣ того, какъ росло счастіе ея жениха, взоры невѣсты становились печальнѣе и озабоченнѣе.
— О, дорогая Люси, — сказалъ ей Каролль по окончаніи свяшеннаго обряда: — разбойникъ, появленіе котораго приноситъ несчастіе цѣлой странѣ, составилъ мое счастіе.
Замѣтили, что она поникла головой и не отвѣчала ни слова.
Наступилъ вечеръ. Новобрачные остались наединѣ въ своей новой хижинѣ, а танцы и веселье стали еще оживленнѣе на деревенской площади, какъ бы торжествуя блаженство супруговъ.
На слѣдующее утро Каролль Стадтъ исчезъ. Нѣсколько словъ, написанныхъ его рукою были доставлены отцу Люси Пельниръ охотникомъ Кольскихъ горъ, который встрѣтилъ его до разсвѣта, блуждающимъ по берегу залива. Старый Вилль Пельниръ показалъ записку пастору и синдику, отъ вчерашняго празднества осталось только уныніе и угрюмое отчаяніе Люси.
Эта таинственная катастрофа опечалила всю деревню, но тщетно пытались разгадать ея тайну. Молитвы за упокой души Каролля огласили своды той самой церкви, гдѣ нѣсколько дней тому назадъ онъ самъ молилъ Всевышняго о своемъ счастіи. Никто не зналъ, что привязывало къ жизни вдову Стадтъ, но въ концѣ девятаго мѣсяца ея уединенія и траура она родила сына и въ тотъ же день деревня Голинъ погребена была подъ осколками скалы, высившейся надъ ея хижинами.
Рожденіе сына не разсѣяло мрачнаго горя матери. Жилль Стадтъ ничуть не походилъ на Каролля. Его суровое дѣтство казалось предвѣщало жизнь еще болѣе суровую. Нѣсколько разъ малорослый дикарь, въ которомъ горцы, видѣвшіе его издали, признавали знаменитаго Гана Исландца, посѣщалъ уединенную хижину вдовы Каролля, и проходившіе мимо нея въ то время слышали стоны женщины, прерываемые рычаніемъ тигра. На цѣлые мѣсяцы уводилъ этотъ дикарь съ собой Жилля, потомъ снова возвращалъ его матери, еще болѣе дикимъ, еще болѣе мрачнымъ.
Вдова Стадтъ питала къ своему ребенку странную смѣсь ужаса и нѣжности. Иной разъ она сжимала его въ своихъ материнскихъ объятіяхъ, какъ единственное существо, привязывавшее ее къ жизни; другой разъ она съ отвращеніемъ отталкивала его отъ себя, призывая Каролля, своего дорогого Каролля. Никто въ мірѣ не зналъ какія муки испытывало ея бѣдное сердце.
Жиллю исполнилось двадцать три года. Онъ увидалъ Гутъ Стерсенъ и влюбился въ нее до безумія. Гутъ Стерсенъ была богата, онъ бѣденъ. Тогда отправился онъ въ Рераассъ, чтобы сдѣлаться рудокопомъ и разбогатѣть. Съ тѣхъ поръ мать ничего не слыхала о немъ.
Разъ ночью сидѣла она за прялкой, доставлявшей ей пропитаніе, у едва мерцавшаго ночника въ хижинѣ, стѣны которой — нѣмые свидѣтели таинственной брачной ночи, — такъ же состарились, какъ и Люси въ уединеніи и печали. Съ тревогой думала она о своемъ сынѣ, хотя его присутствіе, столь сильно желанное, напомнитъ ей, а быть можетъ и причинитъ новыя огорченія. Эта бѣдная мать любила своего сына, несмотря на всю черствость его натуры. Да и могла ли она не любить его, вынеся для него столько страшныхъ мученій!..
Поднявшись съ своего мѣста, она достала изъ стараго шкафа распятіе, заржавѣвшее въ пыли. Одно мгновеніе она смотрѣла на него съ мольбой, потомъ вдругъ съ ужасомъ отбросила отъ себя:
— Молиться! — прошептала она: — Какъ будто я могу молиться!.. Несчастная! Ты можешь молиться только аду! Аду принадлежитъ твоя душа!
Она погрузилась въ мрачное раздумье, какъ вдругъ ктото постучалъ въ дверь.
Это обстоятельство не часто случалось съ вдовой Стадтъ, такъ какъ уже съ давнихъ поръ, благодаря странному образу ея жизни, въ деревнѣ Токтре сложилось мнѣніе, что она знается съ нечистой силой. Оттого никто не подходилъ къ ея хижинѣ. Странные предразсудки того вѣка и невѣжественной страны! Своими несчастіями она составила себѣ славу колдуньи, подобно тому, какъ смотритель Спладгеста прослылъ колдуномъ за свою ученость!
— Неужели это вернулся мой сынъ? Неужели это Жилль! — вскричала она, бросаясь къ двери.
Увы! Надежда ея не сбылась. На порогѣ двери стоялъ малорослый отшельникъ, одѣтый въ грубую шерстяную рясу съ опущеннымъ на лицо капюшономъ, изъ подъ котораго виднѣлась только черная борода.
— Святой отецъ, — спросила вдова: — что вамъ нужно здѣсь? Вы не знаете въ какое жилище вы забрели.
— Неужели! — возразилъ хриплый, слишкомъ знакомый голосъ.
Сбросивъ перчатки, черную бороду и капюшонъ, онъ открылъ звѣрское лицо, рыжую бороду и руки, вооруженныя отвратительными ногтями.
— О!.. — вскричала вдова и закрыла лицо руками.
— Это что такое? — закричалъ малорослый: — Въ двадцать четыре года ты не привыкла къ мужу, на котораго должна будешь смотрѣть всю вѣчность?
— Вѣчность!.. — пробормотала она съ ужасомъ.
— Слушай, Люси Пельниръ, я принесъ тебѣ вѣсти о твоемъ сынѣ.
— О моемъ сынѣ! Гдѣ же онъ? Зачѣмъ онъ не пришелъ самъ?..
— Онъ не можетъ.
— Но говорите же, — вскричала она: — благодарю васъ, увы! Вы тоже можете принести мнѣ радость!
— Я дѣйствительно принесъ тебѣ радостную вѣсть, — продолжалъ малорослый глухимъ голосомъ: — ты слабая женщина и я изумляюсь какъ могла ты произвести на свѣтъ такого сына! Радуйся же! Ты опасалась, что твой сынъ пойдетъ по моимъ слѣдамъ: теперь не бойся этого.
— Какъ! — вскричала мать, внѣ себя отъ восторга: — Мой сынъ, мой возлюбленный Жилль перемѣнился?
Съ мрачной усмѣшкой смотрѣлъ отшельникъ на ея радость.
— О, онъ совсѣмъ перемѣнился, — сказалъ онъ.
— Такъ зачѣмъ же онъ не спѣшитъ въ мои объятія? Гдѣ вы видѣли его? Что онъ дѣлаетъ?
— Онъ спитъ.
Увлеченная радостью, вдова не примѣчала ни зловѣщаго взора, ни страшной насмѣшки словъ малорослаго.
— Зачѣмъ же вы не разбудили его, зачѣмъ не сказали ему: Жилль, иди къ твоей матери?
— Онъ крѣпко спитъ.
— О! Когда же онъ придетъ? Скажите мнѣ, умоляю васъ, скоро ли я увижу его?
Ложный отшельникъ вытащилъ изъ подъ полы рясы чашу страннаго фасона.
— Ну, вдова, — сказалъ онъ: — пей за скорое возвращеніе твоего сына!
Мать вскрикнула отъ ужаса. Это былъ человѣческій черепъ. Въ страхѣ отступила она и не могла выговорить слова.
— Нѣтъ, нѣтъ! — закричалъ вдругъ малорослый страшнымъ голосомъ: — не отвращай твоихъ взоровъ, смотри. Ты спрашивала скоро ли вернется твой сынъ?.. Смотри, говорю тебѣ! Вотъ все, что отъ него осталось.
При красноватомъ свѣтѣ ночника онъ поднесъ къ помертвѣвшимъ губамъ матери голый, высохшій черепъ ея сына.
Столько уже бѣдствій истерзали душу несчастной женщины, что это новое горе не могло ее доконать. Она устремила на свирѣпаго отшельника пристальный, тупой взглядъ.
— О, смерть!.. — тихо прошептала она: — смерть!.. Дайте мнѣ умереть.
— Умирай, если хочешь!.. Но, Люси Пельниръ, вспомни Токтрейскій лѣсъ, вспомни день, когда демонъ, завладѣвъ твоимъ тѣломъ, отдалъ душу твою аду! Я демонъ, Люси, а ты моя супруга на вѣки! Теперь умирай, если хочешь!
Въ этой странѣ предразсудковъ и суевѣрій, существовало повѣріе, что нечістая сила является иногда въ людской средѣ, чтобы сѣять въ ней преступленія и бѣдствія. Такою ужасною славою пользовался одинъ изъ знаменитыхъ разбойниковъ, Ганъ Исландецъ. Было также повѣріе, что женщина, сдѣлавшаяся, чрезъ обольщеніе-ли, или насильно, жертвою этого демона въ образѣ человѣческомъ, непреложно обрекается за это несчастіе дѣлить съ нимъ проклятіе.
Событія, о которыхъ отшельникъ напомнилъ вдовѣ, казалось возбудили въ ней мысль объ этомъ.
— Увы! — сказала она печально: — я не могу даже избавиться отъ существованія!.. Но въ чемъ виновата я? Возлюбленный Каролль, тебѣ извѣстно, что я невинна. Что можетъ сдѣлать слабая дѣвушка противъ насилія демона!
Глаза ея сверкали безуміемъ, безсвязныя слова казалось происходили отъ конвульсивнаго подергиванія губъ.
— Да, Каролль, — продолжала она: — съ того дня я лишилась чистоты и невинности, а демонъ еще спрашиваетъ меня, помню ли я этотъ страшный день?. Дорогой Каролль, я никогда не измѣняла тебѣ; ты пришелъ слишкомъ поздно; я была его прежде, чѣмъ стала твоею, увы!.. Увы!. И за это я обречена на вѣчныя мученія. Нѣтъ, я не соединюсь съ тобой, съ тобой, котораго оплакиваю. Что принесетъ мнѣ смерть? Я пойду за этимъ чудовищемъ въ міръ подобныхъ ему существъ, въ міръ окаянныхъ грѣшниковъ! Но что сдѣлала я? Мои несчастія въ этой жизни вмѣнятся мнѣ въ преступленія въ жизни будущей.
Малорослый отшельникъ смотрѣлъ на нее съ торжествующимъ побѣдоноснымъ видомъ…
— Ахъ! — вдругъ вскричала она, обращаясь къ нему: — О! Скажите мнѣ, не страшное ли это сновидѣніе, которое нагнало на меня ваше присутствіе? Вамъ извѣстно, что со дня моего паденія, всѣ роковыя ночи, когда духъ вашъ посѣщалъ меня, отмѣчены для меня нечистыми помыслами, страшными снами, ужасающими видѣніями.
— Опомнись, женщина. Что ты не спишь, это такъ же вѣрно, какъ вѣрно то, что Жилль умеръ.
Воспоминаніе о прежнихъ бѣдствіяхъ какъ бы подавило въ матери впечатлѣніе новаго горя; послѣднія слова снова вернули ее къ дѣйствительности.
— Мой сынъ! О! Мой сынъ: — вскричала она съ такимъ выраженіемъ, которое тронуло бы всякое другое существо, кромѣ злодѣя, слушавшаго ее: — Нѣтъ, онъ вернется, онъ не умеръ! Не можетъ быть, чтобы онъ умеръ.
— Ну, иди спроси Рераасскія скалы, которыя задавили его, спроси Дронтгеймскій заливъ, который принялъ его тѣло.
Мать упала на колѣни, застонавъ:
— Боже! Великій Боже!
— Молчи, раба ада!
Несчастная умолкла. Онъ продолжалъ:
— Не сомнѣвайся въ смерти твоего сына. Онъ наказанъ за то, въ чемъ провинился его отецъ. Онъ допустилъ, чтобы взглядъ женщины смягчилъ его гранитное сердце. Я, я обладалъ тобой, но никогда не любилъ тебя. Злая судьба твоего Каролля перешла на него… Нашъ сынъ былъ обманутъ невѣстой, ради которой пожертвовалъ своей жизнью.
— Умеръ! — прошептала она: — умеръ! Такъ это правда?.. О, Жилль! Плодъ моего несчастія, зачатый въ ужасѣ, рожденный въ скорбяхъ! Въ младенчествѣ ты терзалъ мою грудь; въ дѣтствѣ никогда не отвѣчалъ ты на мои ласки и объятія; все время ты избѣгалъ и отталкивалъ твою мать, твою одинокую, покинутую всѣми мать! Ты старался заставить меня забыть прошлыя бѣдствія, только причиняя мнѣ новыя огорченія; ты покинулъ меня для демона, виновника твоего рожденія и моего вдовства; никогда, въ теченіе долгихъ лѣтъ, Жилль, ты ничѣмъ не порадовалъ меня; а между тѣмъ теперь твоя смерть причиняетъ мнѣ невыносимыя муки, воспоминаніе о тебѣ кажется мнѣ чарующимъ утѣшеніемъ!..
Голосъ ея порвался. Она горько зарыдала, закрывъ голову чернымъ шерстянымъ покрываломъ.
— Слабая, малодушная женщина! — пробормоталъ отшельникъ: — Подави свою скорбь, — закричалъ онъ громкимъ голосомъ: — я уже утѣшился въ своей. Слушай, Люси Пельниръ, пока ты оплакиваешь своего сына, я уже началъ мстить за него. Его невѣста измѣнила ему для какого то солдата Мункгольмскаго гарнизона. Весь полкъ погибнетъ отъ моей руки… Смотри, Люси Пельниръ.
Оттянувъ рукава своей рясы, онъ протянулъ вдовѣ свои безобразныя окровавленныя руки.
— Да, — продолжалъ онъ, испустивъ что то въ родѣ рычанія: — на Урхтальскихъ берегахъ, въ Каскадтиморскихъ ущельяхъ радуется теперь духъ Жилля. Утѣшься же, женщина, развѣ не видишь ты этой крови?
Потомъ вдругъ какъ бы пораженный какимъ-то воспоминаніемъ, онъ спросилъ:
— Люси Пельниръ, развѣ ты не получила отъ меня желѣзной шкатулки?.. Какъ! Я надѣлилъ тебя золотомъ, я надѣлилъ тебя кровью, а ты еще плачешь! Неужто ты не человѣческое отродье?
Вдова молчала, подавленная поразившимъ ее несчастіемъ.
— Ну! — продолжалъ онъ съ дикимъ хохотомъ: — Нѣма и недвижима! Такъ ты и не женскаго отродья! Люси Пельниръ! — тряхнулъ онъ ея руку, чтобы заставить слушать себя: — развѣ мой гонецъ не принесъ тебѣ запечатанную желѣзную шкатулку?
Мелькомъ взглянувъ на него, вдова отрицательно покачала головой и снова погрузилась въ угрюмое раздумье.
— А! Презрѣнный! — закричалъ малорослый: — Презрѣнный обманщикъ! Ну, Спіагудри, дорого же ты поплатишься за это золото!
Сбросивъ съ себя рясу отшельника, онъ выбѣжалъ изъ хижины съ воемъ гіены, почуявшей трупъ.
XVII
Между тѣмъ Этель провела четыре долгихъ, томительныхъ дня, одиноко блуждая въ мрачномъ саду Шлезвигской башни, по длинной галлереѣ, гдѣ разъ не слыхала она полуночнаго боя часовъ, одиноко молясь въ часовнѣ, свидѣтельницѣ и повѣренной столькихъ слезъ и обѣтовъ. Иногда старый отецъ сопровождалъ ее, но это не смягчало ея одиночества, такъ какъ избранный спутникъ ея жизни находился въ отсутствіи.
Злополучная дѣвушка!.. За что эта юная, чистая душа терпитъ уже такія муки? Оторванная отъ свѣта, почестей, богатства, утѣхъ юности, торжества красоты, она еще въ колыбели попала въ тюрьму. Раздѣляя съ отцомъ заключеніе, она росла, видя какъ онъ дряхлѣетъ съ каждымъ днемъ, и въ довершеніе ея горестей, какъ бы для того, чтобы она извѣдала всѣ роды рабства, любовь посѣтила ее въ темницѣ.
Если бы еще Орденеръ былъ съ нею, на что ей нужна была свобода? Знала ли она свѣтъ, у котораго ее похитили? Ея міръ, ея небо, не заключались ли они для нея въ этой тѣсной башнѣ, на черныя стѣны которой, усѣянныя солдатами, ни одинъ прохожій не кинетъ сострадательнаго взгляда?
Но увы! Уже вторично разставалась она съ своимъ Орденеромъ; вмѣсто того, чтобы наслаждаться краткими, но постоянно возраждающимися часами его чистыхъ ласкъ и цѣломудренныхъ объятій, дни и ночи проводила она, оплакивая разлуку съ нимъ и молясь за его безопасность. Дѣвушка можетъ только молиться и плакать.
Сколько разъ завидовала она крыльямъ вольной ласточки, прилетавшей за кормомъ къ рѣшетчатому окну ея тюрьмы. Сколько разъ мысленно уносилась она вслѣдъ за облакомъ, которое стремительный вѣтеръ гналъ къ сѣверу; и потомъ вдругъ отворачивала лицо и зажмуривала глаза, какъ бы страшась появленія гиганта-разбойника и начала неравной борьбы на одной изъ тѣхъ далекихъ горъ, синѣющія вершины которыхъ подобно неподвижнымъ тучамъ обрамляли горизонтъ.
О! Какъ жестоки муки любви, когда находишься въ разлукѣ съ любимымъ существомъ! Не многія сердца извѣдали ихъ вполнѣ, такъ какъ немногимъ сердцамъ извѣстна вся глубина истинной любви. Тогда, какъ бы игнорируя свое собственное существованіе, создаешь для себя угрюмое одиночество, необъятную пустоту, а отсутствующаго видишь въ какомъ то мірѣ чудовищъ, опасностей и обольщеній; все, изъ чего слагается наша натура, все это сливается въ одно безконечное стремленіе къ существу, покинувшему насъ и мы чуждаемся окружающаго насъ міра. Тогда мы дышимъ, ходимъ, дѣйствуемъ, но безсознательно. Тѣло движется наугадъ подобно блуждающей планетѣ, потерявшей свое солнце: души въ немъ нѣтъ.
XVIII
Берега Норвегіи изрѣзаны такимъ множествомъ узкихъ заливовъ, бухтъ, подводныхъ рифовъ, лагунъ и маленькихъ мысовъ, что они утомляютъ память путешественника и истощаютъ терпѣніе топографа. Въ былое время — если вѣрить преданіямъ, сохранившимся въ народѣ — каждый перешеекъ имѣлъ своего злаго духа, посѣщавшаго его, каждая бухта — свою фею, обитавшую въ ней, каждый мысъ — своего святаго покровителя; суевѣріе, чтобы сдѣлаться страшилищемъ рода человѣческаго, причудливо смѣшиваетъ въ себѣ всѣ повѣрія.
Говорятъ, только одно мѣсто на Кельвельскомъ берегу, на нѣсколько миль къ сѣверу отъ Вальдергогской пещеры, изъято было отъ вѣдѣнія духовъ адскихъ, воздушныхъ и небесныхъ. Это была прибрежная прогалина, укрывшаяся подъ скалой, на вершинѣ которой находились древнія развалины жилища Ральфа или Радульфа Исполина. Эта маленькая дикая лужайка, граничащая къ западу съ моремъ и какъ бы втиснутая въ узкое пространство между скалъ, поросшихъ кустарникомъ, обязана была упомянутой привилегіей единственно имени своего перваго владѣльца, древняго норвежскаго барона. Ни одна фея, никакой злой духъ или ангелъ не осмѣлились бы избрать своимъ мѣстомъ жительства или принять подъ свое покровительство мѣстность, принадлежавщую нѣкогда Ральфу Исполину.
Дѣйствительно, достаточно было одного имени грознаго Ральфа, чтобы придать страшный колоритъ и безъ того дикой мѣстности. Но какъ бы то ни было, воспоминаніе не такъ пугаетъ, какъ появленіе духа, и никогда рыбакъ, застигнутый непогодой на морѣ, причаливъ свою лодку къ бухтѣ Ральфа, не видалъ на вершинѣ скалы ни пляски и хохота домоваго, ни феи, проѣзжавшей по кустарнику въ своей фосфорической колесницѣ, влекомой свѣтящимися червяками, ни святаго, возносившагося къ лунѣ послѣ молитвы.
Однако, если бы въ ночь, послѣдовавшую за страшной бурей, морское волненіе и разбушевавшійся вѣтеръ загнали въ эту гостепріимную бухту какого-нибудь заблудившагося моряка, быть можетъ онъ былъ бы пораженъ суевѣрнымъ ужасомъ при видѣ трехъ человѣческихъ существъ, сидѣвшихъ въ эту ночь вокругъ большаго костра, пылавшаго посреди лужайки. Двое изъ нихъ одѣты были въ широкія панталоны и войлочныя шапки королевскихъ рудокоповъ. Руки ихъ были обнажены по плечо, на ногахъ порыжѣлые башмаки; за краснымъ кушакомъ заткнута была кривая сабля и длинные пистолеты. У обоихъ на шеѣ висѣлъ рогъ. Одинъ былъ уже въ преклонныхъ лѣтахъ, другой еще молодъ. Густая борода старика и длинные волосы молодаго человѣка придавали еще болѣе дикости ихъ физіономіямъ, отъ природы грубымъ и суровымъ.
По шапкѣ изъ медвѣжьяго мѣха, по кожаному засаленному плащу, мушкету, перекинутому на ремнѣ за спину, по короткимъ и узкимъ штанамъ, голымъ голенямъ, лаптямъ и блестящему топору легко было узнать въ товарищѣ обоихъ рудокоповъ горца сѣверной Норвегіи.
Конечно, примѣтивъ издали эти три страшныя фигуры, освѣщаемыя красноватымъ перемѣнчивымъ пламенемъ костра, раздуваемаго морскимъ вѣтромъ, легко можно было перепугаться, даже не вѣря въ привидѣнія и въ злыхъ духовъ; достаточно было вѣрить въ разбойниковъ и быть чуточку богаче поэта.
Всѣ трое то и дѣло поглядывали на тропинку, терявшуюся въ лѣсу, примыкавшемъ къ лужайкѣ, и сколько можно было понять изъ ихъ разговора, заглушаемаго воемъ вѣтра, они по видимому ждали четвертаго собесѣдника.
— А скажи-ка, Кенниболъ, вѣдь мы не стали-бы въ эту пору такъ спокойно дожидаться гонца графа Гриффенфельда на сосѣдней лужайкѣ домоваго Тульбитильбета, или пониже въ бухтѣ святаго Гутберта?…
— Не говори такъ громко, Джонасъ, — замѣтилъ горецъ старому рудокопу: — да будетъ благословенно имя покровителя нашего Ральфа Исполина! Избави Боже, чтобы я когда нибудь еще разъ ступилъ ногой на лужайку Тульбитильбета! Однажды я забрелъ туда и думая, что срываю боярышникъ, сорвалъ мандрагору [16]. Я чуть съ ума не спятилъ, какъ потекла изъ нея кровь, какъ принялась она кричать.
Молодой рудокопъ покатился со смѣху.
— Ай да Кенниболъ! Можно дѣйствительно повѣрить, что крикъ Мандрагоры взбудоражилъ твою пустоголовую башку.
— Самъ ты пустоголовая башка! — сердито заворчалъ горецъ: — Смотри ка, Джонасъ, онъ смѣется надъ мандрагарой; смѣется какъ безумный, играющій съ головой мертвеца.
— Гм, — пробурчалъ Джонасъ: — пусть сходитъ въ Вальдергогскую пещеру, куда каждую ночь сбираются головы загубленныхъ исландскимъ демономъ Ганомъ, чтобы плясать вокругъ его постели изъ сухихъ листьевъ и усыплять его, скрежеща зубами.
— Вотъ именно, — подтвердилъ горецъ.
— Но, — возразилъ молодой рудокопъ: — развѣ господинъ Гаккетъ, котораго мы тутъ ждемъ, не обѣщалъ намъ, что Ганъ Исландецъ станетъ во главѣ нашего мятежа?
— Обѣщалъ, — отвѣтилъ Кенниболъ: — и съ помощью этого демона намъ удастся стереть съ лица земли эти зеленые плащи Дронтгейма и Копенгагена.
— Дай то Боже! — подхватилъ старый рудокопъ: — но меня то ужъ ничѣмъ не заставишь продежурить ночь съ нимъ…
Въ эту минуту трескъ валежника подъ шагами человѣка привлекъ вниманіе собесѣдниковъ. Они оглянулись и при свѣтѣ костра узнали вновь прибывшаго.
— Это онъ! Это господинъ Гаккетъ!.. Добро пожаловать, господинъ Гаккетъ; вы однако не слишкомъ торопились. — Вотъ ужъ около часа мы ждали васъ…
Господинъ Гаккетъ былъ низенькій толстякъ, одѣтый въ черное платье; отъ веселой наружности его вѣяло чѣмъ-то зловѣщимъ.
— Что дѣлать, друзья мои, — заговорилъ онъ: — я запоздалъ, не зная хорошенько дороги и принимая предосторожности… Сегодня утромъ видѣлся я съ графомъ Шумахеромъ и вотъ три кошелька съ золотомъ, которые онъ поручилъ мнѣ передать вамъ.
Оба старика кинулись къ золоту съ жадностью, свойственной бѣдному населенію Норвегіи. Молодой человѣкъ рудокопъ оттолкнулъ кошелекъ, который протягивалъ ему Гаккетъ.
— Сохраните при себѣ ваше золото, — сказалъ онъ гонцу: — я налгалъ бы, заявивъ вамъ, что намѣренъ бунтовать для графа Шумахера. Я приму участіе въ возстаніи только для того, чтобы избавить рудокоповъ отъ королевской опеки; только для того, чтобы моя мать укрывалась одѣяломъ, а не лохмотьями, подобными берегамъ нашей родной Норвегіи.
Ничуть не смутившись, господинъ Гаккетъ отвѣтилъ съ улыбкой:
— Ну, добрѣйшій Норбитъ, такъ я отошлю эти деньги твоей бѣдной матери, чтобы она къ предстоящей зимней стужѣ заготовила себѣ пару новыхъ одѣялъ.
Молодой рудокопъ кивнулъ головой въ знакъ согласія, а гонецъ, какъ искусный ораторъ, поспѣшилъ добавить.
— Но чуръ не повторять твоихъ необдуманныхъ словъ, что не за Шумахера, графа Гриффенфельда, поднимаешь ты оружіе.
— Да дѣло въ томъ, — заворчали старики: — что мы отлично знаемъ какимъ притѣсненіямъ подвергаются рудокопы, а объ этомъ графѣ, государственномъ преступникѣ не имѣемъ никакого понятія…
— Что! — съ живостью возразилъ гонецъ: — Какая черная неблагодарность! Вы стонали въ своихъ подземельяхъ, лишенные свѣта и воздуха! Рабы самой тягостной опеки, вы не имѣли даже правъ собственности! Кто пришелъ къ вамъ на помощь? Кто воодушивилъ ваше мужество? Кто снабдилъ васъ золотомъ, оружіемъ? Развѣ не мой знаменитый патронъ, благородный графъ Гриффенфельдъ, терпящій еще болѣе тяжкую неволю и бѣдствія, чѣмъ вы? И теперь, осыпанные его благодѣяніями, вы отказываетесь бороться за его освобожденіе, вашу свободу?..
— Вы правы, — перебилъ молодой рудокопъ: — такъ поступать не слѣдъ.
— Да, господинъ Гаккетъ, — сказали въ одинъ голосъ оба старика: — мы постоимъ за графа Шумахера.
— Смѣлѣй, друзья мои! Возстаньте во имя Шумахера, пусть имя вашего благодѣтеля разнесется отъ одного конца Норвегіи до другого. Узнайте, все благопріятствуетъ вашему правому начинанію; вскорѣ вы освободитесь отъ вашего заклятаго врага, губернатора округа, генерала Левина Кнуда. Благодаря тайному вліянію моего высокороднаго покровителя графа Гриффенфельда, онъ немедленно отозванъ будетъ въ Бергенъ… Ну, Кенниболъ, Джонасъ и ты, добрѣйшій Норбитъ, скажите же мнѣ, готовы ли ваши товарищи?
— Мои Гульдбрансгальскіе братья, — сказалъ Норбитъ: — ждутъ только моего сигнала. Если вы хотите, они завтра же возьмутся за оружіе…
— Завтра, тѣмъ лучше. Пусть же молодые рудокопы подъ твоимъ предводительствомъ первые поднимутъ знамя бунта. Ну, а что скажетъ мой храбрый Джонасъ?
— Шестьсотъ молодцовъ съ Фарорскихъ острововъ, которые вотъ ужъ третій день питаются мясомъ серны и медвѣжымъ саломъ въ Бенналлагскомъ лѣсу, ждутъ не дождутся призывнаго рога ихъ стараго вождя Джонаса.
— Превосходно! А ты, Кенниболъ?
— Всѣ, кто топоромъ пролагаетъ себѣ дорогу въ Кольскихъ ущельяхъ и безъ наколѣнниковъ влѣзаетъ на скалы, всѣ готовы присоединиться къ своимъ братьямъ рудокопамъ и помочь имъ въ критическую минуту.
— Довольно. Чтобы ваши товарищи не сомнѣвались въ побѣдѣ, - прибавилъ гонецъ, возвысивъ голосъ: — объявите имъ, что Ганъ Исландецъ станетъ во главѣ…
— Да вѣрно ли это? — спросили разомъ всѣ трое такимъ тономъ, въ которомъ выраженіе ужаса смѣшивалось съ выраженіемъ надежды.
Гонецъ отвѣтилъ:
— Всѣхъ васъ съ вашими соединенными отрядами жду я черезъ четыре дня въ это время въ Апсиль-Корской шахтѣ, близъ Сміазенскаго озера, подъ равниной Синей Звѣзды. Ганъ Исландецъ будетъ тамъ со мною.
— Мы не опоздаемъ, — отвѣтили предводители, — и да не оставитъ Господь тѣхъ, кому собирается помочь дьяволъ!
— Богъ не выдастъ, — замѣтилъ саркастически Гаккетъ: — Послушайте, въ древнихъ Крагскихъ развалинахъ найдете вы знамена для вашихъ отрядовъ… Не забудьте кричать: да здравствуетъ Шумахеръ! Спасемъ Шумахера! Теперь пора намъ разстаться, скоро разсвѣтетъ. Но прежде всего поклянитесь мнѣ ненарушимо хранить въ тайнѣ все, что произошло между нами.
Ни сказавъ ни слова, предводители остріемъ сабли вскрыли вену на лѣвой рукѣ и, схвативъ руку гонца, каждый изъ нихъ пролилъ на нее нѣсколько капель крови.
— Наша кровь намъ порукой, сказали они въ одинъ голосъ.
Затѣмъ молодой рудокопъ вскричалъ:
— Пусть вся кровь вытечетъ изъ моего тѣла подобно тому, какъ я выпустилъ ее въ эту минуту; пусть нечистая сила разрушитъ мои планы, какъ ураганъ разсѣеваетъ солому; пусть рука моя отсохнетъ, мстя за обиду; пусть въ могилѣ моей заведутся летучія мыши; пусть при жизни привидятся мнѣ мертвецы; пусть трупъ мой будетъ преданъ поруганію толпы; пусть глаза мои, какъ у бабы, потекутъ слезами, если я хоть разъ заикнусь о томъ, что происходило въ этотъ часъ на прогалинѣ Ральфа Исполина. Да услышатъ клятвы мои святые угодники!
— Аминь, — докончили оба старика.
Послѣ того они разошлись; и на лужайкѣ одиноко догоралъ костеръ, потухающіе лучи котораго по временамъ освѣщали развалины пустынныхъ башенъ Ральфа Исполина.
XIX
Бенигнусъ Спіагудри рѣшительно недоумѣвалъ, что могло принудить его юнаго спутника, красиваго собой, передъ которымъ лежала еще цѣлая жизнь, искать встрѣчи съ страшнымъ Ганомъ Исландцемъ. Не разъ во время пути заводилъ онъ объ этомъ рѣчь, но молодой искатель приключеній хранилъ упорное молчаніе о цѣли своего путешествія. Столь же неудачны были и другія попытки Спіагудри разгадать странности, которыя примѣчалъ онъ въ своемъ спутникѣ.
Однажды Спіагудри рѣшился спросить имя и фамилію своего молодаго патрона.
— Зови меня Орденеромъ, — отвѣтилъ тотъ.
Этотъ мало удовлетворительный отвѣтъ произнесенъ былъ тономъ, не допускавшимъ возраженія. Приходилось въ концѣ концовъ уступить; у каждаго есть свои тайны, да и самъ почтенный Спіагудри, не скрывалъ ли онъ заботливо въ котомкѣ своей, подъ плащемъ таинственной шкатулки, всѣ разспросы о которой показались бы ему неумѣстными и докучными?
Прошло уже четыре дня съ тѣхъ поръ, какъ они оставили Дронтгеймъ, однако наши путники не очень далеко ушли на своемъ пути какъ по причинѣ дурной дороги, размытой послѣдней бурей, такъ и благодаря множеству окольныхъ путей и обходовъ, которые дѣлалъ бѣглый смотритель Спладгеста, считая благоразумнымъ избѣгать слишкомъ населенныхъ мѣстъ. Оставивъ Сконгенъ вправо отъ себя, на четвертый день къ вечеру достигли они берега озера Спарбо.
Мрачную, величественную картину представляла эта обширная площадь воды, отражавшая послѣдніе лучи угасавшаго дня и первыя вечернія звѣзды въ своей зеркальной поверхности, обрамленной высокими скалами, черной елью и столѣтними дубами. Вечеромъ видъ озера производилъ иногда на извѣстномъ разстояніи странную оптическую иллюзію: казалось, будто дивная бездна, проникнувъ насквозь весь земной шаръ, позволяетъ видѣть небо, простертое надъ головами нашихъ антиподовъ.
Орденеръ остановился, любуясь древними друидическими рощами, покрывавшими гористые берега озера, и мѣловыми хижинами Спарбо, которыя подобно разсѣянному стаду бѣлыхъ козъ лѣпились по отлогостямъ. Онъ прислушивался къ доносившемуся издали стуку кузницъ [17], сливающемуся съ глухимъ шумомъ таинственнаго бора, съ прерывистымъ крикомъ дикихъ птицъ и съ мѣрнымъ плескомъ волнъ. На сѣверѣ громадная гранитная скала, позлащенная послѣдними лучами дневнаго свѣтила, величественно высилась надъ маленькой деревушкой Оельмё, а вершина ея склонилась подъ грудой развалинъ древней башни подобно гиганту, изнемогающему подъ тяжестью ноши.
Когда на душѣ тяжело, меланхолическое зрѣлище производитъ на нее какое то особенное впечатлѣніе, воспринимая всѣ оттѣнки ея печали. Если какой нибудь несчастливецъ очутится среди дикихъ высокихъ горъ, близъ мрачнаго озера, въ темномъ лѣсу, подъ вечеръ, это невеселое зрѣлище, эта сумрачная природа покажется ему какъ бы прикрытой погребальной завѣсой; ему почудится, что солнце не заходитъ, а умираетъ.
Молча и неподвижно стоялъ Орденеръ, погрузившись въ свои мечты, когда вдругъ товарищъ его вскричалъ:
— Превосходно, милостивый государь! Похвально размышлять такимъ образомъ передъ норвежскимъ озеромъ, преимущественно изобилующимъ камбалой!
Это замѣчаніе и ужимки, сопровождавшія его, разсмѣшили бы всякаго другого, кромѣ любовника, быть можетъ навѣки, разлученнаго съ своей возлюбленной. Ученый смотритель Спладгеста продолжалъ:
— Однако, дозвольте нарушить ваши ученыя размышленія и обратить ваше вниманіе на то, что день клонится уже къ концу; намъ слѣдуетъ поспѣшить, если мы хотимъ еще засвѣтло добраться до деревни Оельмё.
Замѣчаніе было справедливое. Орденеръ снова пустился въ путь и Спіагудри поплелся за нимъ, продолжая размышлять вслухъ о ботаническихъ и физіологическихъ феноменахъ, которые представляло для натуралистовъ озеро Спарбо.
— Господинъ Орденеръ, — говорилъ онъ своему спутнику, который не слышалъ его: — если бы вы захотѣли послушаться преданнаго проводника, вы бы отказались отъ вашего гибельнаго предпріятія. Да, милостивый государь, вы остановились бы здѣсь на берегахъ этого достопримѣчательнаго озера, гдѣ мы вдвоемъ занялись бы цѣлымъ рядомъ научныхъ изслѣдованій, какъ напримѣръ относительно stella саnora раlustris, этого страннаго растенія, признаваемаго многими учеными баснословнымъ, но которое видѣлъ и крики котораго слышалъ епископъ Арнгримъ на берегахъ озера Спарбо. Прибавьте къ тому, что мы имѣли бы удовольствіе жить на почвѣ Европы, въ особенности изобилующей гипсомъ и куда рѣдко заходятъ соглядатаи Дронтгеймской Ѳемиды. Неужто такая перспектива не улыбается вамъ, мой юный патронъ? И такъ, откажитесь отъ вашего безразсуднаго путешествія, тѣмъ болѣе, что, не въ обиду будь вамъ сказано, ваше предпріятіе сопряжено съ опасностью безъ выгоды, periculum sine pecunia, то есть безразсудно и предпринято въ тотъ моментъ, когда вамъ лучше было заняться чѣмъ-нибудь другимъ.
Орденеръ не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на слова своего спутника, но поддерживалъ съ нимъ разговоръ тѣми односложными, ничего не выражающими и разсѣянными фразами, которыя болтуны принимаютъ за отвѣты. Такимъ образомъ прибыли они къ деревушкѣ Оельмё, на площади которой въ ту минуту замѣтно было необычайное оживленіе.
Поселяне, охотники, рыбаки, кузнецы оставили свои хижины и столпились вокругъ круглой насыпи, занимаемой какими-то личностями, одна изъ которыхъ трубила въ рогъ, размахивая надъ головой маленькимъ черно-бѣлымъ флагомъ.
— Ну, сюда должно быть забрался какой-нибудь шарлатанъ, — замѣтилъ Спіагудри: — аmbubаіаrum соllеgіа, рhоrmа сороlае, какой нибудь плутъ, превращающій золото въ свинецъ и раны въ язвы. Посмотримъ, какое адское изобрѣтеніе продаетъ онъ этой несчастной деревенщинѣ? Добро бы еще эти обманщики терлись около королей, слѣдуя примѣру датчанина Борха и миланца Борри, этихъ алхимиковъ, вдоволь потѣшившихся надъ Фредерикомъ III [18], такъ нѣтъ, крестьянскій грошъ наравнѣ съ княжескимъ милліономъ не даетъ имъ покоя.
Однако Спіагудри не угадалъ. Подойдя ближе къ насыпи, по черной одеждѣ и круглой, остроконечной шляпѣ узнали они синдика, окруженнаго нѣсколькими полицейскими. Человѣкъ, трубившій въ рогъ, былъ глашатай.
Бѣглый смотритель Спладгеста смутился и тихо пробормоталъ:
— Ну, господинъ Орденеръ, входя въ эту деревушку, я совсѣмъ не разсчитывалъ столкнуться здѣсь съ синдикомъ. Да хранитъ меня святой Госпицій! Что то онъ скажетъ?
Онъ не долго оставался въ неизвѣстности, такъ какъ тотчасъ-же послышался визгливый голосъ глашатая, которому благоговѣйно внимала небольшая толпа обитателей деревушки Оельмё:
«Именемъ его величества и по приказу его превосходительства генералъ-губернатора Левина Кнуда, главный синдикъ Дронтгеймскаго округа доводитъ до свѣдѣнія всѣхъ жителей городовъ, деревень и селеній провинціи, что
„1) голова Гана, уроженца Клипстадура въ Исландіи, убійцы и поджигателя, оцѣнена въ десять тысячъ королевскихъ экю“.
Глухой шопотъ поднялся въ средѣ слушателей. Глашатай продолжалъ:
„2) голова Бенигнуса Спіагудри, колдуна и святотатца, бывшаго смотрителя Спладгеста въ Дронтгеймѣ оцѣнена въ четыре королевскихъ экю“.
„3) этотъ приказъ долженъ быть обнародованъ во всемъ округѣ синдиками городовъ, деревень и селеній, которые обязаны оказать всяческое содѣйствіе къ удовлетворенію правосудія“.
Синдикъ взялъ указъ изъ рукъ глашатая и заунывнымъ торжественнымъ голосомъ провозгласилъ:
— Жизнь этихъ людей объявляется внѣ закона и принадлежитъ всякому, кто пожелаетъ ее отнять.
Читатель легко представитъ себѣ, каково было душевное настроеніе несчастнаго, злополучнаго Спіагудри во время чтенія указа. Нѣтъ сомнѣнія, что признаки величайшаго ужаса, которое онъ не могъ подавить въ ту минуту, привлекли-бы на него вниманіе окружающихъ, если бы оно не было всецѣло поглощено содержаніемъ перваго параграфа указа.
— Оцѣнить голову Гана Исландца! — вскричалъ старый рыбакъ, притащившій съ собой мокрыя сѣти: — клянусь святымъ Усуфомъ, не мешало-бы за одно оцѣнить и голову Вельзевула.
— Да, но чтобы не обидѣть Гана, — замѣтилъ охотникъ, котораго можно было узнать по одеждѣ изъ козлиной шкуры: — необходимо за рогатую голову Вельзевула назначить лишь полторы тысячи экю.
— Слава тебѣ, пресвятая Богородица! — прошамкала, вертя веретено, старуха съ плѣшивой, трясущейся отъ дряхлости головой: — ужъ какъ-бы хотѣлось мнѣ взглянуть на голову этого Гана. Говорятъ будто вмѣсто глазъ у него два раскаленныхъ угля.
— Правда, правда, — подхватила другая старуха: — отъ одного его взгляда загорѣлся кафедральный соборъ въ Дронтгеймѣ. Мнѣ хотѣлось-бы цѣликомъ видѣть это чудовище съ змѣинымъ хвостомъ, съ раздвоенными копытами и съ большими нетопырьими крыльями.
— Кто тебѣ, бабушка, намололъ такихъ сказокъ, — перебилъ ее охотникъ хвастливо: — Я самъ видалъ этого Гана Исландца въ Медсихатскихъ ущельяхъ; такой-же человѣкъ какъ мы, только ростомъ будетъ въ сорокалѣтній тополь.
— Неужели? — спросилъ кто-то изъ толпы страннымъ тономъ.
Голосъ этотъ, заставившій вздрогнуть Спіагудри, принадлежалъ малорослому субъекту, лицо котораго было скрыто широкими полями шляпы рудокопа, а на плечи накинута рогожа, сплетенная изъ тростника и тюлевой шерсти.
— Клянусь честью, — грубо захохоталъ кузнецъ, державшій на ремнѣ свой огромный молотъ: — пусть оцѣниваютъ его голову въ тысячу или въ десять тысячъ королевскихъ экю, пусть ростомъ онъ будетъ въ четыре или въ сорокъ саженъ, меня ничѣмъ не заставишь розыскивать его.
— Да и меня также, — сказалъ рыбакъ.
— И меня, и меня, — послышалось со всѣхъ сторонъ.
— Ну, а если кто захочетъ попытать счастія, — замѣтилъ малорослый: — тотъ найдетъ Гана Исландца завтра въ развалинахъ Арбаръ, близъ Сміазена, а послѣ завтра въ Вальдергогской пещерѣ.
— Да ты не врешь, молодчикъ?
Этотъ вопросъ предложенъ былъ разомъ и Орденеромъ, который слѣдилъ за этой сценой съ интересомъ, легко понятнымъ всякому, кромѣ Спіагудри, и низенькимъ, довольно тучнымъ человѣкомъ въ черномъ платьѣ, съ веселой физіономіей, который при первыхъ звукахъ трубы глашатая вышелъ изъ единственной гостиницы деревушки.
Малорослый въ широкополой шляпѣ, казалось, одно мгновеніе разсматривалъ ихъ обоихъ и отвѣтилъ глухимъ голосомъ.
— Нѣтъ.
— Но почему же ты говоришь съ такой увѣренностью? — спросилъ Орденеръ.
— Я знаю, гдѣ Ганъ Исландецъ, знаю также гдѣ Бенигнусъ Спіагудри. Въ эту минуту оба недалеко отсюда.
Прежній ужасъ съ новой силой охватилъ несчастнаго смотрителя Спладгеста. Онъ едва осмѣливался смотрѣть на таинственнаго малорослаго незнакомца, воображая, что французскій парикъ недостаточно хорошо скрывалъ черты его лица, и принялся дергать Орденера за плащъ, бормоча тихимъ голосомъ:
— Милостивый господинъ, ради Бога, сжальтесь надо мною, уйдемте отсюда, оставимъ это проклятое предмѣстье ада…
Орденеръ, удивленный не меньше своего спутника, внимательно разсматривалъ малорослаго, который, поворотившись спиной къ свѣту, казалось хотѣлъ скрыть свое лицо.
— А Бенигнусъ Спіагудри, — вскричалъ рыбакъ: — я видѣлъ его въ Спладгестѣ, въ Дронтгеймѣ. Это великанъ. И его то оцѣнили въ четыре экю.
Охотникъ покатился со смѣху.
— Четыре экю! Ну, я то ужъ не стану за нимъ охотиться. Дороже платятъ за шкуру синей лисицы.
Это сравненіе, которое при другихъ обстоятельствахъ показалось бы оскорбительнымъ ученому смотрителю Спладгеста, теперь подѣйствовало на него самымъ успокоительнымъ образомъ. Тѣмъ не менѣе онъ хотѣлъ было снова просить Орденера продолжать ихъ путь, когда тотъ, узнавъ, что ему было нужно, предупредилъ его желаніе, выйдя изъ толпы, начинавшей рѣдѣть.
Хотя, прибывъ въ деревушку Оельмё, они разсчитывали переночевать въ ней, но какъ бы по безмолвному соглашенію оба оставили ее, даже не спрашивая другъ друга о причинѣ столь поспѣшнаго бѣгства. Орденеръ надѣялся поскорѣе встрѣтиться съ разбойникомъ, а Спіагудри отъ всей души желалъ поскорѣе разстаться съ полицейскими.
Орденеръ былъ слишкомъ озабоченъ, чтобы смѣяться надъ злоключеніями своего спутника. Первый прервавъ молчаніе, онъ спросилъ его ласковымъ тономъ:
— Ну, старина, въ какихъ это развалинахъ можно найти завтра Гана Исландца, какъ утверждаетъ этотъ малорослый, которому, кажется, все извѣстно.
— Я не знаю… не дослышалъ, высокородный господинъ, — отвѣтилъ Спіагудри, дѣйствительно сказавъ правду.
— Ну, въ такомъ случаѣ я могу встрѣтиться съ нимъ только послѣ завтра въ Вальдергогской пещерѣ?
— Въ Вальдергогской пещерѣ! Это дѣйствительно излюбленное убѣжище Гана Исландца.
— Такъ идемъ же туда, — сказалъ Орденеръ.
— Надо повернуть налѣво за Оельмскій утесъ; до Вальдергогской пещеры менѣе двухъ дней ходьбы.
— Извѣстна тебѣ, старина, эта странная личность, которая, кажется, такъ отлично знаетъ тебя? — осторожно освѣдомился Орденеръ.
При этомъ вопросѣ Спіагудри снова затрясся отъ страха, который началъ было ослабѣвать въ немъ, по мѣрѣ того какъ удалялись они отъ деревушки Оельмё.
— Нѣтъ, право нѣтъ, — отвѣтилъ онъ, нѣсколько дрогнувшимъ голосомъ: — только голосъ то у него больно странный…
Орденеръ попытался успокоить своего проводника:
— Не бойся ничего, старина, служи только мнѣ хорошо и я не выдамъ тебя никому. Если я выйду побѣдителемъ изъ борьбы съ Ганомъ, обѣщаю тебѣ не только помилованіе, но отдамъ и тѣ тысячи королевскихъ экю, которыя назначены за голову разбойника.
Чувствуя необыкновенную привязанность къ жизни, честный Спіагудри въ то же время страстно любилъ золото. Обѣщанія Орденера произвели на него магическое дѣйствіе. Они не только разсѣяли весь его страхъ, но еще пробудили въ немъ ту смѣшную веселость, которая выражалась у него длинными монологами, странной жестикуляціей и учеными цитатами.
— Господинъ Орденеръ, — началъ онъ: — если бы мнѣ пришлось по этому поводу вступить въ споръ съ Оверъ Бильзейтомъ, прозваннымъ Болтуномъ, ничто, нѣтъ ничто не заставило бы меня перемѣнить мое мнѣніе, что вы самый мудрый, самый достойный молодой человѣкъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, что можетъ быть прекраснѣе, что можетъ быть славнѣе, quіd сіthаrа, tubа, ѵеl саmраnа dіgnіus, какъ благородно рисковать своей жизнью, чтобы освободить страну отъ чудовища, отъ разбойника, отъ демона, въ которомъ совокупились всѣ демоны, всѣ разбойники, всѣ чудовища?.. Кто посмѣетъ сказать, что васъ влечетъ къ тому постыдная корысть! Благородный господинъ Орденеръ награду за поединокъ отдаетъ своему спутнику, старику, который только на милю не доведетъ его до Вальдергогской пещеры. Не правда ли, милостивый господинъ, вѣдь вы дозволите мнѣ обождать результата вашей славной борьбы въ деревушкѣ Сурбъ, расположенной въ лѣсу, за милю отъ Вальдергогскаго берега? А когда узнаютъ о вашей блистательной побѣдѣ, по всей Норвегіи пойдетъ такое веселье, какое нѣкогда обвладело Вермундомъ Изгнанникомъ, когда съ вершины Оельмского утеса подлѣ котораго мы теперь проходимъ, примѣтилъ онъ большой костеръ, разведенный братомъ его Гафданомъ въ знакъ освобожденія, на Мункгольмской башнѣ…
При этомъ имени Орденеръ съ живостью прервалъ его:
— Какъ! Неужели съ высоты этого утеса видна Мункгольмская башня?
— Да, милостивый государь, за двѣнадцать миль къ югу, среди горъ, прозванныхъ нашими предками Скамейками Фригга. Теперь долженъ быть хорошо виденъ башенный маякъ.
— Неужели! — вскричалъ Орденеръ въ восторгѣ при мысли еще разъ взглянуть на мѣсто, въ которомъ онъ оставилъ свое счастіе: — Старикъ, безъ сомнѣнія какая-нибудь тропинка ведетъ на вершину этого утеса?
— Само собою разумѣется. Тропинка эта, начавшись въ лѣсу, куда мы сейчасъ выйдемъ, по некрутой отлогости поднимается къ самой голой вершинѣ утеса, гдѣ продолжается уступами, высѣченными въ скалѣ товарищами Вермунда Изгнанника, вплоть до замка, у котораго и оканчивается. Развалинами замка вы можете полюбоваться при лунномъ свѣтѣ.
— Ну, старина, укажи мнѣ тропинку. Мы переночуемъ въ развалинахъ, откуда видна Мункгольмская башня.
— Что за фантазія, милостивый государь? — сказалъ Спіагудри: — Усталости этого дня…
— Я помогу тебѣ, старина, взобраться; никогда еще не чувствовалъ я себя такимъ бодрымъ.
— Но, милостивый государь, терновникъ, которымъ поросла эта давно заглохшая тропинка, размытые дождемъ камни, ночь…
— Я пойду впередъ.
— Но какой-нибудь зловредный звѣрь, гадина, какое-нибудь гнусное чудовище…
— Я пустился въ путь не для того, чтобы избѣгать чудовищъ.
Мысль остановиться невдалекѣ отъ Оельмё совсѣмъ не нравилась Спіагудри; мысль же взглянуть на Мункгольмскій маякъ, быть можетъ увидѣть свѣтъ въ окнѣ комнаты Этели восхищала и влекла Орденера.
— Милостивый господинъ, — взмолился Спіагудри: — послушайтесь меня, откажитесь отъ вашего намѣренія. У меня есть предчувствіе, что оно надѣлаетъ намъ бѣды.
Но что значила его просьба сравнительно съ желаніемъ Орденера.
— Довольно! — нетерпѣливо перебилъ его Орденеръ: — Не забудь, что ты обязался вѣрно служить мнѣ. Я хочу, чтобы ты указалъ тропинку, гдѣ она?
— Сейчасъ мы придемъ къ ней, — отвѣтилъ Спіагудри, принужденный повиноваться.
Дѣйствительно, они скоро нашли тропинку и стали подниматься по ней, но Спіагудри примѣтилъ съ удивленіемъ, смѣшаннымъ съ ужасомъ, что высокая трава была помята, что кто-то недавно прошелъ по древней тропинкѣ Вермунда Изгнанника.
XX
Генералъ Левинъ Кнудъ сидѣлъ въ глубокой задумчивости передъ столомъ, на которомъ лежало нѣсколько бумагъ и только-что распечатанныя письма. Стоявшій возлѣ него секретарь повидимому ожидалъ его приказаній.
Генералъ, то стучалъ шпорами по роскошному ковру находившемуся подъ его ногами, то разсѣянно игралъ украшеніями орденской цѣпи Слона, висѣвшей на его шеѣ. Время отъ времени онъ раскрывалъ ротъ, какъ бы намѣреваясь что-то сказать, но останавливался и потиралъ лобъ, снова устремляя глаза на распечатанныя депеши, лежавшія на столѣ.
— Что за чортъ!.. — вдругъ вскричлъ онъ.
Послѣ этого энергичнаго восклицанія снова на минуту воцарилось молчаніе.
— Кто бы могъ вообразить, — продолжалъ онъ; — что эти дьявольскіе рудокопы поднимутся на такія штуки?.. Очевидно, кто нибудь тайно подстрекаетъ ихъ къ возмущенію… Но знате ли, Ваферней, дѣло-то совсѣмъ не шуточное? Пятьсотъ или шестьсотъ негодяевъ подъ начальствомъ стараго разбойника Джонаса уже сбѣжали съ Фарорскихъ рудниковъ; какой то молодой фанатикъ Норбитъ сталъ во главѣ возмутившихся гульдбрансгальцевъ; да и головорѣзы Зунд-Моёра, Губфалло, Конгсберга, которые ждутъ лишь сигнала, быть можетъ уже взбунтовались. Знаете-ли, что въ это дѣло впутались и горцы подъ предводительствомъ смѣлой кольской лисицы, стараго Кеннибола? Знаете ли, наконецъ, что, если вѣрить донесеніямъ синдиковъ, на сѣверѣ Дронтгеймскаго округа носится слухъ, что руководитъ этимъ инсуррекціоннымъ движеніемъ страшный Ганъ, знаменитый разбойникъ, голову котораго мы только что оцѣнили? Ну, что вы скажете на это, любезный Ваферней?
— Ваше превосходительство, — началъ Ваферней: — вамъ извѣстно какія мѣры…
— Во всей этой кутерьмѣ я не могу объяснить себѣ только одно обстоятельство, именно то, что въ нашемъ узникѣ Шумахерѣ подозрѣваютъ зачинщика смуты. Этому никто не удивляется, меня же это изумляетъ донельзя. Я не могу допустить, чтобы человѣкъ, котораго уважаетъ мой честный Орденеръ, могъ быть измѣнникомъ. А между тѣмъ утверждаютъ, что рудокопы взбунтовались за него, его имя служитъ имъ лозунгомъ и паролемъ; они даже величаютъ его король… Это еще понятно… но какимъ образомъ всѣ эти подробности были уже извѣстны графинѣ Алефельдъ шесть дней тому назадъ, когда только первые признаки мятежа проявились въ рудокопняхъ? Тутъ что то неладно… Но все равно, надо принять предосторожности. Дайте мою печать, Ваферней.
Генералъ написалъ три письма, запечаталъ ихъ и вручилъ секретарю.
— Этотъ приказъ вы передадите барону Ветгайну, командиру стрѣлковъ, стоящихъ гарнизономъ въ Мункгольмѣ; пусть полкъ его немедленно выступитъ противъ мятежниковъ… Вотъ предписаніе коменданту Мункгольма, чтобы онъ усилилъ надзоръ за бывшимъ великимъ канцлеромъ. Мнѣ необходимо самому повидаться и переговорить съ Шумахеромъ…
Наконецъ, это письмо вы отправите въ Сконгенъ, маіору Вольму, чтобы онъ отрядилъ часть своего гарнизона на мѣсто возстанія. Ступайте, Ваферней, надо какъ можно скорѣе привести въ исполненіе мои приказанія.
Секретарь вышелъ, а губернаторъ снова погрузился въ размышленія.
— Однако, — думалъ онъ: — дѣла дѣйствительно неутѣшительны. Тамъ бунтуютъ рудокопы, здѣсь интригуетъ канцлерша, а сумасшедшій Орденеръ Богъ вѣсть куда запропастился! Быть можетъ онъ слоняется теперь среди этихъ разбойниковъ, оставивъ здѣсь подъ моимъ покровительствомъ Шумахера, составляющаго заговоръ противъ государства, и его дочь, для безопасности которой я заблагоразсудилъ удалить роту, гдѣ находится Фредерикъ Алефельдъ, обвиняемый Орденеромъ… Право, мнѣ сдается, что эта рота сумѣетъ разсѣять первые отряды мятежниковъ. Она отлично расположена для этого и Вальстромъ, гдѣ она стоитъ гарнизономъ, какъ разъ близъ Сміазенскаго озера Арбарскихъ развалинъ. Безъ сомнѣнія, мятежники двинутся именно въ эту сторону…
Тутъ размышленія генерала прерваны были стукомъ отворившейся двери.
— Ну-съ, что вамъ надо, Густавъ?
— Генералъ, къ вашему превосходительству прибылъ гонецъ…
— Что тамъ еще такое? Вотъ наказаніе-то!.. Пошлите его сюда.
Вошедшій гонецъ вручилъ губернатору пакетъ.
— Ваше превосходительство, — сказалъ онъ; — отъ его свѣтлости вице-короля.
Генералъ поспѣшно распечаталъ конвертъ.
— Клянусь святымъ Георгіемъ, — вскричалъ онъ удивленнымъ тономъ: — они всѣ перебѣсились! Не угодно-ли, вице-король приглашаетъ меня явиться къ нему въ Бергенъ! По весьма важному дѣлу и по приказанію самого короля… Нечего сказать, важное дѣло случилось какъ разъ во время. «Великій канцлеръ, находящійся теперь въ Дронтгеймскомъ округѣ, замѣнитъ васъ во время вашего отсутствія»… Ну эта замѣна совсѣмъ мнѣ не нравится… «Епископъ будетъ его помощникомъ»… Однако, славныхъ же правителей выбралъ Фредерикъ для возмутившейся страны: двухъ приказныхъ крысъ, канцлера и епископа! Ну дѣлать нечего, приглашеніе именное, и по приказанію короля… Надо повиноваться. Впрочемъ до отъѣзда я все-же увижусь и переговорю с Шумахеромъ. Я чувствую, что меня хотятъ запутать въ какую то грязную интригу, но у меня есть надежный путеводитель… моя совѣсть.
XXI
— Да, ваше сіятельство, мы можемъ встрѣтиться съ нимъ сегодня-же въ Арбарскихъ развалинахъ. Весьма многія обстоятельства убѣждаютъ меня въ достовѣрности того драгоцѣннаго указанія, которое, какъ я вамъ уже говорилъ, случайно получилъ я въ деревнѣ Оельме.
— А далеко-ли еще до этихъ Арбарскихъ развалинъ?
— Онѣ вблизи Сміазенскаго озера. Проводникъ завѣрилъ меня, что мы будемъ тамъ до полудня.
Этотъ разговоръ вели промежъ себя два всадника, закутавшіеся въ темные плащи, проѣзжая рано утромъ по одной изъ тѣхъ многочисленныхъ извилистыхъ и узкихъ дорогъ, которыя пересѣкаютъ во всѣхъ направленіяхъ лѣсъ, отдѣляющій Сміазенское озеро отъ озера Спарбо.
Впереди нихъ ѣхалъ на сѣрой лошадкѣ проводникъ горецъ, вооруженный топоромъ и съ охотничьимъ рогомъ, позади слѣдовало еще четыре всадника, вооруженные съ ногъ до головы, на которыхъ время отъ времени поглядывали разговаривающіе, какъ-бы опасаясь быть подслушанными.
— Если этотъ исландскій разбойникъ дѣйствительно находится въ Арбарскихъ развалинахъ, — продолжалъ одинъ изъ собесѣдниковъ, который держалъ свою лошадь въ почтительномъ отдаленіи отъ другого: — это будетъ уже большой успѣхъ, такъ какъ вся трудность состоитъ именно въ томъ, чтобы встрѣтить это неуловимое существо.
— Вы думаете, Мусдемонъ? А если онъ не приметъ нашего предложенія?..
— Невозможно, ваше сіятельство! Какой разбойникъ откажется отъ золота и безнаказанности?
— Но вѣдь вамъ извѣстно, что этотъ разбойникъ не заурядный злодѣй. Его нельзя мѣрить на свой аршинъ; если онъ откажется, какимъ образомъ выполните вы обѣщаніе, данное вами за прошлую ночь тремъ предводителямъ мятежниковъ?
— Ну, ваше сіятельство, въ такомъ случаѣ, хотя я считаю его невозможнымъ, если только намъ посчастливится розыскать этого человѣка; развѣ вы забыли, что ложный Ганъ Исландецъ ждетъ меня черезъ два дня въ условленный часъ, въ мѣстѣ, назначенномъ для свиданія тремъ предводителямъ, въ Синей Звѣздѣ, долинѣ, расположенной вблизи Арбарскихъ развалинъ?
— Вы правы, всегда правы, любезный Мусдемонъ, — замѣтилъ графъ и оба погрузились въ молчаливое раздумье.
Мусдемонъ, которому выгодно было поддерживать хорошее расположеніе духа своего патрона, чтобы развлечь его, спросилъ проводника.
— Послушай, молодецъ, что это за полуразрушенный каменный крестъ возвышается тамъ, позади молодыхъ дубковъ?
Проводникъ, субъектъ съ тупымъ взоромъ и глуповатымъ лицомъ, обернулся и отвѣтилъ, качая головой:
— О! Сударь, это самая древняя висѣлица Норвегіи. Святой король Олай воздвигъ ее для судьи, заключившаго договоръ съ разбойникомъ.
Мусдемонъ примѣтилъ на физіономіи своего патрона выраженіе совсѣмъ противное тому, которое онъ надѣялся вызвать отвѣтомъ проводника:
— Это очень занятная исторія, — продолжалъ тотъ: — которую я слышалъ отъ бабушки Озіи: разбойникъ самъ долженъ былъ повѣсить судью…
Наивный проводникъ совсѣмь не замѣчалъ, что исторія, которою онъ хотѣлъ позабавить путешественниковъ, была для нихъ почти оскорбленіемъ. Мусдемонъ перебилъ его.
— Да, да, — сказалъ онъ: — намъ извѣстна эта исторія.
— Наглецъ! — пробормоталъ графъ: — ему извѣстна эта исторія! Ну, Мусдемонъ, дорого же ты мнѣ поплатишься за свою наглость.
— Что вы изволили сказать, ваше сіятельство? — спросилъ Мусдемонъ съ раболѣпнымъ видомъ.
— Я размышлялъ, какимъ бы образомъ добиться для васъ ордена Даннеброга. Свадьба моей дочери Ульрики съ барономъ Орденеромъ представитъ тому удобный случай.
Мусдемонъ разсыпался въ изъявленіяхъ благодарности.
— Кстати, — продолжалъ графъ: — потолкуемъ о моихъ дѣлахъ. Какъ вы думаете, приказъ о временной отлучкѣ полученъ уже мекленбуржцемъ?
Читатель, быть можетъ, помнитъ, что графъ имѣлъ привычку называть такъ генерала Левина Кнуда, который дѣйствительно былъ родомъ изъ Мекленбурга.
— Поговоримъ о твоихъ дѣлахъ! — подумалъ оскорбленный Мусдемонъ: — какъ будто мои дѣла не наши дѣла… Ваше сіятельство, — отвѣчалъ онъ вслухъ: — я полагаю, что гонецъ вице-короля должно быть теперь уже въ Дронтгеймѣ, такъ что генералъ Левинъ вскорѣ отправится…
Графъ продолжалъ взволнованнымъ голосомъ:
— Это отозваніе, любезный Мусдемонъ, одна изъ вашихъ мастерскихъ выдумокъ; это одна изъ вашихъ великолѣпно задуманныхъ и искустно выполненныхъ интригъ.
— Честь за нее принадлежитъ столько же вашей милости, сколько и мнѣ, - возразилъ Мусдемонъ, старавшійся, какъ мы уже заметили, вмѣшивать графа во всѣ продѣлки.
Патронъ отлично зналъ тайную мысль своего клеврета, но не подалъ вида и улыбнулся:
— Вы всегда скромничаете, любезный Мусдемонъ; но я не забуду вашихъ безцѣнныхъ услугъ. Присутствіе Эльфегіи и отъѣздъ мекленбуржца обезпечиваютъ мое торжество въ Дронтгеймѣ. Теперь я управляю округомъ и если Ганъ Исландецъ приметъ мое предложеніе и станетъ во главѣ мятежниковъ, король припишетъ мнѣ всю славу за усмиреніе бунта и поимку страшнаго разбойника.
Они разговаривали въ полголоса, какъ вдругъ проводникъ обернулся.
— Вотъ, господа, — сказалъ онъ: — посмотрите, налѣво отъ насъ пригорокъ, на которомъ Біордъ Справедливый велѣлъ обезглавить передъ своимъ войскомъ Веллона Двуязычнаго, измѣнника, который, удаливъ вѣрныхъ защитниковъ короля, призвалъ непріятелей въ лагерь, чтобы показать, что онъ одинъ спасъ жизнь Біорда…
Всѣ эти древнія норвежскія преданія совсѣмъ не нравились Мусдемону и онъ поспѣшно перебилъ проводника:
— Да, да, мой милый, не болтай и продолжай путь, не оборачиваясь. Какое намъ дѣло, что развалины и высохшія деревья напоминаютъ тебѣ глупыя преданія? Своими бабьими сказками ты досаждаешь моему господину.
Онъ говорилъ правду.
XXII
Вернемся теперь къ нашимъ путешественникамъ, которыхъ мы оставили взбирающимися не безъ труда при свѣтѣ луны на крутую кривизну Оельмскаго утеса. Этотъ утесъ, лишенный растительности отъ начала кривизны, извѣстенъ былъ среди норвежскихъ крестьянъ подъ именемъ Ястребиной Шеи, названіе, дѣйствительно отвѣчавшее очертаніямъ, которыя представляла издали эта огромная масса гранита.
По мѣрѣ того какъ Орденеръ и Спіагудри приближались къ обнаженной части утеса, лѣсъ смѣнялся кустарникомъ, трава — мхомъ, дубъ и береза — дикимъ шиповникомъ, дрокомъ и остролистомъ: оскудѣніе растительности, которое на высокихъ горахъ всегда указываетъ близость вершины, вслѣдствіе постепеннаго истонченія почвы, одѣвающей, такъ сказать, остовъ горы.
— Господинъ Орденеръ, — заговорилъ Спіагудри, подвижное воображеніе котораго то и дѣло увлекалось водоворотомъ различныхъ идей: — эта отлогость крайне утомительна и надо быть очень преданнымъ вамъ, чтобы слѣдовать по ней за вами… Постойте, кажется я вижу тамъ направо роскошный conѵоlѵulus, мнѣ хотѣлось бы разсмотрѣть его поближе. Какъ жаль, что теперь не день!.. Воля ваша, а это ужасная наглость оцѣнить подобнаго ученаго, какъ я, въ какихъ нибудь четыре несчастныхъ экю! Положимъ, что славный Федръ былъ рабомъ, что Экопъ, если вѣрить ученому Планудію, былъ проданъ на ярмаркѣ какъ животное или вещь. А кто не возгордился бы, имѣя что нибудь общее съ великимъ Эзопомъ?
— И съ знаменитымъ Ганомъ? — добавилъ, улыбаясь Орденеръ.
— Ради святого Госпиція, — взмолился Спіагудри: — не упоминайте этого имени. Клянусь вамъ, я легко обойдусь и безъ такого сближенія. Однако какія странности возможны на бѣломъ свѣтѣ, если цѣна за его голову достанется Бенигнусу Спіагудри, товарищу его по несчастію!.. Господинъ Орденеръ, вы гораздо благороднѣе Язона, который не отдалъ золотаго руна кормчему Арго; ваше же предпріятіе, цѣли котораго я все еще не могу хорошенько понять, не менѣе опасно, чѣмъ предпріятіе Язона.
— Но, такъ какъ ты знаешь Гана Исландца, — сказалъ Орденеръ: — сообщи мнѣ нѣкоторыя свѣдѣнія о немъ. Ты мнѣ уже упоминалъ, что это совсѣмъ не гигантъ, какимъ обыкновенно его рисуютъ.
Спіагудри прервалъ его:
— Постойте, сударь, не слышите ли вы шума шаговъ позади насъ?
— Да, — спокойно отвѣтилъ молодой человѣкъ: — только не пугайся. Это какой нибудь красный звѣрь, котораго спугнуло наше приближеніе, и который бѣжитъ, ломая кусты.
— Да, это возможно, мой юный Цезарь; уже съ давнихъ поръ не заглядывало въ эти лѣса ни одно человѣческое существо! Если судить по тяжелой поступи, звѣрь надо полагать огромный. Это или лось, или сѣверный олень, который заходитъ иногда въ эту сторону Норвегіи. Тутъ водятся также рыси. Между прочимъ, я видѣлъ одну чудовищной величины, когда ее привезли въ Копенгагенъ. Я долженъ описать вамъ этого свирѣпаго звѣря.
— Нѣтъ, любезный проводникъ, — перебилъ Орденеръ: — я предпочитаю, чтобы ты описалъ мнѣ другое чудовище, не менѣе свирѣпое, страшнаго Гана…
— Тише, милостивый государь! Какъ вы спокойно произносите подобное имя! Вы не знаете… Боже мой, слышите вы!
Съ этими словами Спіагудри приблизился къ Орденеру, который дѣйствительно услыхалъ крикъ, похожій на ревъ. Подобный же ревъ, какъ помнитъ читатель, страшно напугалъ трусливаго смотрителя Спладгеста въ тотъ бурный вечеръ, когда онъ бѣжалъ изъ Дронтгейма.
— Слышали вы? — пробормоталъ Спіагудри, задыхаясь отъ ужаса.
— Конечно, — отвѣтилъ Орденеръ: — и не понимаю, чего ты дрожишь. Это ревъ дикаго звѣря, быть можетъ просто крикъ одной изъ тѣхъ рысей, о которыхъ ты только что упоминалъ. Неужели ты разсчитывалъ пройти въ эту пору въ подобной мѣстности, не будучи извѣщенъ ничѣмъ о присутствіи хозяевъ, которыхъ мы потревожили? Повѣрь мнѣ, старина, они больше перепугались, чѣмъ ты.
Спіагудри нѣсколько успокоился, видя спокойствіе своего молодаго спутника.
— Ну; дай то Богъ, чтобы и на этотъ разъ вы были правы. Однако крикъ этого звѣря ужасно походитъ на голосъ… Извините меня, милостивый государь, но право не въ добрый часъ надумались вы взбираться къ замку Вермунда. Я боюсь, что бы надъ нами не стряслась какая бѣда на Ястребиной шеи.
— Не бойся ничего, пока ты со мною, — отвѣтилъ Орденеръ.
— О! Васъ то ничѣмъ не проймешь; но, милостивый государь, одинъ лишь блаженный Павелъ могъ безнаказанно брать змѣю въ руки. Вы не обратили вниманія, когда мы стали взбираться на эту проклятую тропинку, что по ней повидимому недавно кто то прошелъ, такъ что помятая трава не успѣла еще расправиться.
— Признаюсь, все это нисколько меня не интересуетъ, и мое душевное спокойствіе ничуть не зависитъ отъ того, помяты стебли травы, или нѣтъ. Но вотъ, мы сейчасъ выйдемъ изъ кустарника, не будемъ слышать ни шаговъ, ни криковъ звѣрей; я совѣтую тебѣ, мой храбрый проводникъ, не собраться съ мужествомъ, нѣтъ, а собраться съ силами, такъ какъ высѣченная въ скалѣ тропинка будетъ, пожалуй, потруднѣе пройденной.
— Да, но не отъ крутизны, милостивый государь, такъ какъ ученый путешественникъ Суксонъ разсказываетъ, что она часто загромождена бываетъ обломками скалъ, или тяжелыми камнями, которые не своротишь и черезъ которыя не такъ то легко перелѣзть. Между прочимъ, недалеко отъ Малаерскаго подземнаго выхода, къ которому мы приближаемся, находится громадная трехугольная глыба гранита, на которую давно уже сильно хотѣлось мнѣ взглянуть. Шоннингъ утверждаетъ, что видѣлъ на немъ три первобытныхъ руническихъ письменныхъ знака…
Нѣкоторое уже время путешественники взбирались по голому утесу; они достигли маленькой развалившейся башни, черезъ которую имъ надо было пройти и на которую Спіагудри обратилъ вниманіе Орденера.
— Вотъ здѣсь Малаерскій подземный выходъ, милостивый государь. На этой дорогѣ мы встрѣтимъ еще много другихъ любопытныхъ сооруженій, которыя показываютъ на какомъ уровнѣ стояло въ древности фортификаціонное искусство норвежцевъ. Этотъ подземный выходъ, постоянно охраняемый четырьмя вооруженными стражами, представляетъ передовое укрѣпленіе замка Вермунда. Кстати о выходѣ, монахъ Урензіусъ дѣлаетъ интересное замѣчаніе, слово jаnuа [19], происходящее отъ Jаnus, храмъ котораго достопримѣчателенъ былъ своими дверями, не произвело ли слова янычаръ, стражъ двери султана? Курьезно было бы, если бы дѣйствительно имя самаго благодѣтельнаго царя въ исторіи перешло къ самымъ свирѣпымъ солдатамъ на свѣтѣ.
Съ этой научной болтовней смотрителя Спладгеста, они съ трудомъ взбирались по гладкимъ камнямъ и острымъ обломкамъ скалы, межъ которыхъ кое-гдѣ росъ на утесѣ короткій и скользкій дернъ.
Орденеръ забывалъ объ усталости, мечтая о счастіи снова взглянуть на далекій Мункгольмъ, какъ вдругъ Спіагудри вскричалъ:
— А! Я вижу ее! Одинъ видъ ея вознаграждаетъ меня за всѣ труды. Я вижу ее, сударь, я ее вижу!
— Кого это? — спросилъ Орденеръ, думавшій въ эту минуту объ Этели.
— Пирамиду, милостивый государь, трехугольную пирамиду, о которой говоритъ Шоннингъ. Послѣ профессора Шоннинга и епископа Излейфскаго я буду третьимъ ученымъ, которому посчастливилось разсматривать ее вблизи.
Какъ досадно, однако, что это произойдетъ при лунномъ свѣтѣ.
Приблизившись къ знаменитой глыбѣ, Спіагудри вдругъ испустилъ крикъ печали и ужаса. Изумленный Орденеръ освѣдомился съ любопытствомъ о новой причинѣ его волненія, но ученый археологъ въ теченіи нѣсколькихъ минутъ не могъ выговорить слова.
— Ты думалъ, — замѣтилъ Орденеръ: — что этотъ камень заграждаетъ дорогу; напротивъ, тебѣ слѣдовало бы съ удовольствіемъ убѣдиться, что она вполнѣ свободна для прохода.
— Вотъ это-то и приводитъ меня въ отчаяніе! — вскричалъ Бенигнусъ жалобнымъ тономъ.
— Это отчего?
— Какъ, милостивый государь, развѣ вы не примѣчаете, что эта пирамида сдвинута съ мѣста; что основаніе ея, которымъ она упиралась на тропинку, смотритъ теперь на воздухъ, между тѣмъ какъ бокъ, на которомъ Шоннингъ открылъ первобытныя руническія письмена, лежитъ теперь на землѣ?.. Какое несчастіе!
— Тебѣ дѣйствительно не везетъ, — замѣтилъ молодой человѣкъ.
— И добавьте къ тому, — съ живостью продолжалъ Спіагудри: — что смѣщеніе этой глыбы доказываетъ присутствіе какого то сверхъестественнаго существа. Если только это не дѣло дьявола, во всей Норвегіи рука только одного человѣка въ состояніи…
— Мой бѣдный проводникъ. Тебя снова обуялъ паническій ужасъ. Кто знаетъ, быть можетъ этотъ камень лежитъ такъ уже болѣе столѣтія.
— Правду сказать, — замѣтилъ Спіагудри болѣе спокойнымъ тономъ: — прошло сто пятьдесятъ лѣтъ съ тѣхъ поръ какъ изучалъ его послѣдній изслѣдователь. Однако мнѣ сдается, что онъ сдвинутъ недавно; мѣсто, которое онъ занималъ еще сыро. Посмотрите, сударь…
Орденеръ, нетерпѣливо желавшій добраться поскорѣе до развалинъ, оттащилъ своего проводника отъ чудесной пирамиды и успѣлъ разумными доводами разсѣять новый страхъ внушенный старому ученому страннымъ перемѣщеніемъ глыбы.
— Послушай, старина, тебѣ лучше всего поселиться на берегу этого озера и въ свое удовольствіе заняться важными изслѣдованіями, когда ты получишь десять тысячъ королевскихъ экю за голову Гана.
— Вы правы, благородный господинъ мой, но не говорите такъ легкомысленно о побѣдѣ, весьма сомнительной. Мнѣ необходимо подать вамъ совѣтъ, чтобы вы легче могли захватить чудовище…
Орденеръ съ живостью приблизился къ Спіагудри.
— Совѣтъ! Какой совѣтъ?
— Разбойникъ, — отвѣчалъ тотъ тихимъ голосомъ, бросая вокругъ себя безпокойные взгляды, — разбойникъ носитъ за поясомъ черепъ, изъ котораго обыкновенно пьетъ. Это черепъ его сына, за оскверненіе трупа котораго меня преслѣдуютъ теперь…
— Говори погромче, не бойся ничего, я съ трудомъ могу разслышать твой голосъ. Ну! Этотъ черепъ…
— Этотъ черепъ, — продолжалъ Спіагудри, наклоняясь къ уху молодого человѣка: — вамъ надо постараться захватить въ свои руки. Чудовище питаетъ къ нему не знаю какія-то суевѣрныя чувства. Когда вы завладѣете черепомъ его сына, разбойникъ очутится въ вашей власти.
— Прекрасно, мой храбрый спутникъ; но какимъ-же образомъ я завладѣю этимъ черепомъ?
— Хитростью, милостивый государь; можетъ быть во время сна чудовища…
Орденеръ перебилъ его:
— Довольно. Твой добрый совѣтъ мнѣ не подходитъ. Мнѣ некчему знать спитъ ли врагъ. Въ борьбѣ я полагаюсь лишь на мою саблю.
— Эхъ, сударь! Развѣ не хитростью архангелъ Михаилъ побѣдилъ дьявола…
Спіагудри вдругъ остановился, протянулъ впередъ руки и простоналъ слабымъ голосомъ:
— Святые угодники! Что это я вижу тамъ? Посмотрите, милостивый господинъ, развѣ не малорослый идетъ по одной тропинкѣ впереди насъ?..
— Клянусь честью, — сказалъ Орденеръ, поднимая глаза: — я не вижу никого.
— Никого, сударь? Дѣйствительно, тропинка заворачиваетъ и онъ исчезъ за скалой… Заклинаю васъ, сударь, не ходите далѣе ни шагу.
— Полно! Если этотъ субъектъ такъ поспѣшно исчезъ, это вовсе не доказываетъ, что онъ намѣренъ ждать насъ; если-же онъ убѣжалъ, развѣ будетъ разумно съ нашей стороны слѣдовать его примѣру.
— Да защититъ насъ святой Госпицій! — прошепталъ Спіагудри, который въ критическую минуту всегда призывалъ своего патрона.
— Ты принялъ за человѣка движущуюся тѣнь спугнутой совы, — замѣтилъ Орденеръ.
— Однако, я убѣжденъ, что видѣлъ малорослаго, хотя лунный свѣтъ часто производитъ странныя иллюзіи. Подъ вліяніемъ этого свѣта Балданъ Мернейскій принялъ бѣлый пологъ постели за тѣнь своей матери, что и побудило его на слѣдующій день объявить себя ея убійцей передъ судьями Христіаніи, которые хотѣли было обвинить въ этомъ невиннаго пажа покойной. Такимъ образомъ можно сказать, что лунный свѣтъ спасъ жизнь этого пажа.
Никто не могъ лучше Спіагудри забывать настоящаго въ минувшемъ. Одного воспоминанія его обширной памяти достаточно было для того, чтобы изгладить впечатлѣнія минуты. Теперь исторія Балдана разсѣяла его страхъ и онъ замѣтилъ спокойнымъ тономъ:
— Весьма возможно, что меня тоже ввелъ въ заблужденіе лунный свѣтъ.
Между тѣмъ они достигли вершины Ястребиной Шеи и принялись осматривать развалины, которыя до сихъ поръ были скрыты отъ нихъ кривизной утеса.
Пусть читатель не удивляется, что мы такъ часто встрѣчаемъ развалины на вершинахъ норвежскихъ горъ. Всякій, кто посѣщалъ европейскія горы, конечно часто примѣчалъ развалины крѣпостей и замковъ, какъ бы висящихъ на хребтѣ самыхъ высокихъ горъ, подобно брошенымъ гнѣздамъ ястребовъ или орловъ.
Въ эпоху, нами описываемую, въ Норвегіи этотъ родъ воздушныхъ построекъ въ особенности поражалъ какъ своею численностью, такъ и разнообразіемъ. Тамъ попадались то длинныя полуразрушенныя стѣны, опоясывавшія утесъ; то остроконечныя тонкія башенки, вѣнчавшія вершину горъ, подобно царской коронѣ; то массивныя башни, сгруппированныя вокругъ замка и казавшіяся издали древней тіарой на сѣдой головѣ высокаго утеса. Рядомъ съ тонкими стрѣльчатыми аркадами готическаго монастыря виднѣлись тяжелыя египетскія колонны саксонской церкви; рядомъ съ цитаделью изъ четырехугольныхъ башенъ языческаго вождя — зубчатая крѣпость христіанскаго владѣтеля; рядомъ съ замкомъ, разрушившимся отъ времени — монастырь, раззоренный войной.
Отъ этихъ зданій, представлявшихъ смѣсь странныхъ и почти невѣдомыхъ теперь архитектуръ, отъ этихъ зданій, смѣло сооруженныхъ на мѣстахъ, повидимому, неприступныхъ, остались одни лишь обломки, какъ бы свидѣтельствующіе о могуществѣ и ничтожествѣ человѣка. Быть можетъ въ этихъ зданіяхъ совершались дѣла гораздо болѣе достойныя описанія, чѣмъ все, о чемъ повѣствуютъ на землѣ; но событія эти свершились, смежились очи, видѣвшія ихъ, преданія о нихъ утратились съ теченіемъ времени, подобно угасающему огню — и кто въ состояніи теперь проникнуть в тайну вѣковъ?
Жилище Вермунда Изгнанника, до котораго добрались наконецъ оба путешественника, было именно одно изъ тѣхъ зданій, съ которыми суевѣріе связываетъ наиболѣе удивительныя приключенія, наиболѣе чудесныя исторіи.
По каменнымъ стѣнамъ его, скрѣпленнымъ цементомъ, ставшимъ тверже камня, легко было судить, что сооруженіе это относится къ пятому или шестому столѣтію. Изъ пяти башенъ его только одна сохранила свою прежнюю высоту; остальныя четыре, болѣе или менѣе разрушенныя, обломками которыхъ усѣяна была вершина утеса, соединялись другъ съ другомъ рядами развалинъ, указывавшими древнія границы внутреннихъ дворовъ замка. Весьма трудно было проникнуть во внутренность замка, загроможденную камнями, обломками скалъ и густымъ кустарникомъ, который, разстилаясь съ одной развалины на другую, скрывалъ подъ своей листвой обрушившіяся стѣны, или длинными гибкими вѣтвями свѣшивался въ пропасть.
Ходила молва, что на этой чащѣ вѣтвей качались при лунномъ свѣтѣ синеватые призраки, преступныя души утопившихся въ озерѣ Спарбо, что на ней оставлялъ домовой озера облако, на которомъ улеталъ при восходѣ солнца. Свидѣтелями этихъ страшныхъ тайнъ были отважные рыбаки которые, пользуясь сномъ морскихъ собакъ [20], осмѣливались направлять свои лодки подъ самый Оельмскій утесъ, рисовавшійся въ тѣни надъ ихъ головами, подобно разломанной аркѣ гигантскаго моста.
Наши искатели приключеній не безъ труда проникли за стѣну жилища черезъ разщелину, такъ древнія ворота засыпаны были развалинами. Единственная башня, которая, какъ мы уже сказали, устояла противъ разрушительнаго дѣйствія времени, расположена была на краю утеса.
Съ ея то вершины, по словамъ Спіагудри, Орденеръ могъ увидѣть маякъ Мункгольмской крѣпости. Они направились къ ней, не взирая на царившую вокругъ густую темноту. Тяжелая черная туча совсѣмъ закрыла луну. Они хотѣли уже войти въ брешь другой стѣны, чтобы пробраться во второй дворъ замка, какъ вдругъ Спіагудри замеръ на мѣстѣ и поспѣшно ухватился за Орденера рукою, дрожавшей такъ сильно, что молодой человѣкъ даже зашатался.
— Что еще?.. — съ удивленіемъ спросилъ Орденеръ.
Не отвѣчая ни слова, Бенигнусъ съ живостью схватилъ его за руку, какъ бы для того, чтобы принудить замолчать.
— Но… — заикнулся молодой человѣкъ.
Новое пожатіе руки, сопровождаемое глубокимъ полуподавленнымъ вздохомъ, заставило его рѣшиться терпѣливо обождать, пока утихнетъ новый приливъ страха.
Наконецъ Спіагудри промолвилъ задыхающимся голосомъ:
— Ну, милостивый господинъ, что вы на это скажете?
— На что? — спросилъ Орденеръ.
— А, сударь, — продолжалъ Бенигнусъ тѣмъ же тономъ: — вы теперь раскаиваетесь, что забрались сюда!
— Ничуть, мой храбрый проводникъ: напротивъ я разсчитываю забраться еще выше. Почему это хочешь ты, чтобы я раскаивался?
— Какъ, сударь, такъ вы не видѣли ничего?
— Видѣлъ! Что видѣлъ?
— Такъ вы не видѣли ничего… — повторилъ достойный смотритель Спладгеста съ возрастающимъ ужасомъ.
— Рѣшительно ничего! — нетерпѣливо вскричалъ Орденеръ: — ничего не видѣлъ, а слышалъ только стукъ твоихъ зубовъ, которые отъ страха стучали какъ въ лихорадкѣ.
— Какъ! Неужто вы не примѣтили тамъ, за стѣной, въ тѣни… два устремленныхъ на насъ, сверкающихъ какъ кометы, глаза?..
— Честное слово, нѣтъ.
— Такъ вы не видѣли какъ они блуждали, поднимались, спускались и наконецъ исчезли въ развалинахъ?
— Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Ну что за важность, если бы и видѣлъ?
— Какъ! Господинъ Орденеръ, развѣ вамъ не извѣстно, что во всей Норвегіи глаза только одного человѣка могутъ такъ сверкать въ темнотѣ?…
— Ну что за важность? Кто же это обладаетъ такими кошачьими глазами? Можетъ быть Ганъ, твой грозный Исландецъ? Тѣмъ лучше, если онъ здѣсь! По крайней мѣрѣ намъ не придется странствовать въ Вальдергогскую пещеру.
Это тѣмъ лучше пришлось совсѣмъ не по вкусу Спіагудри, который не могъ удержаться, чтобы не выдать своей тайной мысли невольнымъ восклицаніемъ.
— Ахъ! Сударь, не вы ли обѣщали оставить меня въ деревнѣ Сурбъ за милю отъ мѣста поединка?..
Добродушный, честный Орденеръ понялъ и улыбнулся.
— Ты правъ, старина; было бы несправедливо подвергать тебя моимъ опасностямъ. Не бойся ничего, ты всюду видишь этого Гана Исландца. Развѣ въ эти развалины не можетъ забраться дикая кошка съ такими же блестящими глазами, какъ у этого субъекта?
Чуть ли не въ пятый разъ Спіагудри успокоился, отчасти оттого, что спокойствіе его юнаго спутника имѣло въ себѣ нѣчто заразительное.
— Ахъ! Сударь, безъ васъ я ужъ разъ десять бы умеръ со страху, корабкаясь по этимъ скаламъ…. Правда, если бы не вы, я не отважился бы на такое путешествіе.
При свѣтѣ луны, вышедшей изъ за тучъ, они примѣтили входъ въ высокую башню, подножія которой только что достигли. Они вошли въ него, раздвигая густую завѣсу плюща, откуда посыпались на нихъ сонныя ящерицы и старыя гнѣзда хищныхъ птицъ. Спіагудри поднялъ два кремня и сталъ высѣкать изъ нихъ огонь на кучу сухихъ листьевъ и валежника, набраннаго Орденеромъ. Черезъ минуту вспыхнуло яркое пламя, разсѣявъ окружающую темноту и позволяя осмотрѣть внутренность башни.
Внутри уцѣлѣли только круглыя, очень толстыя стѣны, поросшія плющемъ и мохомъ. Потолки всѣхъ четырехъ этажей послѣдовательно, одинъ за другимъ обвалились на земляной полъ нижняго этажа, образовавъ тамъ огромную груду обломковъ. Узкая, безъ перилъ лѣстница, поломанная во многихъ мѣстахъ, шла спиралью по внутренней поверхности стѣны вплоть до самой вершины башни.
При первомъ трескѣ огня, цѣлая туча совъ и орлановъ тяжело поднялась на воздухъ, испуская зловѣщіе, испуганные крики, а огромныя летучія мыши по временамъ касались пламени своими пепельнаго цвѣта крыльями.
— Ну, хозяева то не очень радушно принимаютъ насъ, — замѣтилъ Орденеръ: — смотри, не испугайся опять.
— Что вы, сударь, — возразилъ Спіагудри, усаживаясь къ огню! — чтобы я испугался какихъ-нибудь совъ или летучихъ мышей! Возясь съ трупами, я нисколько не страшился вампировъ. Ахъ! Я боюсь только людей! Надо сознаться, я не очень храбръ, но за то я нисколько не суевѣренъ… Послушайте-ка, сударь, меня, оставимъ въ покоѣ этихъ дамъ съ черными крыльями и хриплыми голосами, и позаботимся объ ужинѣ.
Орденеръ интересовался только Мункгольмомъ.
— Я захватилъ съ собой кой-какой провизіи, — продолжалъ Спіагудри, вынимая изъ подъ плаща свою котомку: — и если вы также проголодались какъ я, этотъ черный хлѣбъ и этотъ заплѣсневѣлый сыръ скоро исчезнутъ въ нашихъ желудкахъ. Боюсь только, что мы будемъ еще умѣреннѣе, чѣмъ законъ французскаго короля Филиппа Красиваго: Nemо аudеаt соmеdеrе рrаеtеr duо fеrсulа сum роtаgіо. Не дурно было-бы пошарить въ гнѣздахъ чаекъ или фазановъ на верхушкѣ этой башни, да какъ взберешься туда по этой шаткой лѣстницѣ, на которой и сильфъ-то съ трудомъ удержится?
— Однако, — замѣтилъ Орденеръ: — она должна сдержать меня, потому что я во что-бы то ни стало заберусь на вершину башни.
— Что вы, сударь! Изъ за какихъ нибудь гнѣздъ чаекъ?. Ради Бога оставьте это сумасбродство. Не стоитъ рисковать своей жизнью, чтобы лучше поужинать. Не забудьте, что вы легко можете ошибиться и захватить съ собой совиное гнѣздо.
— Стану я заботиться о твоихъ гнѣздахъ! Не говорилъ ли ты мнѣ, что съ высоты этой башни видѣнъ Мункгольмскій замокъ?
— Это правда, молодой человѣкъ, къ югу! Вижу, что желаніе выяснить этотъ важный для географіи фактъ побудило васъ предпринять утомительное восхожденіе къ замку Вермунда. Но вспомните, благородный господинъ Орденеръ, что долгъ ревностнаго ученаго пренебрегать иной разъ усталостями, но никакъ не опасностями. Умоляю васъ, оставьте въ покоѣ эту дрянную, развалившуюся лѣстницу, на которой и ворону-то негдѣ усѣсться.
Бенигнусу совсѣмъ не хотѣлось остаться одному внизу башни. Когда онъ повернулся, чтобы удержать Орденера за руку, котомка, лежавшая у него на колѣняхъ, свалилась на землю и зазвенѣла.
— Что это звенитъ у тебя въ котомкѣ? — спросилъ Орденеръ.
Этотъ вопросъ, задѣвшій чувствительную струну Спіагудри отбилъ у него всякую охоту удерживать своего спутника.
— Ну, — сказалъ онъ, не отвѣчая на вопросъ: — если ужъ вы, не смотря на мои просьбы, рѣшились взобраться на верхушку этой башни, остерегайтесь трещинъ лѣстницы.
— Хорошо, но, — снова повторилъ свой вопросъ Орденеръ: — что это въ твоей котомкѣ издаетъ такой металлическій звукъ?
Эта нескромная настойчивость сильно не понравилась старому смотрителю Спладгеста, который отъ души проклиналъ любопытство своего товарища.
— Э! Сударь, — отвѣтилъ онъ: — стоитъ вамъ обращать вниманіе на дрянное желѣзное блюдце для бритья, которое стукнулось о камень!.. Ужъ если вы не хотите меня послушаться, — поспѣшилъ онъ прибавить: — не мѣшкайте и спускайтесь поскорѣе назадъ, придерживаясь за плющъ, который вьется по стѣнѣ. Мункгольмскій маякъ вы увидите на югѣ, между двумя скамейками Фригги.
Спіагудри ничего лучшаго не могъ придумать для того, чтобы отвлечь вниманіе молодаго человѣка отъ котомки.
Скинувъ плащъ, Орденеръ сталъ взбираться по лѣстницѣ, товарищъ его слѣдилъ за нимъ глазами, пока онъ не сталъ казаться легкою тѣнью, скользившей въ вышинѣ стѣны, вершина которой едва освѣщалась колеблющимся пламенемъ костра и неподвижнымъ отблескомъ луны.
Тогда смотритель Спладгеста снова усѣлся у огня и поднялъ свою котомку.
Ну, мой милый Бенигнусъ Спіагудри, — пробормоталъ онъ: — пока не видитъ тебя эта молодая рысь и пока ты одинъ, поспѣши разбить эту неудобную желѣзную крышку, которая мѣшаетъ тебѣ вступить во владѣніе, осulis et mаnu, сокровищемъ, безъ сомнѣнія заключающимся въ этомъ ящикѣ. Когда оно освободиться изъ своей тюрьмы, его легче будетъ носить и удобнѣе прятать.
Вооружившись большимъ камнемъ, онъ готовился уже разбить крышку шкатулки, какъ вдругъ лучъ свѣта, упавшій на желѣзную печать, остановилъ антикварія.
— Клянусь святымъ Виллебродомъ Нумизматомъ, я не ошибаюсь, — вскричалъ онъ, вытирая ржавую крышку: — это гербъ Гриффенфельда! Я чуть не сдѣлалъ страшную глупость, разбивъ печать, быть можетъ единственный образецъ знаменитаго герба, разбитаго рукою палача въ 1676 году.
Чортъ возьми! Не станемъ трогать крышку, которая сама по себѣ драгоцѣннѣе сокровищъ, скрытыхъ подъ нею, если только, что впрочемъ не вѣроятно, тамъ не лежатъ монеты Пальмиры или карфагенскія медали. И такъ, у меня одного находится не существующій теперь гербъ Гриффенфельда! Надо припрятать получше это сокровище. Быть можетъ мне удастся узнать секретъ открыть этотъ ящикъ, не прибѣгая къ вандализму. Гербъ Гриффенфельда! Да! Нѣтъ сомнѣнiя, вотъ жезлъ правосудія, вѣсы на красномъ полѣ… Какая счастливая находка!
При каждомъ новомъ геральдическомъ открытіи, которое онъ дѣлалъ, стирая ржавчину съ старой печати, съ губъ его срывался то крикъ удивленія, то восторженное восклицаніе.
— Посредствомъ разлагающаго вешества я вскрою замокъ, не повредивъ печати. Тутъ безъ сомнѣнія сокровища бывшаго канцлера… Если кто нибудь признаетъ меня и, соблазнившись четырьмя экю синдика, задержитъ на дорогѣ, мнѣ не трудно будетъ откупиться… Такимъ образомъ, мою жизнь спасетъ этотъ благодѣтельный ящикъ…
Съ этими словами онъ машинально поднялъ взоръ. Въ одно мгновеніе ока смѣшная физіономія его, только что выражавшая живѣйшую радость, оцѣпенѣла отъ ужаса. Конвульсивная дрожь пробѣжала по членамъ, глаза расширились, лобъ покрылся морщинами, ротъ остался разинутымъ, голосъ замеръ въ гортани подобно потухающему пламени.
Передъ нимъ по ту сторону костра стоялъ малорослый, скрестивъ руки на груди. По одеждѣ его изъ окровавленныхъ шкуръ, по каменному топору, по звѣрскому взгляду, устремляемому на него, злополучный смотритель Спладгеста тотчасъ же узналъ страшное существо, посѣтившее его въ послѣднюю ночь, которую провелъ онъ въ Дронтгеймѣ.
— Это я! — произнесъ малорослый съ угрожающимъ видомъ: — Твою жизнь спасетъ этотъ ящикъ, добавилъ онъ съ страшной иронической усмѣшкою: — Развѣ здѣсь дорога въ Токтре?
Несчастный Спіагудри пытался произнести нѣсколько словъ.
— Въ Токтре!.. Сударь… Милостивый господинъ… я шелъ туда…
— Ты шелъ въ Вальдергогскую пещеру, — отвѣтилъ тотъ громовымъ голосомъ.
Пораженный ужасомъ, Спіагудри собралъ всѣ свои силы, чтобы отрицательно покачатъ головой.
— Ты велъ ко мнѣ врага; спасибо! По крайней мѣрѣ однимъ живымъ существомъ будетъ меньше. Не бойся, вѣрный проводникъ, онъ послѣдуетъ за тобою.
Несчастный смотритель Спладгеста хотѣлъ было закричать, но могъ испустить только какое то невнятное ворчанье.
— Зачѣмъ ты боишься меня? Вѣдь ты меня искалъ… Слушай-же, не кричи, не то ты тотчасъ-же умрешь.
Малорослый взмахнулъ каменнымъ топоромъ надъ головой Спіагудри, и продолжалъ голосомъ, который выходилъ изъ его груди подобно реву потока, вырывающагося изъ пещеры.
— Ты измѣнилъ мнѣ.
— Нѣтъ, ваша милость, нѣтъ, ваше превосходительство, — сказалъ наконецъ Бенигнусъ, съ трудомъ произнося эти умоляющія слова.
Малорослый испустилъ глухой ревъ.
— А! Ты еще хочешь обмануть меня! Напрасно… Слушай, я былъ на кровлѣ Спладгеста, когда ты заключилъ договоръ съ тѣмъ безумцемъ; дважды я давалъ тебѣ знать о себѣ. Мой голосъ слышалъ ты на дорогѣ во время бури; это я нашелъ тебя въ башнѣ Виглы; это я сказалъ тебѣ: до свиданія!..
Пораженный ужасомъ, Спіагудри кидалъ вокругъ себя блуждающіе взоры, какъ бы ища помощи. Малорослый продолжалъ.
— Я не хотѣлъ упустить солдатъ, которые преслѣдовали тебя. Они были Мункгольмскаго полка, а тебя я всегда могъ найти. Спіагудри, это меня видѣлъ ты въ деревнѣ Оельме въ войлочной шляпѣ рудокопа. Мои шаги, мой голосъ и мои глаза узналъ ты въ этихъ развалинахъ; все это былъ я!
Увы! Несчастный былъ слишкомъ убѣжденъ въ этомъ, чтобы сомнѣваться. Онъ упалъ на землю къ ногамъ своего грознаго судьи и, задыхаясь отъ ужаса, вскричалъ раздирающимъ душу голосомъ:
— Пощадите!
Малорослый, скрестивъ руки, устремилъ на него налитые кровью глаза, сверкающіе ярче пламени костра.
— Моли этотъ ящикъ о твоемъ спасеніи, — замѣтилъ онъ съ страшной ироніей.
— Пощадите!.. Пощадите! — повторялъ Спіагудри, полумертвый отъ страха.
— Я предупреждалъ тебя, чтобы ты былъ вѣренъ и нѣмъ. Ты измѣнилъ мнѣ, но клянусь ты онѣмѣешь на вѣки.
Спіагудри, понявъ страшный смыслъ этихъ словъ, застоналъ.
— О! Не бойся, — продолжалъ малорослый: — ты не разстанешься съ своимъ сокровищемъ.
Съ этими словами онъ снялъ съ себя кожаный поясъ, продѣлъ его въ кольцо ящика и привязалъ къ шеѣ Спіагудри, который согнулся подъ непосильной тяжестью.
— Ну, — продолжалъ малорослый: — какому дьяволу поручаешь ты свою душу? Зови его скорѣе на помощь, не то другой демонъ, о которомъ ты и не помышлялъ, завладѣетъ ею прежде него.
Старикъ въ отчаяніи, не въ силахъ произнести ни слова, упалъ къ ногамъ малорослаго, знаками выражая свой ужасъ и мольбу о пощадѣ.
— Нѣтъ, нѣтъ! — произнесъ тотъ: — слушай, вѣрный Спіагудри, не отчаивайся, оставляя безъ проводника своего молодого товарища. Говорю тебѣ, онъ послѣдуетъ за тобою. Иди же! Ты только проложешь ему дорогу… Ну!
Съ этими словами, схвативъ несчастнаго въ свои желѣзные тиски, онъ вынесъ его изъ башни, какъ тигръ, уносящій длинную змѣю.
Минуту спустя, громкій крикъ огласилъ развалины, смѣшавшись съ страшнымъ взрывомъ хохота.
XXIII
Между тѣмъ отважный Орденеръ, рискуя разъ двадцать свалиться съ шаткой лѣстницы, добрался наконецъ до вершины толстой круглой стѣны башни.
При его неожиданномъ появленіи черныя столѣтнія совы, спугнутыя съ развалинъ, разлетѣлись въ стороны, устремивъ на него свой пристальный взоръ; круглые камни, катясь подъ его ногами, падали въ бездну, ударяясь о выступы скалъ съ глухимъ, отдаленнымъ шумомъ.
Въ другое время Орденеръ принялся-бы осматривать пропасть, глубина которой увеличивалась ночной темнотой. Взглядъ его, обозрѣвая огромныя тѣни на горизонтѣ, темные контуры которыхъ едва бѣлѣлись на притуманномъ блескѣ луны, пытался-бы различать пары отъ скалъ и горы отъ облаковъ; въ его воображеніи ожили-бы всѣ эти гигантскіе образы, всѣ эти фантастическіе виды, которые при лунномъ свѣтѣ воспринимаютъ горы и туманы. Онъ прислушивался-бы къ смутному говору озера и лѣса, смѣшивающемуся съ рѣзкимъ свистомъ сухой травы, волнуемой вѣтромъ у его ногъ, среди разсѣлинъ скалы. Его умъ одарилъ-бы языкомъ эти мертвенные голоса, которые издаетъ природа въ ночной тишинѣ, когда все на землѣ засыпаетъ.
Между тѣмъ, въ эту минуту, хотя сцена, явившаяся взору Орденера, невольно взволновала все его существо, иныя мысли толпились въ его головѣ. Едва нога его ступила на вершину стѣны, взоры его устремились къ югу и невыразимый восторгъ овладѣлъ имъ, когда примѣтилъ онъ межъ хребтами двухъ горъ блестящую точку, сверкавшую на горизонтѣ, подобно красной звѣздѣ.
То былъ Мункгольмскій маякъ.
Истинныя радости жизни недоступны тому, кто не въ состояніи понять счастія, охватившаго все существо молодаго человѣка. Сердце его забилось отъ восторга; сильно вздымающаяся грудь едва дышала. Устремивъ неподвижный пристальный взоръ на звѣзду, онъ взиралъ на нее съ умиленіемъ и надеждой. Ему казалось, что этотъ лучъ свѣта въ глубокую ночь исходившій изъ жилища, въ которомъ таилось его блаженство, несся къ нему изъ сердца Этели.
О! Нельзя сомнѣваться, что иной разъ, не взирая на время и пространство, души могутъ таинственнымъ образомъ бесѣдовать между собою. Тщетно реальный міръ воздвигаетъ преграды между двумя любящими сердцами; живя идеальной жизнью, они свидятся и въ разлукѣ, соединятся и въ смерти. Что значитъ разлука тѣлесная, физическое разстояніе для двухъ существъ, неразрывно соединенныхъ единомысліемъ и общимъ стремленіемъ.
Истинная любовь можетъ страдать, но никогда не умретъ.
Кто не стоялъ сотни разъ въ дождливую ночь подъ окномъ, едва освѣщенномъ во мракѣ? Кто не ходилъ взадъ и впередъ передъ дверью, кто радостно не блуждалъ вокругъ дома? Кто поспѣшно не сворачивалъ съ дороги, чтобы слѣдовать вечеромъ по извилинамъ глухой улицы за развѣвающимся платьемъ, за бѣлымъ покрываломъ, нечаянно примѣченнымъ въ тѣни? Кому неизвѣстны эти волненія, тотъ никогда не любилъ.
Глядя на отдаленный Мункгольмскій маякъ, Орденеръ погрузился въ задумчивость. Печальное, ироническое довольство смѣнило въ немъ первый восторгъ; тысячи разнообразныхъ ощущеній столпились въ его взволнованной груди.
— Да, — говорилъ онъ себѣ: — долгій, томительный путь долженъ совершить человѣкъ, чтобы наконецъ примѣтить точку счастія въ безпредѣльной ночи… Она тамъ!.. Спитъ, мечтаетъ, быть можетъ думаетъ обо мнѣ… Но кто повѣдаетъ ей, что ея печальный, одинокій Орденеръ стоитъ теперь во мракѣ на краю бездны?.. Ея Орденеръ, который имѣетъ отъ нея только локонъ на груди и неясный свѣтъ огня на горизонтѣ!..
Взглянувъ на красноватый отблескъ костра, разведеннаго въ башнѣ, отблескъ, пробивавшійся наружу черезъ трещины въ стѣнѣ, онъ продолжалъ:
— Кто знаетъ, можетъ быть она равнодушно смотритъ изъ окна своей тюрьмы на отдаленное пламя этого очага…
Вдругъ громкій крикъ и продолжительный взрывъ хохота послышались ему, какъ бы выходя изъ пропасти, лежащей у его ногъ; онъ поспѣшно обернулся и примѣтилъ, что внутренность башни опустѣла.
Безпокоясь за старика, онъ поспѣшилъ спуститься, но едва успѣлъ пройти нѣсколько ступеней лѣстницы, какъ слуха его коснулся глухой шумъ, подобный тому, который производитъ тяжелое тѣло, брошенное въ воду.
XXIV
Солнце садилось. Горизонтальные лучи его отбрасывали на шерстяную симару Шумахера и креповое платье Этели черную тѣнь рѣшетчатаго окна.
Оба сидѣли у высокаго стрѣльчатаго окна, старикъ въ большомъ готическомъ креслѣ, молодая дѣвушка на табуретѣ у его ногъ. Узникъ, казалось, погруженъ былъ въ мечты, принявъ свое любимое меланхолическое положеніе. Его высокій, изрытый глубокими морщинами лобъ опущенъ былъ на руки, лица не было видно, сѣдая борода въ безпорядкѣ лежала на груди.
— Батюшка, — промолвила Этель, стараясь всячески разсѣять старца: — сегодня ночью я видѣла счастливый сонъ… Посмотрите, батюшка, какое прекрасное небо.
— Я вижу небо, — отвѣчалъ Шумахеръ: — только сквозь рѣшетку моей тюрьмы, подобно тому какъ вижу твою будущность, Этель, сквозь мои бѣдствія.
Голова его, на мгновенье поднявшаяся, снова упала на руки. Оба замолчали.
— Батюшка, — продолжала робко молодая дѣвушка минуту спустя: — вы думаете о господинѣ Орденерѣ?
— Орденеръ? — повторилъ старикъ, какъ бы припоминая о комъ ему говорятъ. — А! я знаю о комъ ты говоришь. Ну что же?
— Какъ вы думаете, батюшка, скоро онъ вернется? Онъ уже давно уѣхалъ. Ужъ четвертый день…
Старикъ печально покачалъ головой.
— Я полагаю, что когда мы насчитаемъ четвертый годъ его отсутствія, то и тогда его возвращеніе будетъ столь же близко какъ теперь.
Этель поблѣднѣла.
— Боже мой! Неужели вы думаете, что онъ не вернется?
Шумахеръ не отвѣчалъ. Молодая дѣвушка повторила вопросъ тревожнымъ, умоляющимъ тономъ.
— Развѣ онъ обѣщалъ возвратиться? — раздражительно освѣдомился узникъ.
— Да, батюшка, обѣщалъ! — смущенно отвѣтила Этель.
— И ты разсчитываешь на его возвращеніе? Развѣ онъ не человѣкъ? Я вѣрю, что ястребъ можетъ вернуться къ трупу, но не вѣрю, что весна вернется въ концѣ года.
Этель, видя, что отецъ ея снова впалъ въ меланхолическое настроеніе духа, успокоилась. Ея дѣвственное, дѣтское сердце горячо опровергало мрачныя мудрствованія старца.
— Батюшка, — сказала она съ твердостью: — господинъ Орденеръ возвратится, онъ не похожъ на другихъ людей.
— Ты думаешь, молодая дѣвушка?
— Вы сами знаете это, батюшка.
— Я ничего не знаю, — сказалъ старикъ. — Я слышалъ человѣческія слова, возвѣщавшія дѣянія Божіи.
Помолчавъ, онъ добавилъ съ горькой улыбкой.
— Я размышлялъ объ этомъ и вижу, что все это слишкомъ прекрасно, чтобы быть достовѣрнымъ.
— А я, батюшка, увѣровала, именно потому, что это прекрасно.
— О! Молодая дѣвушка, если бы ты была той, которой должна была бы быть, графиней Тонсбергъ и княгиней Воллинъ, окруженной цѣлымъ дворомъ красивыхъ предателей и разсчетливыхъ обожателей, такая довѣрчивость подвергла бы тебя страшной опасности.
— Батюшка, это не довѣрчивость, это вѣра.
— Легко замѣтить, Этель, что въ твоихъ жилахъ течетъ кровь француженки.
Эта мысль непримѣтно навела старика на воспоминанія; онъ продолжалъ снисходительнымъ тономъ:
— Тѣ, которые свергнули отца своего ниже той ступени, откуда онъ возвысился, не могутъ, однако, отнять у тебя право считаться дочерью Шарлотты, принцессы Тарентской; ты носишь имя одной изъ твоихъ прабабокъ, Адели или Эдели, графини Фландрской.
Этель думала совсѣмъ о другомъ.
— Батюшка, вы обижаете благороднаго Орденера.
— Благороднаго, дочь моя!.. Какой смыслъ придаешь ты этому слову? Я дѣлалъ благородными самыхъ подлыхъ людей.
— Я не хочу сказать, что онъ благороденъ отъ благородства, которымъ награждаютъ.
— Развѣ ты знаешь, что онъ потомокъ какого нибудь ярлы или герзы [21]?
— Батюшка, я знаю объ этомъ не больше васъ. Можетъ быть, — продолжала она, потупивъ глаза: — онъ сынъ раба или вассала. Увы! короны и лиры рисуютъ и на бархатѣ каретной подножки. Дорогой батюшка, я хочу только повторить за вами, что онъ благороденъ сердцемъ.
Изъ всѣхъ людей, съ которыми встрѣчалась Этель, Орденеръ былъ наиболѣе и въ то же время наименѣе ей извѣстенъ. Онъ вмѣшался въ ея судьбу, такъ сказать, какъ ангелъ, являвшійся первымъ людямъ, облеченный за разъ и свѣтомъ, и таинственностью. Одно его присутствіе выдавало его природу и внушало обожаніе.
Такимъ образомъ, Орденеръ открылъ Этели то, что люди скрываютъ пуще всего — свое сердце; онъ хранилъ молчаніе о своемъ отечествѣ и происхожденіи; взгляда его достаточно было для Этели, и она вѣрила его словамъ. Она любила его, она отдала ему свою жизнь, изучила его душу, но не знала имени.
— Благороденъ сердцемъ! — повторилъ старикъ: — Благороденъ сердцемъ! Это благородство выше того, которымъ награждаютъ короли: оно дается только отъ Бога. Онъ расточаетъ его менѣе, чѣмъ тѣ…
Переведя взоръ на разбитый щитъ, узникъ добавилъ:
— И никогда не отнимаетъ.
— Не забудьте, батюшка, — замѣтила Этель: — тотъ, кто сохранитъ это благородство, легко утѣшится въ утратѣ другого.
Слова эти заставили вздрогнуть отца и возвратили ему мужество. Твердымъ голосомъ онъ возразилъ:
— Справедливо, дочь моя. Но ты не знаешь, что немилость, признаваемая всѣми несправедливой, иной разъ оправдывается нашимъ тайнымъ сознаніемъ. Такова наша жалкая натура: въ минуту несчастія возникаютъ въ насъ тысячи голосовъ, упрекающихъ насъ въ ошибкахъ и заблужденіяхъ, голосовъ, дремавшихъ въ минуту благополучія.
— Не говорите этого, дорогой батюшка, — сказала Этель, глубоко тронутая, такъ какъ дрогнувшій голосъ старца далъ ей почувствовать, что у него вырвалась тайна одной изъ его печалей.
Устремивъ на него любящій взоръ и цѣлуя его холодную морщинистую руку, она продолжала съ нѣжностію:
— Дорогой батюшка, вы слишкомъ строго судите двухъ благородныхъ людей, господина Орденера и себя.
— А ты относишься къ нимъ слишкомъ милосердно, Этель! Можно подумать, что ты не понимаешь серьезнаго значенія жизни.
— Но развѣ дурно съ моей стороны отдавать справедливость великодушному Орденеру?
Шумахеръ нахмурилъ брови съ недовольнымъ видомъ.
— Дочь моя, я не могу одобрить твоего увлеченія незнакомцемъ, котораго, безъ сомнѣнія, ты не увидишь болѣе.
— О! Не думайте этого! — вскричала молодая дѣвушка, на сердце которой какъ камень легли эти холодныя слова: — мы увидимъ его. Не для васъ-ли рѣшился онъ подвергнуть жизнь свою опасности?
— Сознаюсь, сперва я, подобно тебѣ, положился на его обѣщанія. Но нѣтъ, онъ не пойдетъ и потому не вернется къ намъ.
— Онъ пойдетъ, батюшка, онъ пойдетъ.
Эти слова молодая дѣвушка произнесла почти оскорбленнымъ тономъ. Она чувствовала себя оскорбленною за своего Орденера. Увы! Въ душѣ она слишкомъ увѣрена была въ томъ, что утверждала.
Узникъ, повидимому не тронутый ея словами, возразилъ:
— Ну, положимъ, онъ пойдетъ на разбойника, рискнетъ на эту опасность, — результатъ, однако, будетъ тотъ-же: онъ не вернется.
Бѣдная Этель!.. Какъ страшно иной разъ слова, сказанныя равнодушно, растравляютъ тайную рану тревожнаго, истерзаннаго сердца! Она потупила свое блѣдное лицо, чтобы скрыть отъ холоднаго взора отца двѣ слезы, невольно скатившiяся съ ея распухшихъ вѣкъ.
— Ахъ, батюшка, — прошептала она: — можетъ быть въ ту минуту, когда вы такъ отзываетесь о немъ, этотъ благородный человѣкъ умираетъ за васъ!
Старикъ сомнительно покачалъ головой.
— Я столь же мало вѣрю этому, какъ и желаю этого; впрочемъ, въ чемъ, въ сущности, моя вина? Я оказался бы неблагодарнымъ къ молодому человѣку, такъ точно, какъ множество другихъ были неблагодарны ко мнѣ.
Глубокій вздохъ былъ единственнымъ отвѣтомъ Этели; Шумахеръ, наклонившись къ столу, разсѣянно перевернулъ нѣсколько страницъ Жизнеописанія великихъ людей, Плутарха, томъ которыхъ уже изорванный во многихъ мѣстахъ и исписанный замѣчаніями, лежалъ передъ нимъ.
Минуту спустя послышался стукъ отворившейся двери, и Шумахеръ, не оборачиваясь, вскричалъ по обыкновенію:
— Не говорите! Оставьте меня въ покоѣ; я не хочу никого видѣть.
— Его превосходительство господинъ губернаторъ, — провозгласилъ тюремщикъ.
Дѣйствительно, старикъ въ генеральскомъ мундирѣ, со знаками ордена Слона, Даннеброга и Золотаго Руна на шеѣ, приблизился къ Шумахеру, который привсталъ, повторяя сквозь зубы:
— Губернаторъ! Губернаторъ!
Губернаторъ почтительно поклонился Этели, которая, стоя возлѣ отца, смотрѣла на него съ безпокойнымъ, тревожнымъ видомъ.
Прежде чѣмъ вести далѣе наш разсказъ, быть можетъ не лишне будетъ напомнить въ короткихъ словахъ причины, побудившія генерала Левина сдѣлать визитъ въ Мункгольмъ.
Читатель на забылъ непріятныхъ вѣстей, встревожившихъ стараго губернатора въ XX главѣ этой правдивой исторіи. Когда онъ получилъ ихъ, первое, что пришло ему на умъ — это необходимость немедленно допросить Шумахера; но лишь съ крайнимъ отвращеніемъ могъ онъ рѣшиться на этотъ шагъ. Его доброй, великодушной натурѣ противна была мысль потревожить злополучнаго узника, и безъ того уже обездоленнаго судьбою, котораго онъ видѣлъ на высотѣ могущества; противно было вывѣдывать сурово тайны несчастія, даже заслуженнаго.
Но долгъ службы передъ королемъ требовалъ того, онъ не имѣлъ права покинуть Дронтгеймъ, не увозя съ собой новыхъ свѣдѣній, которыя могъ доставить допросъ подозрѣваемаго виновника мятежа рудокоповъ. Вечеромъ наканунѣ своего отъѣзда, послѣ продолжительнаго конфиденціальнаго совѣщанія съ графинею Алефельдъ, губернаторъ рѣшился повидаться съ узникомъ. Когда онъ ѣхалъ въ замокъ, его подкрѣпляли въ этой рѣшимости мысли объ интересахъ государства, о выгодѣ, которую его многочисленные личные враги могутъ извлечь изъ того, что назовутъ его безпечностью, и быть можетъ о коварныхъ словахъ великой канцлерши.
Онъ вступалъ въ башню Шлезвигскаго Льва съ самыми суровыми намѣреніями; онъ обѣщалъ себѣ обойтись съ заговорщикомъ Шумахеромъ, какъ будто никогда не знавалъ канцлера Гриффенфельда, рѣшился забыть всѣ воспоминанія, перемѣнить на этотъ случай свой характеръ и съ строгостью неумолимаго судьи допросить своего стараго собрата по милостямъ и могуществу.
Но едва очутился онъ лицомъ къ лицу съ бывшимъ канцлеромъ, какъ былъ пораженъ его почтенной, хотя и угрюмой наружностью, тронутъ нѣжнымъ, хотя и гордымъ видомъ Этели. Первый взглядъ на обоихъ узниковъ уже на половину смягчилъ его строгость.
Приблизившись къ павшему министру, онъ невольно протянулъ ему руку, не примѣчая, что тотъ не отвѣчаетъ на его вѣжливость.
— Здравствуйте, графъ Гриффенф… — началъ онъ по старой привычкѣ, но тотчасъ же поправился: — господинъ Шумахеръ!..
Онъ замолчалъ, довольный и истощенный этимъ усиліемъ.
Воцарилась тишина. Генералъ пріискивалъ достаточно суровыя слова, чтобы достойно продолжать свое вступленіе.
— Ну-съ, — сказалъ наконецъ Шумахеръ: — такъ вы губернаторъ Дронтгеймскаго округа?
Генералъ, нѣсколько изумленный вопросомъ того, котораго самъ пришелъ допрашивать, утвердительно кивнулъ головой.
— Въ такомъ случаѣ, - продолжалъ узникъ: — у меня есть къ вамъ жалоба.
— Жалоба! Какая? На кого? — спросилъ благородный Левинъ, лицо котораго выразило живѣйшее участіе.
Шумахеръ продолжалъ съ досадой:
— Вице-король повелѣлъ, чтобы меня оставили на свободѣ и не тревожили въ этой башнѣ!..
— Мнѣ извѣстно это повелѣніе.
— А между тѣмъ, господинъ губернаторъ, нѣкоторые позволяютъ себѣ докучать мнѣ и входить въ мою темницу.
— Быть не можетъ! — вскричалъ генералъ: — Назовите мнѣ кто осмѣлился…
— Вы, господинъ губернаторъ.
Эти слова, произнесенныя надменнымъ тономъ, глубоко уязвили генерала, который отвѣчалъ почти раздражительно:
— Вы забываете, что коль скоро дѣло идетъ о долгѣ службы королю, власти моей нѣтъ границъ.
— Кромѣ уваженія къ чужому несчастію, — добавилъ Шумахеръ, — но людямъ оно незнакомо.
Бывшій великій канцлеръ сказалъ это какъ бы самому себѣ. Но губернаторъ слышалъ его замѣчаніе.
— Правда, правда! Я не правъ, графъ Гриффенфельдъ, — господинъ Шумахеръ, хочу я сказать; я долженъ предоставить вамъ гнѣваться, такъ какъ власть на моей стороне.
Шумахеръ молчалъ нѣсколько минутъ.
— Что-то въ вашемъ лицѣ и голосѣ, господинъ губернаторъ, — продолжалъ онъ задумчиво, — напоминаетъ мнѣ человѣка, котораго я когда-то зналъ. Давно это было; одинъ я помню это время моего могущества. Я говорю объ извѣстномъ мекленбуржцѣ Левинѣ Кнудѣ. Знали вы этого сумасброда?
— Зналъ, — отвѣтиль генералъ, не смутившись.
— А! Вы его помните. Я думалъ, что о людяхъ вспоминаютъ только въ несчастіи.
— Не былъ ли онъ капитаномъ королевской гвардіи? — спросилъ губернаторъ.
— Да, простымъ капитаномъ, хотя король очень любилъ его. Но онъ заботился только объ удовольствіяхъ и не имѣлъ и капли честолюбія. Вообще это былъ странный человѣкъ.
Кто въ состояніи понять такую непритязательность въ фаворитѣ.
— Тутъ нѣтъ ничего непонятнаго.
— Я любилъ этого Левина Кнуда, потому что онъ никогда не безпокоилъ меня. Онъ былъ друженъ съ королемъ, какъ съ обыкновеннымъ человѣкомъ, словомъ, любилъ его для своего личнаго удовольствія, а ничуть не для выгодъ.
Генералъ пытался перебить Шумахера; но тотъ упрямо продолжалъ, по духу ли противорѣчія, или же потому, что пробудившіяся въ немъ воспоминанія были дѣйствительно ему пріятны.
— Такъ какъ вы знаете этого капитана Левина, господинъ губернаторъ, вамъ, безъ сомнѣнія, извѣстно, что у него былъ сынъ, умершій еще въ молодости. Но помните ли вы что произошло въ день рожденія этого сына?
— Еще болѣе помню то, что произошло въ день его смерти, — сказалъ генералъ, дрогнувшимъ голосомъ и закрывая глаза рукою.
— Однако, — продолжалъ равнодушно Шумахеръ, — это обстоятельство извѣстно немногимъ и прекрасно рисуетъ вамъ всю причудливость этого Левина. Король пожелалъ быть воспріемникомъ дитяти при крещеніи; представьте себѣ, Левинъ отказался! Мало того, онъ избралъ въ крестные отцы своему сыну стараго нищаго, который шнырялъ у дворцовыхъ воротъ. Никогда не могъ я понять причины такого безумнаго поступка.
— Я могу вамъ объяснить, — сказалъ генералъ. — Избирая покровителя душѣ своего сына, этотъ капитанъ Левинъ полагалъ, безъ сомнѣнія, что у Бога бѣднякъ сильнѣе короля.
Шумахеръ послѣ минутнаго размышленія замѣтилъ:
— Ваша правда.
Губернаторъ пытался было еще разъ завести рѣчь по поводу своего посѣщенія, но Шумахеръ снова перебилъ его.
— Прошу васъ, если вы дѣйствительно знали этого мекленбуржца Левина, позвольте мнѣ поговорить о немъ. Изъ всѣхъ людей, съ которыми мнѣ приходилось имѣть дѣло во время моего могущества, это единственный человѣкъ, о которомъ я вспоминаю безъ отвращенія и омерзенія. Если даже причуды его граничили иной разъ съ сумасбродствомъ, все же немного сыщется людей съ такими благородными качествами.
— Ну, не думаю. Этотъ Левинъ ничѣмъ не отличался отъ прочихъ. Есть много личностей гораздо болѣе достойныхъ.
Шумахеръ скрестилъ руки и поднялъ глаза къ небу.
— Да, таковы они всѣ! Попробуй только похвалить передъ ними человѣка достойнаго, они тотчасъ же примутся его чернить. Они отравляютъ даже удовольствіе справедливой похвалы, къ тому же столь рѣдко представляющееся.
— Если бы вы знали меня, вы не стали бы утверждать, что я стараюсь очернить ген… то есть капитана Левина.
— Полноте, полноте, — продолжалъ узникъ, — вамъ никогда не найти двухъ человѣкъ столь-же правдивыхъ и великодушныхъ какъ этотъ Левинъ Кнудъ. Утверждать же противное значитъ клеветать на него и непомѣрно льстить этому гнусному человѣческому роду!
— Уверяю васъ, — возразилъ губернаторъ, стараясь смягчить гнѣвъ Шумахера, — я не питаю къ Левину Кнуду никакого недоброжелательства…
— Полноте. Какъ бы ни былъ онъ сумасброденъ, людямъ далеко до него. Они лживы, неблагодарны, завистливы, клеветники. Извѣстно ли вамъ, что Левинъ Кнудъ отдавалъ копенгагенскимъ госпиталямъ больше половины своего дохода?..
— Я не зналъ, что вамъ это извѣстно.
— А, вотъ оно что! — вскричалъ старикъ съ торжествующимъ видомъ. — Онъ надѣялся безнаказанно хулить человѣка, полагая, что мнѣ неизвѣстны добрыя дѣла этого бѣднаго Левина!
— Ничуть…
— Ужъ не думаете ли вы, что мнѣ также неизвѣстно, что онъ отдалъ полкъ, назначенный ему королемъ, офицеру, который ранилъ его на дуэли, его, Левина Кнуда, только потому, что, какъ онъ говорилъ, тотъ былъ старше его по службѣ?
— Дѣйствительно, до сихъ поръ я считалъ этотъ поступокъ тайной…
— Скажите пожалуйста, господинъ дронтгеймскій губернаторъ, развѣ отъ того онъ менѣе достоинъ похвалы? Если Левинъ скрывалъ свои добродѣтели, развѣ это даетъ вамъ право отрицать ихъ въ немъ? О! Какъ люди похожи одинъ на другого! Осмѣливаться равнять съ собою благороднаго Левина, Левина, который, не успѣвъ спасти отъ казни солдата, покушавшагося на его жизнь, положилъ пенсію вдовѣ своего убійцы!
— Да кто же не сдѣлалъ бы этого?
Шумахеръ вспыхнулъ.
— Кто? Вы! Я! Никто, господинъ губернаторъ! Ужъ не потому ли увѣрены вы въ своихъ заслугахъ, что носите этотъ блестящій генеральскій мундиръ и почетные знаки на груди? Вы генералъ, а бѣдный Левинъ такъ и умретъ капитаномъ. Правда, это былъ сумасбродъ, который не заботился о своихъ чинахъ.
— Если не самъ онъ, такъ за него позаботился милостивый король.
— Милостивый?! Скажите лучше справедливый! Если только такъ можно выразиться о королѣ. Ну-съ, какая же особенная награда была дарована ему?
— Его величество наградилъ Левина Кнуда выше его заслугъ.
— Скажите пожалуйста! — вскричалъ старый министръ, всплеснувъ руками. — Быть можетъ этотъ доблестный капитанъ былъ произведенъ за тридцатилѣтнюю службу въ маіоры, и эта высокая милость пугаетъ васъ, достойный генералъ? Справедливо гласитъ персидская пословица, что заходящее солнце завидуетъ восходящей лунѣ.
Шумахеръ пришелъ въ такое раздраженіе, что генералъ едва могъ выговорить эти слова:
— Если вы станете поминутно перебивать меня… вы не дадите мнѣ объяснить…
— Нѣтъ, нѣтъ, — продолжалъ Шумахеръ: — послушайте, господинъ губернаторъ, сначала я нашелъ въ васъ нѣкоторое сходство съ славнымъ Левинымъ, но ошибся! Нѣтъ ни малѣйшаго.
— Однако, выслушайте меня…
— Выслушать васъ! Вы скажете мнѣ, что Левинъ Кнудъ не былъ достоинъ какой нибудь нищенской награды…
— Клянусь вамъ, вовсе не о томъ…
— Или нѣтъ, — знаю я, что вы за люди — скорѣе вы станете увѣрять меня, что онъ былъ, какъ всѣ вы, плутоватъ, лицемѣренъ, золъ…
— Да нѣтъ же.
— Но кто знаетъ? Быть можетъ онъ, подобно вамъ, измѣнилъ другу, преслѣдовалъ благодѣтеля… отравилъ своего отца, убилъ мать?..
— Вы заблуждаетесь… я совсѣмъ не хочу…
— Извѣстно ли вамъ, что онъ уговорилъ вице-канцлера Винда, равно какъ Шеля, Виндинга и Лассона, троихъ изъ моихъ судей, не подавать голоса за смертную казнь? И вы хотите, чтобы я хладнокровно слушалъ какъ вы клевещете на него! Да, вотъ какъ поступилъ онъ со мною, хотя я дѣлалъ ему гораздо болѣе зла, чѣмъ добра. Вѣдь я подобенъ вамъ, такъ-же низокъ и золъ.
Необычайное волненіе испытывалъ благородный Левинъ въ продолженіе этого страннаго разговора. Будучи въ одно и то же время явно оскорбляемъ и искренно хвалимъ, онъ не зналъ, какъ ему отнестись къ столь грубой похвалѣ и столь лестной обидѣ. Оскорбленный и разстроганный, то хотѣлъ онъ сердиться, то хотѣлъ благодарить Шумахера. Не открывая своего имени, онъ съ восторгомъ слѣдилъ, какъ суровый Шумахеръ защищалъ его противъ него же самого, какъ отсутствующаго друга; одного лишь хотѣлось ему, чтобы защитникъ его влагалъ менѣе горечи и ѣдкости въ свой панегирикъ.
Однако внутренно, въ глубинѣ души, онъ болѣе восторгался бѣшеной похвалой капитана Левина, чѣмъ возмущенъ оскорбленіями, наносимыми Дронтгеймскому губернатору. Глядя съ участіемъ на павшаго временщика, онъ позволилъ ему излить его негодованіе и признательность.
Наконецъ Шумахеръ, истощенный долгими жалобами на человѣческую неблагодарность, упалъ въ кресло въ объятія трепещущей Этели, съ горечью промолвивъ:
— О, люди! Что сдѣлалъ я вамъ, что вы заставили меня познать васъ?
До сихъ поръ генералъ не имѣлъ еще случая приступить къ важной цѣли своего прибытія въ Мункгольмъ. Отвращеніе взволновать узника допросомъ вернулось къ нему съ новой силой; къ его страданію и участію присоединились еще двѣ серьезныя причины: взволнованное состояніе Шумахера не позволяло губернатору надѣяться, что онъ дастъ ему удовлетворительное разъясненіе вопроса, а съ другой стороны, вникнувъ въ сущность дѣла, прямодушный, довѣрчивый Левинъ не могъ допустить, чтобы подобный человѣкъ могъ оказаться заговорщикомъ.
А между тѣмъ, имѣлъ ли онъ право уѣхать изъ Дронтгейма, не допросивъ Шумахера? Эта непріятная необходимость, связанная съ званіемъ губернатора, еще разъ превозмогла его нерѣшительность, и онъ началъ, смягчивъ по возможности тонъ своего голоса.
— Прошу васъ нѣсколько успокоиться, графъ Шумахеръ….
Какъ бы по вдохновенію добродушный губернаторъ употребилъ этотъ титулъ, соединяющій въ себѣ дворянское достоинство съ простымъ именемъ, какъ бы для того, чтобы примирить уваженіе къ приговору, лишившему Шумахера всѣхъ почестей, съ уваженіемъ къ несчастію осужденнаго. Онъ продолжалъ:
— Тягостная обязанность принудила меня явиться….
— Прежде всего, — перебилъ его узникъ: — дозвольте мнѣ, господинъ губернаторъ, снова вернуться къ предмету, который интересуетъ меня гораздо болѣе того, что ваше превосходительство можете мнѣ сказать. Вы только-что увѣряли меня, что этотъ сумасбродъ Левинъ награжденъ былъ по заслугамъ. Мнѣ любопытно было бы знать — какимъ образомъ?
— Его величество, господинъ Гриффенфельдъ, произвелъ Левина въ генералы, и вотъ ужъ двадцать лѣтъ какъ этотъ сумасбродъ доживаетъ припѣваючи свой вѣкъ, почтенный этой высокой почестью и расположеніемъ своего монарха.
Шумахеръ потупилъ голову.
— Да, сумасбродъ Левинъ, который мало заботился о томъ, что состарится въ капитанахъ, умретъ генераломъ, а мудрый Шумахеръ, который разсчитывалъ умереть великимъ канцлеромъ, старится государственнымъ преступникомъ.
Говоря это, узникъ закрылъ лицо руками и изъ старой груди его вырвался глубокій вздохъ.
Этель, понимавшая въ разговорѣ только то, что печалило ея отца, попыталась его развлечь.
— Батюшка, посмотрите-ка: тамъ, на сѣверѣ, блеститъ огонекъ, котораго я до сихъ поръ ни разу не примѣчала.
Дѣйствительно, окружающій ночной мракъ позволялъ различить на горизонтѣ слабый отдаленный свѣтъ, который, казалось, находился на какой то далекой горной вершинѣ.
Но взоръ и мысли Шумахера не стремились безпрестанно къ сѣверу, какъ взоръ и мечты Этели. Онъ ничего не отвѣчалъ ей и только одинъ губернаторъ обратилъ вниманіе на слова молодой дѣвушки.
Быть можетъ, — подумалъ онъ, — это костеръ разведенный бунтовщиками.
Эта мысль снова напомнила ему цѣль его посѣщенія и онъ обратился къ узнику:
— Господинъ Гриффенфельдъ, мнѣ прискорбно безпокоить васъ; но вамъ необходимо подчиниться…
— Понимаю, господинъ губернаторъ, вамъ недостаточно того, что я томлюсь въ этой крѣпости, обезславленный, покинутый всѣми, что въ утѣшеніе остались мнѣ лишь горькія воспоминанія о бывшемъ величіи и могуществѣ, вамъ понадобилось еще нарушить мое уединеніе, чтобы растраивать мою рану и насладиться моими страданіями. Такъ какъ благородный Левинъ Кнудъ, котораго напомнили мнѣ черты вашего лица, такой же генералъ какъ и вы, я былъ бы счастливъ, если бы ему порученъ былъ занимаемый вами постъ. Клянусь вамъ, господинъ губернаторъ, онъ не рѣшился бы тревожить несчастнаго узника.
Въ продолженіе этого страннаго разговора, генералъ нѣсколько разъ намѣревался уже объявить свое имя, чтобы прервать его. Послѣдній косвенный упрекъ Шумахера отнялъ у него послѣдній остатокъ рѣшимости. До такой степени согласовался онъ съ внутренними убѣжденіями генерала, что послѣдній устыдился даже самого себя.
Тѣмъ не менѣе онъ пытался было отвѣтить на удручающее предположеніе Шумахера. Странное дѣло! Только по различію ихъ характеровъ, эти два человѣка взаимно помѣнялись мѣстами. Судья принужденъ былъ нѣкоторымъ образомъ оправдываться передъ обвиняемымъ.
— Но, — началъ генералъ: — если бы этого требовалъ долгъ службы, не сомнѣвайтесь, что и Левинъ Кнудъ…
— Сомнѣваюсь, достойный губернаторъ! — вскричалъ Шумахеръ: — не сомнѣвайтесь вы сами, чтобы онъ не отвергъ, съ своимъ великодушнымъ негодованіемъ, обязанность шпіонить и увеличивать мученія несчастнаго узника! Полноте, я васъ слушаю. Исполняйте то, что называете вы вашимъ долгомъ службы: что угодно отъ меня вашему превосходительству?
Старецъ съ гордымъ видомъ взглянулъ на губернатора, всѣ принятыя намѣренія котораго пошли прахомъ. Прежнее отвращеніе проснулось въ немъ, проснулось на этотъ разъ съ непреодолимой силой.
— Онъ правъ, — подумалъ губернаторъ: — рѣшиться тревожить несчастнаго изъ за пустаго подозрѣнія! Нѣтъ, пусть это поручатъ кому нибудь другому, а не мнѣ!
Быстро послѣдовалъ результатъ этихъ размышленій; онъ приблизился къ удивленному Шумахеру, пожалъ ему руку и, поспѣшно выходя изъ комнаты, сказалъ:
— Графъ Шумахеръ, сохраните навсегда уваженіе къ Левину Кнуду.
КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
XXV
Путешественникъ, который въ настоящее время захотѣлъ бы посѣтить покрытыя снѣгомъ горы, опоясывающія Сміазенское озеро подобно бѣлому поясу, не найдетъ и слѣда того, что норвержцы семнадцатаго столѣтія называли Арбарскими развалинами. Никогда не могли узнать въ точности, отъ какого человѣческаго сооруженія, отъ какого рода постройки произошли эти руины, если можно имъ дать это названіе.
Выйдя изъ лѣса, которымъ поросла южная сторона озера, миновавъ отлогость, усѣянную тамъ и сямъ обломками скалъ и башенъ, очутишься передъ отверстіемъ сводчатой формы, ведущимъ въ нѣдра горы. Это отверстіе, теперь совсѣмъ засыпанное обваломъ земли, служило входомъ въ родъ галлереи, высѣченной въ скалѣ и проникавшей насквозь черезъ всю гору.
Эта галлерея, слабо освѣщаемая черезъ коническія отдушины, продѣланныя въ нѣсколькихъ мѣстахъ въ сводѣ, примыкала къ продолговато-овальной залѣ, наполовину высѣченной въ скалѣ и оканчивающейся каменной циклопической постройкой. Въ глубокихъ нишахъ вокругъ залы виднѣлись гранитныя фигуры грубой работы. Нѣкоторые изъ этихъ таинственныхъ идоловъ, упавшіе съ своихъ пьедесталовъ, въ безпорядкѣ валялись на плитахъ среди прочихъ безформенныхъ обломковъ, заросшихъ травою и мохомъ, въ которомъ шныряли ящерицы, пауки и другія отвратительныя насѣкомыя, водящіяся на землѣ и въ развалинахъ.
Свѣтъ проникалъ сюда только черезъ дверь, противоположную входу въ галлерею. Дверь эта имѣла съ одной стороны стрѣльчатую форму, грубую, неопредѣленную, очевидно случайно приданную ей архитекторомъ. Хотя она начиналась отъ пола, ее скорѣе можно было назвать окномъ, такъ какъ она открывалась надъ глубокой пропастью; неизвѣстно куда могли вести три или четыре уступа, нависшіе надъ бездной снаружи и подъ описанной страшной дверью.
Зала эта представляла собой внутренность гигантской башни, которая издали, со стороны пропасти, казалось одной изъ горныхъ вершинъ. Башня эта высилась одиноко и, какъ было уже сказано, никто не зналъ, къ какому зданію она принадлежала. Только на верху ея, на площадкѣ, неприступной даже для самаго отважнаго охотника, виднѣлась масса, которую издали можно было принять или за покосившуюся скалу или за остатокъ колоссальной аркады. Вотъ эта-то башня и обрушившаяся аркада извѣстны были въ народѣ подъ названіемъ Арбарскихъ развалинъ. Относительно происхожденія такого названія знали не больше, какъ и относительно происхожденія этого монументальнаго сооруженія.
На камнѣ, лежащемъ посреди этой эллиптической залы, сидѣлъ малорослый человѣкъ, одѣтый въ звѣриныя шкуры, котораго мы уже нѣсколько разъ встрѣчали на страницахъ этого разсказа.
Онъ сидѣлъ спиною къ свѣту, или, вѣрнѣе сказать, къ неяснымъ сумеркамъ, проникавшимъ въ мрачную башню, когда солнце высоко стояло на горизонтѣ. При этомъ естественномъ освѣщеніи, которое никогда сильнѣе не освѣщало внутренности башни, невозможно было различить, надъ какимъ предметомъ нагнулся малорослый.
По временамъ слышались глухія стенанія, повидимому исходившія отъ этого предмета, судя по слабымъ движеніямъ, которыя онъ производилъ. По временамъ малорослый выпрямлялся, поднося къ губамъ своимъ чашу, по формѣ напоминавшую человѣческій черепъ, наполненную какой то дымящейся жидкостью, цвѣта которой невозможно было разобрать и которую онъ смаковалъ большими глотками.
Вдругъ онъ поспѣшно вскочилъ.
— Кажется, кто-то идетъ по галлереѣ; ужъ не канцлеръ ли это обоихъ королевствъ.
Эти слова сопровождались взрывомъ страшнаго хохота, перешедшаго въ дикое рычанье, въ отвѣтъ на которое вдругъ послышался изъ галлереи вой.
— А! — пробормоталъ обитатель Арбарскихъ развалинъ: — Если это и не человѣкъ, то все же врагъ: это волкъ.
Дѣйствительно, огромный волкъ появился подъ сводомъ галлереи, остановился на мгновеніе и затѣмъ на брюхѣ поползъ къ человѣку, устремивъ на него глаза, пылающіе какъ уголья въ темнотѣ. Малорослый глядѣлъ на него, не двигаясь съ мѣста и скрестивъ руки на груди.
— А! Сѣрый волкъ, самый старый волкъ Сміазенскихъ лѣсовъ. Здорово, волкъ; глаза твои разгорѣлись; ты проголодался и заслышалъ запахъ трупа. Скоро ты самъ станешь приманкой для голодныхъ волковъ. Добро пожаловать, сміазенскій волкъ; мнѣ давно ужъ хотѣлось помѣряться съ тобой силами. Говорятъ, что ты такъ старъ, что не можешь даже умереть. Ну, завтра этого не скажутъ.
Съ страшнымъ воемъ животное отскочило назадъ и затѣмъ однимъ прыжкомъ кинулось на малорослаго.
Тотъ не отступилъ ни на шагъ. Съ быстротою молніи сдавилъ онъ правой рукой брюхо волка, который, поднявшись на заднія лапы, передними уперся въ его плечи; а лѣвой защищалъ свое лицо отъ разверстой пасти врага, схвативъ его за горло съ такой силой, что животное, принужденное вытянуть голову, едва въ силахъ было испустить жалобный вой.
— Сміазенскій волкъ, — сказалъ малорослый съ торжествующимъ видомъ: — ты раздираешь мой плащъ, но его замѣнитъ твоя шкура.
Послѣ этого побѣдоноснаго крика, онъ пробормоталъ что-то на странномъ нарѣчіи и въ эту минуту конвульсивное усиліе задыхающагося волка заставило его споткнуться о камни, которыми усѣянъ былъ полъ. Оба упали и ревъ человѣка слился съ воемъ дикаго звѣря.
Принужденный при паденіи выпустить горло волка, малорослый чувствовалъ уже, что острые зубы впились въ его плечи, какъ вдругъ, катаясь по полу, схватившіеся враги наткнулись на огромную косматую бѣлую массу, лежавшую въ самомъ темномъ углу залы.
То былъ медвѣдь, съ ревомъ проснувшійся отъ крѣпкаго сна.
Лишь только это животное лѣниво раскрыло глаза и примѣтило борьбу, съ яростью устремилось оно не на человѣка, а на волка, бравшаго въ эту минуту перевѣсъ, свирѣпо схватило его пастью поперекъ тѣла и такимъ образомъ освободило его двуногаго противника.
Малорослый вмѣсто того, чтобы поблагодарить звѣря за такую серьезную услугу, поднялся съ пола весь въ крови и кинувшись на медвѣдя, нанесъ ему страшный ударъ ногой въ брюхо, какъ хозяинъ, наказывающій провинившуюся собаку.
— Фріендъ! Кто тебя звалъ? Зачѣмъ ты суешься? — яростно вскричалъ онъ, скрежеща зубами.
— Пошелъ прочь! — заревѣлъ онъ нечеловѣческимъ голосомъ.
Медвѣдь, получивъ ударъ ногой отъ человѣка и укушенный волкомъ, жалобно зарычалъ; повѣсивъ тяжелую голову, онъ выпустилъ изъ пасти голоднаго звѣря, который съ новымъ бѣшенствомъ накинулся на человѣка.
Между тѣмъ какъ борьба волка съ человѣкомъ снова возгорѣлась, прогнанный медвѣдь тяжело опустился на свое прежнее мѣсто и, равнодушно посматривая на разъярившихся враговъ, невозмутимо принялся поглаживать свою бѣлую морду поперемѣнно обѣими лапами.
Но въ ту минуту, когда старый сміазенскій волкъ снова бросился на малорослаго, тотъ быстро схватилъ окровавленную морду звѣря и съ неслыханной силой и ловкостью сдавилъ его пасть руками. Волкъ отбивался въ порывѣ ярости и боли; густая пѣна оросила его стиснутые зубы, глаза, какъ бы распухшіе отъ злобы, казалось, готовы были выскочить изъ орбитъ.
Изъ двухъ противниковъ тотъ, чьи кости дробились отъ острыхъ зубовъ, чье мясо яростно раздиралось когтями, былъ не человѣкъ, но свирѣпый звѣрь; тотъ же, чей ревъ отличался особенной дикостью и неистовствомъ, былъ не хищный звѣрь, но человѣкъ.
Наконецъ малорослый, собравъ всѣ свои силы, истощенныя продолжительнымъ сопротивленіемъ стараго волка, стиснулъ его морду обѣими руками съ такой силой, что кровь хлынула изъ ноздрей и пасти животнаго; пылающіе глаза его потухли и полузакрылись; онъ зашатался и бездыханный упалъ къ ногамъ своего побѣдителя. Только слабыя, продолжительныя движенія хвоста и конвульсивная дрожь, по временамъ пробѣгавшая по его членамъ, показывали, что жизнь еще не совсѣмъ покинула звѣря.
Но вотъ издыхающее животное скорчилось въ послѣднихъ судорогахъ и признаки жизни исчезли.
— Ты умеръ, волкъ! — произнесъ малорослый, презрительно толкнувъ его ногою: — И неужели ты разсчитывалъ еще пожить на бѣломъ свѣтѣ, встрѣтившись со мною? Ты не станешь болѣе неслышными шагами бѣгать по снѣгу, почуявъ запахъ и слѣдъ добычи; ты самъ теперь будешь достояніемъ волковъ и ястребовъ! Какъ много путешественниковъ, заблудившихся у Сміазенскаго озера, истребилъ ты на своемъ долгомъ вѣку, представляющемъ рядъ убійствъ и рѣзни; теперь ты самъ мертвъ и, къ сожалѣнію, не станешь болѣе пожирать людей!
Вооружившись острымъ камнемъ, онъ опустился на теплый и трепещущій еще трупъ волка, перерѣзалъ связки сочлененій, отдѣливъ голову отъ туловища, распоролъ шкуру на брюхѣ во всю длину, стянулъ ее, подобно тому, какъ снимаютъ одежду, и въ одно мгновеніе ока отъ страшнаго сміазенскаго волка остался лишь голый, окровавленный остовъ. Вывернувъ наружу голую мокрую сторону, испещренную длиннымя кровавыми венами, онъ накинулъ шкуру на свои истерзанныя волчьими зубами плечи.
— Поневолѣ, - проворчалъ онъ сквозь зубы, — завернешься въ звѣриную шкуру, когда человѣчья слишкомъ тонка, чтобы защитить отъ холода.
Между тѣмъ какъ онъ разсуждалъ такимъ образомъ съ собою, ставъ еще болѣе отвратительнымъ отъ своего отвратительнаго трофея, медвѣдь, очевидно соскучившись въ бездѣйствіи, крадучись приблизился къ находившемуся въ тѣни предмету, о которомъ мы упомянули въ началѣ главы, и вскорѣ изъ этого темнаго угла залы послышался стукъ зубовъ, прерываемый слабыми, болѣзненными стонами агоніи.
Малорослый обернулся.
— Фріендъ! — закричалъ онъ грознымъ голосомъ, — Ахъ! Подлый Фріендъ! Сюда!
Схвативъ огромный камень, онъ швырнулъ его въ голову чудовища, которое, оглушенное ударомъ, медленно удалилось отъ мѣста своего пиршества и, облизывая свои красныя губы съ тяжелымъ дыханьемъ улеглось у ногъ малорослаго, поднявъ къ небу свою огромную голову и изогнувъ спину, какъ бы прося извинить свою дерзость.
Тогда начался между двумя чудовищами — обитатель Арбарскихъ развалинъ вполнѣ заслуживалъ подобное названіе — выразительный обмѣнъ мыслей ворчаніемъ. Тонъ человѣческаго голоса выражалъ власть в гнѣвъ, тонъ медвѣжьяго былъ умоляющій и покорный.
— Возьми, — сказалъ наконецъ человѣкъ, указывая искривленнымъ пальцемъ на ободранный трупъ волка, — вотъ твоя добыча, и не смѣй трогать мою.
Обнюхавъ тѣло волка, медвѣдь опустилъ голову съ недовольнымъ видомъ и взглянулъ на своего повелителя.
— Понимаю, — проговорилъ, малорослый, — мертвечина тебѣ претитъ, а тотъ еще трепещетъ… Фріендъ, ты не меньше человѣка прихотливъ въ своихъ наслажденіяхъ; тебѣ хочется, чтобы пища твоя жила еще, когда ты ее раздираешь; тебѣ нравится ощущать какъ добыча умираетъ на твоихъ зубахъ; ты наслаждаешся только тѣмъ, что страдаетъ, и въ этомъ отношеніи мы сходимся съ тобой… Я вѣдь не человѣкъ, Фріендъ, я выше этого презрѣннаго отродья, я такой же хищный звѣрь какъ и ты… Мнѣ хотѣлось бы, чтобы ты могъ говорить, товарищъ Фріендъ, чтобы сказать мнѣ, подобно ли твое наслажденіе моему, — наслажденіе отъ котораго трепещетъ твое медвѣжье нутро, когда ты пожираешь внутренности человѣка; но нѣтъ, я не хочу, чтобы ты заговорилъ, я боюсь, чтобы твой голосъ не напомнилъ мнѣ человѣческій… Да, рычи у моихъ ногъ тѣмъ рыкомъ, отъ котораго содрогается пастухъ, заблудившійся въ горахъ; мнѣ нравится твой рыкъ какъ голосъ друга, такъ какъ онъ возвѣщаетъ недруга человѣку. Подними, Фріендъ, подними твою голову ко мнѣ; лижи мои руки языкомъ, который столько разъ упивался человѣческой кровью… У тебя такіе же бѣлые зубы, какъ мои, и не наша вина, если они не такъ красны, какъ свѣжая рана; но кровь смывается кровью… Сколько разъ изъ глубины мрачной пещеры видѣлъ я, какъ молодыя кольскія и оельмскія дѣвушки мыли голыя ноги въ водѣ потока, распѣвая нѣжнымъ голосомъ, но твою мохнатую морду, твой хриплый, наводящій ужасъ на человѣка ревъ предпочитаю я ихъ мелодичнымъ голосамъ и мягкимъ какъ атласъ членамъ.
Когда онъ это говорилъ, чудовище лизало его руку, катаясь на спинѣ у его ногъ и ласкаясь къ нему подобно болонкѣ, разыгравшейся на софѣ своей госпожи.
Особенно страннымъ казалось то разумное вниманіе, съ которымъ животное повидимому ловило слова своего хозяина. Причудливыя односложныя восклицанія, которыми пересыпалъ онъ свою рѣчь, очевидно тотчасъ же были понимаемы звѣремъ, который выражалъ свою понятливость, или быстро выпрямляя голову, или издавая горломъ глухое ворчанье.
— Люди говорятъ, что я избѣгаю ихъ, — продолжалъ малорослый, — между тѣмъ какъ на самомъ дѣлѣ они бѣгутъ при моемъ приближеніи; они дѣлаютъ со страху то, что дѣлаю я изъ ненависти… Ты вѣдь знаешь, Фріендъ, что я радъ повстрѣчать человѣка, когда проголодаюсь или когда меня томитъ жажда.
Вдругъ примѣтилъ онъ, что въ глубинѣ галлереи появился красноватый свѣтъ, постепенно усиливавшійся и слабо озарявшій старыя сѣрыя стѣны.
— Да вотъ одинъ изъ нихъ. Заговори объ адѣ, сатана тотчасъ же покажетъ свои рога… Ей! Фріендъ, — прибавилъ онъ, обращаясь къ медвѣдю: — вставай-ка!
Животное поспѣшно поднялось на ноги.
— Ну, слѣдуетъ наградить твое послушаніе, удовлетворивъ твой аппетитъ.
Съ этими словами человѣкъ нагнулся къ предмету, лежавшему на землѣ. Послышался хрустъ костей, разрубаемыхъ топоромъ; но къ нему не примѣшивалось ни вздоха, ни стона.
— Кажется, — пробормоталъ малорослый: — насъ только двое осталось въ живыхъ въ Арбарѣ… Возьми, другъ Фріендъ, докончи начатое тобой пиршество.
Онъ бросилъ къ наружной двери, которую мы описали читателю, то, что оторвалъ отъ предмета, валявшагося у его ногъ. Медвѣдь бросился къ своей добычѣ съ такой жадностью, что самый быстрый взоръ не успѣлъ бы примѣтить, что кинутый кусокъ имѣлъ форму человѣческой руки, покрытой зеленой матеріей мундира Мункгольмскихъ стрѣлковъ.
— Вотъ, сюда приближаются, — пробормоталъ малорослый, устремивъ взглядъ на усиливавшійся мало по малу свѣтъ: — товарищъ Фріендъ, оставь меня одного… Ну! скорѣе!
Чудовище, повинуясь приказанію, подошло къ двери и пятясь задомъ исчезло въ ней, съ довольнымъ рычаніемъ унося въ пасти свою отвратительную добычу.
Въ эту же минуту человѣкъ высокаго роста появился у входа въ галерею, въ мрачной глубинѣ которой все еще виднѣлся слабый отблескъ огня. Вновь прибывшій закутанъ былъ въ темный длинный плащъ и держалъ въ рукѣ потайной фонарь, яркій фокусъ котораго направилъ на лицо малорослаго обитателя Арбарскихъ развалинъ.
Тотъ, все сидя на камнѣ съ скрещенными на груди руками, вскричалъ:
— Не въ добрый часъ пришелъ ты сюда, привлеченный разсчетомъ, а не случайностью.
Незнакомецъ, ничего не отвѣчая, казалось, внимательно разсматривалъ своего собесѣдника.
— Смотри, смотри на меня, — продолжалъ малорослый, поднимая голову, — кто знаетъ, можетъ быть черезъ часъ ты ужѣ не въ состояніи будешь похвастаться, что меня видѣлъ.
Вновь прибывшій, обведя свѣтомъ фонаря всю фигуру говорившаго, повидимому былъ болѣе изумленъ, чѣмъ испуганъ.
— Ну, чему же ты удивляешься? — спросилъ малорослый съ хохотомъ, похожимъ на трескъ разбиваемаго черепа, — у меня такія же руки и ноги какъ у тебя, только члены мои не будутъ какъ твои добычей дикихъ кошекъ и воронъ.
Незнакомецъ отвѣтилъ наконецъ хотя увѣреннымъ, но тихимъ голосомъ, какъ бы опасаясь только, чтобы кто нибудь его не подслушалъ.
— Выслушай меня, я прихожу къ тебѣ не врагомъ, а другомъ…
Малорослый перебилъ его.
— Зачѣмъ же въ такомъ случаѣ ты сбросилъ съ себя человѣческій образъ?
— Я намѣренъ оказать тебѣ услугу, если только ты тотъ, кого я ищу…
— То есть ты намѣренъ воспользоваться моими услугами. Напрасный трудъ! Я оказываю услуги только тѣмъ, кому надоѣла жизнь.
— Изъ твоихъ словъ я вижу, что ты именно тотъ человѣкъ, котораго мнѣ нужно, — замѣтилъ незнакомецъ, — но меня смущаетъ твой ростъ… Ганъ Исландецъ великанъ, не можетъ быть, чтобы ты былъ Ганъ Исландецъ.
— Вотъ въ первый разъ еще сомнѣваются въ этомъ передо мною.
— Какъ! Такъ это ты!
Съ этимъ восклицаніемъ незнакомецъ приблизился къ малорослому.
— Но говорятъ, что Ганъ Исландецъ колоссальнаго роста?
— Придай славу мою къ росту и увидишь, что я выше Геклы.
— Неужели! Но пожалуйста отвѣчай толкомъ, точно-ли ты Ганъ, родомъ изъ Клипстадура въ Исландіи?
— Не словами отвѣчаю я на подобный вопросъ, — промолвилъ малорослый, поднимаясь съ своего сидѣнья, и взглядъ который онъ кинулъ на неблагоразумнаго незнакомца, заставилъ послѣдняго отступить шага на три.
— Пожалуйста, ограничься этимъ взглядомъ, — вскричалъ незнакомецъ почти умоляющимъ голосомъ и посматривая на порогъ галереи, какъ-бы раскаиваясь, что переступилъ его: — твои личныя выгоды привели меня сюда…
Войдя въ залу, вновь прибывшій, мелькомъ взглянувъ на малорослаго, могъ сохранить свое хладнокровіе; но когда обитатель Арбарскихъ развалинъ поднялся съ лицомъ тигра, съ мощными членами, окровавленными плечами, едва прикрытыми еще свѣжей шкурой, съ огромными руками, вооруженными когтями, и съ пылающимъ взоромъ, отважный незнакомецъ содрогнулся, подобно неосмотрительному путнику, который, полагая, что ласкаетъ угря, вдругъ почувствуетъ жало змѣи.
— Мои выгоды? — повторило чудовище: — ужъ не пришолъ-ли ты сообщить мнѣ, что можно отравить какой-нибудь источникъ, сжечь какую-нибудь деревню или перерѣзать горло какому-нибудь мункгольмскому стрѣлку?..
— Можетъ быть. Выслушай меня. Норвежскіе рудокопы взбунтовались, а тебѣ извѣстно какими бѣдствіями сопровождается каждое возмущеніе…
— Да, убійствомъ, насиліемъ, святотатствомъ, пожаромъ, грабежомъ.
— Все это я предлагаю тебѣ.
Малорослый расхохотался.
— Нуждаюсь я въ твоемъ предложеніи!
Свирѣпая насмѣшка, звучавшая въ этихъ словахъ, заставила снова содрогнуться незнакомца. Однако онъ продолжалъ:
— Отъ имени рудокоповъ я предлагаю тебѣ стать во главѣ возмущенія.
Одну минуту малорослый хранилъ молчаніе. Вдругъ на мрачной физіономіи его появилось выраженіе адской злобы.
— Такъ ты отъ ихъ имени предлагаешь мнѣ? — спросилъ онъ.
Этотъ вопросъ, повидимому, смутилъ вновь прибышаго; но онъ успокоился, будучи увѣренъ, что остался неузнаннымъ своимъ страшнымъ собесѣдникомъ.
— Для чего же взбунтовались рудокопы? — спросилъ послѣдній.
— Чтобы освободиться отъ тягости королевской опеки.
— Только для того? — спросилъ малорослый тѣмъ-же насмѣшливымъ тономъ.
— Они хотятъ также освободить мункгольмскаго узника.
— Такъ это единственная цѣль возстанія? — повторилъ малорослый тѣмъ-же тономъ, приводившимъ въ смущеніе незнакомца.
— Я не знаю другой, — пробормоталъ онъ.
— А! Ты не знаешь другой!
Эти слова произнесены были тѣмъ же ироническимъ тономъ. Незнакомецъ, чтобы скрыть смущеніе, вызванное ими, поспѣшно вытащилъ изъ подъ плаща тяжелый кошелекъ, который кинулъ къ ногамъ чудовища.
— Вотъ плата за твое предводительство.
Малорослый оттолкнулъ кошель ногою.
— Не надо. Неужто ты думаешь, что если бы мнѣ понадобилось твое золото или кровь, я сталъ бы дожидаться твоего позволенія.
Незнакомецъ отступилъ съ жестомъ удивленія и почти ужаса.
— Этотъ подарокъ королевскіе рудокопы поручили мнѣ передать тебѣ…
— Не надо, еще разъ говорю тебѣ. На что мнѣ золото? Люди охотно продаютъ свою душу, но никогда — жизнь. Ее надо брать силою.
— Такъ я передамъ предводителямъ рудокоповъ, что грозный Ганъ Исландецъ не хочетъ принять начальство надъ ними?…
— Не приму.
Эти слова, произнесенныя отрывистымъ тономъ, повидимому, непріятно поразили мнимаго посланца возмутившихся рудокоповъ.
— Такъ не примешь? — спросилъ онъ.
— Нѣтъ! — отвѣтилъ малорослый.
— Ты отказываешься принять участіе въ мятежѣ, который принесетъ тебѣ столько выгодъ!
— Я предпочитаю одинъ грабить фермы, опустошать деревни, убивать крестьянъ и солдатъ.
— Но подумай, что, принявъ предложеніе рудокоповъ, ты можешь быть увѣренъ въ своей безнаказанности.
— Что же, все именемъ рудокоповъ обѣщаешь ты мнѣ безнаказанность? — спросилъ смѣясь малорослый.
— Не скрою отъ тебя, — отвѣчалъ незнакомецъ съ таинственнымъ видомъ: — что обѣщаю это отъ имени могущественнаго лица, заинтересованнаго въ возстаніи.
— Да само это могущественное лицо, увѣрено ли оно, что его не вздернутъ на висѣлицу?
— Если бы ты зналъ его, ты не сталъ бы такъ недовѣрчиво качать головой.
— А! Въ самомъ дѣлѣ! Кто же это такой?
— Я не имѣю права открыть его имя.
Малорослый приблизился и хлопнулъ по плечу незнакомца все съ тѣмъ же сардоническимъ смѣхомъ.
— Хочешь, я назову тебѣ его?
Движеніе испуга и уязвленной гордости вырвалось у человѣка въ плащѣ. Онъ не ожидалъ такого грубаго вызова и дикой фамильярности чудовища.
— Ты смѣшонъ, — продолжалъ малорослый: — не подозрѣвая, что я знаю все. Это могущественное лицо — великій канцлеръ Даніи и Норвегіи, а великій канцлеръ Даніи и Норвегіи — ты.
Въ самомъ дѣлѣ, это былъ графъ Алефельдъ. Прибывъ къ Арбарскимъ развалинамъ, на пути къ которымъ мы оставили его съ Мусдемономъ, онъ захотѣлъ самъ лично склонить на свою сторону разбойника, совсѣмъ не подозрѣвая, что тотъ его зналъ и ждалъ. Никогда въ послѣдствіи графъ Алефельдъ, при всемъ своемъ лукавствѣ и могуществѣ, не могъ открыть, какимъ образомъ Ганъ Исландецъ пріобрѣлъ эти свѣдѣнія. Была ли тутъ измѣна Мусдемона? Положимъ, что именно Мусдемонъ внушалъ благородному графу мысль лично повидаться съ разбойникомъ; но какую выгоду могъ онъ извлечь изъ такого вѣроломства? Не нашелъ ли самъ разбойникъ у какой нибудь изъ своихъ жертвъ бумаги, относящіяся къ предпріятію, задуманному великимъ канцлеромъ? Но кромѣ Мусдемона, Фредерикъ Алефельдъ былъ единственное живое существо, которому извѣстны были планы канцлера, и, при всей его легкомысленности, онъ не былъ на столько безуменъ, чтобы выдать подобную тайну. Къ тому же онъ находился въ Мункгольмскомъ гарнизонѣ, по крайней мѣрѣ такъ думалъ великій канцлеръ. Тотъ, кто прочтетъ до конца описываемую сцену, хотя подобно графу Алефельду не рѣшитъ этой проблемы, тѣмъ не менѣе убѣдится насколько достовѣрно было послѣднее предположеніе.
Однимъ изъ выдающихся качествъ графа Алефедьда было присутствіе духа. Услышавъ свое имя, столь грубо произнесенное малорослымъ, онъ не въ силахъ былъ подавить крикъ удивленія, но въ одно мгновеніе ока на его блѣдномъ, надменномъ лицѣ выраженіе испуга и удивленія смѣнилось спокойствіемъ и твердостью.
— Ну да! — сказалъ онъ: — Я буду съ тобой откровененъ; я дѣйствительно великій канцлеръ. Но будь же и ты откровененъ со мною…
Взрывъ хохота малорослаго прервалъ его рѣчь.
— Развѣ надо было упрашивать меня открыть тебѣ мое и твое имя?
— Скажи мнѣ по правдѣ, почему ты узналъ меня?
— Развѣ тебѣ никто не говорилъ, что Ганъ Исландецъ видит даже сквозь горы?
Графъ хотѣлъ настоять на своемъ.
— Считай меня своимъ другомъ…
— Твою руку, графъ Алефельдъ! — грубо вскричалъ малорослый.
Взглянувъ въ лицо министру, онъ продолжалъ:
— Если-бы наши души оставили въ эту минуту наши тѣла, мнѣ сдается, — самъ дьяволъ призадумался-бы, которая изъ нихъ принадлежитъ чудовищу.
Надменный вельможа закусилъ губы, но, колеблясь между страхомъ къ разбойнику и необходимостью сдѣлать изъ него послушное орудіе своихъ плановъ, онъ не высказалъ своего отвращенія.
— Не пренебрегай твоими выгодами. Стань во главѣ возстанія и будь увѣренъ въ моей признательности.
— Канцлеръ Норвегіи! Ты увѣренъ въ успѣхѣ твоего предпріятія подобно старой бабѣ, мечтающей о платьѣ, которое она соткетъ изъ ворованной пеньки, — а между тѣмъ кошка своими когтями перепутаетъ всю пряжу.
— Еще разъ говорю тебѣ, обдумай, прежде чѣмъ отвергать мое предложеніе.
— Еще разъ я, разбойникъ, говорю тебѣ, великому канцлеру обоихъ королевствъ, нѣтъ.
— Я ждалъ другого отвѣта послѣ важной услуги, которую ты уже оказалъ мнѣ.
— Какой услуги? — спросилъ разбойникъ.
— Развѣ не тобой убитъ капитанъ Диспольсенъ? — отвѣтилъ канцлеръ.
— Весьма возможно, графъ Алефельдъ. Я не знаю его. Что это за человѣкъ?
— Какъ! Развѣ въ твои руки не попалъ случайно желѣзный ящикъ, который былъ при немъ?
Этотъ вопросъ, повидимому, привлекъ вниманіе разбойника.
— Постой, — сказалъ онъ: — я дѣйствительно припоминаю человѣка и желѣзный ящикъ. Дѣло было на Урхтальскихъ берегахъ.
— Въ крайнемъ случаѣ, - продолжалъ канцлеръ:- если ты отдашь мнѣ этотъ ящикъ, признательность моя будетъ безгранична. Скажи мнѣ, что сталось съ этимъ ящикомъ, который должно быть не миновалъ твоихъ рукъ?
Высокородный министръ съ такой живостью настаивалъ на этомъ вопросѣ, что разбойникъ, повидимому, изумился.
— Надо думать, что этотъ желѣзный ящикъ имѣетъ громадную важность для твоей милости, канцлеръ Норвегіи?
— Да.
— Чѣмъ наградишь ты меня, если я скажу тебѣ, гдѣ его найти?
— Всѣмъ, что только ты захочешь, любезный Ганъ Исландецъ.
— Ну! Такъ я тебѣ не скажу.
— Полно, ты шутишь! Подумай, какую услугу окажешь ты мнѣ.
— Именно объ этомъ я и думаю.
— Обѣщаю тебѣ громадное богатство, выпрошу тебѣ прощеніе у короля.
— Попроси лучше себѣ! — сказалъ разбойникъ. — Слушайже, великій канцлеръ Даніи и Норвегіи: тигры не истребляютъ гіенъ. Я намѣренъ выпустить тебя отсюда живымъ, потому что ты злодѣй и каждое мгновеніе твоей жизни, каждая мысль, родившаяся въ твоемъ умѣ, влекутъ за собою несчастіе людямъ и новое преступленіе для тебя. Но не возвращайся сюда болѣе, предупреждаю тебя: моя ненависть не щадитъ никого, даже изверга. Что-же касается твоего капитана, не льсти себя мыслью, что я убилъ его для тебя. Мундиръ погубилъ его, подобно вотъ этому презрѣнному, котораго я умертвилъ тоже не въ угоду тебѣ.
Съ этими словами онъ схватилъ благороднаго графа за руку и подвелъ его къ трупу, лежавшему въ тѣни. Въ ту минуту, когда онъ замолчалъ, свѣтъ потайнаго фонаря упалъ на этотъ предметъ, который на самомъ дѣлѣ оказался изуродованнымъ трупомъ въ офицерскомъ мундирѣ мункгольмскихъ стрѣлковъ.
Канцлеръ приблизился къ нему съ содроганіемъ ужаса и вдругъ взоръ его упалъ на блѣдное окровавленное лицо мертвеца. Раскрытыя посинѣлыя губы, всклокоченные волосы, багровыя щеки, потухшіе глаза, все это не помѣшало ему узнать покойника. Страшный крикъ вырвался изъ груди графа:
— Боже мой! Фредерикъ! Сынъ мой!
Нельзя сомнѣваться, что сердца, повидимому самыя черствыя, самыя загрубѣлыя, всегда таятъ въ изгибахъ своихъ нѣкоторую чувствительность, невѣдомую имъ самимъ, которая, какъ таинственный свидѣтель и будущій мститель, кажется скрытой въ страстяхъ и порокахъ. Она хранится тамъ какъ-бы для того, чтобы со временемъ наказать преступника. Молчаливо ждетъ она своего часа. Нечестивецъ носитъ ее въ своей груди, не ощущая ея присутствія, такъ какъ обыкновенныя огорченія не въ силахъ пробить толстой коры эгоизма и злобы, которая ее окружаетъ.
Но когда рѣдкое истинное горе жизни внезапно поразитъ человѣка, оно, подобно кинжалу, погружается въ глубину души. Тогда просыпается въ несчастномъ злодѣѣ невѣдомая дотолѣ чувствительность, тѣмъ болѣе жестокая, чѣмъ долѣе она скрывалась, тѣмъ болѣе мучительная, чѣмъ менѣе давала она знать о себѣ прежде. Истинное горе глубоко запускаетъ жало свое въ сердце, чтобы нанести ему тяжелую рану.
Натура просыпается и сбрасываетъ съ себя оковы, она повергаетъ несчастнаго въ безысходное отчаяніе, причиняетъ ему невыносимыя мученія. Онъ изнемогаетъ подъ тяжестью страданій, надъ которыми такъ долго издѣвался. Самыя противоположныя мученія раздираютъ сразу его сердце, которое, какъ бы охваченное мрачнымъ оцѣпенѣніемъ, становится добычею страшныхъ пытокъ. Кажется, будто адъ вселяется въ человѣческую жизнь, внося въ нее нѣчто хуже отчаянія.
Графъ Алефельдъ, самъ того не зная, любилъ своего сына, такъ какъ ему неизвѣстна была измѣна жены. Фредерикъ, прямой наслѣдникъ его имени, по мнѣнію графа, вполнѣ заслуживалъ этотъ титулъ. Полагая, что онъ не оставлялъ Мункгольма, какъ далекъ былъ графъ Алефельдъ отъ мысли найти его въ Арбарскихъ развалинахъ, найти мертвымъ! А между тѣмъ, онъ былъ тутъ, окровавленный, безъ признака жизни; нельзя было усомниться, что это не онъ.
Можно представить себѣ, что творилось въ душѣ графа, когда, одновременно съ увѣренностью въ потерѣ сына, возникло въ ней сознаніе, что онъ любилъ его. Всѣ ощущенія, слабо изображенныя на этихъ страницахъ, охватили его сердце подобно громовому удару. Сразу пораженный удивленіемъ, испугомъ и отчаяніемъ, онъ отшатнулся, ломая руки и повторяя жалобнымъ голосом:
— Сынъ мой! Сынъ мой!
Разбойникъ захохоталъ. Трудно представить себѣ что нибудь ужаснѣе смѣха, слившагося съ рыданіями отца надъ трупомъ сына.
— Клянусь предкомъ моимъ Ингольфомъ! Кричи сколько душѣ угодно, графъ Алефельдъ, ты его не разбудишь!
Вдругъ его свирѣпое лицо омрачилось, глухимъ голосомъ онъ продолжалъ:
— Оплакивай твоего сына, я мщу за моего.
Въ эту минуту послышался шумъ поспѣшныхъ шаговъ въ галлереѣ. Ганъ Исландецъ съ удивленіемъ оглянулся назадъ и увидалъ четырехъ рослыхъ людей, ворвавшихся въ залу съ саблями наголо; пятый, приземистый толстякъ, слѣдовалъ за ними, держа въ одной рукѣ факелъ, въ другой шпагу. Онъ былъ закутанъ въ такой же темный плащъ какъ и великій канцлеръ.
— Ваше сіятельство, — произнесъ онъ, — мы слышали ваши крики и поспѣшили къ вамъ на помощь.
Читатель, безъ сомнѣнія, узналъ уже Мусдемона и четырехъ вооруженныхъ лакеевъ, составлявшихъ свиту графа.
Когда яркое пламя факела освѣтило внутренность залы, вновь прибывшіе остолбенѣли, пораженные ужасомъ при страшномъ зрѣлищѣ, представившемся ихъ взору. Съ одной стороны валялся окровавленный остовъ волка; съ другой — обезображенный трупъ молодаго офицера; далѣе его отецъ съ изступленнымъ взоромъ, испускавшій дикіе вопли, а передъ нимъ грозный разбойникъ, обратившій къ нападающимъ свое отвратительное лицо, выражавшее удивленіе, но безъ малѣйшаго признака страха.
При видѣ неожиданной помощи, мысль о мщеніи мелькнула въ головѣ графа и привела его отъ отчаянія къ ярости.
— Смерть разбойнику! — вскричалъ онъ, обнажая свою шпагу. — Онъ убилъ моего сына!.. Смерть ему! Смерть!
— Онъ убилъ господина Фредерика? — сказалъ Мусдемонъ, но свѣтъ факела, который онъ держалъ въ рукѣ, не показалъ ни малѣйшаго волненія на лицѣ его.
— Смерть! Смерть! — повторялъ графъ въ изступленіи.
Всѣ шестеро бросились на разбойника. Изумленный быстрымъ нападеніемъ, онъ отступилъ къ отверстію, выходившему надъ пропастью, съ свирѣпымъ ревомъ, выражавшимъ скорѣе ярость, чѣмъ испугъ.
Шесть шпагъ были направлены противъ него, но взоры его сверкали ярче, черты лица имѣли болѣе угрожающее выраженіе, чѣмъ у нападающихъ. Онъ схватилъ свой каменный топоръ и, принужденный численностью противниковъ ограничиться лишь обороной, сталъ вертѣть имъ съ такой быстротой, что кругъ вращенія топора служилъ ему какъ бы щитомъ. Тысячи искръ отскакивали съ звономъ отъ острія шпагъ, ударявшихся о лезвіе топора; но ни одинъ клинокъ не коснулся тѣла разбойника. Однако, утомленный предшествовавшей борьбой съ волкомъ, онъ мало по малу отступалъ назадъ и вскорѣ увидѣлъ себя припертымъ къ двери, открывавшейся надъ пропастью.
— Друзья, — вскричалъ графъ, — смѣлѣе! Сбросимъ въ пропасть чудовище!
— Скорѣе звѣзды упадутъ туда съ неба! — возразилъ разбойникъ.
Между тѣмъ нападающіе удвоили пылъ и отвагу, примѣтивъ, что малорослый принужденъ былъ спуститься на первую ступень, нависшую надъ бездной.
— Ну, толкайте! — кричалъ великій канцлеръ, — Еще одно усиліе и онъ полетитъ въ бездну! Злодѣй! Ты совершилъ свое послѣднее преступленіе. Смѣлѣе, товарищи, смѣлѣе!
Не отвѣчая ни слова, разбойникъ правой рукой продолжалъ размахивать своимъ страшнымъ топоромъ, лѣвой же схватилъ рогъ, висѣвшій у пояса и, поднеся къ губамъ, извлекъ изъ него нѣсколько хриплыхъ протяжныхъ звуковъ. Тотчасъ же въ отвѣтъ на нихъ изъ пропасти послышалось рычанье.
Нѣсколько мгновеній спустя, въ ту минуту, когда графъ и его клевреты, все наступая на малорослаго, принудили его спуститься на вторую ступень, на закраинѣ отверстія появилась вдругъ огромная голова бѣлаго медвѣдя. Пораженные удивленіемъ, смѣшаннымъ съ ужасомъ, наступаюшіе отшатнулись отъ двери.
Медвѣдь тяжело взобрался по ступенямъ лѣстницы, раскрывъ окровавленную пасть и оскаливъ острые зубы.
— Спасибо, мой храбрый Фріендъ! — вскричалъ разбойникъ.
Воспользовавшись изумленіемъ противниковъ, онъ бросился на спину звѣря, который сталъ спускаться, пятясь задомъ и обративъ свою угрожающую пасть къ врагамъ своего хозяина.
Вскорѣ опомнившись отъ изумленія, они увидали медвѣдя, который уносилъ отъ нихъ разбойника, спускаясь въ пропасть такъ же какъ и вылѣзъ изъ нея, то есть цѣпляясь за старые стволы деревъ и выступы скалъ. Они хотѣли было сбросить на него каменную глыбу, но прежде чѣмъ успѣли сдвинуть съ мѣста древній кусокъ гранита, лежавшій тамъ споконъ вѣку, разбойникъ и его чудный конь исчезли въ пещерѣ.
XXVI
Да, глубокій смыслъ часто таится въ томъ, что люди называютъ случайностью. Какой-то таинственный перстъ какъ бы указываетъ событіямъ ихъ путь и цѣль. Мы жалуемся на капризы фортуны, на причуды судьбы, какъ вдругъ изъ этого хаоса блеснетъ или страшная молнія, или свѣтлый лучъ, — и мудрость человѣческая смиряется передъ высокими поученіями рока.
Если бы, напримѣръ, когда Фредерикъ Алефельдъ рисовался въ пышномъ салонѣ передъ взорами копенгагенскихъ красавицъ великолѣпіемъ своего костюма, тщеславился своимъ чиномъ и самонадѣянностью своихъ сужденій; если кто-нибудь одаренный даромъ провидѣнія явился бы тогда смутить его легкомысленный умъ грознымъ предвѣщаніемъ, сказалъ бы ему, что этотъ блестящій мундиръ, составлявшій всю его гордость, послужитъ нѣкогда къ его гибели, что чудовище во образѣ человѣческомъ станетъ упиваться его кровью подобно тому какъ онъ самъ — безпечный сластолюбецъ — упивается французскими и богемскими винами; что волосы его, для которыхъ онъ не могъ наготовиться всевозможныхъ благовонныхъ эссенцій и духовъ, будутъ волочиться въ пыли пещеры дикихъ звѣрей; что рука, на которую съ такой граціей опирались красавицы Шарлоттенбурга, будетъ брошена медвѣдю какъ полуобглоданная кость дикой козы, — чѣмъ отвѣтилъ бы Фредерикъ на эти мрачныя предсказанія? Взрывомъ громкаго хохота и пируетомъ; а что еще ужаснѣе, — всѣ благоразумные люди одобрили бы эту безумную выходку.
Но вникнемъ еще глубже въ его судьбу. — Не видимъ ли мы таинственной странности въ томъ, что преступленіе графа и графини Алефельдъ пало наказаніемъ на ихъ же голову? Они составили позорный заговоръ противъ дочери узника; случай доставилъ этой несчастной покровителя, который счелъ необходимымъ удалить ихъ сына, исполнителя ихъ гнуснаго умысла. Этотъ сынъ, ихъ единственная надежда, усланъ далеко отъ мѣста своихъ позорныхъ злоумышленій и едва успѣлъ прибыть къ мѣсту своего новаго назначенія, какъ становится жертвою другого случая-мстителя. Такимъ образомъ, желая обезславить невинную беззащитную молодую дѣвушку, они сами толкнули преступнаго, но дорогаго ихъ сердцу, сына въ могилу. По собственной винѣ эти презрѣнные накликали на себя несчастіе.
XXVII
Рано утромъ, на другой день послѣ визита въ Мункгольмскій замокъ, Дронтгеймскій губернаторъ приказалъ заложить дорожную карету, разсчитывая уѣхать въ то время, когда графиня Алефельдъ еще спитъ; однако, мы имѣли уже случай замѣтить, что сонъ ея былъ самый чуткій.
Генералъ подписалъ послѣднія распоряженія епископу, въ руки котораго временно переходила его власть, и надѣвъ подбитый мѣхомъ рединготъ, хотѣлъ уже выйти изъ кабинета, какъ вдругъ лакей доложилъ о прибытіи высокородной канцлерши.
Эта помѣха привела въ страшное смущеніе стараго солдата, привыкшаго смѣяться подъ градомъ картечи сотни пушекъ, но пасовавшаго передъ женскимъ лукавствомъ. Тѣмъ не менѣе онъ довольно развязно раскланился съ коварной графиней и только тогда досада изобразилась на лицѣ его, когда она наклонилась къ его уху съ хитрымъ видомъ, замаскированнымъ напускной таинственностью:
— Ну-съ, достойный генералъ, что онъ сказалъ вамъ?
— Кто? Поэль? Онъ сказалъ, что карета будетъ сейчасъ готова…
— Генералъ, я говорю о мункгольмскомъ узникѣ.
— А!..
— Далъ онъ вамъ удовлетворительныя объясненія на ваши вопросы?
— Но… само собою разумѣется, графиня, — отвѣчалъ губернаторъ съ замѣшательствомъ.
— Есть у васъ доказательства, что онъ замѣшанъ въ бунтѣ рудокоповъ?
Левинъ Кнудъ не могъ удержаться отъ восклицанія.
— Сударыня, онъ невиненъ.
Генералъ замолчалъ, чувствуя, что выразилъ убѣжденіе сердца, а не разсудка.
— Онъ невиненъ! — повторила графиня съ изумленнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ недовѣрчивымъ видомъ.
Она опасалась, что Шумахеръ дѣйствительно доказалъ генералу свою невинность, которую въ интересахъ великаго канцлера необходимо было во что бы то ни стало очернить.
Поразмысливъ, губернаторъ отвѣтилъ настойчиво канцлершѣ сомнительнымъ, смущеннымъ тономъ, вполнѣ успокоившимъ ея опасенія:
— Невиненъ… да, если вамъ угодно…
— Если мнѣ угодно, генералъ!
Коварная женщина расхохоталась и этотъ смѣхъ уязвилъ губернатора до глубины души.
— Сударыня, — сказалъ онъ сухимъ тономъ: — позвольте мнѣ одному лишь вице-королю дать отчетъ въ моемъ объясненiи съ бывшимъ великимъ канцлеромъ.
Съ глубокимъ поклономъ онъ поспѣшилъ спуститься на дворъ, гдѣ уже ждала его карета.
— Уѣзжай, странствующій рыцарь, — подумала графиня Алефельдъ, входя въ свои покои: — твой отъѣздъ отнимаетъ защитника у нашихъ враговъ и послужитъ сигналомъ къ возвращенію моего Фредерика. Слыханное ли дѣло, осмѣлиться услать въ эти ужасныя горы самаго элегантнаго копенгагенскаго кавалера! Къ счастію, теперь не трудно будетъ вернуть его сюда.
Размышляя о сынѣ, она обратилась къ своей довѣренной служанкѣ:
— Милая Лизбета, пришли изъ Бергена двѣ дюжины тѣхъ маленькихъ гребенокъ, которыя щеголи носятъ теперь въ волосахъ; справься о новомъ романѣ знаменитой Скюдери и позаботься, чтобы непремѣнно каждое утро мыли въ розовой водѣ обезьяну моего дорогаго Фредерика.
— Какъ! Сударыня, — спросила Лизбета: — развѣ господинъ Фредерикъ вернется?
— Конечно; и чтобы устроить ему пріятную встрѣчу, надо исполнить его просьбы. Я хочу сдѣлать ему сюрпризъ, когда онъ вернется.
Бѣдная мать!
XXVIII
Орденеръ, спустившись съ башни, откуда смотрѣлъ на Мункгольмскій маякъ, долго искалъ повсюду своего злополучнаго проводника, Бенигнуса Спіагудри. Долго звалъ онъ его, но отвѣчало ему только эхо окрестныхъ развалинъ.
Удивленный, но не испуганный такимъ непонятнымъ исчезновеніемъ, онъ приписалъ его паническому ужасу, обуявшему трусливаго смотрителя Спладгеста, и великодушно упрекая себя за то, что оставилъ его одного на нѣсколько минутъ, рѣшился провести ночь на Оельмскомъ утесѣ и обождать его возвращенія. Подкрѣпивъ себя пищей и завернувшись въ плащъ, онъ улегся близъ потухающаго костра, цѣлуя локонъ волосъ Этели, и вскорѣ крѣпко заснулъ. И съ тревожнымъ сердцемъ можно спать, когда совѣсть чиста.
Съ восходомъ солнца онъ былъ уже на ногахъ, но отъ Спіагудри нашелъ только котомку и плащъ, забытые имъ въ башнѣ и указывавшіе, съ какой поспѣшностью рѣшился онъ на побѣгъ. Потерявъ всякую надежду встрѣтиться съ нимъ по крайней мѣрѣ на Оельмскомъ утесѣ, Орденеръ рѣшился отправиться въ дальнѣйшій путь безъ проводника, тѣмъ болѣе, что на слѣдующій день долженъ былъ застать Гана Исландца въ Вальдергогской пещерѣ.
Изъ первыхъ главъ этого разсказа можно было понять что Орденеръ съ давнихъ поръ уже привыкъ къ утомительной скитальческой жизни искателя приключеній. Нѣсколько разъ уже посѣтивъ сѣверныя провинціи Норвегіи, онъ не нуждался въ проводникѣ особенно теперь, когда зналъ, гдѣ найти разбойника. Одиноко направился онъ къ сѣверо-западу, ощущая отсутствіе Бенигнуса Спіагудри, который сказалъ бы ему, сколько кварца или шпата содержатъ тѣ или другіе холмы, какое преданіе сохранилось о каждой развалинѣ, объяснилъ бы ему, отчего произошелъ тотъ или другой разрывъ въ почвѣ, отъ наводненія ли, или отъ какого либо древняго вулканическаго изверженія.
Цѣлый день бродилъ онъ въ горахъ, которыя, подобно ребрамъ, отходят на извѣстномъ разстояніи отъ главной горной цѣпи, пересѣкающей въ длину всю Норвегію, тянутся, постепенно понижаясь, вплоть до моря, гдѣ и скрываются. Вотъ почему берега этой страны представляютъ собою рядъ мысовъ и заливовъ, а внутренность — непрерывную смѣну горъ и долинъ, такъ что эта странная конфигурація почвы позволяетъ сравнивать Норвегію съ огромнымъ рыбьимъ хребтомъ.
Путешествіе по этой странѣ не представляетъ большихъ удобствъ. Приходится то идти вмѣсто дороги по каменистому руслу высохшаго потока, то перебираться по зыбкимъ мостамъ изъ древесныхъ стволовъ, перекинутыхъ черезъ дорогу, которая превратилась въ русло только-что зародившагося потока.
Орденеръ шелъ иной разъ по цѣлымъ часамъ, не встрѣчая слѣда человѣческаго присутствія въ этихъ дикихъ мѣстахъ и изрѣдка лишь примѣчая крылья вѣтряной мельницы на вершинѣ холма или прислушиваясь къ отдаленному стуку кузницъ, дымъ которыхъ клубился по вѣтру подобно черному султану.
Изрѣдка попадался крестьянинъ верхомъ на низенькой сѣрой лошади, съ понуренной головой, менѣе дикой однако, чѣмъ ея хозяинъ; или торговецъ пушнымъ товаромъ на дровняхъ, запряженныхъ двумя оленями, позади которыхъ болталась длинная узловатая веревка, стучавшая по каменистой дорогѣ и пугавшая этимъ волковъ.
Если Орденеръ просилъ торговца указать дорогу къ Вальдергогской пещерѣ, кочующій купецъ, знавшій только названія и мѣстоположеніе селеній, которыя ему приходилось проѣзжать, отвѣчалъ равнодушно:
— Ступайте все къ сѣверо-западу, пройдите деревню Гервалинъ, минуйте Додлисакскую лощину и къ ночи вы доберетесь до деревушки Сурбъ. Въ двухъ миляхъ отъ нея находится Вальдергогская пещера.
Если-же Орденеръ обращался съ тѣмъ-же вопросомъ къ крестьянину, тотъ, пропитанный насквозь преданіями и легендами страны, качалъ головой и останавливалъ свою сѣрую клячу, бормоча:
— Вальдергогъ! Вальдергогская пещера! Тамъ поютъ камни, тамъ пляшутъ кости и живетъ исландскій демонъ! Навѣрно не Вальдергогскую пещеру ищетъ ваша милость?
— Нѣтъ, именно ее, — отвѣтитъ Орденеръ.
— Ну, стало быть у вашей милости померла матушка, или сгорѣла ферма, а то можетъ быть сосѣдъ укралъ жирнаго борова?
— Ничуть не бывало, — возразитъ молодой человѣкъ.
— Такъ значитъ колдунъ заворожилъ вашу милость.
— Добрый человѣкъ, я спрашиваю у тебя, какъ пройти къ Вальдергогу.
— Я и отвѣчаю вамъ, сударь. Ступайте все къ сѣверу! Я знаю, какъ вы пойдете, но интересно знать какъ-то вы вернетесь.
Съ этими словами крестьянинъ удалялся, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ.
Трудность и печальное однообразіе дороги увеличилъ мелкій пронизывающій дождь, который сталъ накрапывать съ полудня. Ни одна птица не рѣшалась подняться въ воздухѣ, и Орденеръ, иззябнувъ подъ своимъ плащемъ, видѣлъ только какъ кружились надъ его головой коршуны, кречеты или соколы-рыболовы, которые при шумѣ его шаговъ стремительно вылетали изъ озернаго тростника съ рыбою въ когтяхъ.
Пройдя осиновый и березовый лѣсъ, примыкавшій къ Додлисакской лощинѣ, молодой путешественникъ въ глухую ночь прибылъ въ деревушку Сурбъ, гдѣ, какъ помнитъ читатель, Спіагудри намѣревался расположить свою главную квартиру.
Запахъ смолы и дымъ отъ каменнаго угля предупредили Орденера, что онъ приближается къ рыбачьему селенію. Онъ пошелъ къ первой хижинѣ, примѣченной имъ въ темнотѣ. Низкій, тѣсный входъ былъ завѣшанъ по норвежскому обычаю большою прозрачной рыбьей кожей, освѣщенной въ эту минуту красноватымъ дрожащимъ пламенемъ пылающаго очага. Орденеръ постучалъ въ деревянную раму двери, закричавъ:
— Путешественникъ!
— Войди, войди, — отвѣтилъ чей-то голосъ изнутри.
Въ ту-же минуту услужливая рука подняла дверной кожухъ. Орденеръ вошелъ во внутренность жилища норвежскаго рыбака. Это былъ родъ круглой землянки. Посрединѣ пылалъ костеръ, въ которомъ красное пламя торфа смѣшивалось съ блѣдноватымъ пламенемъ ели.
Близъ очага за столомъ, уставленнымъ деревянными тарелками и глиняными кружками сидѣлъ рыбакъ, жена его и двое дѣтей въ лохмотьяхъ. На противоположной сторонѣ межъ сѣтей и веселъ спали два оленя на подстилкѣ изъ листьевъ и кожъ, которая въ то же время служила постелью хозяевамъ хижины и гостямъ, какихъ Богъ пошлетъ. Съ перваго взгляда невозможно было различить внутреннее устройство хижины, такъ какъ ѣдкій, густой дымъ, съ трудомъ пробивавшійся въ отверстіе, продѣланное на вершинѣ кровли, застилалъ всѣ предметы густымъ волнующимся покровом.
Лишь только Орденеръ переступилъ порогъ, рыбакъ и его жена поднялись изъ за стола и радушно привѣтствовали посѣтителя. Норвежскіе крестьяне любятъ принимать путешественниковъ, быть можетъ столько-же по живой любознательности ихъ, сколько по врожденной склонности къ гостепріимству.
— Вы, сударь, должно быть проголодались и порядкомъ прозябли, — началъ рыбакъ: — посушите вашъ плащъ у огня, а превосходный риндебродъ утолитъ вашъ голодъ. А потомъ, ваша милость, удостойте сообщить намъ, кто вы такой, откуда и куда держите путь и какія сказки разсказываютъ старыя бабы на вашей сторонкѣ.
— Да, сударь, — подхватила женщина: — а къ куску превосходнаго риндеброда, какъ сказалъ мой муженекъ, вы можете присоединить лакомый кусочекъ соленой трески, приправленной китовымъ жиромъ. Садитесъ за столъ, господинъ чужестранецъ.
— А если ваша милость не жалуетъ мяса святого Усуфа [22], - продолжалъ рыбакъ: — обождите минутку, ручаюсь, что вы отвѣдаете мяса самой лучшей козули или по крайней мѣрѣ крылышко королевскаго фазана. Мы поджидаемъ самаго искуснаго охотника во всѣхъ трехъ округахъ. Не такъ ли, добрая Маасъ?
Маасъ, норвежское слово, съ которымъ рыбакъ обратился къ своей женѣ, значитъ чайка. Неизвѣстно, было ли это настоящее имя или только ласковое прозвище, но жена повидимому нисколько не обидѣлась имъ.
— Еще бы, самый искусный охотникъ! — съ гордостью отвѣтила она. — Это мой братъ, знаменитый Кенниболъ! Да хранитъ его Господь! Онъ пришелъ погостить къ намъ на нѣсколько дней и вы можете, господинъ чужестранецъ, выпить съ нимъ изъ одной кружки славнаго пивца. Онъ такой же странникъ, какъ и вы.
— Спасибо, добрая хозяйка, — улыбаясь, сказалъ Орденеръ, — но мнѣ придется удовольствоваться твоей аппетитной треской и кускомъ риндеброда. Мнѣ недосугъ ожидать твоего брата знаменитаго охотника, я долженъ пуститься въ путь, не теряя времени.
Добрая Маасъ, съ одной стороны раздосадованная скорымъ уходомъ чужестранца, съ другой — польщенная его похвалой ея трескѣ и брату, вскричала:
— Спасибо вамъ, сударь, на добромъ словѣ… Но неужели вы такъ скоро уйдете отъ насъ?
— Да, мнѣ нельзя мѣшкать.
— И вы хотите пуститься въ горы въ такое время, въ такую погодку?
— Важное дѣло принуждаетъ меня къ этому.
Отвѣтъ молодого человѣка подстрекнулъ врожденное любопытство его хозяевъ и въ то же время удивилъ ихъ.
Рыбакъ всталъ изъ за стола и сказалъ.
— Сударь, вы находитесь у Христофора Бальдуса Брааля, рыбака деревушки Сурбъ.
Жена добавила:
— Маасъ Кенниболъ, его жена и служанка.
Когда норвежскіе крестьяне хотятъ вѣжливо узнать имя незнакомца, они имѣютъ обыкновеніе объявлять сперва свое.
Орденеръ отвѣтилъ:
— А я путешественникъ, не знающій ни имени своего, ни дороги, по которой ему придется идти.
Этотъ своеобразный отвѣтъ показался неудовлетворительнымъ рыбаку Браалю.
— Клянусь короной стараго Гормона, — вскричалъ онъ: — я думалъ, что въ настоящее время во всей Норвегіи только одинъ человѣкъ не увѣренъ въ своемъ имени. Я говорю о благородномъ баронѣ Торвикѣ, который, какъ слышно, скоро получитъ титулъ графа Даннескіольда, по причинѣ славной свадьбы своей съ дочерью канцлера. Вотъ, добрая Маасъ, самая свѣжая новость, которую узналъ я въ Дронтгеймѣ. Поздравляю васъ, господинъ чужестранецъ, съ этимъ сходствомъ съ сыномъ вице-короля, графа Гульденлью.
— Если ужъ ваша милость, — подхватила Маасъ съ лицомъ, разгорѣвшимся отъ любопытства, — не желаете ничего сказать намъ про себя, не можете ли сообщить хоть какихъ нибудь вѣстей, напримѣръ, о славной свадьбѣ, про которую говоритъ мой мужъ?
— Да, — замѣтилъ рыбакъ съ важнымъ видомъ, — это самая свѣжая новость. Не пройдетъ и мѣсяца какъ сынъ вице-короля женится на дочери великаго канцлера.
— Врядъ ли, — сказалъ Орденеръ.
— Вы сомнѣваетесь, сударь? Могу васъ увѣрить, что дѣло слажено. Я знаю это изъ вѣрныхъ источниковъ, такъ какъ слышалъ отъ господина Поэля, довѣреннаго слуги благороднаго барона Торвика, то есть именитаго графа Даннескіольда. Ужъ не замутила ли воду буря въ эти шесть дней? Можетъ быть этотъ славный союзъ не состоится?
— Я такъ думаю, — отвѣтилъ улыбаясь молодой человѣкъ.
— Ну, значитъ, я ошибся. Не разводи огня, прежде чѣмъ рыба не попалась въ сѣти. Да вѣрно ли, что свадьба разошлась? Отъ кого вы узнали эту новость?
— Ни отъ кого, — отвѣтилъ Орденеръ, — я самъ такъ думаю.
При этихъ наивныхъ словахъ, рыбакъ не могъ удержаться отъ смѣха, не смотря на врожденную норвежцамъ вѣжливость.
— Простите, сударь. Сейчасъ видно, что вы путешественникъ и, безъ сомнѣнія, чужестранецъ. Такъ вы думаете, что все пойдетъ какъ вы хотите, что по вашему желанію погода нахмурится или прояснится?
Тутъ рыбакъ, интересовавшійся, подобно всѣмъ норвежскимъ крестьянамъ, общественными событіями своей страны, принялся объяснять Орденеру, почему бракъ этотъ не можетъ разстроиться, что онъ необходимъ для фамиліи Алефельдовъ, что вице-король не можетъ отказать королю, который стоитъ за этотъ бракъ. Кромѣ того, утверждаютъ, что истинная любовь соединяетъ будущихъ супруговъ; словомъ, рыбакъ Брааль вполнѣ былъ увѣренъ въ осуществимости этого союза и хотѣлъ бы столь же быть увѣреннымъ въ томъ, что завтра ему удастся убить проклятую морскую собаку, опустошавшую Мастербикскій прудъ.
Орденеръ нисколько не былъ расположенъ поддерживать политическія разсужденія грубаго простолюдина, и приходъ новаго посѣтителя вывелъ его изъ затрудненія.
— А, вотъ и онъ, мой братъ! — вскричала старая Маасъ.
Одно лишь прибытіе ея брата могло вывести ее изъ глубокаго удивленія и восторга, съ которымъ слушала она длинныя разсужденія своего мужа.
Между тѣмъ какъ дѣти шумно кинулись на шею къ своему дядѣ, рыбакъ важно протянулъ ему руку.
— Добро пожаловать, братецъ, — сказалъ онъ и, обратившись къ Орденеру, прибавилъ:
— Сударь, вотъ братъ нашъ, знаменитый охотникъ Кольскихъ горъ, Кенниболъ.
— Здравствуйте, — сказалъ горецъ, снимая шапку изъ медвѣжьей шкуры. — Ну, братецъ, я такъ же плохо охотился на вашихъ берегахъ, какъ ты ловилъ бы рыбу въ нашихъ горахъ. Мнѣ кажется, скорѣе можно наполнить охотничью сумку, разыскивая домовыхъ и вѣдьмъ въ мрачныхъ лѣсахъ королевы Мабъ. Сестрица Маасъ, ты первая чайка, которую я встрѣчаю сегодня. Вотъ, друзья, вся моя добыча. Изъ за какого-нибудь дрянного глухаря первый охотникъ Дронтгеймскаго округа принужденъ былъ обѣгать всѣ прогалины въ такую пору и непогоду.
Съ этими словами онъ вынулъ изъ сумки и бросилъ на столъ бѣлую куропатку, замѣтивъ, что эта тощая дичина не стоитъ и выстрѣла мушкета.
— Но, — пробормоталъ онъ сквозь зубы: — будь покоенъ, вѣрный мушкетъ Кеннибола, скоро ты поохотишься за жирной дичью. Если тебѣ не придется портить шкуры сернъ и оленей, за то ты вдоволь прострѣлишь зеленыхъ плащей и красныхъ мундировъ.
Эти слова, сказанныя вполголоса, подстрекнули любопытство Маасъ.
— Что это ты сказалъ, братецъ? — спросила она.
— Я говорю, что всегда какой-нибудь домовой дергаетъ женщину за языкъ.
— Правда твоя, Кенниболъ, — вскричалъ рыбакъ: — эти Евины дщери любопытнѣе своей праматери… Ты, кажется, заговорилъ о зеленыхъ плащахъ?
— Знаешь, дружище, — съ досадой возразилъ Кенниболъ: — я довѣряю свои тайны только мушкету, такъ какъ увѣренъ, что онъ ихъ не выдастъ.
— Въ деревнѣ поговариваютъ о бунтѣ рудокоповъ, — невозмутимо продолжалъ рыбакъ. — Можетъ статься, ты провѣдалъ объ этомъ что нибудь, братецъ?
Горецъ схватилъ свою шапку и надвинувъ ее на глаза, искоса взглянулъ на незнакомца. Затѣмъ, нагнувшись къ рыбаку, онъ шепнулъ ему отрывистымъ тономъ:
— Молчи!
Рыбакъ покачалъ головой.
— Эхъ, братъ Кенниболъ, какъ рыба ни молчитъ, а все попадетъ въ вершу.
На минуту водворилось молчаніе. Братья выразительно переглянулись; дѣти ощипывали перья лежавшей на столѣ куропатки; хозяйка насторожила уши, а Орденеръ молча наблюдалъ за всѣми.
— Если вы плохо поужинаете сегодня, — произнесъ вдругъ охотникъ, очевидно желая перемѣнить предметъ разговора: — за то съ лихвой наверстаете завтра. Ну, братъ Брааль, лови теперь кита, я обѣщаю тебѣ медвѣжьяго сала на приправу.
— Медвѣжьяго сала! — подхватила Маасъ. — Такъ ты встрѣтилъ медвѣдя въ окрестностяхъ?.. Ну, ребятишки, Патрикъ, Регнеръ, не смѣть выходить изъ хижины… Медвѣдь какъ разъ сцапаетъ!
— Успокойся, сестра, завтра вамъ уже нечего будетъ его бояться. Я дѣйствительно встрѣтилъ медвѣдя въ двухъ миляхъ отъ Сурба, и притомъ бѣлаго медвѣдя. Мнѣ показалось, что онъ тащилъ человѣка, или скорѣе какое-то животное. Но нѣтъ, скорѣе это былъ козій пастухъ, они вѣдь одѣваются въ звѣриныя шкурки. Впрочемъ, издалека-то порядкомъ ничего не разберешь… Меня удивило только одно обстоятельство, что медвѣдь тащилъ свою добычу на спинѣ, а не въ зубахъ.
— На спинѣ, братецъ?
— Да, на спинѣ, и повидимому добыча то была мертвая, такъ какъ не пыталась даже защищаться.
— Но, — разсудительно замѣтилъ рыбакъ: — если бы добыча была мертвая, какимъ образомъ могла она держаться на спинѣ медвѣдя?
— Въ томъ то и штука, ну да впрочемъ, это была послѣдняя добыча мишки. Прійдя въ деревню, я сговорился съ шестью надежными товарищами и завтра, сестрица Маасъ, у тебя будетъ самая роскошная медвѣжья шкура, которая когда либо рыскала по снѣжнымъ горамъ.
— Берегись, братецъ, — сказала жена рыбака. — Нѣтъ ли тутъ какой нечисти. Можетъ быть этотъ медвѣдь дьяволъ…
— Да ты никакъ ошалѣла? — смѣясь перебилъ горецъ. — Чтобы дьяволъ оборотился въ медвѣдя! Въ кошку, обезьяну, еще туда-сюда, статочное дѣло; но въ медвѣдя!.. Клянусь святымъ Эльдономъ Заклинателемъ, за такое суевѣріе тебя засмѣютъ дѣти и старыя бабы!
Маасъ смущенно потупила голову.
— Братъ, ты былъ моимъ покровителемъ, пока я не вышла замужъ. Поступай какъ внушитъ тебѣ твой ангелъ хранитель.
— А гдѣ же ты встрѣтилъ медвѣдя? — спросилъ горца рыбакъ.
— По дорогѣ отъ Сміазена къ Вальдергогу.
— Вальдергогъ! — повторила Маасъ, осѣняя себя крестнымъ знаменіемъ.
— Вальдергогъ! — повторилъ Орденеръ.
— Однако, дружище, — замѣтилъ рыбакъ: — Надѣюсь, ты не ходилъ въ Вальдергогскую пещеру?
— Я! Избави Боже! Туда шелъ медвѣдь.
— Такъ завтра ты туда пойдешь разыскивать его? — съ ужасомъ воскликнула Маасъ.
— Съ чего ты это взяла? Возможно ли, чтобы медвѣдь устроилъ свое логовище въ той пещерѣ, гдѣ…
Онъ замолчалъ и всѣ трое перекрестились.
— Твоя правда, — замѣтилъ рыбакъ: — звѣрь чутьемъ пойметъ въ чемъ дѣло.
— Добрые люди, — спросилъ Орденеръ: — да чѣмъ же страшна эта Вальдергогская пещера?
Всѣ трое съ удивленіемъ переглянулись, какъ бы не понимая смысла подобнаго вопроса.
— Вѣдь тамъ гробница короля Вальдера? — продолжалъ молодой человѣкъ.
— Да, — отвѣтила Маасъ: — каменная гробница, которая поетъ.
— То ли еще тамъ, — замѣтилъ рыбакъ.
— По ночамъ тамъ пляшутъ кости мертвецовъ, — продолжала Маасъ.
— То ли еще тамъ, — замѣтилъ горецъ.
Всѣ замолчали, какъ бы не рѣшаясь вымолвить слова.
— Ну, — спросилъ Орденеръ: — еще какія чудеса творятся въ этой пещерѣ?
— Молодой человѣкъ, — важно замѣтилъ горецъ: — не говорите такъ легкомысленно о томъ, что заставляетъ дрожать такого стараго сѣраго волка, какъ я.
Молодой человѣкъ слегка улыбнулся.
— Но мнѣ дѣйствительно хотѣлось бы знать, что за чудеса творятся въ Вальдергогской пещерѣ, - возразилъ онъ: — такъ какъ я иду какъ разъ туда.
При этихъ словахъ всѣ трое окаменѣли отъ ужаса.
— Въ Вальдергогъ! Съ нами крестная сила! Вы идете въ Вальдергогъ?.. И онъ говоритъ это, — вскричалъ рыбакъ: — такимъ тономъ, какимъ другой сказалъ бы: я иду въ Левичъ продавать треску, или на берегъ Ральфа ловить сельдей! Въ Вальдергогъ! Боже милостивый!
— Несчастный молодой человѣкъ! — вскричала Маасъ: — Должно быть онъ родился безъ ангела хранителя и ни одинъ святой не покровительствуетъ ему! Увы! Это слишкомъ ясно, онъ повидимому даже не знаетъ своего имени.
— Но, милостивый государь, — спросилъ охотникъ: — на кой прахъ понадобилось вамъ соваться въ эту заклятую пещеру?
— Мнѣ надо тамъ поразспросить кой кого, — отвѣтилъ Орденеръ.
Эти слова удвоили удивленіе и любопытство слушателей.
— Послушайте, господинъ чужестранецъ; очевидно вы не знаете хорошенько нашихъ мѣстъ. Навѣрно вы ошиблись, не можетъ быть, чтобы вы шли въ Вальдергогъ.
— Да кромѣ того, — добавилъ горецъ: — если вы хотите говорить съ человѣкомъ, вы не найдете тамъ никого…
— Кромѣ демона, — подхватила Маасъ.
— Демона! Какого демона?
— Да, демона, — продолжала она: — для котораго поетъ гробница и пляшутъ кости мертвецовъ.
— Развѣ вы не знаете, сударь, — сказалъ рыбакъ тихимъ голосомъ, приближаясь къ Орденеру: — развѣ вы не знаете, что Вальдергогская пещера служитъ обычнымъ мѣстопребываніемъ…
Жена перебила его:
— Бальдусъ, не произноси этого имени, оно приноситъ несчастіе.
— Кому-же оно служитъ мѣстопребываніемъ? — спросилъ Орденеръ.
— Воплощенному Вельзевулу, — отвѣтилъ Кенниболъ.
— Право, добрые люди, я не понимаю, что вы хотите сказать. Мнѣ хорошо извѣстно, что въ Вальдергогѣ живетъ Ганъ Исландецъ…
Тройной крикъ ужаса огласилъ внутренность хижины.
— Ну вотъ!.. Вы знали же про этого демона!..
Маасъ сняла съ головы шерстяную повязку, призывая всѣхъ святыхъ во свидѣтели, что не она произнесла это имя.
Прійдя нѣсколько въ себя отъ ужаса, рыбакъ пристально взглянулъ на Орденера, какъ-бы находя въ молодомъ человѣкѣ что-то непонятное.
— Знаете ли, сударь, если даже мнѣ суждено прожить больше моего отца, который умеръ сто двадцати лѣтъ отъ роду, такъ и въ такомъ случаѣ мнѣ не доведется указать дорогу въ Вальдергогъ человѣческому существу, одаренному разумомъ и вѣрующему въ Бога.
— Еще-бы! — вскричала Маасъ: — Да нѣтъ, вы не пойдете въ эту проклятую пещеру. Если вы отправитесь туда, значитъ вы хотите заключить договоръ съ дьяволомъ.
— Я пойду туда, добрые люди, и вы можете оказать мнѣ большую услугу, указавъ кратчайшій путь къ пещерѣ.
— Самый кратчайшій путь туда, — сказалъ рыбакъ: — это кинуться съ вершины ближайшаго утеса въ пропасть.
— Значитъ, по твоему, — спросилъ хладнокровно Орденеръ: — я прійду къ тому-же результату, предпочтя безполезную смерть полезной опасности?
Брааль покачалъ головой, между тѣмъ какъ его братъ взглянулъ испытующимъ взоромъ на юнаго искателя приключеній.
— А, понимаю, — вскричалъ вдругъ рыбакъ: — вы хотите заработать десять тысячъ королевскихъ экю, которыя обѣщаны синдикомъ за голову Исландскаго демона.
Орденеръ улыбнулся.
— Послушайте меня, сударь, откажитесь отъ вашего намѣренія, — взволнованно продолжалъ рыбакъ: — я старъ и бѣденъ, но ни за что не отдалъ бы остатка моей жизни за всѣ ваши королевскіе экю, если-бы даже мнѣ оставалось жить только день.
Сострадательный, умоляющій взглядъ женщины выжидалъ, какое дѣйствіе произведетъ на молодаго человѣка просьба ея мужа.
Орденеръ поспѣшилъ отвѣтить:
— Обстоятельства гораздо болѣе важныя принудили меня отыскивать разбойника, котораго называете вы демононъ для другихъ, а не для себя…
Горецъ, не спускавшій глазъ съ Орденера, вдругъ перебилъ его:
— Теперь и я понялъ васъ; я знаю зачѣмъ вы ищете Исландскаго демона.
— Я хочу вызвать его на бой, — сказалъ молодой человѣкъ.
— Вамъ даны важныя порученія, не такъ-ли? — спросилъ Кенниболъ.
— Я только что это сказалъ.
Съ таинственнымъ видомъ горецъ подошелъ къ молодому человѣку и къ величайшему изумленію Орденера, шепнулъ ему на ухо:
— Для графа Шумахера Гриффенфельда, не такъ-ли?
— А ты почему знаешь, мой милый? — вскричалъ Орденеръ.
Дѣйствительно, трудно было объяснить себѣ, какимъ образомъ норвежскій горецъ могъ узнать тайну, которую онъ не довѣрилъ никому, даже генералу Левину.
Кенниболъ нагнулся къ нему:
— Отъ души желаю вамъ успѣха, — сказалъ онъ тѣмъ же таинственнымъ тономъ: — Богъ поможетъ благородному человѣку, защищающему такъ отважно угнетенныхъ.
Изумленіе Орденера достигло такой степени, что онъ едва могъ спросить горца, какимъ образомъ провѣдалъ онъ цѣль его путешествія.
— Ни слова болѣе, — шепнулъ Кенниболъ, приложивъ пальцы къ губамъ: — надѣюсь, что ваше объясненіе съ обитателемъ Вальдергогской пещеры увѣнчается успѣхомъ. Рука моя, подобно вашей, къ услугамъ мункгольмскаго узника.
Прежде чѣмъ Орденеръ успѣлъ отвѣтить ему, онъ продолжалъ громкимъ голосомъ:
— Бальдусъ, и ты, сестра Маасъ, считайте этого честнаго молодого человѣка братомъ. Ну, теперь можно и поужинать…
— Какъ! — перебила Маасъ: — ты значитъ отговорилъ ихъ милость искать этого демона.
— Сестра, моли Бога, чтобы съ нимъ не случилось несчастія. Это благородный, честный молодой человѣкъ. Ну, сударь, поужинайте и отдохните съ нами; завтра я укажу вамъ дорогу и мы отправимся отыскивать — вы дьявола, а я медвѣдя.
XXIX
Лишь только первые лучи солнца позолотили вершины скалъ, обрамляющихъ морской берегъ, рыбакъ, до разсвѣта еще отплывшій отъ берега на нѣсколько выстрѣловъ мушкета, чтобы закинуть сѣти въ виду входа въ Вальдергогскую пещеру, примѣтилъ какое то существо, закутанное въ плащъ или саванъ, которое, спустившись со скалъ, исчезло подъ грозными сводами пещеры.
Внѣ себя отъ ужаса, онъ поручилъ свою лодку и душу покровительству святаго Усуфа и бросился домой разсказать своей испуганной семьѣ, что онъ видѣлъ, какъ на разсвѣтѣ вышло въ пещеру одно изъ привидѣній, населяющихъ жилище Гана Исландца.
Это привидѣніе — предметъ будущихъ толковъ и ужаса въ долгіе зимніе вечера — былъ Орденеръ, сынъ вице-короля Норвегіи, который жертвовалъ своей жизнью ради той, которой отдалъ свою душу и сердце, ради дочери осужденнаго, между тѣмъ, какъ населеніе обоихъ королевствъ полагало, что онъ ухаживаетъ за своей гордой невѣстой.
Тяжелыя предчувствія, зловѣщія предвѣщанія сопровождали его къ цѣли его путешествія; онъ только что разстался съ семьей рыбака и, простившись съ нимъ, добрая Маасъ горячо молилась за него на порогѣ хижины.
Горецъ Кенниболъ и шестеро его товарищей, указавъ ему дорогу, покинули его за полмили отъ Вальдергога; эти неустрашимые охотники, которые, смѣясь, шли на медвѣдя, долгимъ испуганнымъ взглядомъ смотрѣли въ слѣдъ отважному юношѣ.
Орденеръ вошелъ въ Вальдергогскую пещеру, какъ морякъ входитъ въ давно желанную гавань. Неизъяснимую радость испытывалъ онъ, помышляя о томъ, что ему предстоитъ выполнить, что быть можетъ черезъ нѣсколько мгновеній онъ прольетъ кровь за свою Этель. Приготовляясь вступить въ борьбу съ разбойникомъ, наводившимъ ужасъ на цѣлый округъ, съ чудовищемъ, быть можетъ съ самимъ демономъ, онъ совсѣмъ не думалъ объ этомъ страшилищѣ. Въ воображеніи его носился нѣжный образъ узницы, безъ сомнѣнія молившейся за него передъ алтаремъ своей темницы. Если-бы онъ жертвовалъ собою для кого нибудь другого, то хоть минуту подумалъ бы какъ предотвратить опасность, но можетъ-ли разсуждать юное сердце въ ту минуту, когда волнуютъ его два такихъ прекрасныхъ ощущенія, какъ самоотверженность и любовь.
Смѣло шелъ онъ подъ звучными сводами, гдѣ многоголосое эхо повторяло шумъ его шаговъ, даже не взглянувъ на сталактиты столѣтняго базальта, нависшіе надъ его головой вмѣстѣ съ мохомъ, плющомъ и лишаями. Причудливыя фигуры, образованныя этими сталактитами, не разъ представлялись суевѣрнымъ норвежскимъ крестьянамъ толпой демоновъ или процессіей привидѣній…
Съ тѣмъ-же равнодушіемъ прошелъ онъ мимо гробницы короля Вальдера, съ которой связывалось столько страшныхъ преданій, и не слышалъ никакихъ голосовъ, кромѣ протяжнаго завыванья вѣтра въ мрачныхъ галереяхъ.
Далѣе онъ вступилъ подъ извилистые своды, слабо освѣщенные черезъ разсѣлины скалъ, полузаросшіе травой и кустарникомъ. То и дѣло подъ ноги ему попадались какіе-то обломки, звучно катившіеся по камнямъ и казавшіеся въ полумракѣ расколотыми черепами или челюстями съ бѣлыми, обнаженными до корней зубами.
Однако до сихъ поръ онъ не испытывалъ ни малѣйшаго чувства страха и удивлялся только тому, что не встрѣтился еще съ грознымъ обитателемъ страшной пещеры.
Наконецъ онъ достигъ круглой залы, самой природой образованной въ боку утеса. Здѣсь оканчивалась подземная дорога, по которой онъ слѣдовалъ, и въ стѣнахъ не имѣлось другихъ отверстій, кромѣ широкихъ трещинъ, черезъ которыя виднѣлись горы и окрестные лѣса.
Удивленный безплодными поисками въ этой роковой пещерѣ, Орденеръ сталъ уже терять надежду встрѣтиться здѣсь съ разбойникомъ, какъ вдругъ его вниманіе привлечено было странной формы монументомъ, возвышавшимся посреди этой подъемной залы.
Три длинныхъ массивныхъ камня, утвержденныхъ на землѣ, поддерживали четвертый широкій и четырехугольный, наподобіе того, какъ три столба подпираютъ крышу. Подъ этимъ своеобразнымъ гигантскимъ треножникомъ находился какъ бы жертвенникъ, высѣченный изъ дѣльной глыбы гранита, съ круглыми углубленіями поверхности.
Орденеръ сразу узналъ одно изъ тѣхъ колоссальныхъ друидическихъ сооруженій, которыхъ такъ часто встрѣчалъ въ своихъ странствованіяхъ по Норвегіи и быть можетъ наиболѣе изумительные образцы которыхъ представляютъ во Франціи монументы Локмаріакеръ и Карнакъ — странные древніе памятники, выстроенные на землѣ какъ бы для временнаго убѣжища, и прочность которыхъ зависитъ исключительно отъ ихъ массивности.
Погрузившись въ задумчивость, молодой человѣкъ машинально облокотился на жертвенникъ, каменное жерло котораго почернѣло оть крови человѣческихъ жертвъ.
Вдругъ онъ вздрогнулъ; слуха его коснулся голосъ, который казалось выходилъ изъ камня:
— Юноша, одной ногой стоишь ты уже въ могилѣ.
Орденеръ быстро выпрямился и схватился за рукоять сабли, между тѣмъ какъ отголосокъ, слабый какъ стонъ умирающаго, явственно повторилъ въ глубинѣ пещеры:
— Юноша, одной ногой стоишь ты уже въ могилѣ.
Въ ту же минуту страшная рыжеволосая голова съ дикимъ хохотомъ появилась по ту сторону друидическаго жертвенника.
— Да, безумецъ, — повторила она: — одной ногой стоишь ты уже въ могилѣ.
— А рукой хватаюсь за саблю, — отвѣтилъ молодой человѣкъ, не двигаясь съ мѣста.
Чудовище показалось изъ за жертвенника, обнаруживая свои мощные жилистые члены, дикую, окровавленную одежду и кривыя руки, вооруженныя тяжелымъ каменнымъ топоромъ.
— Это я, — сказало оно съ рычаніемъ хищнаго звѣря.
— Это я, — отвѣтилъ Орденеръ.
— Я ждалъ тебя.
— Ну, я трудился больше, — невозмутимо замѣтилъ молодой человѣкъ: — я искалъ тебя.
Разбойникъ скрестилъ руки на груди.
— Знаешь ты, кто я?
— Да.
— И не боишься?
— Теперь нѣтъ.
— А, значитъ ты боялся, идя сюда?
Чудовище вскинуло голову съ торжествующимъ видомъ.
— Да, боялся не найти тебя.
— Ты не боишься меня, а между тѣмъ ноги твои только что спотыкались о человѣческіе трупы?
— Завтра, быть можетъ споткнутся о твои.
Малорослый вспыхнулъ отъ гнѣва. Орденеръ, не шевельнувшись, надменно хранилъ присутствіе духа.
— Берегись! — пробормоталъ разбойникъ: — Я обрушусь на тебя какъ норвежскій градъ на зонтикъ.
— Мнѣ не нужно другаго щита противъ тебя.
Что то во взорѣ Орденера обуздывало чудовище, которое принялось царапать ногтями шерсть своей одежды подобно тигру, который взрываетъ траву, прежде чѣмъ ринуться на добычу.
— Ты внушаешь мнѣ что то вродѣ жалости, сказало оно.
— А ты мнѣ — презрѣніе.
— Дитя, твой голосъ нѣженъ, лицо твое свѣжо какъ у молодой дѣвушки: выбирай, какую смерть предпочтешь ты?
— Твою.
Малорослый захохоталъ.
— Ты не знаешь, что я демонъ, что въ меня вселился духъ Ингольфа Истребителя.
— Я знаю, что ты разбойникъ, для золота убивающій людей.
— Ошибаешься, — перебило чудовище: — для крови.
— Развѣ Алефельды не заплатили тебѣ за убійство капитана Диспольсена?
— Что такое? Что это за люди?
— Ты не знаешь капитана Диспольсена, котораго ты убилъ на Урхтальскомъ берегу?..
— Очень можетъ быть, но я забылъ его, какъ черезъ три дня забуду тебя.
— Ты не знаешь графа Алефельда, который заплатилъ тебѣ за то, что ты отнялъ у капитана желѣзный ящикъ?
— Алефельдъ! Постой; да я знаю его. Вчера еще я пилъ кровь его сына черепомъ моего.
Орденеръ содрогнулся отъ ужаса.
— Развѣ тебя недостаточно наградили?
— Наградили? — переспросилъ разбойник.
— Слушай, мнѣ омерзительно смотрѣть на тебя, кончимъ скорѣе.
— Восемь дней тому назадъ ты нашелъ желѣзный ящикъ на тѣлѣ одной изъ твоихъ жертвъ, у офицера мункгольмскаго полка.
При послѣднихъ словахъ разбойникъ вздрогнулъ.
— У офицера мункгольмскаго полка! — пробормоталъ онъ сквозь зубы, затѣмъ продолжалъ съ движеніемъ изумленія: — Да ты самъ не офицеръ ли мункгольмскаго полка?
— Нѣтъ, — отвѣтилъ Орденеръ.
— Жаль!
Лицо разбойника омрачилось.
— Слушай, — продолжалъ настойчиво Орденеръ, — куда ты дѣвалъ ящикъ, взятый тобой у капитана?
Малорослый, казалось, размышлялъ одно мгновеніе.
— Клянусь Ингольфомъ! Вотъ странный ящикъ, которымъ всѣ интересуются. Ручаюсь, что не такъ ревностно станутъ искать гробъ съ твоими костями, если только кто нибудь соберетъ ихъ.
Эти слова показывали, что разбойнику извѣстенъ былъ ящикъ и вернули Орденеру надежду разыскать его.
— Скажи мнѣ, что ты сдѣлалъ съ ящикомъ. Можетъ быть онъ уже у графа Алефельда?
— Нѣтъ.
— Ты лжешь, потому что смѣешься.
— Думай что хочешь. Мнѣ что за дѣло?
Чудовище дѣйствительно приняло насмѣшливый видъ, внушавшій недовѣріе Орденеру. Онъ понялъ, что ему не остается ничего болѣе, какъ или привести въ ярость разбойника, или устрашить его, если возможно.
— Послушай, — сказалъ онъ, возвысивъ голосъ: — ты долженъ отдать мнѣ этотъ ящикъ.
Свирѣпый хохотъ былъ единственнымъ отвѣтомъ чудовища.
— Ты долженъ отдать мнѣ его! — повторилъ молодой человѣкъ громовымъ голосомъ.
— Развѣ ты привыкъ повелѣвать буйволами и медвѣдями? — спросило чудовище съ новымъ взрывомъ хохота.
— Да, даже демономъ въ аду.
— Такъ вотъ, попробуй теперь.
Орденеръ выхватилъ саблю, которая какъ молнія сверкнула въ темнотѣ.
— Повинуйся!
— Ого, — вскричалъ разбойникъ, взмахнувъ топоромъ, — мнѣ ничего бы не стоило раздробить твои кости и высосать твою кровь, какъ только ты вошелъ сюда. Но я удержался; мнѣ интересно было посмотрѣть какъ воробей станетъ нападать на ястреба.
— Презрѣнный, — вскричалъ Орденеръ, — защищайся!
— Въ первый разъ еще говорятъ мнѣ это, — пробормоталъ разбойникъ, скрежеща зубами.
Съ этими словами онъ вскочилъ на гранитный жертвенникъ и съежился тамъ подобно леопарду, поджидающему на вершинѣ скалы охотника, чтобы неожиданно кинуться на него.
Взоры его пристально устремились на молодаго человѣка, онъ какъ бы выбиралъ, съ какой стороны лучше напасть на противника. Еще одно мгновеніе и Орденеръ погибъ бы, но не давъ времени разбойнику размыслить, онъ стремительно бросился на него и ударилъ по лицу концомъ сабли.
Завязался поединокъ, ожесточеніе котораго трудно себѣ вообразить. Малорослый, стоя на жертвенникѣ, какъ статуя на пьедесталѣ, казался однимъ изъ тѣхъ ужасныхъ идоловъ, которымъ во времена варварства приносили здѣсь беззаконныя и святотатственныя жертвы.
Движенія разбойника до такой степени были проворны, что откуда Орденеръ ни нападалъ на него, всюду встрѣчалъ онъ звѣрскую физіономію и лезвіе топора. На первыхъ же порахъ онъ былъ бы изрубленъ въ куски, если бы по счастливому вдохновенію не накинулъ плаща на свою лѣвую руку, для того чтобы подставлять этотъ развѣвающійся щитъ безчисленнымъ ударамъ разъярившагося врага.
Въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ неслыханныя усилія обоихъ противниковъ ранить другъ друга оставались тщетными. Сѣрые пылающіе какъ угли глаза малорослаго выкатились изъ орбитъ. Удивленный столь энергичнымъ и смѣлымъ сопротивленіемъ повидимому столь слабаго врага, онъ перешелъ отъ дикой насмѣшливости къ мрачному бѣшенству.
Свирѣпая неподвижность чертъ лица чудовища, невозмутимое спокойствіе физіономіи Орденера составляли страшный контрастъ съ проворствомъ ихъ движеній и стремительностью нападеній.
Въ залѣ не слышно было другого шума, кромѣ стука оружія, безпорядочныхъ шаговъ молодого человѣка и тяжелаго дыханія сражающихся, какъ вдругъ малорослый испустилъ страшный ревъ.
Топоръ его запутался въ складкахъ плаща. Онъ напрягъ всѣ свои силы, яростно замахалъ рукой, но еще больше запутывалъ рукоять и лезвие въ плащѣ, который, съ каждымъ усиліемъ его еще крѣпче обвивался вокругъ топора.
Свирѣпый разбойникъ почувствовалъ наконецъ саблю противника у своей груди.
— Еще разъ говорю тебѣ, - закричалъ Орденеръ, торжествуя побѣду, — отдашь ты мнѣ желѣзный ящикъ, который ты укралъ такимъ подлымъ образомъ?
Одну минуту малорослый хранилъ молчаніе, потомъ заревѣлъ:
— Никогда, будь ты проклятъ!
Орденеръ продолжалъ, все грозя саблей жизни побѣжденнаго:
— Подумай!
— Нѣтъ, я ужъ сказалъ тебѣ: не отдамъ, — повторилъ разбойникъ.
Благородный молодой человѣкъ опустилъ свою саблю.
— Ну, — сказалъ онъ, — освободи топоръ изъ складокъ плаща и будемъ продолжать бой.
Презрительный хохотъ былъ отвѣтомъ чудовища.
— Щенокъ, я не нуждаюсь въ твоемъ великодушіи!
Прежде чѣмъ удивленный Орденеръ успѣлъ обернуться, онъ сталъ ногой на плечо своего великодушнаго побѣдителя, и однимъ прыжкомъ очутился въ двѣнадцати шагахъ отъ него.
Другимъ прыжкомъ онъ вскочилъ на Орденера и повисъ на немъ подобно пантерѣ, впившейся пастью и когтями въ бока громаднаго льва. Ногти его вонзились въ плечи молодаго человѣка; кривыя ноги стиснули бедра, и Орденеръ увидалъ надъ собой свирѣпое лицо съ окровавленнымъ ртомъ и зубами хищнаго звѣря, готовыми терзать его тѣло.
Чудовище хранило молчаніе; ни одно человѣческое слово не вырвалось изъ его задыхающагося горла и только глухой ревъ, смѣшанный съ хриплыми яростными криками, выражалъ его бѣшенство. Разбойникъ былъ отвратительнѣе дикаго звѣря, чудовищнѣй демона; это былъ человѣкъ, въ которомъ не оставалось ничего человѣческаго.
Орденеръ пошатнулся подъ тяжестью малорослаго и упалъ бы отъ неожиданнаго толчка, если бы сзади не поддержала его широкая колонна друидическаго памятника. Онъ устоялъ на ногахъ, полусогнувъ спину и задыхался въ объятіяхъ непримиримаго врага. Чтобы составить себѣ малѣйшее понятіе объ этомъ страшномъ моментѣ борьбы, надо знать, что только что описанная нами сцена была дѣломъ еле измѣримаго промежутка времени.
Мы сказали, что молодой человѣкъ пошатнулся, но онъ не дрогнулъ и только поспѣшилъ мысленно проститься съ Этелью. Эта мысль любви была какъ бы молитвой, она вернула ему силы. Охвативъ чудовище обѣими руками и взявъ клинокъ сабли по серединѣ, онъ приставилъ конецъ ея перпендикулярно къ спинному хребту разбойника.
Раненое чудовище испустило страшный вой, неистово вырвалось изъ рукъ неустрашимаго противника, который снова пошатнулся, и упало въ нѣсколькихъ шагахъ позади, держа въ зубахъ лоскутъ зеленаго плаща, оторванный имъ въ ярости.
Съ ловкостью и проворствомъ молодой серны малорослый очутился на ногахъ и битва завязалась въ третій разъ, еще ожесточеннѣе прежняго. Случайно вблизи отъ него находилась груда обломковъ скалы, въ теченіе вѣковь поросшая мохомъ и терновникомъ. Два человѣка обыкновенной силы съ трудомъ могли бы поднять малѣйшій изъ нихъ, но разбойникъ схватилъ обломокъ обѣими руками и высоко поднявъ его надъ головой, замахнулся имъ на Орденера. Взглядъ его былъ ужасенъ въ эту минуту. Камень, пущенный изо всѣхъ силъ, тяжело пронесся въ воздухѣ, такъ что молодой человѣкъ едва успѣлъ отскочить въ сторону. Гранитный обломокъ разлетѣлся въ дребезги внизу подземной стѣны, съ страшнымъ трескомъ, долго повторявшемся отголосками глубокой пещеры.
Оглушенный Орденеръ едва успѣлъ прійти въ себя, какъ уже разбойникъ размахивалъ другимъ обломкомъ. Раздраженный при видѣ такой подлой обороны, молодой человѣкъ устремился на малорослаго, высоко поднявъ саблю, съ намѣреніемъ измѣнить бой, но огромная глыба, вращаясь въ тяжелой мрачной атмосферѣ пещеры, встрѣтила на пути своемъ хрупкій обнаженный клинокъ. Сабля сломилась какъ кусокъ стекла и звѣрскій хохотъ чудовища огласилъ подземные своды.
Орденеръ былъ обезоруженъ.
— Хочешь ты передъ смертью просить о чемъ Бога или дьявола, — закричалъ разбойникъ.
Глаза его сверкали зловѣщимъ огнемъ, всѣ мускулы напряглись отъ яростной радости, и съ нетерпѣливымъ воемъ кинулся онъ за топоромъ, валявшимся на землѣ въ складкахъ плаща…
Бѣдная Этель!
Вдругъ отдаленный ревъ послышался снаружи пещеры. Чудовище остановилось. Ревъ усиливался; человѣческіе крики смѣшивались съ жалобнымъ рычаньемъ медвѣдя. Разбойникъ прислушался. Жалобный вой продолжался. Разбойникъ схватилъ поспѣшно топоръ и кинулся, не на Орденера, но въ одну изъ трещинъ, о которыхъ мы говорили, и черезъ которыя проникалъ дневной свѣтъ.
Изумленный такимъ оборотомъ дѣла, Орденеръ тоже бросился за нимъ къ этой природной двери и увидалъ на ближайшей прогалинѣ громаднаго бѣлаго медвѣдя, окруженнаго семью охотниками; среди нихъ, какъ ему показалось, онъ узналъ Кеннибола, наканунѣ удивившаго его своими словами.
Орденеръ обернулся. Разбойника не было уже въ пещерѣ, а снаружи доносились страшные крики:
— Фріендъ! Фріендъ! Я съ тобой! Я здѣсь!
XXX
Полкъ мункгольмскихъ стрѣлковъ стройно двигался по ущельямъ, находящимся между Дронтгеймомъ и Сконгеномъ. Онъ то извивался вдоль русла потока, причемъ непрерывная цѣпь истоковъ ползла по оврагамъ, подобно длинной змѣѣ, чешуя которой сверкаетъ на солнцѣ; то спиралью взбирался на гору, походившую тогда на тріумфальную колонну, уставленную бронзовымъ войскомъ.
Солдаты маршировали, опустивъ оружіе въ плащахъ на распашку, съ недовольнымъ, скучающимъ видомъ, такъ какъ эти достойные люди любятъ только сраженіе или отдыхъ. Грубыя шуточки, старыя остроты, забавлявшія ихъ вчера, не веселили ихъ теперь: погода была холодная, небо пасмурно. Хохотъ рѣдко слышался въ строю и поднимался развѣ, когда маркитантка неловко сваливалась съ своей клячи, или жестяной котелъ катился со скалы на скалу въ глубину пропасти.
Чтобы развлечься отъ скуки, нагоняемой дорогой, молодой датскій баронъ, поручикъ Рандмеръ подошелъ къ старому капитану Лори.
Капитанъ шелъ въ мрачномъ молчании тяжелой, но твердой поступью; поручикъ ловко помахивалъ хлыстомъ, сорваннымъ въ кустарникѣ, росшемъ по сторонамъ дороги.
— Ну, капитанъ, что это съ вами? Никакъ вамъ взгрустнулось?
— Вѣроятно, есть о чемъ, — отвѣтилъ старый офицеръ не поднимая головы.
— Э, полноте хмуриться. Посмотрите на меня: развѣ я печаленъ? А между тѣмъ побьюсь объ закладъ, мое горе не легче вашего.
— Врядъ-ли, баронъ Рандмеръ. Я потерялъ все мое имущество, все мое сокровище.
— Капитанъ Лори, наше горе одинаково, пятнадцать дней тому назадъ я проигралъ поручику Альберику мой прекрасный родовой замокъ съ помѣстьями. Я разорился въ конецъ, а между тѣмъ, какъ видите, веселъ по прежнему.
Капитанъ отвѣтилъ грустнымъ тономъ:
— Поручикъ, вы потеряли только вашъ прекрасный замокъ, я же лишился собаки.
При этомъ отвѣтѣ молодой человѣкъ оставался въ нерѣшимости, смѣяться ему или сожалѣть.
— Послушайте, капитанъ, — началъ онъ: — я лишился замка…
Капитанъ перебилъ его:
— Такъ что-же изъ этого? Завтра вы выиграете другой.
— Да, но и вы найдете другую собаку.
Старикъ покачалъ головой.
— Я найду собаку, но не верну бѣднаго Драка.
Онъ замолчалъ. Крупныя слезы катились изъ его глазъ по грубымъ, загорѣлымъ щекамъ.
— Это былъ мой единственный другъ, — продолжалъ онъ: — я не зналъ ни отца, ни матери, да упокоитъ Богъ ихъ души! Поручикъ, бѣдный Дракъ спасъ мнѣ жизнь в померанскую войну и я назвалъ его въ честь знаменитаго адмирала. Добрая собака, она не измѣняла мнѣ ни въ счастіи, ни въ горѣ. Послѣ сраженія при Огольфанѣ, великій генералъ Шакъ поласкалъ его рукою, говоря: «Славная у тебя собака, сержантъ Лори!» Въ то время я былъ еще сержантомъ.
— А! — перебилъ молодой баронъ, помахивая хлыстикомъ: — Какъ странно, должно быть, быть сержантомъ.
Старый служака не слушалъ его. Повидимому онъ разсуждалъ самъ съ собою и безсвязныя слова срывались съ его языка.
— Бѣдный Дракъ! Сколько разъ здравъ и невредимъ выбирался ты изъ брешей и траншей и для чего же? Чтобы утонуть какъ кошка въ проклятомъ дронтгеймскомъ заливѣ! Бѣдная собака! Мой храбрый другъ! Ты достоинъ былъ умереть вмѣстѣ со мною на полѣ битвы.
— Полноте хныкать, капитанъ, — вскричалъ поручикъ: — завтра, быть можетъ, намъ придется драться.
— Да, — презрительно отвѣтилъ старый капитанъ: — съ достойными врагами!
— А что же, съ разбойниками рудокопами! Съ дьявольскими охотниками!
— Съ каменотесами, съ грабителями большихъ дорогъ, съ субъектами, которые не сумѣютъ выстроить свиной головы или угла Густава Адольфа! Вотъ съ какимъ сбродомъ придется имѣть дѣло мнѣ, побывавшему въ померанскомъ и голштинскомъ походахъ, сдѣлавшему сканійскую и далекарлійскую кампаніи! Сражавшемуся съ знаменитымъ генералом Шакомъ и храбрымъ графомъ Гульденлью!..
— Но вы забываете, — перебилъ Рандмеръ: — что у этихъ бандъ страшный предводитель, дикій и сильный великанъ, подобный Голіафу, извергъ, упивающійся человѣческою кровью, демонъ, въ которомъ соединились всѣ силы ада…
— Кто же это такой? — спросилъ капитанъ.
— Знаменитый Ганъ Исландецъ!
— Брр! Побьюсь объ закладъ, что этотъ грозный полководецъ не съумѣетъ зарядить мушкетъ въ четыре пріема!
Рандмеръ расхохотался.
— Смѣйтесь, смѣйтесь, — продолжалъ капитанъ: — дѣйствительно будетъ очень весело, когда наши добрыя сабли скрестятся съ грубыми заступами и славныя копья съ навозными вилами! Нечего сказать, достойные противники! Мой храбрый Дракъ не сталъ бы даже кусать ихъ за ноги!..
Капитанъ продолжалъ энергически изливать свою досаду, какъ вдругъ рѣчь его прервана была появленіемъ офицера, подбѣжавшаго къ нимъ запыхавшись.
— Капитанъ Лори! Милѣйшій Рандмеръ.
— Что такое? — разомъ спросили оба.
— Друзья мои… я леденѣю отъ ужаса… Алефельдъ! Поручикъ Алефельдъ! Сынъ великаго канцлера! Знаете, любезный баронъ Рандмеръ, этотъ Фредерикъ… этотъ элегантный щеголь!..
— Да, черезчуръ элегантный, — отвѣтилъ баронъ: — Однако на послѣднемъ балу въ Шарлоттенбургѣ я перещеголялъ его костюмомъ… Но что съ нимъ случилось?
— Знаю, о комъ вы говорите, — сказалъ въ то же время капитанъ Лори: — Фредерикъ Алефельдъ, поручикъ третьей роты съ синими лацканами. Онъ порядкомъ неглежировалъ службой.
— На него не станутъ теперь жаловаться, капитанъ Лори.
— Это почему? — спросилъ Рандмеръ.
— Онъ въ Вальстромскомъ гарнизонѣ, - равнодушно замѣтилъ старый капитанъ.
— Именно. Полковникъ только-что получилъ извѣстіе… бѣдный Фредерикъ!
— Но что съ нимъ случилось? Капитанъ Болларъ, вы пугаете меня.
Старый Лори продолжалъ:
— Брр! Нашъ щеголь по обыкновенію не поспѣлъ на перекличку; капитанъ посадилъ подъ арестъ канцлерскаго сынка, — вотъ и все несчастіе, которое такъ подѣйствовало на капитана Боллара.
Болларъ хлопнулъ его по плечу.
— Капитанъ Лори, поручикъ Алефельдъ съѣденъ заживо.
Капитаны значительно переглянулись, а Рандмеръ, сначала удивленный, вдругъ расхохотался.
— Э! Капитанъ Болларъ, у васъ всегда найдется какая нибудь скверная шутка. Но предупреждаю васъ, меня вы не проведете.
Скрестивъ руки, поручикъ далъ полную волю своей веселости, клянясь, что его больше всего забавляетъ легковѣріе, съ которымъ Лори принимаетъ вздорныя выдумки Боллара.
— Выдумка дѣйствительно забавная, — говорилъ онъ: — одна мысль, что Фредерикъ, такъ заботившійся о своей кожѣ, съѣденъ живымъ, въ состояніи уморить со смѣху.
— Полно дурачиться, Рандмеръ, — сердито сказалъ Болларъ: — говорю вамъ, Алефельдъ умеръ, я слышалъ это отъ самого полковника.
— О! Да онъ отлично играетъ свою роль! — продолжалъ баронъ, не переставая смѣяться: — Шутникъ!
Болларъ пожалъ плечами и обратился къ старому Лори, который хладнокровно просилъ его разсказать подробности.
— Въ самомъ дѣлѣ, любезный капитанъ Болларъ, — подметилъ неистощимый весельчакъ: — разскажите же намъ, кѣмъ это съѣденъ нашъ молодчикъ. Достался ли онъ на завтракъ волку, или на обѣдъ буйволу, или на ужинъ медвѣдю?
— Полковникъ, — сказалъ Болларъ: — только-что получилъ въ дорогѣ депешу, которая сперва извѣщаетъ, что Вальстромскій гарнизонъ отступаетъ къ намь, тѣснимый значительнымъ отрядомъ мятежниковъ…
Старый Лори нахмурился.
— А затѣмъ, — продолжалъ Болларъ: — что поручикъ Фредерикъ Алефельдъ, отправившись три дня тому назадъ на охоту въ горы къ Арбарскимъ развалинамъ, встрѣтился съ чудовищемъ, которое утащило его въ свою пещеру и пожрало.
Веселость поручика Рандмера удвоилась.
— О! о! Съ какимъ легковѣріемъ добрый Лори вѣритъ дѣтскимъ сказкамъ! Превосходно! Храните вашу серьезность, милый Болларъ; вы удивительно забавны! Однако, вы не сказали намъ, какое чудовище, какой лѣшій или вампиръ утащилъ нашего поручика и пожралъ его какъ шестидневнаго козленка.
— Я говорю не вамъ, — пробормоталъ съ досадою Болларъ: — а Лори, который не дурачится какъ вы. Любезный Лори, чудовище, упившееся кровью Фредерика, Ганъ Исландецъ.
— Предводитель разбойниковъ! — вскричалъ старый офицеръ.
— Ну вотъ, мой храбрый Лори, — подхватилъ со смѣхомъ Рандмеръ: — надо ли умѣть заряжать мушкетъ, когда такъ ловко работаешь челюстями.
— Баронъ Рандмеръ, — сказалъ Болларъ: — вы ужасно походите на Алефельда. Берегитесь, чтобы васъ не постигла та же участь.
— Ей Богу, мнѣ больше всего нравится невозмутимая серьезность капитана Боллара, — вскричалъ молодой человѣкъ.
— А меня, — возразилъ тотъ: — больше всего пугаетъ неистощимая веселость поручика Рандмера.
Въ эту минуту толпа офицеровъ, съ живостью о чемъ-то разговаривавшихъ, подошла къ нашимъ собесѣдникамъ.
— Ахъ, чертъ возьми! — вскричалъ Рандмеръ: — Надо позабавить ихъ выдумкой Боллара. Знаете-ли, господа, — продолжалъ онъ, идя къ нимъ навстрѣчу: — несчастный Фредерикъ Алефельдъ съѣденъ заживо извергомь Ганомъ Исландцемъ.
Сказавъ это, онъ не могъ удержаться отъ смѣха, который къ его удивленію встрѣченъ былъ почти негодующими криками:
— Какъ! Вы смѣетесь! Я не ожидалъ, чтобы Рандмеръ сталъ сообщать такимъ тономъ подобную новость. Смѣяться надъ несчастіемъ товарища!
— Какъ? — съ смущеніемъ спросилъ Рандмеръ: — Неужели это правда?
— Да вы сами же говорите! — кричали ему со всѣхъ сторонъ: — Развѣ вы уже не вѣрите своимъ словамъ:
— Но я полагалъ, что это выдумка Боллара…
— Выдумка была бы самая непозволительная, — вмѣшался старый офицеръ: — но къ несчастію, извѣстіе это вполнѣ достовѣрно. Нашъ полковникъ, баронъ Ветгайнъ, только-что получилъ эту роковую вѣсть.
— Страшное происшествіе! Какой ужасъ! — послышались голоса въ толпѣ.
— Намъ придется драться съ волками и медвѣдями въ образѣ человѣческомъ, — замѣтилъ кто-то.
— На насъ посыпятся выстрѣлы невѣдомо откуда, — сказалъ другой: — насъ перестрѣляютъ по одиночкѣ какъ старыхъ фазановъ въ птичникѣ.
Невольно содрогнешься, подумавъ о смерти Алефельда, — вскричалъ Болларъ торжественнымъ тономъ: — нашъ полкъ несчастливъ. Смерть Диспольсена, гибель бѣдныхъ солдатъ въ Каскадтиморѣ, страшная участь Алефельда, — вотъ три трагическихъ происшествія въ короткій промежутокъ времени.
Молодой баронъ Рандмеръ вышелъ наконецъ изъ своей молчаливой задумчивости.
— Просто не вѣришь своимъ ушамъ! — вскричалъ онъ: — Фредерикъ, этотъ ловкій танцоръ!
Послѣ этого глубокомысленнаго изреченія, онъ снова замолчалъ, между тѣмъ какъ капитанъ Лори, искренно соболѣзнуя смерти молодаго поручика, замѣтилъ второму стрѣлку, Торику Бельфасту, что мѣдь на его перевязи не такъ ярко блеститъ какъ прежде.
XXXI
При заходѣ солнца видъ сжатой оголенной нивы наводитъ на душу какую-то зловѣщую грусть, когда идешь одиноко, шурша ногами въ стебляхъ высохшей соломы, прислушиваясь къ монотонному треску кузнечика и слѣдя, какъ огромныя безформенныя облака медленно ложатся на горизонтѣ, подобно призрачнымъ трупамъ.
Такое ощущеніе испытывалъ Орденеръ вечеромъ, послѣ неудачной ветрѣчи своей съ исландскимъ разбойникомъ. Изумленный на минуту его поспѣшнымъ бѣгствомъ онъ намѣревался сперва броситься за нимъ въ погоню, но заблудившись въ кустарникѣ, потерялъ цѣлый день, бродя по дикимъ необработаннымъ полямъ, не встрѣчая слѣда человѣческаго. Къ вечеру онъ очутился въ обширной степи, окаймленной со всѣхъ сторонъ небосклономъ и не представлявшей никакого убѣжища юному путнику, истомленному усталостями и голодомъ.
Страданія тѣлесныя усилились и душевными муками. Предпріятіе его не увѣнчалось успѣхомъ. У него не осталось даже обманчивой надежды, заставлявшей его преслѣдовать разбойника; тысячи печальныхъ мыслей, о которыхъ вчера не было и помину, зароились теперь въ его утомленномъ мозгу.
Что теперь дѣлать? Какъ вернуться къ Шумахеру, не принося съ собой спасенія Этели? Какія страшныя бѣдствія могъ отклонить онъ, разыскавъ роковой ящикъ? А бракъ его съ Ульрикой Алефельдъ! Ахъ! Если бы по крайней мѣрѣ удалось ему вырвать свою Этель изъ тюрьмы, если бы могъ онъ бѣжать съ ней и скрыть свое блаженство гдѣ нибудь на краю свѣта!..
Завернувшись въ плащъ, Орденеръ легъ на землю — небо было мрачно; грозная молнія по временамъ прорывалась сквозь тучи, какъ сквозь траурное покрывало, и быстро потухала. Холодный вѣтеръ бушевалъ на равнинѣ. Молодой человѣкъ почти не обращалъ вниманія на эти признаки приближающейся бури; если бы и могъ онъ гдѣ нибудь укрыться отъ непогоды и отдохнуть отъ усталости, нигдѣ не скрылся бы онъ отъ своего несчастія и тревожныхъ мыслей, не дававшихъ ему покоя.
Вдругъ смутный шумъ человѣческихъ голосовъ достигъ его слуха. Съ удивленіемъ приподнялся онъ на локоть и примѣтилъ въ нѣкоторомъ разстояніи странныя тѣни, двигавшіяся въ темнотѣ. Онъ сталъ всматриваться пристальнѣе. Лучъ свѣта сверкнулъ въ таинственной толпѣ и Орденеръ съ легко понятнымъ изумленіемъ увидалъ, что всѣ эти фантастическіе признаки одинъ за другимъ погружаются въ землю. Затѣмъ все исчезло.
Орденеръ былъ чуждъ предразсудковъ своего времени и своей страны. Его зрѣлый, серьезный умъ презиралъ тѣ суевѣрія и страхи, которые тревожатъ дѣтство людей, и народовъ. Однако, въ этомъ страшномъ видѣніи было что-то сверхъестественное, заставившее его усомниться въ доводахъ разсудка. Кто знаетъ, можетъ быть духи умершихъ дѣйствительно возвращаются иногда на землю?
Онъ тотчасъ же поднялся съ земли, осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ и направился къ тому мѣсту, гдѣ скрылись видѣнія. Дождь сталъ накрапывать крупными каплями, плащъ Орденера надувался какъ парусъ, перо на шляпѣ, развѣвавшееся по вѣтру, било его по лицу.
Вдругъ онъ остановился. Блескъ молніи указалъ ему невдалекѣ отверстіе широкаго круглаго колодца, въ который онъ непремѣнно свалился бы, если бы не спасительный блескъ грозы. Онъ приблизился къ этой пропасти, въ страшной глубинѣ которой виднѣлся неясный свѣтъ, распространявшiй внизу красноватый отблескъ по стѣнамъ цилиндрической шахты, ведшей въ нѣдра земли. Этотъ огонь, казавшійся волшебнымъ пламенемъ гномовъ, какъ бы увеличивалъ необъятный мракъ, представлявшійся взору.
Безстрашный юноша сталъ прислушиваться, наклонившись надъ бездной. Отдаленный шумъ голосовъ достигъ его слуха. Онъ болѣе не сомнѣвался, что существа, столь чуднымъ образомъ явившіяся и исчезнувшія въ его глазахъ, скрылись въ эту пропасть, и почувствовалъ непреодолимое желаніе спуститься туда за ними, если бы даже эти призраки привели его въ самый адъ. Къ тому же буря разыгралась не на шутку, а въ пропасти можно было найти убѣжище.
Но какъ спуститься туда? Какой путь избрали его предшественники, если только то не были призраки? Новый блескъ молніи подоспѣлъ на выручку, освѣтивъ у ногъ Орденера первыя ступени лѣстницы, исчезавшей въ глубинѣ колодца. Это было толстое вертикальное бревно съ желѣзными перекладинами для рукъ и ногъ того, кто отважится спуститься въ бездну.
Орденеръ не колебался ни минуты, и смѣло ступивъ на опасную лѣстницу, сталъ спускаться въ пропасть, не зная даже, доведутъ ли ступени его до конца, не думая, что можетъ быть ему не суждено уже еще разъ взглянуть на солнце. Скоро во мракѣ, обступившемъ его со всѣхъ сторонъ, онъ могъ различать небо только при голубоватомъ блескѣ молніи, то и дѣло прорѣзывающей тучи. Проливной дождь, затоплявшій поверхность земли, падалъ на него тонкой туманной росой. Порывы вѣтра, стремительно врывавшіеся въ колодецъ, съ протяжнымъ свистомъ бушевали надъ его головой. А онъ спускался все ниже и ниже, медленно приближаясь къ подземному свѣту, и остерегаясь лишь смотрѣть въ глубину, чтобы не упасть отъ головокруженія.
Между тѣмъ воздухъ становился все удушливѣе, голоса слышнѣе и красноватый отблескъ, дрожавшій на стѣнахъ колодца, возвѣщалъ близость дна пропасти. Спустившись еще нѣсколько ступеней, Орденеръ могъ наконецъ различить внизу лѣстницы входъ въ подземелье, освѣщенный красноватыми дрожащими лучами, и услышалъ слова, приковавшія все его вниманіе.
— А Кеннибола все еще нѣтъ! — нетерпѣливо говорилъ кто-то.
— Чтобы это могло задержать его? — спросилъ тотъ же голосъ послѣ минутнаго молчанія.
— Сами не знаемъ, господинъ Гаккетъ, — послышалось въ отвѣтъ.
— Эту ночь онъ хотѣлъ провести у сестры своей Маасъ Брааль въ деревнѣ Сурбъ, — замѣтилъ другой голосъ.
— Вы видите, — вовразилъ первый: — я сдержалъ свои обѣщанія… Я обязался привести вамъ предводителя, Гана Исландца, и привелъ…
При этихъ словахъ поднялся шумъ, значеніе котораго трудно было бы угадать. Любопытство Орденера, пробудившееся при имени Кеннибола, столь удивившаго его вчера, удвоилось при имени Гана Исландца.
Тотъ же голосъ продолжалъ:
— Ну, друзья мои, Джонасъ, Норбитъ, отсутствіе Кеннибола не составляетъ большой важности. Насъ теперь такъ много, что намъ уже нечего бояться. Нашли вы знамена въ Крагскихъ развалинахъ?
— Да, господинъ Гаккетъ, — отвѣтило нѣсколько голосовъ.
— Ну, такъ теперь пора поднять знамя возстанія! Вотъ вамъ деньги! У васъ есть непобѣдимый предводитель! Смѣлѣе! Идемъ освободить благороднаго Шумахера, несчастнаго графа Гриффенфельда!
— Ура! Да здравствуетъ Шумахеръ! — закричала толпа и тысячи отголосковъ повторили имя Шумахера подъ сводами подземелья.
Орденеръ, изумленіе и любопытство котораго росли съ каждой минутой, слушалъ затаивъ дыханіе. Слушалъ, не смѣя вѣрить и не отдавая себѣ отчета въ слышанномъ. Имя Шумахера въ связи съ именемъ Кеннибола и Гана Исландца! Что за мрачная драма, которой онъ, тайный зритель, видѣлъ лишь одну сцену? Кого хотѣли защищать? О чьей головѣ шло дѣло?
— Слушайте! — продолжалъ тотъ же голосъ: — передъ вами другъ, довѣренный другъ благороднаго графа Гриффенфельда…
Орденеръ въ первый разъ слышалъ этотъ голосъ. Тотъ продолжалъ:
— Положитесь на меня вполнѣ, какъ онъ; друзья, все вамъ благопріятствуетъ; вы достигнете Дронтгейма, не встрѣтивъ ни одного врага.
— Такъ пойдемте же, господинъ Гаккетъ, — перебилъ чей-то голосъ: — только вотъ Петерсъ увѣряетъ, что видѣлъ въ ущельяхъ Мункгольмскій полкъ, выступившій противъ насъ въ полномъ составѣ.
— Лжетъ онъ, — увѣреннымъ тономъ отвѣтилъ Гаккетъ: — правительству еще ничего не извѣстно о вашемъ возмущеніи; его невѣдѣніе таково, что даже тотъ, кто отвергъ ваши справедливыя требованія, вашъ притѣснитель и гонитель знаменитаго несчастнаго Шумахера, генералъ Левинъ Кнудъ отправился изъ Дронтгейма въ столицу присутствовать при бракосочетаніи своего воспитанника Орденера Гульденлью съ Ульрикой Алефельдъ.
Можно представить себѣ изумленіе Орденера, когда онъ слушалъ такую рѣчь. Въ дикой, пустынной странѣ, подъ сводами подземной пещеры, какіе-то незнакомцы произносили имена близкихъ ему людей, даже его собственное! Мучительное сомнѣніе запало въ его душу. Возможно ли это? Неужели тотъ, чей голосъ онъ слышалъ, дѣйствительно агентъ графа Шумахера? Неужели Шумахеръ, этотъ почтенный старецъ, благородный отецъ его дорогой Этели, возмутился противъ короля, своего монарха, подкупилъ разбойниковъ, зажегъ пламя междоусобной войны? И для этого лицемѣра, для этого бунтовщика онъ, сынъ вице-короля Норвегіи, воспитанникъ генерала Левина, пренебрегъ своей будущностью, рисковалъ своей жизнью! Ради него розыскалъ и вступилъ въ борьбу съ исландскимъ разбойникомъ, съ которымъ, повидимому, Шумахеръ самъ имѣлъ сношенія, если вручалъ ему предводительство надъ этими бандитами!
Кто знаетъ, можетъ быть тотъ ящикъ, изъ-за котораго Орденеръ едва не поплатился жизнью, заключалъ въ себѣ какія нибудь гнусныя тайны этого низкаго замысла? Не насмѣхался ли надъ нимъ мстительный узникъ Мункгольмской крѣпости? Быть можетъ, онъ узналъ въ немъ сына вице-короля; быть можетъ — какъ мучительна была эта мысль великодушному молодому человѣку! — склонивъ его предпринять это роковое путешествіе, онъ разсчитывалъ только на гибель сына своего врага!..
Увы! Когда къ какому нибудь несчастливцу долгое время питаемъ мы уваженіе и любовь, когда мысленно въ глубинѣ души поклялись въ неизмѣнной преданности гонимому судьбой, — какъ ужасна бываетъ горечь той минуты, въ которую онъ окажется неблагодарнымъ и когда намъ приходится разочаровываться въ своемъ великодушіи и проститься съ чистымъ, прекраснымъ наслажденіемъ самопожертвованія. Въ одно мгновеніе старѣемъ мы самой печальной старостью, старѣемъ опытностью, теряемъ самыя чудныя иллюзіи жизни, которая и привлекательна-то только своими иллюзіями.
Эти горькія мысли безпорядочно толпились въ умѣ Орденера, который хотѣлъ бы умереть въ эту роковую минуту. Ему казалось, что все счастіе его жизни теперь рушилось навсегда. Многое въ увѣреніяхъ того, который выдавалъ себя довѣреннымъ агентомъ Гриффенфельда, казалось ему ложнымъ и сомнительнымъ, но такъ какъ все это клонилось къ тому, чтобы обмануть несчастныхъ поселянъ, Шумахеръ еще болѣе являлся виновнымъ въ его глазахъ: и этотъ Щумахеръ былъ отцомъ его Этели!..
Эти размышленія мучительно волновали его душу. Онъ дрожалъ, держась за ступени лѣстницы, и продолжалъ слушать. Иной разъ съ невыразимымъ нетерпѣніемъ, съ страшной жадностью ждемъ мы несчастій, которыхъ наиболѣе страшимся.
— Да, — продолжалъ голосъ посланца, — теперь вами предводительствуетъ страшный Ганъ Исландецъ. Кто теперь осмѣлится съ вами сражаться? Вы боретесь за своихъ женъ, за дѣтей, у которыхъ столь низко отнимаютъ наслѣдство, за благороднаго несчастливца, который вотъ ужъ двадцать лѣтъ несправедливо томится въ позорной тюрьмѣ. Идемъ, васъ ждетъ Шумахеръ и свобода! Смерть притѣснителямъ!
— Смерть притѣснителямъ! — подхватила тысяча голосовъ.
Стукъ оружія и хриплые звуки горныхъ рожковъ огласили своды подземелья.
— Стой! — закричалъ Орденеръ, поспѣшно соскочивъ съ лѣстницы.
Мысль избавить Шумахера отъ преступленія, а отечество отъ столькихъ бѣдствій совершенно овладѣла его душой. Но лишь только переступилъ онъ порогъ подземной пещеры, страхъ необдуманнымъ вмѣшательствомъ погубить отца его Этели, а быть можетъ и ее самое, заглушилъ въ немъ всякое другое чувство. Поблѣднѣвъ, остановился онъ у порога, съ изумленіемъ смотря на странное зрѣлище, открывшееся его взорамъ.
Пещера похожа была на обширную площадь подземнаго города, границы которой терялись въ массѣ столбовъ, поддерживавшихъ своды. Столбы эти сверкали какъ хрусталь при свѣтѣ тысячи факеловъ, которыми размахивала толпа странно вооруженныхъ людей, въ безпорядкѣ расхаживавшихъ въ глубинѣ площади. При видѣ этихъ огней и страшныхъ призраковъ, блуждавшихъ во мракѣ, можно было вообразить себя въ одномъ изъ тѣхъ сказочныхъ сборищъ, куда, по древнимъ сказаніямъ, стекаются колдуны и нечистая сила съ звѣздами въ рукахъ вмѣсто свѣтильниковъ, освѣщая по ночамъ древніе лѣса и разрушенные замки.
Поднялись оглушительные крики:
— Незнакомецъ! смерть! смерть ему!
Сто рукъ поднялось надъ Орденеромъ, который схватился за свою саблю… Благородный юноша! Въ своемъ великодушномъ порывѣ онъ забылъ, что онъ одинокъ и безоруженъ.
— Стой! стой! — вскричалъ голосъ, по которому Орденеръ узналъ посланца Шумахера.
Низенькій толстякъ, въ черной одеждѣ, съ проницательными коварными глазами, приблизился къ Орденеру.
— Кто ты такой? — спросилъ онъ.
Орденеръ не отвѣчалъ. Его такъ стиснули со всѣхъ сторонъ, что на груди его не осталось мѣста, въ которое бы не опиралось оружіе сабли или дуло пистолета.
— Что, струсилъ? — спросилъ усмѣхаясь толстякъ.
— Если бы вмѣсто этихъ шпагъ рука твоя лежала на моемъ сердцѣ, - хладнокровно отвѣтилъ Орденеръ, ты убѣдился бы, что оно бьется не скорѣе твоего, если только у тебя есть сердце.
— О! о! Да ты еще храбришься! Ну, такъ спровадьте его! — сказалъ толстякъ, повернувшись къ нему спиною.
— Убей меня, — замѣтилъ Орденеръ, — это все, чѣмъ я буду тебѣ обязанъ.
— Позвольте, господинъ Гаккетъ, — сказалъ старикъ съ густой бородой, опиравшійся на свой длинный мушкетъ, — вы здѣсь у меня, и одинъ я имѣю право отправить этого христіанина къ мертвецамъ разсказать имъ, что онъ у насъ высмотрѣлъ.
Господинъ Гаккетъ расхохотался.
— Какъ угодно, милѣйшій Джонасъ! Мнѣ все равно, кто станетъ судить этого шпіона, лишь бы засудить его.
Старикъ обернулся къ Орденеру:
— Ну, скажи-ка намъ кто ты такой, зачѣмъ это понадобилось тебѣ узнать, что мы за люди?
Орденеръ хранилъ молчаніе. Окруженный странными защитниками Шумахера, ради котораго онъ готовъ былъ пролить свою кровь, Орденеръ въ эту минуту желалъ одной лишь смерти.
— Ваша милость не хочетъ удостоить насъ отвѣтомъ, — сказалъ старикъ. — Лиса тоже молчитъ, когда попадетъ въ капканъ. Прикончите съ нимъ!
— Послушай, Джонасъ, — замѣтилъ Гаккетъ, — пусть Ганъ Исландецъ покажетъ намъ свою силу надъ этимъ шпіономъ.
— Да, да! — съ живостью подхватило нѣсколько головъ.
Изумленный, но не терявшій мужества Орденеръ сталъ искать глазами Гана Исландца, противъ котораго такъ храбро защищалъ свою жизнь въ это утро и еще съ большимъ удивленіемъ увидалъ, что къ нему приближался человѣкъ колоссальнаго тѣлосложенія, одѣтый въ костюмъ горцевъ.
Гигантъ устремилъ на Орденера безсмысленный звѣрскій взоръ и спросилъ топоръ.
— Ты не Ганъ Исландецъ, — твердо сказалъ Орденеръ.
— Убей его! Убей его! — яростно вскричалъ Гаккетъ.
Орденеръ зналъ, что всякое сопротивленіе будетъ безполезно. Желая въ послѣдній разъ поцѣловать локонъ волосъ Этели, онъ поднесъ руку къ груди и при этомъ движеніи изъ за пояса его выпала бумага.
— Что это за бумага? — спросилъ Гаккетъ: — Норбитъ, подними-ка ее.
Норбитъ, молодой человѣкъ, загорѣлыя грубыя черты лица котораго дышали благородствомъ, поднялъ и развернулъ бумагу.
— Боже мой! — вскричалъ онъ:- это охранительная грамота бѣднаго Христофора Недлама, злополучнаго товарища, котораго недѣлю тому назадъ казнили на Сконгенской площади за поддѣлку монеты.
— Ну, возьми себѣ этотъ клочекъ бумаги, — сказалъ Гаккетъ тономъ обманутаго ожиданія: — я думалъ, что это какой нибудь важный документъ. А ты, Ганъ, расправься-ка поскорѣй съ этимъ молодчикомъ.
Молодой Норбитъ сталъ передъ Орденеромъ.
— Этотъ человѣкъ подъ моей защитой, — вскричалъ онъ: — пока голова моя на плечахъ, ни одинъ волосъ не упадетъ съ его головы. Я не допущу, чтобы издѣвались надъ охранительной грамотой моего друга Христофора Недлама.
При видѣ столь неожиданнаго защитника Орденеръ съ умиленіемъ потупилъ голову; онъ вспомнилъ какъ надмѣнно принято было имъ трогательное пожеланіе священника Афанасія Мюндера, чтобы даръ умирающаго оказалъ благодѣяніе путнику!
— Ба! Что за вздоръ, Норбитъ! — возразилъ Гаккетъ: — Этотъ человѣкъ шпіонъ и долженъ умереть.
— Дайте сюда топоръ, — повторилъ гигантъ.
— Онъ не умретъ! — вскричалъ Норбитъ: — Это возмутитъ духъ бѣднаго Недлама, котораго подло вздернули на висѣлицу. Говорю вамъ, онъ не умретъ, таково было предсмертное желаніе Недлама.
— Дѣйствительно, Норбитъ правъ, — вмѣшался старый Джонасъ. — Какъ можете вы требовать смерти этого незнакомца, господинъ Гаккетъ, когда у него охранная грамота Христофора Недлама.
— Но вѣдь это шпіонъ, соглядатай, — возразилъ Гаккетъ.
Старикъ сталъ возлѣ Норбита передъ Орденеромъ и оба твердили упрямо:
— У него охранная грамота Христофора Недлама, повѣшеннаго въ Сконгенѣ.
Гаккетъ понялъ, что придется уступить, когда вся толпа заволновалась, крича, что незнакомца нельзя убивать, когда при немъ охранная грамота фальшиваго монетчика Недлама.
— Ну, какъ знаете, — пробормоталъ онъ сквозь зубы съ затаенной яростью: — будете пенять на себя.
— Будь онъ самъ дьяволъ, я и то не убилъ бы его, — замѣтилъ Норбитъ съ торжествующимъ видомъ.
Затѣмъ онъ обратился къ Орденеру.
— Послушай, — продолжалъ онъ: — ты должно быть добрый товарищъ, если злополучный Недламъ передалъ тебѣ свою охранную грамоту. Мы королевскіе рудокопы и бунтуемъ теперь, чтобы освободиться отъ опеки. Господинъ Гаккетъ, котораго ты видишь предъ собой, говоритъ, будто мы бунтуемъ за какого то графа Шумахера, но я и въ глаза его не видалъ. Послушай, дѣло наше правое; отвѣчай мнѣ, какъ отвѣтилъ бы своему святому покровителю. Хочешь идти съ нами за одно?
Счастливая идея вдругъ мелькнула въ умѣ Орденера.
— Хочу, — отвѣтилъ онъ.
Норбитъ подалъ ему свою саблю, которую тотъ взялъ молча.
— Братъ, — сказалъ Норбитъ: — если ты задумаешь намъ измѣнить, сперва убей меня.
Въ эту минуту подъ сводами подземелья раздался звукъ рожка и вдали послышались крики:
— Вотъ и Кенниболъ!
XXXII
Иной разъ внезапное вдохновеніе неожиданно освѣщаетъ нашу душу, — и цѣлый томъ размышленій и разсужденій не въ состояніи выразить всю обширность его, или измѣрить его глубину, подобно тому какъ свѣтъ тысячи светильниковъ не въ силахъ сравниться съ безпредѣльнымъ и мгновеннымъ блескомъ молніи.
И такъ, не станемъ анализировать того непреодолимаго таинственнаго побужденія, повинуясь которому, благородный сынъ вице-короля Норвегіи принялъ предложеніе Норбита и очутился въ рядахъ бандитовъ, возставшихъ на защиту Шумахера.
Нѣтъ сомнѣнія, что въ этомъ побужденіи не малую долю занимало великодушное желаніе во что бы то ни стало проникнуть мрачную тайну, — желаніе, смѣшанное отчасти съ горькимъ отвращеніемъ къ жизни, съ равнодушнымъ отчаяніемъ въ будущности; но кромѣ того, Орденеръ никакъ не могъ примириться съ мыслью о виновности Шумахера и въ этомъ поддерживали его подозрительность всего, что онъ видѣлъ, инстинктивное сознаніе лжи, а болѣе всего любовь къ Этели. Наконецъ имъ руководило безотчетное сознаніе важности той услуги, которую здравомыслящій другъ можетъ оказать Шумахеру въ средѣ его ослѣпленныхъ защитниковъ.
XXXIII
Заслышавъ крики, возвѣстившіе о прибытіи знаменитаго охотника Кеннибола, Гаккетъ поспѣшно бросился къ нему на встрѣчу, оставивъ Орденера съ двумя другими начальниками.
— Наконецъ то, дружище Кенниболъ! Идемъ, я представлю тебя вашему страшному предводителю, самому Гану Исландцу.
При этомъ имени Кенниболъ, вошедшій въ подземелье блѣдный, задыхающійся, со всклоченными волосами, съ лицомъ облитымъ потомъ, съ окровавленными руками, отступилъ шага на три.
— Гану Исландцу!
— О! Успокойся, онъ будетъ помогать вамъ, какъ другъ и товарищъ, — замѣтилъ Гаккетъ.
Кенниболъ не слушалъ его.
— Ганъ Исландецъ здѣсь! — повторилъ онъ.
— Ну да, — отвѣтилъ Гаккетъ, подавляя двусмысленную усмѣшку: — не бойся…
— Какъ! — въ третій разъ перебилъ охотникъ: — Вы говорите, что Ганъ Исландецъ въ этой шахтѣ…
Гаккетъ обратился къ окружающимъ:
— Что это, ужъ не рехнулся ли храбрый Кенниболъ? Да ты и запоздалъ то, должно быть, боясь Гана Исландца, — замѣтилъ онъ Кенниболу.
Кенниболъ поднялъ руки къ небу.
— Клянусь святой великомученицей Этельдерой Норвежской, не страхъ къ Гану Исландцу, господинъ Гаккетъ, а самъ Ганъ Исландецъ помѣшалъ мнѣ прибыть сюда вовремя.
Ропотъ изумленія поднялся при этихъ словахъ въ толпѣ горцевъ и рудокоповъ, окружавшихъ Кеннибола. Физіономія Гаккета снова омрачилась, какъ минуту тому назадъ при появленіи и неожиданномъ спасеніи Орденера.
— Что? Что ты сказалъ? — спросилъ онъ, понизивъ голосъ.
— Я говорю, господинъ Гаккетъ, что если бы не вашъ проклятый Ганъ Исландецъ, я былъ бы здѣсь до перваго крика совы.
— Неужто! Въ чемъ же дѣло?
— Охъ! Уже не спрашивайте лучше! Пусть побѣлѣетъ моя борода въ одинъ день, какъ шкурка горностая, если я еще разъ рискну охотиться за бѣлымъ медвѣдемъ.
— Ужъ не помялъ-ли тебя медвѣдь, чего добраго?
Кенниболъ презрительно пожалъ плечами.
— Медвѣдь! Вотъ страшилище-то! Чтобы Кеннибола помялъ мѣдвѣдь! Да за кого вы меня принимаете, господинъ Гаккетъ?
— Ахъ, сударь, если-бы вы знали, что со мной случилось, — продолжалъ старый охотникъ, понизивъ голосъ: — вы не увѣряли-бы меня, что Ганъ Исландецъ здѣсь.
Гаккетъ снова смутился и поспѣшно схватилъ Кеннибола за руку, какъ-бы опасаясь, чтобы онъ не подошелъ ближе къ тому мѣсту подземной площади, гдѣ надъ головами рудокоповъ виднѣлась огромная голова гиганта.
— Дружище Кенниболъ, — сказалъ онъ почти торжественнымъ тономъ: — прошу тебя, разскажи мнѣ толкомъ, что тебя задержало. Ты понимаешь, что въ настоящее время всякая бездѣлица можетъ имѣть для насъ важное значеніе.
— Это правда, — согласился Кенниболъ послѣ минутнаго раздумья.
Затѣмъ, уступивъ настоятельнымъ просьбамъ Гаккета, онъ разсказалъ ему какъ въ это утро съ шестью товарищами преслѣдовалъ онъ бѣлаго медвѣдя почти до самыхъ окрестностей Вальдергогской пещеры, не примѣчая въ пылу охоты близости этой страшной мѣстности; какъ на вой почти издыхающаго звѣря выбѣжалъ изъ пещеры малорослый, чудовище, демонъ и, размахивая каменнымъ топоромъ, кинулся защищать противъ нихъ медвѣдя. При появленіи этого дьявольскаго существа, которое не могло быть никѣмъ другимъ кромѣ Гана, исландскаго демона, кровь застыла отъ ужаса въ жилахъ семерыхъ охотниковъ; шесть его злополучныхъ товарищей пали жертвой обоихъ чудовищъ, а Кенниболъ спасся лишь поспѣшнымъ бѣгствомъ, благодаря своему проворству, утомленію Гана Исландца, а главнымъ образомъ, благодаря покровительству патрона охотниковъ, святаго Сильверста.
— И такъ, господинъ Гаккетъ, — докончилъ онъ свой страшный разсказъ, изукрашенный цвѣтистымъ краснорѣчіемъ горцевъ: — вы видите, что я запоздалъ не по своей винѣ. Скажите на милость, ну возможное-ли это дѣло, чтобы этотъ исландскій демонъ находился теперь здѣсь, въ этой Апсиль-корской шахтѣ, какъ нашъ другъ и союзникъ, когда я сегодня утромъ оставилъ его съ медвѣдемъ въ Вальдергогскомъ кустарникѣ у труповъ моихъ злополучныхъ товарищей? Увѣряю васъ, это немыслимая вещь. Я знаю теперь этого воплощеннаго демона; я самъ видѣлъ его!
Гаккетъ, внимательно выслушавшій его разсказъ, замѣтилъ важнымъ тономъ:
— Дружище Кенниболъ, когда ты говоришь о Ганѣ Исландцѣ, или объ адѣ, знай, что для нихъ все возможно. Все, что ты разсказалъ сію минуту, мнѣ было уже раньше извѣстно…
Выраженіе крайняго изумленія и самой простодушной довѣрчивости появилось въ суровыхъ чертахъ стараго охотника Кольскихъ горъ.
— Какъ?..
— Да, — продолжалъ Гаккетъ, въ лицѣ котораго болѣе зоркій наблюдатель могъ бы уловить выраженіе насмѣшливаго торжества: — я зналъ все, за исключеніемъ, конечно, того, что ты самъ былъ героемъ этого печальнаго приключенія. Ганъ Исландецъ, идя со мной сюда, разсказалъ мнѣ все это.
— Неужели! — вскричалъ Кенниболъ, смотря на Гаккета со страхомъ и почтеніемъ.
Гаккетъ хладнокровно продолжалъ:
— Очень просто; но теперь ты можешь успокоиться; я самъ представлю тебя этому страшному Гану Исландцу.
Кенниболъ вскрикнулъ отъ ужаса.
— Говорю тебѣ, не бойся ничего, — повторилъ Гаккетъ: — смотри на него, какъ на вашего предводителя и товарища. Только чуръ! Не напоминай ему о сегодняшнемъ приключеніи. Понимаешь?
Надо было покориться, но не безъ живѣйшаго внутренняго отвращенія рѣшился охотникъ приблизиться къ демону. Они подошли къ толпѣ, въ которой находились Орденеръ, Джонасъ и Норбитъ.
— Богъ въ помощь, друзья мои Джонасъ, Норбитъ, — поздоровался Кенниболъ.
— Спасибо на добромъ словѣ, Кенниболъ, — отвѣтилъ Джонасъ.
Въ эту минуту взглядъ Кеннибола встрѣтился съ вгзлядомъ Орденера, который не спускалъ съ него глазъ.
— А, и вы здѣсь, молодой человѣкъ, — вскричалъ охотникъ, съ живостью подходя къ нему и протягивая свою грубую морщинистую руку: — добро пожаловать. Повидимому ваша смѣлая попытка увѣнчалась успѣхомъ?
Орденеръ, не понимая намековъ горца, хотѣлъ было попросить у него объясненія, когда Норбитъ вскричалъ:
— Такъ ты знаешь этого незнакомца, Кенниболъ?
— Святые угодники, знаю-ли я его! Я его люблю и уважаю! Онъ, какъ всѣ мы, стоитъ за наше правое дѣло.
Съ этими словами онъ бросилъ на Орденера значительный взглядъ, но когда тотъ хотѣлъ отвѣтить ему, Гаккетъ подвелъ къ нимъ гиганта, отъ котораго съ ужасомъ сторонились всѣ бандиты.
— Храбрый охотникъ Кенниболъ, — сказалъ онъ: — вотъ вашъ знаменитый предводитель, Ганъ Клипстадурскій.
Скорѣе съ изумленіемъ, чѣмъ со страхомъ Кенниболъ взглянулъ на исполинскаго разбойника и шепнулъ на ухо Гаккету:
— Господинъ Гаккетъ, Ганъ Исландецъ, съ которымъ я встрѣтился сегодня близъ Вальдергога, былъ низокъ ростомъ…
Гаккетъ отвѣчалъ ему тихимъ голосомъ:
— Вспомни, Кенниболъ! Демонъ!
— И то правда, — согласился легковѣрный охотникъ: — долго-ли ему оборотиться.
Съ невольной дрожью онъ отошелъ въ сторону и украдкой осѣнилъ себя крестнымъ знаменіемъ.
XXXIV
Въ мрачномъ дубовомъ лѣсу, куда едва проникали блѣдныя утреннія сумерки, низкаго роста человѣкъ подошелъ къ другому, который повидимому поджидалъ его. Разговоръ начался въ полголоса.
— Простите, ваше сіятельство, что я заставилъ васъ ждать. Меня задержали непредвидѣнныя случайности…
— Что такое?
— Начальникъ горцевъ Кенниболъ только въ полночь пришелъ на сходку, а тѣмъ временемъ мы встревожены были неожиданнымъ свидѣтелемъ.
— Свидѣтелемъ?
— Да, какой то субъектъ, какъ сумасшедшій ворвался въ наше сборище въ шахтѣ. Сперва я подумалъ, что это шпіонъ и велѣлъ было убить его; но у него нашлась охранная грамота какого-то висѣльника, пользовавшагося уваженіемъ среди рудокоповъ, которые и приняли незнакомца подъ свое покровительство. Разсудивъ хорошенько, я полагаю, что это должно быть какой нибудь искатель приключеній или полуумный ученый. На всякій случай относительно его я уже принялъ свои мѣры.
— Ну, а вообще какъ идутъ дѣла?
— Превосходно. Рудокопы Гульдбранхаля и Фа-Рёра, подъ начальствомъ молодаго Норбита и Джонаса, кольскіе горцы подъ предводительствомъ Кеннибола теперь должно быть уже выступили въ путь. Ихъ товарищи изъ Губфалло и Зунд-Моёра присоединятся къ нимъ въ четырехъ миляхъ отъ Синей Звѣзды. Конгсберцы и отрядъ сміазенскихъ кузнецовъ, которые, какъ извѣстно высокородному графу, заставили уже отступить Вальстромскій гарнизонъ, будутъ поджидать ихъ нѣсколько миль далѣе. Наконецъ, всѣ эти соединенныя банды остановятся на ночь въ двухъ миляхъ отъ Сконгена, въ ущельяхъ Чернаго Столба.
— Ну, а какъ принятъ былъ вашъ Ганъ Исландецъ?
— Безъ малѣйшаго недовѣрія.
— О! Какъ бы мнѣ хотѣлось отмстить этому чудовищу за смерть сына! Какъ жаль, что онъ вывернулся изъ нашихъ рукъ!
— Ваше сіятельство, пользуйтесь сперва именемъ Гана Исландца, чтобы отмстить Шумахеру, а потомъ мы найдемъ средство отмстить и самому Гану… Мятежники цѣлый день будутъ въ пути, на ночь же остановятся въ ущельяхъ Чернаго Столба, въ двухъ миляхъ отъ Сконгена.
— Что вы? Развѣ можно подпустить такъ близко къ Сконгену такую банду разбойниковъ?.. Мусдемонъ!..
— Вы меня подозрѣваете, графъ! Пошлите, не теряя времени, гонца къ полковнику Ветгайну, полкъ котораго долженъ находиться теперь въ Сконгенѣ; предупредите его, что все скопище мятежниковъ расположится сегодня ночью въ ущельяхъ Чернаго Столба, какъ нарочно созданныхъ для засады…
— Понимаю, но зачѣмъ, милѣйшій Мусдемонъ, навербовали вы такую гибель бунтовщиковъ?
— Графъ, вы забываете, что чѣмъ значительнѣе будетъ мятежъ, тѣмъ тяжелѣе преступленіе Шумахера и тѣмъ важнѣе ваша заслуга. Кромѣ того, необходимо разомъ положить конецъ бунту.
— Прекрасно! Но не слишкомъ ли близко мѣсто стоянки къ Сконгену?
— Изъ всѣхъ горныхъ ущельевъ это единственное, въ которомъ невозможно защищаться. Оттуда выйдутъ только тѣ, кому назначено явиться передъ судилищемъ.
— Превосходно!.. Однако, Мусдемонъ, мнѣ хотѣлось бы поскорѣе развязаться съ этимъ дѣломъ. Если съ этой стороны все идетъ какъ нельзя лучше, зато съ другой — мало утѣшительнаго. Вы знаете, что мы предприняли въ Копенгагенѣ тайные розыски насчетъ тѣхъ бумагъ, которыя могли попасть въ руки какого-то Диспольсена?..
— Знаю, графъ.
— Ну, такъ я недавно узналъ, что этотъ интриганъ имѣлъ тайныя сношенія съ проклятымъ астрологомъ Кумбизульсумомъ…
— Который на дняхъ умеръ?
— Да; и при смерти этотъ старый колдунъ вручилъ агенту Шумахера бумаги…
— Чортъ возьми! У него были мои письма, изложеніе нашего предпріятія!..
— Вашего предпріятія, Мусдемонъ?
— Виноватъ, ваше сіятельство; но къ чему было довѣряться этому шарлатану Кумбизульсуму!?.. Старому плуту!..
— Послушайте, Мусдемонъ, я не такъ недовѣрчивъ, какъ вы… Не безъ серьезныхъ основаній вѣрилъ я всегда въ волшебную науку стараго астролога.
— Вы, ваше сіятельство, могли вѣрить въ его науку, но зачѣмъ же было полагаться на его честность? Во всякомъ случаѣ намъ нечего бояться, графъ. Диспольсенъ умеръ, бумаги пропали; а черезъ нѣсколько дней не будетъ и тѣхъ, кому онѣ могли сослужить службу.
— Конечно; какъ бы то ни было, кто посмѣетъ обвинить меня?
— Или меня, пользующагося покровительствомъ вашего сіятельства?
— О да, вы всегда можете разсчитывать на меня; но прошу васъ, не затягивайте этого дѣла. Я тотчасъ же пошлю гонца къ полковнику. Пойдемте, слуги поджидаютъ меня за этими кустами, мы отправимся прямо въ Дронтгеймъ, откуда должно быть уже выѣхалъ мекленбуржецъ. Служите мнѣ вѣрой и правдой и я защищу васъ отъ всѣхъ Кумбизульсумовъ и Диспольсеновъ на свѣтѣ!
— Вѣрьте, ваше сіятельство… Дьяволъ!
Оба исчезли въ лѣсу; голоса ихъ затихли мало по малу и вскорѣ послышался топотъ двухъ лошадей.
XXXV
Въ то время какъ въ одномъ изъ лѣсовъ, окружающихъ Сміазенское озеро происходилъ вышеописанный разговоръ, мятежники, раздѣлившись на три отряда, вышли изъ Апсилькорской свинцовой рудокопни черезъ главный входъ, расположенный на днѣ глубокаго оврага.
Орденеръ, который, не смотря на свое желаніе сблизиться съ Кенниболомъ, попалъ въ отрядъ Норбита, видѣлъ передъ собой длинную процессію факеловъ, пламя которыхъ, борясь съ разсвѣтомъ зарождающагося утра, отразилось въ топорахъ, вилахъ, заступахъ, въ желѣзныхъ наконечникахъ дубинъ, въ тяжелыхъ молотахъ, ломахъ, баграхъ и тому подобныхъ грубыхъ рабочихъ орудіяхъ, какими только могли воспользоваться мятежники, не пренебрегая и обыкновеннымъ оружіемъ, свидѣтельствовавшимъ, что бунтъ былъ послѣдствіемъ заговора. Мушкеты, копья, сабли, карабины и пищали дополняли собой вооруженіе банды.
Когда солнце взошло надъ горизонтомъ и факелы издавали одинъ лишь чадъ, Орденеръ могъ лучше разсмотрѣть это странное войско, выступавшее въ безпорядкѣ съ хриплыми пѣснями и дикими криками, и походившее на стаю голодныхъ волковъ, почуявшихъ запахъ трупа.
Все войско раздѣлено было на три отряда или, скорѣе, на три толпы.
Впереди шли кольскіе горцы подъ предводительствомъ Кеннибола, на котораго всѣ они походили какъ одеждой изъ звѣриныхъ шкуръ, такъ и своими дикими суровыми физіономіями.
Далѣе слѣдовали молодые рудокопы подъ начальствомъ Норбита и старые — подъ командой Джонаса — въ своихъ большихъ войлочныхъ шляпахъ, въ широкихъ панталонахъ, съ голыми руками и почернѣвшими лицами, съ взглядомъ, тупо устремленнымъ на солнце. Надъ этой безпорядочной толпой развѣвались тамъ и сямъ огненнаго цвѣта знамена съ различными надписями, какъ то: Да здравствуетъ Шумахеръ! — Освободимъ нашего благодѣтеля! — Свобода рудокопамъ! — Свобода графу Гриффенфелъду! — Смерть Гульденлью! — Смерть притѣснителямъ! — Смерть Алефельду!
Бунтовщики смотрѣли на эти знамена скорѣе какъ на безполезную ношу, чѣмъ на украшеніе, и они передавали ихъ изъ рукъ въ руки, когда знаменоносецъ уставалъ или хотѣлъ принять участіе въ нестройномъ хорѣ рожковъ и завываніяхъ своихъ соратниковъ.
Аріергардъ этого страннаго войска составлялъ десятокъ телѣгъ, запряженныхъ оленями и большими ослами и предназначенныхъ вѣроятно для фуража. Гигантъ, приведенный Гаккетомъ, одинъ шелъ впереди отряда съ дубиною и топоромъ, а въ нѣкоторомъ отдаленіи позади него съ затаеннымъ ужасомъ слѣдовали первыя ряды горцевъ Кеннибола, который не спускалъ глазъ съ этого дьявольскаго вождя, ожидая, что онъ того гляди измѣнитъ свой видъ.
Съ дикими криками и оглашая сосновые лѣса звуками рожковъ, банда мятежниковъ спустилась съ южныхъ горъ Дронтгеймскаго округа. Тутъ присоединились къ нимъ отдѣльные отряды изъ Сундъ-Мора, Губфалло, Конгсберга и толпа сміазенскихъ кузнецовъ, представлявшихъ странный контрастъ съ прочими бунтовщиками. Эти рослые, сильные люди, вооруженные клещами и молотами, въ кирасахъ изъ широкихъ мѣдныхъ пластинокъ, съ деревяннымъ крестомъ вмѣсто знамени, мѣрно выступали впередъ, распѣвая библейскіе псалмы. Предводителемъ ихъ былъ крестоносецъ, шедшій во главѣ безъ всякаго оружія.
Всѣ эти скопища мятежниковъ не встрѣчали ни души на пути своемъ. При ихъ приближеніи пастухи загоняли стада свои въ пещеры, поселяне бѣжали изъ деревень. Житель равнинъ и долинъ вездѣ одинаковъ; онъ равно боится и разбойника и полицейскаго.
Въ такомъ порядкѣ проходили они по холмамъ и лѣсамъ, рѣдко встрѣчая на пути селенія; слѣдовали по извилистымъ дорогамъ, на которыхъ виднѣлось больше звѣриныхъ, чѣмъ человѣческихъ слѣдовъ, огибали озера, переправлялись черезъ потоки, овраги и болота.
Орденеру совсѣмъ незнакома была мѣстность, по которой ему приходилось идти. Разъ только взоръ его примѣтилъ вдали на горизонтѣ виднѣющуюся скалу и, обратившись къ одному изъ своихъ спутниковъ, онъ спросилъ.
— Пріятель, что это за скала виднѣется тамъ на югѣ?
— Ястребиная шея, Ольемскій утесъ, — отвѣтилъ ему рудокопъ.
Орденеръ глубоко вздохнулъ.
XXXVI
Обезьяна, попугаи, гребешки и ленты, все приготовлено у графини Алефельдъ къ пріѣзду поручика Фредерика. Она выписала даже за дорогую цѣну послѣдній романъ знаменитой Скюдери. Въ роскошномъ переплетѣ съ позолоченными чеканными застежками онъ положенъ былъ по ея приказанію среди флаконовъ съ духами и коробочекъ съ мушками на элегантномъ туалетѣ съ золочеными ножками и съ мозаичной инкрустаціей въ будущемъ будуарѣ ея ненагляднаго Фредерика.
Исполнивъ такимъ образом эту мелочную материнскую заботливость, которая смягчила на время ея злобную натуру, она стала обдумывать, какъ бы вѣрнѣе и скорѣе погубить Шумахера и Этель, которые съ отъѣздомъ Левина лишились своего послѣдняго защитника.
Въ короткій промежутокъ времени въ Мункгольмской крѣпости произошло нѣсколько событій, о которыхъ графиня Алефельдъ имѣла самыя смутныя понятія. Кто этотъ рабъ, вассалъ или чужакъ, котораго, судя по уклончивымъ и загадочнымъ словамъ Фредерика, полюбила дочь бывшаго канцлера? Въ какихъ отношеніяхъ могъ находиться баронъ Орденеръ къ Мункгольмскимъ узникамъ? Что за непонятная причина его страннаго отсутствія въ то время, когда оба королевства заняты были его близкой свадьбой съ Ульрикой Алефельдъ, которой онъ повидимому чуждался? Наконецъ, что произошло при свиданіи Левина Кнуда съ Шумахеромъ?…
Умъ графини терялся въ догадкахъ и предположеніяхъ. Въ концѣ концовъ, чтобы выяснить себѣ эти тайны, она рѣшилась лично отправиться въ Мункгольмъ, побуждаемая съ одной стороны женскимъ любопытствомъ, съ другой — ненавистью къ врагамъ.
Однажды вечеромъ, когда Этель находилась одна въ саду крѣпости и въ шестой разъ принималась чернить алмазомъ своего перстня какiя-то таинственныя буквы на черномъ столбѣ у входа, на порогѣ котораго въ послѣдній разъ видѣла она своего Орденера, дверь отворилась.
Молодая дѣвушка вздрогнула. Въ первый разъ еще отворялась эта дверь, съ тѣхъ поръ какъ она захлопнулась за Орденеромъ.
Блѣдная, высокая женщина, одѣтая въ бѣлое платье, стояла передъ Этелью, съ сладостной, какъ отравленный медъ, улыбкой, съ кроткимъ, доброжелательнымъ взглядомъ, въ которомъ сверкало по временамъ выраженіе ненависти, досады и невольнаго удивленія.
Этель смотрѣла на нее съ изумленіемъ, граничащимъ съ страхомъ. Послѣ смерти ея старой кормилицы, скончавшейся на ея рукахъ, это была первая женщина, которую видѣла она въ мрачныхъ стѣнахъ Мункгольмской крѣпости.
— Дитя мое, — нѣжно спросила незнакомка: — вы дочь мункгольмскаго узника?
Этель невольно отвернулась. Незнакомка не внушала ей довѣрія, ей казалось, что даже дыханіе этого нѣжнаго голоса было отравлено ядомъ.
— Меня зовутъ Этель Шумахеръ, — отвѣтила она послѣ минутнаго молчанія, — отецъ говорилъ мнѣ, что въ колыбели меня называли графиней Тонгсбергъ и княжной Воллинъ.
— Вашъ отецъ говорилъ вамъ это!.. — вскричала незнакомка съ выраженіемъ, которое поспѣшила смягчить, добавивъ, — сколько горя вытерпѣли вы!
— Горе постигло меня при моемъ рожденіи, — отвѣтила молодая дѣвушка. — Батюшка говоритъ, что оно не оставитъ меня до могилы.
Улыбка мелькнула на губахъ незнакомки, которая продолжала сострадательнымъ тономъ:
— И вы не ропщете на тѣхъ, кто бросилъ васъ въ эту темницу? Вы не проклинаете виновниковъ вашего несчастія?
— Нѣтъ, наши проклятія могутъ накликать несчастіе на тѣхъ, которые заставляютъ насъ страдать.
— А знаете ли вы, — безстрастно продолжала незнакомка, — кто виновникъ вашихъ страданій?
Послѣ минутнаго раздумья Этель сказала.
— Все дѣлается по волѣ Божіей.
— Вашъ отецъ никогда не говоритъ вамъ о королѣ?
— О королѣ?.. Я не знаю его, но молюсь за него каждое утро и вечеръ.
Этель не поняла, отчего при этомъ отвѣтѣ незнакомка закусила себѣ губы.
— Вашъ несчастный отецъ никогда не называлъ вамъ въ минуту раздраженія своихъ заклятыхъ враговъ, генерала Аренсдорфа, епископа Сполисона, канцлера Алефельда?..
— Я никогда не слыхала такихъ именъ.
— А извѣстно ли вамъ имя Левина Кнуда?
Воспоминаніе о сценѣ, происходившей два дня тому назадъ между Дронтгеймскимъ губернаторомъ и Шумахеромъ, было еще слишкомъ живо въ умѣ Этели, чтобы она забыла имя Левина Кнуда.
— Левинъ Кнудъ? — повторила она. — Мнѣ кажется, батюшка больше всѣхъ любитъ и уважаетъ этого человѣка.
— Какъ!
— Да, — продолжала молодая дѣвушка, — этого Левина Кнуда съ жаромъ защищалъ третьяго дня батюшка противъ навѣтовъ Дронтгеймскаго губернатора.
При этихъ словахъ удивленіе незнакомки удвоилось.
— Противъ Дронтгеймскаго губернатора. Не издѣвайтесь надо мной, моя милая; я пришла сюда для вашей же пользы. Не можетъ быть, чтобы отецъ вашъ защищалъ генерала Левина Кнуда отъ навѣтовъ Дронтгеймскаго губернатора!
— Генерала! Мнѣ кажется капитана Левина Кнуда… Ахъ, нѣтъ! Ваша правда. Мой отецъ, — продолжала Этель — показалъ столько же любви къ этому генералу Левину Кнуду, сколько ненависти къ Дронтгеймскому губернатору.
— Вотъ еще странная тайна! — подумала блѣдная высокая женщина, любопытство которой росло съ каждой минутой. — Милое дитя, что же произошло между вашимъ отцомъ и Дронтгеймскимъ губернаторомъ?
Эти вопросы утомили бѣдную дѣвушку и она пристально посмотрѣла на незнакомку.
— Развѣ я преступница, что вы допрашиваете меня такимъ образомъ?
Этотъ простой вопросъ повидимому смутилъ незнакомку, которая почувствовала, что коварство измѣнило ей. Тѣмъ не менѣе она продолжала слегка обиженнымъ тономъ.
— Вы бы не сказали мнѣ этого, если-бы знали, для чего и для кого пришла я сюда…
— Какъ! — вскричала Этель, — Вы отъ него? Вы принесли мнѣ вѣсточку отъ…
Вся кровь бросилась ей въ лицо; сердце ея сильно забилось въ груди, волнуемой нетерпѣніемъ и безпокойствомъ.
— Отъ кого? — спросила незнакомка.
Молодая дѣвушка не рѣшилась произнести имя своего возлюбленнаго. Въ глазахъ незнакомки примѣтила она блескъ мрачной, какъ бы адской радости и сказала печально.
— Такъ вы его не знаете!
Выраженіе обманутаго ожиданія второй разъ появилось на ласковомъ лицѣ посѣтительницы.
— Бѣдная дѣвушка! Чѣмъ могу я помочь вамъ?
Этель не слушала ее. Мысли увлекли ее въ сѣверныя горы за отважнымъ путешественникомъ. Голова ея поникла на грудь, руки невольно скрестились.
— Надѣется-ли вашъ батюшка выйти когда-нибудь изъ этой тюрьмы?
Она дважды повторила этотъ вопросъ, пока Этель вышла изъ задумчивости.
— Да, — отвѣтила она.
Слезы навернулись на ея глазахъ.
Глаза незнакомки сверкнули при этомъ отвѣтѣ.
— Надѣется, говорите вы! Какъ?.. Какимъ образомъ?.. Когда?..
— Онъ надѣется, что смерть освободитъ его изъ тюрьмы.
Иной разъ простота юной невинной души оказывается настолько могущественной, что разрушаетъ хитросплетенія заматерѣлаго въ коварствѣ сердца. Мысль эта должно быть пришла на умъ незнакомки, которая вдругъ измѣнилась въ лицѣ и, положивъ свою холодную руку на плечо Этели, сказала почти чистосердечно:
— Послушайте, знаете ли вы, что жизни вашего отца грозитъ новая опасность? Что его подозрѣваютъ какъ подстрекателя въ мятежѣ сѣверныхъ рудокоповъ?
Этель не поняла этого вопроса и съ удивленіемъ устремила свои большiе черные глаза на незнакомку.
— Что вы хотите сказать?
— Я говорю, что вашъ отецъ составилъ заговоръ противъ правительства; что его виновность почти дознана, что его преступленіе влечетъ за собою смертную казнь…
— Смертную казнь! Преступленіе!.. — вскричала несчастная дѣвушка.
— Преступленіе и смертная казнь, — торжественно повторила незнакомка.
— Мой отецъ! — вскричала Этель: — мой несчастный благородный отецъ, который проводитъ цѣлые дни, слушая какъ я читаю ему Эдду и Евангеліе, онъ заговорщикъ? Что онъ вамъ сдѣлалъ?
— Не смотрите на меня такимъ образомъ; повторяю вамъ, я не изъ числа вашиъ враговъ. Я только предупреждаю васъ, что вашего отца подозрѣваютъ въ тяжкомъ преступленіи. Быть можетъ, вмѣсто ненависти, я скорѣе заслуживаю благодарности.
Этотъ упрекъ тронулъ Этель.
— О, сударыня, простите меня! До сихъ поръ мы не встрѣчали ни одного живого существа, которое бы не относилось къ намь враждебно. Простите меня, если я недовѣряла вамъ.
Незнакомка улыбнулась.
— Какъ, дитя мое! До сихъ поръ вы не встрѣчали еще ни одного дружескаго существа?..
Щеки Этели вспыхнули румянцемъ. Одну минуту она колебалась въ нерѣшимости.
— Да… Богу извѣстно, что мы нашли только одного друга…
— Одного? — поспѣшно спросила незнакомка. — Прошу васъ назовите мнѣ его; вы не знаете какъ это важно… для спасенія вашего батюшки… Кто этотъ другъ?
— Не знаю. — сказала Этель.
Незнакомка поблѣднѣла.
— Вы насмѣхаетесь надо мной, между тѣмъ какъ я хочу вамъ помочь. Подумайте, дѣло идетъ о жизни вашего отца. Кто онъ? Скажите мнѣ, кто этотъ другъ, о которомъ вы мнѣ говорили?
— Богъ мнѣ свидѣтель, сударыня, что я знаю только его имя: Орденеръ.
Этель произнесла эти слова съ такимъ затрудненіемъ, которое испытываемъ мы, открывая постороннему человѣку священное имя, пробуждающее въ насъ самыя отрадныя воспоминания.
— Орденеръ! Орденеръ! — съ страннымъ волненіемъ повторила незнакомка, конвульсивно теребя бѣлыя кружева своего покрывала. — А какъ зовутъ его отца? — спросила она, запинаясь.
— Не знаю, — отвѣтила молодая дѣвушка. — Что мнѣ за дѣло до его семьи и отца. Орденеръ, сударыня, самый благородный человѣкъ въ мірѣ!
Увы! Тонъ этихъ словъ открылъ сердечную тайну Этели.
Незнакомка приняла спокойную важную осанку и спросила, устремивъ на молодую дѣвушку пристальный взглядъ.
— Слышали вы о скорой свадьбѣ сына вице-короля съ дочерью нынѣшняго великаго канцлера, графа Алефельда?
Она принуждена была повторить свой вопросъ, чтобы привлечь на него вниманіе Этели, мысли которой блуждали вдали.
— Кажется слышала.
Ея спокойствіе и равнодушіе повидимому до нельзя поразили незнакомку.
— Ну, что же вы думаете объ этомъ союзѣ?
Невозможно было примѣтить хотя бы малѣйшую перемѣну во взорахъ Этели, когда она отвѣтила.
— По правдѣ сказать, ничего. Дай Богъ, чтобы союзъ ихъ оказался счастливымъ.
— Но вѣдь графъ Гульденлью и графъ Алефельдъ, родители помолвленныхъ, заклятые враги вашего отца.
— Все же я желаю счастія ихъ дѣтямъ, — тихо повторила Этель.
— Мнѣ пришло въ голову, — продолжала коварная незнакомка, — такъ какъ жизнь вашего отца находится въ опасности, вы могли бы, по случаю предстоящаго брака, просить помилованія у сына вице-короля.
— Богъ наградитъ васъ за вашу добрую заботливость, сударыня. Но развѣ просьба моя дойдетъ до сына вице-короля?
Искреннее простодушіе этихъ словъ до такой степени поразило незнакомку, что та вскрикнула съ изумленіемъ.
— Какъ! Развѣ вы его не знаете?
— Этого вельможу! — удивилась Этель: — Вы забываете, что до сихъ поръ я не дѣлала шагу изъ этой крѣпости.
— Это правда, — пробормотала сквозь зубы незнакомка. — Что же лгалъ мнѣ этотъ выжившій изъ ума Левинъ? Очевидно, она не знаетъ его… — Однако, это немыслимая вещь! — продолжала она громкимъ голосомъ, — Вы должны были видѣть сына вице-короля, онъ былъ здѣсь.
— Можетъ быть, сударыня. Но изъ всѣхъ, приходившихъ сюда я не знаю никого, кромѣ моего Орденера…
— Вашего Орденера!.. — перебила незнакомка и продолжала, какъ бы не примѣчая смущенія Этели. — Знаете вы молодого человѣка съ благородной открытой физіономіей, съ стройнымъ станомъ, съ важной твердой поступью? Взоръ его величественъ и благосклоненъ, лицо нѣжное какъ у молодой дѣвушки, волосы каштановые?..
— Ахъ! — вскричала несчастная Этель. — Это онъ! Это женихъ мой! Мой обожаемый Орденеръ! Не слыхали ли вы о немъ чего?.. Гдѣ вы встрѣтились съ нимъ?.. Неправда ли, онъ сказалъ вамъ, что удостоилъ меня своей любовью? Говорилъ вамъ, какъ горячо я люблю его? Увы! У несчастной узницы нѣтъ другого утѣшенія въ этомъ мірѣ!.. Великодушный другъ! Нѣтъ еще недѣли, какъ стоялъ онъ на этомъ самомъ мѣстѣ въ зеленомъ плащѣ, подъ которымъ билось его благородное сердце, съ чернымъ перомъ, такъ красиво развѣвавшемся надъ его прекраснымъ челомъ!..
Этель вдругъ замолчала. Она примѣтила, что незнакомка дрожитъ, блѣднѣетъ и краснѣетъ; и наконецъ услышала эти безжалостныя слова.
— Несчастная! Ты любишь Орденера Гульденлью, жениха Ульрики Алефельдъ, сына смертельнаго врага твоего отца, вице-короля Норвегіи.
Этель упала безъ чувствъ.
XXXVII
— А что, старый товарищъ Гульдонъ Стайнеръ, вечерній-то вѣтерокъ не на шутку хлещетъ по моему лицу волосьями моей шапки?
Съ этими словами Кенниболъ, отведя на минуту взоръ свой отъ великана, шествовавшаго во главѣ мятежниковъ, обратился къ одному изъ случившихся возлѣ него горцевъ.
Стайнеръ покачалъ головой, и тяжело вдохнувъ отъ усталости, переложилъ знамя съ одного плеча на другое.
— Гм!.. Я полагаю, начальникъ, что въ этихъ проклятыхъ ущельяхъ Чернаго Столба, гдѣ вѣтеръ бушуетъ какъ потокъ, намъ не согрѣться и на раскаленныхъ угольяхъ.
— Надо будетъ развести такой костеръ, чтобы всполошились всѣ старыя совы на вершинахъ скалъ и въ развалинахъ. Терпѣть не могу я этихъ совъ; въ ужасную ночь, когда привидѣлась мнѣ фея Убфемъ, она явилась передо мною въ видѣ совы.
— Клянусь святымъ Сильвестромъ! — пробормоталъ Гульдонъ Стайнеръ, отворачивая голову: — Ангелъ вѣтра безжалостно бьетъ насъ своими крыльями! По моему, Кенниболъ, слѣдовало бы поджечь всѣ горные ели. Прекрасное бы вышло зрѣлище: войско грѣется цѣлымъ лѣсомъ!
— Избави Боже, пріятель Гульдонъ! А дикія козы!.. Кречеты, фазаны! Жарить дичину разчудесное дѣло; но зачѣмъ же жечь ее!
Старый Гульдонъ засмѣялся.
— Начальникъ! Ты все тотъ же чортъ Кенниболъ, волкъ для дикихъ козъ, медвѣдь для волковъ и буйволъ для медвѣдей!
— А далеко ли до Чернаго Столба? — спросилъ кто-то изъ охотниковъ.
— Къ ночи, товарищъ, мы достигнемъ ущелій, — отвѣтилъ Кенниболъ: — теперь же приближаемся къ Четыремъ Крестамъ.
На минуту водворилось молчаніе; только слышенъ былъ шумъ многочисленныхъ шаговъ, завыванія вѣтра и отдаленное пѣніе сміазенскихъ кузнецовъ.
— Дружище Гульдонъ Стайнеръ, — спросилъ Кенниболъ, переставъ насвистывать охотничью пѣсню Роллона: — говорятъ, ты недавно вернулся изъ Дронтгейма?
— Да, начальникъ. Мой братъ, рыбакъ Георгъ Стайнеръ, захворалъ и я работалъ за него въ лодкѣ, чтобы его несчастная семья не умерла съ голоду, пока онъ умиралъ отъ болѣзни.
— Такъ. А не случалось ли тебѣ, когда ты былъ въ Дронтгеймѣ, видѣть тамъ этого графа, узника… Шумахера… Глеффенгема… какъ бишь его зовутъ-то? Ну да того, за котораго мы взбунтовались, чтобы освободиться отъ королевской опеки, и чей гербъ несешь ты на этомъ знамени огненнаго цвѣта?
— Да, его не легко таскать! — промолвилъ Гульдонъ: — Ты спрашиваешь объ узникѣ Мункгольмской крѣпости, о графѣ… ну да все равно какъ ни зовутъ его. Но какъ же ты хочешь, начальникъ, чтобы я его видѣлъ? Для этого, — продолжалъ онъ, понизивъ голосъ: — необходимо имѣть глаза того демона, который идетъ впереди васъ, не оставляя, однако, за собой сѣрнаго запаха, — глаза этого Гана Исландца, который видитъ сквозь стѣны, или кольцо феи Мабъ, которая можетъ проникнуть даже въ замочную скважину. Я убѣжденъ, что въ эту минуту среди насъ только одинъ человѣкъ видѣлъ графа… узника, о которомъ ты спрашиваешь меня.
— Одинъ?.. Да, правда, господинъ Гаккетъ! Но его теперь нѣтъ съ нами. Онъ покинулъ насъ прошлой ночью, чтобы вернуться…
— Да я не о господинѣ Гаккетѣ говорю тебѣ, начальникъ.
— О комъ же?
— А вонъ объ этомъ молодчикѣ въ зеленомъ плащѣ, съ чернымъ перомъ, который какъ съ неба свалился къ намъ прошлой ночью…
— Ну?
— Ну, — продолжалъ Гульдонъ, приближаясь къ Кенниболу: — вотъ онъ-то и знаетъ графа… того знаменитаго графа, все равно какъ я тебя, начальникъ Кенниболъ.
Кенниболъ взглянулъ на Гульдона, подмигнулъ ему лѣвымъ глазомъ и ударивъ его по плечу, вскричалъ съ торжествомъ человѣка, довольнаго своей проницательностью:
— Представь себѣ, я это подозрѣвалъ!
— Да, начальникъ, — продолжалъ Гульдонъ Стайнеръ, снова перекладывая огненнаго цвѣта знамя съ одного плеча на другое: — могу увѣрить тебя, что этотъ зеленый молодчикъ видѣлъ графа… какъ бишъ его зовутъ-то? Ну того, за котораго мы будемъ драться… въ самой Мункгольмской крѣпости, и повидимому, ему такъ же хотѣлось проникнуть въ эту тюрьму, какъ намъ съ тобой войти въ королевскій паркъ.
— Откуда же ты это узналъ, пріятель?
Старый горецъ схватилъ Кеннибола за руку и съ подозрительной осторожностью распахнулъ свой кожаный плащъ.
— Погляди-ка! — сказалъ онъ ему.
— Съ нами крестная сила! — вскричалъ Кенниболъ: — блеститъ какъ настоящiй алмазъ!
Дѣйствительно, роскошная брилліянтовая пряжка красовалась на грубомъ поясѣ Гульдона Стайнера.
— Да это и есть настоящій алмазъ, — возразилъ горецъ, снова запахивая полы плаща: — это такъ же вѣрно, какъ то, что отъ луны два дня пути до земли и что мой поясъ сдѣланъ изъ буйволовой кожи.
Лицо Кеннибола омрачилось, выраженіе изумленія смѣнилось на немъ суровостью. Онъ потупилъ глаза въ землю, произнеся съ грозной торжественностью:
— Гульдонъ Стайнеръ, уроженецъ деревни Шоль-Се въ Кольскихъ горахъ, твой отецъ, Медпратъ Стайнеръ безупречно дожилъ до ста двухъ лѣтъ, потому что убить нечаянно королевскую лань или лося не составляетъ еще преступленія. Гульдонъ Стайнеръ, твоей сѣдой головѣ добрыхъ пятьдесятъ семь лѣтъ, возрастъ считающійся молодежью только у однѣхъ совъ. Старый товарищъ, мнѣ хотѣлось бы, чтобы алмазы этой пряжки превратились въ просяныя зерна, если ты добылъ ихъ не такимъ же законнымъ путемъ, какимъ королевскій фазанъ получаетъ свинцовую пулю мушкета.
Произнося это странное увѣщаніе, голосъ начальника горцевъ звучалъ въ одно и тоже время угрозой и трогательнымъ убѣжденіемъ.
— Какъ вѣрно то, что вашъ начальникъ Кенниболъ самый отважный охотникъ Кольскихъ горъ, — отвѣчалъ Гульдонъ безъ малѣйшаго замѣшательства: — и что эти алмазы неподдѣльные камни, такъ же вѣрно и то, что я законно владѣю ими.
— Полно, такъ ли? — возразилъ Кенниболъ тономъ, выражавшимъ и довѣріе, и сомнѣніе.
— Клянусь Богомъ и моимъ святымъ патрономъ, дѣло было такъ, — отвѣчалъ Гульдонъ: — однажды вечеромъ — недѣлю тому назадъ — едва успѣлъ я указать дорогу къ Дронтгеймскому Спладгесту землякамъ, которые несли трупъ офицера, найденный на Урхтальскомъ берегу, — какой-то молодчикъ, подойдя къ моей лодкѣ, закричалъ мнѣ: «въ Мункгольмъ!» Я, начальникъ, не обратилъ было вниманія: какой птицѣ охота летать вокругъ клѣтки? Осанка у молодаго человѣка была гордая, величественная, сопровождалъ его слуга съ двумя лошадьми, и вотъ не обращая на меня вниманія, онъ прыгнулъ ко мнѣ въ лодку. Дѣлать нечего, я взялъ мои весла, то есть весла моего брата, и отчалилъ. Когда мы пріѣхали, молодой человѣкъ, поговоривъ съ сержантомъ, должно быть начальникомъ крѣпости, бросилъ мнѣ — Бога беру во свидѣтели — вмѣсто платы алмазную пряжку, которую я тебѣ показывалъ и которая досталась бы моему брату Георгу, а не мнѣ, если въ ту минуту, когда нанялъ меня путешественникъ, не кончилъ день моей работы за Георга. Вотъ тебѣ и весь сказъ, Кенниболъ.
— Тѣмъ лучше для тебя.
Мало по малу отъ природы мрачныя и суровыя черты лица охотника прояснились и смягчившимся голосомъ онъ спросилъ Гульдона:
— А точно ли ты увѣренъ, старый товарищъ, что это тотъ самый молодчикъ, который идетъ за нами въ отрядѣ Норбита.
— Увѣренъ ли! Да я изъ цѣлой тысячи узнаю лицо моего благодѣтеля; и въ добавокъ тотъ же плащъ, то же черное перо…
— Вѣрю, вѣрю, Гульдонъ.
— И, ясное дѣло, что онъ хотѣлъ видѣться съ знаменитымъ узникомъ, потому что, если бы тутъ не было какой-нибудь тайны, развѣ сталъ бы онъ такъ щедро награждать перевозчика? Онъ и теперь не спроста присталъ къ намъ…
— И то правда.
— Мнѣ даже сдается, начальникъ, что графъ-то, котораго мы хотимъ освободить, больше довѣряетъ этому молодому незнакомцу, чѣмъ господину Гаккету, который, правду сказать, только и умѣетъ, что мяукать дикой кошкой.
Кенниболъ выразительно кивнулъ головой.
— Я того же мнѣнія, товарищъ, и въ этомъ дѣлѣ скорѣе послушаюсь этого незнакомца, чѣмъ Гаккета. Клянусь святымъ Сильвестромъ и Олаемъ, товарищъ Гульдонъ, если нами предводительствуетъ теперь исландскій демонъ, то этимъ мы болѣе обязаны незнакомцу, чѣмъ болтливой сорокѣ Гаккету.
— Ты такъ думаешь, начальникъ?.. — спросилъ Гульдонъ.
Кенниболъ хотѣлъ было отвѣтить, какъ вдругъ Норбитъ хлопнулъ его по плечу.
— Кенниболъ, намъ измѣнили! Гормонъ Воестремъ только что прибылъ съ юга и говоритъ, что весь полкъ стрѣлковъ выступилъ противъ насъ. Шлезвигскіе уланы уже въ Спарбо, три отряда датскихъ драгунъ поджидаютъ лошадей въ Левичѣ. Вся дорога точно позеленѣла отъ ихъ зеленыхъ мундировъ. Поспѣшимъ занять Сконгенъ, не останавливаясь на ночлегъ. Тамъ по крайней мѣрѣ, мы можемъ защищаться. Гормонъ къ тому же увѣряетъ, что видѣлъ блескъ мушкетовъ въ кустарникахъ ущелья Чернаго Столба.
Молодой начальникъ былъ блѣденъ и взволнованъ, однако взглядъ и тонъ его голоса выражали мужественную рѣшимость.
— Быть не можетъ, — вскричалъ Кенниболъ.
— Къ несчастію это такъ, — отвѣтилъ Норбитъ.
— Но господинъ Гаккетъ…
— Измѣнникъ или трусъ, повѣрь мнѣ, товарищъ Кенниболъ… Ну, гдѣ этотъ Гаккетъ?..
Въ эту минуту старый Джонасъ подошелъ къ двумъ начальникамъ. По глубокому унынію, выражавшемуся въ чертахъ его лица, легко можно было видѣть, что ему извѣстна уже роковая новость.
Взгляды старыхъ товарищей Джонаса и Кеннибола встрѣтились и оба какъ бы по молчаливому согласію покачали головой.
— Ну что, Джонасъ? — спросилъ Норбитъ.
Старый начальникъ Фа-рерскихъ рудокоповъ, медленно потеръ рукою морщинистый лобъ, и тихо отвѣтилъ на вопросительный взглядъ стараго предводителя Кольскихъ горцевъ:
— Да, къ несчастію все это слишкомъ справедливо, Гормонъ Воестремъ самъ видѣлъ ихъ.
— Въ такомъ случаѣ, что же дѣлать? — спросилъ Кенниболъ.
— Что дѣлать? — повторилъ Джонасъ.
— Полагаю, товарищъ Джонасъ, что намъ благоразумнѣе остановиться.
— А еще благоразумнѣе, братъ Кенниболъ, отступить.
— Остановиться! Отступить! — вскричалъ Норбитъ: — Напротивъ, надо идти впередъ!
Оба старика холодно и удивленно взглянули на молодаго человѣка.
— Идти впередъ! — повторилъ Кенниболъ: — А Мункгольмскіе стрѣлки?
— А Шлезвигскіе уланы! — подхватилъ Джонасъ.
— А Датскіе драгуны! — напомнилъ Кенниболъ.
Норбитъ топнулъ ногой.
— А Королевская опека! А моя мать, умирающая отъ голода и холода!
— Чортъ возьми эту Королевскую опеку! — вскричалъ рудокопъ Джонасъ съ невольной дрожью.
— Что намъ за дѣло до нея! — возразилъ горецъ Кенниболъ.
Джонасъ взялъ Кеннибола за руку.
— Эхъ товарищъ! Ты охотникъ и не знаешь какъ сладка эта опека нашего добраго государя Христіана IV. Да избавитъ насъ отъ нее святой король Олай!
— Ищи этой защиты у своей сабли! — мрачно замѣтилъ Норбитъ.
— Ты за смѣлымъ словцомъ въ карманъ не полѣзешь, товарищъ Норбитъ, — сказалъ Кенниболъ, — а подумай только, что будетъ, если мы двинемся дальше и всѣ зеленые мундиры…
— А ты думаешь насъ лучше встрѣтятъ въ горахъ? Какъ лисицъ, бѣгущихъ отъ волковъ! Бунтъ и имена наши уже извѣстны, по моему умирать такъ умирать, лучше пуля мушкета, чѣмъ петля висѣлицы!
Джонасъ одобрительно кивнулъ головой.
— Чортъ возьми! Братьямъ нашимъ опека! Самимъ намъ висѣлица! Мнѣ кажется, Норбитъ правъ.
— Дай руку, храбрый товарищъ! — вскричалъ Кенниболъ, обращаясь къ Норбиту, — Опасность грозитъ намъ и спереди и съ тылу. Лучше прямо броситься въ пропасть, чѣмъ упасть въ нее навзничь.
— Такъ идемъ же! — вскричалъ старый Джонасъ, стукнувъ эфесомъ своей сабли.
Норбитъ съ живостью пожалъ имъ руки.
— Послушайте, братья! Будьте отважны какъ я, я же поучусь у васъ благоразумію. Пойдемте прямо на Сконгенъ; гарнизонъ его слабый, мы живо справимся съ нимъ. Теперь же, дѣлать нечего, пройдемъ ущелья Чернаго Столба, но только въ величайшей тишинѣ. Ихъ необходимо пройти, даже если непріятель засѣлъ тамъ въ засаду.
— Я думаю, что стрѣлки не дошли еще до Ордельскаго места передъ Сконгеномъ… Но все равно: теперь ни гу-гу!
— Тише! — повторилъ Кенниболъ.
— Теперь, Джонасъ, — шепнулъ Норбитъ, — вернемся къ нашимъ отрядамъ. Завтра, Богъ дастъ, мы будемъ въ Дронтгеймѣ, не смотря на всѣхъ стрѣлковъ, улановъ, драгуновъ и зеленые мундиры южанъ.
Начальники разошлись. Вскорѣ приказаніе: тише! пронеслось по рядамъ и вся банда мятежниковъ, за минуту предъ тѣмъ столь шустрая, теперь въ пустотѣ, утопавшей въ темнотѣ ночнаго сумрака, превратилась въ толпу нѣмыхъ призраковъ, которые безшумно блуждаютъ по извилистымъ тропинкамъ кладбища.
Между тѣмъ, дорога постепенно становилась все уже, какъ бы углубляясь въ скалистой оградѣ, которая все круче и круче уходила къ небесамъ. Въ ту минуту, когда красноватая луна выплыла изъ за тучъ, клубившихся вокругъ нея съ фантастической подвижностью, Кенниболъ шепнулъ Гульдону Стайнеру.
— Надо идти какъ можно тише, теперь мы вступаемъ въ ущелья Чернаго Столба.
Въ самомъ дѣлѣ слышался уже шумъ потока, который промежъ горъ слѣдуетъ за всѣми извилинами дороги, а на дорогѣ высилась огромная продолговатая гранитная пирамида Чернаго Столба, рисовавшаяся на сѣромъ фонѣ неба и снѣговомъ покровѣ окружающихъ горъ. На западѣ въ туманной дали виднѣлся на горизонтѣ Спарбскій лѣсъ и длинный амфитеатръ скалъ, шедшихъ уступами подобно лѣстницѣ гигантовъ.
Мятежники, принужденные вытянуть свои колонны на узкой, стиснутой между скалъ дорогѣ, безмолвно продолжали свой путь и вошли въ ущелье, не засвѣтивъ ни одного факела. Даже шумъ ихъ шаговъ заглушался оглушительнымъ ревомъ водопадовъ и завываніемъ бурнаго вѣтра, гнувшаго столѣтнія деревья и крутившаго тучи вокругъ льдистыхъ снѣжныхъ вершинъ.
Теряясь въ мрачной глубинѣ ущелья, мерцающее сіяніе луннаго свѣта не достигало металлическихъ наконечниковъ оружія мятежниковъ и даже бѣлые орлы, пролетавшіе иногда надъ ихъ головами, не подозрѣвали, что такое огромное скопище людей, рѣшилось потревожить въ эту минуту ихъ уединеніе.
Вдругъ старый Гульдонъ Стайнеръ коснулся плеча Кеннибола прикладомъ своего карабина.
— Начальникъ! Что-то блеснуло въ кустахъ остролиста и дрока.
— Видѣлъ, — отвѣтилъ Кенниболъ: — Это блескъ облака въ потокѣ.
Прошли далѣе.
Гульдонъ снова поспѣшно схватилъ руку начальника.
— Посмотри-ка, ужъ не мушкеты ли сверкаютъ тамъ въ тѣни скалъ, — спросилъ онъ.
Кенниболъ наклонилъ голову и пристально посмотрѣлъ въ указанномъ направленіи.
— Успокойся, братъ Гульдонъ, это лунный свѣтъ играетъ на ледяной вершинѣ.
Никакая опасность, повидимому, не грозила имъ и отряды бунтовщиковъ, беззаботно проходя по извилинамъ ущелья, мало по-малу забыли всю критичность ихъ положенiя.
Послѣ двухъ часовъ ходьбы, часто затруднительной по дорогѣ, загроможденной упавшими деревьями и глыбами гранита, передовой отрядъ вошелъ въ сосновую рощу, которой оканчивалось ущелье Чернаго Столба и надъ которой нависли почернѣлыя мшистыя скалы.
Гульдонъ Стайнеръ приблизился къ Кенниболу, заявляя ему свою радость, что скоро выберутся изъ этого проклятаго ущелья и поблагодарятъ святаго Сильвестра, спасшаго ихъ отъ гибели у Чернаго Столба.
Кенниболъ разсмѣялся, утверждая, что совсѣмъ не испытывалъ этого бабьяго страха. Большинство людей имѣютъ обыкновеніе отрицать опасность, когда она уже миновала, и не вѣря ей, стараются выказать свою неустрашимость, которой быть можетъ не было у нихъ и въ поминѣ.
Между тѣмь, вниманіе его привлечено было двумя круглыми огоньками, которые подобно раскаленнымъ углямъ мелькали въ чащѣ кустарника.
— Клянусь спасеніемъ моей души, — прошепталъ онъ, схвативъ Гульдона за руку: — вотъ глаза самой великолѣпной дикой кошки, когда либо мяукавшей въ этомъ кустарникѣ.
— Ты правъ, — отвѣтилъ старый Стайнеръ: — и если бы онъ не шелъ впереди насъ, я подумалъ бы, что это глаза проклятаго исландскаго демо…
— Тс! — шепнулъ Кенниболъ и схватился за карабинъ.
— Ну, — продолжалъ онъ: — я не допущу, чтобы сказали, что такой славный звѣрь могъ безнаказанно вертѣться на глазахъ Кеннибола.
Выстрѣлъ прогремѣлъ, прежде чѣмъ Гульдонъ Стайнеръ могъ тому воспрепятствовать, схвативъ руку неблагоразумнаго охотника… Не жалобный вой дикой кошки отвѣтилъ на звучный раскатъ выстрѣла, но страшный ревъ тигра, сопровождаемый еще болѣе страшнымъ хохотомъ человѣка.
Не слышно было отголоска ружейнаго выстрѣла, подхваченнаго эхомъ въ глубинѣ горныхъ ущельевъ. Лишь только свѣтъ выстрѣла блеснулъ въ ночной темнотѣ, лишь только роковой взрывъ пороха нарушилъ окружающую тишину, какъ вдругъ тысячи грозныхъ голосовъ заревѣли въ горахъ, въ ущельяхъ, въ лѣсу, крикъ да здравствуетъ король! подобно раскату грома грянулъ надъ головами мятежниковъ, спереди, сзади, съ боковъ; убійственный огонь опустошительныхъ залповъ, сыпавшихся со всѣхъ сторонъ, уничтожалъ и освѣщалъ ряды бунтовщиковъ, указывая имъ сквозь красные клубы дыма баталіонъ за каждой скалой, солдата за каждымъ деревомъ.
XXXVIII
Рано утромъ въ тотъ день, когда мятежники оставили Апсиль-Корскіе свинцовыя рудники, въ Сконгенъ вошелъ полкъ стрѣлковъ, который мы видѣли въ пути въ тридцатой главѣ этого правдиваго повѣствованія.
Распорядившись относительно размѣщенія солдатъ, полковникъ Ветгайнъ переступалъ уже порогъ своей квартиры близъ городскихъ воротъ, какъ вдругъ почувствовалъ, что чья-то тяжелая рука фамильярно хлопнула его по плечу.
Обернувшись, онъ увидалъ передъ собою малорослаго человѣка, изъ подъ широкой шляпы котораго, скрывавшей черты его лица, виднѣлась лишь густая рыжая борода. Онъ тщательно закутанъ былъ въ сѣрый шерстяной плащъ съ капюшономъ, дѣлавшимъ одежду его похожей на отшельническую рясу, и руки свои пряталъ въ толстыхъ перчаткахъ.
— Что тебѣ надо, почтеннѣйшій! — сердито спросилъ полковникъ.
— Полковникъ Мункгольмскихъ стрѣлковъ, — отвѣтилъ незнакомецъ съ страшнымъ выраженіемъ въ голосѣ: — пойдемъ со мной на минуту, я имѣю нѣчто сообщить тебѣ.
При этомъ неожиданномъ приглашеніи, баронъ Ветгайнъ остолбенѣлъ отъ удивленія.
— Я имѣю сообщить нѣчто важное, — повторилъ человѣкъ въ толстыхъ перчаткахъ.
Такая настойчивость заинтересовала полковника. Имѣя въ виду броженіе, которое происходило въ провинціи, и порученіе, возложенное на него правительствомъ, онъ не могъ пренебрегать малѣйшими свѣдѣніями.
— Пойдемъ, — согласился онъ.
Малорослый пошелъ впереди, и выйдя изъ городскихъ воротъ, остановился.
— Полковникъ, — обратился онъ къ барону Ветгайну: — хочешь ты однимъ ударомъ истребить всѣхъ бунтовщиковъ?
Полковникъ разсмѣялся.
— Да, недурно было бы начать этимъ кампанію.
— Ну такъ поспѣши сегодня же устроить засаду въ ущельяхъ Чернаго Столба, въ двухъ миляхъ отъ города. Банды бунтовщиковъ расположатся тамъ лагеремъ въ эту ночь. Лишь только сверкнетъ первый огонекъ, устремись на нихъ съ своими солдатами и побѣда твоя обезпечена.
— Спасибо, почтеннѣйшій, за доброе извѣстіе, но откуда ты это знаешь?
— Если-бы ты зналъ меня, полковникъ, ты бы скорѣе спросилъ бы какъ могу я этого не знать.
— Кто-жъ ты такой?
Незнакомецъ топнулъ ногой.
— Я не затѣмъ пришелъ сюда, чтобы разсказывать тебѣ кто я.
— Не бойся ничего. Кто-бы ты не былъ, услуга, оказанная тобою, служитъ защитою. Можетъ быть ты изъ числа бунтовщиковъ?
— Я отказался помогать имъ.
— Въ такомъ случаѣ, зачѣмъ же скрывать свое имя, если ты вѣрноподданный короля?
— Что мнѣ за дѣло до короля?
Полковникъ надѣялся добиться у этого страннаго вѣстника еще какихъ-нибудь свѣдѣній и спросилъ:
— Скажи мнѣ, правда-ли, что разбойниками предводительствуетъ знаменитый Ганъ Исландецъ.
— Ганъ Исландецъ! — повторилъ малорослый, дѣлая страшное удареніе на этомъ словѣ.
Баронъ повторилъ свой вопросъ. Но взрывъ хохота, который можно было принять за вой дикаго звѣря, былъ ему единственнымъ отвѣтомъ.
Полковникъ пытался было еще развѣдать о численности и начальникахъ рудокоповъ, но малорослый принудилъ его замолчать.
— Полковникъ Мункгольмскихъ стрѣлковъ, я сказалъ тебѣ все, что нужно было тебѣ знать. Устрой сегодня-же засаду въ ущельяхъ Чернаго Столба со всѣмъ твоимъ полкомъ, и ты уничтожишь всѣ мятежническіе отряды.
— Ты не хочешь открыть своего имени и тѣмъ лишаешь себя королевской милости; но справедливость требуетъ, чтобы баронъ Ветгайнъ вознаградилъ тебя за оказанную услугу.
Съ этими словами полковникъ кинулъ свой кошелекъ къ ногамъ малорослаго.
— Сохрани для себя твое золото, полковникъ, — сказалъ тотъ презрительно: — я въ немъ не нуждаюсь. А если бы, — прибавилъ онъ, указывая на толстый мѣшокъ, висѣвшій у его веревочнаго пояса: — тебѣ самому понадобилась награда за уничтоженіе этихъ людей, у меня найдется, полковникъ, достаточно золота, чтобы заплатить тебѣ за ихъ кровь.
Прежде чѣмъ полковникъ успѣлъ прійти въ себя отъ удивленія, которымъ поразили его непонятныя слова таинственнаго существа, малорослый исчезъ.
Баронъ Ветгайнъ медленно вернулся въ городъ, размышляя — можетъ-ли онъ положиться на свѣдѣніе, доставленное такимъ страннымъ образомъ. Когда онъ входилъ въ свое жилище, ему подали пакетъ, съ печатью великаго канцлера. Письмо дѣйствительно оказалось отъ графа Алефельда и полковникъ съ легко понятнымъ изумленіемъ нашелъ въ немъ то же извѣстіе и тотъ же совѣтъ, который только что получилъ у городскихъ воротъ отъ таинственнаго незнакомца въ широкой шляпѣ и въ толстыхъ перчаткахъ.
XXXIX
Нѣть возможности описать панику, распространившуюся въ безъ того уже нестройныхъ рядахъ бунтовщиковъ, когда роковое ущелье вдругъ выказало имъ свои вершины, усѣянныя штыками, свои пещеры, переполненныя неожиданными врагами. Оглушительный крикъ тысячи голосовъ такъ внезапно раздался среди пораженной ужасомъ толпы, что трудно было различить крикъ ли это отчаянія, испуга или бѣшенства.
Убійственная пальба отовсюду выступавшихъ взводовъ королевскихъ войскъ усиливалась съ каждой минутой и прежде чѣмъ бунтовщики успѣли сдѣлать первый залпъ послѣ гибельнаго выстрѣла Кеннибола, густое облако огненнаго дыма окружило ихъ со всѣхъ сторонъ, поражая градомъ шальныхъ пуль. Каждый видѣлъ только себя, съ трудомъ различая въ отдаленіи стрѣлковъ, драгуновъ и улановъ, смѣішавшихся на вершинахъ скалъ и опушкѣ лѣса подобно злымъ духамъ въ пеклѣ.
Отряды бунтовщиковъ растянулись на цѣлую милю по узкой извилистой дорогѣ, къ которой съ одной стороны примыкалъ глубокій потокъ, а съ другой скалистая стѣна, и не могли быстро сплотиться, напоминая собою разрубленную на части змѣю, еще живыя звенья которой долго извиваются въ пѣнѣ, пытаясь соединиться.
Когда прошла первая минута замѣшательства, единодушное отчаяніе воодушевило этихъ отъ природы свирѣпыхъ и неустрашимыхъ людей. Видя себя беззащитными, безжалостно истребляемые, они пришли въ страшную ярость, испустивъ вопль, заглушившій торжествующіе крики непріятеля. Солдаты, отлично вооруженные, размѣщенные въ стройномь порядкѣ и въ безопасности, и нетерявшіе ни одного товарища, съ ужасомъ взирали какъ ихъ враги, не имѣвшіе предводителя, почти безоружные, безпорядочно лѣзли подъ опустошительнымъ огнемъ залповъ на острые утесы, руками и зубами цѣпляясь за терновникъ, нависшій надъ пропастью, грозя молотами и желѣзными вилами.
Многіе изъ этихъ освирѣпѣвшихъ людей влѣзали по грудамъ мертвыхъ тѣлъ, по плечамъ товарищей, образовавшихъ на скалистой стѣнѣ живую лѣстницу, до самыхъ вершинъ, занятыхъ непріятелемъ. Но лишь только успѣвали они вскрикнуть: — да здравствуетъ свобода! — поднять топоръ или суковатую дубину, лишь только показывали свое почернѣвшее отъ дыму и искаженное отъ ярости лицо, какъ въ ту же минуту были свергаемы въ бездну и при паденіи своемъ увлекали за собой отважныхъ товарищей, повисшихъ на кустѣ или уцѣпившихся за выступъ скалы.
Всѣ попытки бунтовщиковъ къ бѣгству или оборонѣ оставались тщетными. Всѣ выходы изъ ущелья были заняты, всѣ доступныя мѣста густо усѣяны солдатами. Многіе изъ злосчастныхъ бунтовщиковъ, сломавъ на гранитномъ утесѣ топоръ или ножъ, умирали, грызя песчаную дорогу. Другіе, скрестивъ руки на груди, потупивъ взоръ въ землю, садились на камни у края дороги и въ молчаливой неподвижности ожидали, когда шальная пуля низвергнетъ ихъ въ потокъ.
Тѣ изъ нихъ, которыхъ предусмотрительный Гаккетъ снабдилъ негоднымъ оружіемъ, сдѣлали на удачу нѣсколько выстрѣловъ въ вершину скалъ и въ отверстіе пещеръ, откуда сыпался на нихъ непрерывный градъ пуль. Смутный шумъ, въ которомъ можно было различить яростные крики начальниковъ бунтовщиковъ и спокойная команда офицеровъ, сливался то и дѣло съ громомъ перемѣжающейся и учащенной пальбы, между тѣмь какъ кровавый паръ поднимался, разстилаясь надъ мѣстомъ кровопролитной схватки и отбрасывая на вершины скалъ дрожащій свѣтъ. Пѣнящійся потокъ, какъ врагъ, мчался среди непріятельскихъ отрядовъ, унося съ собой свою кровавую добычу.
Въ началѣ схватки, или вѣрнѣе сказать кровопролитной рѣзни самый сильный уронъ понесли Кольскіе горцы, бывшіе подъ начальствомъ храбраго, но неосторожнаго Кеннибола. Читатель помнитъ, что они составляли авангардъ бунтовщиковъ и вошли уже въ сосновую рощу, которою оканчивалось ущелье Чернаго Столба.
Лишь только неосмотрительный Кенниболъ сдѣлалъ выстрѣлъ изъ мушкета, какъ роща, словно по волшебству оживившись отъ непріятельскаго огня, замкнула ихъ въ огненный кругъ. Съ высоты эспланады, расположенной подъ нависшими скалами, цѣлый баталіонъ мункгольмскаго полка, выстроившись угломъ, сталъ осыпать ихъ пулями.
Въ эту ужасную критическую минуту, Кенниболъ растерялся и взглянулъ на таинственнаго великана, ожидая спасенія только отъ сверхъестественной силы Гана Исландца. Однако этотъ страшный демонъ не развертывалъ своихъ огромныхъ крыльевъ, не взлеталъ надъ сражающимися, изрыгая громъ и молнію на королевскихъ стрѣлковъ, не выросталъ разомъ до облаковъ, не опрокидывалъ горъ на нападающихъ, не топалъ ногой по землѣ, пробивая пропасти подъ ногами баталіоновъ засѣвшихъ въ засаду. Этотъ грозный Ганъ Исландецъ попятился, подобно ему, при первомъ залпѣ мушкетовъ и почти растерявшись приблизился къ нему, прося карабина и говоря самымъ обыкновенннымъ голосомъ, что въ такую минуту его топоръ безполезнѣе веретена старой бабы.
Изумленный, но не совсѣмъ еще разочарованный Кенниболъ отдалъ великану свой мушкетъ съ ужасомъ, вытѣснившимъ на минуту страхъ передъ сыпавшимися вокругъ него пулями. Все еще надѣясь на чудо, онъ ожидалъ, что его роковое оружіе выростетъ въ рукахъ Гана Исландца въ пушку или превратится въ крылатаго дракона, извергающаго пламя изъ глазъ, пасти и ноздрей. Ничего подобнаго не случилось, и удивленіе бѣднаго охотника перешло всякія границы, когда онъ примѣтилъ, что демонъ заряжаетъ карабинъ обыкновеннымъ порохомъ и свинцомъ такъ же, какъ и онъ, подобно ему прицѣливается и стрѣляетъ даже хуже его.
Внѣ себя отъ изумленія и разочарованія Кенниболъ долго смотрѣлъ на эти заурядные пріемы, и убѣдившись наконецъ, что ему нечего разсчитывать на чудо, сталъ раздумывать какимъ бы человѣческимъ способомъ выручить себя и товарищей изъ затруднительнаго положенія. Уже его старый бѣдный товарищъ Гульдонъ Стайнеръ, весь израненный, палъ рядомъ съ нимъ; уже всѣ горцы, потерявшіе присутствіе духа, видя, что бѣгство отрѣзано, тѣснимые со всѣхъ сторонъ, не думали защищаться и съ плачевными воплями бросились другъ къ другу.
Кенниболъ вдругъ примѣтилъ, что толпа его товарищей служила вѣрной мишенью для непріятеля, который съ каждымъ залпомъ вырывалъ изъ ихъ рядовъ человѣкъ по двадцати. Тотчасъ же приказалъ онъ горцамъ кинуться въ разсыпную, въ лѣсъ, росшій по краямъ дороги, которая здѣсь была гораздо шире чѣмъ въ ущельяхъ Чернаго Столба, спрятаться подъ хворостомъ и мѣткими выстрѣлами отвѣчать на все болѣе и болѣе опустошительный огонь баталіоновъ. Горцы, занимавшіеся преимущественно охотой, а потому по большей части отлично вооруженные, исполнили приказаніе предводителя съ точностью, какой быть можетъ не выказали бы въ минуту менѣе критическую. Люди вообще теряютъ голову, стоя лицомъ къ лицу съ опасностью и безпрекословно повинуются тому, кто выдается въ ихъ средѣ своимъ хладнокровіемъ и присутствiемъ духа.
Однако эта благоразумная мѣра не могла доставить не только побѣды, но даже спасенія. Уже большая часть горцевъ была истреблена, многіе же изъ оставшихся въ живыхъ, не смотря на примѣръ и ободреніе предводителя и великана, опершись на безполезные мушкеты или распростершись близъ раненыхъ товарищей, упрямо рѣшились умереть, не пытаясь даже защищаться.
Быть можетъ удивятся, что эти люди, привыкшіе ежедневно рисковать жизнью, перескакивая въ погонѣ за дикимъ звѣремъ съ одной ледяной вершины на другую, такъ скоро утратили всякое мужество. Но пусть не заблуждаются: храбрость въ обыкновенныхъ сердцахъ — чувство условное. Можно смѣяться подъ градомъ картечи и трусить въ темнотѣ или на краю пропасти; можно каждый день гоняться за дикимъ звѣремъ, перепрыгивать бездны и удариться въ бѣгство при пушечномъ выстрѣлѣ. Зачастую бываетъ, что неустрашимость есть результат привычки и, переставъ страшиться того или другого рода смерти, не перестаютъ бояться самой смерти.
Кенниболъ, окруженный грудою умирающихъ товарищей, самъ начиналъ приходить въ отчаяніе, хотя получилъ лишь легкую рану въ лѣвую руку и хотя въ виду его дьявольскій великанъ съ успокоительнымъ хладнокровіемъ то и дѣло разряжалъ свой карабинъ.
Вдругъ онъ примѣтилъ, что въ роковомъ баталіонѣ, засѣвшемъ на вершинѣ скалы, произошло странное замѣшательство, которое невозможно было приписать урону, причиняемому слабымъ огнемъ его горцевъ. Страшные болѣзненные крики, стоны умирающихъ, испуганныя восклицанія поднялись въ этомъ побѣдоносномъ отрядѣ. Вскорѣ пальба прекратилась, дымъ разсѣялся и Кенниболъ могъ видѣть какъ рушились огромныя глыбы гранита на мункгольмскихъ стрѣлковъ съ высоты утеса, господствовавшаго надъ площадкой, гдѣ засѣлъ непріятель.
Эти обломки скалъ падали другъ за другомъ съ ужасающей быстротой; съ страшнымъ шумомъ разбивались одинъ о другой и падали въ толпу солдатъ, которые, разстроивъ ряды, въ безпорядкѣ бросились съ высоты и бѣжали по всѣмъ направленіямъ.
При видѣ этой неожиданной помощи Кенниболъ обернулся: великанъ стоялъ на томъ же мѣстѣ! Горецъ остолбенѣлъ отъ изумленія; потому что былъ увѣренъ, что Ганъ Исландецъ взлетѣлъ наконецъ на вершину утеса и оттуда поражаетъ непріятеля. Онъ снова взглянулъ на вершину, съ которой сыпались массивные обломки, но ничего тамъ не замѣтилъ. Въ то же время онъ не могъ также предположить, чтобы какой нибудь отрядъ бунтовщиковъ взобрался на эту опасную вышину, такъ какъ не видно было блеска оружія, не слышно торжествующихъ криковъ.
Между тѣмъ пальба съ площадки окончательно прекратилась; лѣсная чаща скрыла остатки баталіона, собравшагося у подошвы утеса. Застрѣльщики тоже ослабили огонь и Кенниболъ искусно воспользовался этой неожиданной выгодой и воодушевилъ своихъ товарищей, показавъ имъ при мрачномъ красноватомъ свѣтѣ, озарявшемъ сцену рѣзни, груду непріятельскихъ тѣлъ на эспланадѣ среди обломковъ скалы, все еще падавшихъ по временамъ съ высоты.
Тогда горцы въ свою очередь отвѣтили торжествующими криками на болѣзненный вопль непріятеля, построились въ колонну и хотя все еще тревожимые застрѣльщиками, разсѣявшимися по кустамъ, съ обновленнымъ мужествомъ рѣшились пробиться изъ гибельнаго ущелья.
Сформированная такимъ образомъ колонна готовилась уже двинуться впередъ, уже Кенниболъ при оглушительныхъ крикахъ: — Да здравствуетъ свобода! Долой опеку! — подалъ сигналъ своимъ охотничьимъ рогомъ; — какъ вдругъ впереди нихъ раздался барабанный бой и звукъ трубы. Остатки баталіона съ эспланады, пополнивъ свои ряды свѣжими силами, появились на ружейный выстрѣлъ отъ поворота дороги и горцы увидѣли передъ собою щетинистый строй пикъ и штыковъ. Очутившись неожиданно въ виду колонны Кеннибола, баталіонъ остановился, а командиръ его, размахивая маленькимъ бѣлымъ знаменемъ, направился къ горцамъ въ сопровожденiи трубача.
Неожиданное появленіе этого отряда ничуть не смутило Кеннибола. Есть минуты опасности, когда удивленіе и страхъ уже не властны надъ человѣкомъ. При первыхъ звукахъ трубы и барабана старая лисица Кольскихъ горъ остановила своихъ товарищей. Въ ту минуту, когда батальонъ развернулъ въ стройномъ порядкѣ свой фронтъ, Кенниболъ приказалъ зарядить карабины и расположилъ своихъ горцевъ по два въ рядъ, чтобы уменьшить тѣмъ губительное дѣйствіе непріятельскаго огня. Самъ же онъ сталъ во главѣ рядомь съ великаномъ, съ которымъ въ пылу рѣзни началъ уже обращаться почти дружески, примѣтивъ, что глаза его совсѣмъ не пылали какъ горнъ въ кузницѣ, а пресловутые ногти ничуть не длиннѣе обыкновенныхъ человѣческихъ ногтей.
Увидѣвъ командира королевскихъ стрѣлковъ, приближавшагося повидимому для переговоровъ о сдачѣ, и не слыша болѣе пальбы застрѣльщиковъ, хотя голоса ихъ все еще слышались въ лѣсу, Кенниболъ пріостановилъ пока приготовленія къ оборонѣ.
Между тѣмъ, офицеръ съ бѣлымъ знаменемъ, пройдя половину разстоянія между обоими отрядами, остановился и сопровождавшій его трубачъ трижды затрубилъ въ рогъ. Тогда офицеръ закричалъ громкимъ голосомъ, такъ чтобы горцы могли разслышать его, не смотря на возраставшій шумъ битвы, которая все еще продолжалась въ горныхъ ущельяхъ:
— Именемъ короля объявляю прощеніе тѣмъ мятежникамъ, которые положатъ оружіе и выдадутъ зачинщиковъ правосудію его величества!
Лишь только парламентеръ умолкъ, какъ изъ за сосѣдняго куста прогремѣлъ выстрѣлъ. Раненый офицеръ зашатался, сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, поднялъ знамя и упалъ съ крикомъ: «Измѣна…!»
Никто не зналъ чья рука направила этотъ роковой выстрѣлъ…
— Измѣна! Предательство! — повторилъ батальонъ стрѣлковъ, внѣ себя отъ ярости.
Страшный залпъ ружей грянулъ въ горцевъ.
— Измѣна! — подхватили въ свою очередь горцы, освирѣпѣвшiе при видѣ падавшихъ отъ пуль товарищей.
Общая перестрѣлка завязалась въ отвѣтъ на неожиданный залпъ королевскихъ стрѣлковъ.
— Впередъ, ребята! Смерть подлымъ измѣнникамъ; смерть! — кричали офицеры стрѣлковаго баталіона.
— Бей измѣнниковъ! — подхватили горцы.
Противники устремились другъ на друга съ обнаженными саблями, два отряда съ оглушительнымъ стукомъ оружія и криками сошлись почти на трупѣ злополучнаго офицера.
Ряды ихъ, врѣзавшись одинъ въ другой, смѣшались. Предводители бунтовщиковъ, королевскіе офицеры, солдаты, горцы, всѣ безъ разбора сталкивались, схватывались, тѣснили другъ друга, какъ двѣ стаи голодныхъ тигровъ, встрѣтившихся въ пустынѣ. Длинныя копья, штыки, бердыши оказались безполезными; одни лишь сабли и топоры сверкали надъ головами и многіе изъ сражавшихся, очутившись лицомъ къ лицу могли пустить въ ходъ только кинжалъ или зубы.
И стрѣлковъ, и горцевъ наравнѣ охватило бѣшенство и негодованіе; крики измѣна! мщеніе! слились въ общемъ гулѣ. Схватка достигла такого ожесточенія, что всякій предпочиталъ смерть невѣдомаго врага своей собственной жизни и равнодушно ступалъ по грудамъ раненыхъ и мертвыхъ, среди которыхъ умирающiй собиралъ свои послѣднія силы, чтобы укусить врага, попиравшаго его ногами.
Въ эту минуту малорослый человѣкъ, котораго многіе изъ сражавшихся, ослѣпленные дымомъ и кровавыми парами, приняли сперва за дикое животное, судя по одеждѣ изъ звѣриныхъ кожъ, съ страшнымъ хохотомъ и радостнымъ воемъ кинулся въ средину кровопролитной схватки.
Никто не зналъ, откуда онъ явился, чью сторону держалъ, и его каменный топоръ, не разбирая жертвъ, съ одинаковой силой дробилъ черепъ мятежника и распарывалъ животъ солдата. Однако, казалось, что онъ предпочтительно истреблялъ мункгольмскихъ стрѣлковъ. Всѣ разступались передъ нимъ; какъ злой духъ носился онъ въ схваткѣ и его окровавленный топоръ беспрерывно вращался вокругъ него, разбрасывая во всѣ стороны клочки мяса, оторванные члены, раздробленныя кости. Подобно прочимъ онъ тоже кричалъ: мщеніе! бормоталъ странныя слова, между которыми то и дѣло повторялось имя Жилль. Этотъ грозный незнакомецъ чувствовалъ себя въ пылу рѣзни какъ на празднествѣ.
Какой-то горецъ, на которомъ остановился его убійственный взглядъ, упалъ къ ногамъ великана, обманувшаго всѣ надежды Кеннибола, крича:
— Ганъ Исландецъ, спаси меня!
— Ганъ Исландецъ! — повторилъ малорослый.
Онъ приблизился къ великану.
— Такъ это ты Ганъ Исландецъ? — спросилъ онъ.
Великанъ вмѣсто отвѣта замахнулся своимъ желѣзнымъ топоромъ. Малорослый отступилъ и лезвіе, пролетѣвъ, раскроило черепъ несчастнаго, взывавшего къ великану о помощи.
Незнакомецъ захохоталъ.
— О! о! Клянусь Ингольфомъ! Я считалъ Гана Исландца болѣе ловкимъ.
— Вотъ какъ Ганъ Исландецъ спасаетъ умоляющихъ его! — сказалъ великанъ.
— Ты правъ.
— Два грозныхъ противника яростно ринулись другъ на друга. Желѣзный топоръ встрѣтился съ каменной сѣкирой и стукнулся съ такой силой, что оба лезвія разлетѣлись вдребезги.
Быстрѣе мысли обезоруженный малорослый схватилъ валявшуюся на землѣ тяжелую дубину и, увернувшись отъ великана, который нагнулся, чтобы схватить его руками, нанесъ страшный ударъ по лбу своего колоссальнаго противника.
Съ глухимъ крикомъ великанъ повалился на землю. Съ бѣшенной радостью торжествующій малорослый сталъ топтать его ногами.
— Ты носилъ имя не по себѣ, - пробормоталъ онъ, и, размахивая своей побѣдоносной дубиной, бросился за новыми жертвами.
Великанъ не былъ мертвъ. Страшный ударъ оглушилъ его и безъ чувствъ повергъ на землю. Когда онъ сталъ открывать глаза и сдѣлалъ слабое движеніе, одинъ изъ стрѣлковъ замѣтилъ его и бросился къ нему съ крикомъ:
— Ганъ Исландецъ взятъ! Ура!
— Ганъ Исландецъ взятъ! — повторило множество голосовъ съ различными оттѣнками торжества и отчаянія.
Малорослый исчезъ.
Уже нѣкоторое время горцы стали слабѣть, подавляемые численностью непріятеля, такъ какъ на подкрѣпленіе къ мункгольмскимъ стрѣлкамъ присоединились разсѣянные по лѣсу застрѣльщики, отряды спѣшившихся драгуновъ и улановъ, которые мало по малу являлись въ ущельѣ, гдѣ сдача главныхъ предводителей бунта прекратила рѣзню. Храбрый Кенниболъ, раненый еще въ началѣ схватки, былъ взятъ въ плѣнъ. Взятіе Гана Исландца лишило горцевъ послѣдняго мужества и они положили оружіе.
Когда первый свѣтъ утренней зари заблестѣлъ на острыхъ ледяныхъ высотахъ, еще до половины погруженныхъ въ тѣни, зловѣщая тишина царила уже въ ущельяхъ Чернаго Столба и лишь изрѣдка легкій утренній вѣтерокъ доносилъ съ собой слабые стоны. Черныя тучи вороновъ слетались къ роковому ущелью со всѣхъ сторонъ и пастухи, проходившіе на разсвѣтѣ по скаламъ, въ испугѣ вернулись въ свои хижины, увѣряя, что видѣли въ ущельѣ Чернаго Столба звѣря въ образѣ человѣческомъ, который пилъ кровь, сидя на грудѣ мертвыхъ тѣлъ.
XL
— Дитя мое, отвори это окно; стекла запотѣли, а мнѣ хотѣлось бы поглядѣть на свѣтъ Божій.
— Смотрите, батюшка; скоро наступитъ ночь.
— Нѣтъ, солнечные лучи еще играютъ на холмахъ, окружающихъ заливъ. Мнѣ надо подышать вольнымъ воздухомъ сквозь рѣшетку моей тюрьмы. Какъ ясенъ небосклонъ!
— Батюшка, гроза собирается за горизонтомъ.
— Гроза, Этель! Гдѣ ты видишь?.
— Батюшка, я жду грозы, когда небосклонъ слишкомъ ясенъ.
Старикъ съ удивленіемъ взглянулъ на молодую дѣвушку.
— Если бы въ молодости я разсуждалъ какъ ты, меня бы не было здѣсь.
Помолчавъ, онъ добавилъ спокойнѣе:
— Ты сказала правду, но такая опытность несвойственна твоему возрасту. Не понимаю, почему твой юный умъ такъ походитъ на мою старую опытность.
Этель потупила голову, какъ бы смущаясь этимъ простымъ и мѣткимъ замѣчаніемъ. Руки ея болѣзненно сжались, глубокій вздохъ вырвался изъ груди.
— Дитя мое, — продолжаль старикъ-узникъ, — съ нѣкоторыхъ поръ я сталъ примѣчать, что ты блѣднѣешь, какъ будто жизнь уже не грѣетъ кровь въ твоихъ жилахъ. По утрамъ ты являешься ко мнѣ съ красными распухшими вѣками, съ заплаканными глазами, которыхъ не смыкала всю ночь. Вотъ уже нѣсколько дней, Этель, ты упорно молчишь, твой голосъ не пытается отвлечь меня отъ мрачныхъ думъ о прошедшемъ. Ты сидишь подлѣ меня печальнѣе меня самого, хотя на твоей душѣ не лежитъ бремя пустой суетной жизни. Печаль окружаетъ твою молодость, но она не могла еще проникнуть въ твое сердце. Утреннія тучи скоро исчезнутъ на небѣ. Ты въ такомъ теперь возрастѣ, когда въ мечтахъ намѣчаютъ свою будущность, какъ бы худо ни было настоящее. Что случилось съ тобой, дитя мое? Однообразіе узничества защищаетъ тебя отъ неожиданныхъ огорченій. Что сдѣлала ты? Не можетъ быть, чтобы ты горевала о моей участи; ты должна была привыкнуть къ моему несчастію, которому пособить нельзя. Правда, въ разговорахъ моихъ ты никогда не слышала надежды, но это не причина, чтобы я читалъ отчаяніе въ твоихъ взорахъ.
Суровый голосъ узника смягчился почти до отеческой нѣжности. Этель молча стояла передъ нимъ; вдругъ она отвернулась съ конвульсивнымъ движеніемъ, упала на колѣни и закрыла лицо руками, какъ бы для того, чтобы заглушить слезы и рыданія, волновавшія ей грудь.
Сердце несчастной дѣвушки разрывалось отъ непосильнаго горя. Что сдѣлала она этой роковой незнакомкѣ, зачѣмъ открыла она ей тайну, разбившую всѣ мечты ея жизни? Увы! Съ тѣхъ поръ, какъ узнала она, кто былъ Орденеръ, глаза ея не смыкались ни на минуту, душа не знала минуты покоя. Ночь приносила ей одно лишь облегченіе: она могла плакать свободно. Все кончено! Ей ужъ не принадлежалъ тотъ, къ которому неслись всѣ ея мечты, котораго она въ скорбяхъ и молитвахъ считала своимъ, который въ сновидѣніяхъ являлся ей супругомъ. Тотъ вечеръ, когда Орденеръ такъ нѣжно сжималъ ее въ своихъ объятіяхъ, былъ для нея только сномъ, сладкимъ сномъ, повторявшимся каждую ночь.
И такъ любовь, которую она невольно питала къ отсутствующему другу, чувство преступное для нея! Ея Орденеръ женихъ другой! Кто въ состояніи выразить мученія дѣвственнаго сердца, когда въ него змѣей вползаетъ страшное, невѣдомое дотолѣ чувство ревности? Когда въ долгіе часы безсонницы, разметавшись на жаркомъ ложѣ, она воображала своего Орденера въ объятіяхъ другой женщины, которая красивѣе, богаче и знатнѣе ея?
— Какъ глупо было, — говорила она себѣ: — повѣрить, что онъ пошелъ на смерть за меня. Орденеръ, сынъ вице-короля, сынъ могущественнаго вельможи, а я не болѣе какъ бѣдная узница, презрѣнная дочь изгнанника. Онъ свободенъ и ушелъ! Ушелъ, конечно, для того, чтобы жениться на прекрасной невѣстѣ, на дочерѣ канцлера, министра, гордаго графа!.. Неужели Орденеръ обманулъ меня? Боже! Кто бы могъ сказать, что этотъ голосъ говоритъ ложь?..
Злополучная Этель заливалсь слезами и снова представлялся ей Орденеръ, ея обожаемый Орденеръ, который, во всемъ блескѣ своего сана, ведетъ другую къ алтарю, къ другой обращаетъ улыбку, составлявшую нѣкогда все ея счастіе.
Однако, не смотря на всю глубину ея невыразимаго отчаянія, ни на минугу не забыла она своей дочерней нѣжности. Сколько геройскихъ усилій стоило этой слабой дѣвушкѣ скрыть отъ несчастнаго отца свое горе. Нѣтъ ничего мучительнѣе, какъ въ печали таить свою печаль, сдерживаемыя слезы несравненно горче проливаемыхъ. Только спустя нѣсколько дней молчаливый старикъ примѣтилъ перемѣну въ своей Этели, и только нѣжное участіе его могло наконецъ вызвать слезы, такъ давно накопившiеся въ ея груди.
Нѣсколько минутъ отецъ съ горькой улыбкой смотрѣлъ на свою плачущую дочь и покачалъ головой.
— Этель, — спросилъ онъ наконецъ: — ты не жила съ людьми, о чемъ же ты плачешь?
Лишь только произнесъ онъ эти слова, благородная, прелестная дѣвушка поднялась, перестала плакать и отерла слезы.
— Батюшка, — сказала она съ усиліемъ: — батюшка, простите меня… Это была минута слабости.
Она взглянула на него, пытаясь улыбнуться.
Она отыскала въ глубинѣ комнаты Эдду, сѣла у ногъ своего безмолвнаго отца и, на удачу развернувъ книгу, принялась читать, сдерживая волненіе, дрожавшее въ ея голосѣ. Но чтеніе ея было безполезно: старикъ не слушалъ ее, сама она не понимала, что читала.
Шумахеръ махнулъ рукой.
— Довольно, перестань, дитя мое.
Этель закрыла книгу.
— Этель, — спросилъ Шумахеръ: — вспоминаешь ли ты когда Орденера?
Молодая дѣвушка смутилась и вздрогнула.
— Да, — продолжалъ онъ: — Орденера, который отправился…
— Батюшка, — перебила Этель: — что намъ за дѣло до него? Я раздѣляю ваше мнѣніе: онъ отправился, чтобы никогда не возвращаться сюда.
— Не возвращаться сюда, дитя мое! Я не могъ этого говорить. Не знаю, но какое-то предчувствіе напротивъ убѣждаетъ меня, что онъ вернется.
— Вы этого не думали, батюшка, когда съ такою недовѣрчивостью отзывались о немъ.
— Развѣ я выражалъ къ нему недовѣріе?
— Да, батюшка, и я раздѣляю вашъ взглядъ. Я думаю что онъ обманулъ насъ.
— Обманулъ насъ, дитя мое! Если я такъ думалъ о немъ, я подражалъ людямъ, которые обвиняютъ, не разбирая вины… До сихъ поръ я не зналъ человѣка преданнее Орденера.
— Но, батюшка, увѣрены ли вы, что подъ его добродушіемъ не скрывается вѣроломства?
— Обыкновенно люди не лицемѣрятъ съ несчастнымъ, впавшимъ въ немилость. Если бы Орденеръ не былъ преданъ мнѣ, что могло привлечь его въ эту тюрьму?
— Убѣждены ли вы, — слабымъ голосомъ возразила, Этель: — что, приходя сюда, онъ не имѣлъ другой цѣли?
— Но какую же? — съ живостью спросилъ старикъ.
Этель молчала.
Ей невыносимо было продолжать обвинять своего возлюбленнаго Орденера, котораго прежде она такъ горячо защищала предъ отцомъ.
— Я уже не графъ Гриффенфельдъ, — продолжалъ Шумахеръ: — я уже не великій канцлеръ Даніи и Норвегіи, не временщикъ, который раздаетъ королевскія милости, не всемогущій министръ. Я презрѣнный государственный преступникъ, измѣнникъ, политическая чума. Надо имѣть много смѣлости, чтобы безъ брани и проклятій говорить обо мнѣ съ тѣми, которые обязаны мнѣ своими почестями и богатствомъ. Нужна большая преданность, чтобы перешагнуть, не будучи ни тюремщикомъ, ни палачомъ, порогъ этой темницы. Надо имѣть много героизма, дитя мое, чтобы являться сюда, называясь моимъ другомъ… Нѣть, я не буду неблагодаренъ, подобно всѣмъ людямъ. Этотъ юноша заслужилъ мою признательность. Не показалъ ли онъ мнѣ своего участія, не ободрялъ ли меня?…
Этель съ горечью слушала эти слова, которыя обрадовали бы ее нѣсколько дней тому назадъ, когда этотъ Орденеръ былъ для нея еще моимъ Орденеромъ. Послѣ минутнаго молчанія, Шумахеръ продолжалъ торжественнымъ тономъ:
— Слушай, дитя, внимательно, я хочу поговорить съ тобой о важномъ дѣлѣ. Я чувствую, что силы медленно оставляютъ меня, жизнь мало по малу гаснетъ; да, дитя мое, мой конецъ приближается.
Подавленный стонъ вылетѣлъ изъ груди Этели.
— Ради Бога, батюшка, не говорите этого! Пожалѣйте вашу несчастную дочь! Вы тоже хотите меня покинуть? Что станется со мною, одинокой на свѣтѣ, если я лишусь вашего покровительства?
— Покровительство изгнанника! — сказалъ отецъ, поникнувъ головой: — Вотъ объ этомъ-то я и думалъ, потому что твое будущее благосостояніе занимает меня гораздо болѣе, чѣмъ мои прошлогоднія бѣдствія… Выслушай и не перебивай меня. Дитя мое, Орденеръ вовсе не заслуживаетъ, чтобы ты такъ сурово относилась къ нему, и до сихъ поръ я не думалъ, чтобы ты питала къ нему отвращеніе. Наружность его привлекательна, дышетъ благородствомъ; положимъ, что это еще ничего не доказываетъ, но я принужденъ сознаться, что замѣтилъ въ немъ нѣсколько добродѣтелей, хотя ему достаточно обладать человѣческой душой, чтобы носить въ себѣ зародышъ всѣхъ пороковъ и преступленій. Нѣтъ пламени безъ дыму!
Старикъ опять остановился и, устремивъ на дочь свой пристальный взоръ, добавилъ:
— Предчувствуя близость своей кончины, я размышлялъ о немъ и о тебѣ, Этель; и если онъ, какъ я надѣюсь, возвратится, я избираю его твоимъ покровителемъ и мужемъ.
Этель поблѣднѣла и вздрогнула; въ ту минуту, когда блаженныя грезы оставили ее навсегда, отецъ пытался осуществить ихъ. Горькая мысль — такъ я могла быть счастлива! — еще болѣе растравила ея отчаяніе. Несчастная дѣвушка не смѣла вымолвить слова, опасаясь, чтобы не хлынули изъ глазъ ея душившія ее слезы.
Отецъ ожидалъ отвѣта.
— Какъ! — сказала она, наконецъ, задыхающимся голосомъ, — Вы назначали мнѣ его въ мужья, батюшка, не зная его происхожденія, его семьи, его имени?
— Не назначалъ, дитя мое, а назначилъ.
Тонъ старика былъ почти повелителенъ. Этель вздохнула.
— Назначилъ, повторяю тебѣ; да и что мнѣ за дѣло до его происхожденія? Мнѣ не надо знать его семьи, если я знаю его самого. Подумай: это единственный якорь спасенія, на который ты можешь разсчитывать. Мнѣ кажется, что, по счастію, онъ не питаетъ къ тебѣ того отвращенія, какъ ты выказываешь къ нему.
Бѣдная дѣвушка устремила свой взоръ къ небу.
— Ты понимаешь меня, Этель; повторяю, что мнѣ за дѣло до его происхожденія? Очевидно, онъ не знатнаго рода, потому что родившагося во дворцѣ не учатъ посѣщать тюрьмы. Да, дитя мое, оставь свои горделивыя сѣтованія; не забудь, что Этель Шумахеръ уже не княжна Воллинъ, не графиня Тонгсбергъ; ты низведена теперь ниже той ступени, откуда сталъ возвышаться твой отецъ. Будь счастлива и довольна судьбой, если этотъ человѣкъ, какого бы онъ нибылъ рода, приметъ твою руку. Даже лучше, если онъ не знатнаго происхожденія, по крайней мѣрѣ, дни твои не будутъ знать бурь, возмущавшихъ жизнь твоего отца. Вдали отъ людской ненависти и злобы, въ неизвѣстности, твоя жизнь протечетъ не такъ, какъ моя, потому что кончится лучше, чѣмъ началась…
Этель упала на колѣни передъ узникомъ.
— Батюшка!.. Сжальтесь!
Онъ съ удивленіемъ протянулъ руки.
— Что ты хочешь сказать, дитя мое?
— Ради Бога, не описывайте мнѣ этого блаженства, оно не для меня!
— Этель, — сурово возразилъ старикъ, — не шути такъ цѣлою жизнью, которая лежитъ предъ тобой. Я отказался отъ руки принцессы царственной крови, принцессы Гольштейнъ Аугустенбургской, понимаешь ли? И понесъ жестокое наказаніе за мою гордость. Ты пренебрегаешь человѣкомъ незнатнымъ, но честнымъ; смотри, чтобы твою гордость не постигла такая же тяжелая кара.
— О, если бы это былъ человѣкъ не знатный и честный! — прошептала Этель.
Старикъ всталъ и взволнованно прошелся по комнатѣ.
— Дитя мое, — сказалъ онъ, — тебя проситъ, тебѣ приказываетъ твой несчастный отецъ. Не заставляй меня передъ смертью безпокоиться о твоей будущности. Обѣщай мнѣ выйти за этого незнакомца.
— Я всегда готова повиноваться вамъ, батюшка, но не надѣйтесь на его возвращеніе…
— Я уже все обдумалъ и полагаю, судя по тону, какимъ Орденеръ произноситъ твое имя…
— Что онъ меня любитъ! — съ горечью докончила Этель, — О, нѣтъ! Не вѣрьте ему!
Отецъ возразилъ холодно:
— Не знаю, любитъ ли онъ тебя, какъ обыкновенно выражаются молодыя дѣвушки; но знаю, что онъ вернется.
— Оставьте эту мысль, батюшка. Къ тому же, быть можетъ вы сами не захотите назвать его своимъ зятемъ, когда узнаете кто онъ.
— Этель, онъ будетъ имъ, не смотря на его имя и званіе.
— Но, — возразила она, — если этотъ молодой человѣкъ, въ которомъ вы видѣли своего утѣшителя, въ которомъ хотите видѣть опору вашей дочери, батюшка, что если это сынъ одного изъ вашихъ смертельныхъ враговъ, сынъ вице-короля Норвегіи, графа Гульденлью?
Шумахеръ отшатнулся.
— Что ты сказала? Боже мой! Орденеръ! Этотъ Орденеръ!.. Не можетъ быть!..
Невыразимая ненависть, вспыхнувшая въ тусклыхъ взорахъ старика, оледенила сердце дрожащей Этели, которая поздно раскаивалась въ своихъ неблагоразумныхъ словахъ.
Ударъ былъ нанесенъ. Нѣсколько мгновеній Шумахеръ оставался недвижимъ, скрестивъ руки на груди; все тѣло его вздрагивало какъ на раскаленныхъ угольяхъ, его сверкающіе глаза выкатились изъ орбитъ, его взоръ, устремленный въ каменный полъ, казалось, хотѣлъ уйти въ его глубину. Наконецъ нѣсколько словъ сорвалось съ его блѣдныхъ губъ, и онъ произнесъ слабымъ голосомъ, какъ бы сквозь сонъ.
— Орденеръ!.. Да, такъ и есть, Орденеръ Гульденлью. Превосходно! И такъ, Шумахеръ, старый безумецъ, открывай ему свои объятія, этотъ честный юноша готовится поразить тебя кинжаломъ.
Вдругъ онъ топнулъ ногой и продолжалъ громкимъ голосомъ.
— Они подсылали ко мнѣ все свое гнусное отродье, что-бы издѣваться надъ моимъ бѣдствіемъ и заточеніемъ! Я уже видѣлъ одного изъ Алефельдовъ, радушно принималъ Гульденлью! Чудовища! Кто бы могъ думать, что этотъ Орденеръ носитъ такое имя и такую душу! Горе мнѣ! Горе ему!
Онъ упалъ въ кресло въ изнеможеніи; и между тѣмъ какъ его стѣсненная грудь волновалась отъ глубокихъ вздоховъ, бѣдняжка Этель, дрожа отъ ужаса, плакала у его ногъ.
— Не плачь, дитя мое, — сказалъ онъ мрачнымъ голосомъ, — встань, прижмись къ моему сердцу.
Онъ открылъ ей свои объятія.
Этель не могла объяснить себѣ этой нѣжности, проявившейся въ минуту гнѣва, какъ вдругъ онъ сказалъ:
— По крайней мѣрѣ, дитя мое, ты была дальновиднѣе твоего стараго отца. Тебя не обманули чарующіе ядовитые глаза змѣи. Позволь поблагодарить тебя за ненависть, которую ты питаешь къ этому гнусному Орденеру.
Дѣвушка вздрогнула отъ похвалы, столь мало заслуженной.
— Батюшка, — начала она, — успокойтесь…
— Обѣщай мнѣ, - продолжалъ Шумахеръ, — всегда питать это чувство къ сыну Гульденлью; поклянись мнѣ.
— Богъ запрещаетъ клясться, батюшка…
— Поклянись, дочь моя, — повторилъ Шумахеръ съ запальчивостью. — Не правда ли, сердце твое никогда не перемѣнится къ этому Орденеру Гульденлью?
Этель отвѣтила, не задумываясь.
— Никогда.
Старикъ привлекъ ее къ своей груди.
— Благодарю, дитя мое; по крайней мѣрѣ ты наслѣдуешь мою ненависть къ нимъ, если не можешь наслѣдовать почестей и богатства, отнятыхъ ими. Слушай: они лишили твоего стараго отца сана и знатности, взведя на эшафотъ, они бросили меня въ темницу, подвергнувъ мучительной пыткѣ, какъ бы для того, чтобы запятнать меня позоромъ. Гнусные люди! Мнѣ обязаны они могуществомъ, которымъ задавили меня! О! Да услышатъ меня силы небесныя и земныя, да будутъ прокляты мои враги и все ихъ потомство!
Онъ помолчалъ минуту, затѣмъ обнявъ бѣдную, испуганную его проклятiями девушку, сказалъ:
— Но, Этель, моя единственная отрада и гордость, скажи мнѣ, какимъ образомъ ты оказалась прозорливѣе меня? Какимъ образомъ открыла ты, что этотъ измѣнникъ носитъ самое ненавистное для меня имя, желчью вписанное въ глубинѣ моего сердца? Какимъ образомъ провѣдала ты эту тайну?
Она собиралась съ силами, чтобы отвѣтить, какъ вдругъ дверь отворилась.
Какой то человѣкъ въ черной одеждѣ, съ жезломъ изъ чернаго дерева въ рукахъ, съ стальной цѣпью на шеѣ, показался на порогѣ двери, окруженный алебардщиками, тоже одѣтыми въ черное.
— Что тебѣ нужно? — спросилъ узникъ съ досадой и удивленіемъ.
Незнакомецъ, не отвѣчая на вопросъ и не смотря на Шумахера, развернулъ длинный пергаментъ съ зеленой восковой печатью на шелковыхъ шнуркахъ и прочелъ громко.
— «Именемъ его величества, всемилостивѣйшаго повелителя и государя нашего, короля Христіерна!
Повелѣваемъ Шумахеру, государственному узнику королевской Мункгольмской крѣпости, и дочери его слѣдовать за подателемъ сего указа.»
Шумахеръ повторилъ свой вопросъ:
— Что тебѣ нужно отъ меня?
Незнакомецъ невозмутимо принялся снова читать королевскій указъ.
— Довольно, — сказалъ старикъ.
Онъ всталъ и сдѣлалъ знакъ изумленной и испуганной Этели идти съ нимъ за этимъ мрачнымъ конвоемъ.
XLI
Настала ночь; холодный вѣтеръ завывалъ вокругъ Проклятой Башни, и двери развалинъ Виглы шатались на петляхъ, какъ будто одна рука разомъ толкала ихъ.
Суровые обитатели башни, палачъ съ своей семьей, собрались у очага, разведеннаго посреди залы нижняго жилья. Красноватый мерцающій свѣтъ огня освѣщалъ ихъ мрачныя лица и красную одежду. Въ чертахъ дѣтей было что то свирѣпое, какъ смѣхъ родителя, и угрюмое какъ взоръ ихъ матери.
И дѣти, и Бехлія смотрѣли на Оругикса, повидимому отдыхавшаго на деревянной скамьѣ; его запыленныя ноги показывали, что онъ только что вернулся издалека.
— Слушайте, жена и дѣти! Не съ дурными вѣстями пришелъ я къ вамъ послѣ двухдневной отлучки. Пусть я разучусь затягивать мертвую петлю, пусть разучусь владѣть топоромъ, если раньше мѣсяца не сдѣлаюсь королевскимъ палачомъ. Радуйтесь, волчата, быть можетъ отецъ оставитъ вамъ въ наслѣдство копенгагенскій эшафотъ.
— Въ чемъ дѣло, Николь? — спросила Бехлія.
— Радуйся и ты, старая цыганка, — продолжалъ Николь съ грубымъ хохотомъ, — ты можешь купить себѣ синее стеклянное ожерелье и украсить имъ твою шею, похожую на горло задушеннаго аиста. Нашему браку скоро выйдетъ срокъ; но черезъ мѣсяцъ, увидѣвъ меня палачомъ обоихъ королевствъ, навѣрно ты не откажешься распить со мной еще кружку.
— Въ чемъ дѣло, въ чемъ дѣло? — кричали дѣти, изъ которыхъ старшій игралъ съ окровавленной деревянной кобылой, младшій же забавлялся, ощипывая перья съ живой маленькой птички, вынутой имъ изъ гнѣзда.
— Что случилось, дѣтки?.. Задуши птичку, Гаспаръ, она пищитъ, словно тупая пила. Къ чему безполезная жестокость. Задуши ее. Что случилось? Да ничего особеннаго, за исключеніемъ развѣ того, что дней черезъ восемь бывшій канцлеръ Шумахеръ, мункгольмскій узникъ, съ которымъ я уже встрѣчался въ Копенгагенѣ, и знаменитый исландскій разбойникъ Ганъ изъ Клипстадуры, быть можетъ оба разомъ попадутъ въ мои лапы.
Въ тусклыхъ глазахъ Бехліи мелькнуло выраженіе удивленія и любопытства.
— Шумахеръ! Ганъ Исландецъ! Что это значитъ, Николь?
— А вотъ что. Вчера утромъ я встрѣтилъ по дорогѣ въ Сконгенъ на Ордальскомъ мосту полкъ мункгольмскихъ стрѣлковъ, съ побѣдоноснымъ видомъ возвращавшихся въ Дронтгеймъ. Я спросилъ одного изъ солдатъ, который удостоилъ меня отвѣтомъ, должно быть не зная отчего красны мой плащъ и повозка. Я узналъ, что стрѣлки возвращаются изъ ущельевъ Чернаго Столба, гдѣ разбили на голову шайку разбойниковъ, то есть возмутившихся рудокоповъ. Видишь ли, Бехлія, эти бунтовщики подъ предводительствомъ Гана Исландца возстали за Шумахера и такимъ образомъ перваго будутъ судить за возмущеніе противъ королевской власти, а втораго за измѣну. Само собою разумѣется, оба господина попадутъ или на висѣлицу, или на плаху. Такъ вотъ, только эти двѣ славныя казни принесутъ мнѣ по меньшей мѣрѣ по пятнадцати дукатовъ за каждую, не говоря уже о другихъ менѣе важныхъ…
— Да правда ли это! — перебила Бехлiя, — Неужели Ганъ Исландецъ схваченъ?
— Не смѣй перебивать меня, старая ворона, — закричалъ палачъ, — да, наконецъ-то знаменитый, неуловимый Ганъ Исландецъ взятъ живьемъ, а вмѣстѣ съ нимъ захвачены и другіе предводители бунтовщиковъ, съ которыхъ мнѣ придется по двѣнадцати экю за голову, не считая стоимости труповъ. Да, онъ взятъ, говорю тебѣ, и чтобы вполнѣ удовлетворить свое любопытство, узнай, что я самъ видѣлъ какъ онъ шелъ въ рядахъ солдатъ.
Жена и дѣти съ любопытствомъ придвинулись къ Оругиксу.
— Такъ ты видѣлъ его?
— Цыцъ, волчата! Вы вопите, словно мошенникъ, увѣряющій въ своей невинности. Да, я самъ видѣлъ его. Этотъ великанъ шелъ съ руками, скрученными за спиной, съ повязкой на лбу. Безъ сомнѣнія, онъ раненъ въ голову, но пусть будетъ спокоенъ, я живо залѣчу ему эту рану.
Палачъ заключилъ свою страшную шутку выразительнымъ жестомъ и продолжалъ:
— Слѣдомъ за нимъ вели четырехъ его товарищей, тоже раненыхъ. Всѣхъ ихъ отправятъ въ Дронтгеймъ, гдѣ будутъ судить вмѣстѣ съ бывщимъ великимъ канцлеромъ Шумахеромъ въ присутствіи главнаго синдика и подъ предсѣдательствомъ нынѣшняго великаго канцлера.
— А какъ выглядѣли другіе плѣнники?
— Два старика, на одномъ войлочная шляпа рудокопа, на другомъ мѣховая шапка горца. Оба замѣтно пріуныли. Изъ остальныхъ плѣнниковъ, одинъ молодой рудокопъ шелъ весело, посвистывая, другой… Помнишь ты, Бехлія, тѣхъ путниковъ, которые дней десять тому назадъ, въ бурную ночь нашли убѣжище въ этой башнѣ?..
— Какъ сатана помнитъ день своего паденія, — отвѣтила жена.
— А примѣтила ты между ними молодчика, сопровождавшаго стараго выжившаго изъ ума ученаго, въ огромномъ парикѣ?.. Помнишь, молодчикъ въ широкомъ зеленомъ плащѣ съ чернымъ перомъ на шляпѣ?
— Еще бы! Какъ теперь помню, онъ сказалъ мнѣ: добрая женщина, у насъ есть золото…
— Ну вотъ, старуха; если четвертый плѣнникъ не этотъ молодчикъ, такъ я обязуюсь душить однихъ глухихъ тетеревей. Правда, изъ за пера, шляпы, волосъ и плаща я не могъ хорошенько разглядѣть его, да и голову то онъ повѣсилъ; но на немъ была та же самая одежда, тѣ же сапоги… ну, словомъ, я готовъ проглотить Сконгенскую каменную висѣлицу, если это не тотъ самый молодчикъ! Какъ тебѣ это нравится, Бехлія? Не забавно ли будетъ, если я, поддержавъ сперва жизнь этого незнакомца, теперь отправлю его на тотъ свѣтъ?
Палачъ захохоталъ зловѣщимъ смѣхомъ, потомъ продолжалъ:
— Ну, выпьемъ на радостяхъ, Бехлія; налей-ка стаканъ того пивца, что деретъ горло какъ напилокъ, за здоровье почтеннѣйшаго Николя Оругикса, будущаго королевскаго палача! Признаться, мнѣ ужъ не хотѣлось идти въ Несъ вѣшать какого то мелкаго воришку; однако я сообразилъ, что тридцатью двумя аскалонами пренебрегать не слѣдуетъ, что пока мнѣ удастся снять голову благородному графу, бывшему великому канцлеру, и знаменитому исландскому демону, я ничуть не обезславлю себя, казня воровъ и тому подобныхъ негодяевъ… Поразмысливъ это, въ ожиданіи диплома на званіе королевскаго палача, я и спровадилъ на тотъ свѣтъ какого-то каналью изъ Неса. На, старуха, получай тридцать два аскалона полностью, прибавилъ онъ, вытаскивая кожаный кошелекъ изъ дорожной котомки.
Въ эту минуту снаружи башни послышался троекратный звукъ рожка.
— Жена, — вскричалъ Оругиксъ, подымаясь съ скамьи, — это полицейскіе главнаго синдика.
Съ этими словами онъ торопливо сбѣжалъ внизъ.
Минуту спустя, онъ вернулся съ большимъ пергаментомъ и поспѣшилъ сломать печать.
— Вотъ что прислалъ мнѣ главный синдикъ, — сказалъ палачъ, подавая пергаментъ женѣ, - прочти-ка, ты вѣдь разбираешь всякую тарабарскую грамоту. Почемъ знать, можетъ быть это мое повышеніе; да оно и понятно: судить будутъ великаго канцлера, предсѣдательствовать будетъ великій канцлеръ, необходимо, чтобы и исполнителемъ приговора былъ королевскій палачъ.
Жена развернула пергаментъ и, разсмотрѣвъ его, стала читать громкимъ голосомъ, между тѣмъ какъ дѣти тупо уставились на нее глазами.
«Именемъ главнаго синдика Дронтгеймскаго округа, приказываемъ Николю Оругиксу, окружному палачу, немедленно явиться въ Дронтгеймъ съ топоромъ, плахой и трауромъ.»
— И все? — спросилъ палачъ раздосадованнымъ тономъ.
— Все, — отвѣтила Бехлія.
— Окружной палачъ! — проворчалъ сквозь зубы Оругиксъ.
Съ минуту онъ съ досадой разсматривалъ приказъ синдика.
— Дѣлать нечего, — сказалъ онъ наконецъ, — надо повиноваться, если требуютъ топоръ и трауръ. Позаботься, Бехлія, надо вычистить топоръ отъ ржавчины, да посмотрѣть, не запачкана ли драпировка. Впрочемъ, не к чему отчаяваться; можетъ быть повышеніе ждетъ меня въ награду за выполненіе такой славной казни. Тѣмъ хуже для осужденныхъ: они лишаются чести умереть отъ руки королевскаго палача.
XLII
Графъ Алефельдъ, влача широкую черную симаррку изъ атласа, подбитаго горностаемъ, съ озабоченнымъ видомъ расхаживалъ по комнатѣ своей жены. На немъ былъ полный мундиръ великаго канцлера Даніи и Норвегіи, съ грудью, украшенной множествомъ звѣздъ и орденовъ, среди которыхъ виднѣлись цѣпи королевскихъ орденовъ Слона и Даннеброга. Широкій судейскій парикъ покрывалъ его голову и плечи.
— Пора! Уже девять часовъ, судъ долженъ открыть свои засѣданія; нельзя заставлять его дожидаться, потому что необходимо, чтобы приговоръ былъ произнесенъ ночью и приведенъ въ исполненіе не позже завтрашняго утра. Главный синдикъ завѣрилъ меня, что палачъ будетъ здѣсь до зари… Эльфегія, приказали вы приготовить мнѣ лодку для отъѣзда въ Мункгольмъ?
— Вотъ ужъ полчаса, какъ она ждетъ васъ, графъ, — отвѣтила графиня, поднимаясь съ кресла.
— А готовы-ли мои носилки?
— Онѣ у дверей.
— Хорошо… Такъ вы говорите, Эльфегія, — добавилъ графъ, ударивъ себя по лбу, — что между Орденеромъ Гульденлью и дочерью Шумахера завелась любовная интрижка?
— Слишкомъ серьезная, увѣряю васъ, — возразила графиня съ гнѣвной и презрительной улыбкой.
— Кто бы могъ это думать? Впрочемъ, я подозрѣвалъ, что тутъ что-то неладно.
— Я тоже, — замѣтила графиня, — эту шутку сыгралъ съ нами проклятый Левинъ.
— Старый мекленбургскій плутъ! — пробормоталъ канцлеръ: — Ну погоди, поручу я тебя Аренсдорфу! О! Если бы только мнѣ удалось навлечь на него гнѣвъ короля!.. Э! Да вотъ прекрасный случай, Эльфегія.
— Что такое?
— Вы знаете, что сегодня мы будемъ судить въ Мункгольмскомъ замкѣ шестерыхъ: Шумахера, отъ котораго завтра въ этотъ часъ надѣюсь отдѣлаться навсегда; горца великана, нашего подставнаго Гана Исландца, который далъ клятву выдержать роль до конца въ надеждѣ, что Мусдемонъ, подкупившій его золотомъ, доставитъ средства къ побѣгу… У этого Мусдемона по истинѣ дьявольскіе замыслы!.. Изъ остальныхъ обвиняемыхъ трое — предводители мятежниковъ, а четвертый какой то незнакомецъ, Богъ вѣсть откуда явившійся на сходку въ Апсиль-Коръ и захваченный нами, благодаря предусмотрительности Мусдемона. Мусдемонъ видитъ въ немъ шпіона Левина Кнуда, и дѣйствительно, когда его привели сюда, первымъ дѣломъ онъ спросилъ генерала и повидимому сильно смутился, узнавъ объ отсутствіи мекленбуржца. Впрочемъ, онъ не хотѣлъ отвѣчать ни на одинъ вопросъ Мусдемона.
— Но отчего вы сами не допросили его, спросила графиня.
— Странный вопросъ, Эльфегія; у меня и безъ того по горло хлопотъ съ самаго моего пріѣзда. Я поручилъ все это дѣло Мусдемону, который не меньше моего заинтересованъ въ немъ. Впрочемъ, милая моя, этотъ человѣкъ самъ по себѣ равно ничего не значитъ, это какой-то несчастный бродяга. Мы можемъ воспользоваться имъ, выставивъ его агентомъ Левина Кнуда, и такъ какъ онъ взятъ вмѣстѣ съ бунтовщиками, не трудно будетъ доказать преступное соумышленіе между Шумахеромъ и мекленбуржцемъ, который если не будетъ отданъ подъ судъ, то по крайней мѣрѣ попадетъ въ немилость.
Графиня, повидимому, что-то обдумывала.
— Вы правы, графъ… Но эта роковая страсть барона Торвика къ Этели Шумахеръ…
Канцлеръ снова хлопнулъ себя по лбу, но потомъ пожалъ плечами.
— Послушайте, Эльфегія, мы съ вами уже немолоды, не новички въ жизни, а между тѣмъ совсѣмъ не знаемъ людей! Когда Шумахеръ во второй разъ будетъ обвиненъ въ измѣнѣ и взведенъ на эшафотъ, когда дочь его, свергнутая ниже послѣднихъ подонковъ общества, будетъ запятнана на всю жизнь публичнымъ позоромъ отца, неужели вы думаете, что Орденеръ Гульденлью не распростится тотчасъ же съ своимъ юношескимъ увлеченіемъ, которое вы, основываясь на экзальтированныхъ словахъ взбалмошной дѣвочки, величаете страстью; неужели вы думаете, что онъ хоть минуту станетъ колебаться въ выборѣ между обезславленной дочерью преступника и знатной дочерью канцлера? Объ людяхъ, милая моя, надо судить по себѣ; гдѣ вы видѣли такихъ идеальныхъ людей?
— Дай Богъ, чтобы вы были правы… Однако, надѣюсь вы одобрите, что я потребовала отъ синдика, чтобы дочь Шумахера присутствовала на процессѣ отца въ одной ложѣ со мною. Мнѣ хочется покороче узнать это созданіе.
— Нельзя пренебрегать ничѣмъ, что только можетъ выяснить намъ это дѣло, — равнодушно замѣтилъ канцлеръ, — но, скажите мнѣ, извѣстно ли, гдѣ находится теперь Орденеръ?
— О немъ нѣтъ ни слуху, ни духу; этотъ достойный воспитанникъ стараго Левина такой же странствующій рыцарь. Должно быть онъ теперь въ Вард-Гутѣ…
— Ну, наша Ульрика сумѣетъ приковать его къ мѣсту. Однако пора, я забылъ, что судъ ждетъ моего прибытія…
Графиня остановила великаго канцлера.
— Одно слово, графъ. Я вчера спрашивала васъ, но вы были такъ заняты, что не удостоили меня отвѣтомъ. Гдѣ Фредерикъ?
— Фредерикъ! — печально повторилъ графъ, закрывая лицо руками.
— Да, скажите мнѣ, гдѣ Фредерикъ? Его полкъ вернулся въ Дронтгеймъ безъ него. Поклянитесь мнѣ, что Фредерикъ не участвовалъ въ страшной рѣзнѣ въ ущельяхъ Чернаго Столба. Отчего вы измѣнились въ лицѣ при его имени? Я смертельно безпокоюсь о немъ.
Канцлеръ снова принялъ хладнокровный видъ.
— Успокойтесь, Эльфегія. Клянусь вамъ, его не было въ ущельяхъ Чернаго Столба… Притомъ, уже обнародованъ списокъ офицеровъ, убитыхъ или раненыхъ въ этой рѣзнѣ.
— Въ самомъ дѣлѣ, - сказала Графиня, успокоившись, — убито только два офицера, капитанъ Лори и молодой баронъ Рандмеръ, который проказничалъ съ моимъ бѣднымъ Фредерикомъ на копенгагенскихъ балахъ! О! Увѣряю васъ, я читала и перечитывала списокъ; но въ такомъ случаѣ значитъ онъ остался въ Вальстромѣ?..
— Да, онъ тамъ, — отвѣтилъ графъ.
— Другъ мой, — сказала мать съ принужденной нѣжной улыбкой: — сдѣлайте для меня одну милость, прикажите вернуть Фредерика изъ этой отвратительной страны…
Канцлеръ съ трудомъ освободился изъ ея объятій.
— Графиня, судъ ждетъ меня. Прощайте, я не властенъ исполнить вашу просьбу.
Съ этими словами онъ поспѣшно вышелъ изъ комнаты.
Графиня осталась одна въ мрачномъ раздумьи.
— Не властенъ! — прошептала она, — когда ему достаточно одного слова, чтобы вернуть мнѣ моего сына! О!
Недаромъ я считала моего мужа самымъ безсердечнымъ человѣкомъ.
XLIII
По выходѣ изъ башни Шлезвигскаго Льва стража разлучила испуганную Этель съ отцомъ и по мрачнымъ, невѣдомымъ ей коридорамъ привела ее въ темную келью, дверь которой тотчасъ же затворилась за нею. Напротивъ двери кельи находилось рѣшетчатое отверстіе, пропускавшее мерцающій свѣтъ факеловъ и свѣчей.
Передъ отверстіемъ на скамьѣ сидѣла женщина въ черной одеждѣ подъ густымъ вуалемъ. При входѣ Этели она сдѣлала ей знакъ сѣсть рядомъ съ ней. Изумленная дѣвушка молча повиновалась.
Глаза ея тотчасъ же устремились на рѣшетчатое отверстіе и мрачная величественная картина явилась предъ ними.
Въ глубинѣ обширной, обитой трауромъ комнаты, слабо освѣщаемой мѣдными свѣтильниками, привѣшанными къ своду, возвышалась черная трибуна въ видѣ лошадиной подковы, занимаемая семью судьями въ черной одеждѣ. Грудь одного изъ нихъ, сидѣвшаго посрединѣ на высокомъ креслѣ, изукрашена была брильянтовыми цѣпями и блестящими золотыми орденами. Судья, помѣщавшійся вправо отъ него, отличался отъ прочихъ бѣлою перевязью и горностаевой мантіею. Это былъ главный синдикъ округа. Вправо отъ трибуны на эстрадѣ подъ балдахиномъ возсѣдалъ старецъ въ одеждѣ первосвященника, влѣво стоялъ столъ, заваленный бумагами, въ которыхъ рылся приземистый человѣкъ въ огромномъ парикѣ и длинной черной одеждѣ со складками.
Передъ судьями находилась деревянная скамья, окруженная алебардщиками, державшими факелы, свѣтъ которыхъ, отражаясь отъ копій, мушкетовъ, и бердышей, мерцающими лучами падалъ на головы многочисленной толпы зрителей, тѣснившихся за желѣзной рѣшеткой, отдѣлявшей ихъ отъ трибуны.
Какъ бы пробудившись отъ сна, Этель смотрѣла на открывшееся передъ нею зрѣлище, сознавая, что такъ или иначе она причастна тому, что происходило у ней передъ глазами. Какой то тайный, внутренній голосъ побуждалъ ее напрячь все свое вниманіе, убѣждалъ въ близости рѣшительнаго переворота въ ея жизни.
Сердце молодой дѣвушки волнуемо было двумя противоположными стремленіями; ей хотѣлось или сразу узнать въ какой степени заинтересована она происходившимъ у ней на глазахъ, или же не знать этого никогда. Въ послѣднее время мысль, что Орденеръ навсегда потерянъ для нея, внушяла ей отчаянное желаніе разомъ покончить съ существованіемъ, однимъ взглядомъ прочесть книгу своей судьбы. Вотъ почему, сознавая, что пробилъ рѣшительный часъ ея жизни, она разсматривала мрачную обстановку залы не столько съ отвращеніемъ, сколько съ нетерпѣливой, отчаянной радостью.
Наконецъ увидѣла она, что предсѣдатель поднялся съ своего мѣста и именемъ короля провозгласилъ засѣданіе суда открытымъ.
Низкій человѣкъ въ черной одеждѣ сталъ по лѣвую руку отъ трибунала и тихимъ, но быстрымъ голосомъ сталъ читать длинный докладъ, въ которомъ имя отца Этели то и дѣло повторялось въ связи съ словами заговоръ, бунтъ рудокоповъ, государственная измѣна.
Этель вспомнила въ это мгновеніе слова роковой незнакомки, которая въ крѣпостномъ саду сообщила ей, что отцу ея грозитъ какое то обвиненіе. Она вздрогнула, когда человѣкъ въ черномъ платьѣ кончилъ докладъ, сдѣлавъ удареніе на послѣднемъ словѣ — смерть.
Съ ужасомъ обратилась она къ женщинѣ подъ вуалемъ, къ которой, сама не зная почему, чувствовала какой-то страхъ:
— Гдѣ мы? Что это значитъ? — робко освѣдомилась она.
Таинственная незнакомка сдѣлала знакъ, приказывавшій молчать и слушать. Молодая дѣвушка снова устремила свой взглядъ на залу трибунала.
Почтенный старикъ въ епископскомъ одѣяніи поднялся между тѣмъ съ своего мѣста и Этель не проронила ни слова изъ его рѣчи:
— Во имя всемогущаго, милосерднаго Создателя, я, Памфилъ Элевтеръ, епископъ королевскій Дронтгеймской области, привѣтствую уважаемое судилище, творящее судъ именемъ короля, нашего монарха и повелителя.
«Видя въ узникахъ, предстоящихъ предъ судилищемъ, людей и христіанъ, не имѣющихъ за себя ходатая, я заявляю уважаемымъ судьямъ о моемъ намѣреніи предложить имъ мою слабую помощь въ жестокомъ положеніи, въ которомъ очутились они по волѣ Всевышняго.»
«Молю Бога, да укрѣпитъ онъ своей силою мою дряхлую слабость, да просвѣтитъ мою глубокую слѣпоту.»
«Съ такимъ намѣреніемъ я, епископъ королевской епархіи, рѣшаюсь предстать передъ уважаемымъ и праведнымъ судилищемъ.»
Съ этими словами, епископъ сошелъ съ своего первосвященническаго сѣдалища и опустился на деревянную скамью, предназначенную для обвиняемыхъ. Одобрительный шепотъ пронесся въ толпѣ зрителей.
Предсѣдатель всталъ и сказалъ сухимъ тономъ:
— Алебардщики, наблюдайте за тишиной!.. Владыко, судилище отъ лица обвиняемыхъ благодаритъ ваше преосвященство. Жители Дронтгеймскаго округа, будьте внимательны, верховное королевское судилище должно произнести безапеляціонный приговоръ. Стражи, введите подсудимыхъ.
Толпа зрителей стихла въ ожиданіи и страхѣ; только масса головъ волновалась въ тѣни, подобно мрачнымъ волнамъ бурнаго моря, надъ которымъ готова разразиться гроза.
Вскорѣ Этель услышала подъ собою въ мрачныхъ проходахъ залы глухой шумъ и необычайное движеніе; зрители заволновались отъ нетерпѣнія и любопытства; раздались многочисленные шаги; заблистало оружіе алебардщиковъ и въ залу трибунала вошло шесть человѣкъ, закованныхъ въ кандалы и окруженныхъ стражею.
Этель видѣла лишь перваго изъ узниковъ, старца съ сѣдой бородой, въ черной симаррѣ — своего отца.
Почти безъ чувствъ оперлась она на каменную баллюстраду, возвышавшуюся передъ скамьей; окружающіе предметы закружились у ней въ глазахъ, ей казалось, что сердце бьется у ней въ ушахъ. Слабымъ голосомъ она могла только прошептать.
— Боже, помоги мнѣ!
Незнакомка наклонилась къ ней, дала ей понюхать соли и тѣмь вывела изъ летаргическаго забытья.
— Ради Бога, сударыня, — проговорила Этель, оживляясь: — скажите хоть слово, чтобы я убѣдилась, что не адскіе призраки издѣваются надо мною.
Но незнакомка, не обращая вниманія на ея просьбу, снова повернулась къ трибуналу и бѣдной дѣвушкѣ пришлось молча послѣдовать ея примѣру.
Предсѣдатель началъ медленнымъ, торжественнымъ голосомъ:
— Подсудимые, васъ привели сюда для того, чтобы судъ разобралъ степень вашей виновности въ измѣнѣ, заговорѣ, въ поднятіи оружія противъ власти короля, нашего милостиваго монарха. Обдумайте теперь же ваше положеніе, такъ какъ надъ вами тяготѣетъ обвиненіе въ оскорбленіи его величества.
Въ эту минуту лучъ свѣта упалъ на лицо одного изъ шестерыхъ подсудимыхъ, на молодаго человѣка, который стоялъ съ головой, опущенной на грудь, и какъ бы нарочно скрытой подъ длинными кудрямя ниспадающихъ на плечи волосъ.
Этель содрогнулась, холодный потъ выступилъ на ея лбу; ей показалось, что она узнала… но нѣтъ, это была простая иллюзія; освѣщеніе залы было такъ слабо, люди двигались въ ней подобно тѣнямъ, даже съ трудомъ можно было различить лоснящееся чернаго дерева распятіе, возвышавшееся надъ кресломъ предсѣдателя.
Однако, молодой человѣкъ, повидимому, былъ въ плащѣ, издали казавшимся зеленымъ; растрепавшіеся волосы его какъ будто имѣли каштановый отливъ и случайный лучъ, упавшій на его лицо… Но нѣтъ, это немыслимо, невозможно! Это страшная иллюзія, не болѣе.
Подсудимые сѣли на скамью рядомъ съ епископомъ. Шумахеръ помѣстился на одномъ краю; между нимъ и молодымъ человѣкомъ съ темнорусыми волосами находились четверо его товарищей по несчастію въ грубой одеждѣ простолюдиновъ. Одинъ изъ нихъ выдавался надъ всѣми своимъ великанскимъ ростомъ. Епископъ сидѣлъ на другомъ краю скамьи.
Президентъ обратился къ отцу Этели.
— Старикъ, — спросилъ онъ сурово: — какъ тебя зовутъ, кто ты?
Старикъ съ достоинствомъ поднялъ голову.
— Было время, — отвѣчалъ онъ, устремивъ пристальный взглядъ на президента: — когда меня звали графомъ Гриффенфельдомъ и Тонгсбергомъ, княземъ Воллинъ и княземъ священной имперіи, кавалеромъ королевскаго ордена Слона, кавалеромъ германскаго ордена Золотаго Руна и англійскаго — Подвязки, первымъ министромъ, главнымъ попечителемъ университетовъ, великимъ канцлеромъ Даніи и…
Предсѣдатель перебилъ его:
— Подсудимый, суду нѣтъ дѣла какъ тебя звали и кто ты былъ; судъ желаетъ знать, какъ тебя зовутъ и кто ты?
— Если такъ, — съ живостью возразилъ старикъ: — то теперь меня зовутъ Иванъ Шумахеръ, мнѣ шестьдесятъ девять лѣтъ и я никто иной, канцлеръ Алефельдъ, какъ вашъ бывшій благодѣтель.
Президентъ повидимому смутился.
— Я васъ узналъ, графъ, — добавилъ Шумахеръ: — но такъ какъ видимо вы на узнаете меня, то я рѣшаюсь напомнить вашему сіятельству, что мы съ вами старинные знакомые.
— Шумахеръ, — сказалъ предсѣдатель тономъ подавленнаго гнѣва: — суду дорого время.
Старый узникъ перебилъ его:
— Мы помѣнялись ролями, достойный канцлеръ. Было время, когда я васъ звалъ просто Алефельдъ, а вы величали меня вашимъ сіятельствомъ.
— Подсудимый, — возразилъ предсѣдателъ: — ты вредишь самъ себѣ, напоминая о постигшемъ тебя позорномъ приговорѣ.
— Можетъ быть этотъ приговоръ позоренъ для кого нибудь, графъ Алефельдъ, только не для меня.
Старикъ привсталъ, съ удареніемъ произнося эти слова. Предсѣдатель протянулъ къ нему руку.
— Садись и не издѣвайся надъ судилищемъ и судьями, обвинившими тебя, и надъ королемъ, назначившимъ тебѣ этихъ судей. Вспомни, что его величество даровалъ тебѣ жизнь, и ограничься теперь своей защитой.
Шумахеръ въ отвѣтъ пожалъ плечами.
— Можешь ты, — спросилъ предсѣдатель: — сообщить что нибудь трибуналу касательно уголовнаго преступленія, въ которомъ ты обвиняешься?
Видя, что Шумахеръ хранитъ молчаніе, предсѣдатель повторилъ свой вопросъ.
— Такъ это вы мнѣ говорите, — сказалъ бывшій канцлеръ: — я полагалъ, достойный графъ Алефельдъ, что это вы разговариваете съ собою. О какомъ преступленіи спрашиваете вы меня? Развѣ я давалъ когда нибудь другу поцѣлуй Іуды Искаріотскаго? Развѣ я бросилъ въ темницу, засудилъ, обезславилъ своего благодѣтеля? Ограбилъ того, которому всѣмъ обязанъ? По истинѣ, не знаю, господинъ канцлеръ, зачѣмъ меня привели сюда. Должно быть для того, чтобы судить о вашемъ искусствѣ рубить невинныя головы. Я не удивлюсь, если вамъ удастся погубить меня, когда вы губите государство. Если вамъ достаточно было одной буквы алфавита [23], чтобы объявить войну Швеціи, то для моего смертнаго приговора довольно будетъ и запятой.
При этой горькой насмѣшкѣ, человѣкъ, сидѣвшій за столомъ по лѣвую сторону трибунала, поднялся съ своего мѣста.
— Господинъ предсѣдатель, — началъ онъ съ глубокимъ поклономъ: — господа судьи, прошу, чтобы воспретили говорить Ивану Шумахеру, если онъ не перестанетъ оскорбительно отзываться о его сіятельствѣ господинѣ президентѣ уважаемаго трибунала.
Епископъ спокойно возразилъ:
— Господинъ секретарь, подсудимаго невозможно лишить слова.
— Вы правы, почтенный епископъ, — поспѣшно вскричалъ предсѣдатель: — нашъ долгъ доставить возможно большую свободу защитѣ. Я только посовѣтовалъ бы подсудимому умѣрить свои выраженія, если онъ понимаетъ свои истинныя выгоды.
Шумахеръ покачалъ головой и замѣтилъ холоднымъ тономъ:
— Повидимому, графъ Алефельдъ теперь болѣе увѣренъ въ своихъ, чѣмъ въ 1677 году.
— Замолчи! — сказалъ предсѣдатель и сейчасъ же обратившись къ другому обвиняемому, сидѣвшему рядомъ съ Шумахеромъ, спросилъ: какъ его зовутъ.
Горецъ колоссальнаго тѣлосложенія съ повязкой на лбу, поднялся со скамьи и отвѣтилъ:
— Я Ганъ Исландецъ, родомъ изъ Клипстадура.
Ропотъ ужаса пронесся въ толпѣ зрителей. Шумахеръ, выйдя изъ задумчивости, поднялъ голову и бросилъ быстрый взглядъ на своего страшнаго сосѣда, отъ котораго сторонились прочіе обвиняемые.
— Ганъ Исландецъ, — спросилъ предсѣдатель, когда волненіе поутихло, — что можешь сказать ты суду въ свое оправданіе?
Не менѣе остальныхъ зрителей Этель была поражена присутствіемъ знаменитаго разбойника, который уже съ давнихъ поръ въ страшныхъ краскахъ рисовался въ ея воображеніи. Съ боязливой жадностью устремила она свой взоръ на чудовищнаго великана, съ которымъ быть можетъ сражался и жертвой котораго, быть можетъ, сталъ ея Орденеръ.
Мысль объ этомъ возбудила въ умѣ ея самыя горестныя предположенія; и погрузившись всецѣло въ бездну мучительныхъ сомнѣній, она едва слышала отвѣтъ Гана Исландца, въ которомъ она видѣла почти убійцу своего Орденера. Она поняла только, что разбойникъ, отвѣчавшій предсѣдателю на грубомъ нарѣчіи, объявилъ себя предводителемъ бунтовщиковъ.
— По собственному ли побужденію, — спросилъ предсѣдатель, — или по стороннему наущенію принялъ ты начальство надъ мятежниками?
Разбойникъ отвѣчалъ:
— Нѣтъ, не по собственному.
— Кто же склонилъ тебя на такое преступленіе?
— Человѣкъ, называвшійся Гаккетомъ.
— Кто же этотъ Гаккетъ?
— Агентъ Шумахера, котораго называлъ также графомъ Гриффенфельдомъ.
Предсѣдатель обратился къ Шумахеру.
— Шумахеръ, извѣстень тебѣ этотъ Гаккетъ?
— Вы предупредили меня, графъ Алефельдъ, — возразилъ старикъ, — я только что хотѣлъ предложить вамъ этотъ вопросъ.
— Иванъ Шумахеръ, — сказалъ предсѣдатель, — тебя ослѣпляетъ ненависть. Судъ обратилъ вниманіе на систему твоей защиты.
Епископъ поспѣшилъ вмѣшаться.
— Господинъ секретарь, — обратился онъ къ низенькому человѣку, который повидимому отправлялъ обязанности актуаріуса и обвинителя, — этотъ Гаккетъ находится въ числѣ моихъ кліентовъ?
— Нѣтъ, ваше преосвященство, — отвѣтилъ секретарь.
— Извѣстно ли, что сталось съ нимъ?
— Его не могли захватить, онъ скрылся.
Можно было подумать, что, говоря это, секретарь старался измѣнить голосъ:
— Мнѣ кажется вѣрнѣе будетъ сказать: его скрыли, — замѣтилъ Шумахеръ.
Епископъ продолжалъ:
— Господинъ секретарь, велѣно ли розыскать этого Гаккета? Извѣстны ли его примѣты?
Прежде чѣмъ секретарь успѣлъ отвѣтить, одинъ изъ подсудимыхъ поднялся со скамьи. Это былъ молодой рудокопъ, суровое лицо котораго дышало гордостью.
— Я могу вамъ сообщить ихъ, — сказалъ онъ громко, — этотъ негодяй Гаккетъ, агентъ Шумахера; человѣкъ малорослый съ лицомъ открытымъ, какъ адская пасть. Да вотъ, господинъ епископъ, голосъ его сильно смахиваетъ на голосъ этого чиновника, который строчитъ за столомъ и котораго ваше преосвященство кажется назвали секретаремъ. Право, если бы здѣсь не было такъ темно и если бы господинъ секретарь не пряталъ такъ своего лица въ волосахъ парика, я убѣжденъ, что черты его шибко напоманаютъ черты Гаккета.
— Нашъ товарищъ правъ вскричали двое подсудимыхъ, сидѣвшіе рядомъ съ молодымъ рудокопомъ.
— Неужели! — пробормоталъ Шумахеръ съ торжествующимъ видомъ.
Между тѣмъ секретарь не могъ сдержать движенія боязни или негодованія, что его сравниваютъ съ какимъ то Гаккетомъ. Предсѣдатель, который самъ замѣтно смутился, поспѣшилъ заявить:
— Подсудимые, не забывайте, что вы должны отвѣчать только на вопросы трибунала; и впредь не осмѣливайтесь оскорблять должностныхъ лицъ постыдными сравненіями.
— Но, господинъ предсѣдатель, — возразилъ епископъ, — вопросъ шелъ о примѣтахъ; и если виновный Гаккетъ представляетъ нѣкоторое сходство съ господиномъ секретаремъ, это обстоятельство можетъ оказаться полезнымъ…
Предсѣдатель перебилъ его:
— Ганъ Исландецъ, ты имѣлъ сношенія съ этимъ Гаккетомъ; скажи намъ, чтобы удовлетворить его преосвященство, похожъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ на почтеннаго секретаря.
— Нисколько, — отвѣчалъ великанъ, не колеблясь.
— Видите, господинъ епископъ, — замѣтилъ предсѣдатель.
Епископъ кивнулъ головой въ знакъ согласія и предсѣдатель обратился къ слѣдующему подсудимому съ обычной формулой:
— Какъ тебя зовутъ?
— Вильфридъ Кенниболъ, изъ Кольскихъ горъ.
— Ты былъ въ числѣ бунтовщиковъ?
— Точно такъ, сударь, правда дороже жизни. Меня захватили въ проклятыхъ ущельяхъ Чернаго Столба. Я предводительствовалъ горцами.
— Кто склонилъ тебя къ преступному возмущенію?
— Видите-ли ваше сіятельство, наши товарищи рудокопы сильно жаловались на королевскую опеку, да оно и немудрено. Будь у васъ самихъ грязная хижина да пара дрянныхъ лисьихъ шкуръ, вы тоже захотѣли бы лично распоряжаться своимъ добромъ. Правительство не обращало вниманія на ихъ жалобы, вотъ, сударь, они и рѣшились взбунтоваться, а насъ просили прійти на помощь. Развѣ можно было отказать въ такой малости товарищамъ, которые молятся тѣмъ же святымъ и тѣми же молитвами. Вотъ вамъ и весь сказъ.
— Никто васъ не подбивалъ, не ободрялъ, не руководилъ мятежомъ? — спросилъ предсѣдатель.
— Да вотъ, господинъ Гаккетъ безпрестанно твердилъ намъ, что мы должны освободить графа, мункгольмскаго узника, посланникомъ котораго онъ называлъ себя. Мы конечно обѣщали ему, что намъ стоило освободить лишняго человѣка?
— Этого графа называлъ онъ Шумахеромъ или Гриффенфельдомъ?
— Называлъ, ваше сіятельство.
— А самъ ты его никогда не видалъ?
— Нѣть, сударь, но если это тотъ старикъ, который только-что наговорилъ вамъ цѣлую кучу именъ, надо признаться…
— Въ чемъ? — перебилъ предсѣдатель.
— Что у него славная сѣдая борода, сударь; ничуть не хуже бороды свекра моей сестры Маасъ, изъ деревушки Сурбъ, который прожилъ на свѣтѣ сто двадцать лѣтъ.
Полумракъ, царившій въ залѣ, помѣшалъ видѣть разочарованіе президента при наивномъ отвѣтѣ горца. Онъ приказалъ стражѣ развернуть нѣсколько знаменъ огненнаго цвѣта, лежавшихъ близъ трибуны.
— Вильфридъ Кенниболъ, узнаешь ты эти знамена? — спросилъ онъ.
— Да, ваше сіятельство. Они розданы были Гаккетомъ отъ имени графа Шумахера. Графъ прислалъ также оружіе рудокопамъ, — мы, горцы, не нуждаемся въ немъ, такъ какъ никогда не разстаемся съ карабиномъ и охотничьей сумкой. Вотъ я, сударь, тотъ самый, котораго загнали сюда словно курицу на жаркое, я не разъ изъ глубины нашихъ долинъ стрѣлялъ старыхъ орловѣ, когда они на высотѣ полета казались не больше жаворонка или дрозда.
— Обратите вниманіе, господа судьи, — замѣтилъ секретарь: — подсудимый Шумахеръ черезъ Гаккета снабжалъ мятежниковъ оружіемъ и знаменами!
— Кенниболъ, — продолжалъ предсѣдатель: — имѣешь ты еще что нибудь сообщить суду?
— Нѣтъ, ваше сіятельство, исключая того, что я совсѣмъ не заслуживаю смерти. Я, какъ добрый братъ, явился на помощь рудокопамъ, вотъ и все тутъ; осмѣлюсь также завѣрить васъ, что хотя я и старый охотникъ, но никогда свинецъ моего карабина не касался королевской лани.
Предсѣдатель, не отвѣтивъ на этотъ оправдательный доводъ, перешелъ къ допросу товарищей Кеннибола. Это были предводители рудокоповъ. Старшій, называвшійся Джонасомъ, почти слово въ слово повторилъ признаніе Кеннибола. Другой, молодой человѣкь, обратившій вниманіе суда на сходство секретаря съ вѣроломнымъ Гаккетомъ, назвался Норбитомъ, гордо признался въ своемъ участіи въ мятежѣ, но ни слова не упомянулъ ни о Гаккетѣ, ни о Шумахерѣ.
— Я далъ клятву молчать, — говорилъ онъ: — и ничего не помню, кромѣ этой клятвы.
Предсѣдатель, то прося, то угрожая, допрашивалъ его, но упрямый юноша твердо стоялъ на своемъ рѣшеніи. Впрочемъ онъ увѣрялъ, что бунтовалъ совсѣмъ не за Шумахера, но единственно для того, чтобы спасти свою старуху мать отъ голода и холода. Не отрицая того, что быть можетъ онъ и заслуживаетъ смертной казни, онъ утверждалъ, однако, что было бы несправедливо осудить его, такъ какъ убивая его, убьютъ въ то же время его несчастную, ни въ чемъ неповинную мать.
Когда Норбитъ замолчалъ, секретарь резюмировалъ вкратцѣ преступленія каждаго подсудимаго и въ особенности Шумахера. Онъ прочелъ нѣкоторыя изъ мятежническихъ воззваній на знаменахъ и вывелъ виновность бывшаго великаго канцлера изъ единогласныхъ показаній его соучастниковъ, не преминувъ обратить вниманіе суда на упорное запирательство молодаго Норбита, связаннаго фанатической клятвой.
— Теперь, — добавилъ онъ въ заключеніе: — остается допросить послѣдняго подсудимаго и мы имѣемъ серьезныя основанія считать его тайнымъ агентомъ власти, которая такъ плохо заботилась о спокойствіи Дронтгеймскаго округа. Власть эта дозволила если не своимъ преступнымъ потворствомъ, то по меньшей мѣрѣ своимъ роковымъ небреженіемъ, вспыхнуть мятежу, который погубитъ этихъ несчастныхъ и снова взведетъ Шумахера на эшафотъ, отъ котораго уже разъ избавило его великодушное милосердіе короля.
Этель, отъ мучительныхъ опасеній за Орденера перешедшая къ не менѣе тяжкимъ опасеніямъ за отца, задрожала при этихъ зловѣщихъ словахъ и залилась слезами, когда Шумахеръ поднялся со скамьи и спокойно возразилъ:
— Я удивляюсь вамъ, канцлеръ Алефельдъ. Должно быть вы уже заранѣе позаботились и о палачѣ.
Несчастная дѣвушка думала, что чаша горечи переполнилась для нея, но ошиблась.
Шестой подсудимый всталъ въ свою очередь. Гордо и величаво откинувъ назадъ волосы, закрывавшіе его лицо, онъ отвѣтилъ на обращенный къ нему вопросъ предсѣдателя твердымъ голосомъ:
— Я Орденеръ Гульденлью, баронъ Торвикъ, кавалеръ ордена Даннеброга.
Секретарь не могъ сдержать крика изумленія:
— Сынъ вице-короля!
— Сынъ вице-короля! — повторила толпа зрителей, подобно тысячѣ отголосковъ эхо.
Предсѣдатель откинулся въ своемъ креслѣ; судьи, до сихъ поръ неподвижно сидѣвшіе за столомъ, въ безпорядкѣ склонились другъ къ другу, подобно деревьямъ, колеблемымъ противоположными порывами вѣтра.
Въ толпѣ зрителей смятеніе было еще сильнѣе. Народъ цѣплялся за каменные карнизы, за желѣзныя рѣшетки и всѣ говорили разомъ. Даже стража, забывъ наблюдать за тишиной въ залѣ, смѣшала свои изумленные возгласы въ общемъ хорѣ нестройныхъ голосовъ.
Чья душа, знакомая съ внезапными душевными порывами, пойметъ волненіе Этели? Кто въ состояніи выразить эту неслыханную смѣсь истерзанной радости и отрадной печали? Это безпокойное ожиданіе, колеблющееся между страхомъ и надеждою?
Онъ стоитъ передъ нею, не примѣчая ее! Она видитъ своего ненагляднаго Орденера, Орденера, котораго считала мертвымъ, утраченнымъ для себя на вѣки, вѣроломнымъ другомъ, но котораго любила съ новой, неслыханной страстью. Онъ здѣсь; да, это онъ. Не обманчивый сонъ вводитъ ее въ заблужденіе; нѣтъ, это ея Орденеръ, котораго, увы! Она чаще видала во снѣ, чѣмъ на яву! Но ангеломъ ли хранителемъ, или злымъ духомъ явился онъ въ этомъ торжественномъ собраніи? Должна ли она надѣяться на него, или, напротивъ, опасаться за него?
— Тысячи предположений разомъ тѣснились въ ея умѣ, подавляя его подобно тому какъ излишняя пища тушитъ огонь. Всѣ мысли, всѣ ощущенія, нами описанныя, мелькнули въ умѣ ея подобно блеску молніи въ ту минуту, когда сынъ норвежскаго вице-короля открылъ свое имя. Она первая узнала его и прежде чѣмъ узнали его остальные, была уже безъ чувствъ.
Во второй разъ заботливость таинственной сосѣдки вернула ея къ горькой дѣйствительности. Блѣднѣе смерти, открыла она глаза, въ которыхъ быстро иссякли слезы. Взоръ ея съ жадностью устремился на молодаго человѣка, сохранявшаго невозмутимое спокойствіе среди всеобщаго смущенія и замѣшательства. Судьи и народъ мало по малу пришли въ себя, но въ ушахъ ея все еще раздавалось имя Орденера Гульденлью.
Съ мучительнымъ безпокойствомъ примѣтила Этель, что одна рука его была на перевязи, на обѣихъ висѣли кандалы, она примѣтила, что плащъ его былъ разорванъ во многихъ мѣстахъ, вѣрной сабли не было у пояса. Ничто не укрылось отъ ея заботливаго взора, потому что глазъ любящаго существа походитъ на глазъ матери. Не имѣя возможности защитить его своимъ тѣломъ, она какъ бы окружила его своею душой; и, надо сказать къ стыду и чести любви, тамъ, гдѣ находился ея отецъ и его преслѣдователи, одна Этель видѣла одного лишь человѣка.
Мало по малу въ залѣ воцарилась прежняя тишина. Предсѣдатель рѣшился наконецъ приступить къ допросу сына вице-короля.
— Господинъ баронъ, — началъ онъ смущеннымъ тономъ.
— Здѣсь я не господинъ баронъ. — прервалъ его Орденеръ твердымъ голосомъ. — Меня зовутъ Орденеръ Гульденлью, подобно тому какъ графъ Гриффенфельдъ зовется Иваномъ Шумахеромъ.
Одно мгновеніе предсѣдатель оставался въ нерѣшимости.
— Прекрасно, — продолжалъ онъ: — Орденеръ Гульденлью, очевидно по какому нибудь прискорбному недоразумѣнію васъ привели сюда. Мятежники захватили васъ на дорогѣ, принудили слѣдовать за ними и безъ сомнѣнія, благодаря этой случайности, васъ встрѣтили въ ихъ рядахъ.
Секретарь поднялся со своего мѣста.
— Уважаемыя судьи, одно имя сына вице-короля Норвегіи служитъ ему достаточнымъ оправданіемъ. Баронъ Орденеръ Гульденлью не можетъ быть мятежникомъ. Нашъ почтенный предсѣдатель вполнѣ удовлетворительно объяснилъ прискорбное нахожденіе его среди бунтовщиковъ. Единственный проступокъ благороднаго узника состоитъ въ томъ, что онъ раньше не объявилъ своего имени. Мы требуемъ его немедленнаго освобожденія, отказываемся обвинять его въ чемъ бы то ни было и сожалѣемъ, что ему пришлось сидѣть на одной позорной скамьѣ съ преступнымъ Шумахеромъ и его соучастниками.
— Что это значитъ? — вскричалъ Орденеръ.
— Секретарь отказывается обвинять васъ, — сказалъ предсѣдатель.
— Онъ не имѣетъ на то права, — возразилъ Орденеръ громкимъ, звучнымъ голосомъ, — здѣсь я только одинъ подсудимый, меня одного слѣдуетъ судить и осудить.
Онъ умолкъ на минуту, потомъ добавилъ менѣе твердымъ голосомъ.
— Потому что одинъ я виновенъ во всемъ.
— Одинъ виновенъ! — вскричалъ предсѣдатель.
— Одинъ виновенъ! — повторилъ секретарь.
Новый взрывъ изумленія охватилъ аудиторію трибунала. Несчастная Этель задрожала отъ ужаса; она не думала о томъ, что такое признаніе ея возлюбленнаго спасаетъ ея отца. Она видѣла только гибель своего Орденера.
— Алебардщики, водворите тишину! — сказалъ предсѣдатель, пользуясь быть можетъ минутой замѣшательства, что-бы собраться съ мыслями и вернуть самообладаніе…
— Орденеръ Гульденлью, — продолжалъ онъ: — что вы хотите этимъ сказать?
Молодой человѣкъ одну минуту находился въ задумчивости, потомъ глубоко вздохнулъ и заговорилъ спокойно, тономъ человѣка, покорившагося своей участи.
— Да, я знаю что меня ждетъ позорная смерть, хотя жизнь улыбалась мнѣ и сулила счастливую будущность. Богъ прочтетъ въ глубинѣ моего сердца! Только одинъ Богъ! Я долженъ былъ исполнить священный долгъ моей жизни; я долженъ посвятить ему мою кровь, быть можетъ даже честь; но увѣренъ, что умру безъ угрызенія и раскаянія. Не удивляйтесь моимъ словамъ, господа судьи; въ душѣ и судьбѣ человѣка, которыхъ вы не въ состояніи постичь, судить которыхъ будутъ лишь на небѣ. Выслушайте же меня, и поступите по долгу совѣсти, освободивъ этихъ несчастныхъ и въ особенности злополучнаго Шумахера, который въ своемъ заточеніи вытерпѣлъ болѣе, чѣмъ заслуживаютъ преступленія человѣческія. Да, я виновенъ, господа судьи, я одинъ виновенъ. Шумахеръ ни въ чемъ не повиненъ, остальные несчастные были введены въ заблужденіе. Виновникъ возмущенія рудокоповъ я.
— Вы! — вскричали разомъ и съ странной итонаціей предсѣдатель и секретарь.
— Да, я; не перебивайте меня, господа. Я спѣшу кончить скорѣе, такъ какъ обвиняя себя, я оправдываю тѣмъ этихъ несчастныхъ. Именемъ Шумахера я возмутилъ рудокоповъ; я роздалъ знамена бунтовщикамъ; снабдилъ ихъ золотомъ и оружіемъ отъ имени мункгольмскаго узника. Гаккетъ былъ моимъ агентомъ.
При имени Гаккета, секретарь не могъ сдержать жеста изумленія. Орденеръ продолжалъ:
— Не стану истощать ваше терпѣніе, господа. Я былъ взятъ въ рядахъ рудокоповъ, которыхъ подбилъ къ мятежу. Все было подготовлено мною. Теперь судите меня; если я доказалъ свою виновность, тѣмъ самымъ я доказалъ невинность Шумахера и тѣхъ несчастныхъ, которыхъ вы считали его сообщниками.
Молодой человѣкъ говорилъ, устремивъ взоръ къ небу. Этель, почти бездыханная, едва смѣла перевести духъ; ей казалось только, что Орденеръ, оправдывая ея отца, съ горечью произносилъ его имя. Хотя она не понимала словъ молодаго человѣка, они изумляли, ужасали ее. Во всемъ, что поражало ея чувства, ясно сознавала она близость несчастія.
Подобнаго рода ощущенія повидимому волновали и предсѣдателя. Можно было сказать, что онъ не вѣритъ своимъ ушамъ. Наконецъ онъ спросилъ сына вице-короля:
— Если, дѣйствительно, вы единственный виновникъ возмущенія, какая цѣль руководила вами?
— Я не могу это сказать.
Этель вздрогнула съ головы до ногъ, когда предсѣдатель спросилъ почти раздражительно:
— Вы были въ связи съ дочерью Шумахера.
Пораженный Орденеръ сдѣлалъ шагъ къ трибуналу и вскричалъ голосомъ, дрожащимъ отъ негодованія:
— Канцлеръ Алефельдъ, довольствуйтесь моей жизнью, которую я отдаю вамъ; имѣйте уваженіе къ благородной непорочной дѣвушкѣ. Не пытайтесь вторично безчестить ее.
Несчастная Этель, чувствуя, что вся кровь кинулась ей въ лицо, не понимала значенія слова вторично, которое съ удареніемъ подчеркнулъ ея защитникъ; но гнѣвъ, изказившiй черты лица предсѣдателя, ясно доказывалъ, что онъ понялъ.
— Орденерь Гульденлью, не забывайте, что вы находитесь передъ королевскимъ судомъ и его верховными служителями. Я дѣлаю вамъ замѣчаніе отъ имени трибунала. Теперь, я опять прошу васъ объяснить цѣль вашего преступленія, въ которомъ вы сами обвиняете себя.
— Повторяю вамъ, я не могу это сказать.
— Не для того ли, чтобы освободить Шумахера? — освѣдомился секретарь.
— Орденеръ хранилъ молчаніе.
— Отвѣчайте, подсудимый Орденеръ, — сказалъ предсѣдатель: — мы имѣемъ доказательства вашихъ сношеній съ Шумахеромъ, и ваше сознаніе скорѣе обвиняетъ, чѣмъ оправдываетъ мункгольмскаго узника. Вы часто бывали въ Мункгольмѣ и очевидно не пустое любопытство влекло васъ туда. Доказательствомъ служитъ эта брильянтовая пряжка.
Предсѣдатель взялъ со стола и показалъ Орденеру алмазную пряжку.
— Вамъ она принадлежитъ?
— Да. Какимъ образомъ она очутилась здѣсь?
— Очень просто. Одинъ изъ бунтовщиковъ, умирая, передалъ ее нашему секретарю, сообщивъ, что получилъ ее отъ васъ въ видѣ платы за перевозъ изъ Дронтгейма въ Мункгольмскую крѣпость.
— Ахъ! — вскричалъ подсудимый Кенниболъ: — Ваше сіятельство правы, я узнаю эту пряжку; она была у моего товарища Гульдона Стайнера.
— Молчи, — сказалъ предсѣдатель: — пусть отвѣчаетъ Орденеръ Гульденлью.
— Не стану отпираться, что я хотѣлъ видѣть Шумахера, — сказалъ Орденеръ: — но эта пряжка ровно ничего не доказываетъ. Въ крѣпость нельзя входить съ драгоцѣнными вещами; матросъ, везшій меня на лодкѣ, жаловался дорогой на свою бѣдность, и я кинулъ ему эту пряжку, которую не могъ имѣть при себѣ…
— Извините, ваше сіятельство, — перебилъ секретарь, — это правило не распространяется на сына вице-короля. Вы могли…
— Я не хотѣлъ открывать моего званія.
— Почему же? — спросилъ председатель.
— Это моя тайна.
— Ваши сношенія съ Шумахеромъ и его дочерью доказываютъ, что цѣль вашего заговора клонилась къ ихъ освобожденію.
Шумахеръ, который до сихъ поръ обнаруживалъ свое вниманіе только презрительнымъ пожатіемъ плечъ, поднялся со скамьи.
— Освободить меня! Цѣлью этого адскаго заговора было компрометировать и погубить меня, что и вышло. Неужели вы думаете, что Орденеръ Гульденлью призналъ бы свое участіе въ преступленіи, если бы не былъ взятъ среди бунтовщиковъ. О! Я вижу, что онъ наслѣдовалъ отцовскую ненависть ко мнѣ. А что касается отношеній, въ которыхъ его подозрѣваютъ со мной и моей дочерью, то пусть знаетъ, этотъ презрѣнный Гульденлью, что дочь моя равнымъ образомъ унаслѣдовала ненависть мою ко всему отродью Гульденлью и Алефедьдовъ!
Орденеръ глубоко вздохнулъ, Этель внутренно опровергала слова отца, который опустился на скамью, все еще дрожа отъ гнѣва.
— Судъ разсмотритъ ваши отношенія, — сказалъ предсѣдатель.
Орденеръ, слушавшій Шумахера молча съ потупленными глазами, какъ бы очнулся при словахъ предсѣдателя.
— Выслушайте меня, господа судьи. Вы теперь будете судить насъ по совѣсти, не забудьте же, что Орденеръ Гульденлью одинъ виновенъ во всемъ; Шумахеръ невиненъ. Остальные несчастные были обмануты моимъ агентомъ Гаккетомъ. Все остальное было сдѣлано мною.
Кенниболъ счелъ долгомъ вмѣшаться.
— Ихъ милость говорятъ сущую правду, господа судьи, потому что онъ самъ взялся привести къ намъ знаменитаго Гана Исландца, не во зло будь сказано это имя. Я знаю, что этотъ молодой человѣкъ осмѣлился лично отправиться въ Вальдергогскую пещеру, чтобы предложить ему начальство надъ нами. Онъ признался мнѣ въ этомъ въ хижинѣ брата моего Брааля, въ Сурбѣ. Наконецъ не налгалъ онъ и говоря, что мы были обмануты проклятымъ Гаккетомъ; такъ что очевидное дѣло: насъ не за что казнить.
— Господинъ секретарь, — сказалъ предсѣдатель: — допросъ конченъ. Какое заключеніе сдѣлаете вы изъ всего слышаннаго?
Секретарь всталъ, нѣсколько разъ поклонился судьям, разглаживая рукою складки своихъ кружевныхъ брыжжей и не спуская глазъ съ предсѣдателя. Наконецъ онъ заговорилъ глухимъ, мрачнымъ голосомъ.
— Господинъ предсѣдатель и вы, почтенные судьи! Обвиненіе осталось неопровергнутымъ. Орденеръ Гульденлью, навсегда омрачившій блескъ своего славнаго имени, признавъ свою виновность, ничѣмъ не доказалъ невинности бывшаго канцлера Шумахера и его соумышленниковъ Гана Исландца, Вильфрида Кеннибола, Джонаса и Норбита. Прошу вслѣдствіе того удовлетворить правосудіе, объявивъ всѣхъ шестерыхъ виновными въ государственной измѣнѣ и оскорбленіи его величества.
Глухой ропотъ поднялся въ толпѣ зрителей. Предсѣдатель хотѣлъ уже произнести заключительную рѣчь, когда епископъ потребовалъ слова.
— Уважаемые судьи, слово защиты должно быть послѣднимъ. Я желалъ бы, чтобы обвиняемые имѣли лучшаго ходатая, такъ какъ я старъ и слабъ, и только Богъ поддерживаетъ духъ мой. Меня удивляютъ жестокія притязанія секретаря. Ничто изъ допроса не доказало виновности кліента моего Шумахера, невозможно указать на прямое участіе его въ бунтѣ рудокоповъ. Въ виду же того, что другой мой кліентъ Орденеръ Гульденлью сознался въ злоупотребленіи именемъ Шумахера, и что еще важнѣе, объявилъ себя единственнымъ виновникомъ преступнаго возмущенія, то подозрѣнія, тяготѣвшія на Шумахерѣ, падаютъ сами собой. Вы должны признать его невинность. Поручаю вашему христіанскому милосердію остальныхъ подсудимыхъ, заблуждавшихся, подобно овцамъ добраго пастыря, и даже юнаго Орденера Гульденлью, который сознаніемъ въ винѣ значительно смягчилъ свою преступность передъ создателемъ. Подумайте, господа судьи, онъ еще въ томъ возрастѣ, когда человѣкъ легко заблуждается, даже падаетъ, но Господь можетъ еще поддержать и возвратить его на путь истины. Орденеръ Гульденлью несетъ едва четверть ноши жизненнаго бремени подъ тяжестью котораго горбится мое бренное тѣло. Положите на вѣсы правосудія молодость его и неопытность и не лишайте его такъ рано жизни, дарованной ему Богомъ.
Старецъ умолкъ и опустился возлѣ улыбающагося Орденера. По приглашенію предсѣдателя судьи оставили трибуну и молча удалились въ залу совѣщанія.
Когда они рѣшали тамъ шесть судебъ, подсудимые остались сидѣть на скамьѣ, окруженные двумя рядами аллебардщиковъ. Шумахеръ, склонивъ голову на грудь, казался погруженнымъ въ глубокую задумчивость; великанъ съ глупой самоувѣренностью посматривалъ то на право, то на лѣво; Джонасъ и Кенниболъ, скрестивъ руки на груди, тихо молились; между тѣмъ какъ товарищъ ихъ Норбитъ то по временамъ топалъ ногою, то съ конвульсивной дрожью гремѣлъ цѣпями. Между нимъ и почтеннымъ епископомъ, читавшимъ псалмы покаянія, сидѣлъ Орденеръ, сложивъ руки и устремивъ глаза къ небу.
Позади нихъ шумѣла толпа зрителей, давшая просторъ своимъ ощущеніямъ по уходѣ судей. Знаменитый Мункгольмскій узникъ, страшный исландскій демонъ, сынъ вице-короля въ особенности, сосредоточивали на себѣ мысли, рѣчи и взоры всѣхъ присутствовавшихъ при разбирательствѣ дѣла. Шумъ, въ которомъ смѣшивались сѣтованія, хохотъ и смутный говоръ наполнялъ аудиторію, то возрастая, то утихая подобно пламени, колеблемому вѣтромъ.
Прошло нѣсколько часовъ ожиданія, столь утомительно долгаго, что каждый удивлялся продолжительности ночи. Время отъ времени посматривали на дверь залы совѣщанія, но лишь два солдата, подобно молчаливымъ призракамъ, прохаживались передъ нею, сверкая своими бердышами.
Наконецъ пламя факеловъ и свѣточей стало тускнуть, первые блѣдные лучи утренней зари проникали въ узкія окна залы, какъ вдругъ роковая дверь отворилась. Въ ту же минуту воцарилась глубокая тишина, какъ бы по мановенію волшебства; слышалось лишь подавленное дыханіе и неясное, глухое движеніе въ толпѣ, замершей отъ ожиданiя.
Судьи, выйдя медленно изъ залы совѣщанія, заняли мѣста на трибунѣ, президентъ помѣстился во главѣ ихъ.
Секретарь, погруженный въ раздумье во время ихъ отсутствія, поклонился и сказалъ:
— Господинъ предсѣдатель, какое безапеляціонное рѣшеніе произнесъ судъ именемъ короля? Мы готовы выслушать его съ благоговѣйнымъ вниманіемъ.
Судья, сидѣвшій по правую руку предсѣдателя, всталъ, развертывая пергаментъ;
— Его сіятельство, господинъ предсѣдатель, утомленный продолжительнымъ, засѣданіемъ, удостоилъ поручить намъ, главному синдику Дронтгеймскаго округа, обычному президенту уважаемаго трибунала, прочесть вмѣсто него приговоръ отъ имени короля. Исполняя эту печальную и почетную обязанность, приглашаемъ аудиторію съ должнымъ уваженіемъ выслушать непреложное рѣшеніе короля.
Тутъ голосъ синдика принялъ торжественный, важный тонъ, отъ котораго вздрогнули сердца всѣхъ:
— Именемъ его величества, нашего всемилостивѣйшаго монарха, короля Христіерна, мы, судьи верховнаго трибунала Дронтгеймскаго округа, разсмотрѣвъ обстоятельства дѣла государственнаго преступника Шумахера, Кольскаго горца Вильфрида Кеннибола, королевскихъ рудокоповъ, Джонаса и Норбита, Гана Исландца изъ Клипстадура и Орденера Гульденлью, барона Торвика, кавалера ордена Даннеброга, обвиняемыхъ въ государственной измѣнѣ и оскорбленіи его величества, а Гана Исландца кромѣ того въ убійствахъ, поджогахъ и грабежахъ, произносимъ по долгу совѣсти слѣдующій приговоръ:
«1-е Иванъ Шумахеръ невиненъ».
«2-е Вильфридъ Кенниболъ, Джонасъ и Норбитъ виновны, но судъ смягчаетъ ихъ вину въ виду того, что они были введены въ заблужденіе».
«3-е Ганъ Исландецъ виновенъ во всѣхъ возводимыхъ на него преступленіяхъ».
«4-е Орденеръ Гульденлью виновенъ въ государственной измѣнѣ и оскорбленіи его величества».
Синдикъ остановился на минуту, чтобы перевести духъ. Орденеръ устремилъ на него взоръ, полный небесной радости.
— Иванъ Шумахеръ, — продолжалъ синдикъ: — судъ освобождаетъ васъ и отсылаетъ обратно въ ваше заключеніе.
«Кенниболъ, Джонасъ и Норбитъ, судъ смягчилъ заслуженное вами наказаніе, приговоривъ васъ къ пожизненному заточенію и денежной пенѣ по тысячи королевскихъ экю съ каждаго».
«Ганъ, уроженецъ Клипстадура, убійца и поджигатель, сегодня же вечеромъ ты будешь отведенъ на Мункгольмскую площадь и тамъ повѣшенъ».
«Орденеръ Гульденлью, васъ, какъ измѣнника, лишивъ сперва предъ трибуналомъ вашихъ титуловъ, сегодня же вечеромъ съ факеломъ въ рукѣ отведутъ на ту же площадь, отрубятъ голову, тѣло сожгутъ, пепелъ развѣютъ по вѣтру, а голову выставятъ на позоръ».
«Теперь всѣ должны оставить залу суда. Таковъ приговоръ, произнесенный отъ имени короля».
Едва главный синдикъ окончилъ свое мрачное чтеніе, страшный крикъ огласилъ своды залы. Этотъ крикъ сильнѣе смертнаго приговора оледенилъ душу присутствовавшихъ; отъ этого крика помертвѣло дотолѣ спокойное, улыбающееся лицо Орденера.
XLIV
И такъ, дѣло сдѣлано: скоро все исполнится или лучше сказать все уже исполнилось. Онъ спасъ отца своей возлюбленной, спасъ ее самое, сохранивъ опору въ родителѣ. Благородный замыселъ юноши для спасенія жизни Шумахера увѣнчался успѣхомъ, все прочее не имѣетъ никакого значенія, остается лишь умереть.
Пусть тѣ, кто считалъ его виновнымъ или безумнымъ, теперь судятъ этого великодушнаго Орденера, какъ онъ самъ себя судитъ въ душѣ съ благоговѣйнымъ восторгомъ. Онъ вступилъ въ ряды мятежниковъ съ тою мыслью, что если не удастся ему воспрепятствовать преступному заговору Шумахера, то по крайней мѣре можно избавить его отъ наказанія, призвавъ его на свою голову.
— Ахъ! — размышлялъ онъ самъ съ собою: — Очевидно Шумахеръ виновенъ; но преступленіе человѣка, измученнаго заточеніемъ и несчастіями, извинительно. Онъ хочетъ только свободы и пытается даже мятежомъ добиться ея. А что станетъ съ моею Этелью, если у ней отнимутъ отца, если эшафотъ навсегда разлучитъ ее съ нимъ, если новый позоръ отравитъ ея существованiе? Что станетъ съ ней безпомощной, безъ поддержки, одинокой въ тюрьмѣ, или брошенной въ непріязненный міръ.
Эта мысль заставила Орденера рѣшиться на самопожертвованіе; и онъ съ радостью готовился къ нему, потому что для любящаго существа величайшее благо — посвятить жизнь — не говорю за жизнь — но за одну улыбку, за одну слезу любимаго существа.
И вотъ онъ взятъ среди бунтовщиковъ, приведенъ къ судьямъ, собравшимся произнести приговоръ надъ Шумахеромъ; благородно наклеветалъ на себя, осужденъ, скоро будетъ жестоко и позорно казненъ, оставитъ по себѣ позорную память; — но все это нисколько не волнуетъ этой благородной души. Онъ спасъ отца своей Этели.
Въ оковахъ брошенъ онъ теперь въ сырую тюрьму, куда свѣтъ и воздухъ съ трудомъ проникаютъ чрезъ мрачныя отдушины. Подлѣ него послѣдняя пища его жизни, черный хлѣбъ и кружка воды. Желѣзная цѣпь давитъ ему шею, руки и ноги изнемогаютъ подъ тяжестью оковъ. Каждый протекшій часъ уноситъ у него болѣе жизни, чѣмъ у другихъ цѣлый годъ. Орденеръ погрузился въ сладостную задумчивость.
— Можетъ быть послѣ смерти не всѣ забудутъ меня, по крайней мѣрѣ хоть одно сердце останется вѣрно моей памяти. Быть можетъ она прольетъ слезу за мою кровь, быть можетъ посвятитъ мигъ скорби тому, кто пожертвовалъ за нее жизнью. Быть можетъ въ дѣвственныхъ сновидѣніяхъ хоть изрѣдка станетъ посѣщать ее смутный образъ друга. Кто знаетъ, что ждетъ насъ за гробомъ? Кто знаетъ, быть можетъ души, освободившись отъ тѣлесной тюрьмы, могутъ иногда слетать и бодрствовать надъ любимымъ существомъ, могутъ имѣть таинственное общеніе съ земными узниками и приносить имъ невидимо какую-нибудь ангельскую добродѣтель, или небесную благодать.
Однако и горькія мысли примѣшивались къ его утѣшительнымъ мечтамъ. Ненависть, которую Шумахеръ выказалъ къ нему въ ту именно минуту, когда онъ жертвовалъ собою, камнемъ давила его сердце. Раздирающій крикъ, который услышалъ онъ вмѣстѣ со своимъ смертнымъ приговоромъ, потрясъ, его до глубины души: во всей аудиторіи онъ одинъ узналъ этотъ голосъ, понялъ это невыразимое отчаяніе. Неужели онъ не увидитъ болѣе свою Этель? Неужели въ послѣднія минуты жизни, проводимыя съ нею въ одной тюрьмѣ, онъ не почувствуетъ еще разъ пожатія ея нѣжной руки, не услышитъ сладостнаго голоса той, за которую готовился умереть?
Онъ погрузился въ ту смутную, печальную задумчивость, которая для ума тоже, что сонъ для тѣла, какъ вдругъ хриплый визгъ старыхъ ржавыхъ запоровъ поразилъ его слухъ, витавшій въ высшихъ сферахъ, ждавшихъ его.
Скрипя на петляхъ отворилась тяжелая желѣзная дверь тюрьмы. Молодой осужденный поднялся спокойный, почти радостный, думая, что палачъ пришелъ за нимъ, и уже собирался разстаться съ своей тѣлесной натурой, какъ съ плащомъ, который сбросилъ къ своимъ ногамъ.
Онъ обернулся въ своемъ ожиданіи. Подобно лучезарному видѣнію явился на порогѣ тюрьмы бѣлый призракъ. Орденеръ не вѣрилъ своимъ глазамъ, не зналъ, гдѣ онъ, на землѣ, или уже на небѣ. Передъ нимъ была она, его несравненная Этель.
Молодая дѣвушка упала въ объятія Орденера, орошала руки его слезами, отирая ихъ длинными черными косами своихъ густыхъ волосъ. Цѣлуя его оковы, прижимая свои чистыя уста къ позорному желѣзу, она не вымолвила ни слова, но все сердце ея вылилось бы въ первомъ словѣ, которое бы произнесла она сквозь рыданія.
Орденеръ испытывалъ неизъяснимое небесное блаженство, дотолѣ невѣдомое для него. Когда онъ нѣжно прижималъ къ своей груди Этель, всѣ силы земныя и адскія не могли бы въ ту минуту разнять его объятій. Сознаніе близкой смерти придавало его восторженному упоению какую-то торжественность; онъ обнималъ свою возлюбленную, какъ будто уже соединился съ нею навѣки.
Онъ не спрашивалъ, какимъ образомъ этотъ ангелъ могъ проникнуть къ нему. Она была съ нимъ, могъ ли онъ думать о чемъ нибудь другомъ? Впрочемъ, это нисколько не удивляло его. Онъ не задавался вопросомъ, какъ слабая, одинокая, оставленная всѣми дѣвушка сумѣла сквозь тройные запоры, сквозь тройную стражу проникнуть изъ своей темницы въ темницу своего возлюбленнаго; это казалось ему такъ просто, самъ по себѣ зналъ онъ, какимъ могуществомъ обладаетъ любовь.
Зачѣмъ разговаривать голосомъ, когда души безъ словъ понимаютъ другъ друга? Почему не позволить тѣлу молчаливо прислушиваться къ таинственному языку чувствъ? Оба молчали, потому что есть ощущенія, которыя можно выразить только молча.
Наконецъ, молодая дѣвушка подняла голову, склоненную до сихъ поръ на трепещущей груди юноши.
— Орденеръ, — сказала она: — я пришла спасти тебя.
Однако эти отрадныя слова звучали тоской и отчаяніемъ.
Орденеръ улыбаясь покачалъ головой.
— Спасти меня, Этель! Ты заблуждаешься. Бѣгство немыслимо.
— Увы, я слишкомъ хорошо это знаю. Этотъ замокъ полонъ солдатъ, каждую дверь, ведущую сюда, охраняютъ тюремщики и неусыпная стража. Но я принесла тебѣ другое средство къ спасенію, добавила она съ усиліемъ.
— Полно, зачѣмъ тѣшить себя несбыточными надеждами? Не обманывай себя химерами, Этель, черезъ нѣсколько часовъ ударъ топора безжалостно разобьетъ ихъ…
— Нѣтъ, Орденеръ, ты не умрешь! О! Не напоминай мнѣ объ этой страшной мысли, или нѣтъ! Представь мнѣ ее во всемъ ужасѣ, чтобы подкрѣпить мое намѣреніе спасти тебя, пожертвовавъ собой.
Въ голосѣ молодой дѣвушки звучало какое то странное выраженіе. Орденеръ нѣжно взглянулъ на нее.
— Пожертвовавъ собой! Что ты хочешь этимъ сказать?
Закрывъ лицо руками, она зарыдала, прошептавъ прерывающимся голосомъ:
— Боже мой!..
Ея нерѣшимость была непродолжительна; она собралась съ духомъ, глаза ея блестѣли, уста улыбались. Она была прекрасна какъ ангелъ, который возвращается изъ ада на небо.
— Нѣтъ, Орденеръ, ты не взойдешь на эшафотъ. Что-бы спастись, тебѣ достаточно дать слово жениться на Ульрикѣ Алефельдъ…
— На Ульрикѣ Алефельдъ! И это имя слышу я отъ моей Этели!
— Не перебивай меня, — продолжала она съ спокойствіемъ мученика при послѣднихъ истязаніяхъ: — меня послала сюда графиня Алефельдъ. Тебѣ обѣщаютъ королевское помилованіе, если ты согласишься принять руку дочери великаго канцлера. Я пришла взять съ тебя клятву, что ты женишься и будешь жить съ Ульрикой. Меня послали сюда, думая, что я въ состояніи убѣдить тебя.
— Прощай, Этель, — холодно промолвилъ осужденный: — когда выйдешь изъ этой тюрьмы, вели звать палача.
Этель поднялась и минуту смотрѣла на Орденера, блѣдная и трепещущая. Колѣни ея подогнулись, она упала на каменный полъ, всплеснувъ руками.
— Что я сдѣлала ему? — прошептала она задыхающимся голосомъ.
Орденеръ молчалъ, потупивъ глаза въ землю.
— Орденеръ, — вскричала она, на колѣняхъ припавъ къ нему: — что ты не отвѣчаешь мнѣ? Ты не хочешь со мной говорить?.. Мнѣ остается лишь умереть!
Слезы навернулись на глазахъ Орденера.
— Этель, ты не любишь меня болѣе.
— Боже мой, — простонала несчастная дѣвушка, обнимая его колѣни: — я не люблю его! Ты говоришь, что я не люблю тебя, Орденеръ! Ты могъ это вымолвить!
— Да, ты не любишь меня, такъ какъ выражаешь свое презрѣніе.
Онъ раскаялся въ своихъ жестокихъ словахъ, когда Этель, обвивъ его шею руками, заговорила голосомъ, прерывающимся отъ рыданій.
— Прости меня, дорогой мой Орденеръ, прости меня, какъ я тебя прощаю. Мнѣ презирать тебя!.. Великій Боже!.. Тебя, въ которомъ заключается вся моя жизнь, моя слава, мое блаженство?.. Скажи, развѣ когда-нибудь слова мои звучали чѣмъ нибудь инымъ, кромѣ глубокой любви, пылкаго обожанія?.. Ты жестоко обходишься со мной, когда я пришла спасти тебя цѣной своей собственной жизни.
— Но, дорогая моя, — отвѣчалъ молодой человѣкъ, растроганный слезами Этели, которыя осушалъ своими поцѣлуями: — развѣ ты уважаешь меня, предлагая мнѣ покинуть Этель, сдѣлаться клятвопреступникомъ, пожертвовать своей любовью для того, чтобы сохранить себѣ жизнь. Подумай, Этель, — добавилъ онъ, пристально смотря на нее, — могу ли я пожертвовать любовью, за которую пролью сегодня свою кровь?
Этель глубоко и тяжело вздохнула.
— Выслушай меня, Орденеръ, и не осуждай такъ поспѣшно. Быть можетъ я выказала болѣе твердости, на какую вообще способна слабая женщина… Изъ башни видѣнъ на крѣпостной площади эшафотъ, который воздвигаютъ для тебя. Ахъ, Орденеръ, ты не знаешь какое мучительное чувство тѣснитъ грудь при видѣ медленно готовящейся смерти того, кто унесетъ съ собою нашу жизнь! Графиня Алефельдъ, возлѣ которой сидѣла я, слушая какъ произносили надъ тобой смертный приговоръ, пришла ко мнѣ въ темницу. Спросивъ, хочу ли я спасти тебя, она указала на это ненавистное средство. Дорогой Орденеръ, мнѣ предстояло или разбить свою жизнь, отказавшись отъ тебя, потерявъ тебя навсегда, уступивъ другой Орденера, въ которомъ заключается все мое счастіе, или отдать тебя на казнь. Мнѣ предоставили на выборъ мое несчастіе и твою гибель: я не колебалась ни минуты.
Орденеръ восторженно поцѣловалъ руку этого ангела.
— И я не колеблюсь, Этель. Ты навѣрно не предлагала бы сохранить свою жизнь, женившись на Ульрикѣ Алефельдъ, если бы знала что привело меня къ смерти.
— Какъ! Что за тайна?..
— Позволь мнѣ, дорогая моя, сохранить ее и отъ тебя. Я хочу умереть, оставивъ тебя въ невѣденіи благословлять или ненавидѣть должна ты память обо мнѣ.
— Ты хочешь смерти! Ты ждешь смерти! Боже мой!.. И это горькая дѣйствительность… эшафотъ почти готовъ, ничто не въ силахъ спасти моего Орденера! Послушай, дорогой мой, посмотри на твою преданную рабыню; обѣщай выслушать меня безъ гнѣва. Скажи мнѣ, твоей Этели, какъ говорилъ бы передъ Богомъ, увѣренъ ли ты, что союзъ съ Ульрикой Алефельдъ не принесетъ тебѣ счастія?.. Точно ли ты увѣренъ въ этомъ, Орденеръ?.. Быть можетъ, даже навѣрно, она прекрасна, скромна, добродѣтельна, лучше той, за которую ты умираешь… Не отворачивай своего лица, дорогой мой; ты такъ благороденъ, такъ еще молодъ, чтобы сложить свою голову на плахѣ! Живя съ ней въ какомъ нибудь пышномъ городѣ, ты забудешь объ этой печальной темницѣ, забудешь обо мнѣ. Я согласна, чтобы ты изгналъ меня изъ своего сердца, даже изъ памяти, на все согласна. Только живи, оставь меня здѣсь одну, мнѣ суждено умереть. Повѣрь мнѣ, когда я узнаю, что ты въ объятіяхъ другой, тогда не будетъ тебѣ нужды безпокоиться обо мнѣ; я недолго буду страдать.
Она замолчала, рыданія душили ей горло. Между тѣмъ ея отчаянныя взоры умоляли Орденера принять жертву, отъ которой зависѣла ея жизнь.
— Довольно, Этель, — сказалъ Орденеръ: — я не хочу чтобы въ эту минуту ты произносила другія имена, кромѣ моего и твоего.
— И такъ, ты хочешь умереть!..
— Такъ нужно. За тебя я съ радостью пойду на эшафотъ, съ ужасомъ и отвращеніемъ поведу другую женщину къ алтарю. Ни слова болѣе, ты огорчаешь и оскорбляешь меня.
Этель рыдала, шепча:
— Онъ умретъ!.. Боже мой!.. Умретъ позорной смертью!
Осужденный возразилъ, улыбаясь:
— Повѣрь, Этель, моя смерть не такъ позорна, какъ жизнь, которую ты мнѣ предлагаешь.
Въ эту минуту взглядъ его, прикованный къ плачущей Этели, примѣтилъ старца въ священнической одеждѣ, который держался въ тѣни у входной двери.
— Что вамъ угодно? — съ досадой спросилъ Орденеръ.
— Сынъ мой, я пришелъ съ посланной отъ графини Алефельдъ. Вы не примѣтили меня и я ждалъ, пока вы обратите на меня вниманіе.
Дѣствительно, Орденеръ не видалъ ничего, кромѣ Этели, а Этель, увидѣвъ Орденера, забыла о своемъ спутникѣ.
— Я служитель церкви, назначенный, — началъ старикъ.
— Понимаю, — прервалъ его Орденеръ: — я готовъ.
Священникъ приблизился къ нему.
— Создатель готовъ выслушать тебя, сынъ мой.
— Святой отецъ, — сказалъ Орденеръ: — ваше лицо мнѣ знакомо. Мы уже гдѣ то встрѣчались.
Священникъ поклонился.
— Я тоже узнаю тебя, сынъ мой. Мы видѣлись въ башнѣ Виглы. Въ тотъ день мы оба дали примѣръ какъ мало вѣры заслуживаютъ слова человѣческія. Ты обѣщалъ мнѣ помилованіе двѣнадцати преступникамъ, а я не повѣрилъ твоему обѣщанію, не предполагая, что со мной говоритъ сынъ вице-короля; ты, сынъ мой, надѣясь на свою власть и свой санъ, далъ мнѣ это обѣщаніе, а между тѣмъ…
Орденеръ докончилъ мысль, которую не осмѣлился выразить Афанасій Мюндеръ.
— Я даже себѣ не могу исходатайствовать прощеніе. Вы правы, отецъ мой. Я слишкомъ мало думалъ о будущемъ и оно покарало меня, давъ мнѣ почувствовать превосходство своего могущества.
Священникъ потупилъ голову.
— Богъ всемогущъ, — промолвилъ онъ.
Потомъ съ состраданіемъ взглянувъ на Орденера, прибавилъ:
— Богъ милосердъ.
— Послушайте, святой отецъ, я хочу сдержать обѣщаніе, данное мною въ башнѣ Виглы. Когда я умру, отправьтесь въ Бергенъ къ моему отцу, вице-королю Норвегіи, и скажите ему, что послѣдняя милость, которой добивался его сынъ, состоитъ въ помилованіи вашихъ двѣнадцати преступниковъ. Я увѣренъ, что онъ уважитъ это ходатайство.
Слезы умиленія оросили лицо почтеннаго старца.
— Сынъ мой, душа твоя полна самыхъ высокихъ стремленій, если, гордо отвергая свое помилованіе, ты великодушно ходатайствуешь за другихъ. Я слышалъ твой отказъ и, хотя порицалъ опасную глубину человѣческой страсти, тронутъ былъ имъ до глубины души. Теперь я спрашиваю себя: undе sсеlus? Возможно ли, чтобы человѣкъ, подобящійся истинному праведнику, могъ запятнать себя преступленіемъ, за которое осужденъ?
— Отецъ мой, этой тайны не открылъ я этому ангелу, не могу открыть и тебѣ. Но вѣрьте, что не преступленіе повлекло за собой мое осужденіе.
— Какъ? Объяснись, сынъ мой.
— Не разспрашивайте меня, — отвѣтилъ молодой человѣкъ съ твердостью, — позвольте мнѣ унести съ собой въ могилу тайну моей смерти.
— Этотъ юноша не можетъ быть преступенъ, — прошепталъ священникъ.
Взявъ съ груди черное распятіе, онъ возложилъ его на глыбу гранита, грубо высѣченную въ видѣ алтаря и прислоненную къ сырой стѣнѣ тюрьмы. Возлѣ распятія онъ поставилъ маленькій желѣзный свѣтильникъ, который принесъ съ собой, и раскрылъ Библію.
— Молись и размышляй, сынъ мой. Черезъ нѣсколько часовъ я возвращусь… Идемъ, дитя мое, — прибавилъ онъ, обращаясь къ Этели, которая молча слушала разговоръ Орденера съ священникомъ: — пора оставить узника. Время идетъ….
Этель поднялась радостная и спокойная; взоры ея блистали небеснымъ блаженствомъ…
— Отецъ мой, я не могу теперь слѣдовать за вами. Сперва вы должны соединить на вѣки Этель Шумахеръ съ ея супругомъ Орденеромъ Гульденлью.
Она взглянула на Орденера.
— Если бы ты былъ еще могущественъ, славенъ и свободенъ, дорогой мой, въ слезахъ я удалилась бы отъ тебя… Но теперь, когда моя злополучная судьба не можетъ принести тебѣ несчастія; когда ты, подобно мнѣ, томишься въ темницѣ, обезславленъ, угнетенъ; теперь, когда ты готовишься къ смерти, я осмѣливаюсь надѣяться, что ты удостоишь взять себѣ подругой смерти ту, которая не могла быть подругой твоей жизни. Не правда ли ты любишь меня, ты не станешь сомнѣваться ни минуты, что я умру вмѣстѣ съ тобой?
Осужденный упалъ къ ея ногамъ, цѣлуя подолъ ея платья.
— Отецъ мой, — продолжала она: — вы должны заступить мѣсто нашихъ родителей. Пусть будетъ эта темница храмомъ, этотъ камень алтаремъ. Вотъ мое кольцо, мы на колѣняхъ предъ Богомъ и вами. Благословите насъ и святыя слова Евангелія пусть соединятъ навѣки Этель Шумахеръ съ ея Орденеромъ Гульденлью.
Оба преклонили колѣни передъ священникомъ, смотрѣвшимъ на нихъ съ умиленіемъ и жалостію.
— Дѣти мои, о чемъ вы просите?
— Святой отецъ, — сказала молодая дѣвушка: — время дорого. Богъ и смерть ждутъ насъ.
Иногда встрѣчаешь силу непреодолимую, волю, которой повинуешься безпрекословно, какъ будто въ ней есть что-то сверхъестественное. Священникъ со вздохомъ возвелъ глаза къ небу.
— Да проститъ мнѣ Господь, если слабость моя преступна! Вы любите другъ друга и вамъ недолго еще остается любить на землѣ, не думаю, чтобы я преступалъ свою власть, узаконяя вашу любовь.
Торжественный обрядъ совершился. Священникъ далъ послѣднее благословеніе брачующимся, которыхъ соединилъ навѣки.
Лицо осужденнаго оживлено было горестной отрадой; можно было сказать, что теперь только сталъ онъ чувствовать горечь смерти, извѣдавъ блаженство бытія. Черты лица его подруги дышали простотой и величіемъ; она была скромна, какъ юная дѣвственница, и почти горделива какъ молодая супруга.
— Слушай, дорогой мой, — сказала она: — не правда ли намъ теперь легче умирать, такъ какъ на землѣ мы не могли соединиться? Знаешь ли, что я сдѣлаю?.. Я стану у окна крѣпости, когда поведутъ тебя на эшафотъ: наши души вмѣстѣ полетятъ на небо. Если меня не станетъ, прежде чѣмъ упадетъ роковая сѣкира, я буду ждать тебя; обожаемый Орденеръ. Мы теперь супруги, сегодня вечеромъ могила послужитъ намъ брачнымъ ложемъ.
Онъ прижалъ ее къ своей взволнованной груди и могъ лишь выговорить эти слова:
— Этель, ты моя, моя навѣки!
— Дѣти мои, — сказалъ священникъ съ умиленіемъ: — вамъ пора проститься.
— Увы!.. — вскричала Этель.
Но самообладаніе не оставило ее и она бросилась къ ногамъ осужденнаго.
— Прощай, мой возлюбленный, ненаглядный Орденеръ. Благослови меня въ послѣдній разъ.
Узникъ исполнилъ эту трогательную просьбу и обернулся проститься съ почтеннымъ Афанасіемъ Мюндеромъ.
Старикъ тоже стоялъ передъ нимъ на колѣняхъ.
— Что это значитъ, отецъ мой? — воскликнулъ Орденеръ съ изумленіемъ.
Старикъ смотрѣлъ на него умиленнымъ, растроганнымъ взоромъ.
— Я жду твоего благословенія, сынъ мой.
— Да благословитъ васъ Господь, да ниспошлетъ вамъ свою милость, которую вы призываете на вашихъ братьевъ, — отвѣтилъ Орденеръ взволнованнымъ торжественнымъ голосомъ.
Вскорѣ послѣднее прости, послѣдніе поцѣлуи раздались подъ мрачными сводами темницы; вскорѣ крѣпкіе запоры шумно задвинулись и желѣзная дверь разлучила юныхъ супруговъ, готовившихся умереть, чтобы встрѣтиться въ вѣчности.
XLV
— Баронъ Ветгайнъ, полковникъ Мункгольмскихъ стрѣлковъ, кто изъ солдатъ, сражавшихся подъ вашимъ начальствомъ въ ущельяхъ Чернаго Столба, захватилъ въ плѣнъ Гана Исландца? Назовите его трибуналу, такъ какъ ему надлежитъ получить тысячу королевскихъ экю, назначенныхъ за эту поимку.
Съ этими словами президентъ обратился къ полковнику Мункгольмскихъ стрѣлковъ. Судьи еще не разошлись, такъ какъ по древнему обычаю Норвегіи, произнеся безапеляціонный приговоръ, они не имѣли права оставить залу суда, прежде чѣмъ приговоръ не будетъ исполненъ.
Передъ трибуналомъ стоялъ великанъ, снова введенный въ залу суда, съ веревкой на шеѣ.
Полковникъ, сидѣвшій за столомъ секретаря, всталъ и поклонился суду и епископу, снова занявшему свое сѣдалище.
— Господа судьи, Ганъ Исландецъ былъ взятъ въ плѣнъ Торикомъ Бельфастомъ, вторымъ стрѣлкомъ моего полка.
— Пусть же явится онъ за наградой, — сказалъ президентъ.
Молодой солдатъ въ мундирѣ Мункгольмскихъ стрѣлков вышелъ изъ толпы.
— Ты Торикъ Бельфастъ? — спросилъ президентъ.
— Такъ точно, ваше сіятельство.
— Это ты захватилъ въ плѣнъ, Ганъ Исландца?
— Я, съ помощью Вельзевула, ваше сіятельство.
Въ эту минуту на столъ трибунала положенъ былъ тяжелый мѣшокъ.
— Точно ли ты увѣренъ, что этотъ человѣкъ знаменитый Ганъ Исландецъ, — спросилъ президентъ, указывая на закованнаго въ кандалы великана.
— Мнѣ больше знакома рожица красавицы Кэтти, чѣмъ Гана Исландца. Но клянусь святымъ Бельфегоромъ, если Ганъ Исландецъ существуетъ, такъ навѣрно подъ видомъ этого гигантскаго демона.
— Подойди, Торикъ Бельфастъ, — сказалъ президентъ: — вотъ тысяча экю, обѣщанныхъ главнымъ синдикомъ.
Солдатъ поспѣшно подошелъ къ трибунѣ, какъ вдругъ чей то голосъ послышался въ толпѣ:
— Мункгольмскій стрѣлокъ, не ты захватилъ Гана Исландца.
— Клянусь всѣми чертями преисподней! — вскричалъ солдатъ, обернувшись: — у меня всего достоянія трубка и минута, въ которую говорю, но я обѣщаю десять тысячъ золотыхъ экю тому, кто, сказавъ это, докажетъ свою правоту.
Скрестивъ руки на груди, онъ самоувѣренно поглядывалъ на толпу.
— Ну что же? Кто тамъ говорилъ? Выходи.
— Я, — отвѣтилъ какой-то малорослый субъектъ, продираясь сквозь толпу.
Онъ одѣтъ былъ въ тростниковую рогожу и тюленью шкуру — костюмъ гренландцевъ — которая облегала его члены подобно конической кровли шалаша. Борода его была черна какъ смоль; такого же цвѣта густые волосы, закрывая рыжія брови, ниспадали на лицо, открытыя части котораго внушали отвращеніе. Рукъ его совсѣмъ не было видно.
— А! Такъ вотъ кто, — сказалъ солдатъ, покатываясь со смѣху. — Ну, красавчикъ, кто же по твоему захватилъ этого дьявольскаго великана?
Малорослый покачалъ головой и отвѣтилъ съ злобной усмѣшкой: — Я!
Въ эту минуту баронъ Ветгайнъ узналъ въ немъ то странное таинственное существо, которое извѣстило его въ Сконгенѣ о приближеніи бунтовщиковъ; канцлеръ Алефельдъ — обитателя Арбарскихъ развалинъ; а секретарь — оельмскаго поселянина, одѣтаго въ такую же рогожу и такъ вѣрно указавшаго ему убѣжища Гана Исландца. Однако они не могли сообщить другъ другу своихъ первыхъ впечатлѣній, которыя вскорѣ были разсѣяны разницею въ одеждѣ и чертахъ лица малорослаго.
— Такъ это ты! — иронически замѣтилъ солдатъ: — Если бы не твой костюмъ гренландскаго тюленя, по глазамъ, которыми ты просто ѣшь меня, я призналъ бы въ тебѣ того уродливаго карлика, который хотѣлъ было придраться ко мнѣ въ Спладгестѣ, дней пятнадцать тому назадъ, когда принесли трупъ рудокопа Жилля Стадта…
— Жилля Стадта! — перебилъ малорослый, вздрогнувъ.
— Да, Жилля Стадта, — безпечно продолжалъ солдатъ: — отвергнутаго обожателя любовницы одного изъ моихъ товарищей, за которую онъ, какъ дуракъ, сложилъ свою буйную голову.
— Не было ли тогда въ Спладгестѣ трупа одного изъ офицеровъ твоего полка? — глухо спросилъ малорослый.
— Вотъ именно. До смерти не забуду я этого дня. Я заболтался въ Спладгестѣ и чуть не былъ разжалованъ, вернувшись въ крѣпость. Тамъ былъ трупъ капитана Диспольсена…
При этомъ имени секретарь поднялся съ своего мѣста.
— Эти люди истощаютъ терпѣніе трибунала. Мы просимъ господина предсѣдателя прекратить это безполезное пререкательство.
— Клянусь честью моей Кэтти, я только и жду, — вскричалъ Торикъ Бельфастъ: — чтобы ваше сіятельство присудили мнѣ тысячу экю, обѣщанныя за голову Гана, захваченнаго мною въ плѣнъ.
— Ты лжешь! — вскричалъ малорослый.
Солдатъ схватился за саблю.
— Счастливъ ты, чучело, что мы въ судѣ, гдѣ всякій солдатъ, будь онъ даже мункгольмскимъ стрѣлкомъ, долженъ стоять безъ оружія, какъ старый пѣтухъ.
— Награда должна принадлежать мнѣ, - хладнокровно возразилъ малорослый: — такъ какъ безъ меня не имѣть бы вамъ головы Гана Исландца.
Обозлившійся солдатъ клялся, что именно онъ захватилъ Гана Исландца, когда тотъ, упавъ на полѣ битвы, сталъ приходить въ сознаніе.
— Что ты врешь, — возразилъ солдатъ: — не ты, а какой-то духъ въ звѣриной шкурѣ сшибъ его съ ногъ.
— Это былъ я!
— Нѣтъ, нѣтъ!
Предсѣдатель приказалъ обоимъ замолчать и снова спросилъ полковника Ветгайна, точно ли Торикъ Бельфастъ захватилъ въ плѣнъ Гана Исландца.
Получивъ утвердительный отвѣтъ, объявилъ, что награда присуждается солдату.
— Стой! — вскричалъ малорослый: — Господинъ президентъ, по рѣшенію главнаго синдика, награда эта принадлежитъ лишь тому, кто доставитъ Гана Исландца.
— Ну такъ что же? — спросили судьи.
Малорослый обратился къ великану.
— А то, что этотъ человѣкъ не Ганъ Исландецъ.
Ропотъ изумленія пронесся въ толпѣ зрителей. Президентъ и секретарь безпокойно переглянулись.
— Да, — настойчиво продолжалъ малорослый: — деньги не принадлежатъ проклятому мункгольмскому стрѣлку, потому что этотъ человѣкъ не Ганъ Исландецъ.
— Алебардщики, — приказалъ предсѣдатель: — выведите этого безумца, онъ сошелъ съ ума.
Епископъ вмѣшался.
— Позволю себѣ замѣтить, уважаемый господинъ предсѣдатель, что, отказываясь выслушать этого человѣка, мы можемъ лишить осужденнаго послѣдней надежды на спасеніе. Я требую, напротивъ, чтобы очная ставка продолжалась.
— Досточтимый епископъ, трибуналъ уважитъ ваше ходатайство, — отвѣтилъ предсѣдатель. — Ты назвался Ганомъ Исландцемъ, — продолжалъ онъ, обратившись къ великану: — подтвердишь ли ты передъ смертью свое признаніе?
— Подтверждаю, я Ганъ Исландецъ, — отвѣчалъ подсудимый.
— Вы слышите, ваше преосвященство?
Въ эту минуту малорослый закричалъ:
— Ты лжешь, кольскій горецъ, ты лжешь! Не носи имени, которое раздавитъ тебя; вспомни, что оно уже чуть-чуть тебя не погубило.
— Я Ганъ Исландецъ, родомъ изъ Клипстадура, — повторилъ великанъ, безсмысленно уставившись на секретаря.
Малорослый приблизился къ мункгольмскому стрѣлку, который, подобно остальнымъ зрителямъ, съ интересомъ слѣдилъ за ходомъ препирательства.
— Кольскій горецъ, говорятъ, что Ганъ Исландецъ пьетъ человѣческую кровь. Если ты, дѣйствительно, Ганъ, на, пей ее!
Съ этими словами откинувъ свой рогожный плащъ, онъ вонзилъ кинжалъ въ сердце стрѣлка и кинулъ его бездыханное тѣло къ ногамъ великана.
Крикъ испуга и ужаса огласилъ своды залы. Стража, окружавшая великана, невольно отступила назадъ. Малорослый быстрѣе молніи кинулся на беззащитнаго горца и новымъ взмахомъ кинжала свалилъ его на трупъ солдата. Затѣмъ, скинувъ свой рогожный плащъ, сорвавъ парикъ и накладную бороду, онъ обнажилъ свои жилистые члены, покрытые отвратительными отрепьями звѣриныхъ шкуръ, и лицо, распространившее между зрителями большій ужасъ, чѣмъ окровавленный кинжалъ, страшное лезвее котораго онъ занесъ надъ своими жертвами.
— Ну, судьи, кто изъ насъ Ганъ Исландецъ?
— Стражи, схватите чудовище! — закричалъ перепуганный предсѣдатель.
Малорослый кинулъ свой кинжалъ на полъ.
— Теперь онъ для меня безполезенъ, здѣсь больше нѣтъ мункгольсмкихъ стрѣлковъ.
Съ этими словами онъ безъ сопротивленія отдался въ руки алебардщиковъ и полицейскихъ, которые толпились вокругъ него, какъ будто готовясь на приступъ къ городу. Чудовище приковано было къ скамьѣ подсудимыхъ, а обѣ жертвы, изъ которыхъ одна еще дышала, были вынесены на носилкахъ.
Невозможно описать разнообразныхъ ощущеній ужаса, изумленія и негодованія, которыя въ продолженіе описанной страшной сцены волновали народъ, стражу и судей. Но когда разбойникъ спокойно сѣлъ на роковую скамью, любопытство взяло верхъ надъ прочими ощущеніями и воцарилась полная тишина.
Почтенный епископъ поднялся съ своего сѣдалища.
— Господа судьи, — началъ онъ.
Разбойникъ перебилъ его:
— Дронтгеймскій епископъ, я Ганъ Исландецъ, не трудитесь защищать меня.
Секретарь всталъ въ свою очередь.
— Господинъ предсѣдатель…
Чудовище перебило и его:
— Секретарь, я Ганъ Исландецъ, не трудись обвинять меня.
Весь въ крови, онъ окинулъ свирѣпымъ, смѣлымъ взоромъ трибуналъ, стражу и толпу зрителей, и можно сказать всѣ эти люди вздрогнули отъ испуга при одномъ взглядѣ этого безоружнаго, скованнаго человѣка.
— Слушайте, судьи, и не ждите отъ меня длинныхъ разсужденій. Я Клипстадурскій демонъ. Моя мать — старая Исландія, островъ огнедышащихъ горъ. Нѣкогда она была только горою, но ее раздавилъ великанъ, который, падая съ неба, оперся рукой на ея вершину. Мнѣ нѣтъ нужды разсказывать вамъ про себя; я потомокъ Ингольфа Истребителя и во мнѣ воплотился его духъ. Я убивалъ и поджигалъ болѣе, чѣмъ вы въ свою жизнь произнесли несправедливыхъ приговоровъ. У меня есть тайна съ канцлеромъ Алефельдомъ… Я съ удовольствіемъ выпилъ бы всю кровь, текущую въ вашихъ жилахъ. Во мнѣ врождена ненависть къ людямъ, мое призваніе всячески вредить имъ. Полковникъ Мункгольмскихъ стрѣлковъ, это я извѣстилъ тебя о проходѣ рудокоповъ черезъ ущелье Чернаго Столба, увѣренный, что ты перебьешь тамъ массу народа; это я истребилъ цѣлый баталіонъ твоего полка, кидая въ него обломки скалъ. Я мстилъ за моего сына… Теперь, судьи, сынъ мой умеръ и я пришелъ сюда искать смерти. Духъ Ингольфа тяготитъ меня, такъ какъ я одинъ ношу его и, не имѣя наслѣдника, мнѣ некому передать его. Мнѣ надоѣла жизнь, потому что она не можетъ служить примѣромъ и урокомъ потомку. Довольно насытился я кровью; больше не хочу… А теперь я вашъ, вы можете пить мою кровь.
Онъ замолчалъ и всѣ глухо повторяли каждое изъ его страшныхъ словъ.
Епископъ сказалъ ему:
— Сынъ мой, съ какимъ намѣреніемъ совершилъ ты столько преступленій?
Разбойникъ захохоталъ.
— Клянусь честью, почтенный епископъ, не съ тѣмъ, чтобы разбогатѣть, какъ твой собратъ епископъ Борглумскій [24]. Не знаю, но что то тянуло меня къ преступленію.
— Богъ не всегда присутствуетъ въ служителяхъ своихъ, — отвѣтилъ смиренно благочестивый старецъ: — Ты хочешь оскорбить меня, я же хочу тебя защитить.
— Напрасно тратить время. Это скажетъ тебѣ твой другой собратъ, Скальготскій епископъ въ Исландіи. Странное дѣло, клянусь Ингольфомъ, два епископа заботились обо мнѣ, одинъ при моемъ рожденіи, другой при казни… Епископъ, ты выжилъ изъ ума.
Огорченный до глубины души епископъ опустился въ кресло.
— Ну, судьи, — продолжалъ Ганъ Исландецъ: — чего же вы ждете? Если бы я былъ на вашемъ мѣстѣ, а вы на моемъ, я не заставилъ бы васъ такъ долго ждать смертнаго приговора.
Судъ вышелъ изъ залы и послѣ короткаго совѣщанія, предсѣдатель прочелъ громко приговоръ, присуждавшій Гана Исландца къ повѣшенію.
— Вотъ такъ то лучше, — сказалъ разбойникъ: — канцлеръ Алефельдъ, а знаю, что за тобой водится не мало грѣшковъ, которые заслуживаютъ не меньшей кары. Но живи себѣ на здоровье, такъ какъ ты вредишь людямъ. Ну, теперь я увѣренъ, что не попаду въ Нистгимъ [25].
Секретарь приказалъ стражѣ заключить Гана въ башню Шлезвигскаго Льва, пока приготовятъ для него тюрьму въ казармахъ Мункгольмскихъ стрѣлковъ.
— Въ казармахъ Мункгольмскихъ стрѣлковъ! — радостно проворчало чудовище.
XLVI
Между тѣмъ до разсвѣта въ самый часъ, когда въ Мункгольмѣ Орденеръ выслушивалъ свой смертный приговоръ, новый смотритель Дронтгеймскаго Спладгеста, бывшій помощникъ Бенигнуса Спіагудри, Оглипиглапъ былъ разбуженъ сильными ударами, потрясавшими входную дверь зданія. Онъ поднялся нехотя, щуря заспанные глаза, взялъ мѣдный ночникъ и, проклиная сырость мертвецкой, пошелъ впустить столь ранняго посѣтителя.
Это были рыбаки Спарбскаго озера, принесшіе на носилкахъ, покрытыхъ тростникомъ и морскими водорослями, трупъ, найденный ими въ водахъ озера. Они внесли свою ношу во внутрь мрачнаго зданія и Оглипиглапъ выдалъ имъ росписку въ принятіи тѣла, по которой они могли требовать вознагражденія.
Оставшись одинъ въ Спладгестѣ, Оглипиглапъ принялся раздѣвать трупъ, замѣчательно длинный и сухой. Первое, что кинулось ему въ глаза, когда онъ распахнулъ покровъ мертвеца, былъ громадныхъ размѣровъ парикъ.
— Вотъ по истинѣ странной формы парикъ, который не разъ уже попадается мнѣ въ руки, — думалъ онъ: — Я видѣлъ его на какомъ то щеголѣ французѣ… Да вотъ и ботфорты несчастнаго почталіона Крамнера, раздавленнаго лошадьми, и… что за чортъ?.. полный черный костюмъ профессора Сингремтакса, стараго ученаго, который не такъ давно бросился въ воду. Кто же это явился ко мнѣ въ нарядѣ моихъ бывшихъ знакомцевъ.
Онъ освѣтилъ лицо мертвеца, но безполезно; черты, сильно обезображенныя, утратили форму и цвѣтъ. Онъ обшарилъ карманы платья и вытащилъ нѣсколько старыхъ бумагъ, пропитанныхъ водою и загрязненныхъ тиной. Хорошенько вытерѣвъ ихъ своимъ кожанымъ передникомъ, онъ прочелъ слѣдующія безсвязныя, полустертыя слова:
«Рудбекъ; Саксонъ Грамматикъ; Арнгримъ епископъ Голумскій — Въ Норвегіи только два графства, Ларвигъ и Ярлсбергъ, и одно баронство… — Серебряные рудники только въ Конгсбергѣ; магнитные и азбестовые только въ Сунд-Моерѣ; аметистовые только въ Гульдбрансгалѣ; халцедонные, агатовые и яшмовые только на островахъ Фа-рöрскихъ. — Въ Нукагивѣ, во время голода, мужчины пожираютъ своихъ женъ и дѣтей. — Тормадусъ, Торфеусъ; Ислейфъ, епископъ Скальгольтскій, первый исландскій историкъ. — Меркурій игралъ въ шашки съ луною и выигралъ у нея семьдесятъ вторую часть дня. — Мальстромъ, пучина. — Hirundо, hirudо. — Цицеронъ, горохъ; слава. — Ученый Фродъ. — Одинъ совѣщался съ головой Мимера, мудрый (Магометъ и его голубь, Серторій и его лань). — Чѣмъ почва… тѣмъ менѣе содержитъ она гипса…»
— Не смѣю вѣрить глазамъ! — вскричалъ Оглипиглапъ, выронивъ пергаментъ: — Это почеркъ моего стараго хозяина Бенигнуса Спіагудри!..
Снова осмотрѣвъ трупъ, онъ узналъ его длинныя руки, рѣдкіе волосы и остальныя примѣты несчастнаго.
— Да, — подумалъ онъ, качая головой: — недаромъ обвиняли его въ святотатствѣ и колдовствѣ. Дьяволъ утащилъ его, чтобы утопить въ Спарбскомъ озерѣ… Вотъ превратность человѣческой судьбы! Кто бы могъ подумать, что докторъ Спіагудри, такъ долго принимавшій другихъ въ этой гостинницѣ мертвецовъ, со временемъ самъ найдетъ въ ней убѣжище.
Лапландскій философъ поднялъ тѣло, чтобы положить его на одну изъ шести гранитныхъ плитъ, какъ вдругъ примѣтилъ что-то тяжелое, привязанное ремнемъ къ шеѣ злополучнаго Спіагудри.
— Должно быть камень, — пробормоталъ онъ: — съ которымъ дьяволъ спихнулъ его въ озеро.
Однако онъ ошибся. Это былъ небольшой желѣзный ящикъ, на которомъ Оглипиглапъ, тщательно вытеревъ его, примѣтилъ большую печать съ гербомъ.
— Ну, тутъ кроется какая-то чертовщина, — подумалъ онъ: — этотъ человѣкъ былъ святотатецъ и колдунъ. Надо снести этотъ ящикъ къ епископу, чего добраго тамъ сидитъ самъ дьяволъ.
Уложивъ трупъ въ мертвецкой, онъ отвязалъ отъ него ящикъ и поспѣшно пошелъ въ епископскій дворецъ, бормоча дорогою молитвы и заклинанія противъ своей страшной ноши.
XLVII
Ганъ Исландецъ и Шумахеръ встрѣтились въ одной темницѣ Шлезвигскаго замка. Бывшій канцлеръ, оправданный судомъ, медленными шагами расхаживалъ по комнатѣ, проливая горькія слезы; осужденный разбойникъ, окруженный стражей, хохоталъ въ цѣпяхъ.
Оба узника долго смотрѣли другъ на друга въ молчаніи: можно было сказать, что они узнали другъ въ другѣ враговъ человѣчества.
— Кто ты? — спросилъ наконецъ бывшій канцлеръ разбойника.
— Ты убѣжишь, услышавъ мое имя, — отвѣтилъ тотъ. — Я Ганъ Исландецъ.
Шумахеръ приблизился къ нему.
— Вотъ тебѣ моя рука, — сказалъ онъ.
— Ты хочешь, чтобы я ее съѣлъ?
— Ганъ Исландецъ, — возразилъ Шумахеръ: — я люблю тебя за твою ненависть къ людямъ.
— Вотъ за то-то я и тебя ненавижу.
— Послушай, я подобно тебѣ ненавижу людей, потому что я дѣлалъ имъ добро, а они платили мнѣ зломъ.
— Ну, я не потому ненавижу людей; я ненавижу ихъ за то, что они дѣлали лишь добро, а я платилъ имъ зломъ.
Шумахеръ вздрогнулъ отъ взгляда чудовища. Онъ пытался переломить себя, но душа его не могла симпатизировать разбойнику.
— Да, — вскричалъ онъ: — я презираю людей за то, что они жестоки, неблагодарны, вѣроломны. Имъ обязанъ я всѣми моими несчастіями.
— Тѣмъ лучше! Я, напротивъ, обязанъ имъ всѣмъ своимъ счастіемъ.
— Счастіемъ?
— Счастіемъ ощущать мясо, трепещущее въ моихъ зубахъ, теплоту дымящейся крови въ моемъ пересохшемъ горлѣ; наслажденіемъ разбивать живое существо о выступъ утеса и слышать крикъ жертвы, смѣшанный съ хрустомъ дробимыхъ костей. Вотъ удовольствія, доставляемыя мнѣ людьми.
Шумахеръ съ ужасомъ отступилъ отъ чудовища, къ которому подходилъ почти съ гордостью, что подобенъ ему. Устыдившись, онъ закрылъ лицо руками; глаза его наполнились слезами негодованія не на родъ человѣческій, но на самого себя. Его благородное, великодушное сердце ужаснулось ненависти, которую онъ такъ долго питалъ къ людямъ, когда увидѣлъ ее, какъ въ страшномъ зеркалѣ, въ сердцѣ Гана Исландца.
— Ну, ненавистникъ людей, — смѣясь спросило чудовище: — осмѣлишься ли ты теперь хвастаться, что похожъ на меня?
Старикъ задрожалъ.
— Боже мой! Чѣмъ ненавидѣть ихъ, какъ ты, скорѣе я стану любить ихъ.
Стража увела чудовище въ болѣе надежную тюрьму. Погрузившись въ задумчивость, Шумахеръ остался одинъ въ башнѣ, гдѣ уже не было ни одного врага человѣчества.
XLVIII
Роковой часъ насталъ. Въ Мункгольскомъ замкѣ стража повсюду удвоена, передъ каждой дверью молча и угрюмо прохаживаются часовые. Взволнованный городъ суетливо спѣшитъ къ мрачнымъ башнямъ крѣпости, въ которой царитъ необычайное волненіе. На каждомъ дворѣ слышится погребальный бой барабановъ, затянутыхъ трауромъ. По временамъ изъ нижней башни раздаются пушечные выстрѣлы, тяжелый колоколъ крѣпости медленно раскачивается, издавая тяжелый, протяжный звонъ, а со всѣхъ концовъ гавани спѣшатъ къ страшному утесу лодки, переполненныя народомъ.
На крѣпостной площади, окруженный взводомъ солдатъ, высится обитый трауромъ эшафотъ, къ которому ежеминутно прибываетъ и въ нетерпѣливомъ ожиданіи тѣснится толпа.
На помостѣ эшафота прохаживается палачъ въ красной шерстяной одеждѣ, то опираясь на сѣкиру, которую держитъ въ рукахъ, то переворачивая плаху и плетенку помоста. Невдалекѣ сложенъ костеръ, близъ него пылаютъ нѣсколько смоляныхъ факеловъ. Между эшафотомъ и костромъ вбитъ въ землю колъ съ надписью: Орденеръ Гульденлью измѣнникъ! Съ крѣпостной площади виднѣется развѣвающійся надъ Шлезвигской башней большой черный флагъ.
Въ эту минуту осужденный Орденеръ снова явился передъ трибуналомъ, до сихъ поръ не покидавшемъ залу суда. Не было только епископа, обязанности котораго, какъ защитника, кончились.
Сынъ вице-короля былъ въ черной одеждѣ съ цѣпью ордена Даннеброга на шеѣ. Лицо его блѣдно, но величественно. Онъ былъ одинъ, такъ какъ его повели на казнь изъ темницы, прежде чѣмъ успѣлъ вернуться къ нему священникъ Афанасій Мюндеръ.
Внутренно Орденеръ уже примирился съ своей судьбой. Но все же супругъ Этели не безъ горечи помышлялъ о жизни и быть можетъ для первой брачной ночи хотѣлъ бы избрать не такую мрачную, какъ ночь въ могилѣ. Въ темницѣ онъ молился и мечталъ, теперь стоитъ у предѣла всѣхъ молитвъ и мечтаній. Но твердость и мужество, внушенныя ему Богомъ и любовью, не покидаютъ его ни на минуту.
Толпа, менѣе хладнокровная, чѣмъ осужденный, глядѣла на него съ жаднымъ вниманіемъ. Его высокій санъ, его жестокая участь возбуждали всеобщую зависть и сожалѣніе. Каждый хотѣлъ присутствовать при совершеніи казни, не стараясь выяснить себѣ его вину.
Страшное чувство врождено человѣку, чувство, влекущее его къ зрѣлищу смертной казни, какъ на празднество. Съ ужасающей настойчивостью пытается онъ уловить мысль на измѣнившемся лицѣ приговореннаго къ смерти, какъ бы надѣясь, что въ эту торжественную минуту блеснетъ въ глазахъ несчастнаго какое нибудь откровеніе неба или ада, какъ бы желая увидѣть тѣнь, которую бросаетъ отъ себя крыло смерти, спускающееся на человѣческую голову; какъ бы стремясь уловить, что станется съ человѣкомъ, когда покинетъ его послѣдняя надежда.
Вотъ существо, полное силъ и здоровья, оно движется, дышетъ, живетъ; но пройдетъ минута, и оно перестанетъ двигаться, дышать, жить, окруженное ему подобными существами, изъ которыхъ каждое жалѣетъ его, но ни одно не спасетъ. Вотъ злополучный, умирающій въ цвѣтѣ силъ, подъ гнетомъ могущества естественнаго и силы незримой; вотъ жизнь, которую общество даровать не можетъ, но которую отнимаетъ съ особенною церемоніей, сильно дѣйствующей на воображеніе. Мы всѣ обречены на смерть, не вѣдая, когда пробьетъ нашъ часъ; и несчастливецъ, точно знающій близость конца, возбуждаетъ въ насъ странное и печальное любопытство.
Читатель помнитъ, что Орденеръ приговоренъ былъ еще къ лишенію почестей и орденовъ. Лишь только утихло волненіе, произведенное въ толпѣ его приходомъ, предсѣдатель приказалъ принести гербовникъ обоихъ королевствъ и статутъ ордена Даннеброга.
Затѣмъ, велѣвъ осужденному стать на одно колѣно и пригласивъ присутствовавшихъ хранить почтительное молчаніе, онъ раскрылъ статутъ кавалеровъ ордена Даннеброга и началъ громкимъ и строгимъ голосомъ.
«Мы, Божіею милостію, Христіернъ, король Даніи и Норвегіи, повелитель вандаловъ и готовъ, герцогъ Шлезвигскій, Голштинскій, Штормарійскій и Дитмарскiй, графъ Ольденбургскій и Дельменгурстскій, — возстановивъ по предложенію нашего великаго канцлера, графа Гриффенфельда (предсѣдатель такъ поспѣшно прочелъ это имя, что его едва можно было разслышать), королевскій орденъ Даннеброга, основанный славнымъ предкомъ нашимъ святымъ Вальдемаромъ.
„Принимая во вниманіе, что почетный орденъ этотъ былъ учрежденъ въ память о Даннеброгскомъ знамени, ниспосланномъ небомъ нашему благословенному королевству“,
„Что, слѣдовательно, противно было бы божественному учрежденію этого ордена, если какой либо изъ кавалеровъ его станетъ безнаказанно совершать преступленія противъ чести и святыхъ законовъ церкви и государства“,
„Повелѣваемъ, колѣнопреклоняясь передъ Господомъ, чтобы кавалеръ, вѣроломной измѣной предавшій душу свою демону, былъ послѣ публичнаго позора, навсегда лишенъ почестей нашего королевскаго ордена Даннеброга“.
Президентъ закрылъ книгу.
— Орденеръ Гульденлью, баронъ Торвикъ, кавалеръ ордена Даннеброга, вы признаны виновнымъ въ государственной измѣнѣ, въ преступленіи, за которое вамъ отрубятъ голову, тѣло сожгутъ, а пепелъ развѣютъ по вѣтру… Орденеръ Гульденлью, измѣнникъ, вы недостойны считаться въ числѣ кавалеровъ ордена Даннеброга, приглашаю васъ смириться духомъ, такъ какъ сейчасъ, всенародно, вы будете разжалованы именемъ короля.
Президентъ протянулъ руку къ гербовнику и уже готовился произнести роковой приговоръ надъ Орденеромъ, спокойно и недвижимо стоявшимъ передъ трибуналомъ, какъ вдругъ распахнулась правая боковая дверь залы. Вошелъ церковный привратникъ и объявилъ о прибытіи его преосвященства, епископа Дронтгеймскаго.
Старецъ поспѣшно вошелъ въ залу, поддерживаемый другимъ духовнымъ лицомъ.
— Остановитесь, господинъ предсѣдатель, — вскричалъ онъ съ живостью, какой трудно было ждать при его возрастѣ: — Остановитесь! Благодарю Создателя, я прибылъ какъ разъ вовремя.
Присутствовавшіе удвоили вниманіе, предчувствуя, что случилось что-нибудь важное. Предсѣдатель съ досадой обратился къ епископу:
— Позвольте, Ваше преосвященство, замѣтить, что ваше присутствіе здѣсь теперь безполезно. Трибуналъ приступаетъ къ разжалованію осужденнаго, который затѣмъ подвергнется смертной казни.
— Остерегитесь коснуться того, кто чистъ передъ Господомъ, — сказалъ епископъ: — осужденный невиненъ!
Ничто не можетъ сравниться съ восклицаніемъ изумленія, огласившимъ своды залы, съ которымъ смѣшался испуганный крикъ предсѣдателя и секретаря.
— Да, трепещите, судьи, — продолжалъ епископъ, прежде чѣмъ предсѣдатель успѣлъ вернуть свое хладнокровіе: — трепещите! Вы готовились пролить невинную кровь.
Между тѣмъ какъ предсѣдатель старался преодолѣть свое волненіе, Орденеръ смущенно всталъ на ноги. Благородный юноша опасался, что обнаружился его великодушный обманъ, что нашлись доказательства виновности Шумахера.
— Господинъ епископъ, — сказалъ предсѣдатель: — мнѣ кажется, что въ этомъ дѣлѣ преступленіе, переходя съ головы на голову, стремится избѣгнуть наказанія. Не довѣряйтесь обманчивой вѣроятности. Если Орденеръ Гульденлью невиненъ, кто же тогда виновенъ?
— Сейчасъ узнаете, ваше сіятельство, — отвѣтилъ епископъ.
Затѣмъ, показавъ трибуналу желѣзный ящикъ, который несъ за нимъ служитель, онъ продолжалъ:
— Господа, вы судили, блуждая во мракѣ. Этотъ ящикъ заключаетъ въ себѣ чудный свѣтъ, который разсѣетъ тьму.
Предсѣдатель, секретарь и Орденеръ, казалось, сильно поражены были при видѣ таинственнаго ящика.
Епископъ продолжалъ:
— Выслушайте меня, благородные судьи. Сегодня, когда я возвратился въ свой дворецъ отдохнуть отъ утомленія минувшей ночи и помолиться за осужденныхъ, ко мнѣ принесли этотъ запечатанный желѣзный ящикъ. Мнѣ сказали, что смотритель Спладгеста принесъ его утромъ во дворецъ, чтобы вручить лично мнѣ, утверждая, что въ немъ безъ сомнѣнія заключается какая то сатанинская тайна. Онъ найденъ былъ на тѣлѣ святотатца Бенигнуса Спіагудри, трупъ котораго вытащили изъ Спарбскаго озера.
Орденеръ удвоилъ вниманіе. Присутствовавшіе въ залѣ хранили благоговѣйное молчаніе. Предсѣдатель и секретарь какъ преступники потупили головы. Можно было сказать, что оба они лишились свойственной имъ наглости и коварства. Въ жизни злодѣя бываютъ минуты, когда онъ теряетъ всякое присутствіе духа.
— Благословивъ этотъ ящикъ, — продолжалъ епископъ: — я вскрылъ печать, на которой, какъ и теперь еще видно, изображенъ древній уничтоженный гербъ Гриффенфельда. Я дѣйствительно нашелъ въ немъ сатанинскую тайну. Судите сами, господа, выслушавъ меня съ полнымъ вниманіемъ. Дѣло идетъ о человѣческой крови, за каждую каплю которой взыщетъ Господь.
Затѣмъ, открывъ таинственный ящикъ, онъ вынулъ изъ него пергаментъ, на которомъ была слѣдующая надпись: „Я, докторъ Блакстамъ Кумбизульсумъ, передъ смертью завѣщаю передать капитану Диспольсену, повѣренному въ Копенгагенѣ бывшаго графа Гриффенфельда, этотъ пергаментъ, писанный весь рукою Туріафа Мусдемона, служителя канцлера графа Алефельда съ тѣмъ, чтобы вышеупомянутый капитанъ воспользовался имъ по своему благоусмотрѣнію. Молю Бога отпустить мнѣ мои прегрѣшенія. — Копенгагенъ, одиннадцатаго января, тысяча шестьсотъ девяносто девятаго года.
„Кумбизульсумъ“.
Конвульсивная дрожь пробѣжала по членамъ секретаря.
Онъ хотѣлъ говорить, но не могъ вымолвить ни слова. Между тѣмъ епископъ передалъ пергаментъ блѣдному и взволнованному предсѣдателю.
— Что я вижу? — вскричалъ тотъ, развертывая пергаментъ: — Докладъ благородному графу Алефельду о средствѣ законнымъ путемъ избавиться отъ Шумахера!.. Клянусь вамъ, почтенный епископъ…
Пергаментъ выпалъ изъ рукъ предсѣдателя.
— Читайте, читайте, милостивый государь, — продолжалъ епископъ: — я не сомнѣваюсь, что вашъ недостойный служитель воспользовался вашимъ именемъ, подобно тому какъ онъ злоупотребилъ именемъ злополучнаго Шумахера. Посмотрите однако, что надѣлала ваша немилосердная ненависть къ павшему предмѣстнику. Одинъ изъ вашихъ приближенныхъ отъ вашего имени готовилъ ему гибель, въ надеждѣ безъ сомнѣнія выслужиться у вашего сіятельства.
Эти слова успокоили предсѣдателя, показавъ ему, что подозрѣнiя епископа, знавшаго тайну желѣзнаго ящика, пали не на него. Орденеръ тоже съ облегченіемъ перевелъ духъ. Онъ понялъ, что невинность отца Этели обнаружится вмѣстѣ съ его собственной. Онъ глубоко изумлялся странной судьбѣ, которая заставила его преслѣдовать страшнаго разбойника, чтобы отыскать тотъ ящикъ, который несъ съ собой его старый проводникъ Бенигнусъ Спіагудри. Онъ искалъ его, между тѣмъ ящикъ слѣдовалъ за нимъ. Онъ задумался надъ страшнымъ урокомъ случая, который чуть было не погубилъ его за этотъ ящикъ, а теперь имъ же спасаетъ.
Предсѣдатель, вернувъ къ себѣ самообладаніе и выказывая негодованіе, раздѣляемое всѣми присутствовавшими, сталъ читать длинную записку, гдѣ Мусдемонъ излагалъ подробности сатанинскаго замысла, который и выполнилъ, какъ извѣстно читателю этой повѣсти. Нѣсколько разъ секретарь пытался оправдываться, но каждый разъ крики присутствовавшихъ въ засѣданіи принуждали его умолкнуть. Наконецъ чтеніе кончилось среди общаго ропота ужаса и негодованія.
— Стража, схватите этого человѣка! — сказалъ предсѣдатель, указывая на секретаря.
Презрѣнный, не сопротивляясь, безмолвно сошелъ съ своего мѣста и пересѣлъ на позорную скамью, осыпаемый проклятіями народа.
— Судьи, — сказалъ епископъ: — трепещите и радуйтесь. Истина, обнаруженная передъ вами, подтвердится сейчасъ показаніемъ тюремнаго духовника, нашего достойнаго брата Афанасія Мюндера.
Дѣйствительно, епископъ явился въ сопровожденіи Афанасія Мюндера, который, поклонившись своему пастырю и трибуналу, по знаку предсѣдателя началъ:
— То, что я скажу, сущая правда. Да накажетъ меня Господь, если произнесу хоть одно слово не съ добрымъ намѣреніемъ! Посѣтивъ сегодня утромъ въ темницѣ сына вице-короля, я уже былъ убѣжденъ въ невинности этого юноши, хотя вы и осудили его, основываясь на его признаніи. Но вотъ, нѣсколько часовъ тому назадъ я позванъ былъ подать послѣднее утѣшеніе несчастному горцу, такъ безжалостно пораженному на вашихъ глазахъ и котораго вы, уважаемые судьи, осудили на смерть, видя въ немъ Гана Исландца. Вотъ что онъ открылъ мнѣ на смертномъ одрѣ: „Я не Ганъ Исландецъ и жестоко наказанъ за свое самозванство. Принять на себя это имя подкупилъ меня секретарь великаго канцлера, по имени Мусдемон, который назвавшись Гаккетомъ, подготовилъ бунтъ рудокоповъ. Мнѣ кажется, онъ одинъ виноватъ во всемъ этомъ дѣлѣ“. Затѣмъ, получивъ мое благословеніе, онъ просилъ меня, не теряя времени, сообщить трибуналу его предсмертное признаніе. Богъ мнѣ свидѣтель, что я въ точности выполнилъ его просьбу, и да поможетъ мнѣ спасти невинную кровь.
Священникъ замолчалъ, снова поклонившись епископу и судьямъ.
— Ваше сіятельство, — сказалъ епископъ, обращаясь къ предсѣдателю: — вы видите теперь, что не ложно одинъ изъ моихъ кліентовъ указывалъ на сходство Гаккета съ вашимъ секретаремъ.
— Туріафъ Мусдемонъ, — спросилъ предсѣдатель новаго подсудимаго: — что можете вы сказать въ свое оправданіе?
Мусдемонъ устремилъ на своего господина взгдядъ, оледенившій кровь въ жилахъ Алефельда. Прежняя самоувѣренность вернулась къ нему и послѣ минутнаго молчанія онъ отвѣчалъ:
— Ничего, ваше сіятельство.
Предсѣдатель продолжалъ измѣнившимся, слабымъ голосомъ:
— И такъ, вы сознаетесь въ преступленіи, взводимомъ на васъ? Признаете себя виновникомъ заговора противъ государства и противъ Шумахера?
— Да, ваше сіятельство, — отвѣтилъ Мусдемонъ.
Епископъ всталъ:
— Господинъ предсѣдатель, чтобы не осталось никакого сомнѣнія въ этомъ дѣлѣ, прошу васъ спросить, не имѣлъ ли подсудимый сообщниковъ.
— Сообщниковъ! — повторилъ Мусдемонъ.
Одну минуту онъ повидимому находился въ нерѣшимости. Страшное безпокойство изобразилось на лицѣ предсѣдателя.
— Нѣтъ, господинъ епископъ, — отвѣтилъ онъ наконецъ.
Признательный взглядъ предсѣдателя встрѣтился съ его взглядомъ.
— Нѣтъ, — повторилъ Мусдемонъ съ большей твердостью: — у меня не было соучастниковъ. Изъ привязанности къ моему господину, который ничего не зналъ о моихъ планахъ, я устроилъ заговоръ, чтобы погубить его врага Шумахера.
Взгляды предсѣдателя и подсудимаго встрѣтились снова.
— Ваше сіятельство, — продолжалъ епископъ: — такъ какъ у Мусдемона не было сообщниковъ, вы должны признать невинность барона Орденера Гульденлью.
— Да, уважаемый епископъ, но зачѣмъ же онъ самъ назвалъ себя преступникомъ?
— Но, господинъ предсѣдатель, вѣдь и горецъ, не жалѣя своей головы, утверждалъ, что онъ Ганъ Исландецъ. Одинъ Богъ вѣдаетъ, что творится въ глубинѣ человѣческаго сердца.
Орденеръ вмѣшался.
— Господа судьи, такъ какъ теперь найденъ истинный виновникъ, я могу открыть вамъ мою тайну. Да, я ложно взвелъ на себя преступленіе, чтобы спасти бывшаго канцлера Шумахера, смерть котораго оставляла беззащитной его дочь.
Предсѣдатель закусилъ губы.
— Мы требуемъ отъ трибунала, — сказалъ епископъ: — чтобы имъ провозглашена была невинность нашего кліента Орденера.
Предсѣдатель отвѣчалъ знакомъ согласія, и по требованію главнаго синдика, судъ разсмотрѣлъ содержимое таинственнаго ящика, въ которомъ находились только дипломы и грамоты Шумахера съ нѣсколькими письмами Мункгольмскаго узника къ капитану Диспольсену, письмами, исполненными горечи, но не преступными, и которыя непріятны были одному лишь канцлеру Алефельду.
Въ то время какъ любопытная толпа тѣснилась на крѣпостной площади, нетерпѣливо ожидая казни сына вице-короля, а палачъ беззаботно прохаживался по помосту эшафота, судъ вышелъ изъ залы и послѣ короткаго совѣщанія, предсѣдатель едва слышнымъ голосомъ прочелъ приговоръ, осуждавшій на смерть Туріафа Мусдемона и возстановлявшій Орденера Гульденлью въ его прежнихъ правахъ и отличіяхъ.
XLIX
Остатки полка Мункгольмскихъ стрѣлковъ размѣстились въ старой казармѣ, уединенно расположенной на обширномъ четырехугольномъ дворѣ внутри крѣпости. Съ наступленіемъ ночи всѣ двери этого зданія по обычаю были заперты, въ немъ собрались всѣ солдаты за исключеніемъ часовыхъ, разставленныхъ на башняхъ, и караула у военной тюрьмы, примыкавшей къ казармѣ. Въ этой тюрьмѣ самой надежной и наиболѣе охраняемой изъ всѣхъ тюремъ Мункгольмскаго замка, находились двое осужденныхъ, которыхъ утромъ ждала висѣлица, — Ганъ Исландецъ и Мусдемонъ.
Ганъ Исландецъ былъ одинъ въ своей темницѣ. Онъ лежалъ на землѣ, въ оковахъ, положивъ голову на камень. Слабый свѣтъ проникалъ сюда сквозь четырехугольное рѣшетчатое отверстіе толстой дубовой двери, отдѣлявшей тюремную келью отъ сосѣдней комнаты, откуда несся хохотъ и ругательства сторожей, звонъ опорожниваемыхъ бутылокъ и стукъ костей, бросаемыхъ на барабанъ.
Чудовище молча ворочалось въ темнотѣ, то сжимая кулаки, то корча ноги и кусая желѣзныя оковы.
Вдругъ онъ позвалъ сторожа, который не замедлилъ появиться у рѣшетчатаго окошка двери.
— Что тебѣ нужно? — спросилъ онъ разбойника.
Ганъ Исландецъ поднялся на ноги.
— Я прозябъ, товарищъ. Лисѣ жестко и сыро на камняхъ; дай-ка сюда охапку соломы и огня, чтобы погрѣться.
— Изволь, отвѣтилъ сторожъ: — отчего не сдѣлать маленькаго одолженія бѣднягѣ, котораго завтра повѣсятъ, будь онъ самимъ исландскимъ демономъ. Я исполню твою просьбу… Есть у тебя деньги?
— Нѣтъ.
— Нѣтъ! У тебя, знаменитѣйшаго вора во всей Норвегіи, нѣть въ карманѣ какого нибудь несчастнаго дуката?
— Нѣтъ.
— Какихъ нибудь мелкихъ королевскихъ экю?
— Нѣтъ, говорю тебѣ!
— Даже аскалона?
— Ровно ничего. Даже не на что купить крысьей шкуры или человѣческой души.
Сторожъ покачалъ головой.
— Ну, это дѣло другое. Ты напрасно жалуешься, въ твоей тюрьмѣ не такъ холодно какъ тамъ, гдѣ ты уснешь завтра, не обращая вниманія на жесткую постель.
Съ этими словами сторожъ отошелъ, выругавъ чудовище, которое снова загремѣло цѣпями, кольца которыхъ звенѣли, какъ бы медленно ломаясь отъ порывистыхъ движеній.
Дубовая дверь отворилась. Вошелъ рослый малый въ красной саржевой рубашкѣ съ потайнымъ фонаремъ въ рукахъ въ сопровожденіи сторожа. Узникъ тотчасъ же притихъ.
— Ганъ Исландецъ, — сказалъ прибывшій: — я Николь Оругиксъ, палачъ Дронтгеймскаго округа. Завтра, на разсвѣтѣ, я буду имѣть честь повѣсить твою милость за шею на прекрасной новой висѣлицѣ, сооруженной уже на Дронтгеймской площади.
— Ты въ этомъ вполнѣ увѣренъ? — спросилъ разбойникъ.
Палачъ захохоталъ.
— Хотѣлось бы мнѣ, чтобы ты также прямо попалъ на небо по лѣстницѣ Іакова, какъ завтра попадешь на висѣлицу по лѣстницѣ Николя Оругикса.
— Такъ ли? — спросило чудовище съ зловѣщимъ взглядомъ.
— Повторяю тебѣ, что я палачъ здѣшняго округа.
— Не будь я Ганомъ Исландцемъ, мнѣ хотѣлось бы быть на твоемъ мѣстѣ, - замѣтилъ разбойникъ.
— Ну, я этого не скажу, — возразилъ палачъ и потирая руки, продолжалъ съ тщеславнымъ видомъ: — Ты, однако, правъ, дружище, наше дѣло завидное. Да!.. Рука моя знаетъ вѣсъ человѣческой головы.
— А пивалъ ли ты человѣческую кровь? — спросилъ разбойникъ.
— Нѣтъ; но за то часто пыталъ людей.
— А выѣдалъ ли ты когда нибудь внутренность еще живого младенца?
— Нѣтъ, но за то ломалъ кости въ желѣзныхъ тискахъ дыбы: навертывалъ члены на спицы колеса; стальной пилой распиливалъ черепа, содравъ съ нихъ кожу; раскаливъ щипцы до красна на огнѣ, жегъ ими трепещущее тѣло; сжигалъ кровь въ жилахъ, вливая въ нихъ растопленный свинецъ и кипящее масло.
— Да, — сказалъ задумчиво разбойникъ: — у тебя тоже есть свои удовольствія.
— Еще бы, — продолжалъ палачъ, — хоть ты и Ганъ Исландецъ, а все же я больше спровадилъ на тотъ свѣтѣ человѣческихъ душъ, не считая той, съ который ты завтра простишься.
— Если только она есть у меня… Дронтгеймскій палачъ, неужели ты дѣйствительно убѣжденъ, что можешь выпустить изъ тѣла Гана Исландца духъ Ингольфа, прежде чѣмъ онъ вышебетъ твой?
Палачъ захохоталъ.
— А вотъ завтра посмотримъ!
— Посмотримъ! — повторилъ разбойникъ.
— Ну, — продолжалъ палачъ: — я пришелъ сюда не затѣмъ чтобъ толковать о твоей душѣ, мнѣ важнѣе твое тѣло. Послушай-ка!.. Послѣ смерти твой трупъ принадлежитъ мнѣ по праву, но законъ не лишаетъ тебя возможности заранѣе продать его мнѣ. Скажи-ка, что ты за него хочешь?
— Что я хочу за мой трупъ? — переспросилъ разбойникъ.
— Да, только чуръ не запрашивать.
Ганъ Исландецъ обратился къ сторожу.
— Скажи, товарищъ, что ты возьмешь за охапку соломы и огонь?
Сторожъ на минуту задумался.
— Два золотыхъ дуката, — отвѣтилъ онъ.
— Ну вотъ, — сказалъ разбойникъ палачу: — ты дашь мнѣ два дуката за трупъ.
— Два золотыхъ дуката! — вскричалъ палачъ: — Это дорогонько. Два золотыхъ дуката за дрянной трупъ! Нѣтъ, мы не сойдемся.
— Ну такъ не получишь трупа, — спокойно возразилъ чудовище.
— Ты попадешь на живодерню вмѣсто того, чтобы украсить собой королевскій музей въ Копенгагенѣ или кабинетъ рѣдкостей въ Бергенѣ.
— Что мнѣ за дѣло?
— А то, что послѣ твоей смерти народъ будетъ толпиться передъ твоимъ скелетомъ, говоря: вотъ останки знаменитаго Гана Исландца! Твои кости старательно отполируютъ, сколотятъ мѣдными гвоздиками, поставятъ подъ большой стекляный колпакъ, съ котораго каждый день заботливо станутъ стиратъ пыль. Взамѣнъ этихъ почестей, подумай что ждетъ тебя, если ты не продашь мнѣ своего трупа; ты сгніешь гдѣ нибудь въ живодернѣ, изгложутъ тебя черви или заклюютъ коршуны.
— Такъ что же! Съ живыми вѣдь дѣлаютъ тоже, маленькіе точутъ, а большіе гложутъ.
— Два золотыхъ дуката! — пробормоталъ сквозь зубы палачъ: — Цѣна неслыханная! Если ты не сбавишь, Ганъ Исландецъ, мы не сойдемся.
— Это первая и должно быть послѣдняя продажа въ моей жизни; мнѣ надо хоть на чемъ нибудь выгадать.
— Смотри, какъ бы тебѣ не раскаяться въ своемъ упрямствѣ. Завтра ты будешь въ моей власти.
— Ты думаешь?
Этотъ вопросъ произнесенъ былъ съ особеннымъ выраженіемъ, на которое палачъ, однако, не обратилъ вниманія.
— Да, есть нѣсколько способовъ завязывать мертвую петлю, если ты образумишься, можно будетъ облегчить твою казнь.
— Мнѣ все равно, что ты станешь завтра дѣлать съ моей шеей! — съ усмѣшкой замѣтило чудовище.
— Ну, хочешь получить два королевскихъ экю? На что тебѣ деньги?
— А вотъ потолкуй съ своимъ товарищемъ, — сказалъ разбойникъ, указывая на сторожа: — онъ проситъ съ меня два золотыхъ дуката за охапку соломы и огонь.
— Ты продаешь охапку соломы и огонь на вѣсъ золота! — укоризненно замѣтилъ палачъ сторожу: — Да гдѣ у тебя совѣсть! запрашивать два дуката!
Сторожъ возразилъ съ досадой:
— Будь доволенъ, что я не запросилъ четырехъ!.. Ты самъ, Николь, торгуешься какъ жидъ, отказывая несчастному узнику въ какихъ нибудь двухъ дукатахъ за трупъ, который перепродашь какому либо ученому или доктору по меньшей мѣрѣ за двадцать.
— Я никогда не платилъ за трупъ болѣе пятнадцати аскалоновъ, — сказалъ палачъ.
— Да, за трупъ воришки или презрѣннаго жида, это возможно, — замѣтилъ сторожъ: — но кому неизвѣстна цѣнность тѣла Гана Исландца.
Ганъ Исландецъ покачалъ головой.
— Не суйся не въ свое дѣло, — раздражительно вскричалъ Оругиксъ: — развѣ я мѣшаю тебѣ грабить и красть у заключенныхъ одежду, драгоцѣнности, подливать соленную воду въ ихъ жидкую похлебку, всякими притѣсненіями выманивать у нихъ деньги? Нѣтъ! Я не дамъ двухъ золотыхъ дукатовъ.
— А я не возьму менѣе двухъ дукатовъ за охапку соломы и огонь, — упрямился сторожъ.
— А я не продамъ трупа менѣе двухъ дукатовъ, — невозмутимо замѣтилъ разбойникъ.
Послѣ минутнаго молчанія палачъ топнулъ ногой.
— Ну, мнѣ некогда терять съ вами время.
Вытащивъ изъ кармана кожанный кошель, онъ медленно и какъ бы нехотя открылъ его.
— На, проклятый демонъ исландскій, получай твои два дуката. Право, самъ сатана не далъ бы за твою душу столько, сколько я даю тебѣ за тѣло.
Разбойникъ взялъ двѣ золотыя монеты и сторожъ поспѣшилъ протянуть къ нимъ руку.
— Постой, товарищъ, принеси-ка сперва, что я у тебя просилъ.
Сторожъ вышелъ и, минуту спустя, вернулся съ вязкой свѣжей соломы и жаровней, полной раскаленныхъ угольевъ, которыя положилъ подлѣ осужденнаго на полъ.
— Ну вотъ, я погрѣюсь ночью, — сказалъ разбойникъ, вручая сторожу золотые дукаты. — Постой на минуту, — добавилъ онъ зловѣщимъ голосомъ: эта тюрьма, кажется, примыкаетъ къ казармѣ мункгольмскихъ стрѣлковъ?
— Примыкаетъ.
— А откуда вѣтеръ?
— Кажется съ востока.
— Тѣмъ лучше, — замѣтилъ разбойникъ.
— А что? — спросилъ сторожъ.
— Да ничего, — отвѣтилъ разбойникъ.
— Ну прощай, товарищъ, до завтра.
— Да, до завтра, — повторилъ разбойникъ.
При стукѣ тяжелой двери, ни сторожъ, ни палачъ не слыхали дикаго торжествующаго хохота, которымъ разразилось чудовище по ихъ уходѣ.
L
Заглянемъ теперь въ другую келью военной тюрьмы, примыкавшей къ стрѣлковой казармѣ, куда заключенъ былъ нашъ старый знакомецъ Туріафъ Мусдемонъ.
Быть можетъ читатель изумился, узнавъ, что этотъ столь хитрый и вѣроломный негодяй такъ искренно сознался въ своемъ преступномъ умыслѣ трибуналу, который осудилъ его и такъ великодушно скрылъ сообщничество своего неблагодарнаго патрона, канцлера Алефельда. Но пусть успокоятся: Мусдемонъ не измѣнилъ себѣ. Эта великодушная искренность служитъ, быть можетъ, самымъ краснорѣчивымъ доказательствомъ его коварства.
Увидѣвъ, что его адскія козни разоблачены и окончательно разрушены, онъ на минуту смутился и оробѣлъ. Но когда прошла первая минута волненія, онъ тотчасъ же сообразилъ, что если ужъ нельзя погубить намѣченныхъ имъ жертвъ, надо позаботиться о личной безопасности. Два средства къ спасенію были готовы къ его услугамъ: свалить все на графа Алефельда, такъ низко измѣнившаго ему, или взять все преступленіе на себя.
Заурядный умъ остановился бы на первомъ средствѣ, Мусдемонъ выбралъ второе. Канцлеръ оставался канцлеромъ, и къ тому же ничто прямо не компрометировало его въ бумагахъ, обвинявшихъ его секретаря; затѣмъ онъ успѣлъ обмѣняться нѣсколькими значительными взорами съ Мусдемономъ и тотъ, не задумываясь, принялъ всю вину на себя, увѣренный, что графъ Алефельдъ выручитъ его изъ бѣды, въ благодарность за бывшія услуги и нуждаясь въ будущихъ.
Мусдемонъ спокойно прохаживался по своей темницѣ, едва освѣщаемой тусклымъ ночникомъ, не сомнѣваясь, что ночью дверь тюрьмы будетъ открыта для его бѣгства. Онъ осматривалъ стены старой каменной тюрьмы, выстроенной еще древними королями, имена которыхъ не сохранила даже исторія, и изумлялся только деревянному полу ея, звучно отражавшему шаги. Полъ какъ будто закрывалъ собой подземную пещеру.
Онъ примѣтилъ также большое желѣзное кольцо, ввинченное въ стрѣльчатый сводъ. Къ нему привязанъ былъ обрывокъ старой веревки.
Время шло. Мусдемонъ нетерпѣливо прислушивался къ медленному бою крѣпостныхъ часовъ, мрачно звучавшему среди ночной тишины.
Наконецъ, шумъ шаговъ послышался за дверьми тюремной кельи. Сердце Мусдомона радостно забилось отъ надежды. Огромный ключъ заскрипѣлъ, замокъ зашатался, цѣпи упали и дверь отворилась.
Вошелъ человѣкъ въ красной одеждѣ, котораго мы только что видали въ тюрьмѣ у Гана. Въ рукахъ у него былъ свертокъ веревокъ. Слѣдомъ за нимъ вошло четверо алебардщиковъ, въ черныхъ камзолахъ, со шпагами и бердышами.
Мусдемонъ былъ еще въ судейскомъ костюмѣ и парикѣ, и при видѣ его палачъ поклонился съ невольнымъ почтеніемъ.
— Извините, сударь, — спросилъ онъ узника какъ бы нерѣшительно: — съ вашей ли милостью намъ придется имѣть дѣло?
— Да, да, со мной, — поспѣшно отвѣтилъ Мусдемонъ, еще болѣе обнадеженный такимъ вѣжливымъ обращеніемъ и не примѣчая кроваваго цвѣта одежды палача.
— Васъ зовутъ Туріафъ Мусдемонъ? — продолжалъ палачъ, устремивъ взоръ на развернутый пергаментъ.
— Да, да. Вы пришли, друзья мои, отъ великаго канцлера?
— Отъ него, сударь.
— Не забудьте же, по выполненіи возложеннаго на васъ порученія, засвидѣтельствовать его сіятельству мою искреннюю признательность.
Палачъ взглянулъ на него съ удивленіемъ.
— Вашу… признательность!..
— Ну да, друзья мои, такъ какъ по всей вѣроятности мнѣ самому нельзя будетъ въ скоромъ времени лично поблагодарить графа.
— Еще бы, — иронически согласился палачъ.
— А вы сами понимаете, — продолжалъ Мусдемонъ: — что я не могу быть неблагодарнымъ за такую услугу.
— Чортъ побери, — вскричалъ палачъ съ грубымъ хохотомъ: — слушая васъ, можно подумать, что канцлеръ оказываетъ вамъ Богъ вѣсть какое одолженіе.
— Это вѣрно, что въ этомъ отношеніи онъ отдаетъ мнѣ лишь строгую справедливость!..
— Положимъ, строгую!.. Но вы сами сознались — справедливость. Въ двадцать шесть лѣтъ моей службы въ первый разъ приходится мнѣ слышать подобное признаніе. Ну, сударь, не станемъ терять время попусту. Готовы вы?
— Готовъ, готовъ, — радостно заговорилъ Мусдемонъ, направляясь къ двери.
— Постойте, постой на минутку, — закричалъ палачъ, кидая на полъ пукъ веревокъ.
Мусдемонъ остановился.
— Зачѣмъ столько веревокъ?
Дѣйствительно ни къ чему, да дѣло то въ томъ, что при началѣ процесса я полагалъ, что осужденныхъ то будетъ больше.
Съ этими словами онъ принялся разматывать связку веревокъ.
— Ну, скорѣе, скорѣе, — торопилъ Мусдемонъ.
— Вы, сударь, слишкомъ спѣшите… Развѣ вамъ нетребуется никакихъ приготовленій?
— Какія тамъ приготовленія, я ужѣ васъ просилъ поблагодарить за меня его сіятельство… ради Бога, поспѣшите, — продолжалъ Мусдемонъ: — мнѣ хочется выйти отсюда поскорѣе. Далекъ ли нашъ путь?
— Путь? — переспросилъ палачъ, выпрямляясь и отмѣривая нѣсколько саженей веревки: — путь не далекъ, сударь, и не утомителенъ. Мы все кончимъ, не дѣлая шагу отсюда.
Мусдемонъ вздрогнулъ.
— Я васъ не понимаю.
— Я васъ тоже, — отвѣтилъ палачъ.
— Боже! — вскричалъ Мусдемонъ, поблѣднѣвъ какъ мертвецъ: — Кто вы такой?
— Я палачъ.
Несчастный затрясся, какъ сухой листъ, колеблемый вѣтромъ.
— Да вѣдь вы пришли меня выпустить? — пробормоталъ онъ коснѣющимъ языкомъ.
Палачъ разразился хохотомъ.
— Это правда, выпустить васъ на тотъ свѣтъ, а тамъ, смѣю увѣрить, никто васъ не словитъ.
Мусдемонъ кинулся къ ногамъ палача.
— Сжальтесь! Пощадите меня!..
— Чортъ побери, — холодно сказалъ палачъ: — въ первый еще разъ обращаются ко мнѣ съ такой просьбой. Вы можетъ быть принимаете меня за короля?
Несчастный, за минуту предъ тѣмъ столь радостный и веселый, ползалъ теперь на колѣняхъ, пачкая въ пыли свое платье, бился головой о полъ и съ глухими стонами и мольбами обнималъ ноги палача.
— Ну, довольно, — остановилъ его палачъ: — никогда не видалъ я, чтобы судья такъ унижался передъ палачомъ.
Онъ ногою оттолкнулъ несчастнаго.
— Моли Бога и святыхъ, товарищ. Они скорѣе услышатъ тебя.
Мусдемонъ все стоялъ на колѣняхъ и, закрывъ лицо руками, горько плакалъ.
Между тѣмь палачъ, поднявшись на цыпочки, продѣлъ веревку въ кольцо свода, вытянулъ ее до пола, снова продѣлъ въ кольцо и завязалъ петлю на концѣ.
— Ну, я готовъ, — сказалъ онъ осужденному, окончивъ свои приготовленія: — а ты распростился ли съ жизнью?
— Нѣтъ, — вскричалъ Мусдемонъ, поднимаясь съ полу, — это невозможно! Тутъ должна быть ужасная ошибка. Не можетъ быть, чтобы канцлеръ Алефельдъ оказался такимъ подлецомъ… Я нуженъ ему… Не можетъ быть, чтобы васъ послали ко мнѣ. Выпустите меня, бойтесь навлечь на себя гнѣвъ канцлера…
— Да развѣ ты самъ не назвалъ себя Туріафомъ Мусдемономъ, — возразилъ палачъ.
Узникъ молчалъ нѣсколько мгновеній.
— Нѣтъ, — вдругъ вскричалъ онъ: — я не Мусдемонъ, меня зовутъ Туріафъ Оругиксъ.
— Оругиксъ! — вскричалъ палачъ: — Оругиксъ!
Поспѣшно сорвалъ онъ парикъ, скрывавшій черты лица осужденнаго, вскрикнулъ отъ изумленія:
— Братъ мой!
— Твой братъ! — изумился Мусдемонъ съ стыдомъ и радостью. — Такъ ты?..
— Николь Оругиксъ, палачъ Дронтгеймскаго округа, къ твоимъ услугамъ, братецъ Туріафъ.
Осужденный кинулся на шею къ палачу, называя его своимъ дорогимъ, милымъ братцемъ; но эта братская встрѣча не растрогала бы свидѣтеля. Туріафъ ластился къ Николю съ притворной боязливой радостью, но Николь глядѣлъ на него съ мрачнымъ смущеніемъ. Можно было сказать, что тигръ ласкается къ слону, придавившему ногой его брюхо.
— Какое счастіе, братецъ Николь!.. Какъ я радъ, что встрѣтился съ тобою!
— Ну, а я такъ не радъ за тебя, Туріафъ.
Осужденный, дѣлая видъ, будто не слышалъ его словъ продожалъ дрожащимъ голосомъ:
— Безъ сомнѣнія, у тебя есть жена, дѣтки? Позволь мнѣ обнять мою дорогую невѣстку, моихъ милыхъ племянничковъ.
— Толкуй! — пробормоталъ палачъ.
— Я буду имъ вторымъ отцомъ… Послушай, братецъ, вѣдь я въ силѣ, въ милости…
Братецъ отвѣтилъ зловѣщимъ тономъ:
— Да, былъ когда то!.. А теперь жди милости отъ святыхъ, у которыхъ ты навѣрно выслужился.
Послѣдняя надежда оставила осужденнаго.
— Боже мой, что это значитъ, дорогой Николь? Встрѣтившись съ тобой, я увѣренъ былъ въ своемъ спасеніи. Подумай только: одно чрево выносило насъ, одна грудь вскормила, однѣ игры забавляли насъ въ дѣтствѣ. Вспомни, Николь, ты вѣдь братъ мой!
— До сихъ поръ ты объ этомъ не помнилъ, — возразилъ мрачно Николь.
— Нѣтъ, я не могу умереть отъ рукъ родного брата!..
— Самъ виноватъ, Туріафъ. Ты самъ разстроилъ мою карьеру, помѣшавъ мнѣ сдѣлаться государственнымъ палачемъ въ Копенгагенѣ. Развѣ не ты спровадилъ меня въ это захолустье. Если бы ты не былъ дурнымъ братомъ, ты не жаловался бы на то, что теперь такъ тревожитъ тебя. Меня не было бы въ Дронтгеймѣ и другой палачъ расправился бы съ тобой. Ну, довольно болтовни, братъ, пора умирать.
Смерть ужасна для злодѣя по тому же, почему не страшна для добраго. Оба разстаются со всѣмъ человѣческимъ, но праведность освобождается отъ тѣла, какъ отъ темницы, а злодѣй теряетъ въ немъ крѣпость.
Осужденный катался по полу и ломалъ себѣ руки съ воплями, болѣе раздирающими, чѣмъ скрежетъ зубовный грѣшника.
— Милосердный Боже! Святые ангелы небесные, если вы существуете, сжальтесь надо мною! Николь, дорогой Николь, именемъ нашей матери умоляю тебя, не лишай меня жизни!
Палачъ указалъ ему на пергаментъ.
— Не могу, я долженъ выполнить приказъ.
— Онъ не касается меня, — пробормоталъ съ отчаяніемъ узникъ: — тутъ говорится о Мусдемонѣ, а не обо мнѣ. Я Туріафъ Оругиксъ.
— Полно шутить, — сказалъ Николь, пожимая плечами: — я отлично понимаю, что дѣло идетъ о тебѣ. Впрочемъ, — добавилъ онъ грубо: — вчера ты не призналъ бы своего брата, Туріафъ Оругиксъ, а потому останься для него и на сегодня Туріафомъ Мусдемономъ.
— Братецъ, милый братецъ, — стоналъ несчастный: — ну, подожди хоть до завтра! Не можетъ быть, чтобы великій канцлеръ подписалъ мой смертный приговоръ. Это ужасная ошибка. Графъ Алефельдъ души не чаетъ во мнѣ. Клянусь тебѣ, Николь, не дѣлай мнѣ зла!.. Скоро я снова войду въ милость и тогда вознагражу тебя за услугу…
— Однимъ только ты можешь наградить меня, Туріафъ, перебилъ палачъ: — я уже лишился двухъ казней, на которыя сильно разсчитывалъ; бывшій канцлеръ Шумахеръ и сынъ вице-короля ускользнули изъ моихъ рукъ. Мнѣ рѣшительно не везетъ. Теперь у меня остался Ганъ Исландецъ и ты. Твоя казнь, какъ ночная и тайная, принесетъ мнѣ двѣнадцать золотыхъ дукатовъ. Такъ не противься же, вотъ единственное одолженіе, котораго я жду отъ тебя.
— Боже мой!.. — глухо застоналъ несчастный.
— Правда, это одолженіе будетъ первое и послѣднее, но за то обѣщаю тебѣ, что ты не будешь страдать. Я по братски повѣшу тебя. Ну, по рукамъ что ли?
Мусдемонъ поднялся съ полу. Ноздри его раздувались отъ ярости, пѣна выступила у рта, губы стучали какъ въ лихорадкѣ.
— Сатана!.. Я спасъ Алефельда, обнялъ брата! А они убиваютъ меня! Они задушатъ меня ночью, въ тюрьме, никто не услышитъ моихъ проклятій, голосъ мой не загремитъ надъ нимъ съ одного конца королевства до другаго, рука моя не сорветъ покрывала съ ихъ преступныхъ умысловъ! Вотъ для какой смерти чернилъ я всю свою жизнь!..
— Негодяй! — продолжалъ онъ, обратившись къ брату, — Ты хочешь сдѣлаться братоубійцей.
— Я палачъ, — невозмутимо отвѣтилъ Николь.
— Нѣтъ! — вскричалъ осужденный, бросаясь, очертя голову, на палача.
Глаза его пылали яростью и наполнились слезами какъ у задыхающагося быка.
— Нѣтъ, я не умру такъ! Не для того жилъ я страшной змѣею, чтобы меня растоптали какъ презрѣннаго червя. Я издохну, укусивъ въ послѣдній разъ; но укушу смертельно.
Съ этими словами онъ злобно схватилъ того, котораго только что обнималъ по братски. Льстивость и ласковость Мусдемона обнаружились теперь во всей наготѣ. Онъ освирѣпѣлъ отъ отчаянія, прежде онъ ползалъ какъ тигръ, теперь подобно тигру выпрямился. Трудно было бы рѣшить который изъ братьевъ страшнѣе въ минуту отчаянной борьбы; одинъ боролся съ безсмысленной свирѣпостью дикаго звѣря, другой съ коварнымъ бѣшенствомъ демона.
Но четыре алебардщика, до сихъ поръ безучастно присутствовавшіе при разговорѣ, поспѣшили теперь на выручку къ палачу. Вскорѣ Мусдемонъ, сильный только своей яростью, былъ побѣжденъ и, бросившись на стѣну съ дикими криками, сталъ царапать ногтями камень.
— Умереть! Адскія силы!.. Умереть, и крики мои не пробьютъ этихъ сводовъ, руки не опрокинутъ этихъ стѣнъ!.
Онъ болѣе не сопротивлялся. Безполезныя усилія истощили его. Съ него стащили платье, чтобы связать его, и въ эту минуту запечатанный пакетъ выпалъ изъ его кармана.
— Это что такое? — спросилъ палачъ.
Адская надежда сверкнула въ свирѣпомъ взорѣ осужденнаго.
— Какъ я это забылъ? — пробормоталъ онъ: — Послушай, братъ Николь, прибавилъ онъ почти дружелюбнымъ тономъ: — эти бумаги принадлежатъ великому канцлеру. Обѣщай мнѣ доставить ихъ ему, а затѣмъ дѣлай со мной что хочешь.
— Ну такъ какъ ты угомонился наконецъ, обѣщаю тебѣ исполнить твою послѣднюю просьбу, хотя ты и не по братски поступилъ со мною. Оругиксъ ручается тебѣ, что эти бумаги будутъ вручены канцлеру.
— Постарайся вручить ихъ лично, продолжалъ осужденный, съ усмѣшкой глядя на палача, который отъ природы не понималъ усмѣшекъ: — удовольствіе, которое онѣ доставятъ его сіятельству, быть можетъ сослужитъ тебѣ добрую службу.
— Правда, братъ? — спросилъ Оругиксъ: — Ну спасибо, коли такъ. Чего добраго добьюсь наконецъ диплома королевскаго палача. Разстанемся же добрыми друзьями. Я прощаю тебѣ что ты исцарапалъ меня своими когтями, а ты ужъ извини, если я помну твою шею веревочнымъ ожерельемъ.
— Иное ожерелье сулилъ мнѣ канцлеръ, — пробормоталъ Мусдемонъ.
Алебардщики потащили связаннаго преступника на средину тюрьмы; палачъ накинулъ ему на шею роковую петлю.
— Ну, Туріафъ, готовъ ты?
— Постой, постой, на минутку! — застоналъ осужденный, снова теряя мужество. — Ради Бога, не тяни веревки, пока я не скажу тебѣ.
— Да мнѣ и не надо тянуть веревку, — замѣтилъ палачъ.
Минуту спустя, онъ повторилъ свой вопросъ:
— Ну, готовъ что ли?
— Еще минутку! Ахъ, неужели надо умереть!
— Туріафъ, мнѣ нельзя терять время.
Съ этими словами Оругиксъ приказалъ алебардщикамъ отойти отъ осужденнаго.
— Одно слово, братецъ! Не забудь отдать пакетъ графу Алефельду.
— Будь покоенъ, — отвѣтилъ палачъ и въ третій разъ спросилъ: — ну, готовъ что ли?
Несчастный раскрылъ ротъ, быть можетъ, чтобы умолять еще объ одной минутѣ жизни, но палачъ нетерпѣливо нагнулся и повернулъ мѣдную шишку, выдававшуюся на полу.
Полъ провалился подъ осужденнымъ и несчастный исчезъ въ четыреугольномъ трапѣ при глухомъ скрипѣ веревки, которая крутилась отъ конвульсивныхъ движеній висильника. Роковая петля съ трескомъ вытянулась и изъ отверстія послышался задыхающійся стонъ.
— Ну, теперь кончено, — сказалъ палачъ, вылѣзая изъ трапа: — прощай, братъ!
Онъ вынулъ ножъ изъ за пояса.
— Ступай кормить рыбъ въ заливъ. Пусть твое тѣло будетъ добычей и воды, если душа стала добычей огня.
Съ этими словами онъ разсѣкъ натянутую веревку. Отрѣзокъ, оставшійся въ желѣзномъ кольцѣ, хлестнулъ по своду, между тѣмъ какъ изъ глубины раздался плескъ воды, разступившейся при паденіи тѣла и снова потекшей подъ землею къ заливу.
Палачъ закрылъ трапъ, снова нажавъ шишку, и когда выпрямился, примѣтилъ, что тюрьма полна дыму.
— Что это? — спросилъ онъ алебардщиковъ, — Откуда этотъ дымъ?
Тѣ не знали и, удивившись, поспѣшили отворить дверь тюрьмы. Всѣ коридоры были наполнены густымъ удушливымъ дымомъ; въ испугѣ кинулись они къ потайному ходу и вышли на четыреугольный дворъ, гдѣ ждало ихъ страшное зрѣлище.
Сильный пожаръ, раздуваемый крѣпкимъ восточнымъ вѣтромъ, охватилъ уже военную тюрьму и стрѣлковую казарму. Вихри пламени вились по каменнымъ стѣнамъ, надъ раскаленной кровлей и длинными языками выбивались изъ выгорѣвшихъ оконъ. Черныя башни Мункгольма то краснѣли отъ страшнаго зарева, то исчезали въ густыхъ клубахъ дыма.
Сторожъ бѣжавшій по двору, разсказалъ въ попыхахъ палачу, что пожаръ вспыхнулъ во время сна часовыхъ Гана Исландца, въ кельи чудовища, которому неблагоразумно дали соломы и огня.
— Вотъ несчастіе то, — вскричалъ Оругиксъ: — теперь и Ганъ Исландецъ ускользнулъ отъ меня. Негодяй навѣрно сгоритъ! Не видать мнѣ его тѣла, какъ своихъ двухъ дукатовъ!
Между тѣмъ, злополучные стрѣлки Мункгольмскаго гарнизона, видя близость неминуемой смерти, столпились у главнаго входа, запертаго наглухо на ночь. На дворѣ слышались ихъ жалобные стоны и вопли. Ломая руки высовывались они изъ горящихъ оконъ и кидались на дворъ, избѣгая одной смерти и встрѣчая другую.
Пламя яростно охватило все зданіе, прежде чѣмъ подоспѣли на помощь остатки гарнизона. О спасеніи нечего было и думать. По счастію, строеніе стояло отдѣльно отъ прочихъ зданій; пришлось ограничиться тѣмъ, что прорубили топорами главную дверь, но и то слишкомъ поздно, такъ какъ когда она распахнулась, обуглившаяся крыша рухнула съ страшнымъ трескомъ на несчастныхъ солдатъ, увлекая въ своемъ паденіи прогорѣвшіе полы и потолки. Все зданіе исчезло тогда въ вихрѣ раскаленной пыли и дыма и замерли послѣдніе слабые стоны жертвъ.
Къ утру на дворѣ возвышались лишь четыре высокія стѣны, почернѣлыя и еще теплыя, окружающія страшную груду пожарища, гдѣ еще тлѣлись головни, пожирая другъ друга какъ дикіе звѣри въ циркѣ.
Когда развалины нѣсколько остыли, принялись разрывать ихъ и подъ грудою каменьевъ, бревенъ и скрученныхъ отъ жара скобъ нашли массу побѣлѣвшихъ костей и изуродованныхъ труповъ. Тридцать солдатъ, по большей части искалѣченныхъ, вотъ все, что осталось отъ прекраснаго Мункгольмскаго полка.
Раскапывая развалины тюрьмы, добрались наконецъ до роковой кельи Гана Исландца, откуда начался пожаръ. Тамъ нашли останки человѣческаго тѣла, лежавшаго близъ желѣзной жаровни, на разорванныхъ цѣпяхъ. Примѣтили только, что въ пеплѣ лежало два черепа, хотя трупъ былъ одинъ.
LI
Блѣдный и взволнованный графъ Алефельдъ большими шагами расхаживалъ по своему кабинету, мялъ въ рукахъ пакетъ съ письмами, которыя только что прочелъ, и топалъ ногою въ мраморный полъ, устланный коврами съ золотой бахромой.
Въ углу комнаты въ почтительномъ отдаленіи стоялъ Николь Оругиксъ, одѣтый въ позорную багряницу, съ войлочной шляпой въ рукахъ.
— Ну, Мусдемонъ, удружилъ же ты мнѣ! — пробормоталъ канцлеръ сквозь зубы, скрежеща ими отъ ярости.
Палачъ робко устремилъ на него свой тупой взглядъ.
— Вы довольны, ваше сіятельство?..
— Тебѣ что нужно? — спросилъ канцлеръ, раздражительно обратившись къ нему.
Палачъ, обнадеженный и польщенный вниманіемъ канцлера, просіялъ и ухмыльнулся.
— Что мнѣ нужно, ваше сіятельство? Да мѣстечко копенгагенскаго палача, если ваша милость захочетъ вознаградить меня за пріятныя извѣстія, которыя я вамъ доставилъ.
Канцлеръ позвалъ двухъ алебардщиковъ, дежурившихъ у дверей кабинета.
Взять этого негодяя, который смѣетъ нагло издѣваться надо мною.
Стража потащила Николя, остолбѣневшаго отъ изумленія и страха.
— Ваше сіятельство… — простоналъ онъ.
— Ты больше не палачъ Дронтгеймскаго округа! Я лишаю тебя диплома! — перебилъ канцлеръ, съ силой захлопнувъ за нимъ дверь.
Канцлеръ снова схватилъ письма, съ бѣшенствомъ читалъ и перечитывалъ ихъ, какъ бы упиваясь нанесеннымъ ему позоромъ; въ этихъ письмахъ заключалась старая переписка графини Алефельдъ съ Мусдемономъ.
Сомнѣнія быть не могло: почеркъ былъ Эльфегіи. Графъ убѣдился воочію, что Ульрика не его дочь, что столь любимый имъ Фредерикъ быть можетъ не былъ его сыномъ. Несчастный графъ былъ наказанъ въ той гордости, подъ вліяніемъ которой возымѣлъ преступныя умыслы.
Мало того, что мщеніе не удалось ему, онъ увидѣлъ какъ рухнули его честолюбивыя мечты, что прошлое запятнано позоромъ, а будущее умерло на всегда. Онъ хотѣлъ погубить враговъ своихъ, но добился лишь гибели сообщника, утратилъ власть и даже права мужа и отца.
Онъ захотѣлъ, наконецъ, въ послѣдній разъ увидѣть несчастную, обманувшую его жену. Поспѣшно прошелъ онъ по обширнымъ заламъ, сжимая письма въ рукахъ, какъ будто держалъ порохъ. Внѣ себя отъ ярости распахнулъ онъ дверь комнаты Эльфегіи и вошелъ… Виновная жена только что узнала отъ полковника Ветгайна подробности страшной гибели сына своего Фредерика.
Несчастная мать лишилась разсудка.
ЭПИЛОГЪ
Цѣлыхъ двѣ недѣли происшествія, которыя мы только что разсказали читателю, были предметомъ разговоровъ въ Дронтгеймѣ и Дронтгеймской области. Ихъ судили и рядили каждый день съ новыхъ сторонъ. Городское населеніе, столь жадно ждавшее семь смертныхъ казней, уже отчаялось насладиться этимъ зрѣлищемъ, а полуслѣпыя старыя бабы стали увѣрять, что въ ночь страшнаго пожара казармы видѣли какъ Ганъ Исландецъ съ хохотомъ вылетѣлъ изъ пламени и столкнулъ ногой пылающую кровлю зданія на мункгольмскихъ стрѣлковъ.
Послѣ продолжительнаго для Этели отсутствія, Орденеръ снова явился въ башню Шлезвигскаго Льва въ сопровожденіи генерала Левина Кнуда и священника Афанасія Мюндера.
Въ эту минуту Шумахеръ, опираясь на руку дочери, прогуливался по саду. Трудно было молодымъ супругамъ удержаться, чтобы не кинуться другъ другу въ объятія, но все таки они удовольствовались значительнымъ взглядомъ.
Шумахеръ съ волненіемъ пожалъ руку Орденера и радушно привѣтствовалъ остальныхъ посѣтителей.
— Молодой человѣкъ, — сказалъ старый узникъ: — да благословитъ Господь твое возвращеніе.
— Я только что прибылъ сюда, — отвѣтилъ Орденеръ —
— Что ты хочешь сказать? — спросилъ старикъ съ удивленіемъ.
— Я прошу руки вашей дочери.
— Моей дочери! — вскричалъ узникъ, обернувшись къ зардѣвшейся и трепещущей Этели.
— Да, я люблю вашу Этель; я посвятилъ ей свою жизнь: она моя.
Лицо Шумахера омрачилось.
— Ты честный и достойный человѣкъ, сынъ мой; хотя твой отецъ причинилъ мнѣ много зла, для тебя я прощаю все и мнѣ самому хотѣлось бы осуществить твое желаніе. Но есть препятствіе…
— Препятствіе? — спросилъ Орденеръ, почти съ безпокойствомъ.
— Ты любишь мою дочь, но увѣренъ ли ты, что тебѣ отвѣчаютъ взаимностью?
Влюбленные переглянулись въ молчаливомъ изумленіи.
— Да, — продолжалъ Шумахеръ: — Мнѣ самому прискорбно, такъ какъ я люблю тебя и съ радостью назвалъ бы сыномъ. Моя дочь не хочетъ этого брака. Въ послѣдній разъ она прямо объявила мнѣ, что не чувствуетъ къ тебѣ склонности. Съ тѣхъ поръ какъ ты уѣхалъ, она молчитъ, когда я заговорю о тебѣ, старается избѣгать всего, что только можетъ напомнить ей о тебѣ. Откажись отъ нея, Орденеръ. Отъ любви какъ и отъ ненависти можно вылѣчиться.
— Графъ, — изумленно началъ Орденеръ.
— Батюшка! — вскричала Этель, сложивъ руки.
— Будь покойна, дочь моя, — перебиль старикъ: — этотъ союзъ мнѣ нравится, но не по душѣ тебѣ. Я не хочу насиловать твое сердце, Этель. Въ послѣднія двѣ недѣли я во многомъ перемѣнился. Я не порицаю тебя за чувство къ Орденеру. Ты свободна располагать собою…
Афанасій Мюндеръ улыбнулся.
— Нѣтъ, она не свободна, — замѣтилъ онъ.
— Вы ошибаетесь, дорогой батюшка, — прибавила Этель ободрившись: — я не ненавижу Орденера.
— Какъ! — вскричалъ Шумахеръ.
— Я, — начала Этель и остановилась.
Орденеръ опустился на колѣни предъ старикомъ.
— Она жена моя, батюшка; простите меня, какъ простилъ меня мой отецъ, и благословите вашихъ дѣтей.
Изумленный Шумахеръ благословилъ колѣнопреклоненную передъ нимъ юную чету.
— Въ своей жизни я столько проклиналъ, — сказалъ онъ: — что теперь безъ разбора ловлю случай благословлять. Но растолкуйте мнѣ, я ничего не понимаю…
Ему объяснили все. Онъ плакалъ отъ умиленія, благодарности и любви.
— Старикъ, я считалъ себя мудрымъ и не понялъ сердца юной девочки!
— Такъ меня зовутъ теперь Этель Гульденлью, — вскричала Этель съ дѣтской радостью.
— Орденеръ Гульденлью, — повторилъ старый Шумахеръ: — я не достоинъ тебя. Въ былое время моего могущества я счелъ бы позоромъ для своего сана жениться на бѣдной, униженной дочери несчастнаго узника.
Генералъ взялъ Шумахера за руку и вручилъ ему свитокъ пергаментовъ.
— Графъ, вы не правы. Вотъ ваши титулы, которые вернулъ вамъ король еще съ Диспольсеномъ. Его величество съ этимъ даромъ возвращаетъ вамъ свое расположеніе и свободу. Таково приданое графини Даннескіольдъ, вашей дочери.
— Прощеніе!.. Свобода! — радостно повторила Этель.
— Графиня Даннескіольдъ! — добавилъ отецъ.
— Да, графъ, — продолжалъ, генералъ: — вамъ возвращены всѣ почести и конфискованныя у васъ имѣнія.
— Кому же обязанъ я этимъ счастіемъ? — спросилъ растроганный Шумахеръ.
— Генералу Левину Кнуду, — отвѣтилъ Орденеръ.
— Левину Кнуду! Помните, генералъ, я правду вамъ говорилъ, что Левинъ Кнудъ лучшій изъ людей. Но зачѣмъ самъ онъ не принесъ мнѣ моего счастія? Гдѣ онъ?
Орденеръ съ удивленіемъ указалъ на губернатора, который улыбался и плакалъ.
— Вотъ онъ.
Трогательна была встрѣча двухъ старыхъ товарищей юности и могущества. Шумахеръ умиленъ былъ до глубины души. Узнавъ Гана Исландца, онъ пересталъ ненавидѣть людей, узнавъ Орденера и Левина, онъ научился любить ихъ.
Вскорѣ печальный бракъ темницы отпразднованъ былъ блистательнымъ свадебнымъ пиромъ. Жизнь улыбнулась наконецъ юнымъ супругамъ, которые съ улыбкой шли на встрѣчу смерти. Графъ Алефельдъ видѣлъ ихъ счастіе и оно служило ему самымъ чувствительнымъ наказаніемъ.
Афанасій Мюндеръ имѣлъ тоже свои радости. Онъ добился помилованія четырнадцати осужденныхъ, къ числу которыхъ Орденеръ присоединилъ товарищей своихъ по несчастію: Кеннибола, Джонаса и Норбита. Они вернулись къ рудокопамъ съ радостной вѣстью, что король освободилъ ихъ наконецъ отъ опеки.
Недолго бракъ Этели съ Орденеромъ радовалъ Шумахера; свобода и счастіе слишкомъ сильно подѣйствовали на его душу, и она отошла къ другому счастію, къ другой свободѣ. Онъ умеръ въ томъ же 1699 году и горе, поразившее его дѣтей, доказало имъ, что на землѣ нѣтъ полнаго счастія. Онъ похороненъ въ Веерской церкви, въ Ютландскомъ помѣстьѣ своего зятя, и могила сохранила ему всѣ титулы, которыхъ лишило заключеніе. Бракъ Этели и Орденера положилъ начало роду графовъ Даннескіольдовъ.
КОНЕЦЪ.
1823
Примечания
1
Морг — помѣщенiе, гдѣ въ теченіе извѣстнаго срока выставляютъ тела убитыхъ или самоубійцъ неизвѣстнаго званія.
(обратно)2
Спладгестъ — названіе морга въ Дронтгеймѣ.
(обратно)3
Пушка стариннаго образца.
(обратно)4
Твоя отъ твоихъ.
(обратно)5
Отсроченный поединокъ.
(обратно)6
Чтобы добыть гагачій пухъ, норвежскіе крестьяне дѣлаютъ для птицъ гнѣзда, въ которыхъ потомъ ихъ ловятъ и ощипываютъ.
(обратно)7
Оделъсрехтъ, странный законъ на подобіе маіората, установленный среди норвежскихъ крестьянъ. Всякій, не желающій отказаться отъ родоваго имѣнія, могъ воспрепятствовать пріобрѣтателю онаго передавать его въ другія руки, заявляя каждыя десять лѣтъ о своемъ намѣреніи выкупить его.
(обратно)8
Далѣе.
(обратно)9
Не вѣрь пустой молвѣ.
(обратно)10
Изъ двухъ золъ выбирай меньшее.
(обратно)11
Чужестранец! Зачѣм пришелъ?
(обратно)12
Хлѣбъ изъ коры, которымъ питается бѣдное населеніе Норвегіи
(обратно)13
Право крови, право имѣть палача.
(обратно)14
Презирая рѣки, пьетъ горькую морскую воду.
(обратно)15
Въ разбойничьемъ притонѣ.
(обратно)16
Растеніе — Адамова голова.
(обратно)17
Вода озера Спарбо славится закалкою стали.
(обратно)18
Фредерикъ III попался на удочку датскаго химика Борха или Боррихіуса и особенно миланскаго шарлатана Борри, который увѣрялъ, что ему покровительствуетъ архангелъ Михаилъ. Этотъ обманщикъ, изумивъ своими мнимыми чудесами Страсбургъ и Амстердамъ, возмечталъ расширить сферу своихъ наглыхъ обмановъ: одурачивъ народъ, онъ осмѣлился дурачить королей. Началъ онъ съ королевы Христины въ Гамбургѣ и кончилъ королемъ Фредерикомъ въ Копенгагенѣ.
(обратно)19
Januа — дверь, выходъ.
(обратно)20
Морскія собаки причиняютъ вредъ рыбакамъ, пугая рыбу.
(обратно)21
До тѣхъ поръ пока Гриффенфельдъ не положилъ основаніе дворянскому сословію, древніе норвежскіе вельможи носили титулъ hers (баронъ) или jаrl (графъ). Отъ послѣдняго слова произошло англійское earl (графъ).
(обратно)22
Святой Усуфъ — покровитель рыбаковъ.
(обратно)23
Между Даніей и Швеціей дѣйствительно происходили серьезныя замѣшательства въ виду требованія графа Алефельда, чтобы датскій король въ трактатѣ между этими двумя государствами величался титуломъ rех Gоthorum, что дѣлало датскаго монарха какъ бы владѣтелемъ шведской области Готландіи. Шведы соглашались лишь на титулъ rех Gotorum, титулъ неопредѣленный, равносильный древнему титулу датскихъ королей: король Готскій.
На эту то букву h, причину, если не войны, то все же продолжительныхъ и грозныхъ пререканій, безъ сомнѣнія, и указывалъ Шумахеръ.
(обратно)24
Нѣкоторые лѣтописцы утверждаютъ, что въ 1625 году прославился своими грабительствами епископъ Борглумскій, который, какъ говорятъ, держалъ на откупу пиратовъ, разорявшихъ берега Норвегіи.
(обратно)25
По народному повѣрію Нистгимъ былъ адъ для тѣхъ, кто умиралъ отъ болѣзни или отъ старости.
(обратно)
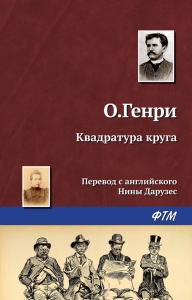


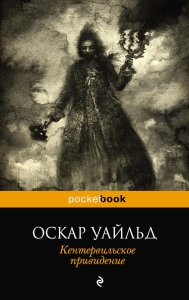
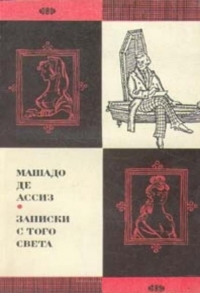
Комментарии к книге «Ган Исландец», Виктор Гюго
Всего 0 комментариев