1
В первые цветоносные дни выздоровления от тяжкой болезни, на которое никто и менее всех сам обладатель девяностолетнего организма уже не надеялся, мои милые друзья, Норман и Нюра Стоун, убедили меня продлить перерыв в научных штудиях и отвлечься каким-то невинным занятием вроде игры в «брэззл» или пасьянса.
Первое исключается полностью, так как выслеживать название азиатского города или заглавие испанского романа в беспорядочном лабиринте слогов с последней страницы вечерней книги новостей (удовольствие, которому самая младшая из моих праправнучек предается с чрезвычайной охотой) — дело, на мой взгляд, гораздо более трудное, чем забавы с животными тканями. С другой стороны, пасьянс заслуживает рассмотрения, особенно при неравнодушии к его духовному двойнику, ибо не является ли игрой того же разряда упорядочивание воспоминаний, когда, на досуге вникая в прошлое, как бы сдаешь сам себе происшествия и переживания?
Говорят, Артур Фриман сказал о мемуаристах, что это люди, у которых слишком скудное воображение, чтобы писать романы, и слишком дурная память, чтобы писать правду. В этих сумерках самовыражения приходится плавать и мне. Подобно другим старикам до меня, я обнаружил, что ближнее во времени тонет в томном тумане, но в конце туннеля — свет и цвет. Я в состоянии различить очертания каждого месяца 1944 или 1945 года, но даже времена года напрочь смазываются, стоит мне вытащить из колоды 1997 или 2012. Я не могу припомнить имени выдающегося ученого, раскритиковавшего мою последнюю статью, я не помню даже, какими именами называли его мои равно выдающиеся защитники. Я не способен с ходу сказать, в каком году Секция Эмбриологии «Союза друзей природы в Рейкьявике» избрала меня в члены-корреспонденты, или когда именно Американская Академия Наук удостоила меня первейшей из своих наград. (Помню, впрочем, острое наслаждение, доставленное мне обеими почестями.) Так человек, глядя в колоссальный телескоп, не видит перистых облачков бабьего лета над своим зачарованным садом, но видит, как дважды видел мой незабвенный коллега, покойный профессор Александр Иванченко, роение гесперозоа во влажных пропастях Венеры.
Вполне вероятно, что «несметные туманные картины», завещанные нам тусклой, плоской и странно меланхоличной фотографией прошлого века, преувеличивают впечатление нереальности, производимое этим веком на тех, кто его не помнит; но верно и то, что существа, населявшие мир во дни моего детства, кажутся нынешнему поколению более удаленными, чем им самим казался век девятнадцатый. Они еще вязли по пояс в ханжестве и предрассудках. Они цеплялись за традиции, как лоза за сохлое дерево. Они ели за большими столами, оцепенело сидя вокруг на жестких деревянных сиденьях. Наряды их состояли из многих частей, да сверх того каждая из оных хранила ссохшиеся и бесполезные останки той или этой моды постарше (одевающемуся поутру горожанину приходилось протискивать тридцать, примерно, пуговиц во столько же петель и еще завязывать три узла, и проверять содержимое пятнадцати карманов).
В письмах они обращались к совершенно чужим для них людям с фразой, равнозначной — насколько слова вообще обладают значением — выражению «любимый хозяин», предваряя свою теоретически бессмертную подпись проборматыванием слов дурацкой преданности особе, самое существование которой являлось для пишущего вполне безразличным. Они обладали атавистической склонностью наделять общество качествами и правами, в которых отказывалось отдельной личности. Экономика владела их умами едва ли не в той же мере, в какой богословие — умами их предков. Они были поверхностны, беспечны и близоруки. В большей степени, нежели прочие поколения, они пренебрегали выдающимися людьми, предоставив нам честь открытия их классиков (так, Ричард Синатра оставался при жизни безвестным «лесным объездчиком», грезившим под теллуридской сосной или читавшим свои проникновенные вирши белкам в лесу Сан-Исабел, — зато все знали другого Синатру, пустякового писателя, родом также с Востока).
Простейшие аллобиотические явления приводили их так называемых спиритуалистов к глупейшим трансцендентальным домыслам, заставляя так называемый здравый смысл пожимать широкими плечами в равно глупом невежестве. Наши обозначения времени показались бы им «телефонными» номерами. Самыми разными способами забавляясь с электричеством, они и малого понятия не имели о том, чем оно, в сущности, является, — не диво, что случайное открытие истинной его природы[1] так страшно их поразило (я в то время был уже взрослым человеком и хорошо запомнил, как горько плакал профессор Эндрю — в кампусе, посреди оглушенной толпы).
Но мир моих юных дней, при всех смехотворных обычаях и сложностях, в которых он погрязал, оставался мирком отважным и крепким, с невозмутимым юмором встречавшим напасти и бестрепетно выходившим на поля далеких сражений, чтобы покончить со свирепой пошлостью Гитлера и Аламилло. И если бы я дал себе волю, немало яркого, доброго, утешительного и прекрасного нашла бы в прошлом беспристрастная память, — и горе тогда веку нынешнему, ибо никто не знает, что способен сделать ему пока еще крепкий старик, если он засучит рукава. Но довольно об этом. История — не моя сфера и, возможно, лучше будет, если я обращусь к тому, что мне ближе, дабы не услышать, как услышал господин Саскачеванов от обаятельнейшего из персонажей одного теперешнего романа (подтверждено моей праправнучкой, которая читает больше моего), что мол «всяк сверчок знай свой свисток» (и не суйся в области, по праву принадлежащие другим кузнецам и цикадам).
2
Я родился в Париже. Мать умерла, когда я еще был младенцем, так что я в силах припомнить ее лишь как расплывчатое пятно упоительного слезного тепла, лежащее за самой границей иконографической памяти. Отец преподавал музыку и сам был композитором (я и теперь храню программку, в которой имя его стоит подле имени русского гения); он еще успел увидеть меня выпускником университета, а там умер от непонятной болезни крови во время Южно-Американской Войны.
Мне шел седьмой год, когда он, я и лучшая из бабушек, какую небеса когда-либо посылали ребенку, покинули Европу, где выродившаяся нация неописуемо мучила расу, к которой я принадлежу. В Португалии какая-то женщина дала мне самый большой из виданных мной апельсинов. Две кормовые пушечки нашего лайнера прикрывали его зловеще извилистый кильватерный след. Труппа дельфинов исполняла самозабвенные сальто. Бабушка читала мне сказку про русалку, залучившую пару ножек. Любознательный бриз участвовал в чтении и теребил и трепал страницы, желая узнать, что было дальше. Вот почти все, что я помню о путешествии.
Странники в пространстве, прибывая в Нью-Йорк, обыкновенно дивились «небоскребам», как подивятся им, старомодным, странники во времени; прозвание это ошибочно, поскольку их близость с небом, особенно на эфирном исходе душного дня, ничем не напоминает сколько-нибудь раздражающего касания, будучи неописуемо нежной и ясной: моим детским глазам, глядевшим через огромный простор парка, что украшал тогда центр города, они представлялись далекими, сиреневатыми и до странности водянистыми, мешающими первые застенчивые огни с красками заката и в сновидной искренности открывающими пульсирующее нутро своей кружевной структуры.
Негритянские дети чинно сидели на искусственных скалах. На стволах деревьев красовались их латинские имена, — точно так же водители приземистых, расфранченных, жуковатых автокебов (генетически родственных в моем сознании столь же расфуфыренным автоматам, музыкальный запор которых чудодейственно прослабляла мелкая монета) прикрепляли на задние стекла свои потрепанные фотографии, ибо мы жили в эру Идентификации и Классификации, воспринимая людей и предметы через их имена и названия и не веруя в существование чего бы то ни было безымянного.
В недавней и еще популярной пьесе, посвященной причудливой Америке Летучих Сороковых, немалый романтический шарм сообщен роли торговца содовой, впрочем, его бакенбарды и накрахмаленная манишка нелепо анахроничны, не было в мое время и столь непрестанного, бурного вращения высоких грибообразных стульев, коим тешатся исполнители. Мы упивались нашими скромными смесями (через соломинки, бывшие в действительности много короче тех, что на сцене) в обстановке угрюмой алчности. Я помню пустое очарование и мелкую поэтичность процесса: обильную пену над притонувшим комком синтетических замороженных сливок или жидкую бурую слякоть «сливочной» помадки, облившей его полярную лысинку. Лоск бронзы и плоскость стекла, стерильные отражения электрических ламп, шелест и блеск засаженного в клетку пропеллера, плакат Мировой Войны — усталые синие рузвельтовы глаза дядюшки Сэма или облаченная в щеголеватую форму девушка с преувеличенной нижней губой (о, этот напученный ротик, угрюмый поцелуйный капкан, позабытый покрой женского обаяния, 1939-50), — и незабываемая тональность долетающих с улицы звуков движения, их узоры и мелодические фигуры, за сознательный анализ которых отвечает одно только время, как-то связавшее «аптеку» с миром, в котором люди терзали металл, и металл не оставался в долгу.
Я ходил в нью-йоркскую школу; потом мы переехали в Бостон; потом опять переехали. У меня осталось впечатление, что мы то и дело меняли жилища, и одни дома оказывались скучнее других, но как бы ни был мал городок, в нем всегда находилось место, где латали велосипедные шины, и место, где торговали мороженым, и место, где показывали кино.
Казалось, эхо крадут из гортани гор и подвергают особенной обработке с помощью меда и ластика, пока сгущенный говор его не удастся синхронизировать с движением губ в череде фотографий на лунно-белом экране, в бархатно-темном зале. Мужской кулак отправлял ближнего сокрушать пирамиды корзин. Девушка с невиданно гладкой кожей приподымала нитевидную бровь. Дверь захлопывалась с неуместно тяжелым стуком, вроде тех, что долетают к нам с дальнего берега реки, где трудятся дровосеки.
3
Я также достаточно стар, чтобы помнить пассажирские поезда; малым ребенком я молился на них, подростком — обратился к исправленным изданиям скорости. Они, с их неуследимыми окнами и тусклыми фонарями, еще порой прогромыхивают сквозь мои сны. Их окраску можно было бы объяснить созреванием расстояния, смешением оттенков порабощенных ими миль, но нет, сливовый цвет их тускнел от угольной пыли, приобретая окрас, свойственный стенам мастерских и бараков, предпосылаемых городу с тою же неизбежностью, с какой грамматические правила и чернильные кляксы предшествуют усвоению положенных знаний. В конце вагона хранились бумажные колпачки для нерадивых гномов, вяло наполнявшиеся (передавая пальцам сквозистую стужу) пещерной влагой послушного фонтанчика, поднимавшего голову, стоило к нему прикоснуться.
Старики, похожие на дряхлых паромщиков из совсем уже древних сказок, нараспев повторяли свои «след-щас-танцы» и проверяли билеты у путников, среди которых, если поездка была достаточно долгой, обязательно обреталось множество рахристанных, смертельно усталых солдат и один бойкий, пьяненький, страсть какой непоседливый, которого лишь его бледность соединяла со смертью. Он всегда был один, но он был всегда, — уродец, юнец, ненадолго сотворенный из праха в средине того, что некоторые пособия по наиновейшей истории благозвучно именуют «периодом Гамильтона» — ибо так звали равнодушного ученого, разложившего этот период по полочкам для удобства безголовых.
По какой-то причине мой блестящий, но непрактичный отец никак не мог приладиться к ученой среде настолько, чтобы надолго осесть в одном каком-нибудь месте. Я способен зримо представить себе любое из них, но один университетский городок остается в памяти особенно ярким: называть его не нужно, довольно сказать, что через три лужайки от нас, на густолиственной улочке, стоял дом, обратившийся ныне в Мекку нации. Я помню спрыснутые солнцем садовые стулья под яблоней, сеттера цвета яркой меди и веснущатого толстого мальчика с книжкой на коленях, и подходящее с виду яблоко, подобранное мною в тени забора.
И я сомневаюсь, смогут ли туристы, навещающие теперь место рождения величайшего человека своего времени и глазеющие на обстановку той поры, стыдливо стеснившуюся за плюшевыми канатами свято чтимого бессмертия, смогут ли они хоть в малой мере ощутить гордую сопричастность прошлому, которой я обязан случайному происшествию. Ибо что бы еще ни случилось, и сколько бы каталожных карточек ни заполнили библиотекари заглавиями опубликованных мною статей, в вечность я войду как человек, запустивший некогда яблоком в Барретта.
Тем, кто родился после оглушительных открытий семидесятых годов и кто, стало быть, не видел никаких летающих предметов за вычетом разве воздушных змеев и шариков (до сих пор разрешенных, сколько я понимаю, в нескольких штатах, несмотря на недавние статьи доктора де Саттона, посвященные этой проблеме), трудно вообразить аэропланы, — в частности и потому, что старым снимкам этих величественных машин недостает жизни, удержать которую могло бы одно лишь искусство, — и странно, ни единый из великих художников прошлого не избрал их для приложения своего дара, и не сохранил тем самым от распада их образ.
Наверное я старомоден в своем отношении ко многим сторонам жизни, оказавшимся вне моей частной научной области, и возможно, личность глубокого старика, вроде меня, может показаться расщепленной, наподобие тех европейских городков, одна половина которых лежит во Франции, а другая — в России. Я сознаю это и продолжаю с опаской. Я далек от намерения пробудить тоскливое и нездоровое сожаление о летательных аппаратах, и в то же самое время мне не по силам избавиться от романтических нот, прирожденных симфоническому целому прошлого, каким я его ощущаю.
В те далекие дни, когда на Земле не осталось места, отстоящего более чем на шестьдесят часов полета от какого-либо из аэропортов, всякий мальчишка знал самолеты от кока пропеллера до дифферентных хвостовых рулей и умел различать их разновидности не только по заостренью крыла, но даже по очерку выхлопного пламени в темноте, — соперничая тем самым в способности распознавания признаков с безумными соглядатаями природы, с постлиннеевскими систематиками.[2] Чертеж разреза крыла и фюзеляжа вызывал у мальчишки всплеск творческого восторга, а модели, которые он создавал из бальзы, сосны и конторских скрепок, порождали по ходу работы такое все возрастающее волнение, что завершение их казалось, в сравнении, почти лишенным вкуса, словно душа вещи отлетала в тот миг, когда окончательно застывала ее форма.
Обретение и наука, сбережение и искусство — две этих пары держатся особняком, но когда они сходятся, ничто в мире уже не имеет значения. И потому я тихонечко отхожу, оставляя мое детство в самом типичном его мгновении, в самой пластичной из поз: завороженным глубоким гулом, что дрожит и набирает силу над головой, забывшим об оседланном смирном велосипеде — одна нога на педали, носок другой касается асфальта, глаза, подбородок, ребра воздеты к голому небу, где с неземной быстротой, которую лишь огромность его путей преображает в неторопливую замену вида с брюха видом с хвоста, проходит военный самолет, и крылья его и гудение растворяются расстоянием. Обожаемые чудовища, великие летающие машины, они ушли, исчезли, подобно стае лебедей, что с могучим свистом множества крыльев в одну весеннюю ночь пронеслась над озером Рыцарей в Мэне из неизвестности в неизвестность: лебедей вида, так и не установленного наукой, никогда не виданных прежде, никогда не виданных с той поры, и ничего после них не осталось в небе, кроме одинокой звезды, — подобия звездочки, отсылающей к сноске, которой нам не сыскать.
Бостон, 1945
Примечания
1
…забавляясь с электричеством… открытие истинной его природы… — Схожий мотив присутствует в «Бледном пламени» (см. стихотворение Природа электричества).
(обратно)2
…с постлиннеевскими систематиками… — Шведский ученый-естествоиспытатель Карл фон Линней (1717–1778) впервые в науке разработал детализированные классификации животного и растительного мира.
(обратно)

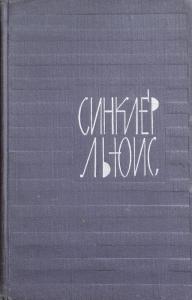

Комментарии к книге «Превратности времен», Владимир Набоков
Всего 0 комментариев