Александръ Дунаенко КОД ПРЕДАТЕЛЬСТВА
АФРОДИЗИАКИ ЖЕНЩИНА
В ноябре месяце прошлого года я видел, как с черного неба падали хрупкие кристаллики воды и разбивались о землю насмерть. Всю зиму мы топчем останки небесных творений... Ну, зима - это потом. Вначале было лето...
Вначале было лето, И много солнца возле синего моря. Галька, куски бетона, фантастическая зелень и немилосердная вонь субтропиков. Я купался с посторонней мне женщиной, которая от мужа и двоих детей уехала в отпуск к синему морю.
Я не уехал ни от кого. У меня не было своей семьи. Всё как-то не сходилось, не получалось, а теперь уже и привыклось.
На море без женщины никак нельзя. Женщина очень как-то скрашивает бездельный образ жизни, осмысливает его. Куда бы с ней ни пошёл, чем бы ни занялся, время пролетает удивительно быстро и с толком, которого невозможно объяснить.
На море у меня была женщина. Жила по соседству в курятнике. А я в свинарнике. Платили по 40 копеек в час за койко-место. Вместе купались, ходили в кино, столовую. Почему не предохраняешься? - спрашивал я. - А вдруг девочка или мальчик? Тощая, как жертва режима. Цены бы не сложили где-нибудь в Англии. А у нас - ничего. Без фурора. К пухленьким как-то больше. Вся страна припухла от уверенности в завтрашний день.
По гальке ходить полезно. Даже по горячей. Особенно по горячей. Соль в суставах растапливается. А с сахаром мы уже покончили. Хватит народ травить. Вон – апельсин сладкий, виноград сладкий. И - никакого вреда.
Груди от солнца нужно прикрывать. Радиация. Вредно.
Я не знаю, про нас не написано. Может быть, тоже вредно. Что? И у тебя муж ни рыба, ни мясо? А я - мясо? По рубль девяносто, филейка. Я - филейка. Доброе слово и кошке приятно. Стараюсь до судорог. О н и же вроде, как рояль. Подойдёшь с ключиком, с молоточком, с камертончиком. Тихо сядешь подле и давай: тук-тук. И - слушай. Поправил струну, тюкнул и - дальше.
Вот так настроишь, подтянешь, а потом - возьми аккорд, другой, третий. Красиво. Чисто. Звучит-то как!
У мужа нет слуха.
Я стала совсем другая.
Давай поженимся.
Очень хорошо. У меня сразу двое детей и трёхкомнатная квартира, и в каждой из комнат меня будет настигать этот рояль. Тюк-тюк... И так хорошо. В одном городе живём, гора с горой, человек с человеком, собака с собакой.
Кончается отпуск. Чемоданы. Красивое на тебе платье. Да и сама ты... Брось, не смотри зверем. Нет, не зверем, а так, будто на всю жизнь прощаемая. Гора с горой. Кролик с удавом. Нет, я выйду из самолёта позже...
И вот наш общий город. Ты пропала в нём. Телефон, адрес - на кой чёрт они мне. Пропала, как не было. День, два - ничего. И неделя, месяц - я каждый час и минуту не испытываю ни малейшего беспокойства. Расстались - и ладно. Была женщина. Живёт где-то здесь. И адрес не нужен. Зачем мне её адрес? Столовая. Компот из сухофруктов. Там, у моря, тоже был компот из сухофруктов. А у этой девушки, как у тебя, такая же длинная, загорелая шея. Вот и фильм докатился до нашего города. Почему бы ни посмотреть во второй раз, неплохая вещь, там, у моря, смотрел в первый.
В ноябре встретились. Не узнал. Пальто, меховая шапка. Подошла в румянце. - Чай, кофе? У меня, конечно. Недавно получил квартиру: 11 микрорайон, газ, горячая вода. Что-то новое в твоих поцелуях. И вся другая. Спасибо тебе. Ты меня сделал женщиной. Я и мужа не понимала, а вот после тебя... Я так счастлива, я так его люблю…
И была ночь. Я возвращался в свою пустую квартиру в 11 микрорайон. И первый раз в жизни я не радовался снегопаду, который открылся внезапно и сразу крупными мохнатыми снежинками. Мне представилось, что они падают, не удержавшись на краю облака, головой вниз и разбиваются насмерть об замёрзшую землю. У меня кружилась голова. Мне казалось, что это я стою на краю облака, теряю равновесие и ухватиться мне не за что.
июнь, 1988г.
СВОБОДНАЯ ЖИЗНЬ
Когда я слышу, как женщины расписывают свою независимость в домашнем хозяйстве, меня смех разбирает до икоты. Тоже мне нашли, на чём строить политику. И строят. На плюшках. Я могу прожить без плюшек, вы можете прожить без плюшек, в конце концов, и я и вы можете сами их приготовить, если в этом вам поможет жареный петух, так значит ли из этого, что вы и я произошли от обезьяны, а все женщины - от святого духа?
Но вы женитесь, и поживите лет двадцать, и вы почувствуете разницу. Вы поймете, что сварить борщ и вымыть полы - величайшее в мире искусство, и когда бы вы ни пытались всё это повторить - все равно руки у вас выросли оттуда, куда Макар телят не гонял и нечего со своим дилетантством даже рыпаться в ухоженный и отутюженный калашный ряд.
У меня жена уехала на учёбу, оставив мне на шею двух сыновей, двенадцать половиков с пылесосом, холодильник с мясом и кастрюлю с тарелками. Плакала жутко, когда уезжала, как будто навеки с нами прощалась. Как будто мы калеки без рук, без ног, только рты у нас и глотки. Может, я чего не понимал, но я не плакал. Мне рисовалась свободная, радостная жизнь без половой дискриминации. Когда мне на каждом шагу не будут тыкать фотографию живого Дарвина и напоминать, что я, равно как и он, произошел от обезьяны.
Вы знаете, я специально взял билет для жены на поезд, а не на самолет, чтобы она семь суток туда ехала и семь обратно. И пошел домой: два месяца я никому не буду портить воздух, я - полноценный человек.
Я купил водки - кто мне может слово сказать – водка везде есть, а я прилично зарабатываю. И пригласил Вовика. Пей, говорю, Вовик, ешь. И никого не бойся. И не оглядывайся на дверь, я здесь хозяин!
Суп ел Вовик. Суп из пачки. Кто смеётся - тот сам дурак. Мы говорили от души и пили.
Детей я кормил. Кормил каждый день до отвала. Никаких проблем. Вермишель варил. Картошку жарил. Блины пёк. Ну и что, если вместо блинов колобки получались - ЧЕСТНО-ТОЛЬКО В ГЛАЗА - вы когда в жизни в последний раз колобки ели? Вы вообще их когда-нибудь ели? Да, ладно. Если у вас уезжала учиться жена, вы наверняка ели чего-нибудь такое, что вряд ли кому и видеть приходилось. Мои дети сами могли изобрести любое блюдо... Да что это я всё о еде, да о еде. Я вам скажу, что мы каждый день по очереди делали уборку - никто от этого не сдох - и покончим с хозяйством. Оно занимает ничтожно малую часть в жизни человека - я знаю это теперь наверное, а женщины раздувают из него непомерную помпу.
Кстати, о женщинах, как таковых. Шестнадцать недель моя жена училась в отрыве от семьи и производства, и кто вам сказал, что я ни на кого даже не посмотрел? Я посмотрел и даже не раз. Ольгу Петровну я сводил в театр. Как? Вы не знаете Ольгу Петровну? Её все знают. Все видели, что, и со мной, она пошла в театр. А Клеопатра Львовна, жена Леопарда Силыча? Она заходила ко мне вечером на чай, я расставил кругом свечи, всё было, как в средние века. Особенно, когда зачем-то припёрся сам Леопард Силыч. Хамло несчастное, все свечи изгрыз.
В милиции мы сказали, что мы два брата, мы с горы катились, - как у Лермонтова, помните? Они вспомнили, и мы скатились еще с одной горы.
А когда приехала жена - на мне зажило уже всё, как на собаке, никто даже и представить не мог, что когда-то у меня был брат. А я, когда увидел её, то почему-то сломался. Я увидел её, красивую, милую и тёплую, которая бежала ко мне с поезда, позабыв о чемоданах. И я заплакал, хотя все шестнадцать недель я ходил гордый и сильный и радовался своей свободной, но как оказалось, ужасно глупой и никчёмной, жизни. И чистенькие мои дети прижимались к ней на диване и лезли распаковывать коробки. И были надраены полы, и целая кастрюля первосортного борща из консервы дымилась на газовой плите. И хотя к приезду жены, нашей мамы, нашей любимой, мы всё это сделали сами, хотя мы знали, что для них, женщин, домашнее хозяйство - это всего лишь помпа, повод к политике диктата и самоутверждения, мы почувствовали, как мы истосковались, изголодались по этому милому гнёту...
И пусть в вопросе о происхождении мира я так и не пришёл к полному согласию с первоначальной версией жены, я начал подумывать, что, наверное, здесь возможны и какие-то компромиссы.
Сама она стала менее категоричной, более внимательной ко мне, и потому в отдельные минуты я уже готов был проявить слабость и поверить, что, действительно, она у меня - существо неземное...
Впрочем, именно с такими мыслями я и бежал к ней двадцать лет назад, неся на губах первые слова любви ...
Февраль, 1987г.
ТЮЛЬПАНЫ
Степь весной, весной ранней – это серое однообразие под небом, которое, меняя к тёплому свои оттенки, готовится к лету. Кое-где сугробы нерастаявшего снега. Ручьи, жаворонки. Внезапные холода с ветрами, которые заставляют забыть, какое время года на дворе. На простой легковой машине прогуливаться в этот серый революционный период чревато неожиданными осложнениями. Нужен, как минимум, джип. Потому что можно въехать в незаметную, подсохшую сверху, грязь и застрять. И никто тебя не выручит, не спасёт. И нет в это время никаких полевых работ, и встретить дурака с трактором, который просто так, подобно вам, прогуливается по степи, практически невозможно.
И не нужно в это время туда ездить.
А нужно подождать недельку – другую. Когда верхний слой земли уже прогреется не сиюминутно, а по-настоящему. Когда протянутся сквозь него тонкие мягкие иголки ослепительно зелёной травы. Когда расцветут и увянут, сгорят на солнце мелкие жёлтые цветы, которые в этих краях называют подснежниками.
Когда на смену им вдруг появятся неожиданно и ярко, тысячи упругих стеблей с бутонами, в которых заключены все цвета радуги – это Его Величество Тюльпан пришёл вознаградить монотонные пространства за долгие месяцы серого, незаметного существования.
И вот уже тогда в степь нужно выехать непременно. Потому что степь, усыпанная тюльпанами – это зрелище, которое ничем не возможно заменить. Это безумная, фантастическая красота всего на несколько дней. К примеру, Венеция – она Венеция 365 дней в году. И Лувр. И морды на острове Пасхи. А тюльпан в степи – всего на мгновение. Он – праздник степи, её карнавал. Появление тюльпана – это торжественное открытие весны.
Раскрывшийся бутон излучает необъяснимую радость. Чему радуется? Чего ожидает получить взамен? Знает ли, что он – всего лишь цветная вспышка и сидеть потом его луковичке под землёй целый год, до весны следующей. Знает ли он про такую свою жизнь – всего несколько дней в году?
В бескрайней, почти безлюдной, степи, для кого он так красив? Как будто какой сумасшедший художник из года в год гениально рисует одну и ту же картину. Потом смотрит, как она гибнет, стремительно выгорает на солнце. Картина ни для кого. И этому ненормальному абсолютно всё равно, увидит ли его творение человеческий зритель. И как её оценит.
Наш степной тюльпан, тюльпан Шренка, занесён в Красную Книгу. Был в степи такой случай. Мне рассказывал старый целинник. Распахивали они тогда, в 50-х, направо и налево, целинные земли. И днём приходилось пахать, и ночью. И вот однажды выехали с бригадой в ночную смену. Грохот, пыль, зажжённые фары. Битва за посевную. И тут головной трактор выехал на пригорок и остановился. Впереди в свете фар вдруг возникло поле, усыпанное цветами немыслимой красоты. Тюльпаны всех цветов радуги вспыхнули из темноты и ударили по глазам неожиданным, беззащитным, праздником. Остановились трактора. Замерли, оглушённые цветом и красотой, механизаторы. Оседала пыль. И цвели тюльпаны.
– Ну, чего стоим, - сказал бригадир. Работать надо. Давайте по машинам. Нехотя разошлись. Взревели дизеля. И тут молодой парнишка, целинник из Подмосковья, дал по газам, выехал вперёд и загородил дорогу всем. Выпрыгнул из трактора, поднял руки вверх, освещённый десятками фар, закричал: - Стойте! Сюда нельзя! Здесь же ТЮЛЬПАНЫ!
Не он один. Наверное, все понимали, что делают что-то неправильно. А может, и не все. Потому что пахать целинные земли, не обращая внимания, кто на них живёт, приказала Партия. А Партия не может ошибаться.
Бригадир опустил глаза и сказал: - У нас полстраны перестреляли, да в лагерях сгноили, а ты – тюльпаны, тюльпаны… Бригадир был из Ленинграда. Но уже двадцать лет жил в этих диких степях. И поле перепахали. Мальчишка плакал…
………………………………………………………
Выехать за город, посмотреть на тюльпаны, нарвать букетик – мероприятие духовное. Эстетическое. Но всё-таки - противоестественное, если не пригласить посетить тюльпаны красивую женщину. Например, в театр можно сходить и одному. Но туда идут с красивой женщиной, иначе искусство не будет восприниматься, усваиваться полноценно. Нужен катализатор – красивая женщина.
А некрасивых женщин не бывает. Есть любимые и остальные. Их, остальных, субъективно и произвольно делят на красивых и некрасивых. Поскольку на вкус и цвет найти единомышленника трудно, то и понятие красивая-некрасивая становится растяжимым до границ пристрастий и слабостей определённого субъекта.
Ты у меня красивая, потому что я по тебе и сохну и дохну. Для других, может, и обыкновенная.
Да, ты и боль моя и восторг, про который говорят – ни в сказке сказать, ни – пером описать. Почему боль – потому что ты замужем. Ты не могла быть незамужем – прекрасный характер, замечательная хозяйка, привлекательная - мужчины на улице заглядываются, останавливаются, долго смотрят вслед. Особенно летом, когда из-под расклешённой короткой юбочки выглядывают смуглые, зацелованные мной до всех пределов, ножки.
А город наш ветреный. Ну, никак не уберечься, чтобы порыв тёплого летнего воздуха не дунул вдруг на голые твои ноги снизу, под мини-клёш, и тогда замирают от приятной неожиданности, попавшиеся на твоём пути и желторотые юнцы, и бесполые старцы.
Не сказать, правда, что ты особенно от этого и береглась.
Твои ноги - это что-то особенное. Безрастительные. Тёплый мрамор. Коротенькие волосы только там, где ноги почти соединяются, и остаётся небольшой горизонтальный промежуток. Маленькая плоская вершина трапеции, которая хорошо заметна со стороны, когда ты стоишь напротив в своём лёгком, полупрозрачном, платье.
«И в том краю есть промежуток малый. Наверно, это место для меня…».
Я не знаю, почему ты приходишь на свидания со мной. Всё у тебя есть и жизнь устроена. И в интимной жизни, как удалось вычислить по обрывкам фраз, у тебя всё в порядке. Более, чем. И тебе никогда это особенно и не было нужно. Был, правда, случай…
Позвонила – голос какой-то странный. Нужно встретиться. И, чем скорее – тем лучше. Конечно, всё бросил, прыгнул в машину и – в режиме ралли, к условленной точке. Стал в тупичке, никому ниоткуда не заметный. Увидел свою женщину ещё издали. Шла как-то неуверенно, как во сне. Одета – как будто что делала на кухне, потом всё бросила и так вышла на улицу. Халатик, на босу ногу тапочки. Села в машину, тихо поздоровалась. Поехали за город. Одна рука на руле, другая – к тебе. От тапочка по внутренней стороне гладкой ножки вверх, под халат. Осторожно. Бесстыдно. Пуговицы, кажется, расстегиваются сами. Одновременно смотрю на дорогу, торможу, переключаю передачи. Ох-х-х… Ты уже готова… И ещё как…
Провёл рукой по голове. Мягкие любимые волосы. Пальцами коснулся губ. Они приоткрылись, мокро обхватили мои пальцы. Захватили глубоко, как леденец, медленно дали выскользнуть, потом захватили снова… Я бросил руль и потянул книзу молнию на брюках. Пальцы изо рта вытащил и тихонько попытался наклонить твою голову к себе, туда, где, вырвавшись из тесных джинсов и распрямившись, в невыносимом желании торчал мой суверенный друг. Он ещё более напрягся и обезумел, потому что ощутил твой взгляд.
Торможу, переключаю передачу, здесь спуск и поворот…
Ты легко подалась давлению моей руки, наклонилась…
Я смотрю на дорогу, мне нельзя отвлекаться, я почувствовал - горячие твои губы накрыли, обволокли меня, я погружаюсь в них глубже и глубже, ты жадно меня в себе утопила.… Не увлечься бы, не сорваться… Иначе – к чему эта вся поездка? А тут ещё эти ямы, колдобины. Машину кидает, мокрый задубевший ствол то выскакивает у тебя изо рта, то вдруг грубо, рывком уходит вглубь, так, что губы твои касаются металлических зубочков расстёгнутой молнии. Боюсь повредить тебе гортань. О себе как-то не думаю. Хотя на этом участке дороги, на какой-нибудь кочке, гильотинка может буднично клацнуть. И тогда всё – конец всей моей мужской жизни…
Ты стонешь, но не бросаешь. Выражение «гортанные крики» пришло, наверное, отсюда…
Да, нужно свернуть направо… Мы останавливаемся в лесопосадке. Всё. Можно не спешить. Ведь мы уже приехали. Хотя – нет. Невдалеке, под карагачом, уже стоит зелёный «жигули-комби».
Даже днём, среди недели, не протолкнёшься…
Отъезжаю дальше, в глубь посадки. Теперь всё. Даже если в трёх метрах ярмарка – с места не сдвинусь.
Я целую свою милую. Халат распахнут, лифчик и трусики, как будто кто на тебе переворошил – смяты, скомканы, и они уже ничего не прикрывают. Это всё я? Ничего не помню. Подожди ещё минутку… Сейчас я буду любить тебя, и любить долго…
А потом ты лежала, и, запрокинув голову, смотрела в небо. И тогда ты сказала: «Я видела в небе ангелов…».
Как можно называть это грехом?.. Не пожелай жены ближнего… А какой он мне ближний?...
И я пригласил тебя на тюльпаны. Кого же ещё? Вырвалась, нашла время. У меня всё та же старенькая «Нива». Соблюдая все правила конспирации, жду тебя у «Гастронома». Ты выходишь из толпы и ловишь случайную машину – меня. Как только сердце не выпрыгнуло из груди, когда тебя увидел! По пути пришлось сделать остановку у киоска. – Сейчас, - говорю, - возьму сигареты и жвачку. Когда снова сажусь за руль, ты улыбаешься: - Ну, что ты суетишься, сегодня можно обойтись без презервативов… Я чуть не покраснел. Откуда догадалась?
А тюльпаны у нас недалеко, за городом. Проезжаешь мусорные свалки, брошенные заводские цеха, пустыри – и вдруг оказываешься в чистом поле. Пологие холмы до горизонта, как застывший океан. Сероватый фон от высохших прошлогодних трав и – неожиданная роскошь – тюльпаны. Они здесь практически в полном наборе своего разноцветья – белые, жёлтые, алые, розовые…
«Ниву» останавливаю на пригорке. Тепло. Слабый ветерок. Помогаю тебе выйти из машины. Машина высокая, можно получить удовольствие от того, как из своей короткой юбочки ты выдвигаешь ногу, чтобы достать далёкую землю. И я получаю это удовольствие.
Тюльпаны уже здесь, под ногами. Прежде, чем начать тебя целовать, - а я ведь буду тебя сегодня целовать? - я наклоняюсь и срываю несколько цветков. Подаю тебе – слышишь, как пахнут? Это особенное удовольствие – срывая тюльпаны, собирая их в букет, периодически подносить их к лицу, чтобы услышать их удивительный запах.
От цветка к цветку можно уйти незаметно очень далеко. Я касаюсь твоей руки. Обнимаю за талию. При случае – прячу лицо в твоих волосах. Что лучше – аромат тюльпана, или этот родной, от которого кружится голова, запах твоих волос?..
Оглянулись – наша «Нива» на пригорке уже кажется маленькой игрушкой.
Когда влюблённые касаются друг друга, они не просто касаются друг друга. Идёт взаимное считывание информации о том, как данную минуту, мгновение относится к тебе твой любимый человек. Внимательное, пристрастное, до самого тонкого оттенка чувств. Вопрос, который у влюблённого человека требует постоянного ответа: а любят ли меня ещё? И – как? От этого зависит куда, в каком направлении, будут дальше развиваться отношения. И будут ли?
И вот мне что-то стало как-то не так. Не сказать, что от моей милой веяло холодком, или она от меня отстранялась. Нет. И смеялась она, как всегда. И прижималась телом. И оделась таким пронзительным образом, что временами даже не ощущалось действия гравитации.
Я спросил, я начал издалека, - как там, мол, семья, как сынишка. Оказалось, всё хорошо. Ходит в садик, учится говорить «Р-р-р». Позавчера, в гостях, попросили его сказать «трактор». Хитрец, решил не напрягаться, сказал «К-700». А муж? Ну, что - муж… Работает. Бегает, всё для дома достаёт.
Муж – это отдельная песня. Насколько мне удалось вытянуть из моей любимой информации о нашем муже, то это вообще какой-то супер. Мечта каждой женщины. Любит. Хорошо зарабатывает. От сынишки без ума. В постели изобретателен и неистов. И на вид не какой-нибудь Баркильфедро, а весьма презентабельный, пришлось как-то по делам встречаться.
Ну, так что муж? – спрашиваю. - Ничего, работает. – И – всё? – спрашиваю опять. – Что ты имеешь в виду? – Ну, вот это… И оба мы понимаем, о чем я. Хотя ты ещё несколько минут пытаешься уйти от прямого ответа. Потом – Ну, да, было. Да, сегодня. Прямо перед тем, как нужно было бежать к «Гастроному». Он будто чувствовал. Всё крутился вокруг, крутился. Опоздал на важную встречу…
Ну и ладно. Пустяки, дело житейское. Действительно, куда уж тут денешься. Никуда не денешься. Идём обратно к машине. Да я не расстроился. Наступил на один тюльпан, на другой. В салоне разложил сиденья, оборудовал наше внебрачное ложе. А вот ты уже и без верхней одежды. В нижней – моей любимой. – Снять, или пока пусть? – спрашиваешь ты. – Пока пусть, - смотрю, провожу рукой по волосам, целую плечи.
Один – красный тюльпан, просовываю за перемычку между чашечками бюстгальтера. Другие цветы – по одному под резиночку трусиков. Сквозь тонкую ткань просвечивают их стебли. И дорогие твои тайны.
Белый, малиновый, жёлтый, сиреневый… А что? Властитель Персии златой позволял ли себе такую роскошь – украсить любимую тюльпанами? Позволяют ли себе властители иметь любимых? А, если любимая замужем? То тогда властитель позволяет себе отрубить мужу голову. Не знаю, будь властителем я, я бы начал не с головы…
Я целую тебя и, заглянув в глаза, спрашиваю – Ну что, поедем? Ты не знаешь, что сказать. А я знаю. Ну, не зверь же я всё-таки. Там эта, влюблённая в тебя долбёжная машина, вышибла из тебя все соки, а теперь я возьмусь тут тебя добивать. Человек – существо материальное, биологическое. Со своим ресурсом, запасом прочности. Способностью уставать, на- и пресыщаться. Духовные силы и красивые чувства могут появиться в человеке тогда, когда у него ничего не болит, когда он не голоден, когда его не мучает желание отдохнуть, выспаться. И губы готовы целовать вновь, когда отдохнули от предыдущих ласк. Иначе у поцелуев другой вкус.
Мы ехали обратно в город. Ты сидела на заднем сиденье, молчала и лохматила рукой мои волосы.
Созвонились через неделю. Ты позвонила мне сама. Звонкий любимый голос спросил меня, как дела. Я услышал твой голос и сказал, что дела у меня идут хорошо, просто замечательно. Что я готов заехать, а ты сказала, что уже ждёшь на новом условленном месте. Ты сказала, что звонишь из автомата и ещё – что очень по мне скучала. И соскучилась. В общем, набор таких обыкновенных, почти одинаковых, слов.
Мы приехали туда, где неделю назад вовсю цвели тюльпаны. Их уже не было. Как будто их не было никогда. Но мне казалось, что всё поле усыпано цветами. И небо.
На этот раз ты была только моей. Твоё дыхание, глаза, твоё тело не обманывали меня. Я знаю. Я бы почувствовал…
ПРИНЦЕССА, ДОЧЬ КОРОЛЯ
Посвящается Джулии
История эта кошмарная, и, не приведи Господи, кому из вас такое пережить. У меня и сейчас в руке дрожит перо...
А вышло всё оттого, что вздумал я, старый пень и дурак, в тридцать пять лет жениться. Говорят, что рожать в этом возрасте уже будто бы трудновато, а вот жениться - в самый раз. Созрел, мол, нагулялся. Остепенился. Не знаю. Если в жизни всего наделался, то, скорее, помирать пора, а не жениться.
Красавица моя временно проживала в Москве и училась на журналистку. А я готовился получить диплом культурного человека в специальном институте, где пять лет учат играть на балалайке, а первые три года - читать и писать. Институт, само собой, тоже находился в Москве, общежитие наше поставили на ремонт, а меня, за хорошую учёбу, поселили в ДАСе - общежитии Московского университета. Первую неделю я ходил овцой по ихнему общежитию и пялил глаза на росписи, выполненные пещерным человеком, на курящих девочек и чёрных негров, которые рассаживались вокруг кадки с пальмой и чем-то напоминали Африку.
Я чуть было не окунулся во всю интересную атмосферу дискуссий и жарких прений, каковые разводили здесь люди исключительного мозгового размаха. Но тут эта женщина злополучная попалась. Вроде, как шлагбаумом, она отсекла мне путь к живому общению с талантливой молодёжью ДАСа.
Да, да, она была красавицей. Иначе я не пролил бы суп на её ночную рубашку. В той самой, знаменитой "дасовской" столовой, тихонько я двигал свой поднос к кассе и случайно оглянулся. Ну и негритянка... Ну и негритяночка! Тридцать пять лет жил, не знал, что такие негры на свете бывают. По телевизору их, что ли, выборочно всегда показывали? Да и здесь, в ДАСе, сплошь синие, губастые, с плоскими лбами - страшно смотреть. А тут - вполне европейская будто бы женщина, только губы сочно-красивые, чувственные, каких в Европе не делают, да кожа... Что кожа - у нас в Актюбинске, в Мугоджарском районе, и почерней девочку можно отыскать.
Наверное, я, как все мужчины, сволочь, потому что хочется рассказать и про стройность её, и про большие глаза голубые, и про волосы, что длинные, вьющиеся, до самого пояса. Ну, что она, скотина какая, что я о ней всё - с ног до головы, как о лошади. Ещё бы про зубы похвалился. Да, и зубки у неё были, хотя и несколько крупноваты, но хороши поразительно.
И вот на эту улыбку я натолкнулся со своим подносом, ожёгся об эти глаза. И был бы я последний чурбан невоспитанный, если бы не уронил весь обед, не облил ей супом ночную рубашку, и - не опрокинул себе на голову стакан сметаны потом, когда увидел, каких дел натворил, и как трудно будет теперь всё исправить.
Джулия (она - Джулия!)рассмеялась так, что миллион жующего в зале народу вздрогнул. Ей, конечно, было жаль заграничного своего платья, которое я, деревня, принял за ночную рубашку. Жаль, потому что от нашего советского супа "харчи" бессильны пятновыводители, нужны ножницы, но вид меня в сметане, по-видимому, с запасом покрыл издержки несчастного случая. Сразу стало видно, что я - человек необычайно острого ума, но, что более важно (как сказала мне потом сама Джулия), что я влюблён в неё без памяти.
Вечером я пошёл к Джулии извиняться. В голове был сумбур, как будто часть супа попала ещё и туда. Как зайду? Что скажу?
Дверь. Звонок. Джулия. Мы разговариваем. Джулия не сердится, совсем не сердится и много смеётся. Русский она знает плохо. Знает английский, французский, итальянский, несколько каких-то своих. Я со словарём знаю все языки. Но жадно вслушиваюсь в обрывки русских слов. В Африке есть маленькое государство Калликсо и Джулия - обыкновенная принцесса, дочь короля. Их страна отказалась культивировать у себя язвы капитализма. Сейчас Калликсо очень нужны свои адвокаты, журналисты, философы. Лучших своих людей правительство посылает на учёбу к нам, в Советский Союз. Я смотрю на Джулию восторженными глазами: она - лучшая. Она - самая лучшая. Прихожу к ней пять, десять раз - пропадаю. Что у них ещё за порядки - ходить почти нагишом. Ну, этот её "нагиш", правда, не совсем "нагиш". Карден бы заплакал, а то и вовсе слёг. Древний художник росчерком в несколько линий сделал ей наряд: так одевали богинь. Я хотел посмотреть, как их раздевают. Я взрослый человек, мне скоро сорок. Вечер. Мягкий розовый свет в комнатке Джулии. Мы одни. Я протянул руку, и тут послышалось тихое противное шипение. Бог с ней, с любознательностью. - Что это у тебя шипит. Джулия? Чайник, что ли? И тут, рядом с девушкой, появляется голова кобры... Так, ничего особенного: сплюснутая голова пружинисто покачивается на изогнутой струне туловища. Ещё этот... язычок, туда - сюда. Я, конечно, сразу за девушку испугался, встать не могу, белый весь. А она смеётся. Это, говорит, Кесси. Кесси живёт вместе с ней в общежитии и, по поручению богов, охраняет Джулию. У них в стране очень серьёзно относятся к браку. До свадьбы возле каждой девушки живёт такая кобра, и ещё не бывало случая, чтобы под венец попала не девственница.
Джулия, ты помнишь старый круглый стол, на котором творили свои бесчинства бояре старой Москвы? Как вообще такой стол мог попасть в ДАС? И даже - такие столы? На каждом этаже их было по два, на каждом столе - следы страстей трёхсотлетней давности. На этих столах любили, рубили головы, четвертовали, за этими столами пили и устраивали спиритические сеансы. В ДАСе столы украшали крохотные пазухи в длинных коридорах общежития.
Джулия, ты помнишь, ты приходила ко мне в 211-ю? Девушке неприлично находиться в комнате мужчин, мы шли на круглый стол. К свиданию ты одевалась так, что во всём ДАСе бледнело электричество. Мини - разве можно такое мини! Колготки - что ты делала с бедными мальчиками ДАСа? Губы - зачем тебе этот шок в коридорах, зачем пожар?!.. Садилась на древний стол: стройная нога на стройную ногу – (а что ты делала со мной? - но я всё время помнил о Кесси) - садилась, брала в тонкие пальцы свою импортную цыгарку. Зачем куришь? С трёх лет, с трёх лет... Ну и хватит, зачем нам рахиты? Море, бананы, апельсины. Да, хорошо у вас. Самое лучшее у вас - это твои глаза, Джулия. Твои голубые, синие, зелёные, бирюзовые... чёрт, как они меняются... ты чистокровная калликсянка? Странно: кожа, голубые глаза. Можно, я коснусь губами твоей кожи? Ваш Бог разрешает? Наш? О! Наш разрешает всё, а потом на том свете наказывает. Можно, да? можно?..
***
В поезде двое суток в купе. Чай. Суп из солдатской мисочки. За окном остатки лесов. Ночью с верхней полки я протягиваю руку к Джулии. Она внизу. Я слышу кончики её пальцев. Полумрак. Сопят соседи по купе. И мне кажется, что, на соседних полках, спят проклятые змеи.
Наутро я в радостном волнении: колёса поезда въехали на актюбинскую землю. Яйсан, Мартук, Каратогай - красота-то какая! Что-то мне папа с мамой скажут... Я им вообще-то писал, что приеду с невестой, но не посвящал в подробности. Зачем заранее сообщать, что, мол, принцесса, и ещё полцарства в Африке в придачу. Да, Джулия что-то там говорила об алмазных приисках, залежах урана. Её папа втихаря уже бомбу делает. Если всё будет хорошо, бомбу он отдаст нам с Джулией. Будет ли всё хорошо? Со своим папой я договорюсь, а вот что скажет мама? На словах мы все интернационалисты, а когда доходит до дела... Вот у нас, в Растсовхозе, грек вздумал на испанке жениться, так между семьями чуть резня не вышла. Совхоз узнал, что все греки пархатые, а испанцы, только недавно, кушать стоя научились. А тут - калликсянка чернокожая.
В Москве я специально ходил с Джулией в Тимирязевский парк, на озеро, чтобы как можно сильнее загореть. Сама она чернее не становилась, а вот я к ней чуток подтянулся. Белый бикини Джулии издали обращал внимание. Москвичи оборачивались, останавливались, как будто негров никогда не видели, и с интересом разглядывали меня, да так, что я чувствовал себя марсианином.
На актюбинский вокзал шоколадная Джулия вышла в лёгком чёрном платье. Вот и ничего. Ну, немного темнее наших, но у неё душа хорошая. Бедная моя мама... Но даже папа в первые минуты ослабел...
Дорогие мама и папа, к вам не ревизор приехал, это моя Джулия. Я понимаю, что, поначалу, все матери глядят на сноху, как на человека другой расы, но, умоляю вас, будьте интернационалистами! Мир! Дружба! Рот фронт! Но пасаран! (Хоть бы один лозунг по-калликсянски, чтобы Джулии было приятно). Као ляо по соляо... нет... не то... Джулия опять смеётся, протягивает руку: мама тётя Анна Васильевна, Myname позовут Джулия. Да, мама, это моя невеста. Папа обнял меня. Он рад. Он радовался бы даже и в том случае, если бы я и совсем не человека привёз, лишь бы мне было хорошо. - Что, уже надо жениться? Совсем не заметно. - Заметно, папа. Мне уже тридцать пять, и это заметно: голова седеть начала, морщины от бесконечного веселья. Нет, родители не приедут. Сложное положение в стране. Будут два-три министра, да товарищи по племени.
Я показываю Джулии грядки с морковкой, огурцы и помидоры. Папа у меня огородовед-любитель. Безобидный конкурент планово-убыточному совхозному хозяйству. Каждую осень он прячет в погреб мешок картофеля, в котором несколько десятков новых сортов. Есть и даже трогать их нельзя, потому что это сорта , и потому на зиму для еды папа собирает картофель с полей того самого убыточного совхоза, где горожане, по обычному осеннему авралу, создают видимость уборки, помощи города селу. Джулия не понимает сложной механики советского хозяйствования на уровне отдельно взятой семьи и страны в целом. Объяснять бесполезно. В Калликсо только начинают строить социализм и пока как-то всерьёз о продуктах не задумывались.
О свадьбе, в принципе, договорились. Родители сделали вид, что успокоились. Ночью мама подходит к моей кроватке и тихо плачет. В одно из свежих солнечных утр к нашему бараку подъехала чёрная "Волга". Вышли большие люди в чёрных пиджаках и галстуках. Облисполком, Гизат Эбатович. Очень приятно. Международная свадьба. Событие для города. Будут пресса, отцы города, КГБ. Мало ли, что может случиться. Автобус подадим, выделим средства. Это что, она? У - у, какая хорошенькая! А что она ест?..
Двенадцатого июля свадьба и день рождения Джулии. Город в транспарантах. Из предприятий всех повыгоняли для ликования, когда будет проезжать свадебный поезд. ЗАГС, католическая церковь. У нас перестройка. Уже два года мы стараемся терпимо относиться к людям, которые верят не в то, во что надо. Джулия сказала, что в церковь - обязательно. Ладно, понимаем. Потом - Дом культуры металлургов, свадьба. Накануне Джулия сказала мне одну странную вещь. У них, в Калликсо, прямо-таки культ нравственности и целомудрия. Но, в день свадьбы, жених с невестой должны пройти суровое испытание. Так требует их бог Мугму, и никто не смеет его ослушаться. В общем, нужно, чтобы с Джулией, в день свадьбы, переспали все мои и её друзья (в первую очередь - самые близкие), ну, конечно, товарищи по работе, по партии. Ну, а потом я и сам могу прикоснуться к своей невесте, и уже до конца дней мы будем принадлежать только друг другу.
Получалась вот такая ерунда. Я сказал: Джулия... Джулия, - я сказал, - а, неужели нельзя попросить этого Мугму, чтобы он, в порядке исключения, как-то поменял ваши традиции? Мы, вон - пить на свадьбах бросили... А тут ещё... Ведь свадьба-то международная! Я бы тоже помолился, меня ещё в партию не приняли. Я бы очень сильно молился, Джулия, ведь я же люблю тебя. Я смотрю на её длинные-длинные ресницы. Слеза каплей повисла на кончике. - Нет, Саша, нет. Мугму рассердится...
***
Гости, гости, гости. Как много мужчин. Откуда их столько набралось? Только из Калликсо человек двадцать припёрлись. Сами, без женщин. Конечно, чего на такую свадьбу ехать со своим самоваром? В Доме культуры духовой, расставлены столы. И - не знаю, как это назвать - что-то вроде шатра прямо посредине зала, на возвышении. Там - роскошное брачное ложе. Обком достал для такого случая. Вообще, новость об изюминке свадебного обряда по-калликсянски поначалу родила замешательство в рядах аппарата исполкома. Но, после событий в Алма-Ате и Нагорном Карабахе мы поняли, что к национальным традициям нужно относиться очень бережно, с пониманием. Конечно, если бы речь шла, к примеру, о человеческих жертвах тому же самому Мугму, то мы были бы против. Нам такие свадьбы не нужны. Но тут, вроде, ничего особенного. Как будто цветной телевизор купить и платить - либо сразу всё, либо в рассрочку. Так уж лучше сразу, если есть возможность.
Мы приехали в Дом культуры, и я должен быть тамадой. Я должен приглашать к Джулии мужчин и ещё каждого благодарить. Павлик, лучший друг, заходи. Почему не можешь - это обычай такой. Нужно. А то Мугму обидится. Нет, я этого Мугму не видел. Ты заходи. Мугму, обычай, потом... эта... очередь волнуется... Нет, горячей воды нет. Откуда в Доме культуры металлургов горячая вода?.. Не идёшь?.. Ну, как знаешь...
Я не помню, кто за кем шёл. Отдельные лица иногда всплывают в памяти. Гизат Эбатович: галстук, пиджак, живот. Подошёл, переваливаясь, ко мне. Вручил цветы, поздравил. Сказал: - вот как интересно: у нас, у казахов, свои обычаи. У них - свои... И, кряхтя, полез в шатёр. Был и Рапсодий Иванович. О! Рапсодий Иванович когда-то работал со мной и получил по ушам от кого следует за жажду перестройки за три года до перестройки. Проходя мимо меня, Рапсодий Иванович сделал вид, что выражает соболезнование и возился в шатре минут двадцать. Вермиклер прибежал, весь запыхавшийся: - я только туда и назад. Язю в буфете оставил, а сам к вам. Здесь же обычай. Куда? Сюда заходить?.. Вермиклер тоже со мной работал.
Свадьба была безалкогольной. Всё враки, когда говорят, будто бы на безалкогольную свадьбу люди собираются с неохотой. На нашу свадьбу собрался, как мне казалось, весь город... Уже прошли калликсяне, друзья, КГБ, ГАИ и местные органы власти. Уже прошли земляки и родственники товарищей по работе, а толпа у шатра все не уменьшалась. Подходили, говорили: - я вас знаю, вы на балалайке по телевизору выступали, мне можно?.. Я уже почти ничего не соображал. Мугму, Рапсодий Иванович, Калликсо - всё перемешалось в голове. Вот он, настоящий бал у Сатаны!..
Я захожу иногда в шатёр. Я свой человек, гости меня не стесняются, я же муж. Я вытираю Джулии лоб прохладной влажной салфеткой, пока какой-то мой новый товарищ поправляет свой оголтелый натурализм. Где же ты, Кесси?!..
Чьи-то руки жадно мнут тело Джулии. Каждый исполнитель моего безумного приговора, содрогаясь, как будто готов разбить, расплющить тёмную фигурку на роскошной арабской постели. Кто-то просит переменить позу. Заглянул Вермиклер: - моя Язя в буфете, по обычаю сколько раз нужно? Потом он, всё-таки, где-то напился, ходил среди столов, и, как я понимаю, в желании мне угодить, спрашивал: - ну, кто ещё невесту не е..., и он называл, конечно, всё слово полностью, до конца, чтобы все его поняли правильно...
Эти сутки июля я вспоминаю, как чудовищный сон. Сейчас, в наше время, разве такое возможно? Дикость. Да и абсурд, наконец. Я почти не удивился тому, что обо всех событиях, связанных с игрищами в угоду варварскому богу, все участники начисто забыли уже на следующий день. И, кроме разговоров о пышной международной свадьбе в Доме культуры металлургов - ничего, даже сна о том, что видел я, не осталось в головах впечатлительных актюбинцев.
И я побывал в Африке. В загадочной и полной чудес стране Калликсо. И мне, который видел только игрушечную речку Илек, облизывали ноги лазурные волны сразу двух океанов. Прозрачные и тяжёлые, они поднимались до небес и выбрасывали на берег цветы и драгоценные камни.
И только Павлик... Да... Павлик... Спустя три дня, после нашей с Джулией свадьбы в Доме культуры металлургов, его нашли мёртвым в машине. В собственной машине "Нива", цвета "голубая адриатика", где японский магнитофон мог без конца играть вам лучшие песни света. Они были лучшие, а так устроен этот дурацкий магнитофон, он играл их без перерыва. С начала и до конца. А потом менял дорожки. Павлик сидел, обхватив руками руль, и - слева от его губ - два красных пятнышка, две крохотные ранки запеклись, как порез от безопасной бритвы...
Врачи сказали (его, конечно, осмотрели врачи) - они сказали, что Павлик умер от О-ЭР-ЗЕ: видите ранки - типичный симптом, он ведь курил, правда? бросил? ну, вот видите, тогда, конечно... вот вам и результат: бросил курить, вышел под открытую форточку... Змеи? какие змеи? Что вы! Откуда у нас змеи в Актюбинске?!
***
Папа Джулии, как мужчина мужчине, лично мне подарил сундук с красочными перьями. Перья эти волшебные, в них нужно показываться на балконе перед народом. Я теперь там, у них, сын короля. И теперь я хочу, чтобы меня, как и первого сына отца Джулии, отравили.
Чтобы отравили, как можно, скорей.
11-21 мая, 1988г.
САТИСФАКЦИЯ
В Доме культуры железнодорожников проводили КВН. Меня пригласили в состав жюри. Когда я пришёл исполнять обязанности, то увидел там Наташку Ильичёву. Она ходила по фойе рассеянная, расстроенная. Я узнал её не сразу. Наташка давно уехала из нашего города, ни слуху не было о ней, ни духу. А тут вдруг появилась собственной персоной. Модная, эффектная. Оказывается, заехала из столицы на пару дней и её, как звезду, пригласили в жюри на КВН. Наташка пришла, а ей, в самый последний момент, сказали, что произошла накладка, извините, нет уже у нас в жюри ни одной свободной табуретки. И правильно. Чему тут удивляться. Когда Наташка победила на областном конкурсе красоты, ей нужно было дать главе областной администрации Аслану Спулаевичу, а не корчить из себя девочку-недотрогу. Вот и аукнулось.
Подумаешь, горе – слегка унизили. Но Наташка переживала. Ходила по фойе, кусала губы. Грызла бы ногти, да нельзя. Ногти должны быть в форме. А губам ничего. Даже гимнастика. Массаж. Я подошёл. Сто лет не виделись – всё равно узнала. Как никак – друг детства. Даже сказала, что подождёт, пока я отжюрю, посмотрит на этот чёртов КВН, и после мы поболтаем.
Во время соревнований меня попросили заполнить каким-нибудь текстом паузу. Я взял микрофон, повернулся к тёмному залу. Сказал, что не вижу юмора в том, что участники любят рядиться в женские платья и говорить со сцены девичьими голосами. Такое ощущение, что меньшинство стало большинством. И вообще – ориентация, как и национальность – дело интимное и кричать об этом со сцены дурной тон. Молодежная публика, которая с радостью выла и свистела по поводу любой шутки, летящей со сцены, никакой реакции не обнаружила. Наверное, я ляпнул что-то не то. Может, кого задел. Никогда не знаешь, как твоё слово отзовётся.
Наконец, всё кончилось. Я не остался на чаепитие с высокопоставленными членами жюри. Меня на выходе ждала Наташка. Ждала. Я думал – смоется. Чай мы попили у неё дома. Наташка вышла к чаю в халате, запахнувшись настолько небрежно, что чай проходил в меня кусками. Я с трудом допил чашечку. Наташа… Она, смеясь, убегала от меня, ставя на моём пути то стул, то стол или тумбочка вдруг оказывались между нами. Халат на теле Наташки вёл себя очень свободно: оказывается, под ним и не было-то уже ничего. Кроме Наташки. Поймал. Обнял. Вот они, грудки красивые твои… Затихли у меня в ладонях. Насторожились. Я вдохнул запах твоих волос и чуть не закричал: так сильно я тебя, любимую, вспомнил…
***
Мы когда-то дружили с Наташкой. Как и полагается, я был от неё без ума, а она относилась ко мне с прохладцей. Пары людей не могут сосуществовать, если относятся друг к другу одинаково. Наташка, стерва, чувствовала, что неотразимо на меня действует. Посмеивалась, подшучивала. Заставляла исполнять свои всяческие капризы. Мне не всегда это нравилось. Иногда, даже совсем не нравилось, но я слушался. Мы большую часть дневного времени проводили вместе, мне нравилось на неё смотреть, а, приблизившись, вдыхать запах её волос. Но где найти ту грань, за которую не захочет перешагивать ваша любимая, чтобы не сделать вам чересчур больно?
Кажется, что они, любимые, вообще не имеют представления о существовании болевого порога у мужчин.
Наташка изощрялась, не зная удержу. И я не понимал, зачем? За что? Ведь она не бросала меня. И каждый день, снова и снова она приходила ко мне. И вот однажды я не выдержал. Я понял, что дальше не могу этого терпеть. Что, если я сейчас же не найду выхода от переполнявшего меня чувства несправедливости, униженности, оскорблённости, то я просто могу задохнуться. Конкретная причина, вызвавшая у меня все эти негативные эмоции, уже не имела значения. Я чувствовал, что изо дня в день меня к этому подталкивали, разными способами меня пробовали на излом, от меня ожидали взрыва. Уже после, когда я стал совсем взрослым, я понял, что это обычная ситуация, не нужно принимать всё так близко к сердцу. Женщина не успокоится, пока не дождётся взрыва. Ей нужен результат её же напряжённых трудов, она кропотливо капает на мозги и на всякие другие больные места неделями, месяцами. Женщине нужно видеть, как сорвался её мужчина, как он психует, крушит в доме мебель, матерится. На него можно тогда показывать пальцем соседям, как на взбесившегося шимпанзе и всем своим страдальческим видом говорить: «Зверь! Сущий зверь! И я ещё с ним живу!..».
Место было вполне романтическое: травка, молодые клёны. Майская теплынь, солнышко сквозь листья. И, я уже не помню, из-за чего, что явилось последней каплей. Я не просто толкнул, я швырнул Наташку на траву и набросился на неё, да, именно, как зверь. Грохнувшись верхом к ней на грудь, я стал изо всех сил шлёпать её ладонью по голове. Тут ещё из глаз, совершенно не к месту, полились слёзы. Да, я вдруг заплакал навзрыд. И я ещё что-то кричал ей, мучительнице своей, которую я любил больше всего на свете, и которая ещё таким образом заставила меня испытать страдания.
Вообще, настоящие мужчины, когда бьют женщин, не плачут. Молод я тогда был ещё…
Наташка потом встала, отряхнулась, оправила голубое платьице и ушла в своих и в моих слезах. Мы не встречались дней десять. Потом незаметно помирились. Если мужчина бьёт любимую женщину, и она его прощает, то это не оттого, что у них, у женщин, такое доброе, всепрощающее, сердце. Во-первых, она знает, что сама виновата. Во-вторых – ей нужно готовить мужчину к следующему взрыву, а для этого необходим определённый период затишья и совместной жизни.
Если вы уже били женщину, с которой знакомы или дружите, то это указывает на определённую у вас с ней степень близости. Может быть, это даже больше, серьёзнее, чем близость половая. Подающий надежды тележурналист Олежка Спивак-Лавров однажды пнул ногой под зад на улице одну из своих поклонниц. Зима, мороз с ветром. Она, чтобы понравиться, в тонких колготках и в дублёнке, которая заканчивалась где-то на животе. Летела плашмя вперёд руками по гололёду – сзади метель поднялась из снежинок. Неизвестно, как бы девица оценила способности Олежки, окажись они в постели, но тут она однозначно не могла сказать, что ничего не почувствовала.
С Наташкой мы помирились. А, поскольку нас уже связывало что-то большее, чем дружба, я стал уговаривать Наташку окончательно мне довериться и отдаться. Аргументы были более чем убедительными: «Я тебя люблю» и «Тебе будет хорошо». На уговоры ушёл примерно год, но я всё-таки своего дождался. Однажды мы с Наташкой остались наедине в квартире, где, кроме стола и стульев ещё была и кровать. Мы легли в кровать поговорить, и я снова, по привычке, так, на всякий случай, сказал: «Я тебя люблю, тебе будет хорошо». Наташка сняла трусы. Сошлись, видать, звёзды и все знаки зодиака. «Ух, ты! Подумал я…». И снял свои. Потом, собственно, было дело техники, а вот с ней у меня было слабовато. Всё-таки, в первый раз. Я влез на Наташку, которая слегка раздвинула ноги и безразлично смотрела в потолок. Ей бы в тот момент стакан семечек. Но мне было некогда заботиться об её досуге, я заглянул вниз и увидел предмет своих вожделений. Как я представлял, мне туда нужно было войти. Войти было чем: уже с полчаса мой первичный половой признак торчал гвоздём и требовал успокоения. Ну, я и вонзил его в Наташку острым концом. Против ожиданий он никуда не вошёл. Я ткнул ещё раз, другой, третий. Посмотрел на Наташку: «Тебе хорошо?». «Да», - ответила она, морщась. Я опять посмотрел вниз: да, вот она, девичья складочка, никаких волос, всё очень хорошо видно. А вот и я: прямо в эту складочку упёрся, вот-вот сломаюсь. Для порядка я ещё немного туда потыкался и с Наташки слез. Немного полежали. Разговаривать было вроде не о чем. Я чувствовал, что сделал что-то не так. Даже, как будто, ничего не сделал, а, если чего и сделал, так это – обидел девушку. И даже больше чем тогда, когда бил по голове.
Конечно – в первый раз. Откуда я знал тогда, что нужно ниже. Попросил бы Наташку больше раздвинуть ноги и ткнулся бы ниже пальца на два. Она бы послушалась. Я же обещал ей, что сделаю хорошо…
Вскоре пришли мои родители. Они с родителями Наташки ходили в кино, и нас оставили вместе, чтобы нам не было страшно. Я ходил тогда во второй класс, Наташка – в первый…
***
…Я вдохнул запах твоих волос и чуть не закричал: так сильно я тебя, любимую, вспомнил…
Тут я проснулся. Палата, капельница, полумрак. Колоть меня уже некуда, медсестра вечером нашла годный ещё сосуд на левой ноге, под ногтем большого пальца, пристроила капельницу. Боли я не почувствовал. Есть-таки плюсы в моём теперешнем состоянии.
Сестра дремлет в углу на кушетке.
Врачи боятся, что умру. Наверное, не исключено. Возраст. Говорят, человек столько живёт, сколько времени сохраняют активность его мозги. Если судить по моим снам, то мне ещё жить да жить. Сквозь годы мчась…
Сны и реальность, когда становятся воспоминаниями, одинаково недоступны, а по яркости впечатлений могут даже соперничать.
Мне нельзя волноваться, но я осторожно, чтобы не разбудить медсестру и чтобы не умереть, сосредоточился и, задерживая дыхание, позволил себе тихонько усмехнуться: «А, всё-таки, я добился тебя, Наташка!..».
24.12.03 11:03
НА СНЕГУ РОЗОВЫЙ СВЕТ
Хочу кровать. Нормальную. Нет, большую. И комнату. Для влюблённых должна быть комната...
Я бы хотела варить тебе. Что-нибудь вкусненькое. Я бы вкусно тебе готовила, как... себя. Вам, мужчинам, главное – это поесть. Ещё, чтобы было вкусно. И тогда вы можете, действительно, влюбиться в женщину. Примитив. Но с ним нужно считаться. Скушай конфетку, милый. Нет, тебе лучше колбаски. Н а тебе колбаски.
– Нам нужен необитаемый остров. Комната - это хорошо. Особенно, если она с колбасой и с ванной. Вот жалко, что ты не пьёшь. Не пьёшь совсем?.. Говорят, главное - девочку напоить, а потом делай с ней, что хочешь...
– А что ты хочешь?
– Тихо, тихо, милая. Я так часто не могу. Давай лучше про остров. Океания. Пальмы. Коралловый песок. Через десять лет у нас своя деревня. Через тридцать - маленькое государство. И лет сто в нём никто не будет воевать, потому что ещё достаточно крепкими будут родственные связи.
С пальмы я буду сбрасывать тебе кокосовые орехи.
– Пальмы не будет.
– Почему?
– Я не хочу, чтобы ты на неё залазил.
Я изучаю тебя. Мы знакомы уже миллион секунд, но я тебя ещё совсем не знаю. Женщина женщин. Где у тебя эрогенная зона? Здесь? И здесь? И - здесь? Как, и здесь бывает?.. Но такого не бывает! Слушай, у меня есть апельсинчик, я его хочу попробовать с тобой. Нет, тебе я, конечно, дам. Я с тобой хочу. Я не глупый. Я маньяк. Нет ничего вкуснее апельсина с любимой женщиной. Вот... Н а и тебе дольку…
Кровать – это, конечно, хорошо. Но скучно, как-то, по-мещански. И с той стороны она кровать. И с другой она кровать. Ну, как ты, к примеру, представляешь нашу жизнь с кроватью? Вечер, ванная, спальня, исходное положение. Никакого простора для творчества. Ты в троллейбусе пробовала? Представляешь – едешь в троллейбусе…Нет, мне все-таки очень нравится, что ты в троллейбусе не пробовала. И на чердаке. Да, у тебя полное отсутствие сексуального опыта. Я - верю тебе.
За окном зима. Позднее утро. Розовый свет низкого солнца на сверкающем снегу.
– У влюбленных должна быть комната. И я бы принимала гостей. Всех твоих друзей. У нас было бы много гостей.
– И я полгода, нет – год, собирал бы зарплату тебе на вечернее платье. Длинное вечернее платье с разрезами и вырезами. И с маленькими скромными бриллиантами. Я не боюсь, что тебя в нем увидят другие. Я горжусь тобой. Мне нравиться, что у меня такая красивая женщина. Слушай, какая ты красивая…Давай на этом как-то сосредоточимся… Дай сюда одеяло. Отдай, я тебе говорю. Кругом невыносимая жара, а ты, как чья-нибудь любовница в советском фильме – в одеяле. Вот умница. И не прикрывайся. Такое прикрывать стыдно. Прости, но у меня нет сил долго разглядывать, ты – чудо…
У нас с тобой было две дачи. Две машины. Четверо детей. У тебя два мужа. У меня две жены. Мы угорели в машине. Умерли в один день. Как и хотели. Как и должно быть среди мужчин и женщин, если они друг друга выбрали.
К вечеру все опять стало розовым. И сильнее сжал скрипучие снежинки мороз. Среди пустынного поля стояла машина. Тихо работал двигатель. И в маленькой уютной кабине было жарко-жарко.
18.06.93г.
ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ
Когда-то и ликом твоим и станом пестрели обложки крупных журналов. В бывшей стране Советов, посоветовавшись, санкционировали публикацию твоего телесного совершенства. Изощрённый импортный купальник всю славу твоих неисчислимых прелестей приписывал исключительно себе. Я не сказать, чтобы влюбился. Я попался. Потому что ты - с обложек всех журналов. Даже "Огонёк" дерзнул откровенную тебя, счастливую, в том же самом, импортном, а, значит, всё равно, что без - на обложку. Из-за тебя, из-за греховно-божественной, тираж, на один только раз, целомудренный "Огонёк" увеличил на полмиллиона.
И я попался. Если бы не этот увеличенный тираж – быть может, обошло бы меня искушение. Но тираж увеличили, и потом, когда я увидел тебя живую, я попался.
И всё бы ничего. О чём может мечтать мужчина, если ему невыносимо понравилась девушка, женщина? Нет, не о том, о чём вы сразу подумали. Он мечтает об ответном чувстве. И - в это трудно, невозможно поверить, но чувством ты откликнулась ко мне. Любая другая бы - нет. Любая хромая, косая, замухрышка - любая из них отказалась бы от меня, если бы так восторженно я к ней сунулся.
Влюбись, если хочешь стать отвергнутым. А я, хотя и не влюбился, но... голову потерял.
Только при тебе у меня не получалось правильно совместить пуговицы на пиджаке. Только на тебя я боялся взглянуть. Случайное прикосновение ударяло меня вспышкой молнии. Проклятый "Огонёк". Я знаю, в принципе, он ни при чём. Это - карма. Судьбе сопротивляться бессмысленно. Я с радостью, милой, тебе не сопротивлялся. Ведь как я мог не поддаться на твои остроумные цитаты из Шопенгауэра и на беглое воспроизведение фрагментов из раннего Пендерецкого. Вы видели женщину, которая могла бы в себе совместить красоту, Шопенгауэра и Пендерецкого? Я бы всё опошлил, если бы упомянул ещё и Сальвадора Дали, но не могу пойти против исторической правды: да, ты знала и любила и этого сумасшедшего.
Вот такая женщина была у нас в Актюбинске. Она родилась в нём, она в нём выросла. Она, жестокая, вышла замуж в этом городе, родила прекрасную девочку. В пять лет у девочки дивный голубой бант в золотых волосах...
Умница, с кем тебе было словом перекинуться, поговорить о кукольности в романах Набокова, о разнице между Караяном и Фуртвенглером. Со мной, милая, только со мной. Ведь я тоже родился и вырос в этом удивительном городе...
Но замужество - это ещё не недостаток. Все хорошие женщины всегда замужем. Твоим недостатком было... Не знаю, как это сказать. Сейчас можно. Это в прошлом у тебя. Об этом знали все, кроме тебя. Я, правда, до сих пор не знаю, был ли муж в курсе. Ну, чего не может знать муж о своей женщине, если об этом знали, знают все, кто её видел близко живую и совершенную? Об этом знали все, и на работе по за глаза тебя даже прозвали "вонючкой". Обложка журнала не передаёт всех подробностей и потому тираж "Огонька" не мог попасть в зависимость от запаха. Но... ведь, правда, это было ужасно. Где бы ты ни появлялась - всюду распространялся этот резкий удушливый запах. От стройной длинноногой богини за версту несло запахом немытого потного тела. Молодого.
Сразу перейдя на твою сторону, я объяснил всё просто, буднично: нет у тебя, у совершенной, любовников. А мужа я видел. "Новый русский" - какое ему дело до того, чем пахнет женщина, вид которой, даже в купальнике, заставил ахнуть 15 республик бывшего Союза.
Ты откликнулась чувством ко мне, а я стал ломиться в открытую дверь: я приносил тебе цветы, всякие подарочные пустяки, даже пару канцон напел в звукозаписи. Я, не прося твоей руки, молил о прикосновении губами к умным коленям в "Sanpellegrino". Ты отстранялась, шарахалась, потому что у тебя был муж "новый русский" и оттого, видимо, и все мужчины были противны. Отталкивая меня, и в то же время, прибегая ко мне днём среди дождя и даже однажды - в глухую полночь, ты, как заклинание, всё же твердила, что любишь его: "Я люблю мужа. Я люблю мужа. Я вышла замуж по любви, я очень люблю своего мужа". Со своим мужем ты была уже на волосок от лесбиянства, но говорила, говорила мне, стиснув в руках тонюсенького Аронзона: "Я люблю мужа".
Поцелуй - это уже близость. Даже спустя год я не мог пробиться к твоим губам через этот глупый в наше время, архаический, консервативный заслон: "Я люблю мужа".
Я натворил к тебе горы посланий. Я тысячи раз терял надежду и снова воспламенялся от твоего доверчивого визита, короткого телефонного звонка. На сколько может хватить взрослого мужчину, если в течение года не дать ему даже поцеловаться? И только потому меня и хватало, что время от времени снимали с меня напряжение Аннет, Лизетта... А тянуло к тебе...
Я как-то неожиданно тебя потерял.
Из города Актюбинска под видом русских уезжали сплошным потоком все, кто думал, что в России не нужно будет на каждом шагу вспоминать свою неудачную национальность.
Твой "новый русский" предусмотрел всё заранее. Собрал и тебя и вещички. И дочку очаровашку свою с огромным голубым бантом. И увёз. И я даже не знал, куда. Из никому в мире неизвестного Актюбинска люди уезжали в никому в мире не известные российские города.
Мне было жалко, больно. Но у нас так и не случилось близости, свойственной мужчинам и женщинам, и потому можно было сносно жить и с болью и с горечью.
Но как-то в мае я поехал в Москву. Командировка. По улицам российской столицы бродили толпы разных патриотов. Одни размахивали красными флагами, другие бесстрашно им в ответ огрызались и чем-то махали в ответ. Евреи, как всегда, на всякий случай, прятались.
Я осторожно пробирался через обозлённых застрельщиков и апологетов, и вдруг волнение пронизало меня. Я услышал запах. Мой знакомый любимый запах. Запах твоего тела, который нельзя было спутать ни с чем, узнать из тысяч. Мне показалось, этого не может быть (я сказал себе так), а сам уже шёл, уже бежал навстречу ему. Пусть долго, да, пусть полчаса или больше того, неизвестно на сколько, я летел к тебе (к чёрту его, Шопенгауэра!), я боготворил этот твой удивительный запах, который был ТЫ.
И я нашёл тебя. На тихой улице с высокими сильно-зелёными деревьями ты гуляла со своей прелестной дочуркой. И, когда ты увидела меня, ты уже не сдержалась. Лицо моё и волосы были мокрыми от твоих свёз. Бесстыдно и бессовестно ты целовалась со мной на улице, долгожданно стиснув коленками мою растерявшуюся ногу.
Мы поженились с тобой. Да, ты бросила мужа. Мы уехали обратно в Актюбинск, и милый твой ребёнок очень быстро стал говорить мне "папа" и крепко и сладко обхватывать меня за шею, когда я возвращался с работы. И я постарался полюбить, любить тебя так, чтобы тебе не нужно было убегать в полночь куда-то, чтобы рассказать в пустоту, как сильно ты меня любишь.
И - что интересно, что странно... У тебя исчез твой специфический запах. После первого со мной поцелуя, первого объятия. Скептики улыбнутся. Ведь бывший твой муж, возможно, также пропускал мимо ушей эту своеобразную твою природную особенность.
Но... нет. Я так не думаю. Цветок должен цвести и пахнуть, пока не случится то, для чего он раскрыл свои лепестки. И кто знает, каким способом высшие силы могут заставить нас последовать своей карме.
31.03.97г.
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ…
Коридор. Дверь в офис. У двери мужчина и женщина. Может, это мы с тобой. Может – какие-то посторонние. Стоят, как будто беседовали, и возникла пауза. Пауза, когда двое молчат, но, как будто продолжают о чём-то говорить друг с другом. Они могут так стоять и говорить часами. Но нет, они не могут позволить себе такой роскоши. Нужно уходить. Нужно расставаться. Ещё секунда. Ещё мгновение. Оно короче, но сладкое какое! Какое горькое…
Лицо мужчины. Оно обыкновенное. Оно необыкновенное для женщины, которая напротив. Мужчина смотрит на женщину так, будто хочет сильнее отпечатать у себя в памяти её облик. Не жадно – нет. Слово «жадно» здесь не подходит. Наверное, внимательно, бережно. С любовью?
У неё взгляд другой. Она ещё чуть-чуть здесь, с этим мужчиной, который ей близок. Наверное, очень близок. Но мыслями женщина уже где-то в другой жизни. Хотя сейчас она переживает. Наверное, она тоже не хочет уходить, не хочет этого расставания.
Мужчина касается пальцами лица своей хорошенькой женщины. Своей? Средним пальцем проводит по левой её брови, как бы приглаживая её. Потом – по правой. Ещё – тыльной стороной пальцев, той, где тоньше, нежнее, чувствительнее кожа, проводит по щеке.
– Он тоже может так тебе делать?
– Да… И не только…
Рука мужчины медленно соскальзывает вниз. Она движется по телу женщины, приостанавливаясь, как бы задумываясь. Летняя кофточка. Джинсы – сначала ремень. Потом – жёсткий металлический замок-молния. Замок кончается. Пальцами слышно: да, он кончился. Можно найти, где он начинается, нащупать собачку, потянуть её вниз. Скобы разваливаются. Светлые, тонкие плавочки. Ладонь судорожно, требовательно уходит туда, плотно обхватывает лобок. Женщина вздрагивает, сжимает ноги от неожиданности, потом расслабляется. Да, да, можно. Нужно. Я этого хочу. Я всегда этого хочу. Я хочу, чтобы всегда твоя ладонь была здесь, была со мной…
С улицы доносится сигнал машины. Резкий. Недалеко окно. Хорошо слышно. Мужчина целует женщину и жадно, да, на этот раз, действительно, жадно, удерживает ладонью её лобок, сжимает его.
Женщина отстраняется. Прячет глаза: мне нужно идти… - Да, понимаю. Мужчина помогает ей привести себя в порядок, застёгнуть молнию. У него сумочка, пока женщина, держа перед собой маленькое зеркальце, подкрашивает губы, слегка припудривает лицо. Тушь расплылась. Да, нужно ещё поправить волосы. Так. Кажется, всё в порядке…
Часом раньше…
Малоэтажное современное здание. Внутрь входит молодая стройная женщина. Сколько ей? Да, лет двадцать пять, но – не более тридцати. Ну, в крайнем случае, тридцать один. Джинсики в обтяжку, батник и, если приглядеться – без бюстгальтера. Красивая грудь - зачем сковывать?
Женщина поднимается по лестнице. У неё подавленное состояние. А так вроде ничего. Поднимается уверенно, попка подчёркивает, вычерчивает: ах, какая прелесть, эта женщина! А женщине плохо. Виду она не подаёт, но это заметно. Подойти бы, отвлечь, развлечь. Увлечь. Шла бы в настроении, радостная - непременно бы кто-нибудь подошёл, спросил, который час, поделился бы соображениями насчёт погоды. – Вы к нам? А в какой отдел? Нет, не подошел никто. Мужчины, если и были на пути, просто цепко охватывали её взглядом, получали от этого своё привычное мимолётное удовольствие – и только. Много ли им надо для счастья, этим мужчинам?.. Нет, никто не подошёл. Никто не подошёл, не спросил, как её зовут, и не представился сам, распуская хвост.
Женщина прошла одна по коридору, остановилась у двери с табличкой. Нет никакой разницы, что на ней написано, табличка – и всё. Ясно, что кабинет. Женщина поправляет причёску, надавливает на ручку двери. Дверь открывается.
Кабинет. За маленьким столиком в креслах сидит знакомая нам женщина. С ней мужчина. Слегка элегантный, чуть солидный. Солидный по виду, не по комплекции. Видно – начальник, но этой женщине старший товарищ, даже, наверное, друг. Кофе, лимончик, раскрытая коробка шоколадных конфет. – Шампанское будешь? – Не знаю… Достаёт шампанское(из-под стола, из холодильника, а, может, у него и бар там есть). Потихоньку пьют из широких, плоских фужеров.
– Я приехала из командировки, было уже поздно, я сильно устала. Хотелось поскорее принять душ и лечь спать. Я уже под душем спала. Кое-как добралась до постели. А он начал приставать. Он, конечно, не спал, всё ждал меня. Ждал, когда приеду из командировки, ждал, когда выйду из ванной. А я хотела спать. Я не могла. Я очень устала…Он злился, лез, упирался ко мне в бёдра, в живот своим железным концом. Я стала плакать, просила его меня не трогать, умоляла подождать до завтра. Я понимала, я – жена, я только просила - завтра, давай завтра!.. Он стащил меня на пол, ударил. Потом насиловал долго и больно.
Женщина не выпускает из рук платочек и прикладывает его то к глазам, то к носу. К чёрту вся косметика. А духи… Какие приятные у неё духи…
Наверное, она пришла именно к тому мужчине, который может найти для неё слова утешения. Он их ей говорит, присаживается на корточки напротив, заглядывает в глаза. Видно, что ему нравится смотреть в эти глаза. Какие красивые у неё глаза – думает мужчина. Он говорит женщине: какие красивые у тебя глаза. Он гладит её колени, обтянутые тонкими эластичными джинсами. Поправляет волосы, которые, как ему кажется, скрывают от него лицо. А ему хочется без конца смотреть на это лицо. Он думает, что у женщины очень красивое лицо. Возможно, самое красивое.
Мужчина встает. Дальше происходит то, что, кажется, совсем неприменимо в данной ситуации. Может быть, в каких-то иных обстоятельствах. Но не сейчас, не здесь…
Мужчина поднимается, расстёгивает брюки. Женщина ещё раз прикладывает платочек к глазам и к носу. Откладывает его в сторону, на столик. Поднимает к мужчине глаза: у тебя дверь закрыта? – Да, конечно.
Мужчина ошибается. На самом деле он хотел закрыть дверь и забыл. Но и он, и женщина уже вне времени и вне замкнутого своего пространства. Вернее, незамкнутого. Как к роднику, как к животворящему источнику припала к мужчине его самая красивая, самая лучшая. Со стороны это выглядит, конечно, не очень. Да и не нужно, чтобы такое видел кто-то со стороны. Но по коридору идёт какой-то тип в костюме, возможно, даже начальник нашего начальника. В руках у него бумаги, их нужно занести именно в этот кабинет, посоветоваться…
А женщина всё никак не может успокоиться, не может утолить своей жажды. Она же не знает, что дверь кабинета незаперта. И её мужчине не до того. Ему сейчас хоть последний день Помпеи.
Хорошо, что типа, почти уже у самых дверей, останавливает, наверное, секретарша. Показывает ему какие-то другие бумаги. Тип уже взялся за ручку двери.
А любовники… Наверное, их уже можно так называть? – а любовники – вот-вот… сейчас… ещё минутку…
Секретарша густо накрашенными своими губами ещё что-то говорит типу, потом улыбается так, что он забывает про свои дела в кабинете. Тоже расплывается в улыбке и уходит за ней, которая, как фотомодель и проститутка в одном флаконе, и только мёртвый не пошёл бы за ней следом, куда бы она ни пошла, даже в ад, куда обычно и заводит мужчин природное отсутствие к таким женщинам бдительности, самомнение и сопливая доверчивость.
В кабинете же всё закончилось. Женщина вытерла губы платочком. Ещё раз промокнула глаза и покрасневший носик. Помадой поправила рисунок на губах. – Кофе? – Нет, мне уже нужно идти. Мужчина подходит к двери, чтобы её открыть и обнаруживает, что он и его прекрасная гостья, оказывается, минут двадцать, очень рисковали. Дверь незаперта, но, кажется, всё обошлось.
***
А это вообще бред какой-то.
Два мужика сидят в гараже, выпивают и закусывают. Обстановка самая обыкновенная: ящик, на нём пузырь водки, лук, куски хлеба, крошки, разумеется. Соль осыпавшейся горкой. Всё это интеллигентно, на газетке. В стаканы наливают по чуть-чуть, чтобы не просто нажраться, а и поговорить. Сами тоже на какой-то таре, укрытой тряпками для мягкости, сидят.
Над ними, прямо над ящиком, повешенный. Вернее, повесившийся. Время летнее, а он почему-то в пальто, но босиком. Вообще-то, он немного мешает. Потому что почти над закуской. Иногда приходится рукой эти бледные, с синевой, ноги чуть отодвигать, чтобы дотянуться до хлебной корочки, потом выпиваешь, разговариваешь на разные темы, а они, ноги, продолжают раскачиваться. Пусть не сильно, но с мысли сбивают. Один из мужиков то ли хозяин гаража, то ли родственник пострадавшего, наверное в курсе, почему в помещении такая обстановка случилась. Понятное дело, после второго-третьего захода вопрос этот и возник: нет, не почему в пальто, а почему у покойника сперма из ушей? Ответ прозвучал так (да, вообще, типа беседа получилась):
– Жену сильно любил, а она ему не давала.
– А что, в посёлке других баб больше не было?
– Были. Он эту, жену свою, любил…
Сны
Речка. На берегу, у костерка, опять-таки, мужики. Трое. Почти репинская картина. Только здесь рыбаки. У них при разговоре меньше, чем у охотников, агрессии, кровожадности. Мужики обыкновенные, ничего в них особенного. Правда, у одного из них рога. Пара стройных длинных рожек. В остальном он, как все: куртка, штаны, свитер, небритость на лице. Все мужики спокойненько так разлеглись, расположились к привычному рыболовному трёпу. Сказать, что без водки, значит, соврать, так же, как и тот, кто сейчас рассказывает. Однако, не про рыбу. Может, даже, и не врёт…
– А к Лизке Герег по ночам муж приходит. Покойный. Уже недели две. Она его не видит, только по ночам шаги по комнатам. А Лизка его шаги знает - точно он. Дышит, трогает вещи, один раз даже стул уронил. Лизка боится. Спать ложится с детьми. А однажды не выдержала, встала, пошла в темноте на шорох. Остановилась, а, может, её даже кто-то остановил. Ноги к полу как приросли. Ужас в сердце пошёл, словно кто льдом прикоснулся. Волосы на голове встали. А Лизка, через страх не сказала, а провыла – голос не слушался: Михай, ты зачем сюда приходишь? Зачем меня, детей пугаешь? В комнату через окно свет проник от луны, неяркий, но видно, что Михай стоит в том костюме, в котором его хоронили. Покупали ещё к свадьбе старшей дочери. И - в белых кроссовках. Откуда кроссовки, он их уже износить успел, как на свадьбу надел первый раз… А хоронили его в туфлях. Может, он их, кроссовки, искал, ходил по квартире по ночам? А Михай и говорит: не бойся, Лиза. Я, говорит, больше не буду приходить. И тут с потолка снег пошёл. И сыпется, сыпется, крупный такой. Луна светит – хорошо видно. А на улице лето. Июль.
Так он ей и не сказал, зачем приходил. Но беспокоить перестал. Утром во дворе Лизка Музгарку дохлого нашла, собаку Михая. Наверное, он его с собой, вместе с кроссовками, забрал.
– А мне по ночам – это уже другой мужик рассказывает - часто один и тот же сон снится. Дом высокий, многоэтажный. И у него крыша, как на скворечнике. Я на ней, и сползаю к краю. Вокруг черепица, за неё никак не ухватишься. Ещё чуть-чуть - и оборвусь, вниз рухну. И надежды никакой. Так и просыпаюсь. Одеяло в руках так сжато, что жена пальцы грудями отогревает, чтобы окоченение прошло.
Такой рассказ, естественно, не обходится без комментариев. Вроде таких, что, мол, если бы ты жену перед сном за груди потрогал, так не пришлось бы потом и на крышу лезть – ну, и всякие, обидные для мужика - вроде, как шутка - вещи. Вот и рассказывай после этого о сокровенном.
И тут в беседу включается тот, что с рогами. Молчал, молчал – не выдержал.
– Вот вы, мужики, держали ли вы когда-нибудь в руках свои яйца? Это я так, чтобы вас настроить. Знаю, держали. Ощущение всем знакомое. Так вот, мне на-днях приснилось, что я свои яйца держу в руках перед собой. В мошонке, тёплые такие, перекатываются под морщинистой волосатой шкуркой. И, где-то в метре от того места, где им положено быть. Стало быть, то ли оторваны, то ли отрезаны, но со мной, у меня в руках – вот они. Мне страшно: жизнь потеряна. Яйца оторвали – как без них? И в тоже время, внутренний голос подсказывает, что я ещё могу их назад поставить. Но не сразу, не сейчас. А пока, какое-то время, мне нужно побыть вот в такой ситуации – я отдельно, а мои яйца – отдельно. Во сне яйца ко мне так и не вернулись. Я даже их приставлять на место не пробовал. И проснулся, конечно, в мужском ужасе, как вроде, в самом деле, через эту пытку прошёл. Это, скажу я вам, не с крыши падать. Но хорошо, что осталось в памяти то, что внутренний голос говорил. Что всё у меня наладится…
Нагашпай
Со стороны реки раздаётся крик. Оказывается, не все рыбаки сидели у костра. Один из них решил искупаться. И купальщика звали Нагашпай. Его тут нужно выделить особо. В посёлке Нагашпай славился тем, что у него был очень большой член. Лина Бесхозная утверждала, что самый большой. Итак, купался, купался, Нагашпай, никого не трогал, потом - как закричит! Как торпеда, поплыл к берегу. Кричал даже тогда, когда лицо окуналось в воду. Тогда торпеда булькала. Когда, насмерть перепуганный, Нагашпай выскочил на берег, рыбаки покатились со смеху. Сразу, пока он плыл, тоже испугались, думали – как спасать, а когда он на берег выскочил – стали вдруг ржать над его несчастьем. Нагашпаю щука – длиннющая такая – около метра – член заглотала. Так он с ней на берег и выскочил. Перепуганный, глаза из орбит, а между ног - щука болтается.
Рыбаки вокруг костра повалились, ржут – слова сказать не могут. Потом один из тех, что без рогов, выдавил из себя: Моника Левински!.. И опять закатился в истерике, аж слёзы из глаз.
Когда отсмеялись, стали думать, как помочь другу освободиться от своего улова. Дельфин и русалка - они, если честно, всё-таки не пара. Выглядел Нагашпай, конечно, весьма презентабельно, однако жить в таком виде было нельзя. Нагашпай уже успокоился, говорил, что не больно, только всё произошло неожиданно. Раз не больно – хотели просто подружку сдёрнуть, но не тут-то было. Нагашпай за неё ухватился, как вроде дороже этой рыбы у него в жизни ничего не было. Вот ведь: и знакомы-то они с этой щукой всего минут пять, а уже – как родня.
Однако решить проблему через врача, Нагашпай всё-таки согласился.
И отвезли его к медсестре Антонине. К Тосе.
У Тоси
У Тоси в кабинетике чистенько. Занавесочки беленькие. На кушетке белая простыночка. Ванночки с инструментами беленькие. Инструментики холодные, блестящие. Сама Тося - с длинными обесцвеченными волосами, в белом халатике. Ох, как она испугалась, когда увидела Нагашпая с его уловом! Обычно медсёстры ничему не удивляются, хоть разложи перед ними человека по частям, а у Тоси прямо лицо сделалось под цвет халата. Видать, необычное сочетание подействовало. Щука отдельно – ничего. Отдельно пенис – тоже нормально. А вместе получается на живом человеке, с которым, можно сказать, Тося сидела за одной партой , на этом человеке - пособие по Сальвадору Дали.
Устроила Тося бесштанного Нагашпая в кресло, на котором женщин рассматривают, звякнула из ванночки скальпелем…
Тут нужно отметить одно обстоятельство. Тося никуда из кабинета не выходила и за ширмочку не пряталась. Но халатик у неё сделался несколько иным. Он остался точь-в-точь таким, как был, беленьким, по фигуре сшитым, только стал заметно прозрачнее. Настолько, что обнаружился прекрасный Тосин загар и бельё тонкое, праздничное, как для свидания.
А дальше всё продолжалось, как обычно. Тося чиркнула по щуке несколько раз скальпелем, сильными пальцами с треском разломила щуке голову и освободила пациента, который опять успел побледнеть и покрыться капельками пота. Упал бы, если бы не лежал.
Сполз Нагашпай с кресла, присел на край кушетки, дышит тяжело от нового, пережитого от операции, страха.
И тут снова нужно отметить одно, опять связанное с Тосиным халатом, обстоятельство. Медицинская одежда, кажется, стала ещё прозрачнее. Но… под ней уже не было этих непрочных эротических тряпочек от Роберто Кавалли! Только смуглое голое Тосино тело. Но - ах! Какое тело!..
Медсестра отбросила окровавленную, растерзанную щуку в специальный белый таз и вдруг посмотрела на Нагашпая глубоко, будто заглядывая внутрь. И как-то странно, с болью, которую ей не удавалось скрыть. Ей показалось, что он отводит, прячет от неё глаза.
– Нагашпай, - спросила Тося друга детства, - Нагашпай… Она сразу не решалась спросить, но потом всё-таки набралась смелости:
– Нагашпай… Тебе с ней было хорошо?..
***
В поле рассвет. Несколько тучек окрашиваются на горизонте в тёплые краски. Потом в светлой его части загорается искорка, которая через несколько секунд превращается в Солнце.
Невдалеке затарахтел на тракторе пускач. Двигатель завёлся, зафырчал, потом трактор, слышится, поехал.
А вот и он. Гусеничный, тащится по полю. Без всяких там сеялок, сенокосилок. И – без водителя. Да, что удивительно – водителя в тракторе нет. Этакий Летучий Голландец целинных полей. Хотя, если присмотреться, никакого чуда здесь нет. Машина на скорости, двигатель работает, а педаль газа утоплена и зафиксирована дощечкой.
А вот и сам шутник-затейник в каком-то странном головном уборе. Бежит за трактором. Догонит. Трактор идёт медленно. И правда, водитель нагоняет своего громыхающего беглеца… Потом – как будто собирается попробовать с ним наперегонки – вырывается вперёд. Даже обгоняет на десяток шагов. Потом… ложится на пути трактора, под его правую сторону. Ногами к машине. Теперь водителя догоняет трактор. И – перегоняет, безразлично прокатившись зубьями траков по телу хозяина, которое хрустнуло, лопнуло. Кровь брызнула из-под гусениц, голова откатилась в сторону.
И вот - то же самое поле. И солнце уже высоко. На месте происшествия милиция, врач в белом халате, несколько жителей из посёлка. Останки тракториста уже на куске полиэтилена. Двое мужчин берутся за края, поднимают и перекладывают на носилки окровавленную кучку мяса, костей и одежды. Один из милиционеров отходит в сторону, что-то подбирает. Это голова мужчины. На ней пара стройных длинных рожек. Удобно носить. Милиционер так её и взял – за рога. И отнёс, положил туда, где одежда и кости…
Позже нашли трактор. Он так и полз по полям, которым здесь ни конца, ни края.
***
Коридор. Дверь в офис. У двери мужчина и женщина. Только что они вышли из кабинета. Кажется, он её целует. Целует, а потом отстраняется и смотрит, смотрит, смотрит в лицо, в глаза. С улицы доносится сигнал машины. Противный, резкий, требовательный. Или это только так кажется? Ещё раз взглянуть ей в лицо, задержать в памяти. Да не на всю жизнь она уходит. На одну ночь. Придёт. И придёт ещё не раз. И ты, мужчина, будешь делать с ней всё, что захочешь. О чём не может и помыслить её муж, который сигналит сейчас там, на улице, вызывает свою жену, а она, как всегда, возится в этом ЗАО или ООО, нет на неё никакого терпения.
Да, он муж и - деваться некуда - надо расставаться, отпускать к нему эту милую женщину, в чужие объятия.
– Я тебя люблю, - говорит ей мужчина, продолжая на неё смотреть как-то неприлично, бесстыдно, откровенно. От одного такого взгляда можно забеременеть… - Я тебя тоже, - отвечает женщина, глаз на него не поднимая. Уходя к другому мужчине, она не может посмотреть в ответ на своего любовника. Частью своих мыслей, тела, она уже там, на улице. Она уже сбегает по лестнице…
Да, уже невозможно дольше здесь оставаться. Проклятая машина сорвёт голос. Причёска, одежда – всё это поправляется уже на ходу. Похорошевшая от всех переживаний, возлюбленная женщина уже сбегает по лестнице, вот она уже во дворе, где у машины топчется тот самый муж. Он просовывает руку в яркую сиреневую «Лянчу», чтобы посигналить ещё раз.
Нет, уже не надо…
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ
«Или начать так: «Я очень баб люблю,
они смешные и умные…».
Веничка Ерофеев.Поднимаюсь по ступеням. Одиннадцатый этаж. Лифт, конечно, не работает. В элитных домах всё тоже, как у людей. В карманах у меня бутылка коньяка, шоколадки. Нужно бы цветы, но вдруг муж дома. Один раз уже нарвался. Инны дома не оказалось, дверь открыл муж. От неожиданности сунул ему шоколадки: «Это вам с Инной Сергеевной…». Вообще шоколадки предназначались детям – Алёнке и Катеньке. У Инны Сергеевны, кроме прекрасной груди и умненькой головки ещё есть две дочурки. И – муж. Павел Антонович, бизнесмен. Наверное, средний. Потому что в его элитном доме не работает лифт. Но зато на лестничной площадке телекамера. Сейчас, когда я доберусь до этого проклятого одиннадцатого этажа, на меня вначале будут смотреть через маленький телевизор.
Инна Сергеевна – очаровательная молодая женщина, преподавательница всяческих литератур в университете. Защитила кандидатскую по Набокову. Читала мне отрывки. Мужу такое читать бесполезно. А мне полезно.
Когда Инна Сергеевна читает, я даже её не слушаю. Она красива. Это и субъективная, и объективная оценка её внешности. Мягкие – я думаю, я никогда их не касался – мягкие, слегка вьющиеся, тёмные волосы. Почти всегда открытые плечи. Не шея – шей-ка.
Я не слушаю Инну Сергеевну, когда она читает мне про своего Набокова. Я ей любуюсь. «Посмотри, как я любуюсь тобой – как Мадонной Рафаэльевой!..». Сказать, что я в неё влюблён – нет. Я себя уже спрашивал об этом – нет. Но мне нравится смотреть на неё, слушать. Это я, конечно, слукавил, что тексты этой милой женщины я пропускаю мимо ушей. Есть взаимосвязь: она для меня становится красивее с каждой фразой. Когда она рассказывает о Набокове, Гоголе, её ноги удлиняются на глазах. Талия становится уже. Голубые глаза – ярче. Я думаю: «Где ещё можно найти, встретить такую женщину? - Нигде!».
У Инны Сергеевны потрясающий папа. Он учёный-физик. Чего-то там изобрёл, и в Канаде использовали его прибор при очистке Великих озёр. У нас бы убили.
Папа Инны Сергеевны однажды решил, что всякому культурному человеку необходимо в жизни знать 100 стихотворений. Иначе – что это за жизнь?
Он их выучил. Как-то я стоял с этим сумасшедшим, вечно вдохновенным физиком на автобусной остановке и в его исполнении слушал малоизвестного Лермонтова. Стихи были длинными. Мы пропустили два автобуса.
Папа Инны Сергеевны чуть старше меня. Он бегает по утрам, и уже в третий раз женился. На своей студентке, которая родила ему мальчика и продолжает смотреть на своего кумира восторженными глазами, кажется, до сих пор ещё не веря своему счастью.
Я же всё никак не соберусь побежать. Зимой жду лета, осенью – весны. Бегаю по бабам. Это всесезонно. Тащусь вот, сейчас, на 11-й этаж, кряхтя, проклиная всё лифтовое хозяйство. Нет, ну, раньше с этими этажами было всё-таки попроще. «Было небо ближе, были звёзды ярче…». А небо – оно, пожалуй, стало ещё ближе. Ну – не рукой пока ещё подать, но высота уже чувствуется – разрежённый воздух…
В кармане у меня две шоколадки. Я предварительно звонил. Мужа дома быть не должно. Уехал за товаром. Инна Сергеевна рассказывала, что у него есть пистолет. Так, маленькая подробность, деталь. Везёт же мне. Как-то дружил с девушкой, у которой, как я узнал чуть позже, муж сидел в тюрьме за убийство.
Может быть, этого тоже посадят. Жалко – такой молодой. Ему бы ещё жить да жить. И жизнь-то – только начинается. Джакузи недавно установил. Этот Павел Антонович легко может оказаться жертвой болезненных домыслов, беспочвенных подозрений.
Ведь у нас ничего не было и нет с Инной Сергеевной. Мы даже не целовались. То, что я смотрю на Инночку, когда она читает про своего Набокова, что я представляю её всю, какая она есть, под кофточкой и джинсами, когда она в кофточке и джинсах, и какая под халатом, когда она в халате, ещё ничего не значит, и этого к делу не пришьёшь.
Коснуться, провести кончиком пальца по кофточке там, где под тканью, напротив – сплюснутый лифчиком сосочек…
Все мужчины чего-то всегда себе представляют, можно прийти в ужас, если показать это по телевизору, но это норма, без которой мужчина как вид существовать не может.
Инна Сергеевна открывает дверь. Я сразу вижу её улыбку. Главное, из-за чего человек может понравиться сразу – это от улыбки. Вот Инна Сергеевна мне когда-то так сразу и понравилась.
У меня хобби – я смеяться люблю. Инна Сергеевна тоже. Значит, у нас много общего. Кстати, о весёлом: какие сегодня на Инне Сергееве плавочки?.. Красный тесноватый топик, короткая джинсовая юбка, колготок нет, всё по-домашнему. Черные бровки, конечно, подведены, реснички распушены где-то в пятикратном размере от первоначального состояния. Подрумянены ли щёки? Или это румянец естественный? От радости, от волнения, что меня, задыхающегося от счастья, увидела?..
Тут же под ногами начинают путаться Катя и Алёнка. Берите, детки, шоколадки. Интересно, как они про меня потом папе рассказывают? Подозреваю, что существует какая-то особенная женская порука. Не нужно обманываться, будто пяти, тем более семилетняя девочка – это такой несмышлёныш, которому можно запудрить мозги любой складной байкой. Это уже Тайная Планета, это уже Женщина. Планета-Полная-Тайн…
Привет, говорю, Инна Сергеевна. Я тебе принёс Веничку Ерофеева.
Мы проходим на кухню. На столе уже что-то из лёгких закусок. Меня ждали. Мелочь, а приятно. По чуть-чуть коньячку. Инна Сергеевна написала небольшой рассказик, ей хотелось мне его прочитать. Она забыла, что один раз я его уже слушал, а я, улыбаясь, промолчал. И прослушал ещё. И в этот раз её коротенькая вещица понравилась мне ещё больше. И я был рад, что не нужно напрягаться, придумывая слова одобрения. Новые, искренние слова нашлись сами собой, Инна Сергеевна радовалась, как ребёнок.
Я не влюбился в Инну Сергеевну, мне просто нравится на неё смотреть. Она сидит на стуле и ощущает мои глаза на своих голых коленках.
Так в каких же трусиках сегодня этот ребёнок, мать, жена и кандидат наук?
– Слушай, - зачитываю я ей из Ерофеева:
«Окно в Европу было открыто Петром в 1703г и 214 лет не закрывалось».
Я знаю, что Инне Сергеевне это должно понравиться, как и мне, и произношу фразы так, будто передаю чего-нибудь вкусненькое, чего попробовал сам и теперь хочу, чтобы и она ощутила этот замечательный вкус.
Я читаю ещё:
«А я глядел ей вслед и ронял янтарные слёзы».
«И ещё раз о том, что тяжёлое похмелье обучает гуманности, т.е. неспособности ударить во всех отношениях, и неспособности ответить на удар».
«Ценить в человеке его способность к свинству».
Конечно, как тут не улыбнуться. Инна Сергеевна делает это вслух, по-детски хихикает. У этой малышки весьма эротический смех.
Между нами стол. Я нахожу возможным пересесть поближе, рядом, чтобы невзначай поцеловать оголённое плечико Инны Сергеевны. Это такой пробный поцелуй. Если Инна Сергеевна позволит себе мне это позволить, то потом можно и в шейку.
У нас, у мужиков, всё одно на уме.
Веничка:
«Когда камыш только шумит, гнутся деревья».
«в чём-то соглашаюсь с Вильямом Шекспиром, но кое в чём и нет».
А поцеловать можно и в смеющиеся губки.
«Ведь блядь блядью, а выглядит, как экваториальное созвездие».
«Когда Господь глядит на человека, он вдыхает в него хоть чего-нибудь. А тут он выдохнул».
Неожиданно Инна Сергеевна начинает красиво плакать. Не клеится у неё семейная жизнь. Ну, это и козе понятно.
Надо бы как-то помочь. Сажусь опять напротив, наливаю по коньячку.
– Может, говорю, нам сексом заняться? К тому моменту я уже разглядел: розовые, весьма непрочные. Потянулась Инна Сергеевна за чайничком, утратила бдительность, короткая юбочка ещё сдвинулась кверху. Потом расплакалась – до того ли, чтобы следить за всем – тут вообще жить не хочется.
Ну, не умирать же? – Может, говорю, нам сексом заняться?
Полноватые груди Инны Сергеевны расстегнули топик до перемычки, соединяющей чашечки бюстгальтера.
– Нет, отвечает Инна Сергеевна. Я люблю мужа. И у меня месячные.
– А, если - орально? – я не оставляю своей затеи каким-то образом помочь молоденькой женщине восстановить душевное равновесие.
– Нет, орально мне не нравится, - всхлипывая, шепчет моя милая умница.
Я снова подсаживаюсь, помогаю её грудям: расстёгиваю две последние пуговички, и они чувственно расправляются в тонком розовом белье. Инна Сергеевна испуганно спохватывается: «Дети!..». Детей удаётся уговорить пойти на улицу, погулять. Всегда рвутся, а тут им вдруг захотелось дома посидеть. Но – уговорили. Прогулку профинансировали. «Сникерс» хотим – пожалуйста! Куклу хотим – пожалуйста! Минут сорок у нас в запасе есть.
Я укладываю Инну Сергеевну на диванчик в комнате для гостей. Она дошла ватными своими ногами и «без чувств» на него опустилась. Не диванчик - диванище! Раньше такими делали залы в хрущобках.
Касаюсь губами щёк, плеч, шеи, груди. Закрытых глаз. Полуоткрытых губ. У меня 40 минут, но я не тороплюсь. Дай, Инна Сергеевна, наглядеться на тебя в эти минуты, дай возможность приближаться к тебе постепенно, по чуть-чуть, чтобы растянуть эти мгновения. Нет, я не влюблён. Я взрослый и опытный. И знаю, что я не второй у Инны Сергеевны. И не последний. Муж не в счёт. Нужно ли обманывать себя тем, что лежит она тут сейчас передо мной такая по-женски слабая из-за того, что вдруг потеряла голову, безумно в меня влюбилась? Нужно быть реалистом. Хотя бы в зеркало на себя посмотреть. И я целую Инну Сергеевну, целую осторожно, нежно просто потому, что где женщина – там Бог. А я – человек верующий…
Я стягиваю с Инны Сергеевны розовые трусики. Наконец-то я их рассмотрел. Ничего особенного, но как было интересно! Да, правду говорила Инна Сергеевна, у неё действительно месячные. Стало быть, не исключено, что и мужа она любит.
Теперь, милая, одну ножку сюда, а другую – сюда. Да… Окрасился месяц багрянцем… Второй день?.. Я стал свидетелем глубокой внутренней драмы. Инна Сергеевна, как мне помнится, родилась под знаком Козерога, значит, боли бывают сильные.
Я целую женщину в нежный промежуток кожи, туда, где живот переходит в бедро. Потом – ниже. Ещё ниже. На вкус ничего, вполне съедобно. Провожу языком по окровавленным лепесткам, Инна Сергеевна стонет – я погружаю всё лицо…
В дверь звонят. Муж? Нет, он в отъезде. Не может быть, что это он. Иду к двери. Положено, конечно, хозяйке, но она «без чувств». Ей, по-видимому, всё равно. Мне не всё равно. Однако, если я открою дверь в таком виде, то муж, если это он, может подумать, что случилось что-нибудь страшное.
Но это не муж. И не дети. Я вижу в экранчике телевизора папу-физика.
Простите, папа, при всём пиетете, при всём моём безграничном к вам уважении, дверей я вам не открою…
Я вернулся к Инне Сергеевне. И употребил весь свой многовековой опыт, чтобы чувства у неё проснулись. И мне это удалось.
Когда наступил период, о котором можно сказать «когда всё закончилось», Инна Сергеевна, прекрасная и усталая, спросила: «Ты так и не разденешься?..». У неё появились основания говорить мне «ты».
– Нет, - я ответил. – Ведь у меня может не получиться, и тогда я всё испорчу…
Какое продолжение может, могла иметь такая история? Да никакого.
И, тем не менее, мы встретились с Инной Сергеевной ещё раз. Потом ещё. Кончилось тем, что она бросила мужа и перебралась жить ко мне. С девочками. Мы сочетались гражданским браком.
И жили потом недолго, но счастливо.
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА
Начало осени. Ослепительное солнце среди светящейся ярко-жёлтой листвы кленовой рощи. Этими листьями солнце рассыпалось и по веткам, и по земле. Ослепительно-белая у меня в машине Карина, молодая женщина. Белое платье, тонкое, нежное, белое бельё. Как невеста вся. Муж и двое детей у моей женщины. Нет, у нас ещё ничего не было. Будет. Будет…
Карина - жена начальника ЛЭС на газокомпрессорной станции. И муж у неё козёл. Потому что хам. Потому что жрёт водку. Внешне эти его качества до поры ничем себя не обнаруживают. Одет всегда с иголочки. Туфельки всегда начищены, галстучек. Шофёр тщательно следит за состоянием УАЗика, на котором ездит его начальство, Радмил Борисович Гальцин. Внутри - кошма на потолке и дверцах, чтобы не замёрзнуть зимой, флэшки и диски с записями самого лучшего шансона. Ещё эта козлина, Радмил Борисович, маленький, щупленький. Но с подчинёнными требовательный и взыскательный. Особенно, когда выпьет.
Тогда Радмил Борисович на подчинённых орут, кроют их матом. Но делают это обычно за пределами газокомпрессорной станции, где-нибудь на выезде, в командировке.
Я так думаю, что и дома. В семье. Когда никто не видит.
Потому что компрессорная станция - это не какая-нибудь забегаловка и даже не уютный тихий офис с клерками. Это организация полувоенного типа. Железная дисциплина, порядок. Там, где газ, сотни тысяч кубометров горючего вещества, которое со свистом проносится по трубам газопровода, там опасность. Малейшая оплошность может привести к катастрофе.
Однажды наша компрессорная проводила испытания ветки газопровода.
Как положено, установили по периметру предупреждающие знаки, перекрыли с гаишниками дороги. Стали поднимать давление в газопроводе. И в одном месте стенка трубы не выдержала.
Это событие потом долго обсуждалось жителями окрестных деревень. Взрыв произошёл ночью. И вдруг вся степь вокруг осветилась, можно стало быстро почитать газету, если под рукой газета, но лучше - о чём сразу подумали очевидцы - прикрыть голову руками, согнуться, прыгнуть куда-нибудь в погреб…
Ослепительное пламя струёй на десятки метров устремилось в небо. Всем, кто это увидел, показалось, что - вот оно, наконец, дождались! - напала на нас проклятая Америка! Или - как вариант - наступил Конец Света. Который уже сколько раз объявляли, и прогноз сбылся.
Только газовики не видели в случившемся событии ничего особенного. Так бывает при испытаниях газопровода. Обычное дело. Для того и проводятся испытания, чтобы проверить, определить слабое место.
Конец Света, как всегда, оказался рукотворным.
Газ перекрыли. На следующий день пришла техника. Из-под земли достали лоскуты изувеченных труб, заменили их на новые.
Газ - это серьёзно, это опасно.
Поэтому, если бы на территории компрессорной нашего Радмила Борисовича застукали в подпитии, то минуты его пребывания в штате организации были бы сочтены.
Ну и - берёгся он.
Пил только дома и в командировках, где он, среди людей, ему подчинённых, мог позволить себе самое свинское состояние.
Я на газокомпрессорной станции был человеком временным. Приехал в глушь, за тысячу километров из Екатеринбурга, поднабраться стажа. В планах был институт, дальнейшее продвижение по карьерной лестнице.
Жил в ведомственной гостинице. Стал немного знакомиться с населением маленького посёлка газовиков.
Однажды в местной столовой начальник ЛЭС, Радмил Борисович Гальцин, отмечал свой день рождения. И там я увидел его жену, Карину. Стройная, худенькая. Тогда я думал, что она блондинка. Карина очень заметна была на празднике Радмила Борисовича: руководила процессом, смеялась и непрестанно говорила о своём муже хорошие, приятные слова.
И я потом, уже узнав Карину поближе, удивлялся этому её качеству: ставить мужа на какой-то пьедестал, говорить о нём всегда хорошее и только хорошее. Вот он - самый умный, самый красивый!
Это чувырло нажиралось, крыло её матом, случалось - и поднимало на неё руку, но всё оставалось в ней, в семье. А на людях, в любой компании - самый лучший! И, конечно - добрый…
Это я узнал уже потом.
Когда оказался для Карины человеком единственным, кому она могла рассказать про свои маленькие женские тайны.
Может быть, именно потому, что некому было рассказать о той тяжести, которую Карине приходилось на себе нести, она и стала задерживаться у меня в кабинете. Ещё и потому, что со мной было весело.
Вот есть люди, которым нравится смеяться. Они и сами смеются и любят кого-нибудь развеселить. Их не так уж и много. Не судите по концертам Петросяна.
Я иногда задумываюсь - откуда в нашей стране произошёл смех? Он привозной, или есть свой, отечественный?
И почему в других странах улыбок больше? Может, и раньше они были у нас, как у всех, а потом их взяли, да и повытоптали?..
Может, поэтому у нас в стране можно чаще услышать: «Расстрелять!», чем «Пожалеть…».
Знакомый гей говорил, что он подобных себе угадывает всюду: в кафе, на автобусных остановках.
Я угадываю тех, то любит смеяться. Подобных себе.
И мы с Кариной как-то друг друга угадали. Сколько приятных минут общения подарило нам это взаимное сходство!
Но - вот есть такое понятие - Замужняя Женщина. Это серьёзно, как у Пушкина: «Уйдите, Дубровский, я замужем!». И всё. Замужем - это новое, это совсем другое состояние женщины. Это непрерывная забота о муже, детях. О порядке в доме. О еде, одежде. Это планирование жизни, её распорядка.
Всё-таки, Женатый Мужчина - это нечто другое…
Карина была замужней женщиной и весело, смахивая нечаянные слёзы, тащила на себе весь воз непростых проблем своей семейной жизни.
Вокруг нашей компрессорной посреди степи островками берёзовые, кленовые рощи. Я позвал Карину покататься со мной на машине, она сразу согласилась. И машина заехала в такую красивую рощу.
Конечно, мы очень весело разговаривали всю дорогу, и смеялись ещё, когда остановились. И я дотронулся руки этой женщины, которая мне очень нравилась. И я поцеловал эту руку. А потом в открытую шею. Губы были уже совсем рядом, я стал целовать и их.
Я прислушивался к каждому движению Карины, к её дыханию.
Коснулся губами руки, пальцев - не отдёрнула… Шеи - дыхание участилось, но женщина не отстранилась. И потом, когда губы с губами - как-то нерешительно, осторожно стала мне отвечать…
И я руками под платьем попробовал гладить её голые ноги и всё, что дальше в лес - больше дров…
Я остановил себя. Мы отъехали на минутку. Долгое отсутствие могло навлечь на нас обоих подозрение. Коллектив компрессорной маленький. Это даже не Ленинград…
Я поправил на Карине платье, которого из-за меня на ней до пояса практически не было. Всё нашёл, вернул на место. Шейку, шейку ещё много раз поцеловал…
А уже на следующее утро Карина всей семьёй, вместе с мужем, детьми уехала в отпуск. К Чёрному морю, где находился наш, газпромовский, Дом отдыха.
И вот я - знал, что она уедет, и отпустил? И - ничего не сделал?..
Ну, истолковать так было бы совсем не правильно.
Ведь, не сказать, что я-таки ничего и не сделал.
Шейку целовал, голы ножки трогал. Смотрел на них во все глаза. Ох! Как смотрел! И весь вид мой однозначно говорил о том, что пылает во мне огонь любви, а с ним, рука об руку - огонь желаний. И то, что не поспешил - тоже молодец. Значит, не примитивное у меня плотское влечение, а торжество духовного начала.
Такое может оценить не только мыслящая женщина, но и обыкновенная.
Внутренний голос подсказывал мне, что никуда от меня уже моя Кариночка не денется. И вернётся из отпуска и поедет со мной, хоть на край света. Где можно будет взять её голыми руками. Голую.
И, потом, имея уже некоторый жизненный опыт, я знал, что, если чего суждено, если чего уже прописано в Книге наших судеб, то сбудется оно неотвратимо.
Так же - и не сбудется, если мечты свои ты распространил за пределы расписанного распорядка действий.
И уже в сентябре, когда полетели над полями паутинки. Когда стали вспыхивать в степных наших лесочках, то тут, то там желтые и багряные костры осенних причёсок на берёзах и клёнах…
Карина опять оказалась в моей машине.
Одетая, как невеста, во всё белое. Очаровательная блондинка с короткой причёской. Осенняя вишня.
«Ой! - уже разделся!» - сказала она, открыв глаза.
За окном машины местами золотая осень. И - прямо какой-то солнечный праздник! День совсем не жаркий, но - яркий.
Я остановил машину в глухом, уединённом месте, на поляне среди увядающей травы.
А потом повернулся к Карине и посмотрел ей в глаза. Красивые, тёмно-карие глаза блондинки. Я гладил ей лицо кончиками пальцев, не отрывая глаз. А потом - тело через тонкое платье. И Карина прикрыла веки.
При ярком свете сентябрьского солнца я стал снимать с неё одежды. Красивое белое бельё… Женщины надевают красивое бельё, чтобы в нём их, на какие-то пару мгновений, увидел любимый мужчина.
Всего-то, из-за пары мгновений…
Истекли мгновения, и рассталась Кариночка со своими воздушными украшениями.
Тут она открыла глаза и сказала: «Ой! Ты уже разделся!..».
Конечно, я и себя не забыл…
Оказывается, брюнетка…
И опять я не стал никуда торопиться.
Уже никуда не денется, не убежит эта восхитительная женщина. Эта богиня…
Я ласкал её своим восторженным взглядом. Взгляд - он материален. А обнажённое тело очень остро чувствует прикосновение взгляда влюблённого человека.
А за взглядом следовали пальцы, губы, руки… Пока не забилась, не заметалась, не задёргалась в моих объятиях молодая женщина.
Ещё же и не было ничего…
К самому интиму с женщиной желательно приступать после первого её оргазма. Она вся тогда такая тихая, нежная, и её разгорячённое тело уже совсем готово к любви …
И мы стали встречаться.
У мужа пьянки-командировки. К состоянию жены он не очень присматривался.
А Карина, хоть и не признавалась мне в каких-то чувствах, но стала вся внешне будто бы светиться. Об этом даже стали ей говорить подруги.
И происходил у нас с ней совершенно головокружительный интим.
Ну, не было такой фантазии, такой сокровенной мечты, мелочи, которую бы Карина не хотела бы со мной исполнить. Она всё хотела. И она всегда меня хотела. Кариночка многого не знала, но я находил литературу, во многом помогал Интернет. Вдвоём всё легко осваивалось. К обоюдному восторгу.
Иногда, правда, я робел… - Не бойся сделать мне больно, - говорила она.
Но где тот предел?.. Если ещё сильнее - то… сосок можно… откусить!..
Я боялся.
А, вообще, конечно, не всё было так просто, так безоблачно.
Измена мужу - это всё-таки не трали-вали, это - измена мужу.
Карина переживала. Терзалась. Вот, всё получилось, как получилось, - но это неправильно. «Другому же я отдана!..».
Была у нас очень бурная, до умопомрачительности, встреча. Как обычно - вырвались с работы днём, будто бы по делам.
На другой день Карина рассказывает: возвращалась она в тот вечер домой. Столкнулась с мужем в подъезде. Не остывшая ещё от моих объятий, в моих запахах, с губами, опухшими от поцелуев…
А муж - трезвый. В чистом своём костюмчике. И Карина тут же, в подъезде, кинулась вдруг к нему на шею. Обнимала, целовала, плакала…
Ну, и как, - скажете вы, - относилось к нашей связи окружающее нас общество? И не хочу ли я сказать, что наши отношения с Кариночкой продолжали оставаться для всех тайной? И это в маленьком-то посёлке! В организации, где штат всего 112 человек!
Скорее всего, многие догадывались.
Но слава у Радмила Борисовича в коллективе была дурная, и Карине сочувствовали. Муж у неё был козёл, и так ему было и надо.
Да, и потом - это же обычное дело - когда все вокруг уже давно всё знают, а родители узнают последними.
А я наслаждался своим общением с Кариной.
Именно - общением, а не только теми краткими минутами наших фантастических безумств наедине.
Она, блин, кроме того, что мать, жена и на все руки и ноги любовница, ещё и умница была! А как она пела!
Карина занимала должность заведующей клубом в посёлке компрессорной.
И был как-то у них междусобойчик среди самодеятельных артистов. В большинстве артисты были женщинами, сотрудницами разных служб газового хозяйства. Я приходил на репетиции, помогал оформлять сцену. Выучил и исполнял в концертах «на бис» «Песенку крокодила Гены». Всё, чтобы рядом возле своей женщины побыть. Произносились тосты.
И Карина сказала обо мне хорошие слова. В общем, я таким замечательным человеком был со всех сторон!
Вот эта у неё убийственная, обезоруживающая, околдовывающая способность находить самые лучшие слова о мужчине, который находится с ней рядом в жизни.
Ведь нам, мужчинам, много ли надо? Нам нужно не много. Нужно, чтобы женщины, замечая наши недостатки, по возможности закрывали на них глаза. А поведение наше корректировали мягко, незаметно. Чтобы голова и не догадывалась о том, куда её поворачивает шея. Чтобы сам процесс её поворота ей нравился. А куда повернёт - это уже и не так важно!..
И - слова! Не только женщины любят ушами. Ласковое слово и мужчине приятно. Нам в жизни так не хватает про нас хороших слов.
Ну, жалко, что ли - похвалить мужа за что-нибудь?
А женщинам в большинстве - жалко. Как-то легче чем-нибудь горяченьким на мозги капнуть.
Откуда у мужчины в таком случае будет долго сохраняться в супружестве потенция?
А потом собирает в телевизоре женщин в кружок пронырливый врач-сексопатолог и рассказывает им про чудодейственные таблетки, которые незаметно можно мужу вкинуть в борщ. И будет им от этого счастье…
И взяла Карина в руки гитару.
И, сидя от меня напротив, запела голосом тихим, грудным:
«Не взыщи, мои признанья грубы, Ведь они под стать моей судьбе. У меня пересыхают губы От одной лишь мысли о тебе»…Карина пела с лёгкой улыбкой, глядя мне прямо в глаза.
У меня губы пересохли, и готово было остановиться сердце…
Вам пели женщины такие песни?
Говорили ли они вам хорошие слова?..
Гостиница в Екатеринбурге.
Вечер. В ресторане с сослуживцами водка, разговоры. Разговоры были, а водка - нет. Я не пил. У нас с Кариной совпали командировки. Я попросил у неё разрешения заглянуть в номер, когда гостиница уснёт.
Было за полночь. Я прошёл по коридору, вот нужная дверь. Толкнул - она подалась. В комнате темно. Запер за собой на ключ. Уснула? Из окна полусвет, можно сориентироваться. Вот кровать. Привстал на колени, прислушался. Просунул руку под простыню. И рука сказала, что тут лежит моя голая женщина. Ждёт. Не спит…
Сколько поцелуев случилось за эту ночь!
Теперь, когда я хочу уснуть и у меня не получается, я начинаю считать поцелуи, которые у нас были в ту ночь. Один… Десять… Много… Сплю…
Срок моего пребывания на компрессорной подошёл к концу. Уезжать… Да, надо уезжать…
Как быть с моим счастьем?
Счастье - такая категория… оно не просто кончается, оно должно заканчиваться неизбежно.
В конце концов - не могла же продолжаться вечно эта любовь втроём!
У Кариночки было ко мне, конечно, сильное чувство. Искреннее, настоящее. Но никакое постороннее чувство у нормальной женщины не перевесит чашки весов, на которой муж, дети…
Пусть даже этот муж чувырло самое последнее…
Так что варианты с уходом от чувырла даже не рассматривались.
И я уехал в Екатеринбург.
Было ощущение, что ненадолго, не насовсем. Такая любовь, такие отношения! Ну, денёк-другой - ещё увидимся, ещё заживём.
И в голове всё-таки не укладывалось, что так при чувырле своей Карина до конца дней и готова век коротать.
И прошёл год, а за ним другой.
Я уже заочно учился в институте. Меня на работе, в нашем «Уралтрансгазе», авансом повысили в звании. И послали в командировку на ту самую компрессорную, где прошли лучшие дни и ночи моей жизни.
Сразу воспоминания, целая буря чувств. Ехать в поезде всего ночь. Конечно, не спал. Почему-то представлялось, что приезжаю - а там, чуть ли не на перроне - Кариночка моя с цветами, с распростёртыми объятиями. Хотя и не звонил я ей, ни о чём не предупреждал. Мы вообще расстались, как будто обрубили концы. Два года прошло - я ничего о Карине не знал.
Ну, вот такие мы, мужики. То любовь до беспамятства, до гроба, а с глаз долой - и уже чужие мини-юбки манят своими макси-перспективами.
Я, естественно, всё это время не монашествовал, но уголочек в сердце со святыми воспоминаниями от всяких посторонних вмешательств оставался наглухо закрытым.
В посёлке компрессорной поселили меня в ведомственной квартирке-гостинице. Эмилия Павловна, администратор, дала ключи, объяснила, как пользоваться электрочайником. Мы были с ней довольно близко знакомы раньше, поэтому я решился расспросить её о семье Гальциных.
Эмилия Павловна, не моргнув глазом, и ничуть не изменившись настроением лица, с готовностью рассказала, что там всё хорошо.
Сами Радмил Борисович пить бросили. Но - не сами. Их, то ли закодировали, то ли вшили им «торпеду». А, может, и то и другое вместе. И наладилась у них во всём семейная жизнь. Старшенький из детей окончил школу, дочка Альмира перешла в девятый класс.
Хор самодеятельности нашей компрессорной первое место занял на конкурсе. Карине Владимировне грамоту дали. - Телефончик? Да, где-то есть. Вот… Восемь, девять…
Я весь вечер ходил и по комнате. Как-то всё неожиданно, всё немножко… не так… Каринка…
И не решался звонить. Два года - это может быть и только вчера и - пропасть, вечность…
Что могу сказать?..
Только к обеду следующего дня решился набрать номер.
Ничего страшного. Знакомый голос ответил сразу.
Поздоровались.
– Как дела?
– Ничего, нормально.
Узнала сразу.
Но звонок почему-то оборвался.
Я стал набирать снова. Я столько хотел сказать… Мне так много хотелось ей сказать!.. Что она, это она - самая лучшая!.. Что я всё время, всё время думал о ней, что нам обязательно нужно быть вместе!.. Муж? Да, конечно… Браки на небесах… Но кто сказал, что на небесах - только с одним. И, если штамп в паспорте, то - на небесах? А, если такое, как у нас… то… что это?..
И мы тоже - на небесах!.. И ты, ты - моя жена!..
Нет…
Сколько я ни набирал, сколько ни пытался дозвониться, абонент оказывался вне зоны доступа.
ГОСТЬЯ
Без предупреждения, как снег на голову – секретарша даже и рта не успевает раскрыть – Ланка. Пнув своей очаровательной ножкой дверь, врывается в мой кабинет. Морщится: - Ф-ф-ффуу! – Как у тебя здесь накурено! Садится – падает в кресло напротив. Садится обычно, как все, но кажется, что ноги свои она кладёт мне на стол. Но это только кажется.
Ланка достаёт из сумочки зеркальце, невнимательно в него смотрит. Чего смотреть – и так хороша. И так на 20 лет моложе меня. И выходит, если поглядеть правде в глаза, то я на столько же её старше.
– Кофе нальёшь?
Достаю чашечки. Включаю кофеварку. Секретарше говорю, что на какое-то время меня ни для кого нет. Про себя думаю: - Нет, милая Ланочка, на этот раз у тебя ничего не выйдет.
Ланка пьёт кофе, рассказывает: - Представляешь? – иду по улице, а навстречу он, Олег, со своей выдрой. Идёт открыто, никого не стесняется. Морда такая довольная, наглая. Я к ним подошла, перед выдрой извинилась, и попросила Олега отойти со мной в сторонку. Подпрыгнула, вцепилась руками к нему в волосы и высказала всё, что о нём думала: - Подлец! Бросил меня с ребёнком! Променял на какую-то шлюху подзаборную!
А его накрашенная стерва стояла в двух шагах и делала вид, что её это не касается.
Кажется, я даже материлась.
Здесь нужно отметить, что Ланка и Олег, официально чужие люди. Они развелись полгода назад, с чем я, будучи другом бывшей семьи, Олега поздравлял трое суток. Потому что расстаться с такой женщиной, как Ланка – великое счастье.
Миловидная, невысокого роста, незаурядная умница, Ланка, кроме того, была мощнейшим энергетическим вампиром. Если перевести на киловатты, то, в период её очередной подзарядки, потухла бы Братская ГЭС, и вода бы вокруг неё высохла. Но, если в единицах человеческого терпения, то одного влюблённого по уши мужика для поддержания формы ей вполне хватало.
Олег прожил с Ланкой полтора года и всё-таки не выдержал. Молодая супруга выкачивала из него энергию, вперемешку с кровью, тоннами, цистернами, и он не успевал восстанавливаться.
В конце концов – не выдержал. Сбежал. Измождённый, худой, небритый, он несколько дней отлёживался на диване в моей холостяцкой квартире. Много со мной выпил водки. Когда я, с ним чокнувшись, выпивал одну рюмку, он опрокидывал две. А потом третьей закусывал. Говорят, водка выводит всякие яды, спасает от радиации. Олег был пропитан и тем и другим. После непрерывного, запойного пьянства, Олег неделю спал.
Таким образом он вышел из этого, практически, смертельного пике – сожительства с нашей маленькой милой Ланочкой.
Я говорю «нашей», потому что до того, как Лана вышла замуж за Олега, у нас с ней был головокружительный роман. Сейчас я думаю: головокружительный – для кого? Для Ланочки, по-моему, всё, как с гуся вода. Бывали, правда, мелкие огорчения. Буквально на второй или на третий день после пышной свадьбы с Олегом, она прибежала ко мне вся расстроенная, чуть ли не в слезах: - Я с ним никак не могу кончить, он всё делает не так! – Ну, чем я-то могу помочь? – задал я такой глупый и неуместный вопрос. В это время Ланочка, в нижнем уже белье, расстилала на моём холостяцком лежбище чистую свежую простыню, которую предусмотрительно прихватила из подарочного свадебного набора. Само собой, никто моего согласия не спрашивал.
И так она приходила потом до тех пор, пока всё у них с Олегом не наладилось.
А ещё годом ранее Лана отдала мне свою невинность. Да, - вот так вот, - бери, пожалуйста! К её потере она была давно готова и, оказывается, чуть ли ни с первого дня нашего знакомства, уже принимала противозачаточные.
Ну, я не то, чтобы сразу накинулся и взял. Я так не могу. И что толку потыкаться в тело девушки, если женщина в ней ещё спит? Я стал будить в Ланке женщину. Будил по-ленински: шаг вперёд, два шага – назад. После свиданий она становилась, как выжатый лимончик – обессиленная от ласк. Тихая. Нежная. Благодарная. И – невинная.
Мы целовались полуодетыми, потом - совсем обнажёнными. И однажды, совершенно естественным и незаметным образом оказавшись между Ланочкиных ног, я позволил себе провести кончиком головки там, по ослизлым губкам.
А в нашу следующую встречу, я уже в губки головку слегка окунул.
И в каждое последующее свидание я, делая осторожные поступательные движения, погружался чуть глубже, но – не более сантиметра.
Потом, чего, впрочем, и следовало ожидать, все-таки как-то не сдержался и, так сказать, одним махом ушёл в Ланочку весь. И многократно, грубо, совсем потерявши над собой контроль, эти махи повторил.
На простыню капнуло несколько капелек крови. Почему не раньше? Не знаю.
– Я теперь твоя любовница? - прикрыв большой пухлой грудью обмякшее орудие моего преступления, и трогая пальчиком красные пятнышки, - спросила меня Лана.
А, до этого, выходит, мы в салон красоты играли: в конце наших целомудренных встреч я разбрызгивал на Ланочку вскипающее семя, а она его по-хозяйски втирала в кожу груди, живота, лица (если попадало и туда). Она считала, что это весьма полезно для здоровья.
Я и сейчас смотрю на неё, на Ланку – самоуверенную, нахальную, стильную, смотрю на её персиковые щёчки, личико… Наверное, курс косметических процедур молодая женщина проходит регулярно.
Наконец, Ланка досказала свою историю про выдру и Олега. В общем, за волосы она его потаскала, в лицо ему всё, что о нём думала, высказала, и лицо поцарапала.
Ланка вскакивает с кресла и пружинисто, как кошка, проходит по кабинету. Что-то ёкает у меня в груди, но я говорю себе: - Саша, спокойно, всё равно у неё ничего сегодня не выйдет.
На улице апрельская весна. Вот-вот наступит тепло, но пока трудно определиться в выборе одежды. Не понять – это весна с оттенком лета, или же вдруг из-за многоэтажки может дунуть ветер, а с ним и дождь, и мокрый снег…
И Ланка, видимо, пришла ко мне, чтобы посоветоваться, что сейчас удобнее носить. Она опять проходит по кабинету, остановившись, кружится и спрашивает – можно ли уже ходить в таком коротком? Расклешённое платье послушно разлетается. Тонкие тёмные колготки. Сквозь них успел заметить элегантные белые плавочки. Носят ли белое под тёмными колготками?
В джинсах у меня возникло опасное шевеление. Нет, Саша, не выйдет у неё сегодня ничего.
Ланка морщит нос: и почему у тебя нет здесь зеркала? Открывает дверцу шкафа, находит зеркало и пытается прикинуть, насколько ещё можно укоротить платье. Приподнимая его край чуть выше, - Ах! - нет, - видно трусики. То – чуть ниже. И тогда опять хочется покороче.
Хорошие ножки, что ни говори.
Это становится невыносимым. Мои плавки сейчас треснут. Если бы не джинсы, их бы сейчас, точно, разорвало. Нет, наверное, и джинсы сейчас не выдержат…
Ланка опять плюхается в кресло.
– Нет, Саша (это я себе).
– Иди сюда (А это уже Ланка).
Наши глаза встречаются. Всё. Я иду к Ланке, как к удаву кролик. И, конечно, как и кролик, чувствую, знаю наперёд всё, что произойдёт дальше.
Ланка привычно, со знанием дела, расстёгивает мне ремень, дёргает молнию и освобождает напряжённого, скрюченного узника. Распрямившись, он ударяет её по щеке. Ланка в ответ ему улыбнулась и поймала разбухшую головку своими, уже далеко не девственными, губами.
Да, тут ей, пожалуй, равных не найти. Ланка делает невозможное.
Опять сладко в ней погибая, я подумал: или у неё такой глубокий рот, или я до смешного какой-то недоросль – Ланка, не морщась, впускает меня всего.
И раньше, когда на неё потом смотрел со стороны, мне казалось, что конец мой в таких случаях должен приходиться где-то на уровне желудка. И, если на нём закрепить видеокамеру, то параллельно можно получить подробную информацию обо всех его, желудка, заболеваниях. Хотя, какие там, у Ланки, в её возрасте, заболевания.
Но к идее закрепить видеокамеру она отнеслась с интересом. И даже капризно настаивала. Не обязательно, чтобы совсем миниатюрную.
Но только чтобы потом - не в желудок.
Вот и всё. Сцена в кабинете закончилась. Через несколько минут Ланка уже как будто про меня забыла. Опять достала зеркальце, губную помаду. Подкрасила розовым свои половые губки, припудрила носик.
– Ну, ладно, я пошла, - бросила у двери. На секунду приостановилась, о чём-то задумалась, глядя в угол комнаты: - Странно всё-таки, - сказала, растянув в полуулыбке розовую щель на молодом лице, которое я когда-то так сильно любил, - странно, - повторила она, - и так уж нужно было тащиться из одного конца города в другой всего-то из-за глотка спермы?..
И дверь за ней захлопнулась, больно прищемив мне сердце.
Всё-таки разбудила. Разбередила старую рану. А я не устоял. Не нашёл в себе сил. Она опять меня поимела. И опять – бросила. И уже, да, забыла. До тех пор, пока ей не захочется опять достать меня, как старую игрушку, из ящика воспоминаний. Как старого ободранного мишку с вынутым глазом. Поиграть – и, взявши за лапку, бросить обратно в ящик.
И я знаю, что Ланка придёт опять. Придёт ко мне домой, на работу, появится в купе поезда за пять минут до отправления. И, наверное, у неё получится поиметь меня ещё разок-другой.
Ей, уходящей сейчас, сегодня, я смотрю вслед из окна. Я знаю, я почти уверен, что, когда-нибудь, я просто её убью.
ЗАМУЖЕМ
Мелкие, горячие, мокрые капельки вырываются из душа и летят к Роксане. Она пронежилась до одиннадцати в постели, и выспалась, и надремалась. Горячий душ - что может быть приятнее в выходной день.
В этой неделе выходной день у Роксаны пришёлся на среду, и в этом тоже была своя прелесть. Муж на работе, дети - у бабушки. Короткий миг одиночества до обеда (пока придёт муж) – как напоминание детства. Когда родители на работе, а в школе отменили уроки.
Свобода и одиночество в малых дозах приятны на вкус.
После обеда у Роксаны было назначено свидание. Герард, заведующий магазином "Электрон", будет ждать её на улице Лачугина в квартире-маломерке. Роксана испробовала и использовала всю косметику, все возможные охмурительные средства, которые нагло навязывало всем нам телевидение. Батарея из разноцветных пузырьков на туалетном столике сделала по ней сокрушительный залп и – чистенькая вся, стройненькая, она залюбовалась собой, сидящей в зеркале, напротив, в одних тончайших иранских плавочках.
К парикмахеру она не пойдёт: пустое занятие, деньги на ветер. Неистовый Герард всё излохматит. Просто - заколка. Просто - распущенные длинные волосы. У неё. У распущенной.
И вовсе нет. Роксана очень взыскательно, очень избирательно относилась к своим любовным связям. После мужа Герард у неё был почти первым. Впрочем, для семейной жизни, для гармонии, вполне достаточно, чтобы был один муж и один любовник. Подруги говорят, что нужно больше. Но это, скорее, из зависти. Герард её любит, а это - главное...
Позвонили в дверь. Муж пришёл на обед. Простой военный, но обед у него министерский. И на два, и на три часа может задержаться дома. Роксана накинула халатик, побежала на кухню, накладывать окрошку. Лето, жара - нет ничего вкуснее кусочков колбасы и свежих овощей в холодном квасе.
Муж рассказывает о работе, слегка матерится. Он всегда матерится, но слегка. Работа у него такая. Военкомат, призывники, дембеля, водка, ночные дежурства.
Роксана, подавая на стол, продолжала собираться. Сумочка, помада. Сбросила халатик, примерила розовое платье. Нет, в нём будет жарко, на улице все тридцать градусов. Вот это, зелёное, расклешенное книзу. Коротковато? Ничего, пойдет. На улице нет ветра, пусть пара машин стукнется на перекрёстке. Муж поперхнулся. Роксана хлопнула его по спине ладонью. Ещё хлопнула. - Чай, "колу"? Муж полез ещё в кастрюлю с борщом за куриной лапкой. Может, надеть другие плавочки, построже? Всё-таки - короткое платье. Построже выглядели как-то совсем по-домашнему. Герард обсмеёт. В десятый раз переодевая на кухне плавочки, Роксана зацепилась за холодильник и чуть не упала. Муж опять подавился. Что-то он сегодня какой-то рассеянный.
Рассеянный муж вытер наспех руки бумажной салфеткой, и Роксана увидела на его лице выражение, понятное всякой замужней женщине. Дура, допримерялась... Пришлось здесь же, на кухне, побыть его любимой "козочкой". Слава Богу, недолго. Роксана ещё несколько раз провокационно вскрикнула, простонала, и - обмяк обладатель, скис. Вот и нечего. Для этого ночь есть и кровать.
Хлопнула дверь. Муж ушёл. Снова душ, снова...
После горячей воды улица показалась прохладной. Лёгкий ветерок приятно засквозил под платьем. Чтобы успеть, поддалась на уговоры "частника". На древней иномарке лихо подвёз к самому подъезду. Денег не взял, взял номер телефона, который Роксана выдумала на ходу.
У - наконец - вот оно, долгожданное, желанное, раз в неделю, свидание. Герард страстен, но учтив. Открыл дверь, впустил, терпеливо поцеловал. Квартира обшарпанная, но стол изыскан. Лёгкое, явно заморское, вино, отечественная икорка, наготове прозрачная кофеварка. С дороги девушка, перекусить - обязательно. "Пойдёшь в ванную?" - "Нег!!!" - закричала Роксана. И есть не хотелось. Выпить, пожалуй, да.
Что-то заскучала Роксана. Каждый роз повторялось это компактное великолепие. Сейчас они выпьют вина, заиграет музыка. Герард взглянет на неё так, как тридцать минут назад смотрел муж, и совершится опять всё по привычному, уже любовному, распорядку. Сначала - так. Потом - так. Потом попить кофе и ещё "так" и "так".
А потом Герард, развалясь на кровати, на принесённой с собой простыни, будет курить, и рассказывать о своей работе. О работе, о работе, о работе. Потом стрелка часов подскажет им, что нужно расставаться, уходить, и Роксана так и не успеет узнать, что намерены делать в "Электроне" с новой партией драного китайского товара. Узнает в следующий раз?
И сегодня Роксана отчего-то внутренне съёжилась от перспективы любовных, кажется, объятий. Съёжилась, но сопротивляться им не могла. Чего сопротивляться? Ведь пришла. Оделась, как куколка, и пришла. И уже разделась...
Когда Роксана вышла на улицу, к солнцу, день оставался прежним, но радость куда-то пропала. И лето, её любимое лето, грело и сияло вокруг домов, но эта радость природы не проникала внутрь её сердца. Не веселил слабый ветерок, теперь горячий и душный. Сама себе казалась Роксана измятой, использованной, ненужной.
Но какой-то молодой человек участливо заглянул ей в глаза, когда она переходила улицу. Приятный молодой человек спросил Роксану, что у неё случилось и, когда женщина, жена, мать и только что любовница, ответно на него взглянула, ей показалось, что - нет, не случилось ничего. И по-прежнему, а, может, ещё лучше, светит медовое солнце августа, брачно чирикают воробьи, и неожиданная пружинистость возникла опять в (правда, стройных) её ногах. Не может этого быть - промелькнуло в голове у Роксаны. Ну, не блудница же я до такой степени!
Но опять к мужчине, к молодому человеку, повлекли её гладко выбритые ноги.
И Роксана протянула ему ладонь, и между ними завязался бессмысленный и радостный словесный вздор, который, не обещая ничего, уже опутывал коварно золотыми нитями вымыслов и прекрасных догадок двух молодых людей.
Роксана вспомнила утро и опять захотела почувствовать себя школьницей. И - почувствовала. И ей показалось, что есть-таки, она, заветная возможность скрыться, убежать от запланированных уроков дня.
Когда родители ещё ничего не знают и, кажется, не узнают ни о чём никогда.
18-20 декабря, 96г.
УБИЙСТВО
А мама меня и спрашивает: - Когда кошка у вас приносит котят, вы что с ними делаете?
Маме за 80. Досуг неограниченный. Хочется иногда с нами, детьми, пообщаться. Тему находит, как ребёнок, интуитивно – ту, которая может задеть, встряхнуть. Вопрос в отношении котят мама уже задавала. Мне удавалось заметить в этот момент, что закипел чайник, уронить на пол кастрюлю, перевести разговор на другую тему. Но рано или поздно должен был наступить момент, когда все уловки оказываются исчерпанными, и возникает та самая пауза, которую – хочешь, не хочешь - а надо заполнять ответом по существу. Иначе через день-другой мама снова, как будто в первый раз, утречком, размешивая в чае ложечкой кипячёное молочко с пенкой, спросит: - Саша, а что вы делаете с котятами, когда…
И я ответил: - Убиваю, мама, убиваю!..
Мама приходит в ужас: - Да ты что?! Молчит минуту-другую, размачивая в чае печенку и кушая потом вначале печенку, а потом чай. – А вот у нас, когда была кошечка, - говорит мама, с укоризной глядя на своего сына-убийцу, - когда наша кошечка приносила котят, то я брала ведёрко с водой, клала туда соломки и их, ещё слепеньких, туда кидала. Они же ещё ничего не понимают…
У меня две коровы - Фёкла и Яночка. А также куры и сарайная кошка – Чернушка. Мне кажется, что население сарая знает меня лучше, чем самые близкие люди. Когда я сажусь доить Фёклу, я её глажу, похлопываю по бокам и говорю ей: - Ах ты, моя маленькая, моя красивая! И она верит. Я воспитал её с младенчества. Фёкла верит, что она красивая и до сих пор думает, что она маленькая. Хотя уже три раза телилась. Но кто может сказать ей о возрасте? Зеркало? Боли в суставах? Нет у Фёклы на морде пока ни одной морщинки и, стоит её выпустить за ворота, как начинает она резвиться и скакать, как глупый двухнедельный телёночек.
Когда я говорю Фёкле, что она у меня маленькая и красивая, то она мне верит. А летом я должен её продать. Или зарезать. Эта мысль свербит у меня в голове всегда, я чувствую своё лицемерие. Когда я сдаиваю молоко, сжимаю Фёклины соски, я вспоминаю, как позапрошлым летом резаки купили у нас норовистую Зорьку. Зарезали тут же, за забором. Мясо увезли, а вымя и ноги оставили. Вкусное было вымя у Зорьки.
Слышит ли Фёкла мои мысли?
Её сын, Педрито, уже лежит у нас в морозильнике. Погиб мужчиной. Его не кастрировали, и Педрито сделался первым парнем на деревне, как только чуть подрос и встал на задние ноги. А когда он ещё подрос, и наступили первые заморозки, за ним пришли два молодых парня из нашего посёлка – резаки. Педрито всегда отличался кротостью нрава, миролюбием, но тут он заподозрил неладное. Перемахнул через ограду и отбежал от убийц на приличное расстояние.
И вот они, убийцы, мне и говорят: «Дядя Саша, возьмите верёвку, пойдите, накиньте ему на рога… Ведь он вас знает…».
Нет, я всё понимаю. Педрито должен стать мясом. Для этого его и держали. И я сам этих резаков позвал. Убьют, порежут на куски – скажу большое спасибо.
Но вот это… Да, Педрито меня знает. Я его всегда чесал за ушком, делал ему уколы, когда он стал покашливать. Когда Педрито был маленьким, я приучал его пить из ведра молоко, и он доверчиво сосал мой палец.
Теперь я должен взять верёвку и, сладенько улыбаясь, подойти к животному, которое мне доверяет, и заарканить его для убийства. Вот такое вот чистоплюйство. Сам позвал убийц, и сам же отворачиваюсь, как будто не имею к этому делу никакого отношения.
В общем, замялся я. И ребята поймали бычка сами. Но они бы никогда его не поймали. Потому что Педро очень их боялся и убежать мог очень далеко. И он уже собрался далеко убежать, как на пути ему попалась группа симпатичных тёлок. Педрито замедлил ход, жадно потянул, зашевелил ноздрями. Остановился у самой стройной, с белым пушистым хвостиком. Потянулся к хвостику носом и зажмурил глаза от предвкушения счастья.
Тут его и повязали.
С кошкой Чернушкой у меня отношения. Причём, инициатива с её стороны. Стоит мне в сарае замешкаться, бросить вилы, задуматься о чём-то, опершись о стенку деревянной клетки, как Чернушка тут как тут – трётся обо всё, до чего у меня дотянется, чёрной блескучей своей шубкой, мурлычет, пытается что-то прошептать мне на ухо. Ей всегда хочется со мной целоваться. Холодным мокрым носиком она касается моей щеки, бороды. И – в общем-то, ладно, я не против. Но чувства переполняют мою чёрную красавицу, и она неожиданно кусает меня. Иногда до крови. Ведёт себя, как настоящая женщина. Но я не люблю, когда мне делают больно. Не люблю этих ремней, плёток, цепей, кожаных фуражек. И тогда я беру Чернушку за шкирку и скидываю на пол – мол, милая, тут нам не по пути - мы из разных клубов.
Но потом всё как-то забывается, Чернушка снова где-нибудь подкарауливает меня и снова осторожно пристаёт ко мне со своими ласками, мурлычет на ухо всякие глупости и потом старается заглянуть мне в глаза: услышал ли я? Понял ли?
И вот она мне даже как-то приснилась. Естественно, не в кошачьем своём обличье. На то он и сон. Моя Чернушка оказалась красавицей-брюнеткой в прозрачном чёрном пеньюаре. Длинные, рассыпающиеся по плечам, смоляные волосы. Глаза подведены чёрным, так, что подчёркивалось кошачье происхождение искусительницы. Было на ней ещё и чёрное тонкое бельё, отделанное серебряными кружевами. Сон опускает подробности – каким это образом моя Чернушка оказалась рядом со мной уже в таком наряде, который подразумевает, даже требует от меня вполне определённых, конкретных, действий. Ну, что ж, - чего тут тянуть – время во сне ограничено. Раз уж для меня так оделись, то нужно и ответ держать. А женщина уже опередила меня: она трётся щекой о моё лицо, ищет губами губы, осторожно, прислушиваясь ко мне, расстёгивает на мне одежду. На пеньюаре нет пуговиц – только маленькая брошка вверху, он свободно распахивается.
Ну, что тут дальше рассказывать? Мужчины, особенно пятнадцатилетние, знают, чем кончаются такие сны.
Почти неделю молодая женщина-кошка не давала мне покоя. Свидания оканчивались привычным конфузом: то приходилось просыпаться в момент, когда я освобождал изнемогающую от страсти красавицу от её, рвущихся под моими руками, кружевных нарядов, то, уже освободив, я делал неверное движение… В общем – неделя ночных свиданий только измучила меня. Но однажды…
Я целовал её полноватую, мягонькую грудь, стараясь вобрать в себя не только сосок, но и как можно больше околососкового пространства, даже всю грудь целиком. На мне ничего не было. И вокруг нас валялись успешно разорванные части черных нарядов уже совершенно голой моей женщины. И всё располагало к тому, чтобы, как обычно, завершиться моим мальчишеским позором, но тут… Тут она сама пришла ко мне на помощь. Моя ночная красавица быстрым, коротким движением обхватила ладонью моего, напряженного до предела, страдальца и точно приставила туда, к себе, а потом даже слегка придвинулась к нему навстречу. Я сделал только одно движение вперёд, но - до конца, до упора - и задергался в мучительных и сладких судорогах.
Пробуждение наступило, как обычно. Тут, как говорится, комментарии излишни. Ночь ещё не закончилась. Мне ещё очень хотелось её, мою женщину-кошку. Но в жизни её не было, а сны, даже самые хорошие, особенно – хорошие - нельзя досмотреть, как любимую киноленту, опять положив голову на подушку и повернувшись на правый бочок.
Остаток ночи прошёл без волнующих сновидений, я будто куда провалился и открыл глаза уже, когда в комнате рассвело. Меня разбудило нежное мурлыканье. На коврике, возле постели, сидела моя очаровательная Чернушка и внимательно на меня смотрела. Проснулся я скорее не от мурлыканья, а от этого немигающего взгляда широко открытых зелёных глаз. Поза у Чернушки была такая, какую кошки обычно принимают на дипломатических приёмах, когда присутствуют на чьих-либо помолвках или днях рождения: она сидела, грациозно выгнув спинку, приподняв головку так, чтобы видно было белую манишку на красивой шее и прикрыв полукругом пушистым своим хвостом задние и передние лапки.
Причина для такой торжественности была весьма значительной: Чернушка принесла мне мышь. Жирненькую, ещё в конвульсиях. Чтобы я, значит, на завтрак полакомился свежатинкой.
Кофе в постель, кофе в постель… Вам утром на завтрак в постель когда-нибудь мышей подавали?..
А потом наступила весна. Для кошек самое напряжённое время года. Один день в марте – целый год воспоминаний. Оно не сказать, что в остальные месяцы года кошки себя блюдут в каком-то особенном целомудрии, но март – это для них святое.
В марте у нас во дворе завыли коты. А, нужно отметить, что воют коты не от хорошей жизни. И не от того, что их, разномастных развратников, вдруг ни с того ни с сего потянуло на клубничку. Милая моя Чернушка, взглянув на календарь, высунула на улицу мордочку и как-то по-особенному мявкнула. И тут началось! Коты серые, белые с чёрными пятнами, дымчатые, полосатые, юные и уже в летах – сбежались к моей Чернушке женихи со всего света. Даже от директора школы, от Маркина, почти приполз его старый сиамский кот Маркиз с предложением лапы и сердца – авось чего обломится.
Должен со смущением признаться, что Чернушка в своих мартовских связях однолюбкой себя не показала. Хотя коту Маркина так ничего и не попухло. Мало того, что Чернушка при всех сказала этому ветерану труда чего-то обидное, ему вслед ещё смеялись все окружающие коты – беспородная мелочь. Он таких в молодости по дюжине валил одной лапой. А тут… Ничего, и к ним придет старость. Время, когда, если перед тобой возникает выбор – кошка или блюдечко молока, то кошку уже можно оставить и на потом.
Наши отношения с Чернушкой сохранились на прежнем уровне. Она по-прежнему ко мне ласкалась, старалась носиком прикоснуться к открытым участкам тела. Мы даже молча с ней разговаривали. Сидя на заборе и глядя мне прямо в глаза, Чернушка говорила: - Знаете, дядя Саша, эти коты… у меня с ними несерьёзно…
– Да, - так же молча отвечал ей я. – Я знаю.
Нужно верить в то, во что говорят женщины. А они должны верить нам. В основе у нас очень похожие тексты.
А кошек можно вообще не принимать во внимание. Мало ли чего они там наговорят!..
Чернушка окотилась в конце мая. Четверо котят – три мальчика и одна девочка. У меня уже стояло наготове ведро с водой, куда я насыпал ещё соломы. Одного котёнка, мальчика, оставил, остальных унёс в коридор и там побросал в ведро. Стараясь не смотреть, большим пучком соломы придавил сверху обречённый приплод и скорее ушёл обратно в дом.
Через дверь услышал крик, от которого заледенела кровь в жилах. Вернулся к ведру. Один котёнок выплыл и в ужасе барахтался среди соломы.
Нет, мама, вы не правы. Они всё понимают…
Я придавил котёнка сверху ещё одним пучком соломы и для верности выдержал паузу. Вот и ладненько. Тихо всё стало и спокойно.
Позже, уже ближе к вечеру, вышел с ведром в огород. Там с краю растёт молодой клён. Я выкопал ямку, опрокинул туда ведро. Хотел уже присыпать, как – случайный взгляд – я не хотел смотреть – чисто случайно глаза дёрнулись туда, в ямку. И… Там среди соломы лежали три человеческих младенца. Три трупика. Два мальчика и одна девочка. Да, два мальчика и одна девочка. Маленькие, но не зародыши - нет. Вполне сформировавшиеся человечки. Такие, как в родильном доме в самый первый день. Сморщенные, чуть похожие на старичков. Темноволосые. На личиках гримаски, как будто каждый из них вот-вот собирается заплакать. Маленькие, согнутые в коленках, ножки…
У меня на секунду всё поплыло перед глазами. Я сел прямо на землю, потом вскочил и бросился в дом, туда, к Чернушке.
Она спокойно лежала в картонном ящичке и кормила оставшегося своего детеныша. Обыкновенного полосатого котёнка. Чернушка лежала свободно, раскинув в стороны чёрные, в белых носочках, лапки, красиво приподняв голову. Когда я вошёл в комнату, она, как мне показалось, чуть напряглась. Она кошка – не человек, но она посмотрела на меня, как человек. Как женщина, которая узнала, что по отношению к ней совершено какое-то предательство. Может быть – даже преступление. Чернушка лежала, смотрела на меня, не мигая, через свои узкие вертикальные зрачки, и - то выпускала из передних лапок когти, вонзая их глубоко в мягкую подстилку, то – прятала их обратно.
Да нет же – котёнок у неё, котёнок! И те остальные… Что-то совсем у меня крыша стала ехать. Я повернулся и вышел из дома, обратно в огород, говоря себе, что всё это у меня от нервов. И даже не торопился – ведь я был абсолютно уверен, что мне померещилось, глупости – видимо, чего-то съел.
Но мне не удалось до конца себя в этом уверить. Как и убедиться в обратном: в огороде, возле опрокинутого ведра, крутились, облизываясь, две соседские собаки.
Я их прогнал.
Но ни в ямке, ни около неё уже ничего не было…
21 – 23 февраля 2006 г.
КАК Я ЧУТЬ БЫЛО НЕ ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ
Поговорил по телефону. Как близко, оказывается. А голос-то такой родной. Думаю: чего ж это я мыш ловлю? Нужно ехать туда, к ней. Скорей!
Сейчас, сегодня уже не получится. Побегу в кадры, договорюсь насчёт отгулов.
Перед обедом забежал к Любови Ивановне, нашей кадровичке, с цветами и шоколадкой: Любочка!(мы ровесники). Любочка! Вопрос решается жизни и смерти! Люба смотрит на меня с укоризнами: «Тебе сколько лет?». И дальше – совсем к делу не относящееся: «Месяц назад у тебя уже решался вопрос жизни и смерти. Вижу – живой. И полгода назад тоже. Отгулы у тебя – они не резиновые. Да и сердце бы уже надо поберечь. Не мальчик уже».
Сам знаю, что не мальчик. Могла бы и не напоминать. А сердце.… Откуда наперёд знаешь – что ему будет легче перенести – поездку к Диане, или же непоездку. Расстались десять лет назад. На полуслове. И не любовники. И не друзья. Друзья… Друзья? Может ли красивая женщина быть просто другом? Зачем красивая женщина просто друг? Для приличия нужно, конечно, притворяться, что видишься ты с ней только чтобы о делах поговорить, да о последнем кинофильме. Для приличия нужно делать вид, что всё человеческое тебе чуждо. И на груди её ты внимания не обращаешь. И на ноги. Которые без всякого стеснения легко представляешь себе во всю их длину и без брюк и без платья.
Этак вот попредставляешь её себе в разных ситуациях - и какой же она после этого друг?
Поезд в три часа ночи. Ехать семь суток. Маленький вокзал, где поезда останавливаются всего на одну минуту, от моего посёлочка в двенадцати километрах.
Уложил в рюкзак запас картошки, сахару, чаю, соли. Кипяток на любой станции, можно сбегать. Сейчас с этим у нас не проблема. С солью была проблема, но правительство с успехом его решило. Оно, правительство, всегда руку держит у народа на пульсе. Как чего не хватает, оно тут же тебе – руку на пульс и - на! Может ли теперь кто-нибудь сказать, что у нас в стране нету соли? Даже Голос Америки и тот замолчал. Бубнит что-то про дефицит алкоголя в России.
Завидно, видать, стало, что обратило у нас правительство внимание на здоровье нации и перестало покупать всякие ядовитые вина из недружественных нам стран. А вино будем теперь покупать в Белоруссии, Иране, Северной Корее. Деньги на виноградники мы им найдём. Тому же мильёнщику Вексельбергу, только свистни – и куда он денется?
Договорились уже (ну, это дело прошлое) с Саддамом Хусейном насчёт прямых поставок в Россию шампанского Абрау-Дюрсо, так поганая Америка дорогу перешла – поймала и арестовала Хусейна.
А ведь у нас хорошие ядерные ракеты. Самые лучшие в мире. Нам только один раз промахнуться и попасть, к примеру, не в мыс Дежнёва, а в Оклахому. И посмотреть, как они все там забегаются со своей хвалёной демократией.
Что это я? Какой Саддам, какая Америка? Я к любимой женщине еду. Все мысли о ней должны быть. А они уже не только о ней. Неужели возраст?
У нас разница с Дианочкой лет в двадцать. Чепуха, в принципе. Но сейчас ей уже сорок, а мне… где-то тут у меня был калькулятор… А… Вот он… Так… Мне тогда было… Значит… Нет. Тут что-то не так. Или батарейки сели. Или кнопка заедает. Чушь какую-то показывает эта японская машинка. Выкинуть нужно её подальше. А то кто-нибудь ещё на ней возьмётся считать мой возраст и будет введён в заблуждение. Так как ничего не знает про эту японскую неисправность.
Да… Тут среди картошки небольшая коробочка была. Куда я её задевал? Ага… Нашёл. На видное место её надо. Она всегда должна быть под руками. Я на всякий случай в нашей аптеке «виагру» купил. Одну таблетку. Всё-таки на свидание еду.
Конечно, может всё так сложиться, что даже и до поцелуя дело не дойдёт. Мы с Дианочкой только собрались в первый раз поцеловаться, как пробили склянки, и мне нужно было прямо с теплохода прыгать в воду, чтобы не уплыть вместе с ней. Так мы с ней расставались.
Может, нужно было всё-таки поцеловаться и никуда не прыгать? Нет, прыгать бы всё рано пришлось. В каюте сидел Дианочкин муж. Замешкайся ещё я на минуту-другую, он бы обязательно вышел, но до берега мне уже было бы не доплыть…
А сейчас мужа у Дианы нет. Вот я и подумал: а почему бы не съездить, не попробовать дочитать вместе с ней любовную страничку, которая закрылась перед нами на самом интересном месте…
А вдруг сюжет нашей с Дианочкой истории станет развиваться для меня самым благоприятным образом? Вдруг, да и скажет она мне, распахнув объятья: - Милый! Только тебя я ждала всю мою жизнь!!! Как хорошо, что ты приехал! Как это неожиданно!
А потом где-нибудь в уединении, может даже – у неё дома - глубоким вечером она вдруг обмякнет у меня в руках и позволит отнести в опочивальню.
Вот тут-то и понадобится «виагра». Дело в том, что у меня с первого раза никогда с женщинами не получалось. Где-то со второго, третьего. Иногда – с пятого. Иногда – чего уж тут греха таить – и совсем не получалось. Как говорил друг Павлик, пенис – существо одушевлённое. И не всегда его поведение можно объяснить. Ведь, случается, встретится женщина обыкновенная, и любви к ней никакой, а напряжётся, вздыбится вдруг в брюках к ней этот твой самый близкий друг – и никакого с ним сладу. Тут же ему вынь, да подай. Бросаешь всё и бежишь за этой женщиной следом: - Ой!-й!-й!-й!!! – Как вас зовут, сударыня! Можно ли хоть рядом возле вас пройтись?! - Ой!-й!-й!-й!!! – А не хотите ли золотые горы?..
И несёшь, несёшь всякую дребедень, только бы угодить этому типу в штанах, только бы дать возможность ему успокоиться…
А женщина вроде - так себе…
И – другой случай – влюбляешься, души не чаешь, боготворишь, а, когда на все твои ухаживания женщина отвечает согласием, оказывается, что это её согласие тебе уже будто бы и ни к чему…
У меня на поездку всего две недели. Неделю на дорогу туда – неделю обратно. На свидание только день и ночь. Тут нет времени на ошибку. Если вдруг Диана… Конфуз может оказаться смертельным для наших с Дианочкой хрупких отношений. Это для женщины отсутствие оргазма в первую встречу - дело почти обыденное. А для мужчины, если у него в первую встречу, извините, «не встал» - любовной карьере практически конец.
Мне же рисковать нельзя. Жили бы в одном городе, в случае неудачи попытку можно повторить. Купить цветов. Хорошую книжку. Диана любит хорошие книжки. Поговорить на отвлечённые темы, но – обязательно – чтобы смешно было и весело. И, как бы, между делом – повторить попытку.
Но во второй раз я смогу выбраться не раньше, чем опять лет через десять. Это сколько ей тогда будет, моей любимой?..
А – мне?..
Значит, всё нужно успеть сделать сейчас, за один день.
Наконец, собрался. Рюкзак сложил. Ничего не забыл? Конечно, забыл. Тут где-то у меня валялся мой чёрный пояс. Может понадобиться. Ага… Здесь он, за диваном. Давненько я его не надевал. Жизнь потому что спокойная, чёрный пояс вроде бы и ни к чему. Ну, а тут, конечно, надо. Мало ли что может случиться.
Посидел на дорожку на завалинке. Подошла Фелиция, молодая вдова. Она у меня убирается в квартире раз в неделю. Ну и – заодно. Для здоровья. Я ей доплачиваю. Один раз купил ей сатину на платье, так бедная женщина даже расплакалась. Хотела остаться на ночь. А ночью с женщиной нужно разговаривать.
Я сослался на головную боль.
Я попрощался с Фелицией, попросил присмотреть за домом. Перекрестился и – на шоссе, ловить попутный транспорт.
А – вот это для меня – самое сложное. Не берут меня попутки. Не останавливаются. Я уже и внешность пробовал менять. И бритым выходил, и с бородой. И в джинсах. И в штанах стёганых. Нет – не останавливаются. Не берёт ни одна зараза. Четыре – пять часов приходится ходить по асфальту, рукой махать. Наверное, через пять часов что-то меняется в моём облике и машина, наконец, останавливается. Особенно это приятно в сорокаградусные морозы с ветром.
Бывает, конечно, что уехать так и не удаётся.
Тогда иду домой, успокаивая себя философски – знать, не судьба…
Поэтому сейчас, когда я увидел своего хорошего приятеля, Кеншилика, который ехал по делам в райцентр на верблюде и предложил мне к нему подсесть – я и минуты не раздумывал. Тише едешь – дальше будешь. Тем более – не февраль, а самая середина лета. Тепло. Лёгкий ветерок пахнет подсохшими травами. К часу ночи я буду на станции. А поезд - в три.
Верблюд оказался спокойным. Мягким. А Кеншилик – хороший попутчик. Дорога с ним прошла незаметно. Кеншилик рассказал, почему у его соседа такая некрасивая жена. Когда-то у него была красивая. И Кеншилик её соблазнил. После Кеншилика она вообще пошла по рукам. Мужа бросила. Зачем муж, если этого добра и так навалом на каждом углу?
А потом прекрасная соседка уехала из посёлка с каким-то армяном.
Нет, не зря, всё-таки у нас в народе не любят этих кавказцев…
Вот… А сосед Кеншиликовский взял себе другую жену. Маленькую. Страшненькую. И так и сказал: - Теперь, мол, Кеншилик её не тронет.
Кеншилик, когда увидел новую жену соседа, тоже решил, что у него теперь в голове о преступлении против соседа не будет даже никаких мыслей.
Их потом и не было.
За разговором я даже не заметил, как и на поезд сел. И как доехал до города, в котором жила она, моя желанная Диана. Поезд, правда, опоздал. Был уже вечер.
Город прославился тем, что в нём пребывал в тюрьме писатель Достоевский.
У нас в России, чтобы обозначить в истории какой-нибудь город, особенно в глубинках или неудобных для жизни большого начальства климатических зонах, давно прибегают к способу, который не требует особых затрат. Так, достаточно было услать Тараса Шевченко к чёрту на кулички, в пустыню, на побережье Каспийского моря, и место, где ему люди, старшие по званию, били по зубам, стало исторической достопримечательностью. Марину Цветаеву вынудили повеситься в зачуханной деревушке – и теперь толпы любителей литературы совершают туда паломничества. На городе Горьком (ныне Нижний Новгород) следовало бы прибить табличку: «Здесь пребывал в ссылке академик Сахаров». Можно составить очень даже приличный список таких достопримечательностей. И ведь – практически – без никаких трудов, не построивши башни, красивей которой ни у кого нет, ни моста, ни дворца – можем мы, россияне, любую географическую дыру заставить гордо зазвучать на весь мир.
Прихлопнули Михоэлса в Минске – вот тебе и достопримечательность.
Правда, Минск не дыра, но славы, благодаря смекалке наших спецслужб, мы ему всё-таки прибавили.
Ну и, значит, я в Омске. Знаменитый острог уже идти смотреть некогда. Смеркается. Где-то у меня на клочке бумаги адресочек Дианы написан. Домашнего телефона не знаю. Придётся идти без звонка. Вот будет сюрприз!
Остановил такси. Водитель спросил адрес. Потом переспросил: - А ты, мужик, ничего не напутал?
Я не знаю почему, но меня почему-то кругом принимают за человека без ПМЖ. Как бы я не выбрился, какие бы ни надел свои лучшие штаны с пиджаком – всё равно какой-нибудь чуть начальник или, вот – таксист - начинает говорить со мной на «ты», а тут, ясное дело, уже просто необходимо для весу ещё и матерное добавлять.
Вот таксист так, с добавлением и спросил: - А ты, мол, ничего не напутал?
Дело в том, что моя Дианочка, оказывается, поселилась в весьма престижном районе города Омска. Там живут бывшие бандиты, действующие и здравствующие госчиновники и недобитые бизнесмены. (И в этом осином гнезде – моя Диана?!). Но разбираться некогда. Я сунул таксисту денег и пообещал ещё пол-литровую баночку домашней сметаны, если он не будет ко мне принюхиваться, и довезёт по указанному адресу.
А ведь и правда, пахнет от меня коровами (а теперь, наверное, ещё и верблюдом), за дорогу не выветрилось.
Ничего. У Дианочки, я надеюсь, будет ванна, глинтвейн.
Подъехали. Я как высокий металлический забор увидел, так подумал, что есть у неё ещё и бассейн и джакузи. Намылюсь хорошенько «Кометом» с хлоринолом – все запахи с меня – как рукой.
Интересно, есть ли во дворе собаки? А то ведь ещё дополнительно вспотею.
Кто-то возле забора японский бульдозер «Коматцу» оставил. Вот и славненько. А по ту сторону – платан роскошный с ветвями до самого дома.
Так я и перелез, по узловатой ветке, прямо в раскрытое маленькое окошко на чердаке. В спину мне пели сверчки, какие-то ночные насекомые. В другое время я бы присел, насладился, но тут некогда было. А темень, темень-то какая!
На чердаке я взял в зубы фонарик, разложил на полу содержимое рюкзака, выбрал самое необходимое: капсулу с «Виагрой» и чёрный пояс. Капсулу – как профессор Плейшнер – в рот, за щеку, чтобы раздавить зубами в самый решающий момент.
Ну и подвязался поясом.
И не зря. Когда стал пробираться по коридорам в поисках Дианочкиной опочивальни, завидел издали в анфиладах мордоворота. Черный костюм, галстук, голова бритая – как в кино. Видать, из охраны. Вечерний обход делает. Я в нишу отступил и за гипсовую статую спрятался. А когда этот дуболом мимо проходил, я ему с одной стороны свою шляпу взял и показал. Ну, лысый Сталлоне голову просунул, чтобы посмотреть, чья это шляпа. А я с другой стороны прыгнул, правой рукой его шею в замок и чуть крутанул против часовой. Шея, как и положено, хрустнула. Тело я обнял, бережно опустил, чтобы не было шума, прислонил за статуей.
А вдруг я его отключил, но не до конца? Отвернусь, пойду по своим делам, а он вдруг как вскочит, да как за мной погонится! Подумаешь – голова набок. Он и боком может побежать.
Может, ему для верности хоть одну ногу сломать?..
Нет, это уже совсем не по-человечески.
Я всё-таки обхватил охранника за голову и, напрягшись, повернул её для верности ещё дальше носом за плечо. Шея опять хрустнула.
Вот так человек ходит в садик, учится в школе, дёргает девчонок за косички, учится драться и курить. Заканчивает ФЗУ(так раньше называли колледжи и лицеи), выступает в спортивных соревнованиях по кик-боксингу.
Потом делает удачную карьеру – поступает в охранники к бизнес-леди. Работа – не бей лежачего. Сутки походил по коридорам – двое дома. Можно покупать квартиру и даже жениться.
И тут приходит неизвестно, кто и ломает тебе шею.
Я вытер с лица капельки пота. Нужно бы отдышаться. Здоровый всё-таки лоб. А годы-то, годы у меня уже не те. Вот иду сейчас к Дианочке, а ещё и думаю: ведь у нас, у мужиков после пятидесяти, взгляд на любовь уже несколько иной. Более приземлённый, что ли. Знакомишься с женщиной, начинаешь с ней дружить, но вместе с восторгами задумываешься параллельно и о перспективах: а будет ли кому лет через пять – десять тебе в кровать стакан с водой поднести?
Тут не путать – кофе в постель – это одно. А стакан с водой – это совсем другое.
Я знаю – Дианочка – она хорошая. И она меня, если у нас всё получится в интимной жизни, никогда не бросит.
А ведь, правда, как это прекрасно – лежишь в кровати, старый, поношенный, весь в морщинах. Под кроватью утка, судно. А ты лежишь, хоть и немощный, но в чистеньком, хрустящем, пахнущем «Кометом», белье. И, слабым голосом, зовёшь: «Диана!..». И она вбегает в спальню, красивая, стройная, в наспех застёгнутом халатике, и – уже со стаканом прохладной воды в вытянутой руке.
А на ночь она читает вслух Ренара или Монтеня и даёт себя потрогать.
А, представить, как в бледности и печали, одета простенько, но со вкусом, во всём чёрном, идет потом восхитительная Диана за гробом своего любимого, то есть меня?
Это ли не счастье?
Всё. Надо бежать. Время, время… Комнаты, коридоры… Нет, не понимаю – зачем столько комнат?.. Туалет один, второй, третий… Что у них, у этих, кто теперь живёт в таких роскошных коттеджах, такие уж проблемы с кишечником? Чтобы через каждые десять шагов, да ещё и на каждом этаже?..
И – ни одного указателя, где тут спальня находится. Так бежишь, бежишь, а тебе навстречу – Минотавр…
О! Кажется, нашёл! Евродверь с евротабличкой: Диана. Так и есть. Спальня. А за ней – она, моя любимая. Ох! Что-то аж дух перехватило. Неожиданно как-то. Не верится, что сейчас нужно просто нажать на ручку двери, и можно войти и увидеть её.
Так… Главное – не терять темпа. Разгрызаю капсулу, открываю дверь и – вперёд!
Нет. С капсулой нужно подождать. А вдруг Диана просто уехала в командировку? Или - задержалась в своём офисе? Или - решает свои деловые вопросы в ресторане с друзьями-бизнесменами за чашечкой лобстера?
А я тут заскакиваю к ней в спальню – здравствуйте, подушки!
Нет. Я тихонько надавливаю на ручку двери, она, разумеется, абсолютно бесшумно, открывается, и – делаю шаг в полумрак…
Да… Впереди в слабом желтоватом освещении большая кровать. И в ней кто-то спит. Я осторожно, на цыпочках, подхожу ближе.
Нужно ли добавлять, что я давно уже разулся и бесшумно подкрадываюсь в новых и очень модных носках?
Зубы – на капсуле.
Боже мой! Чудо!!! Она!!!!!
В тёплом свете ночной лампы, свободно раскинув руки – волосы в беспорядке, голые ноги чуть прикрыты простынёй – лежала моя Диана…
Восторг ты мой…
Мечта моих бессонных ночей…
Родинки… Да, ну, хоть на родинку ещё, была б ты менее прекрасной…
Пока ты спишь… Пока ты спишь, Диана, позволь скажу тебе то, о чём я всё время думал все эти десять лет? – Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя…
Я потом скажу тебе это ещё много раз, когда ты проснёшься, я буду говорить тебе это, повторять всю жизнь…
Всё. Ладно. Кусаю капсулу…
Нет. Ещё один взгляд.
Стоп. А что это рядом за холмик? Что это за груда постельных принадлежностей? Шевелится. Она ещё и дышит!
Вглядываюсь повнимательней – тень, плохо видно. Рядом определённо кто-то есть. Нет, мне не кажется. Рядом с Дианой, рядом с моей Дианой, укрытый отдельной простынёй, лежит мужик. И спит. Гад.
От потрясения я чуть не раздавил капсулу. Что в данной ситуации оказывалось совершенно не к месту.
Так… Мужик… Диана…
Что-то об этом я почему-то не подумал. Хотя – чему тут удивляться? Не сказать, что пустяки, но дело житейское. Нельзя жить на свете женщине без мужчины. А мужчине – без женщины.
Не ждать же Диане все десять лет, когда это я соберусь к ней приехать на верблюде предлагать руку и сердце…
Ну, что ж. Вариантов тут никаких. Мужика нужно мочить. Сейчас придушу его тут тихонько, оттащу к окошку, посплю с Дианочкой, а там видно будет.
Молился ли этот узурпатор перед сном?
Я уже размял пальчики, чтобы рывком, коротко крутануть ему шею. Чтобы всё быстро, чтобы не мучился. И чтобы Диану не разбудить.
Но что-то насторожило меня в его лице, которое так и оставалось скрытое тенью.
И в это время соперник мой во сне повернулся. Его волосатая рука бессовестно соскользнула на открытое бедро Дианы…
А лицо у неё совершенно счастливое…
Нет, вот тут самое время этого кобеля и замочить. И я уже изготовился. И… Замер…
Господи… Да это же… Я…
………………………………………………………………
Да… Тут очень длинная пауза возникла…
Да. Рядом с Дианой, положив ей руку на голое бедро, невинным сном младенца, спал я.
И мне было хорошо.
И, как и у Дианы, у меня было очень счастливое лицо.
И как это я сразу не обратил внимания, что волосатая рука – это моя рука?..
Главное всегда – никогда не спешить, ничего не делать сгоряча.
Жаль, конечно, что замочил охранника. Это же был мой охранник. Нужно будет завтра с Дианочкой посоветоваться, куда деть труп и кого бы из надёжных ребят подыскать на его место.
И – надо, наконец, зайти в музей Достоевского. Там, я слышал, работает интересный писатель Виктор Винчел.
Я давно хотел с ним познакомиться.
ТЁМНЫЕ АЛЛЕИ
Юлька Петракова. Мелкий серый воробышек на первом курсе Актюбинского пединститута. Кругом в тёплом сентябре поприходили на занятия накрашенные студенточки в мини и с разрезами до пояса макси. А Юлька – во всём простеньком, без изысков. Хотя и могла бы выделиться – папа зубной техник, мама – известная в городе на дому колдунья. Но – нет. Всё обыкновенное, слегка подростковое. Что, впрочем, выглядело вполне органично: всего семнадцать лет, росту чуть более полутора метров. Выдавали и все-таки выделяли Юльку из общего контингента глаза. Умные. Чёрные.
А я тогда в институте был уже «дедом». Третий курс, через год – учитель русского языка и литературы. Проходя как-то мимо Юльки и чуть не перецепившись, потому что маленькая и не заметил, я что-то отпустил в её адрес весёлое. Конечно, совсем не обидное, потому что девчонка, потому что, перецепившись через девчонку, можно использовать этот случай, чтобы познакомиться, сказать ей комплимент. Такой, чтобы улыбнулась. Я увидел умные глаза. Очень захотелось сказать что-нибудь необыкновенное. Сильно не напрягался. В двадцать лет идеи, мысли фонтанируют во все концы. Куда было Юльке деваться – она улыбнулась. Мы стали сразу разговаривать, будто знали друг друга тысячу лет. Любая точка, которой мы с ней касались в разговоре, оказывалась точкой соприкосновения. Мы будто сразу стали продолжать разговор, который только что, пару минут назад, прервался…
Так познакомились.
Юлька понравилась мне. Но я не стал провожать её домой после занятий, не стал дарить цветы, строить глазки. Я не воспринимал её всерьёз, как девушку, женщину. Она казалась мне ребёнком, с которым можно интересно поговорить на любую тему. Вместе посмеяться. Сходить на спектакль Сашки Самодурова.
Ну, домой мы иногда вместе шли. Совпадали маршруты. Ну, случалось, и до самых дверей я этого цыплёнка доводил. Ничего не специально. Просто так совпадало.
И домой к ней потом пару раз, а потом и чаще, я стал заходить не потому, что имел какие-то виды на маленькие, чуть припухшие, Юлькины губы и едва заметные груди. Просто у неё с литературой бывали какие-то неувязки, а я мог помочь. Я, как и Юлька, в литературу был очень влюблён, но прочитал, конечно, в силу своего возраста, больше. Притаскивал к Юльке всякие книги со стихами Вознесенского, Маяковского. Мы вместе, вслух, читали «Тёмные аллеи» Бунина.
Ах! Эти «Тёмные аллеи»!..
Юльке нужно было сдавать экзамен по русской литературе. Среди прочих вопросов был Бунин, которым я в ту пору зачитывался. Я взялся Юльке рассказывать о том, как сам отношусь к творчеству классика, что нравится, что – нет. Мы укладывались на диван с высокими подушками – на Юльке были только маленькие трусики…
Да, в квартире у Юльки летом, когда нужно было сдавать экзамен, было жарко, и она сбрасывала с себя одежду, оставаясь только в трусиках, и в таком виде продолжала со мной общение. В таком свободном её поведении, отчасти, был повинен и я сам. Я замечал и говорил Юльке об этом вслух, что она похожа на маленькую прекрасную статуэтку из времён античности. Что если ещё выбрить ей лобок и осветлить кожу, то можно ставить на пьедестал и бесконечно любоваться. Про лобок – это уже было позже, а пока – просто и целомудренно, мы укладывались на диван – ну, точь-в-точь Шурик со своей Селезнёвой – и читали вслух тёмные аллеи. Поверьте – лучшего, более эффективного восприятия знаменитого цикла Ивана Алексеевича быть не может.
Рядом со мной лежала симпатичная юная девушка с хорошенькой, практически, голой, фигуркой. Перспективные грудки, набухшие розовые соски.
Приставать, что-то делать с этим юным совершенством я ничего не собирался. Я считал себя по сравнению с ней бесконечно взрослым, чуть ли не старцем. Хорошо с Юлькой, замечательно, но какая может быть любовь с этим ребёнком? Ну, ещё посмотреть на неё – ладно. Что уж скрывать – смотрел бы, не отрываясь.
Я и страниц-то Ивана Алексеевича не замечал, читал всё по памяти, не замечая времени и не знаю, насколько близко всё было к тексту. Может, и совсем далеко.
Но Юлька получила по своей литературе пятёрку. И попался на экзамене ей именно Бунин. «Тёмные аллеи»…
Юльку я не целовал и нигде не трогал, хотя она безгранично мне доверяла.
Сессия благополучно завершилась, и её направили на практику в пионерский лагерь «Дружба», что находился рядом с Растсовхозом, посёлком моего детства. Там жили мои родители, и лето я тоже проводил с ними, ночуя отдельно, на чердаке, на ворохе зелёного душистого сена.
Естественно, что по вечерам я бегал проведывать Юльку.
Мы прохаживались с ней по длинной тёмной аллее из густых клёнов, которые над нашими головами переплетались ветками, мы шли, будто по зелёному коридору. Ночная свежесть и запах кленовых листьев…
Вот я думаю – душе необходимо своё питание. И это – музыка, мысли, чувства. Это картины, образы.
Какое питание получала душа Пушкина? Лицей, Царское Село… Статуи, ротонды, пруды, лужайки. Сотни умных книг. Театры. Балет. Вот эта строчка, о футболистах – она оттуда: «То стан совьёт, то разовьёт И быстрой ножкой ножку бьёт…».
Какое питание получают души детей, вырастающих в трущобах? Среди пустырей и свалок? Среди однообразия панельных пятиэтажек? Среди разговоров, в которых через слово – мат? Какое питание получают души детей, для которых вся живопись – это «Три медведя», «Растерянный витязь»?.. Уроки пения, где «И, как один умрём!..».
Я благодарен судьбе и своей маме, что именно в посёлке Растсовхоз прошли мои детство и юность. Огромный сад из тополей и клёнов насадили в Растсовхозе ссыльные «изменники Родины» и «английские шпионы». Многокилометровые арыки проходили через кленовые аллеи и посадки ранеток, кустарников малины и смородины. Весной случалась это чудо – цвели ранетки. И в тихом безветренном саду стоял густой одуряющий аромат, жужжали пчёлы, останавливалось, застывало в ветках горячее майское солнце.
А вокруг пионерлагеря «Дружба», по всему периметру, были посажены тополя, которые выросли через десяток лет в стройных красавцев. И заслонили всё внутреннее пространство детского городка от жгучих сухих казахстанских ветров. Я прибегал туда мальчишкой ещё до заезда юных пионеров, в середине мая. Пушистая трава, цветение пастушьей сумки, одуванчиков. Спокойный тёплый воздух, в котором легко и свободно разлетались, парили крошечные парашютисты – пушинки семян созревших одуванчиков…
И тёмными, то тёплыми, то прохладными июльскими вечерами мы с юной подружкой прогуливались по тёмным аллеям моего Царского села. И я уже позволял себе тактильно обнаруживать перед Юлькой свой к ней интерес. Брал её за руку. И из моей руки в её руку тогда проскакивало электричество. А, когда мы шли по аллее, осторожно поддерживал её за талию. На Юльке было тонкое платье, я слышал сквозь ткань тепло её тела, а, когда смещал кончики пальцев по волнующему изгибу, то дотрагивался до резиночки трусиков, и это обдавало меня жаром изнутри… В конце концов, мы поцеловались. Ощущение – как будто ты стоял на табуретке, её выбили из-под твоих ног, а ты не упал, потому что потерял вес… Я никогда до этого не целовался. Вот это соединение губ с губами – это оказалось каким-то волшебством. Единственное смущало: в брюках напрягся, вздыбился пенис, и мне от этого перед Юлькой было неловко. Я боялся, что она это почувствует, и это обидит её, оскорбит. Я повторял поцелуи, а сам старался повернуться таким образом, чтобы животное моё желание не могло себя выдать.
Для меня Юлька была хорошим другом, молодой, доверчивой девчонкой, с которой я не представлял себе взрослых отношений. Ну, встречаться, ладно – поцеловаться, но дальше – ни-ни! У нас большая разница в возрасте. Я уже пожилой, потрёпанный жизнью, мужчина, а Юлька – ещё совсем соплячка. Валялась, вон, со мной на диване, почти голая и не представляла, дурочка, чем всё это может кончиться.
А взрослым и мудрым я себя считал вот почему.
Невинность свою я потерял еще, когда мне было лет пятнадцать. Однажды вечером я с местными своими друзьями стоял у совхозного клуба. Внутри хрипел музыкой дешёвенький проигрыватель, шли танцы, а Васька Мамотенко и Вилька Грец вышли покурить. Я на улице стоял в одиночестве, они подошли ко мне. Васька протянул папиросу. Я затянулся, стал кашлять. Плюнул, папиросу выбросил. Васька и Вилька рассмеялись. Они были старше, давно кончили восемь классов и уже ходили работать на завод. И старшие товарищи высказали предположение, что я ещё и с девочками никогда ничего не пробовал. И, поскольку я в ответ только кашлял, решили, что и тут со мной всё ясно. Было решено этот пробел в моём воспитании восполнить и сходить к Викусе Рассохиной. Отказаться от такого предложения было никак нельзя. Боюсь я что ли? И совсем не боюсь. Давно хотел. Только не представлял, как. А оно, оказывается, вон как – просто сходить к Викусе Рассохиной.
Викуся была дома одна. Папки у неё не было, а мамка дежурила в свинарнике. Не красавица. И старая – ей уже то ли шестнадцать, то ли уже семнадцать лет было. Васька с Вилькой сели за стол играть в карты, а меня послали к Викусе за ширму. Я в тот вечер у неё был первым. Через двадцать секунд я стал мужчиной.
Ощущения какие-то… Ну, не ожидал я, что всё это так…
Потом друзья как-то ещё раз позвали меня с собой. И я сходил с тем же самым успехом. В компании сверстников я уже с чистой совестью мог говорить, что ЭТО у меня уже было, и не раз, но повторять всё в том виде, как делали мои товарищи, я уже не хотел.
Викуся вышла замуж за работягу с кирпичного завода, а совхозные парни продолжали к ней заглядывать. Стучались в дверь вечерком, говорили: - Пойдём с нами, а то мы мужу всё про тебя расскажем.
И она выходила…
И вот - Юлька… Разве с ней можно что-нибудь подобное?..
Я целовал её, кружилась голова, сбивалось дыхание. И – старался повернуться как-то боком, чтобы ненароком не ткнуться куда-нибудь ей в живот или бедро своим жёстким тупым предметом…
Мои родители каждый год ездили на Украину, на историческую родину моей мамы. И в этот раз решили взять с собой меня. Юлька осталась в своём лагере, я уехал купаться в Днепре и объедаться вишнями и абрикосами, которые в селе Карнауховка валялись даже на улицах. В Актюбинске на базаре пять рублей за килограмм, а там – под ногами. Ешь – не хочу.
Когда вернулся из Украины, узнал, что Юлька умотала куда-то за Байкал, к своим родственникам. И встретились уже только в середине сентября. Очень обычная такая была встреча: я позвонил. Юлька открыла. Она была без ничего, в знакомых мне трусиках. И раньше так бывало, ничего особенного. Но мы с Юлькой уже целовались в лагере, и поэтому тут же, в прихожей, поцеловались. И я взял подружку на руки и отнёс на диван, потому что голую девушку удобнее целовать, когда она лежит на диване.
Я по-прежнему пребывал в твёрдой уверенности, что у наших отношений должен быть определённый предел, за который переходить никак нельзя. Но в этом моём для себя правиле ничего не было про то, чтобы я не мог раздеться сам и целоваться с Юлькой уже в таком виде. Юлька легко на мгновение приподнялась, чтобы мне удобнее было стянуть с неё трусики. Куда-то в угол, вслед за ними, на них, упали и мои.
После радости и оглушённости от первого поцелуя, я снова провалился в какое-то другое измерение пространства и времени от соприкосновения с Юлькиным голым телом. Когда Рай – там, наверное, всё время такое испытывают.
Обнимались, сплетались телами, целовались.
Я, конечно, помнил, что есть границы, через которые переступать я не должен.
Если девушка так мне доверяет, то это не означает, что я могу этим бессовестно воспользоваться.
Жениться нам ещё рано. У Юльки впереди три курса. У меня выпускной, потом нужно ещё найти своё место в жизни. В общем, всё можно, а ВОТ ЭТО – нельзя, потому что.
И мы продолжали обниматься и целоваться абсолютно целомудренно смеясь, улыбаясь, радуясь такой волшебной близости, всем этим касаниям и взглядам глаза в глаза.
И всё было настолько легко, настолько свободно, взаимно, так естественно… Я почти не заметил, как устроился, улёгся между Юлькиных ног. А она и не думала их сжимать, раздвинула, чтобы я мог устроиться поудобнее. Это всё была игра. Глядя Юльке в глаза, я легонько ткнул ее торчавшим всё время пенисом туда, куда вообще-то было нельзя, но – ведь это была игра, просто игра. И я сделал это ещё раз, другой. Осторожно так, чуть-чуть – обыкновенный нежный знак внимания. Больше, сильнее нельзя, потому что жениться нам ещё рано. А так – понарошку, можно.
– А давай я попробую, - шепнула мне на ушко Юлька. Ей игра понравилась, и она решила взять инициативу в свои руки: легко выскользнула из-под меня и устроилась сверху. Особо комфортных условий у меня не было – посередине торчал этот напрягшийся колышек, но это обстоятельство, напротив, оказалось очень даже кстати для наших игр.
Юлька встала надо мной на корточки и, легонько приседая, постаралась повторить те касания, которые минуту назад совершал с ней я. Как я понял, это понравилось не только мне, но и ей. И Юлька позволила себе сесть ещё ниже, ниже. Боже, как она была красива! Я хотел ей сказать: - Юля, так нельзя! – Но ничего не говорил. Что-то затягивал со своими предостережениями. Потом я почувствовал, что девушка моя уже не может быть ко мне ближе, не может сильнее присесть, что, будто бы, наши отношения останавливаются на полдороге. Я уже забыл о своих клятвах самому себе, у меня вообще в голове остались две-три мысли, которые сосредоточились в одной точке… В голове мелькнуло: - Что, у неё ТАМ так мелко?.. И тут Юлька совсем ослабила колени, я почувствовал тяжесть её тела, которую, казалось, сдерживал только мой окоченевший, вздыбившийся, стержень, но и это длилось недолго, всего несколько мгновений. Преграда, на которой держался, сосредоточился весь Юлькин вес, хрустнула, треснула, прорвалась и, вскрикнув, Юлька опустилась, прижалась, плотно, наконец, уселась на меня. А потом приподнялась и, всхлипывая, стала повторять, делать на мне эти разрушительные приседания всё резче и безжалостнее…
Вот так я, всё-таки, блин, и женился…
БОЛЬНО !..
Жена ушла. Вот так вот – взяла и ушла. Прожили вместе три десятка лет, и – ушла. Как будто умер кто. Почему всё не так? Будто всё, как всегда, То же небо – опять голубое…А ведь я её любил. И сейчас люблю. Ну, подумаешь – писал в Интернете письма виртуальной красавице. Ведь это письма. Только письма. Их я и не скрывал особо. Теперь думаю – зря. А письма были хорошие. Перечитывал – самому нравились. И не удалял из компьютера. Художественные произведения, блин!
А жена, возьми, да и наткнись. И – прочитай. Вообще читать чужие письма нехорошо. Чужие – оно, конечно. Но какой же я чужой моей ласточке? Плоть от плоти. И, пусть не лучшая, но – половинка. А, раз не чужой – значит, письма можно читать. Ну, и – взяла и прочитала. Не понравились. Положа руку на сердце, мне бы тоже не понравилось, если бы жена тихонько создавала кому-то подобные художественные произведения.
Не понравились – это не значит, что написаны письма были плохо. Вот я, сколько свои рассказы по редакциям толстых журналов рассылал, так все хвалили. Хорошо, говорили, пишете. Только нам не нравится тематика. Так вот и супруге моей, видно, очень тематика не понравилась.
В компьютере жена не разбирается. И, до знакомства с определённым разделом моего эпистолярного творчества, не знала, в какой руке мышь держать. А тут за трое суток овладела всеми необходимыми навыками. Перереворошила все внутренности моих дисков, каждый байт со всех сторон осмотрела, каждый пиксель. Если бы она заподозрила, что возможная любовная моя записочка спрятана за семью закодированными печатями в Главном Компьютере Пентагона, то печати бы эти облетели, как драный сургуч.
В общем, всё она про меня, бесстыжего поганца, узнала. Как бы и ничего нового – каким ты был, таким остался, опять нарушил мой покой. Ещё раз убедилась, что с горбатым уже ничего нельзя поделать, только в могилу его. Высказала мне много всяких нехороших слов. Чего их тут повторять? Любой среднестатистический мужик все эти определения про себя знает.
Ну и – собралась меня бросить. Совсем, к чёртовой матери. – Признайся, говорила, - у тебя от неё дети?.. - ???????????. Ну, да, хорошо, проникновенно я письма писал, но – не настолько же!..
И – ушла. Собрала вещички в чемоданчик и ушла. Вот как так можно? Прожить с человеком рука об руку, бок о бок, бедро о бедро тридцать лет, а потом – бац! – и уйти. Хоть бы о детях подумала. Пусть выросли сыночки, пусть оба женаты, но им ведь по-прежнему нужны папа с мамой, как семья, как единое целое. И это называется женщина – хранительница домашнего очага? Плюнула женщина и на очаг, и в него, задрала гордый хвост и ушла. Ведь я и на коленях стоял, и плакал, прощения просил. Умолял, говорил, что больше не буду. Ну, всё, что в таких случаях полагается говорить нам, среднестатистическим мужикам. А ей бы, покричать бы, пожурить. Ну, пообзывать, там, меня всякими последними словами, да и простить. Ну, как это положено во всех нормальных семьях.
Нет – собрала чемоданчик и ушла. Выбрала самый лёгкий путь. Ведь, ещё когда замуж выходила, что говорили на свадьбе, умудрённые жизнью, пожилые пары? – Терпения, говорили они, вам, главное - терпения. И - прощайте друг друга…
Забыла всё на фик. Простить, оно, конечно, трудно. Но в жизни не бывает лёгких путей. Никто и не говорил, что будет легко…
Одному оставаться страшно. Уходит женщина – как будто земля уходит из-под ног… И ничего тогда не нужно Ни огород не нужен, ни – скотина. В деревне, где мы жили, у нас был небольшой огородик, корова, куры, телёнок. И всё это враз оказалось совершенно ненужным. «Изменилось всё вокруг, всё ненужным стало вдруг…». Как будто всё – и корова, и посадки овощей и картофеля существовали для того, чтобы кормить жену. А теперь только я остался. Кого теперь кормить? Мне и куска хлеба с консервой хватит. Только – надолго ли меня хватит? Когда мужчина выбирает себе женщину, он выбирает себе судьбу. В первую очередь – это время, которое он проживёт, какими болезнями будет болеть. Ведь женщина – это еда на каждый день. У неё не бывает выходных. Семья, дети. Каждый день нужно что-то приготовить из еды, каждый день вымыть посуду.
Что такое жить без выходных я понял, когда оказался в селе. Мы обзавелись хозяйством. И каждое утро мне нужно было вставать, доить корову, отгонять её в стадо. А вечером встречать корову, доить… Корова не знает ни праздников, ни выходных. Её нужно каждый день кормить, за ней убирать. Ты не можешь никуда уехать, даже, если в отпуске. Самое большее – это поездка в город в течение дня. К вечеру нужно успеть – встретить корову, подоить…
У женщины семья – это её хозяйство. В праздники, выходные, в отпуске, нужно встать приготовить еду – дети, муж уже крутятся вокруг. Они крутятся три раза в день. Кушать… Кушать… Кушать…
Продолжительность жизни. «Чего жена едает, того муж не видает». Жена любит солёненькое – муж всю жизнь кушает солёненькое. Жена любит жирненькое – муж кушает жирненькое. Жена лапшу - и муж лапшу. У жены камни в почках – у мужа камни в почках. Жена в сорок лет охладела к мужу – у мужа аденома простаты.
Впрочем, это уже не про еду.
Ну, и как же я зажил в своём приобретённом одиночестве? Да, ничего хорошего. Всё сам. Кругом один. Вечером, когда ходил за коровой, встречался с Анхисом Димитриевичем, сельским учителем. Он был моим давнишним другом. Много совместных бесед проводили о положении в народном образовании, я пытался что-то своё поговорить, о литературе. Анхис Димитриевич в обсуждении вопросов литературы проявлял встречный интерес. После десяти лет знакомства решились заговорить и про бап. Всякий раз при встрече я читал учителю какое-нибудь двух-четырёхстишие, сочинённое прямо по дороге, типа: «Всю жизнь носил бы на хую, Тебя, красавицу мою…». Несмотря на высокое учительское звание, ничто человеческое и в этом плане оказалось не чуждо Анхису Димитриевичу. Правда, на момент моего оглушительного семейного краха, он находился от меня в весьма выигрышном положении. С появлением на селе компьютеров, и его не обошла эта зараза – знакомство с виртуальными дивами. Но ему повезло в два раза больше, чем мне. Во-первых, его зазноба оказалась по местожительству чуть ли не по соседству – в соседнем районе, в каких-то двух-трёх часах езды по просёлку. И, во-вторых, его жена ничего совсем не подозревала, потому что о компьютере знала только то, что выключать его нельзя путём выдёргивания вилки из розетки. Но всё равно выдёргивала.
Ну, и – вот… Анхис Димитриевич – счастливый обладатель сразу двух женщин, а у меня – ни одной. Ещё и всё ското-огородное хозяйство, смысл ведения которого совсем потерялся.
Где женщина – там и дом. Уезжаешь с женщиной на дачу, в отпуск – только и всего-то, что рядом с тобой обыкновенный человечек с сумочкой, а – дом, уют передвигаются вместе с ней. Повесила платьице на плечики, зацепила за гвоздик в поезде – и тут уже дом. Откуда-то пирожки, варёная курица, яички всмятку…
Наступили – отдельные, одинокие, ночи. Кровать сразу стала непомерно большой. Неудобной. Горбатой какой-то. Всю ночь ворочаешься – там яма, а там – бугор, давит. Без конца просыпаюсь. Тишина мёртвая. Никто рядом не дышит. Рука, забывшись, привычно тянется к родному телу - пройтись касанием по милым тайнам и спать дальше. А – нету тела. И тайны исчезли, растворились, Бог знает, где.
Понимаю холостяков. Они привыкли, чтобы рядом никто не дышал. Холостяк может спать в морге, как у себя дома.
А я привык быть частью, половиной. И, если рядом нет жены – то сам по себе я уже какой-то неполноценный. С физическим увечьем. Когда не хватает не просто руки, там, или ноги, а – целой половины.
И я теперь дома сплю, как в морге. Плохо сплю.
Сам виноват? Полагается, конечно, сказать, что – да. Кобелина поганый. Хотя уже и виртуальный, но суть от этого не меняется.
Но! Обыкновенный же я! Как все. «Так же, как все, как все, как все, я…». Ну, должен всякий нормальный мужик непрерывно интересоваться прекрасным полом. Ну – должен! Если не интересуется, тогда и в семье – зачем он такой нужен? Возлюби ближнего, как самого себя. Если ты не научился любить себя, то, как ты возлюбишь ближнего? Возлюби каждую женщину, как свою жену. Ибо – если ты не научился, не любишь женщин, то как же ты и зачем живёшь со своей женой?
Вообще все мужики делятся на хищников и травоядных. Хищники – это как раз те, которые оделяют половым и человеческим вниманием нуждающихся в этом женщин. Узнают они таких женщин по глазам. В толпе, на службе. Замужних, одиноких, девственниц… Ну, и – оделяют.
Хищника не всегда можно отнести к положительным героям. Скорее – это «врун, болтун и хохотун». Но – «знаток бабских струн». Он ещё и – как не трудно догадаться – полигамен до безобразия. Нехорошо это, конечно, аморально. Но вины его в этом никакой. Как и всякий хищник, он – необходимый компонент нашего человеческо-животного мира. Его таким создала Природа. И загнулся бы вообще без него весь наш благообразный мир.
Вот сухая безжалостная статистика говорит, что в семье каждый третий ребёнок не от того отца, который записан в паспорте. Ну, кому-то из отцов повезло – у него все дети его, а у кого-то и все импортного происхождения. И всё это не из-за того, что женщины, исходя из той самой сухой статистики, поголовно безнравственны. А потому, что если у женщины травоядный муж, и никого, кроме своей жены вокруг себя не видит, то в такой семье и дети появятся с такой же генетически ущербной зависимостью. Природе наплевать на моральные принципы. Ей главное – рост народонаселения. «Чтоб кино событий шло в жизни этой, ты должен любить, хотеть!». И не для того тестикулы мужчины наполняются миллионами сперматозоидов, чтобы их всю жизнь с минимальным эффектом впрыскивать в одну женщину. Вторая, третья, пятая… Где-то порвётся презерватив, кто-то перепутает дни в месячном своём календаре. Не каждая забеременеет, далеко не все они будут рожать. Но, чем больше попыток – тем выше вероятность успеха.
И женщина – верная супруга и хорошая мать, интуитивно расслабляется при виде такого безнравственного, щедро раздающего своё семя, мужчины, чтобы подобного ему вырастить у себя в семье. Природе нужны мужчины, которые принимают активное участие в размножении.
Мужчина, который теряет интерес к размножению, заболевает и умирает.
То, что мужчина хищник, бабник, совершенно не исключает многих его положительных качеств. Он может быть хорошим руководителем и прекрасным семьянином. Ещё бы! Он любит женщин и в жёны себе выбрал лучшую!
Его жене не нужно искать негодяя на стороне, этот кобель у неё - законный супруг, в кровати каждую ночь, родненький.
Ну, вот. А моя ушла. И семя своё никуда не разбрасывал, всё ей одной, до последнего хвостика. Замуж выходят – согласно головой кивают: - Да, - мол, - и в горе и в радости. – Да, и только смерть разлучит нас!
И где она теперь, когда у меня горе? Из-за какой-то фантомной любовницы! Не курю, не пью. По хозяйству изо всех сил, помогаю. Мне бы только выспаться хорошо…
Приезжал из города младшенький сын Витя. Видится он с матерью. Устроилась она от него неподалёку дворничихой. Дали ей комнатёнку при ЖЭКе и метлу. Ну, слава тебе, Господи! И крыша над головой есть, и кусок хлеба. И гордость свою уестествила.
Витя рассказывал – пыталась она поначалу найти работу по специальности. Два красных диплома, высококлассный специалист. Звонила по объявлениям – только о возрасте услышат – сразу трубку бросают. Женщина после пятидесяти у нас в стране уже не человек. (Еще, для того, чтобы устроиться на работу, у нас не совсем человек молоденькая женщина с подозрением на материнство). Ну и что – если два диплома? Все начальники, все народные избранники – бывшие троечники. Иногда задумываешься: а зачем вообще государство на образование деньги тратит? Достаточно ПЛАТНЫХ курсов, где будут учить ботать на фене, пилить бабло и мочить в сортире. А на сэкономленные деньги сделать, наконец, одну нормальную «Булаву», да уже одним махом покончить с Америкой, из-за которой мы почти во всём перешли на китайские товары.
Ну и вот – одним дворником с двумя высшими образованиями у нас в стране стало больше. Можно сказать – в Израиле тоже таких на улицах полно. И улицы метут, и санитарами в больницах. Но там нашим троечникам просто не дают гражданства. Даже обрезание там на втором месте. Прямо у трапа самолёта проверяют дипломы, аттестаты и, если что – катись обратно в свою Россию.
Алевтине Юрьевне семьдесят три года. Супругу её, Митрофану, недавно отметили семьдесят пять.
Идёт на-днях Алевтина Юрьевна с подругами за коровами, улыбается загадочно и счастливо. – А что, бабы, что делали в субботу-воскресенье? Ну, заскулили бабы, затянули: кто про свиней начал рассказывать, кто про уборку в доме, кто – про стирку. Юрьевна выслушивала всё это нетерпеливо, серые глазки её при этом аж поблёскивали. Когда в вечернем, наполненном отдалённым мычанием воздухе, прозвучал и затих последний отчёт, Юрьевна, как бы вскользь, между делом, своё добавила: - А мы, с моим дядей Митей, два дня на диване прокувыркались!..
Счастливая пара. Вместе прожили уже столько, что и счёт потеряли. И было за эти совместные годы, конечно, всё. И гулял её дядя Митя, и водку пил, и ногами бил, пинал ногами вдохновенно по квартире, как мячик, неоднократно. Если рассуждать исключительно с женской колокольни, то, что она от него уже сто раз не ушла? Могла уйти? – Могла. Да за каждое отдельное дяди Митино преступление – будь то пьянство, неверность или что ещё, можно было каждый месяц ему чемодан на порог выставлять. И грозилась Юрьевна. И сама собиралась к маме уйти, да остывала. Мирилась. Прощала. В мороз хватала вёдра с водой, таскала от колонки своему дяде Мите в «К-700» заливать. Сама от горшка два вершка.
Детей воспитали. Правнуков дождались. Сейчас нет-нет, да кувыркаются с дядей Митей на диване, на зависть одиноким бабам. Которые мужей своих недостойных когда-то с гордостью повыгоняли.
Много женщине дано – и ум у них подвижнее, и организм выносливей. Много, в чём они значительно превосходят нас, мужиков. Но редко удаётся из них кому скрывать своё превосходство, обращаться с мужчиной на-равных.
Если добавить ещё к этому, что в каждом мужчине глубоко запрятан комплекс своей неполноценности перед женщиной, то можно понять и примитивную механику их извечных конфликтов. Мужчина, комплексуя, старается показать, что он во всём круче. И умнее, и – сильнее. А женщина, вместо того, чтобы тихонько поджать хвост и поддакивать, начинает свои права качать, выпячивать наружу данные ей от природы превосходства.
Мужчина в какой-то момент ощущает перед женщиной полное своё бессилие. Не может он справиться с ней парламентскими методами, не хватает инструментария. Мужское самоутверждение держится на трёх китах: пить, бить, гулять. В критических семейных ситуациях пить начинают самые слабые. Те, кто характером посильнее, от безвыходности решаются на супругу уже и руку поднять. А то – и ногу. Ну, а те, кто здоровье своё и жену жалеют – те гуляют. Тихо так, чтобы не нарушить дома политическую обстановку, чтобы не травмировать жену. В общем, у них принцип вполне христианский: кто в тебя камнем, ты в того – хлебом. Обидела жена, не дала, когда переполняла любовь, вместо этого заставила половики вытряхивать – так он ушёл тихонько, поплакался в чужие голые груди – и опять домой.
Бывает, конечно, какой-нибудь мужик срывается с катушек и пускает в противодействие супруге сразу весь пакет: напивается, ну и т. д…
И что? После этого нужно выгонять человека на улицу?..
Ведь, по большому счёту, инициаторами конфликтов, их провокаторами чаще всего выступают сами женщины.
НО, ДАЖЕ ПОД ПЫТКАМИ, ДАЖЕ САМИМ СЕБЕ, ОНИ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ В ЭТОМ НИКОГДА!
Звонил Витя. Интересовался, как у меня дела. - Ничего дела. - Что я мог ещё сказать? - Как там мама? - Мама наша ничего. Подметает. Заходит часто, с внучкой играется. – Обо мне что-нибудь говорили? – Нет, папа. Она даже слышать о тебе ничего не хочет…
Вот, значит, такие дела…
Решил сходить вечером к Анхису Димитриевичу. У него жена поехала на курсы повышения квалификации, можно посидеть, покалякать чисто в мужской компании.
И застал я моего друга вконец убитым. Сидит в своей маленькой комнатке, смотрит на экран телевизора и ничего не видит.
– Что, - спрашиваю? - Что случилось? – Корова домой не пришла?
– Да, какая корова, Александр Иванович…
После нескольких настойчивых вопросов раскололся: разбито непоправимо его сердце. Жестоко. Неожиданно. Непоправимо.
Несмотря на то, что его виртуальная подруга находилась, чуть ли не по соседству, они ещё ни разу не встречались. Но динамика чувств в электрических письмах нарастала, и дело, казалось, двигалось к счастливой развязке. В легкомысленных своих мечтаниях Анхис Димитриевич многократно представлял себе, как увидит ещё издалека свою женщину, как подойдёт, как попробует рукой коснуться её волос…
Будучи уже достаточно взрослым, учитель допускал самые смелые предположения. Ведь, если и она к нему испытывает ответные чувства, то не только поцелуи, не только прикосновения могут между ними произойти. А вдруг – не получится? Если в эту самую первую, важную, самую ответственную, судьбоносную, встречу, у него элементарно «не встанет»?.. Можно тысячу раз говорить «люблю», но от этого сладко во рту не будет. В конце концов, сказать «люблю» можно и потом. Когда уже добился от женщины нескольких оргазмов. (Не нужно путать свои оргазмы с женскими. Свои-то как раз практически ничего не значат). Если добился – значит любишь. И, если потом ещё свой успех дополнишь словесным признанием, то все приличия будут соблюдены.
Анхис Димитриевич заранее, утаив кругленькую сумму из зарплаты, купил Виагру. Уж там – как сложится. Но в первый раз не должно быть никаких осечек. Ну и - продолжал пописывать любовные послания, добавляя в каждое последующее всё более жаркое слово.
Его пассия не была многословной. Но в разных скобочках и смайликах, союзах и междометиях угадывал для себя пятидесятилетний повеса робкое поощрение. Ну и, видимо, не рассчитал.
Решивши как-то, что где-то там, в пространстве многоязыкого Интернета, в этом земном, забитом людьми, космосе, есть для него тёплая звёздочка. Его звёздочка. Которую вот он полюбил на склоне лет, и она ему откуда-то издалека отвечает светом взаимности. Увлёкся Анхис Димитриевич. Утратил чувство реальности. Почему-то он забыл, что все процессы в мире, который нас окружает, протекают с разной скоростью. И любовные тоже. У одних чувство быстро вспыхивает и горит жарко. Другим, чтобы оно разгорелось, нужно время. Нужно обращать внимание на то, с какой скоростью проистекают романтические процессы в вашей избраннице. Если что – лучше выждать. Никогда не нужно опережать события. Подбросив лишнюю охапку хвороста, можно просто загасить огонь.
Друг моей молодости Вилька Зборовский рассказал как-то случай из своей актёрской, богатой любовными приключениями, биографии.
Встречался он с молоденькой актрисочкой. Которая ему все уши прожужжала, что она девственница. Ну, ничего страшного. Никого из мужчин этот физический недостаток ещё не отпугивал. Отношения у Вильки с его подругой развивались, они уже вовсю целовались голыми. Зборовский говорил, что тогда он думал, что вот-вот не выдержит, от такой любви сдохнет. Однажды, заперши дверь на конспиративной квартире, любовники торопливо кинулись к кровати. Ну, чтобы опять пообниматься, раздеться и поцеловаться. Вилька, чмокнув пару раз свою подругу, сбросил рубашку, потом – всё остальное… И тут произошла заминка. Девушка была ещё одета. Расстёгнута кофточка, без юбки, но – ещё одета. И она вдруг остановилась, замкнулась. Вообще отвернулась к стенке. Буркнула что-то про то, что, мол, ишь – уже разделся. Чуть ли не – смотреть противно!..
Зборовский нарушил распорядок действий. Он поторопился снять свои трусы. Если бы он, как раньше, обцеловал свою девушку с ног до головы, осторожно и незаметно поснимал бы с неё все кофточки, трусики и лифчики. И ещё потом в таком виде опять обцеловал её от мизинчиков рук до мизинчиков ног, то вопрос о том, почему он сам до сих пор в одежде, встал бы сам собой. И, при своём разрешении, не вызвал бы никаких возражений. Этого бы даже никто не заметил…
Так вот. Утративши чувство реальности, решился Анхис Димитриевич быть перед своей возлюбленной до конца откровенным. Ну – до самого конца. И, в очередном письме, до самого конца излил ей свою душу. Со стороны, в том письме не было ничего нового: - Ну, никогда в жизни такого ещё не было, - ах! – какое это, оказывается, счастье, - ну и – пр., пр., пр…
Остаток вечера проходил в любовном томлении. Ночь почти не спал. Ворочался, вставал, ходил по комнате. Пребывал в таком сладостном ожидании. Представлял, как он подсядет утром к компьютеру и получит в ответ…
Подсел.
Получил.
– Чего Вы несёте?.. – было в письме…
Анхис Димитриевич поторопился снять трусы.
А, если рядом находится другой человек, одетый, то зрелище это довольно жалкое…
Мой друг пересказывал эту историю, и вид был у него, как у Мимино, когда он вышел из телефонной будки. Когда ему сказали: «Катись колбаской по Малой Спасской!!!».
Выход из грустной ситуации был один: напиться. Правда, Анхис Димитриевич, по российским понятиям, был человеком непьющим. Пил при случае, или по праздникам не более полутора рюмочек беленькой. Принципам своим не изменял, потому что, по его наблюдениям, когда он превышал указанную норму, ему приходилось потом жаловаться на здоровье.
Но сейчас, как я понимал, Анхису Димитриевичу не только было наплевать на здоровье, но и на саму жизнь. Сбегал я через дорогу к соседке Бибигульке. У неё всегда было. Бедный учитель собрал на стол скромненькую закуску. Стали пить. Как на похоронах, не чокаясь. Ведь у меня тоже было горе. Не каждый день жена уходит из дома насовсем.
Анхис Димитриевич захмелел быстро. Стал всхлипывать. Речь путалась, из обрывков фраз складывалась какая-то пьяная жуть: - Верёвка… Не хочу жить!... Правда, ни одним плохим словом об своей изуверке-обидчице не отзывался. Просто начинал иногда, пытался произнести её имя и застревал на первом слоге, прерывался в рыдания. Я пытался его успокоить, врал: - Анхис Димитриевич, - говорил, - прекратите, сколько у вас ещё таких будет! Хотя мы оба понимали, что, после пятидесяти, вероятность получить такой от судьбы подарок, ещё раз так безбашенно увлечься, практически равна нулю. Ещё пять-десять лет и, по российской статистике, – кефир-сортир-ящик. Его бормотания о верёвке могли быть обыкновенным пьяным бредом, если бы не контекст периодических самоубийств в нашем посёлке. Почти каждый год кто-то самостоятельно сводил свои счёты с жизнью. Верёвка была самым распространённым видом транспорта в мир теней. Но случалось и по-другому. За десять лет моего проживания в селе один мужик ножом вспорол себе живот, другой – облил себя бензином и поджёг, третий – лёг под гусеничный трактор…
Нужно было что-то делать. Как-то исправлять ситуацию. Кто его знает, где находится эта граница, которая отделяет пьяный бред от случившейся потом трагедии? Чтобы заглушить в человеке какую-то психологическую боль, его нужно отвлечь. Испугать, поразить чем-нибудь воображение. Бросить с парашютом, облить ледяной водой. Ударить по голове. Как на железной дороге - перевести стрелки. Ну, чтобы мозги совсем переключились. Чтобы состав со всеми тяжёлыми мыслями покатился в другом направлении, растерял их на кочках и ухабах другой дороги.
Анхис Димитриевич сполз на пол. Он пытался встать, но сил хватило только, чтобы приподняться и упасть грудью на диван, и в такой неудобной позе мой товарищ уснул. Я тронул Анхиса Димитриевича за плечо, пару раз встряхнул. Диалога уже не получалось.
И тогда я решился. Чего уж тут, собственно, терять? А вдруг – поможет? Пусть, хоть одному человеку полегчает…
Я приспустил джинсы, рванул от поясницы вниз старенькие треники Анхиса Димитриевича, вместе с трусами. Бог мой!.. Я, видимо, всё-таки переоценил свои возможности. Мужская волосатая жопа!.. Нет… Это выше моих сил… Я потянулся рукой к своему пиджаку, который висел рядом на стуле. Там, во внутреннем кармане, у меня всегда лежала фотография жены. Мне очень нравилась эта фотография. Когда-то Валера Бауэр, будучи у нас в гостях, случайно щёлкнул фотоаппаратом. Обычный чёрно-белый снимок. Жена кушала арбуз…
Я прислонил фото жены к спинке дивана.
– Больно! – Проснулся, вскрикнул, а потом застонал Анхис Димитриевич.
– Конечно, больно, Ансик… Всем... больно…
11.10. 10.
ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ
Проснулся от запаха. Этого знакомого, противного, удушливого запаха. Опять… Ворочаюсь в постели, сминаю простыни, рву на себе майку. Сползаю, падаю на пол… Из меня продолжает вытекать продукт жизнедеятельности. Но я ничего не могу сделать, чтобы этому помешать. Я верчусь, мычу и размазываю всё, разбрасываю по маленькой спальне.
У меня инсульт. Я – почти овощ. Я хорошо кушаю и какаю. В сознании короткие просветления. Тогда я понимаю ужас происходящего. Но не могу пошевелить даже пальцем. Тело неподконтрольно мне. Само вертится в постели, руки двигаются произвольно. Иногда я затихаю. Бывает, надолго, на несколько часов. Иногда мой сон, моё забытьё длится всего несколько минут…
Иногда я даже встаю. Испачканный экскрементами, я хожу по комнатам. Пугаю жену, которая почти полтора года уже не спит, потому что непрерывно стирает, готовит. Потому что ждёт моей неожиданной смерти. Потому что я, когда хожу по комнатам, бужу её, наконец, уснувшую…
Я не могу разговаривать и не понимаю, что говорят мне. Только временами наступает просветление, когда я опять могу думать, вспоминать. Узнавать…
Жена сама не может дотащить меня до ванной. Пытается. Иногда её рвёт. Она не может переносить всех этих запахов… Когда совсем выбивается из сил, звонит детям. Приезжают сыновья. То Вася, то Рома. Переносят меня в ванну, купают, переодевают. Надевают памперс. Относят обратно в постель. Случается, что я тут же опять всё пачкаю. И меня снова относят в ванну. Надевают памперс. Оказываясь в постели, я стараюсь его стянуть. Он мне мешает. Чешется. Жжёт…
Когда я прихожу в себя, я пытаюсь заговорить. Сказать что-то очень важное. Не получается. Понимаю: не получится уже никогда. Снова проваливаюсь в никуда…
А жена всё время молчит. От невыносимого физического напряжения она высохла и почернела. И состарилась…
***
Солнечное утро было. Лето, зелень кругом. Вышел за хлебом в магазин. Встретил неожиданно Любашу, давнишнюю свою приятельницу. Сколько? Лет двадцать не виделись? Господи! Время-то как летит! А похорошела как! Повзрослела… Привет, привет… Узнал, как же тебя не узнать-то! Отрезанный ломоть, от плоти плоть… За хлебом, вот… да… Есть, конечно, пара минут…
Любаша и вернулась в наш город недавно и живёт недалеко. Взял по дороге вина молдавского. Встречу как-то нужно же отметить! Пошли отмечать. Квартира-маломерка. Чистенько всё, евроремонт. Проходила в зал, смеясь, полезла за пазуху, ловко расстегнула, вынула, отбросила в сторону, лифчик. Мешает! - Больше ничего не мешает? - Нет! Ха-ха. Ха-ха.
Стали пить вино. Зачем мы стали его пить?.. - Ты меня бросил! Ты мне исковеркал всю жизнь! Я бы никогда и ни с кем!.. Это всё из-за тебя!..
Ничего и не из-за меня. Так обстоятельства сложились. Так сложилась Судьба, что – не судьба.
Море слёз. - Уйди! Не трогай меня!
Стринги, пирсинги, тату… Современная. Всё, как у всех. Сейчас ведь, без пирсинга на клиторе ни на одну тусовку фэйс-контроль не пропустит. Любашу пускают…
Рыдая, закрыла лицо руками, уступила – раздвинула колени…
Что это? Всё закружилось, поплыло перед глазами… Тело обмякло, рухнуло на диван, прямо на обнажённую женщину… Не тело – кисель. Руки превратились в плети. Ноги… Я весь стал, как огромная, тяжёлая тряпка… Не могу пошевелиться…
Любаша в ужасе. Выбирается из-под меня, как попало, одевается…
В комнате врачи, жена. Приехал Вася. Меня одевают, кладут на носилки…
Вот уже полтора года, как я разбит инсультом. В сознании провалы, но, когда я прихожу в себя, я всё вспоминаю… Жена…
Она всё время молчит. Ни слова я не услышал от неё за полтора года. Я хочу ей сказать – нет, не то, как там – комедия, мол – это было совсем не то, что ты подумала! То было, То… Но… Я люблю тебя. Я всегда тебя любил. Ну, да… Так получилось… Но, люблю ведь, люблю ведь, люблю ведь - только тебя… Так получилось…
Почему она никуда меня не сдала, почему не бросила? Почему день за днём купает меня, с трудом превозмогая рвоту, за мной убирает, кормит?..
Меня жжёт внутри её молчание. Мне жутко, мне страшно приходить в сознание. Потому что я сразу всё вспоминаю. И для меня наступает ад.
Если бы я мог, я бы просил прощения, просил, просил, просил, хотя знаю, что прощения мне не может быть никакого. И не будет…
И я молю, обрывками, остатками мыслей в моём бессильном вонючем теле, я прошу: - Господи!.. Дай мне умереть!..
Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй… мя…
СТАТУЭТКА
Анютка… Рыжая моя одноклассница. Росли вместе. Играли в одной песочнице. Двор – один на двоих между хрущёвскими пятиэтажками. Росли, росли и выросли…
Анютка из рыжего бесполого подростка прорисовалась в расцветающую девушку. У меня незаметно изменился, огрубел голос.
Но отношения у нас оставались прежними: друзья, просто друзья. Даже, когда мне попалась порнушная кассета, мы с Анюткой посмотрели её без всяких экстраполяций. Я переживал происходящий на экране ужас отдельно, Анютка – открыв рот – отдельно. Вместе поржали.
Ну – и вот так…
Я не видел в Анютке девчонку, с которой могли бы совмещаться мои, уже нескромные, фантазии. Анютка, вполне уже оформившись в хорошенькую девушку, вела себя со мной, как мальчишка. Друг. Ну… сестра.
Однажды нам с ней попался альбом по зарубежному искусству. Анютка посещала художественную школу и ей дали задание сделать доклад по искусству Возрождения. Мы с Анюткой пошли в библиотеку, а потом – к ней домой. Я часто к ней заходил. Мы вместе пили чай, хохотали. Хорошее было время.
Ну, вот, значит, зашли мы пить чай и посмотреть альбом по искусству.
Ничего особенного не было в том альбоме. В основном картины, статуи. На них все голые. Боги всякие. Богини.
Я смотрел, смотрел и вдруг сказал: - Анютка, а из тебя тоже получилась бы статуя. Не хуже греческой.
Анютка хихикнула: - Да, ну, скажешь тоже!..
А я стал развивать идею: - Вот, знаешь, если тебя голую пудрой или тальком обсыпать – точная Венера получится!
И в этой моей фразе вообще не было ничего такого. Потому что Анютка меня совсем не стеснялась, переодевалась при мне, как это она, вероятно, делала в обществе подружек. Росли мы вместе. Привыкли друг к другу. Меня интересовали совсем другие девчонки, о чём я рассказывал Анютке. Она мне тоже рассказывала о своих, правда, ещё совсем платонических, увлечениях.
Тут ещё такое было важное обстоятельство: родители на день рождения и в связи с предстоящим окончанием школы подарили мне цифровой фотоаппарат. Хороший аппарат. Многое он мог делать без участия фотографа, поэтому очень скоро я себя почувствовал крутым фотомастером.
И тут – такой случай! Анютка – замечательная модель! Сделать из неё фото Венеры – и главный приз где-нибудь на международном фотоконкурсе обеспечен!
– Анютка-а-а-а! Давай фотографироваться! – и я с жаром стал рисовать перед ней перспективы нашей фотосессии. С гарантиями сохранения имени модели в глубокой тайне.
Я сказал Анютке, что её, измазанную мелом, никто никогда не узнает.
Девчонку, которая при мне свободно переодевала колготки, уговаривать долго не пришлось.
Договорились, что на выходные, когда родители Анютки уедут на дачу с ночёвкой, я приду к ней с фотоаппаратом.
Я должен был ещё решить задачу с нашим главным реквизитом – достать тальк. Без талька всё мероприятие теряло связь с искусством Возрождения и выглядело бы, как обыкновенное фотографирование голой девчонки.
Нам, художникам, это было совсем не нужно.
В субботу я заявился к Анютке с фотоаппаратом и тальком.
Она встретила меня в коротком халатике.
Мы решили ещё раз просмотреть фото скульптур из альбома. Делать всё нужно было по-настоящему. Чтобы мир ахнул.
– Ну, я готова, - сказала Анютка. И ушла в соседнюю небольшую комнатку, откуда уже через минуту вышла без халата и вообще без ничего.
Я, конечно, сто раз видел, как Анютка переодевается, но так, вот такую!.. Аж что-то внутри у меня ёкнуло. И правда – Венера! Длинные рыжие волосы распущены по плечам, яркие голубые глаза с тёмным ободком вокруг зрачка… Грудь –точь-в-точь, как на картинах этих древних мастеров!.. Богиня, блин!.. Но…
– Э, - говорю, - нет! – так не пойдёт!
– Что такое, - спросила Анютка.
– Волосы… Разве у статуй ты где-нибудь видела волосы?
Анютка глянула к себе вниз: - Ой! – и правда!.. Я что-то совсем не подумала!..
И снова убежала в маленькую комнату.
Оттуда стало доноситься ноющее жужжание какой-то техники. И продолжалось оно довольно долго.
Я уже десять раз протёр объектив.
Щёлкнул для проверки фортепьяно, мраморную фигурку оленя на тумбочке.
Анютка всё не выходила.
Хотел уже зайти, посмотреть, что происходит там у неё, за стенкой, но моя Венера вышла сама. Появилась, держа в руках допотопную электрическую бритву.
В одной руке бритва, в другой – вилка со шнуром.
Смотрела на себя, туда, где проводила процедуру этой бритвой: – Кажется, всё…
Отложила прибор на столик, отошла, стала ладошкой отряхивать с лобка остатки состриженных золотистых своих волос: – Кажется, всё…
От вида своей друга-сестры-подруги я всё-таки пришёл в волнение. Не ожидал… Какая она красивая, Анютка…
Ну, ладно. Не нужно всё-таки забывать, для чего мы все тут собрались.
Я достал пакетик с тальком, стал тщательно припудривать Анютку с ног до головы. Она мне помогала. Я взял на себя спину, плечи… Ну, в общем, взялся за обработку, так сказать, «нейтральных» территорий.
И волосы, чудные золотые волосы Анютки мы тоже густо пропудрили, превратили в настоящий мрамор.
Анютка, казалось, не замечала моего смущения. Рассказывала мне про Микеланджело, Леонардо да Винчи.
А потом стала ходить по комнате и принимать позы, в каких обычно оставались в вечности когда-то живые и тёплые богини эпохи Возрождения.
Я старательно щёлкал затвором.
Конечно, полностью сосредоточиться на творчестве, мне мешало волнение. Вся надежда была на автоматику, которая работала абсолютно хладнокровно.
И всё-таки это была ещё и игра.
Не брат и сестра мы были уже с Анюткой и, наверное, почувствовали это оба на памятной той фотосессии.
Анютка уже откровенно кокетничала перед камерой. Нигде ни в каком Возрождении никакие статуи не становились на «шпагат», но Анютка легко падала на коврик, разметав в разные стороны свои стройные ноги.
Она то, как балерина, подтягивала носок к колену, то вдруг… садилась в позу лотоса… Напротив меня – в позе… лотоса…
Я и сказал Анютке: - А, давай, ты точно так же сядешь на круглом столике, как на подставке. Будешь такой статуэткой на подставке!..
И вот уже голая девушка сидит напротив меня на столике, раздвинув ноги и смеётся прямо в объектив.
А я щёлкаю затвором, щёлкаю… У нас же… фотосессия!..
Потом вдруг говорю Анютке: - А, давай попробуем сделать фото, как на том видео?..
– На каком? – переспросила Анютка, но потом сразу добавила: - Нет, ты что! Я же ещё девушка!
– А мы и не будем ничего делать. Я только до тебя дотронусь – и мы это сфотографируем…
– Ты правда мне ничего не сделаешь?
– Правда.
Анютке, наверное, это тоже было интересно.
Ну, и…
Я с фотоаппаратом подошёл к столику, к Анютке. Она так и сидела – раздвинув ноги, босыми ногами на полировке стола. Обсыпанная тальком с ног до головы – статуя. Голубые глаза глядели на меня из белого мрамора.
А там, между ног – мраморный рисунок вертикальной девичьей складочки.
Я отложил фотоаппарат на столик, стал расстёгивать джинсы. Не очень-то это у меня получалось… Замок застревал, не поддавался… Потом получилось…
Вывалился из трусов и тут же налился, напрягся герой нашего эпизода.
Это, конечно, не для конкурса…
– Подожди, - сказала Анютка.
Руками она снизу бёдер взяла себя за края пропудренной складки и развела их в стороны, чтобы мне было удобнее. Раздвинула мрамор, который внутри оказался нежно-розовым…
– Ты, правда, ничего мне не сделаешь? Я ещё девушка!..
– Нет, нет, - что ты!.. – голос мой почему-то дрожал.
– Осторожно, ладно? – ещё раз напомнила мне Анютка.
– Если что – ты сразу говори, я остановлюсь…
– Ладно…
Я в точности следовал своему обещанию.
Обнажил глянцевую от напряжения головку и легонько приставил, чуть воткнул во влажный и нежный мрамор. И – всё. Как мы и договаривались. Я чуть вставляю головку, фотографирую и – всё.
Такая у нас с Анюткой целомудренная фотографическая игра.
И вот я стою такой, слегка в Анютку воткнутый, дотягиваюсь до фотоаппарата и, глядя туда, вниз, делаю один снимок, другой…
У Анютки горячо и влажно. Крыша едет. У меня.
Девчонка тоже смотрела туда, где я фотографировал.
Потом вдруг хриплым, сдавленным голосом сказала: - Убери!..
– Что, больно?..
– Убери… фотоаппарат…
Теперь Анютка уже смотрела в лицо мне, прямо в глаза. Она их уже не отпускала никуда. Своими голубыми, потемневшими, она смотрела в мои и через них, казалось, проникала в самое сердце.
И я теперь смотрел только в глаза Анютке.
Так, не отрывая глаз, не отрываясь, положил фотоаппарат на стол, оттолкнул его подальше…
Руки мои теперь стали свободными.
Я сначала одной, потом другой дотронулся до припудренных грудей. Стал их гладить. Как-то было особенно волшебно – частью себя быть там, во влажной Анютке и гладить эту живую «мраморную» грудь.
Анютка часто дышала и продолжала, не отрываясь, на меня смотреть.
Я чувствовал, что под этим взглядом всё глубже проникаю, погружаюсь в неё, но - она ведь остановит меня, когда уже нельзя?... Мы же так договаривались!..
Анютка не останавливала.
Только в какой-то момент чуть зажмурилась, сказала «ой» - и больше ничего.
И я потом остановился сам.
Потому что погружаться дальше было некуда.
Я в Анютку вошёл весь.
И было мне сумасшедше-сладко.
И хотелось начать совершать с Анюткой всякие безумства, каких требовал мой молодой организм.
Наверное, и её тоже…
Но…
Я же Анютке обещал, что ей со мной нечего бояться. Что я никак её не обижу. Ведь она ещё – девушка…
И я стоял, как преступник, который воткнул своей жертве нож в сердце. И – если пошевелиться, если вынуть вдруг нож, то человек умрёт сразу.
И я боялся пошевелиться. Я же обещал… А оно уже вон как получилось…
Анютка не говорила ничего. Всё так же на меня смотрела…
Я гладил ей груди, плечи и совсем не знал, что сказать…
И я… Стал осторожно его вытаскивать. Медленно, медленно. Анютка же девушка. Если осторожно, то там у неё ничего не повредится. Я же обещал…
И вытащил. Стоячего, одеревеневшего, в обильной смазке горячего Анюткиного тела…
Несколько капелек крови всё-таки были на нём. Но – совсем мало.
Я не повредил. Я оставил у Анютки всё, как есть. Как обещал.
Ещё потоптался рядом, не зная, что делать. Вид был нелепый: приспущенные штаны, торчит, совершенно не собираясь ложиться, мой мокрый и красный фотомодель.
И никак не могла прийти в себя Анютка.
Она так и сидела на круглом полированном столике, распахнув бёдра, вся белая, мраморная. Только розовые лепестки под лобком выделялись среди белых и серых тонов. Цветок на мраморе.
У Анютки там, когда я из неё вышел, так и оставалось ещё всё открытым. Будто в ожидании…
И Анютка не говорила ничего.
Наверное, она тоже ждала…
Но – мы же договорились.
Я слово давал…
Мы потом оделись. Я собрал аппарат в кофр. Анютка в халате пробежала в ванную. Потом - на кухню, готовить чай.
И я туда чуть позже подошёл. У меня были проблемы. Фотоаппарат я уложил, а вот дружка своего вернуть в штаны никак не мог. Так он и торчал – ни штаны застегнуть – ни шагу нормально ступить.
И пока чай пили, бутерброды с колбасой и сыром кушали – он всё стоял.
Мы с Анюткой старались не замечать этих моих неудобств.
Поговорили о фотосессии. Что есть, наверное, удачные снимки. Потом выберемся как-нибудь, посмотрим. Я откадрирую, подправлю.
И я сказал Анютке, что она и правда – настоящая Венера…
Она не отреагировала никак.
У нас после этой фотосессии отношения почему-то как бы охладились. Кажется, никто никого не обижал, ни грубостей не было никаких, но перестали мы быть с Анюткой брат-сестра, товарищ-друг. И в классе встречались - по-прежнему разговаривали. И к ней домой я заходил, чай пили, с шутками со всякими.
И, когда я наши снимки через компьютер прогнал, откадрировал, подправил – мы их вместе посмотрели. И Анютке понравились. Только быстро она пролистнула тот кадр, где…
И молча у нас всё это произошло, без комментариев.
Не было ничего. Никогда ничего не было.
Незаметно подступили школьные экзамены.
Анютка уехала в Москву поступать в институт. Поступила. Из города нашего пропала надолго.
Я тоже поступать пробовал, но провалился. И – загремел в армию. Что – отдельная страница в жизни. За всё время один раз дали подержать в руках автомат. Но зато освоил несколько строительных специальностей.
И уже только лет через пять-семь я снова встретился с Анюткой у нас в городе. Мир вообще-то тесный. Опять Анютка живёт в Орске, или так – в гости к родителям?
Встретился я с ней не случайно на улице, не столкнулся в магазине. Она сама меня нашла.
Позвонила по телефону, который за все годы остался прежним – и попросила о встрече.
Да, она приехала в отпуск. Анютка выходит замуж и приехала с женихом, знакомить его с родителями. С папой, с мамой, с дедушкой, с бабушкой.
Ну, хорошо – совет да любовь – что я мог ещё сказать? Плодитеся и размножайтеся. Всё? Нет. Нужно обязательно встретиться. Возникла проблема, которую нужно срочно разрешить. И без меня – совсем никак.
Ладно. Договорились, что я буду её ждать у памятника Тарасу Шевченко.
Анютка пришла раньше меня.
Как она похорошела! Как расцвела! Очень ей шло коротковатое расклешённое платьице ярко-желтого цвета с чёрным пояском. Как хорошо для её стройных ножек коротковатое! Выходит замуж… Наверное, влюблена. Ишь – даже издали видно – светится вся!..
Ко мне у памятника на шею кинулась, обняла, поцеловала в щёчку. Очень счастливая вся и радостная.
Пошли, сели на скамеечку. Да, он у тебя хороший, замечательный. Вообще - самый лучший. Работает..
Да, да, хорошо всё это, очень за тебя рад. Я-то тут при чём?
Или – ты просто решила со мной радостью поделиться?
Тут будто тучка набежала на веснушчатое личико друга моего Анютки:
– Нет, Лёня, у меня возникли проблемы.
– Ну, говорю – у тебя проблемы. Ты со своим Мурзиком – вон где, а я – вон где. Как, при такой географии, я могу к твоим, к вашим проблемам иметь отношение?
– Ну, Лёня, понимаешь, мы собираемся пожениться…
– Хорошо. Слышал. Флаг вам в руки.
– У нас с ним ничего ещё не было.
– Ну, это не совсем хорошо. Ну, даст Бог, со дня на день будет - и ещё как!..
– Ну тебя, Лёнька, мне не до шуток! Мой парень верующий. Он не хочет ничего до свадьбы. Говорит, что всё должно быть по закону. Мы с ним даже ещё не целовались…
– Как я понимаю – родители благословят, обвенчаетесь – и всё!
Опять-таки, при чём тут я?
– Понимаешь, Лёня, я тут на-днях ходила к гинекологу…
– Ну?..
– И гинеколог мне сказала, что я не девочка. Вернее, она на меня прикрикнула, когда на кресле осматривала: мол, чего вертишься, как будто ещё девочка!
А я ей сказала, что я и правда девочка. Что я не жила с мужчинами. Я только вот собираюсь замуж…
А женщина-гинеколог устала уже, конец смены, я последней к ней в очереди была – она так на меня посмотрела, усмехнулась: - Ох! Сколько раз я уже такое слышала! Ты, подруга, эти сказки своему жениху после брачной ночи расскажешь…
А так – нормально всё у тебя, здоровая ты, детка! Иди, выходи замуж!..
После этого рассказа Анютка поймала мой взгляд и…
– Анюта, но у нас ведь, правда, с тобой ничего не было. Не было ничего. Наверное, могло быть. Но мы вместе от этого удержались…
Я сидел рядом с Анюткой и пытался оправдываться.
Но что были мои слова против житейской, констатирующей обыкновенный, рядовой факт, фразы этой дуры-гинеколога: не де-воч-ка!
– Анюта, я тут не знаю, что тебе сказать. Я тогда очень старался тебе не навредить. И потом жалел много раз, что сдержался. Дурак был. Ты мне всегда нравилась, ну и нужно было… А я – слово дал… Кому оно было нужно, моё слово. Тем более, что теперь выясняется, что и зря я тогда над собой такое усилие сделал…
Но – как теперь я могу что-то исправить? Я не хирург. Я только статейки в газету могу писать…
– Лёня, ты должен с ним встретиться…
– С кем?
– С моим женихом. И всё ему рассказать. Всё-всё. Мы же с тобой знаем, что не было между нами ничего. Вот ты ему и расскажи. Подтверди. Он поймёт. И – простит нас. Ведь он – человек верующий…
Нет! Ну вы представляете! Я должен встречаться с женихом подруги детства и пересказывать ему историю наших личных отношений!
Точно - у этих женщин перед свадьбой мозги вообще куда-то деваются.
И – договорились!
Пошёл я на встречу с этим божьим человечком.
На улице я его сразу узнал – туша килограммов на сто двадцать, лысый уже затылок, тоже, как и Анютка, рыжий.
Мама рыжий, папа рыжий, Рыжий я и сам Вся семья у нас покрыта Рыжим волосам!..Вот уж яркая семейка получиться.
Он ещё, жених Анюткин, был Рихард. Нерусский, наверное, какой-то.
Да, мне-то какое дело.
Хоть – украинец.
И я этому Рихарду там, на улице, сказал – а не пойти ли нам в пивбар? Ну, чтобы окончательно проверить его на вшивость. Может, он такой верующий, что ему и пить нельзя? А, может, и с женщинами – тоже? Может, по ихией вере, им жёны полагаются, но спать с ними нельзя?
Вот тогда-то я Анютку где-нибудь и поймаю!..
Нет… Согласился Рихард на пивбар. Даже сказал: – Я угощаю!.. Наверное, и с бабами ему можно…
По кружке выпили.
Рихард на меня смотрит, молчит. Потом всё-таки спрашивает: - Ну?..
Ну, что – ну-ну…
И рассказал я шкафчику этому, что с Анютой дружил с детства. Просто дружил и – всё.
– Это я всё знаю, - остановил меня Рихард. Мне Анюта про какую-то фотосессию рассказывала.
Ух ты! «Фотосессию»! Слова-то какие знает! Я думал, что он только «нелепо ли не бяшете братие», да «чудище обло огромно» почитывает, а он – « фотосессия»!..
– Ну, да, фотографировал я Анюту. Да, обнажённую. Но – и всё. И ничего больше не было.
– Ну, - так и не было? – очень недоверчиво на меня посмотрел и спросил Рихард.
– Ничего.
– А – вот это?
И тут Рихард достаёт планшет, тычет в него мясистым своим, в рыжих волосах, пальцем и показывает мне фотоснимок…
Ох, Анютка!.. Вот дура-то!.. Вот дура!..
Зачем она вообще остолопу этому фотоснимки показывала! Похвалиться, видать, хотела! Красивая же. Но зачем и – ЭТУ!!!
Бокалы с пивом были опять полными. И я свой выпил до дна.
И я сказал: - Знаешь, Рихард, Анюта – это сокровище. Она чистая и честная во всех отношениях. Вот она собралась за тебя замуж и решила быть откровенной перед тобой до самых мелочей. Чтобы между вами не было никаких тайн, не оставалось ничего недосказанного. И, если она говорила, что не было у нас с ней ничего – значит, не было.
Да, вот так я к ней прикоснулся. И – всё. Дети мы были ещё. Дурачились. И никакого греха между нами не было.
Если тебе мало того, что ты сейчас узнал, если считаешь, что тебя обманывают, или водят за нос – иди, ищи себе другую девушку. Но таких, как Анюта, ты нигде не найдёшь.
И – я не знаю, что она в тебе такого нашла, но она тебя любит.
Она мне это говорила. И – если нужно – она будет кричать это на всех перекрёстках…
Рыжий лысый толстый Рихард молчал.
Кружки с пивом опять были наполнены. Рихард свою осушил. Я выпил свою.
Молча вышли из пивбара. Шли, так же, молча, по узкой асфальтовой дорожке в зелёном скверике.
Рихард остановился.
– Слушай, Лёня, я тебе всё-таки в морду дам!..
Неожиданно как-то всё это прозвучало. В морду?..
Тут в моё раздумывающее лицо последовал сильный удар. Хороший такой удар, от души. Много, видно, вложил чувств Рихард в это своё движение.
А – верующий как будто.
Если тебя ударили по одной щеке – подставь другую.
Если твою жену один раз – разреши и во второй.
И – прощай того, кто ударил. Жену… прощай…
Я, хоть и очень со многим, что в Библии написано, согласен, второй раз свой нос подставлять не стал.
Поднялся на ноги – потому что отлетел на несколько шагов и упал от удара этого зверя – и позорно побежал.
Если и было у меня перед этим новобрачным какое-то чувство вины, то оно испарилось. Из носа лилась кровь.
Сильно болела голова…
Поженились они всё-таки – Анютка и Рихард.
Услышал я эту благую весть через друзей-знакомых.
Ну и ладно. Гора с плеч.
И – вот над чем много раз я задумываюсь: всё в человеке устроено разумно и прекрасно. Всякому органу - своё место. Даже аппендикс, про который одно время говорили, что он не нужен, оказался теперь реабилитирован.
Но – вот почему Природа так поступила с женщиной? Зачем установила ей в организм пломбочку, по которой можно определить главную веху – начало взрослой жизни женщины?
И – заметьте - у мужчин никаких таких вредных дополнений в организме нет. Только у женщин. У девочек.
Для чего нужна эта плёнка, от которой столько волнений и переживаний, как со стороны девушек, так и – мужчин, которые собираются связывать с ними жизнь?
Есть она – нет её – это никак не сказывается на здоровье женщины. Только – на нервах.
Когда приходится чего-то объяснять не в меру любознательному партнёру.
А - ведь даже и на жизнь это никак не влияет.
Вон - моя… Тоже говорит, что я у неё второй…
Ну и - что?..
ЛЮБЕЗНЫЙ МОЙ ДРУГ, ФРАГОНАР...
… К концу сентября все розы были собраны с поля, картофель ссыпали в погреба. Зерно заложили в специальные танки. Скот радостно взирал на рачительность нашего двора. Страховые агенты застраховали свиней, уток и домашних удавов от бескормицы. Можно было жениться. Почему не жениться, если розы собраны и застрахованы все свиньи? Милая девушка подошла к моей жизни, и мне не хотелось упускать блеснувшего шанса. Годы берут своё. Возможность для женитьбы мы имеем до тех пор, пока соответствующие органы не поменяют нам паспорт на свидетельство о смерти, но через определённое время, я чувствовал, мой интерес к браку может заметно ослабеть, если не исчезнуть совсем. События эти не за горами, нужно быть трезвенником в таких вопросах и не смотреть на вещи сквозь пальцы. В мои годы редко кто рискнёт задуматься о продолжении своего рода, но девушка была так прелестна, так обворожительна, что я решился.
Любезный мой друг Фрагонар, я знаю, эта моя затея вызовет улыбку на твоём суровом лице. Но, тем не менее, это серьёзно, и в скором времени мне бы хотелось увидеть тебя в нашем тихом Уайтхилле1, в кругу моей семьи.
Свадьба уже закончилась. Со стороны органов власти препятствий нашему браку не чинилось. Насмешки я вынес, как настоящий мужчина и уже философ в расцвете. Агидель четыре месяца назад кряду исполнилось восемнадцать, но что из этого? Я ещё легко выхожу во двор и мне не нужно посторонней помощи, чтобы зайти обратно. Кстати, все полевые работы у нас закончены. Розы мы убрали с поля и аккуратно уложили в стога. Работники выкопали, просушили и засыпали в погреб картофель. Страховые агенты застраховали свиней и тягловых медведей от бескормицы...
Да... очень молода... Мила - ты же меня понимаешь, я знаю толк в женщинах. Во франко-прусскую воину (мы с тобой служили в гусарском полку, и пили за женщин стоя) - во франко-прусскую воину, Фрагонар, ты помнишь этих хохотушек из Трансильвании?.. Агидель, моя Агидель - это милое, славное создание.
Сразу после свадьбы (кстати, власти и органы не чинили нам по поводу бракосочетания никаких препятствий - так, одни насмешки) - сразу после свадьбы я привёл её к себе в комнату, в нашу супружескую спальню и упал на колени перед моей уже Венерой. После того, как я осыпал поцелуями всё, до чего мог достигнуть, благодаря скрепившему наш союз документу о браке, шаловливая мысль проникла ко мне в сознание.
Дело в том, что упасть на колени мне не составило большого труда, но, когда возникла необходимость переменить позицию, члены отказались повиноваться мне.
Да, я забыл тебе сказать, ты знаешь, сейчас сентябрь, а я очень серьёзно отношусь к работам, которые ежегодно проводятся в нашем саду. Мы срезали и уложили в тюки все розы, заштабелевали в погребах картофель, застраховали всех наших мышей и выездных кошек. А, когда Агидель вопросительно на меня взглянула, я непринуждённо ухватился за стул и с лёгкостью себя восстановил.
Любезный Фрагонар, эти объятия, эти поцелуи отнимают столько сил! Я не задумывался об этом, а последние десять лет и вовсе пролежал в гипсе, кто мог предположить, что обстоятельства в нашем теле могут так перемениться? Я умел обнимать женщин. И силы прибывали во мне с каждым поцелуем. Помнишь, когда мы усмиряли мятеж в Саксонии? Эти пленные турчанки...
Агидель напряжённо стояла, а я почувствовал, что мне не хватает дыхания. Да, после третьего поцелуя меня охватила слабость.
Фрагонар, ты старше меня - тебе, должно быть, знакомо моё состояние? Но я не должен был показывать виду. Я джентльмен и... муж... Я со всей возможной элегантностью опустился на стул и уже в этом новом ракурсе возобновил свои ласки к молодой супруге. В каждом моменте, как мне казалось, мне удавалось избегать неловкости, и все мои внутренние затруднения по ходу нашего сближения для Агидель оставались абсолютно незамеченными.
Ах, да, Фрагонар, ты, наверное, ничего не знаешь о моих розах! Урожай выдался отличный. Мы срезали их все и составили в снопы на гумне. Застраховали скаковых кошек и запаслись на всю зиму картофелем. Однако, после очередной моей дислокации, между мной и Агиделью возникла всё-таки пауза, которой я не смог найти объяснения. Я весьма творчески переменил положение своего тела, отдышался, и... Фрагонар, я... забыл, что мне делать дальше... Порозовевшая Агидель стояла передо мной, как Афродита. Подвенечное платье валялось в углу спальни, блестящие глаза супруги сжигали меня, а я не знал, что предстоит мне выполнить на следующем этапе?..
Мы легли спать. И сон у меня был нервный, беспокойный. Агидель тоже подрагивала и даже вскрикивала во сне...
Любезный Фрагонар, как к старому доброму другу, я обращаюсь к тебе за советом: чем я могу сгладить неловкость, возникшую у меня в отношениях с молодой супругой? Рассудок подсказывает мне, что счастье на волоске и зависит теперь от правильности моего дальнейшего поведения. С ответом не медли - каждые новые сутки нестерпимой болью отзываются в моём сердце. Кстати, как тебе мои розы? Этой осенью... Да... И кошек мы всех застраховали... и мышек...
____________________
1 – Актюбинск, в переводе с английского
сентябрь, 1988 г.
УЗЫ ГИМЕНЕЯ
Юрий Николаевич Кириницианов работал в Актюбинской области корреспондентом газеты "Правда". Автомобиль "Волга", личный шофёр, роскошная квартира в престижном обкомовском доме. Прекрасный семьянин.
Областная газета "Путь к коммунизму" выделила для Юрия Николаевича отдельный просторный кабинет с кондиционером и аквариумом. Аквариум ему лично принёс от себя главный редактор "Пути к коммунизму", Фёдор Лукич Колий. Отдельного туалета, правда, не было. Приходилось отлучаться в общий, куда приходили рядовые коммунисты и беспартийные и где, как подтверждала фонограмма КГБ, не наблюдалось между ними никаких различий.
Но история-то, сама по себе, пустая, легкомысленная. Случилась бы она с дворником, или, там - с железнодорожным кондуктором, так и вообще, чему тут удивляться, о чём рассказывать? По социальному происхождению, по статусу, по своей от рождения привычности, им обойти какую-нибудь непонятную перспективу, уберечься от неё, никак не возможно.
А вдруг оно и, правда, что нет никакой разницы между простым человеком и собственным корреспондентом самой важной в Советском Союзе газеты?
Юрий Николаевич в своём кабинете работал над письмами трудящихся. Трудящиеся просили: починить сантехнику, дать квартиру, помочь инвалиду. Партия в лице газеты "Правда" никому в участии не отказывала. Передавала письма по инстанциям. И внушала надежду каждому своему просителю. Случалось, инвалиду помогали. Потерпевшим чинили сантехнику. Давали квартиры чересчур многодетным семьям. Потому что партию тогда боялись.
В самый тот важный момент ответственной работы к Юрию Николаевичу и вошла его знакомая Аллочка. Юная. Кровь с молоком. Ножки, шейка, грудки - грешно без предела. Внепартийно. Надпартийно... Но Юрий Николаевич всегда слушался внутреннего голоса, который ему говорил: "Юра, ты - член КПСС...". И это заклинание, эта краткая молитва помогала ему быть выше всего, даже самого красивого.
На этот раз с внутренним голосом что-то случилось. Длинный Аллочкин сарафан не застегнулся снизу сразу на несколько пуговок. Или - расстегнулся. Открытый сверху так, что Аллочке, видимо, было очень легко дышать. Лето. Жара, июль. Юрий Николаевич стал задыхаться. Оглушительно был снизу расстёгнут джинсовый сарафан... Внутренний голос бдительно сказал Юрию Николаевичу: "Ты член..." и... запнулся. И Юрий Николаевич с ужасом почувствовал, что молитва, заклинание, стали действовать, но... в урезанном варианте.
Аллочка болтала всякую чепуху, сидя в кресле напротив, а у Юрия Николаевича в висках стучало: "Ты член... ты Член... ты Ч Л Е Н..." .
Дальше всё происходило, как в заурядной порнушке. Аллочка не очень сопротивлялась. Её солидный партнёр забавно путался в оставшихся трёх пуговицах. Потерял равновесие и романтически увлёк ослабевшую девушку на пол, на ковёр. (Кстати, его тоже приказал принести из своего кабинета Фёдор Лукич). Наконец, сарафан в сторону... Галстук... Проклятый галстук!.. Да, чёрт с ним!.. А хороша, стерва, эта Аллочка - ещё мелькнуло в голове у распоясавшегося собкора.
И вот тут то... Да, нет, всё было нормально. И Юрий Николаевич выглядел молодцом, и Аллочка лицом не ударила. И до самого конца всё шло замечательно, чуть ли даже не поэтически. Молния, солнечный удар и пр. Но вот стихли фанфары, и Юрию Николаевичу бы просто с Аллочки и слезть, освободиться, да не тут то было... Освобождаться не получалось. А отсюда - какие уж тут приличные к моменту нежности. Дёрнулся Юрий Николаевич раз, другой - как в капкане. А девушка еще в счастливом беспамятстве. Губы ждут благодарного поцелуя.
Не остывши, не проникшись ещё ситуацией, Юрий Николаевич с надеждой подумал, что так - минутная заминка произошла. Рассосётся. Ан - нет. Капкан закрылся намертво, и оторваться от юного тела корреспонденту никак не удавалось.
Аллочка очнулась, полезла с объятиями. Юрий Николаевич, насколько ему в его положении оказалось возможным, вежливо уклонился. В старинных романах он бы, вероятно, ей сказал: "Нам с Вами, мол, Аллочка, нужно объясниться...". В романе современном Юрий Николаевич не нашёлся сказать ничего, кроме: "Ну, всё, блядь, мне пиздец...".
Лежали ещё с полчаса или час. Вечность. Пытались обсудить ситуацию с разных сторон, найти выход. В дверь начали стучать. Уже давно звонил телефон. Нужно ли подробно рассказывать о том, что, в конце концов, дверь была взломана, в кабинет ввалилась толпа посторонних людей, и все стали свидетелями...
...Вызвали "скорую". Любовников уложили на носилки, прикрыли простыней. В больнице им, конечно, помогли. Карьера Юрия Николаевича в Актюбинске была закончена.
В автомобиль "Волга" посадили другого собкора, ему же достались и шикарная квартира и аквариум с кабинетом.
После такого жуткого скандала жена бросила Юрия Николаевича. Хорошо ещё, что у них не было детей. Но партия не жена, и она не отказалась от своего члена, который оступился, правда, поскользнулся, но не продал ни Родину, ни Советскую власть. Остался, так сказать, верен коммунистическим идеалам.
Юрий Николаевич женился на Аллочке и уехал с ней собкором "Правды" на Индигирку. Там снова у него появились все удобства, и пострадал блудодей чисто географически. Да и вместо "Волги" - оленья упряжка. Вместо кондиционера - дополнительная импортная печка со склада местного обкома.
А Аллочка приезжала как-то в Актюбинск. Стильно одета. При деньгах. Встретилась со своей закадычной подругой Нинкой Васильевой. Даже сводила её отобедать в элитное кафе "Шалкыма", где, видимо, и посейчас, владельцем, вечно бедный миллионер, Юрик Шипикин. Там, за чашечкой чёрной икры и поделилась Аллочка с Нинкой секретами своего женского счастья.
Раньше, в Актюбинске, она гуляла с Мариком Зельднером. Марик уезжал в Израиль, но записать в паспорте, что он с Аллочкой вместе спит, и, главное - собирается спать и дальше – не хотел категорически. Случайно на тернистом девическом Аллочкином пути попался Юрий Николаевич. Подвёз как-то, на свою голову, к дому на чёрной "Волге". Вёл себя сдержанно, но от намётанного глаза Аллочки не ускользнуло, что её смуглые ножки (не очень, впрочем, тщательно скрытые разлетающейся короткой юбчонкой) заметно нарушили внутреннее равновесие, спокойствие солидного товарища в галстуке и при костюме. Срывался всё его взгляд к ней туда, на заднее сиденье, под юбку, пока оборачивался товарищ, да разговаривал с Аллочкой о всяких серьёзных, никому не нужных, вещах.
А Марик, в своём КБ, на заводе "Актюбрентген", изобрёл удивительный клей. Абсолютно безвредный для человеческого организма, схватывается намертво с живой тканью при соединении со спермой. Действие проходит, если принять специальную таблетку. Марик назвал свой клей "Узы Гименея".
Но в Союзе ему на такой срам никто патента не выдал. Сказали, что негде его применять в народном хозяйстве.
Марик уехал в Израиль, патент получил там. Купил виллу, женился на девушке по имени Рахиль. Перед отъездом в Израиль, тюбик своего клея, вместе с таблетками, он подарил Аллочке.
***
Я знаю, что пару недель спустя, после встречи с Аллочкой, Нинка Васильева вышла замуж. Говорит - по любви. Кто бы её уже такую полюбил: старую, рыжую, со скверным характером. Наверняка тут не обошлось без помощи давней её подруги Аллы, которая замуж вышла уже в пятый раз.
И опять удачно.
22.07.00г.
ЛЕДОХОД
Берег реки Илек. Высокие, с голыми ветками, тополя. Тёпло-синее апрельское небо. По реке плывут льдины. Илек на-днях вскрылся, на редкое – один раз в год - явление природы на берегах собираются поглазеть любопытные. Но Костя на своей «девятке» для экскурсии выбрал место, куда не ступала нога человека. Потому что с ним посмотреть на ледоход приехала Оля Шатова, а она замужем, встретить кого-либо из друзей или знакомых было бы совсем некстати. Да и Костя, хоть это и не так важно, был тоже женат, ему тоже ни к чему дополнительные беседы типа: «Ты чего здесь? А в машине кто?». Хотя выезд на речку абсолютно целомудренный. Планов относительно разврата не было никаких. Может быть, когда-нибудь…
Оля работает в рекламе и сама – как с рекламного щита. Причём – на любую тематику. Хоть колготки во всю длину, хоть – очки в модной оправе. С ней просто посидеть в машине, посмотреть на ледоход – и то удовольствие. Но облик всё же не располагает к целомудрию. Есть во внешности Оли какая-то лёгкая, едва уловимая, блядовитость, которая по-иностранному называется несколько иначе, потому кажется помягче – sexy. Это – чуть ярче, чем у других женщин, косметика. Чуть короче юбочка. На ней чуть посмелее разрез. А кофточка из тонкого материала, через него бугорками прорисовываются плотные сосочки. Но вся эта провоцирующая откровенность – именно – по чуть-чуть. Не скатываясь к вульгарности, пошлости, безвкусию, либо наглому явному предложению себя мужчине. Всё-таки в тех пределах, за которые нежелательно выходить замужней женщине.
Правда, замужней женщине хочется иногда покидать пределы семьи. Бывает такое у замужних женщин. И, увы, не так уж редко, как о них принято думать. Это ещё вопрос – кто более склонен к полигамии – мужчины или женщины, кому она более необходима. Но женщина – хранительница домашнего очага. На ней держится маленькое государство – семья, и поэтому, давая возможность слабостям или капризам одерживать над собой верх, женщина не афиширует свои победы, либо нечаянные радости. Они умирают вместе с ней.
Костя достал шампанское, яблоки, шоколадку. Всё для Оли. Ему за рулём нельзя. Оле можно. Пусть выпьет, поговорит. Оля выпила, достала ментоловые «L amp;M», закурила. Начала рассказывать про свою жизнь. Когда женщина рассказывает про свою жизнь – это всё равно, что она перед вами раздевается. Чем больше расскажет – тем больше разденется. Мужчине и делать-то ничего не надо. Только слушать, слушать. Изредка поддакивать. Подливать алкоголь, подсовывать что-нибудь вкусненькое. И не нужно лезть с руками. Придёт время – женщина сама замолчит в недоумении – почему это вы сидите рядом с ней, как истукан, почему не подкрепите своего сочувствия каким-нибудь жестом?
Оля замолчала. Костя провёл рукой по её светлым волосам. Приятно пахнут каким-то шампунем. Окунулся лицом в волосы, вдохнул. Достал платочек, вытер с Олиного лица несколько слезинок. Да, в жизни у неё много сложностей… Приоткрыл окно, вытряхнул пепельницу, выкинул огрызки яблок. Повернулся к Оле, приблизился к ней лицом, щекой коснулся щеки. Левой рукой направился выражать сочувствие: стал расстёгивать третью и последующие пуговички на кофточке. Первая и вторая уже были расстёгнуты самой Олей ещё дома у зеркала просто для красоты. Ну вот, ошибся: думал, что на ней нет лифчика, а это такой лифчик. С открытым верхом. Кабриолет. Оля задышала, губы приоткрылись, как будто ей не стало хватать воздуха. Пора оказывать первую помощь. Костя накрыл их своими губами, и у него, отнюдь не новичка в чрезвычайных ситуациях, чуть не поехала крыша: так жадно, жарко прильнула к нему женщина. Так требовательно трепыхнулся и, бесстрашно скользнув по зубам, проник к нему в рот её язык, пропахший шампанским и табачным дымом. Приличия уже требовали проявить интерес к тому, что у неё под юбкой. Можно через боковой разрез. Есть ещё пуговицы посередине, можно расстегнуть и растворить половинки юбочки, как страницы модного журнала… О! Здесь тоже сюрприз! Комбидресс. Этот кросснамбер женщины надевают, чтобы заинтриговать мужчину. Когда мужчина полагает, что до самого сокровенного осталась совсем ерунда, какое-то кружево на резиночке, или кусочек шёлка, его ожидает препятствие, которое в данный момент, когда мозги практически отключены, кажется совсем неодолимым. Он никак не может найти резиночки, на которой должен держаться шёлк, или какая другая женская тряпочная помеха. Нервно, торопливо он шарит по телу женщины, ища спасительной зацепки, но её нет. Ему начинает казаться, что его подруга нарочно себя зашила в плотно облегающий от сосков и до самого низа эротический наряд. Наглухо. А в это время женщина, зная, конечно, что от судьбы всё равно не уйдёшь, с тайной улыбкой прислушивается к ищущим пальцам своего избранника. Когда бы он ещё её так и кругом потрогал, если бы не комбидресс! Уже бы давно… Наконец, лукавая обольстительница находит, что, довольно, не перегнуть бы палку, которая уже готова сломаться. Она берёт руку мужчины и опускает её чуть дальше вниз, куда он сам из-за волнения никак не попадал. И… помогает ему нащупать и расстегнуть потайные крючочки…
Костя сразу разгадал и оценил Олину хитрость. Для приличия поискал несуществующую резиночку на талии, погладил животик, попутно приласкал торчащие из комбидресса сосочки. Потом рука его скользнула вниз и легко сняла с петель охранительные крючки. Коснулся… В это мгновение Оля вынула язык из Костиного рта и шепнула: «Откуда ты всё это знаешь?». – «Так… мужики рассказывали» - машинально ответил Костя. Пальцы его уже обследовали поверхность, освобождённую от корсетных препон. По всем признакам, Оля его уже ждала. Пальчиком Костя проник внутрь. Глубже…. Ещё… Можно теперь попробовать подключить второй… Ещё глубже… Кончиками пальцев услышал впереди упругое препятствие, что-то вроде баклажанчика или основания огурчика. С ним нужно поработать… Костя тактильно обработал, поиграл с огурчиком. Потом прошёлся по гофрированной передней стеночке. Оля застонала закрытым в поцелуе ртом. Ага… Интересный выступ… Костя медленно, потом всё убыстряя темп, стал проводить кончиками пальцев по передней стеночке, упираясь в эту внутреннюю загогулинку… Оля вскрикнула, вцепилась в Костю обеими руками, задёргалась навстречу ласке… Потом затихла… Костя поцеловал её лицо, брови, закрытые глаза. Чуть позже помог достать сигарету, прикурил… Шампанского не осталось, осталась «Кола». Вместе попили «Колу». Оля застегнулась, открыли запотевшие стёкла машины. Ах, да! Ведь на реке ледоход. Выйдем, просмотрим? Да, конечно. Надели плащи. Вышли. Полное безветрие, только шумит река. Сталкиваются в воде льдины, шуршат, проплывая мимо, комья мокрого снега. Костя обнял чуть уставшую женщину. Она прижалась к нему, как будто давно хотела стать его частью и вот, прижавшись, соединилась.
– Знаешь… - Оля хотела что-то сказать и вдруг чего-то застеснялась. Потом всё-таки продолжила: - Я в пятницу работу раньше заканчиваю. Мне бы хотелось… Ты не мог бы меня встретить? С цветами. На проспекте Победы, где-то около шести?..
Её руки стали искать, где расстёгивается Костин комбидресс, то есть, джинсы. Но тут Костя запротестовал. Нет, не нужно, не нужно ему никаких благодарностей! Всё было хорошо, давай просто поцелуемся, посмотрим на ледоход… Но Оля не понимала. Она не хотела оставаться одна со своей радостью. Она хотела, чтобы Костя… тоже…
Вообще-то Костя, будь то в какое другое время, был бы и совсем не против. Оля ему очень нравилась, но сегодня, именно сегодня, он не мог. И не потому, что не мог, а потому, что обязан был вечером исполнить супружеский долг и собирался предстать перед женой, так сказать, с полным боезапасом. У них в семье стало доброй традицией отмечать окончание месячных у жены маленькими домашними оргиями. Ни тебе презервативов, ни колпачков, ни таблеток! В любой момент, в любом месте – в ванной, на балконе, на кухонном столе, упавши в жирный праздничный торт, в морозном подъезде на батарее, при ярком свете дня - на заросшей травой могилке на городском кладбище, за городом - в скирде соломы, на виду у механизаторов, борющихся за урожай, не думая несколько дней о тех опасностях, которые на каждом шагу подстерегают всякую молодую пару.
Но не говорить же обо всём этом Оле! Обидится. И сдаваться нельзя: какой же он будет иметь вид вечером после этого? А руки Оли уже в Костиных брюках, они уже достали… Только не это! Ну, что ты будешь делать… Не выдёргивать же!.. Обидится. Она же от всего сердца… В общем, перестал Костя контролировать ситуацию.
Оля встала с корточек, сбросила плащ на тополевую ветку, повернулась к своему мужчине спиной и нагнулась. Ох уж эти короткие юбочки! Их даже задирать не нужно. Комбидресс был уже расстёгнут. Да Оля, его, видимо, и не застёгивала. Ух, ты, как мило – родинка! Оля, не глядя, пошарила у себя за спиной, ухватилась за то, что только что достала из Костиных джинсов и так замечательно приготовила. Сделала несколько сдаивающих движений, чтобы предмет окончательно затвердел и не вздумал увильнуть. Потом так же, на ощупь, приставила его к себе сзади и, чуть качнувшись в сторону Кости, слегка подразнила коротким погружением и так, обезумевший от женского внимания, вздувшийся конец. Костя всё ещё внутренне сопротивлялся происходящему. Нет, он не будет этого делать. Нельзя! Ведь он сам себе давал слово… Он так продолжал думать ещё и тогда, когда Оля снова качнулась назад, застонала, но уже не останавливалась до тех пор, пока белая её попка не упёрлась в Костю, а сам он оказался плотно прижатым к толстому тополю. Всё, брат, приехали. Деваться некуда. Вернее, деваться есть куда и от этого уже никуда не денешься.
Костя взял Олю за талию, нежно, кончиками пальцев. Чуть нажал от себя – Оля отстранилась. Чуть потянул к себе – прижалась. Отличная управляемость! Как иномарка! Так и влюбиться недолго. От всех этих тонких, удивительных ощущений возбуждение Кости достигло небывалой крайности. Он себя ощутил внутри Оли толстым, длинным и… деревянным. Да, как под местной анестезией. Не просто крутым самцом – суперменом себя почувствовал Костя. И как это у такой женщины и не складывается личная жизнь? Ну, Оленька, держись! И хорошо, что Оленька успела ухватиться за дерево. Деликатный Костя озверел. Из нежного любовника он превратился в стахановца с примитивным и безжалостным отбойным молотком между ногами.
Ох, девочки, и что же это такое вы с нами делаете!
Между тем, ледоход продолжался. Река уносила на себе в Каспий всё, что плохо лежало. Любовники не заметили, как к берегу, в двух шагах от них, прибило льдину с рыбаком посередине. Он ловил рыбу из проруби и, возможно не заметил, что его уже давно оторвало и понесло по реке. Льдина толкнулась о берег, и это отвлекло рыбака от вожделенной дырки во льду, которая ничуть не пострадала. Он увидел Олю и Костю и спросил: ребята, закурить не найдётся? Пришлось остановиться. Оля, не выпрямляясь, и, продолжая держаться одной рукой за крепенький карагачик, другой дотянулась до сумочки, достала пачку сигарет и бросила её всю рыболову. Тот сказал: «Спасибо», оттолкнулся удилищем от берега, сел на складной стульчик и стал прилаживать новую наживку.
Костя оглядел реку, насколько ему позволяла его привязанность, не заметил больше никаких рыбаков и хотел уже, было, продолжить свои преступные действия. Чтобы приободрить себя, он глянул на место соединения с полюбившейся ему Оленькой. Обычно это вдохновляет, вызывает прилив новых чувств и сил. Но тут случилось обратное. Костя увидел, что его любимый друг, а с ним и прилегающие окрестности обагрены кровью. – Оля, Оленька, ты что, болеешь? – спросил он женщину, которая, конечно же, ничего этого видеть не могла. – Почему не сказала?
Оля оглянулась и ахнула: «Нет, не может быть, со мной всё было в порядке…». А потом вскрикнула. Когда Костя отстранился от неё, чтобы прояснить ситуацию, Оля первая увидела, что на месте члена у него какая-то торчащая кровавая колбаса. Произошёл отрыв уздечки, и шкурка засучилась до самого основания, под самые яйца. Если кто видел кролика, с которого содрали шкуру, или индейца, с которого сняли скальп, то может, получит некоторое представление, как это всё выглядело. Зрелище не для слабонервных. Эрегированная окровавленная мужская плоть, которая ещё не остыла от желания женщины… С такими членами ходят по ночам вурдалаки в американских фильмах.
Только сейчас Костя почувствовал боль, как будто сильно оцарапался. Ну и дела! Оля, несмотря на неэстетичный вид торчащей колбаски, хотела взять её в рот – слюна, дескать, заживляет. Костя, конечно, был тронут, но отказался. Снял джинсы, пошёл к реке, обмылся структурированной талой водичкой. Обмотал пострадавший орган носовым платком, надел сверху презерватив. Вечеринка кончилась. Пора по домам. Но что он скажет дома? В троллейбусе дверью прищемило? Покусали собаки, когда он писал на их столб? На худой конец, конечно, сгодится, но… Да, но… Лучше бы этого ничего не было.
Прощание с Олей получилось скомканным. Высаживая из машины на проспекте Победы, он её безвкусно поцеловал. Мыслями был целиком со своей специфической бедой. Наверное, Оля не обиделась. Обещала позвонить. Или он ей пообещал?..
А дома дверь открыла радостная супруга: «Вот и наш котик с работы пришёл! И не задержался!». Котик держал в руках коробку конфет «Птичье молоко» и бутылку шампанского. Выглядел радостным и влюблённым, как и полагается мужу, который, в силу естественных причин, испытал муки трёхдневного воздержания. Его мышка была в голубом полупрозрачном пеньюаре, сквозь который, правда, проглядывал ещё один слой эротического наряда. Шампанское – мышке, котику – водочку под пельмени. Ах, какие взгляды бросал Костя на супругу через стол! Руку, потянувшуюся за салатом, успевал чмокнуть, слегка щипал жену за попку, когда она проходила мимо к газовой плите, ронял под стол вилку и потом там, под столом, целовал супружнину ножку в домашнем тапочке. Целовал внизу, потом задирал пеньюарчик и лобызал коленочку и пробирался выше до притворно - испуганного «Ой!».
Ужин прошёл в тёплой, дружественной обстановке. Со стола решили не прибирать – потом, потом, потом - как будто нужно было торопиться на какой-нибудь поезд. Костя, врываясь в супружескую опочивальню, против обыкновения, не снял плавок, что, впрочем, выглядело, как любовная игра. Кто-то, например, натягивает воинскую фуражку, портупею, кто – маску поросёнка, а Костя – просто в трусах вошёл. Жена чуть не упала от его оригинального вида, хотя в тот момент, чтобы произвести впечатление, она приняла позу лотоса кверху корнями, и у неё были задействованы все четыре точки опоры.
Мышка тоже хотела сделать своему котику сюрприз: пару дней назад она увидела в магазине занятную вещицу в отделе женского белья. Что-то вроде комбинации, к которой пришили трусики. И называлось по-стильному: «Комбидресс». Молоденькая продавщица, хихикая и бросая многозначительные взгляды, объяснила, как пользоваться потайной фурнитурой, если телу понадобится связь с внешним миром.
…Хотела удивить мужа… Странные эти женщины. Купят что-нибудь и думают, что этот экземпляр единственный. Уж Костя-то знал, что их в город на тот момент поступило, как минимум, два.
В общем, влетает Костя в спальню в своём прикиде, а его мышка встречает его уже на четвереньках – в своём. И этак, кокетливо вращает попочкой. А что? Если замужем, то ничего не должно быть стыдно. А Костя – вот ведь какой озорник - не снимая белья, подкрался к ней сзади и прижался к жене своим разбухшим сокровищем. А потом рванул комбидрессово забрало так, что крючки посыпались, и, оказавшись вне зоны видимости, с ловкостью Арутюна Акопяна приспустил плавки, освободил своего истомившегося тигра и вошёл в супругу неожиданно и резко, вызвав у неё запоздалое «Ах-х-х!..». Костя сделал несколько решительных толчков и вдруг застонал. Жена подумала, что, всё - просто и буднично закончился её долгожданный праздник. Жалко: ждала, готовилась, купила комбидресс, а он… Даже не поинтересовался, как его расстёгивать…
Костя обмяк, отвалился. И он всё время тихонечко подвывал: «Оё!... – оё-ё-ё-ё-о!». Женщина обернулась. Хотела сказать приличные случаю слова, что, дескать - ничего! - в другой раз у нас всё получится и… осеклась. Костя сидел на кровати, и вид его был жалок: то, чем он всегда так гордился, чем всегда перед супругой вызывающе похвалялся, висело теперь у него между ног кровавой тряпочкой. Костя сидел и, раскачиваясь из стороны в сторону, приговаривал: «Оё!... – оё-ё-ё-ё-о!».
Как бы то ни было, но своё доброе имя он спас и ещё избавил себя от ненужных объяснений. Разыгранному спектаклю позавидовали бы и Качалов и Штирлиц. А говорят ещё, что мужчины не могут терпеть боль. Они могут переносить её, улыбаясь, даже не будучи при этом коммунистами. Конечно, важную роль в исходе щекотливой ситуации сыграла водочка, которая всё-таки боль на какой-то момент приглушила. (А оно и нужно-то было – на момент). Ну а главное – это, конечно, любовь Кости к своей женщине. Только любовь помогла ему поднять искалеченный член и, не моргнув глазом, эмитировать его в трепетное лоно законной своей супруги. И заново безжалостно содрать запёкшуюся, присохшую уже было, шкурку.
Можно представить, как важно было для Кости сохранить тепло домашнего очага.
И он его сохранил.
Сколько нежности, тепла и заботы подарила ему супруга, пока происходил процесс заживления раны! Несмотря на то, что в эти дни, в силу своих производственных обязанностей, много посторонних людей брали у Кости в руки то, что полагалось только ей одной. Это - хирург, который зашил разорванное место. Это медсёстры, которые делали Косте ежедневные перевязки, а потом – физлечение и массаж. Целый месяц Косте пришлось ходить на улицу Перова, засовывать член в специальный аппарат, где его просвечивали для скорейшего выздоровления недавно открытыми лучами. Этот прибор параллельно опробовали на мышах. И ещё научный сотрудник Раюшечка несколько раз, при помощи своего рта, осторожно брала у Кости для экспериментов образцы спермы. Говорила, что иначе нельзя, потому что швы ещё толком не зарубцевались.
А потом они зарубцевались. Внешне выглядело, будто хирург провёл на Косте свою первую операцию. Так оно и было, но хирург объяснил наличие многочисленных узлов и даже хрящей действием полезных лучей. Смотреть было страшно. С такими членами выпускают из больниц вурдалаков в американских фильмах. Костя увидел себя в зеркале – расстроился, даже захотел пойти на пластическую операцию. И уже заодно, чтобы не просто исправили, а сделали, как у Шварценеггера или у Ларса фон Триера.
Но жена оказалась против. Ей понравилось.
ИХ ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА
Когда мне было тринадцать лет, я в один день лишил невинности троих девушек. Девочек. Сказать по правде, я мало понимал тогда степень значительности, серьёзности происходившего. Всё было, как игра. Детская игра.
Мы жили в маленьком совхозе, близ города Актюбинска. Совхоз выращивал овощи, и было у него ещё стадо молочных коров. Летом, два раза в день, на пастбище уезжала машина с доярками. Кто-то из взрослых предложил нам увлекательное путешествие: съездить на дойку, попить парного молочка, искупаться в самой тёплой в мире речке Илек.
А нас было четверо друзей-приятелей: я, Наташка, Валька и Надька. Жили по соседству. Ровесники. Наташка, правда, на год моложе. Дрались, играли вместе, чуть не с пелёнок. Даже пробовали материться. У девчонок получалось лучше, поэтому я не употребляю, любимых московской интеллигенцией, выражений и по сей день. Так сказать, комплексую.
Дорога к пастбищу запомнилась сонной, почти мгновенной. Нас укачало на фуфайках, разбросанных в кузове грузовика для мягкости. Только одна остановка в пути: в Актюбинске, у железнодорожной пекарни. Шофёр дядя Федя принёс и передал в кузов дояркам охапку пахучих и тёплых буханок хлеба. Потом, уже там, на дойке, мы пили парное молоко вприкуску с этим хлебом, посыпанным солью. Мы тогда, к вечеру, уже стали другими. Я – мужчиной. А Валька, Надька и соплячка Наташка – женщинами.
Грузовик остановился, и мы проснулись. Оттого, что перестал трясти, тарахтеть автомобиль. Оттого, что сухо, пронзительно стрекотали кузнечики и пели разные птички вместе с жаворонками. Доярки поспрыгивали с кузова на землю, пошли настраивать свои дойные механизмы.
Мы спросили у дяди Феди, где речка и побежали на речку. Взрослые не боялись отпускать нас одних: в летнее время воды в нашем Илеке воробью по колено. Нет. Журавлю. Ведь мы там могли плавать, отталкиваясь от песочного дна и даже чуточку нырять.
Кто – то из нас предложил купаться голышом. Как мне кажется, одна из моих девочек-матерщинниц. Они потом говорили, что это я, бесстыдник. Против оказалась только Надька: стеснялась рёбрышек своих, да косточек. Стянула с себя самодельные деревенские трусики и побежала в речку в длинноватом – на вырост – ситцевом платьице. У полненькой Вальки под платьем оказались вспухшие грудки. Тайком я всё взглядывал на эту диковину. Валька и позвала меня в речку играть в «лодочку». Простая, всем доступная, игра. Особенно хороша на мелководье, при небольшом течении.
Я вошёл в речку, присел, и воды мне стало по грудь. Валька, повернувшись ко мне лицом, села верхом ко мне на колени. Если теперь обоим потихоньку отталкиваться ногами от дна, и грести руками, получится «лодочка». Мы стали отталкиваться, и нас тихо, легко понесло тёплым течением. И почему бы так и не поплавать – действительно, хорошая игра. Но у меня вдруг возникли некоторые помехи, осложнения. Дело в том, что мой мальчишеский отросточек, безобидный и мягкий, всё время прижимался к Вальке. И на куда-нибудь к спине, затылку или шершавой пятке, а к вязкой безволосой складочку меж распахнутых девчачьих бёдер, которая, благодаря такой замечательной игре, всё время меня касалась. Я почувствовал, что у моего уступчивого, добродушного дружка, появились признаки агрессии: он стал расти и твердеть…Сейчас я бы уже знал, что делать. А тогда я застеснялся. Я сказал Вальке, что хочу немного поплавать один и пошёл отвлекать, остужать в воде, своё разбухшее чудо. При этом двигался почти ползком: опасался , что встану из мелкой воды, и Валька увидит мою метаморфозу.
Я даже не знаю, где в тот момент купались Наташка с Надькой, Их будто бы и не было вовсе. Наверное, были, но, как я теперь понимаю, у меня впервые поехала крыша, как у настоящего мужчины, и я ничего не видел. Я так думаю, что девственница моя, Валька, тоже что-то почувствовала. Она всё крутилась возле меня то окуная, то показывая из воды свежие свои грудки и просилась ещё поиграть в «лодочку». Но только во взгляде у неё появилось что-то такое, что мой юный друг стал снова набухать и топорщиться.
И, все-таки, хотелось поддаться на уговоры, пустить к себе Вальку.
Я побегал по берегу, попрыгал. Стал нормальным человеком. Нашёл-таки Надьку и Наташку, показал им язык. Оглядев себя, не обнаружил ничего предосудительного. И – решился.
А в воде Валька села уже сразу так, что пухленькая складочка её раздалась и слегка, будто бы защемила сверху, по длине, успокоившегося уже было, моего скромника. И мы, вроде, как и плыли, но будто замер мир, и время остановилось. Покачиваясь, Валька, как щенка за шкирку, ухватывала меня своей складочкой. Та губами берут свирель или флейту. Доигралась. Я почувствовал, что у меня выросло целое бревно, и сделал слабую попытку снова сбежать, но Валька меня удержала. Возникший между нами предмет уже мешал продолжать нашу странную игру. Где-то там, внизу, в воде, он торчал, как кол, и Валька, не отрывая от меня глаз, двинула бёдрами так, что теперь уже упруго-жёсткий конец окоченевшего ствола вошёл к ней в складочку и даже чуть куда-то глубже. Она несколько раз, всё так же, не отрывая от меня взгляда, качнулась, присела на головку. Потом, с протяжным выдохом-стоном ещё качнулась, и опустилась до предела. Я тоже сказал то ли «А-а-а!», то ли «У-у-у!», то ли «О-о-о!» Горячо. Скользко. Сладко. Я дёрнулся и затих. Глаза у Вальки были полузакрыты и виднелись одни белки, без зрачков. Но она с меня не падала. Значит, не умерла. В таком же забытьи она потянулась ко мне, обняла, прижалась./Целоваться я стал лет через пять. Научился – через десять. Тогда мы просто обнялись. Потом вышли на берег.
Но на этом всё не кончилось. Наташка с Надькой загорали. Надька загорала в платье, задрав его так, чтобы не было видно рёбер. Ну и что, если груди не выросли – подумал я. Зато всё остальное – как у Вальки. И решил девочек развлечь. Пришли на речку купаться и скучают. Повод был. На лобке у меня вырос первый волосок. Длинный, чёрный и кудрявый. Из воды я вышел с Валькой какой-то другой. Смелый. Я сказал девчонкам, что у меня вырос волосок, и они собрались посмотреть. Окружили меня, как школьницы наглядное пособие. У них-то ещё не было такого взрослого украшения. Даже у Вальки. От неожиданного внимания то, что находилось у меня под волоском, стало опять набухать, а потом и горделиво восстало, пульсируя, во всей своей красе, перпендикуляром к девочкам. Этакая, слегка всё же нагловатая, стрела Амура. И я уже не смущался. Мне даже нравилось быть таким, и то, что все три девочки так уважительно, и – то ли заворожено, то ли с суеверным страхом, - как на кобру, смотрели на мою, явно повзрослевшую, писюльку.
А Надька-тихоня, стыдливая наша, вдруг всех ошарашила. Она присела на корточки, взяла осторожно мою кобру рукой за шею, внимательно оглядела вблизи со всех сторон и… чмокнула в самую головку. Валька сказала: - Что, Надька, - дура, что ли? Разве можно такое в рот брать? ( Тогда, в пятьдесят седьмом, такое в рот не брали). Я позвал Надьку играть в «лодочку». Надька сказала: я не умею. А Валька даже подтолкнула: иди, иди, чего весь день на берегу лежать.
С Надькой у меня получилось проще. Мы вошли в речку, и я с некоторым усилием разложил вокруг себя Надькины колени, усадил её к себе поудобнее. А потом, опытный, начал водить кончиком своего возмужавшего малыша по знакомой уже ложбинке, трещинке, морщинке, складочке с провальчиком.
Надька сначала заёрзала в мокром своём платьице, а потом притихла. Я старался поймать её взгляд, я поймал её взгляд и, уставившись ей прямо в зрачки, настойчивым нажимом стал вдавливать в Надьку головку своего змея. И он вошёл вес, а Надька молчала, смотрела пронзительно, ответно на меня, и только пальчики её на моих плечах судорожно впились мне в кожу.
А меня ожидало новое открытие. Разрядка не наступила сразу, и я смог повторять жадные свои погружения в пылающее тело Надьки. Несколько минут раскачивал я девушку в длинном мокром ситцевом платье на своей «лодочке», а потом, прижавшись к ней сильно и во что-то в ней глубоко внутри упёршись, я снова, дёргаясь, проскулил своё то ли «У», то ли «О», то ли «Ы»…
Наташка всё загорала, прикрывши веки. Я, матёрый уже мужчина, с залихватским хохлом на лобке, прилёг рядом. Что и говорить, заморил червячка. Появилось настроение и на свободную лирику расслабиться. Я уже мог спокойно, без лишних волнений, порассматривать голую возле меня Наташку. Не лезть, не приставать, не канючить. Просто – прикоснуться, погладить. Рука сама потянулась к лону. Господи, опять! Вот он, розовый каньончик! Всё время перепрыгивая кончиками пальцев через какую-то кочку, я прошёлся по нему вниз – вверх. И – ещё раз. И- ещё. Наташка вздрогнула, потянулась. Бёдра растворились, распались, как лепестки на цветке. Я ещё прикоснулся к цветку. Наклонился взглянуть. Не задыхаться, не путаться в ногах девушки, не капать слюной, выпрашивая, требуя то, не знаю чего, а – просто посмотреть. Чтобы она почувствовала это. И я опять прикоснулся. Пальчиком безымянным. Без рода и племени. Иваном-Не-Помнящим-Родства. Чуть приоткрыл лепестки и – сок, нектар заструился по округлостям книзу, в горячий песок.
Такое зрелище может поднять из могилы мёртвого. Мужчину. Я – мальчик. Я снова воспламенился, вспыхнул. Я перебрался к Наташке. На. Уже не мальчиком, но – мужем я прикосновенно, требовательно, восстановился в лепестках. Открой она глаза, отстранись – и не было бы ничего.(Наташка, глупый, без мозгов, восторженный, я тебя любил тогда. Так, как уже никогда и никто из взрослых мужчин не мог тебя полюбить. Но ты просто не открыла глаз…).
Змеем, рискующим остаться без чешуи, без кожи, я жёстко вполз в Наташку. Тесно. Узко. Заскрипело что-то, затрещало. Я почувствовал то, что, вероятно, ощущает верблюд, пролезающий сквозь игольное ушко. Трудно было верблюду. Наташка вскрикнула. Муж я был уже. Не мальчик. Одеревенел. Как будто собрались кому-то зуб удалять, а вместо десны вкололи, заморозили мне самое дорогое. Я уже знал, что для того, чтобы наступила ослепительная, опустошительная, облегчающая развязка, нужно добиваться этого, биться. Я добивался себе освобождения и не замечал, что девочка в крови, что вокруг сбежались, собрались подружки. Они толкали меня, пытались оттащить, но, обезумевшая, непонятная Наташка, хотя и кричала «Нет!», «Нет!», но хватала меня сзади руками и заставляла вонзаться в себя, втискиваться, без остановки. Наверное, это длилось вечность. Я отвалился от Наташки, как мясник, в крови, чуть ли не по уши. Надька и Валька смотрели на меня, как на убийцу и насильника. Потом Наташка обмылась в речке и никаких следов от меня, злодея, не осталось.
Я даже не знаю, не уверен, остались ли воспоминания. Мы с Наташкой продолжали жить в одном совхозе, но с того дня, с того вечера, больше не виделись.
А Вальку я недавно встретил. Я хромал, ковылял потихоньку на почту за пенсией. Живот. Одышка. Непредсказуемые проявления метеоризмов. И тут – Валька. Седая. Толстая. В два с половиной обхвата. Вставные зубы. Варикоз. Ту Вальку, с речки Илек, я пытался увидеть в её глазах, когда мы разговаривали с ней о болезнях, о внуках. Помнит ли она «лодочку», всё хотел я у неё спросить. Но так и не решился. Смутился чего-то. Застеснялся.
Тогда, вечером, мы вернулись с речки, обгоревшие от непрерывного солнца. Усталые и довольные, как пионеры. Мы с жадностью пили парное молоко, заедали его свежайшим хлебом из железнодорожной пекарни. Валька. Надька. Наташка. И я.
Их первый мужчина.
27-28.06.2000г.
Мещеряковка
УШЛА И НЕ ВЕРНУЛАСЬ
Это сейчас нашего друга и прекрасного фотографа Славу Лысенко мы с Горбачевским стали по-за глаза называть Мугму. Было время, когда Слава представлял из себя для многих девушек завидную партию: в плечах косая сажень, бицепсы, трицепсы, узкий тазик, полон рот белых зубов. Словом, экипирован был, как самый удачливый серийный убийца. И, к тому же, обладал необходимым для таких дел пунктиком: сторонился, как невинных дев, так и стреляных женщин.
Любя и тех и других тайно и безнадежно, в решительный момент Слава позорно не являлся на свидание. Выставлял за дверь из своей квартиры засидевшуюся гостью, даже если за окном бушевала гроза, или рыскали по улицам, сбежавшие из зоопарка, огромные полосатые тигры.
Он как-то не догадывался, что ли, что... Да, нет... Он, наверное, чувствовал, что внутри него сидит этот самый маньяк. И, насколько у него хватало сил, старался в себе преодолеть эту подспудную тягу к нетрадиционному любовному сближению.
Ни жизнь, ни время на месте не стоят. Все друзья Славика (и мы в том числе) давно переженились, а он всё в мечтах, да с ночными кошмарами наедине. Скатывался к заскорузлому, закоренелому холостячеству. Думается, маньяк с него всё-таки не получился бы. Для этого нужно обладать способностью легко, обаятельно делать первый шаг к своей будущей жертве. Слава этого шага не мог сделать никогда. Если делал, то спотыкался. Легко не получалось. Разве будет жертва относиться всерьёз к такому неумехе?
Есть холостяки, которых женить уже невозможно никогда. Как и во что они там сублимируются - это их личное дело, но, в любом случае, холостячество - явление ненормальное. Чтобы способствовать установлению всеобщей гармонии в мире, мужчина должен, обязан рано или поздно преклонить перед женщиной колени, а лучше - сразу лечь к ней под пятку. Всё равно этим кончится. Пытаться сопротивляться - себе же во вред. Мужчина умирает раньше, чем женщина, но, без женщины, холостяком, он ещё раньше отбрасывает коньки. Каким-то странным образом женская пяточка продлевает короткий век мужчины.
Нашему Славику было уже за тридцать. Он занимался гимнастикой, бегом. Раз в год выходил на марафонскую дистанцию. Со стороны нас, людей женатых, это всё походило на попытки отвлечься от классовой борьбы с проклятыми женщинами. Всё равно, ни один марафонец на этом свете долго не пробегает, если вовремя не женится. Но втолковать упёртому Славику очевидные истины не представлялось возможным. Он уже привык быть женатым на самом себе и от всяких разговоров на матримониальные темы только раздражался.
Случайность, почти фантастическая, чуть не перевернула судьбу нашего Славика.
На заводе "Актюбрентген" организовали службу знакомств. Они там всегда начинали всё первыми, и, как только компартия приказала долго жить, группа энтузиастов взялась за компьютерное сватовство. Ясное дело, что при партии, да при Союзе до таких развратов никого бы не допустили.
На завод посыпались заявки. По городу загремели первые свадьбы на основе компьютерной комплектации семей. Техническая революция грозила слиянием с революцией сексуальной, и собесы трепетали в страхе от грядущего демографического взрыва.
Мы с Горбачевским тайком сдали в рентгеновский компьютер Славкины параметры. Вплоть до прядки волос. До анализов на кровь и гельминты. Великое дело - дружба. Она вот так вот и проверяется. Скажите: а вы могли бы у друга, даже во имя его предполагаемого блага, украсть то, чего он сам старается никому не показывать, и отнести в баклабораторию? Это вам не папку с чертежами из сейфа Мюллера умыкнуть...
Ответ просили прислать посредникам, то есть мне и Горбачевскому.
От фирмы пришло письмо с печатью. Нам оно показалось несколько странным. Сваты-сводники, вместо прекрасно совместимой с нашим другом невесты, предлагали японскую куклу. Биоробота "Идеальная жена". Получили прямо из Японии, пару недель назад, в порядке шефской помощи. Единственный в мире экземпляр. Актюбрентгеновские похабники рекомендовали сдать её нашему Славику в бессрочный прокат. Так сказать, для испытаний. От нас требовалось только одно: наблюдать за парой и периодически присылать отчёты. Далее следовало краткое описание конструкции: от человека не отличается ничем. Обучена русскому языку. Сдержанна. Воспитана. Сориентирована на преданность владельцу. Запрограммирована выполнять любые команды, кроме тех, что могут привести к разрушению аппарата. Не бить. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей, боится сырости, ну, и т.д.
Горбачевский сразу вспылил, завозмущался: Славик всё-таки друг, а не зверёк какой-нибудь подопытный. А потом успокоился: наш холостячёк всё равно её сломает. Так уж лучше пусть мёртвая машинка сгорит, чем живой человек. Горбачевский согласился. Я - тем более. Мне - лишь бы посмеяться.
Но это, так сказать, первая часть дела. Не менее сложно предстояло состыковать живую и неживую материю, сделать так, чтобы наш отпетый холостяк подпустил к себе замечательного робота.
Пошли к Славику. Он как раз отлёживался, приходил в себя после очередного марафона. Сопротивляемости - никакой. Очевидно, это и решило исход нашей беседы. - Ну - кукла, так кукла – сказал нам Славик. Видно было, что он как будто даже обрадовался нашей затее. И добавил: по правде говоря, их настоящих, живых женщин, я всегда побаивался. А эту чего бояться? Щёлкнул выключателем – и точка. Кстати, у неё есть выключатель, пульт управления?.. – Нет - ответили мы. - В инструкции сказано, что управление вербальное. - Какое бальное? - переспросил Славик. - Посредством языкового общения. Ты ей отдаёшь устные команды - она выполняет, - ответили мы. Горбачевский - как учитель русского языка и литературы. Я - как русским языком писатель.
– Мне такая кукла нравится - подвёл итог нашему разговору осторожный Славик.
Смотрины, приём гостьи, назначили на субботу, через три дня.
Искусственная девушка и Славик прожили вместе достаточно долго: с февраля по май 1995 года. Мы сидели на кухне, когда она впервые переступила порог холостяцкой квартиры Славы Лысенко. Я, Горбачевский и Славик - мы ожидали её и всё-таки вздрогнули, когда в семь вечера в дверях прозвенел звонок. Силой вытолкнули нашего друга в переднюю. Ему, наверное, было бы легче, если бы он знал, что у девушки на спине, или, там - на ноге есть обыкновенный выключатель. Или - если бы в руках у Славика была бы точка опоры - пульт управления. Или - на худой конец - автомат или вилы. Завалит этакий киборг, терминатор, и ещё неизвестно, кто кому в этой квартире невестой окажется...
А вошла хрупкая девушка. В козьей шубке, простоволосая, со снежинками на длинных вьющихся прядях. В руках спортивная сумка. Лариса Афанасьева - так представилась нам она. - Я из Японии. А вы - Слава Лысенко? Я вас узнала по фотографии.
Она узнала и Славу, и нас, соучастников.
Слава обошёл свою вещь вокруг. Спросил в лоб: - А вы, правда, робот? - Робот, робот, ответила, смеясь, Лариса. И тоже спросила: - А мне раздеться можно? - Да, конечно, спохватился Славик. Помог снять шубку, занёс в комнату, где стоял накрытый праздничный стол, сумку Ларисы.
– А вы и совсем раздеться можете? - опять попёр в атаку наш осмелевший друг.
– Да, конечно, - после короткой паузы согласилась Лариса.
Мы не успели опомниться, как джинсы, блузка, воздушное бельё слетели на пол. У праздничного стола стояла стройная, восхитительная девушка. Слегка смуглая Лариса Афанасьева. С голубыми глазами. С капельками растаявших снежинок на ресницах и в тёмных волнистых волосах. Идеальная жена. Японский биоробот.
Отчего-то нам с Горбачевским стало неловко. Мы попятились в противоположную от стола сторону, в переднюю, к выходной двери. Сказали Славе: "- Ну, вы тут знакомьтесь, устраивайтесь, а мы пошли". И мы ушли.
Да, на три месяца Славика хватило. Японская кукла и впрямь оказалась замечательным средством от холостячества. К занятиям спортом Славик теперь присовокупил ежедневное бритьё, мытьё в душе, от него уже не воняло, как от 90-летнего старца, за которым никто не убирает. Наш друг стал чистить зубы; без всяких видимых на то причин, регулярно менять исподнее. Шутил, улыбался, часто приглашал меня и Горбачевского к себе отужинать. В общем, стал другим человеком. Робот-Лариса, как и полагается идеальной жене, мило улыбалась, терпела за столом наши нескладные шуточки, по первому зову своего хозяина убегала с ним за ширмочку.
Готовила Лариса прекрасно. Особенно ей удавалась курица в густом чесночном соусе.
А девятого мая в городе Актюбинске широко и масштабно вознамерились отпраздновать День Победы. На футбольный стадион в качестве гостей заманили ветеранов Великой Отечественной, нагнали студентов и школьников. Спортивной арене в этот день надлежало стать огромной сценой для театрализованного представления. Концерт готовили долго и в большом напряжении: сам Аслан Спулаевич, глава областной
администрации, должен был присутствовать на торжестве. Накануне праздника ложу уважаемого всеми и любимого руководителя обили каракулем. Перед приходом - усыпали лепестками из роз, побрызгали всякими дезодорантами, подсадили нескольких юных красавиц в национальных одеждах.
Праздник обещал получиться пышным и достойным, как ветеранов, так и мудрого и скромного руководителя области Аслана Спулаевича.
Но, в самом начале торжеств, случилась трагедия. Высокий бетонный забор, отделяющий трибуны от футбольного поля, вдруг в одном месте треснул, поплыл и обвалился под тяжестью огромной толпы зрителей. Зрителями были школьники. Многие из них - участники представления. Стена обрушилась на тех, кто стоял на стадионе, и увлекла за собой сверху, ревущую от ужаса, толпу. Обломки бетона давили, калечили детей. Пыль, стоны, крики. Милиция, санитары с носилками.
...Детей ещё выносили из-под завалов, а на стадионе снова заиграла весёленькая, заводная музыка, и солистка ансамбля "Сударушка" Вера Петровна Полянина задорно и звонко запела:
" К-а-а-анфетки, бараночки, Словно лебеди - саночки!.."Референты и замы Аслана Спулаевича после случившейся неприятности советовались минут двадцать с раздосадованным своим шефом. И, в конце концов, приняли непростое решение. Праздник приказали продолжать. Потому что: не распускать же по домам ветеранов и оставшихся в живых артистов. Ветераны - они что? - крови, трупов, что ли не видели? На то они и ветераны.
Напротив обломков стены выстроили милицейский кордон. Мордовороты-центурионы высокими щитами из непрозрачного пластика заслонили от гостевых трибун жуткое зрелище. Вера Петровна Полянина запела
"К-а-а-а-а-анфетки, бараночки, Словно лебеди - саночки...".На празднике Славик представлял областную газету "Путь к коммунизму". Аккредитовался, и ошивался во время всего происходившего то тут, то там. Нащёлкал три кассеты. Юные, искалеченные, тела. Забрызганные кровью праздничные детские костюмчики. Аслан Спулаевич со товарищи. Леденящий жилы репортаж с Праздника Победы.
Кому из фотожурналистов, либо из журналистов пишущих не хотелось бы напасть на сенсацию, не хотелось бы славы? К сожалению, подавляющее большинство сенсаций отдаёт запахом какой-нибудь гадости, мертвечины. Сенсация рассчитана, прежде всего, на нездоровое любопытство людей к чужим несчастьям, промахам и ошибкам. Она потому и пользуется спросом. Пример: кто-то попал в аварию. "Хорошо, что не я" - мелькает в голове у случайного свидетеля, и он торопливо пытается запомнить подробности кровавой драмы, смакуя в подсознании каждую деталь. Кого-то застукали в чужой спальне. "Хорошо, что не меня" - думает безгрешный обыватель, прочитавши о том в газете. И потом ещё несколько раз внимательно прочёсывает глазами вдоль, поперёк и по диагонали сальную статейку, представляя себе промежду строк и ТО, и ЭТО. И даже - пусть простит меня бумага - В О Т ЭТО!!!
Вряд ли кто откроется вам напрямую в этих своих маленьких слабостях. " Люди не стыдятся думать что-нибудь грязное, но стыдятся, когда предполагают, что им приписывают эти грязные мысли". (Ф.Ницше).
Никто не признается вам, что ему доставляет удовольствие смотреть телесюжеты о катастрофах на железных дорогах, точнее - рассматривать изуродованные жертвы происшествий. И святое дело всегда уступает место злодейству на первой полосе любой газеты, любой программы теленовостей.
Ничто человеческое оказалось не чуждым и нашему Славику. Даже такое. Тем более - такое. Сенсация сама заплыла в руки, и как тут Славе отказаться от неминуемой славы? Сложив бесценные кассетки в кофр, как на крыльях, полетел фотокор в редакцию. Но, к 95-му, перестройка в Актюбинске уже практически закончилась, и потому шеф посмотрел на него, как на идиота, а потом, как с идиотом, поговорил. Насчёт того, что гласность у нас - это не вседозволенность, и что место у Славика неплохое, а он им не дорожит совсем, не ценит доброго расположения руководства. В общем, сделал Славику холодный душ, полезный ему для дальнейшего здоровья.
Шёл к себе домой Славик по Ленинскому проспекту, переживал, и попался ему навстречу ещё один главный редактор - Володя Беляков. Телевидение РИКА – это что-то вроде НТВ до Путина. И даже ещё свободнее. Они первыми в городе стали показывать американские фильмы и хорошо на этом нагрели и руки и ноги. Володя обратил внимание на подавленное состояние коллеги-журналиста, узнал о его печали и предложил место для сенсации в своём независимом эфире. - А можно? - спросил, ещё не оклемавшийся от беседы со своим начальником, Славик. На что независимый Беляков только хмыкнул.
Появился повод посидеть за чашечкой кофе. Славик пригласил Белякова к себе. После третьего стакана водки Беляков обратил внимание на обилие закусок, которые, к тому же, не кончались, и в голову к нему закрались некоторые подозрения. Володя спросил: " А ты что, женат? Когда успел?". После третьего стакана, почему не рассказать родному в доску другу чистую правду? И Славик поделился своей необычной тайной. Лариса всё это время подавала на стол, улыбалась и бесшумно исчезала в своей комнате.
Володя оживился. Как всякий здоровый мужчина, он питал к девушкам и женщинам сильную слабость, даже будучи основательно женат. Все журналистки, которые поступали к Белякову на работу, проходили испытательный срок. Наряду с техникой владения пером, они тестировались на сексуальную совместимость со своим будущим шефом. На незамысловатый свой аршин он мерял их профессиональную пригодность.
Юным девушкам, которые избирают своим поприщем журналистику, нужно привыкать к мысли о том, что, время от времени, им нужно будет поступаться своими принципами. Такова специфика этой древней профессии. И уступки своему редактору - это ещё не самый большой грех. Это всего-навсего тренинг. Он поможет в дальнейшем писать хорошие статьи и не обижать власть, которая, рано или поздно, объявится и станет главным сексуальным партнёром журналиста. Добавлять ли к этому, что власть, в принципе, бисексуальна? Что ей всё равно, какого пола журналист её обслуживает...
– Так, говоришь, кукла? - недоверчиво переспросил Славика Беляков. Как мог, фотокор поделился с гостем секретами своего счастья. Беляков, как человек, привыкший доверять только фактам и собственным ощущениям, а также, уже хорошо выпивший, спросил дальше: "А дашь попробовать?". Не совсем корректная, откровенно говоря, просьба. Но - обещал ведь показать в эфире забойный Славкин репортаж. Ни одна газета, ни одно телевидение в Актюбинске его не возьмёт. Потом - всё равно Лариска кукла. Робот. Что с неё - как с гуся вода. Сбегает в душ - только и всего. И - водки уже три бутылки выпили. Четвёртую почали. - А что? Бери, Володя! - сделал широкий жест Славик. - Лариса! - позвал он свою японскую девушку. А потом сидел на кухне, допивал в одиночестве оставшуюся бутылку.
Ночь проспал трупом. Наутро - головная боль, во рту - кошки накакали. - Лариса!.. - простонал Славик, ожидая участия и первой помощи в тяжелом своём положении. Но никто не отозвался. Славик ползал по комнате, тыкался во все углы опухшим смятым лицом - Ларисы не было нигде. В конце концов, он увидел записку, которая положена была на самое видное место - какая разница, куда.
"Я не кукла - писала ему Лариса (такое
вот странное начало). Я - обыкновенный человек. Никогда не любила мужчин. Хотела завести ребёнка, но, к сожалению, нет никакого иного способа, как... вот этот... Работала на "Актюбрентгене" программистом. Как-то мне попалась в руки твоя анкета. Для возможного отца - всё, что нужно. Спортсмен. С чего это ты вдруг начал пить? Но дело не в этом. Три месяца прошло, а беременность так и не наступила. Ты начал подкладывать меня своим дружкам... Господи!.. Могла ли я когда-нибудь подумать?.. Я ухожу".
Славик не увидел больше своей Ларисы.
Володя же Беляков его обманул. Он забрал кассеты и обменял их на место народного депутата. Мог взять деньгами, но одолела, одержала верх, любовь к простым людям. Народ, как водится, дружно проголосовал за Белякова во время очередных выборов. Независимый журналист стал вхож в святая святых - в кабинет к самому Аслану Спулаевичу.
С работы Славика уволили. Незнание государственного языка. Обнаружились какие-то досадные нестыковки с образованием. Объективные причины. На кого тут жаловаться? Если на кого и жаловаться, то только на самого себя.
Но с работой потом всё-таки наладилось. Фоторепортёр Славик был классный. Взяли его обратно. Пожурили слегка. Поунижали. Оформили на должность уборщицы. Ну, чтобы никто из проверяющих не придрался насчёт языка и образования. Уборщица перешла в фотокорреспонденты. Продолжала мыть полы, но зарплату получала, как зрелый фотомастер. Ну, Славке-то деньги зачем? Живёт один. И - теперь уже коту ясно - таким и останется. Эти японские микрочипы его всё-таки основательно пришибли. Внешне незаметно было. Только стал слегка заикаться. Из-за чего и получил от нас с Горбачевским прозвище Мугму, о чём мы тактично ему не говорили.
А насчёт Ларисы... Встретился мне как-то на автобусной остановке Лёва Берг, инженер с того самого "Актюбрентгена". И начал рассказывать про службу знакомств, и... про куклу-робота, которую прислали им прямо из Японии, в порядке шефской помощи.
– И где же она теперь? - спросил я, скептический и недоверчивый. - А - нету - ответил Лёва. - Ушла и не вернулась. Один футляр остался. Кто знал, что она такая самостоятельная? Найти не смогли. Японцы нас предупреждали, что она очень умная.
И всё вернулось на круги своя. Осенью Славка снова пробежал марафон. Мы с Горбачевским опять заходили к нему в гости, пили кофе, шутили.
И, в своём глубоком кресле, пытаясь от нас не отстать, заикался, мычал и укатывался со смеху, защищённый от всяких душевных невзгод неизлечимым своим одиночеством, наш друг Славка-Мугму.
декабрь 2ОООг.
СКОЛЬКО НА НЕБЕ ЛУН?
Наша подруга Маргерит сказала, что ничего не чувствует. С мужчинами, которые у неё были, она никогда не испытывала счастья. Трения, возникающие иногда между лучшей и противоположной половиной человечества, Маргерит воспринимала, как грубую необходимость, и всякие восторги по этому поводу почитала за пустые россказни.
Мы с Вольдемаром придерживались на этот счёт другого мнения, ибо Господь наделил всякого мужчину способностью от ранних лет через сны видеть радостные проекты соития.
В уютные зимние вечера, когда сквозь бычий пузырь нашего вигвама1 слышалось злобное завывание вьюги, мы с Вольдемаром садились у камелька и предавались незлобивым мужским воспоминаниям об игрищах и забавах с прекрасными падшими женщинами из хороших семей. Маргерит в такие минуты обычно подавала нам индийский чай со слоном и с жадным вниманием равнодушно вслушивалась во все подробности нашей беседы. В моменты, когда мы особенно сильно воспламенялись, и рассказчик начинал причмокивать и жмурить глазки, а слушатель, жарко дыша, постукивать по бамбуковому футляру для пениса, в такие моменты Маргерит ничего не стоило разрушить наше благостное5 состояние. Она заявляла, что всё это враки, выдумки, только ей непонятно, зачем столько слов и нервов тратят люди на обсуждение тоскливых занятий. У неё были Василе, Александри и Эминеску, но ни с одним из них она не испытала ничего подобного. Завершая скептический оборот своих размышлений, она неизменно добавляла, что ничего не чувствует, и ничто на свете не может изменить её правильных взглядов на жизнь.
Три недели мы с Вольдемаром как-то мимо ушей пропускали настойчивые замечания Маргерит. Однако, с наступлением полной луны, я, а также и Вольдемар, в один голос заявили, что Маргерит не права, и мы имеем к тому твёрдые доказательства.
Маргерит не очень сопротивлялась, когда мы совлекли с неё вечернее платье. Она даже приняла удобную позу и с вызовом посмотрела на каждого из нас. И мы поняли, что погорячились, зря подняли шум, зря обнадёжили девушку. Доказательства куда-то исчезли, запропастились, а Маргерит ещё больше укрепилась во мнении, что всё вокруг враки.
Тихо и размеренно мы продолжали жить дальше. Временами нам казалось, что наш покой - это всё-таки не окончательный приговор нашему существованию, что возможно ещё и суматошное наслаждение и до него всего один шаг. И мы делали этот шаг, мы торопливо расстёгивали кофточку Маргерит, стягивали с неё лён и синтетику, и… прятали глаза и уходили в углы иглу2, когда она принимала удобную для нас позу.
Много раз восходила и уходила луна, и однажды Маргерит нам сказала «нет». Нет! – сказала нам Маргерит и не позволила с себя снимать паутинно-тонкие, чёрные колготки. Она до последнего держалась и за лифчик, и за слабые узкие трусики и вскрикнула, когда Вольдемар неловко, но с силой воспользовался открывшейся розовой перспективой. Она продолжала стонать, когда, то же самое, проделал с нею я, хотя уже не дёргалась и не пыталась соединить колени.
Вечером, подавая нам чай с индийским слоном, Маргерит с грустью сказала, какая это тяжкая ноша – быть женщиной. Крупная слеза капнула в яичницу из плодов страуса, и мы не нашлись, что ответить, чем возразить нашей девушке.
______________________________
1 – вигвам – иглу
2 - иглу - чум
Новые луны поднимались над нашим чумом1, мы привыкли спать вместе с Маргерит, а она терпеливо переносила навязанный нами ей способ общения. Вольдемар раздобыл жидкого парафина2. С его помощью пытался он найти путь к её неспокойному сердцу. Но всё было напрасно: - Я ничего не чувствую – в такт его лобзаниям отвечала Маргерит.
Мы жарко топили камин3, натирали тела жиром и благовониями, вместе сплетались и скользили друг у друга в объятиях, я громко стучал в большой шаманский бубен, курил фимиам и давал Маргерит губами прикоснуться к священной плоти белого моржа. Пот градом скатывался на голубые толстые персидские ковры, Маргерит плакала, порывисто помогая Вольдемару достать ей до самого сердца, но силы покидали его, потом – и меня, а счастье продолжало оставаться за порогом нашей яранги4.
Но вот однажды дверь избы-читальни5 с чумом распахнулась. И вошёл ОН. ОН был не похож на нас. Коренастый, с тонкими губами и высоким лбом, ОН медленно размотал с себя и бросил в угол юрты6 длинный шарф. Маргерит, до того безучастная ко всему, приподнялась вдруг с нашего голубого толстого персидского ковра и внутренне вся напряглась. В пламени камина сверкала капелька пота на её левой груди.
По вечерам наша девушка привыкла быть налегке, но тут смутилась, потянулась за прозрачным платком из китайского шёлка, чтобы обернуть его вокруг бёдер, но ОН не дал ей этого сделать. В один прыжок ОН оказался подле Маргерит и сильным движением могучего тела опрокинул её навзничь.
Недвижима, укрывшись рыжими ресницами, оставалась лежать нагая Маргерит, пока ОН неторопливо сдирал с себя кожаный костюм и освободил, наконец, от бамбукового футляра свой до глянца напряжённый стыд. Маргерит открыла глаза. ОН наклонился, схватил её за рыжие разметавшиеся волосы, накрутил их на руку и рывком поставил перед собой нашу девушку покорную, как в полусне, лоснящуюся в жарком воздухе хижины от жидкого парафина. Статуя с запрокинутой головой, полуоткрытыми губами стояла перед ним .
ОН ударил Маргерит по лицу так, что она споткнулась. Но не упала: ОН успел вновь ухватить её за волосы. И, поднимая Маргерит к себе, ОН сделал это так, чтобы его окоченевший срам прошёл по ней, как скальпель, от побелевших губ до холмика Венеры, где словно бы остановился в нерешительности, погрузившись слегка во влажную зыбь.
Так ОН стал целовать Маргерит, она расслабила губы, отдала ему весь свой нервный рот для ласки и качнулась ближе к нему так, что глубже под вздрогнувший холмик ушёл его напряжённый ужас, а потом качнулась ещё и ещё, обвила руками незнакомого мужчину и сделала ещё движение к нему, чтобы свести на нет расстояние между ними.
Но тут ОН остановил и оставил её. – У нас в Лондоне сплошные туманы – сказал ОН. Снял шляпу. – О, господа, не обращайте внимания на мой вид и манеры. Волной меня выбросило на берег Чукотки, я промок и вынужден был долго скитаться. Без виски и женщины я провёл 17 суток, пока не увидел ваш кубрик7. Радушный приём на уровне возвратил меня к жизни. Кто вы и чем занимаетесь здесь?
Мы объяснили, что считаем луны, а наша Маргерит ничего не чувствует. – Но это же сущий вздор! – воскликнул наш гость, и его мужское начало вновь стало обретать воинственные размеры и глянцевитость. – Леди, что говорят эти джентльмены? – это правда?
_______________________________
1 - чум – яранга 7 - кубрик - хижина
2 – жидкий парафин – китовый жир
3 - камин – come in (англ.) – земляная печь
4 - яранга – изба-читальня
5 - изба-читальня - юрта
6 - юрта - кубрик
Маргерит не отвечала. Казалось, она уснула, уронив голову на согнутую в локте руку.
Гость недолго пробыл в нашей хижине1. Выпив девять чашечек кофе и глотнув ямайского рома, он поднялся, чтобы попрощаться. Он ещё не надел костюма – только цилиндр на голове – последней подошла к нему Маргерит. Иностранец в приветствии приподнял цилиндр, и вместе с ним ожили и пружинисто потянулись к Маргерит его и стыд, и срам, и ужас.
И тут случилось неожиданное. Наша Маргерит, наша холодная, бесчувственная Маргерит, бросилась к нему на шею, поджав и распахнув колени, и все тринадцать дюймов агрессивной британской территории без обиняков ушли к её сердцу. Она не отрывала губ от чуждого нам лица и прижималась сильнее, словно бы навеки и без остатка пытаясь заключить в себе мечту и счастье.
И я не мог допустить, чтобы всё это разрушилось вдруг. Я не хотел, чтобы англичанин ушёл, оставив ни с чем нашу русскую девушку. Чтобы до конца дней она думала, что все мужчины обманщики, и у них одно на уме. Я подошёл к Маргерит. Она целовала взахлёб этого проходимца, а он продолжал стоять. Она отстранялась и снова вплотную прижималась к нему раздвинутыми бёдрами, а он продолжал стоять, скотина.
Когда Маргерит вновь в упоении отпрянула от интервента, жало потенциального капиталиста на миг блеснуло между телами.
И я уловил этот момент.
Кривым пиратским ножом я полоснул по основанию хулительного снаряда, вырвал нашу Маргерит у побеждённого идейного противника и упал с ней, рыжеволосой, в глубокий ворс голубого персидского ковра. Целуя девушку в искусанные, распухшие губы, я с удивлением ощутил в себе подъем вдохновения и, я бы сказал, даже патриотизма. Мне захотелось немедленно одержать победу не только полную, но и окончательную.
И я разъединил безвольные ноги Маргерит, приставил к видневшемуся кровавому обрубку свой справедливый гнев и на плечах противника ворвался внутрь. И по всей сладостной судороге, которая прокатилась по Маргерит от бёдер к затылку и подошвам, я понял, что, наконец, достал ей до самого сердца…
Англичанина мы похоронили на берегу Вачи. Он, в сущности, был неплохим малым, но в жизни, выходит, ему не всегда везло. Само Провидение послало его к нам и ему не повезло.
Долгими зимними ночами мы с Вольдемаром уже не мучили друг друга философией и не докучали нелепыми выходками нашей Маргерит. С той памятной ночи она обрела уверенность в нас, в своём завтрашнем дне и находила с нами успокоение. Её радовали изобретательные игры на нашем потёртом со временем коврике. И всегда приятно удивляли неожиданные наши ласки во время сбора мускуса.
Правда, иногда глаза Маргерит темнели, нервная дрожь нападала на хрупкое тело, еда и гольф становились ей противны, она снова переставала нас чувствовать, дерзила и творила мелкие пакости.
Но пять хороших затрещин и котелок горячей крови жеребёнка на голый живот Маргерит опять надолго возвращали её к нам.
_______________________________
1 - хижина - фанза
январь, 1987г.
ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ
«…оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью…»
Евангелие от Матфея. Гл.19.5.Оператор ГРС (газораспределительной станции) – самая лёгкая профессия в системе Газпрома. Поселяют оператора в специальном доме возле газораспределительной станции, где ему не нужно платить ни за квартиру, ни за свет, ни за газ.
Во дворе дома огородик, сарайчик. Можно заводить подсобное хозяйство и постепенно становиться зажиточным, вполне пригодным к раскулачиванию, человеком.
Оператор следит за давлением газа, который расходится по колхозам, заводам и городам и, если что не так, жалуется по телефону диспетчеру.
Если работа с напарником, то сутки работаешь – сутки отдыхаешь.
Если без напарника – работа каждый день, но можно брать выходной один раз в неделю. Только уходить из дома никуда нельзя, потому что в любой момент может позвонить диспетчер и чего-нибудь спросить.
И так - всю жизнь.
Работа операторов ГРС вредная. Они иногда взрываются, вместе со своими ГРС-ками. За это им раз в месяц выдают молоко в бумажных пакетах.
Начальству операторов жалко, когда они взрываются. Поэтому раз в три года оно посылает рабочих с ГРС на курсы, чтобы они там вспомнили про технику безопасности и о том, для чего нужны краны, кнопочки и рычаги в домике, куда они через день ходят работать.
Раз в одну – две недели начальство приезжает на ГРС с проверкой или для контроля. И тогда оно просто куда-нибудь устно нехорошими словами посылает оператора ГРС. Потому что обнаруживает, что трава на территории ГРС не выполота (если летом), либо – снег с территории не убран, дорожки не протоптаны (это, если зимой).
Ещё начальство напоминает оператору ГРС, что ему и так тут делать нечего, а он ещё и, неизвестно за что, деньги получает.
Как постепенно можно догадаться, в истории нашей речь пойдёт об операторах ГРС. Обо мне и Даньке Корсунове, операторе с соседней, Чилисайской ГРС.
Нас в очередной раз направили на курсы повышения квалификации. Прошлый раз я ездил с Генкой Соловьёвым, сейчас выпало с Данькой.
Учили нас в славном городе Челябинске, который приобрёл в последнее время почти мировую известность благодаря любви простого токаря четвёртого разряда Ивана Дулина к своему начальнику, Михалычу.
Ведь вот какая штука: Челябинск в соревновании по трудовым достижениям всегда был только равным среди самых достойных. Как ни тужились передовики производства, а с ними и сами предприятия, возвыситься над другими городами, перевыполняя планы, а выделиться особенно было нечем.
Пока не появилась эта самая знаменитая Любовь между Иваном Дулиным и Михалычем.
Которая превратила Челябинск в российскую Верону. А Иван Дулин с Михалычем встали в один ряд с такими легендарными парами, как Тахир и Зухра, Ганга и Джамна, Лейли и Меджнун, Козы Корпеш и Баян Сулу, ну и, конечно Ромео со своей Джульеттой.
На фоне этих ярких, потрясающих своей свежестью отношений, побледнела даже история любви местной девушки, которая когда-то, из-за неразделённости своего чувства, бросилась со скалы в речку Челябу.
Кто только от безответной любви в речку не бросался, кого этим удивишь?
Нет в России такого города, который не был бы славен своими заводами и передовиками производства, как нет и города, и даже посёлка, в котором кто-нибудь не наложил на себя руки от безответной любви.
В Любви, чтобы она, как событие, вдруг засияла, ослепила всех своей новизной, чтобы она осталась в памяти потомков, необходим новый, качественный рывок.
Вот, собственно, что и удалось сделать простому слесарю Ивану Дулину, когда он, несмотря на все преграды и препоны, несмотря на явную гетеросексуальность своего начальника, принудил-таки его к законному браку.
Покрыв и начальника, а с ним и весь город Челябинск, неувядаемой славой.
Ну, а нам с Данькой Корсуновым в Челябинске предстояло повысить свою квалификацию оператора ГРС в специальном Учебном Центре. Прекрасное общежитие, занятия с девяти до пяти, остальное время делай, что хочешь.
Мы с Данькой хотели гулять по Челябинску. Как все прогулки по Интернету рано или поздно приводят на порносайты, так любая прогулка по незнакомому городу заканчивается неожиданной приятной находкой винного магазина.
Вообще я привокзальных магазинов не люблю. Как правило, там всё продаётся дороже, а качество, к примеру, продуктов, может колебаться от низкого, до обыкновенной отравы.
Живут вокзальные киоски и забегаловки на том, что приезжий города не знает, далеко не пойдёт и с голодухи всё, что ни увидит, съест.
Если потом и умрёт, то уже в вагоне, далеко за пределами города, где предавался опасному чревоугодию.
Ни я, ни Данька, исключением не являлись. Вели себя, как обыкновенные приезжие. У вокзала зашли в универмаг «Синегорье». Большой, современный, построенный в виде египетской пирамиды. Фонтаны, эскалаторы. Самое интересное – внизу, в цокольном этаже. Отдел «Краснодарские вина». Молодое вино урожая 2008 года. Свеженькое. Чистый сброженный виноградный сок.
Тут хочется забыть, что винный этот отдел находился у самого вокзала. И что налить из бочонка в пластмассовую «полторашку» могли, что угодно. Но там были маленькие бумажные стаканчики. Покупателю давали попробовать. Мы с Данькой попробовали. Нам понравилось. Из восемнадцати сортов мы даже выбрали что-то, самое вкусное. Может, оно и была та же отрава, но – какие там из нас знатоки.
Кто нам когда прививал культуру пития? Юность прошла среди «портвейнов», «таласов», «агдамов».
Затарились. Поехали в общежитие.
Нет, откровенные пьянки в общежитии были категорически запрещены. При обнаружении факта распития можно было не только вылететь из общежития, но потом ещё полёт и продолжить – потерять работу. Поэтому пить нужно было тихо, по-человечески. Без криков и громких матерных высказываний. Без топанья в перерывах по коридору с зажжённой сигаретой. И – тем более – без диспутов уже там, в коридоре, взявшись за грудки, на тему «Уважаешь ли ты меня?».
Конечно – и меня тут поймёт всякий русский человек, который любит быструю езду - удовольствие от выпивки при этом теряется почти на нет. Это всё равно, что заниматься любовью в одежде, молча, ещё и в презервативе, в руку возлюбленной.
Но – тут уже середины не дано. Или – или.
Мы с Данькой тихо, интеллигентно, пронесли мимо вахтёрши свой контрабандный груз. Потом – ах! – какая это отдельная песня! – стали готовить закуску. Изысков особенных, правда, никаких. Как оно, впрочем, и положено в мужском застолье.
Я взял на себя приготовление горяченького: начистил картошки и построгал её на терке узкими полосками. Когда потом эти полоски жаришь с лучком на подсолнечном масле, картошка приобретает какой-то новый, особенный, вкус.
Фирменное моё блюдо. Готовится быстро. Так же быстро и поедается.
Данька выставил на стол домашние помидоры и целую тарелку морских языков, обвалянных и запечённых в муке. Данька сказал, что это называется «в кляре». Жена Лиза приготовила.
Так что стол получался не совсем без изысков. Если – ароматное вино, языки «в кляре», ещё и моя строганина из картошки…
Вина мы взяли на три дня. На ужин в день по полторашке.
Можно далеко вперёд не забегать и предположить, что из этого получилось.
Первая бутылка ушла совсем быстро, незаметно, оставив на губах привкус какой-то добавочной травы - то ли чабреца, то ли – полыни. Стали разливать вторую – новые оттенки! Может делать вино отечественный производитель!
Выпили и за производителя.
Ну, а тут и разговор пошёл. Вначале, конечно, о производстве, о предстоящих экзаменах. Постепенно перешли на бап.
А у меня, как у всякого мужика, после выпитого появляется, вылазит наружу скрытое и сдерживаемое в обычной жизни желание публично чего-нибудь предъявить. Ну, там – спеть, станцевать на столе, выпить без рук водку из стакана.
У меня был свой пунктик. Я писал коротенькие рассказы, которые не печатали ни в местной нашей газете, ни в «Новом мире». Ну и, когда собиралась компания, у меня, как будто бы сама собой появлялась аудитория, на головы которой можно было обрушить непечатные мои шедевры.
По-трезвому - робость, комплексы, неуверенность в силе своего дарования. После выпитого всё это куда-то пропадало.
Да и пьяный слушатель всегда оказывался более, чем снисходителен.
Тут мне Данька и попался.
Я ему один рассказ прочитал, мы выпили. Прочитал другой. Вина ещё много оставалось. Никто меня не останавливал, не просил поменять пластинку. Я вошёл во вкус.
Данька слушал внимательно, хихикал.
Потом, когда я всё-таки устал, спросил то, чего обычно спрашивали у меня все: - Это… Это всё правда с тобой было?..
Я привычно стал объяснять, что – нет, всё вымысел. Привёл в оправдание слова Высоцкого, что, мол – не сидел, не воровал, золотишком не промышлял, не воевал. Что настоящему художнику не обязательно садиться в подводную лодку, чтобы написать «Спасите наши души»…
И, что настоящему художнику – мне - совсем не обязательно было спать подряд со всеми женщинами, чтобы написать потом подряд столько рассказов почти на одну тему – про любовь. Которая, без её половой составляющей, практически не имеет смысла.
Данька слушал, а по виду его, по лёгкой усмешке было заметно, что свой вопрос он мне задал из приличия, а ему, в принципе, со мной и так всё ясно.
Он дождался, пока я изложил все пункты личной моей непричастности к половым злодеяниям моего героя и сказал, что у него тоже есть история. И что он – вот только мы разольём ещё по стаканчику – что он мне тоже её расскажет.
А история выглядела так.
В жаркий день середины лета ехал Данька на своей «Волге» на ГРС-ку, передавать режим. Обычно мы все ходим пешком, по километру туда и обратно. Но, когда под боком машина, или хотя бы велосипед, почему бы и не сократить время на прогулку?
Переезжает Данька через автотрассу, смотрит, а сбоку стоит молодая женщина, ожидает попутки в райцентр. Лёгкий на ней сарафан, на котором спереди одна-две пуговицы и поясок. Ветер снизу краешек сарафана шевелит, отдёргивает и на долю секунды можно было увидеть голую ногу женщины даже очень выше колена. Можно было и врезаться в любой встречный столб, камень или козу, если бы они в тот момент попались на пути Даньки.
Они не попались.
И Данька поехал дальше, на работу.
А женщина так и продолжала короткими кадрами вспыхивать в голове, вместе со своим сарафаном и бессовестным ветром.
Возвращается Данька обратно – женщина всё ещё на дороге. Никуда ещё не уехала, никто её не подобрал. Только отошла чуть дальше, в сторону движения на райцентр.
У оператора ГРС ёкнуло…
Крутанул руль, подъехал: - Тебе куда? Садись!
Села на заднее сиденье. Пригляделся в зеркало: симпатичная такая казашка. Стройненькая. Но – не доска. Грудки тянут где-то на третий размер. Накрашена, как городская. Зовут Клара.
Оказалось, что Кларе не в райцентр, а ближе, в Родниковку, в посёлок который от Данькиного Чилисая всего в пятнадцати километрах.
У Даньки, хоть и открыто было боковое окно, из головы никак не могло выветриться недавнее видение – Клара стоит на дороге, её голая нога в распахнувшемся сарафане…
– Слушай, Клара, а ты что, домой торопишься? – спросил, как бы мимоходом. – Жарко сейчас, может, пивка где-нибудь попьём?..
Клара домой не торопилась и захотела пивка.
Вернулись обратно в Чилисай.
Данька попросил Клару прилечь в машине, пока он сбегает в магазин.
В Чилисае он со своей «Волгой» - как вша на гребешке. Каждая собака знает. Очень оно надо, чтобы такая собака подошла, заглянула в машину, и, просунувшись по пояс в раскрытое окошко, попросила сигарету, или сообщила, какая жаркая сейчас на улице погода.
Наконец, выехали за посёлок, в лесопосадку. Клара из Родниковки. У неё сын, два годика. Разведена. Муж пил. Обычная сельская история.
Пиво закусывали мусорком из пакетиков, который назывался «анчоусы».
Клара сказала, что у неё сегодня день рождения.
У Даньки с собой была заначка в сто рублей. Достал он их из потайной щели в машине и сказал: - Клара, я тебя поздравляю. И осторожненько засунул ей сторублёвку за лифчик.
Пиво кончилось. И Данька предложил Кларе наугад: - А, может, нам это… Может, ты разденешься?..
Смотрю – рассказывает Данька, - а она стала раздеваться.
Получалось всё как-то очень просто. Но на тот момент уже было не до психоанализа.
Данька говорил, что всё, что Клара с ним там, в машине делала, было похоже на сон. Ну, само собой, он её и в рот, и в «гудок».
Данька заметил, что я не всё понимаю, о чём он рассказывает, пояснил: - Ну, в жопу.
– Вот ведь, - подумал я, - поотстал я от жизни. В наше время «Гудок» - это была всем известная железнодорожная газета. Гудок созывал нас на завод, идти выполнять с честью планы Родины. По призыву гудка наши отцы и деды, упрятав в штаны прокламации, ходили на маёвки.
А сейчас «Гудок» - дополнительный канал связи…
Данька отвёз потом Клару домой, в Родниковку.
Перед тем, как выйти из машины, она ему сказала: - Знаешь, у меня есть тут один мужчина… Приходит иногда… Если ты хочешь, я перестану с ним встречаться, буду только с тобой…
– Назови ты это, как хочешь, - говорил мне Данька, любовь с первого взгляда? Ну, какая тут любовь? Только встретилась – и уже так я ей понравился?
Но проходили дни. Данька никак не мог выкинуть из головы воспоминания о странном своём приключении. Когда он представлял Клару, у него неизменно вставал член, и с этим ничего нельзя было поделать. Только вспомнил – он тут же и встал.
В природе существует только один способ борьбы с этим явлением.
Данька срывался с места и мчался на своей «Волге» в Родниковку.
Днём, вечером, глубокой ночью, под утро – с первыми петухами.
– Сплю, - рассказывает Данька, - снится Клара… Просыпаюсь – торчит у меня – сил никаких нет терпеть. Жена лежит рядом, дышит ровно. Три часа ночи.
Жену не хочу. И не хочу просто женщину. Клара перед глазами.
Поднимаюсь с кровати и на цыпочках к двери. Гараж, Машина заводится громко, на весь посёлок. Чёрт с ним, скорей выехать, скорее к ней!..
– Стучу, - продолжает Данька, - Клара уже раскрывает окошко своей спальни. Оно у неё выходит прямо в палисадник. Как будто сидела рядом и меня ждала. И уже и зубки почистила, и какими-то сумасшедшими духами спрыснулась, и уже – только в халатике.
А я на неё набрасываюсь – и оторваться не могу, весь, как бык бешеный. Потом уже уходить, одеваюсь, иду к окошку, чтобы к своей машине соскочить, оглядываюсь… Клара голая в сумерках сидит на кровати и смотрит на меня…
Я только глазами с ней встречаюсь и – он у меня уже снова встаёт, не могу уже сдержаться – и я на ходу раздеваюсь, опять бегу к ней…
– Знаешь, Иваныч, я бы на ней женился…
Тут нужно остановиться, чтобы получить некоторое представление о контексте высказанного.
Во-первых, Данька – примерный семьянин. Не пьёт. С женой душа в душу. Двух сыновей воспитал, дал им образование, без ума сейчас от внуков. Если и отрывался иногда на блядки, то – с кем этого не бывает. Сам Пушкин говорил, что домашнее питание хорошо, но хочется иногда и в ресторан.
И никогда на стороне ничего серьезного. Потому что для Даньки семья – это святое.
Про Лизу свою он всегда говорит с особой теплотой. Видно – дорога она ему. Да и прожили уже вместе большую часть жизни.
И тут попадается ему не дороге женщина, повстречался он с ней пару месяцев и готов уже всё, всех бросить и идти за ней…
И сказал мне это Данька не просто так. Разговор у нас был серьёзный, доверительный. Правда бы, наверное, женился. Что им там помешало – я уже не помню. Данька рассказывал, а я – как это бывает во время хорошего застолья – вдруг отключился и проснулся уже к обеду, на следующий день, когда мой сосед уже вернулся с занятий.
А вечером на слегка эротическую тему решил продолжить уже я. Я хотел рассказать Даньке о своей недавней поездке в Казахстан, в Актюбинск.
Ну, эротика – это круто сказано. И отношения ко мне вся история не имела почти никакого.
В Актюбинске у меня на каждом шагу случаются встречи с друзьями, врагами и просто знакомыми.
Айжанов Жамандык – это по прежней работе мой враг номер один. Он был моим непосредственным начальником.
Ах! – как он мне завидовал!
У моих телепередач были самые высокие рейтинги. Самые красивые в городе женщины часами стояли у дверей моего кабинета, чтобы поймать меня в перерыве между съёмками и – просто на меня, живого, посмотреть.
Приезжаю как-то со съёмок уже вечером. Лето. Жара. Во дворе студии ещё полно солнца. Мне навстречу наш редактор сектора выпуска, Люда Дробахина. Глаза от ужаса большие-большие: - Саша, там тебя ждут!.. Полушёпотом добавила: – Ну, знаешь, - это уж слишком!..
Смотрю – ничего особенного – очень даже красиво. На нашей пожарной лестнице, что по наружной стене здания студии зигзагом уходит на крышу, сидит красивая молодая женщина. Лёгкая белая шляпа с широкими полями, большие тёмные очки, батник, расклешённая, короткая, по самое хочу, юбка. Поскольку сидит на уровне трёх – четырёх метров над землёй, то ноги и всё их прекрасное бельевое оформление не просто хорошо видно, но видно ещё и издалека.
В руках держит книгу. Читает!
Я потом посмотрел: Боже! – Ницше!
Если картину представить в одном предложении, будет выглядеть так: «Красивая женщина с красивыми ногами читает Ницше». На ум приходят названия картин из подобного ряда: «Предчувствие гражданской войны», «Атомная Леда», «Апофеоз Гомера» и пр…
Уже за одно это Жамандыку, которому плохо везло с женщинами, вполне хватило, чтобы тихо меня ненавидеть. Громко было нельзя. Потому что, всё-таки Жамандык был моим начальником. Начальником курицы, которая несла для его организации золотые яйца. Так что ненавидеть меня ему приходилось в строгих рамках приличия.
Но он справлялся.
Жамандык под разными предлогами вычёркивал из программы мои передачи, отказывал в транспорте для оперативных съёмок. Следил за каждым моим шагом, чтобы уличить меня в связях, которые наглядно, перед всем коллективом, могли меня опорочить.
Но, как и всякого другого человека, и Жамандыка нельзя вот так, с ног до головы мазать чёрной краской. Когда меня скрутила неизвестная науке кондрашка, Жамандык лично приехал ко мне на дом и отвёз к народной целительнице, что жила далеко за городом.
Целительница пошептала, опрыскала меня святой водицей, и кондрашка отстала.
За что Жамандыку от меня было огромное спасибо.
Ну, так вот. Иду я по Актюбинску, по главному его проспекту, тут резко около меня тормозит японская иномарка. Этакое чёрное огромное чудовище, которому не хватало из навесных украшений лёгкого орудия и парочки пулемётов. Вседорожник, внедорожник. Подозреваю – амфибия, а в японском её девическом прошлом ещё и лёгкий танк.
Открывается дверь и навстречу мне выпрыгивает… мой бывший шеф, козёл, Жамандык Айжанов. Радуется, будто, наконец, меня мёртвого увидел, тянет в приветствии руку.
А мне что? Я всё плохое уже давно забыл. Помню только про бабку-знахарку.
Поздоровались. У Жамандыка всё хорошо. - Как у меня? У Жамандыка крутая иномарка, недавно купил. А ещё он издал книгу своих стихов. Нашёл спонсора и тот профинансировал Жамандыково счастье. – Ну, как там, в России? - И продолжал: - В облдрамтеатре устроили презентацию. Было много народу, спонсор дал ещё денег на пять ящиков водки и закуску. Очень тепло книгу принимали. – К нам надолго? – Наконец Жамандык решил хоть что-нибудь от меня услышать. Узнал, что на три дня и пригласил в гости. Прямо сейчас, с улицы, в гости к Жамандыку.
К Жамандыку не совсем. Бывший мой шеф повёз меня в гости к своей любовнице. Решил похвалиться. Теперь у него всё, как у людей: иномарка, любовница. И даже больше – ещё вышла книга. Он теперь ещё и великий человек.
Пройдут годы и, если в городе ещё останется, хоть одна, не переименованная улица, её обязательно назовут именем Жамандыка.
Или – площадь…
Гордость Жамандыка жила недалеко от вокзала.
По-видимому, дела у одинокой женщины шли неплохо: квартирка небольшая, но обставлена со вкусом, сделан евроремонт. Я знаю Жамандыка давно и не думаю, что от него на ремонт перепала хотя бы одна плитка для тёплого пола. Поэт был прижимист, как Киса Воробьянинов.
Дама его скупого сердца приехала из провинции, сразу нашла работу. На квартиру получила кредит и уже успела рассчитаться.
Может, оно и к лучшему, что за жизненное своё обустройство никому не была обязана?.. Тем более – Жамандыку?
Мы сидели в уютной зале на подушках. Клара – так звали Жамандыкову любовь – готовила чай. И, правда, интересная женщина. Ничего особенного, но задерживается на ней взгляд. Стройная. Ей, наверное, чуть за тридцать. Тонкий домашний халат. Под ним легко угадываются чёрточки-линии модного белья.
Любовница… Она одинока и не каждый день располагает такой роскошью, как мужчина. Когда придёт – тогда и счастье. Сегодня вот пришёл, но – с другом. Жамандык сказал – с другом. Какой он мне друг? Козёл…
Привстав на колени, Клара разливает по чашечкам чай. Как и положено восточной женщине, она немногословна. В основном слушает, улыбается.
Жамандык просит её показать свою книгу. Книжка Жамандыка стоит на видном месте, на серванте. С автографом автора, разумеется. Стихи на казахском языке. Я для приличия полистал. Махаббат… Махаббат… Любовь… Любовь… Конечно, о чём ещё может писать поэт? Даже такой, как Жамандык?..
– Ми, Александра Ибановища, твой рассказ с Кларой читали, - Жамандык сообщает неожиданную для меня информацию.
– Клара из своего посёлка, из Родниковки, привезла вашу районную газету.
– Как? – спрашиваю я Клару, - вы из России, из Родниковки?
И узнаю, что мы были почти соседями. Моя Белогорка – второе отделение колхоза Чилисай, а Родниковка – третье…
Тесен мир…
Ну вот, собственно, и всё.
Был я в Актюбинске и познакомился с Кларой из Чилисая.
Рассказывал мне Данька про своё половое увлечение, а я вдруг вспомнил про Клару. Не сказать, что так уж распространено среди казахов такое имя. Венеры встречаются чаще. А Клара из Родниковки – это уже совсем тепло.
И вечером, когда мы с Данькой открутили пробочку ещё у одной полторашки молодого краснодарского, я про свою Клару ему и рассказал. Про Жамандыкову.
Ещё думал – говорить – не говорить…
А Данька что-то оживился. - Да, говорит, она уехала в Казахстан, куда – не известно. Дома одна мать, ребёнок у родственников.
– Слушай, - говорит, - Иваныч, - ты, когда будешь в следующий раз собираться в Актюбинск, мне позвони. Съездим на моей машине.
Жест, конечно, широкий. Ехать за границу. Триста километров. Дорога – то яма то – канава. Ещё – таможня. В Актюбинске гаишники: - А… Российский номер?.. Куда едешь, что везёшь?..
– Ладно, - ответил я Даньке.
Но поехал в следующий раз на машине сына, по доверенности. Всё-таки просить Даньку было неловко.
И вообще потом всё почти забылось.
А потом я вышел на пенсию, уехал в город, и Данька, и моя работа, и Чилисай оказались далеко в прежней жизни.
Я чаще стал бывать в Актюбинске. Друзья, родственники. Город, всё ещё любимый. Знакомый до слёз.
Иду как-то по этому городу, а возле меня притормаживает тёмно-зелёная иномарка «Волга». Редко можно увидеть такое корыто в Актюбинске. Улицы забиты японскими, немецкими, американскими машинами.
А тут – «Волга». И ещё – такая знакомая!.. Ну, точно! Данька! Выходит из машины, кидается ко мне и – ну, обниматься, ну, целоваться!
– Иваныч, ты откуда?! Я думал, что ты уже давно помер, потому что на пенсию ушёл и тебя давно не видно. А ты живой и ещё по заграницам разгуливаешь!..
Ну, это мне скорее нужно было удивляться.
Откуда россиянин Данька в Актюбинске, что ему тут надо?
– Ладно, Иваныч, потом, потом! Поехали ко мне! Сейчас беспармак, водка, пельмени!..
– Подожди, не гони лошадей… Какая водка? Ты чего вообще тут делаешь?..
– Потом, Иваныч, потом!..
Втискивает меня в свою долбаную иномарку, жмёт на газ – и мы едем. Мы едем… к вокзалу…
Знакомый переулочек. Нет, не может быть!..
Чего не может? Конечно, может.
Данька подъезжает к дому, где я уже когда-то был с Жамандыком. Более того – он ведёт меня в ту же самую квартиру!
Всё равно не может быть!
А, впрочем… Ну, конечно!.. Что тут необычного? Видимо, решил Данька заняться бизнесом, мотается теперь между Россией и Казахстаном и… Клара… Наверное, это всё-таки она?..
Данька подхватывает мои мысли: - Она, она! Проходи, Иваныч, раздевайся!..
Вообще-то мне несколько неловко. В последний раз я сюда заходил, насколько мне помнится, по приглашению другого господина.
Да, ладно. Чего уж там. Все свои.
Обстановка в квартире почти не изменилась. На серванте, вместо стихов Жамандыка, красовалась фотография Даньки. В каске и в спецовке газовика.
– Клара, это Иваныч, Александр Иванович, помнишь, я тебе рассказывал?
Восточная женщина утвердительно промолчала.
А я всё никак не мог определиться, в какой степени родства на настоящий момент приходится мой Данька нашей с ним землячке Кларе? Вторым любовником? По тому, как себя Данька вёл, предположить можно было, что даже – первым.
А куда делся великий поэт Жамандык? Или – у них график? Пока Данька в разъездах, у Клары перебирает кораллы Жамандык. Приезжает Данька и ждёт, выглядывая, в кустах, когда Жамандык уберётся, и когда непризнанный пока классик побежит к себе домой с пустыми тестикулами исполнять супружеский долг?
Выходит из кустов, отряхивается и стучится в квартиру к освободившейся женщине?..
Звонит ли ему Данька, когда оставляет Клару одну?
– Иваныч, знакомься, это – моя жена Клара…
Ни фига себе! (Я эту фразу даже с нецензурным словом подумал).
А история последних лет Данькиной жизни выглядела так.
Он-таки выбрался в Актюбинск. Не стал дожидаться, пока туда соберусь я, пока попрошу его составить мне компанию.
В Актюбинске не стал ходить по рынкам, где, как рассказывали, полно китайских товаров и всё дешевле, чем в России раза в два, а то и в три.
Через адресное бюро нашёл Сармутдинову Клару. Она жила недалеко от вокзала.
Единственный магазин, в который он зашёл, был цветочный.
Накупил роз.
Пошёл по указанному адресу.
Дверь открыла Клара.
Данька протянул ей розы, и она их приняла. Потом они у неё рассыпались. Потому что Клара кинулась к нему на шею, плакала, смеялась и долго-долго не разжимала рук. Они оба, целуясь, медленно опустились на пол тут же, в прихожей. Руки торопились. Изголодались по прикосновениям. Кажется, Данька сразу начал Клару раздевать. Что там было раздевать - домашний халатик – и всё.
Данька даже не спросил – есть ли кто дома? Они любили друг друга тут же, на половичке, в прихожей. Потом – в зале, когда разделись совсем. Потом – уже немного успокоившись, уже так, чтобы провести рукой, руками по волосам, задержать глаза в глазах – под тёплым дождём - в душе.
В кровати уснули, не расплетая ног. Проснулись – как будто из сна обратно в сон – не веря своим глазам. Конечно – опять… Как долго не виделись!.. Как долго не…
Потом, уже потом почувствовали, что, оказывается, и от любви можно устать. И что надо бы перекусить. Нет – поесть! Хорошо, поесть вкусно, с удовольствием! Поесть вместе, впервые вместе. Почему-то чуть этого стесняясь…
Господи! – думал я, - Даньке уже за пятьдесят. А он такие вещи рассказывает, как будто мальчишка, и у него вообще женщина случилась впервые в жизни.
Да и Кларе не четырнадцать…
– Знаешь, Иваныч, я себе обрезание сделал. – Это Данька мне стал рассказывать уже после того, как я узнал, что больше он никуда от Клары не уехал. Про жену забыл. А дети у него большие. Внуки уже большие.
Более того – Данька не только вскоре развёлся. Он женился на Кларе и взял её фамилию! Теперь он не Корсунов, а – Сармутдинов.
– А как же работа? – я же знал, что найти в Казахстане работу очень трудно. Даже если ты напишешь себе фамилию Сармутдинов. Сразу ведь не на паспорт смотрят.
И тут для Даньки всё оказалось очень просто.
У Клары дядя в столице замминистра.
Даньке нашли работу на ближайшей от его жительства ГРС-ке.
Данька сидел в зале на курпешке, скрестив ноги, как настоящий казах. Мы попили вкусного молдавского вина, и Клара принесла огромное блюдо с беспармаком. Из конины. Достархан ломился от всяких вкусностей.
– И что? – думал я, - Лиза готовила не хуже. Мы с женой бывали у них не раз, всё было очень даже замечательно, желудок очень страдал, а глаза всегда хотели ещё кусочек.
Говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. И что? Настолько ли меню Клары оказалось для Даньки привлекательней, что он позабыл обо всём на свете, голову потерял?
Вы назовите мне случай, чтобы какой-нибудь мужик бросил семью из-за того, что его любовница лучше, чем жена, готовила вареники…
Наверное, решающую роль в этих разрывах играет всё-таки какое-то иное блюдо. И то, как именно оно готовится.
Путь к сердцу мужчины лежит через его пенис.
Мне было пора уходить. Данька и Клара оставляли меня ночевать. Нет, конечно. Уходить всегда нужно вовремя.
Клара собрала пакет. Чтобы я, пока буду ехать полчаса к своим детям, не умер с голоду. Куски варёной конины, лепёшки, водка, казы, сладости.
Супруги Сармутдиновы провожали меня в дверях – глаза Клары светились, она вся была, как маленькое солнце. Восточная женщина тихонько, так, чтобы никто не заметил, прижималась к своему мужчине, а он стоял рядом – лысый, седой и счастливый.
Да… «И оставит он и отца своего. И мать…».
И… жену…
СОН В ЛЕТНИЙ ДЕНЬ…
Кладбище в Растсовхозе… Разросся городок из крестов и оградок. Я не был тут пятнадцать лет. Когда-то это кладбище было посторонним объектом. Умирали в совхозе люди, их хоронили на кладбище. Родственники шли за гробом, плакали. А в нашей семье все были живы – и бабушка, и папа и мама. На кладбище из нашей семьи никто не лежал. Поэтому было ощущение такого автономного бессмертия.
Бессмертие не может продолжаться вечно.
И бабушка умерла. И папа. И дальние родственники. И кладбище уже не посторонним стало. Знакомыми стали его улочки – проходы между могил. И дома – холмики в оградках.
Я пришёл проведать родных. Положил цветы. Оправил могилки. Потом решил пройтись по городку. Июньский ветер приносил из степи запах полыни. Шелестели бумажные цветы на венках. И тут… Да, конечно, много времени прошло, но … Кирхгеснер, Мальзам, Зайцев, Вибе, Лаутиншлагер… Моок, Кихтенко, Савицкий, Иллинзеер… Сколько знакомых людей ушло из жизни!.. Немцы… Я думал, что все они выехали в Германию… Никуда они не уехали… Здесь они все…
В семидесятых я написал «Неверную жену», которая так и не получила признания прогрессивной общественности. Значительная часть моей мелодраматической повести была посвящена ему, моему любимому Растсовхозу и его обитателям (отрывки):
СЦЕНА 1
К концу рабочего дня Доблер и Колтайс крупно повздорили и сошлись в честном поединке в обширной земляной яме, которую сами же в этот день выкопали для силоса. Доблер повалил Колтайса, сел ему на грудь и стал словесно доказывать свою правоту. Колтайс вывернулся, подмял Доблера и наложил ему в рот земли, чтобы тот, наконец, замолчал. Но Доблер землю выплюнул, укусил Колтайса под дых и, пока его противник беззащитно корчился в яме, проутюжил его сверху бульдозером, и так весь трактор на Колтайсе и оставил. А сам ушёл домой.
Жена Колтайса, Матильда, управлять трактором не умела. Поэтому, громко ругаясь по-русски, с большими затруднениями, авторитетным низом спины, она сдвинула бульдозер со своего супруга и, продолжая всё так же ругаться, пинками погнала его домой.
СЦЕНА 3
Виктор Ильинёв ударно трудился в совхозе на должности завхоза тридцать лет. И даже, когда Ильинёв ушёл на пенсию, он продолжал принимать участие в жизни хозяйства, баламутя народ во время собраний.
Жена у него умерла, и уже несколько лет дед вёл уединённый образ жизни, выкармливал поросят и вышивал на пяльцах.
Когда после смерти жены Ильинёва прошёл положенный срок, многочисленные совхозные невесты зашевелились. Словить себе старичка, когда самой уже лет двадцать, как не сорок лет – задача мудрёная. Здесь скромностью не возьмёшь. Здесь хватка нужна. Потому что конкуренция.
Бабка Тишиха имела и хватку, и молодой задор, хотя моложе Ильинёва она была всего месяца на три. Поговаривали, что в молодые годы Ильинёв имел с Тишихой любовную связь, что, однако, нельзя было проверить ни по каким документам.
Работы в холостяцкой квартире оказалось невпроворот: полы не скоблены, занавески засалены, посуда, хотя и помыта, но не так, как положено. И побелить в квартире не мешало бы. А стирки!..
Старуха неделю трудилась, как пчела, или жук навозный, и дед ей исправно во всём помогал. Когда работы были закончены, Тишиха опять пришла в опрятном ситцевом платье и в белом платочке. Ильинёв сидел за столом, читал Большую Советскую Энциклопедию. Тишиха села подле на скамеечку, вздохнула, сказала о погоде. Дед согласился и уткнулся в книгу. Тишиха поговорила про скотину. Старик и тут поддержал: да, мол, хвост козе надо бы подстричь. И опять замолчал. Так сидели часа три. Потом Тишиха сказала: - Ну, я пойду…Ильинёв ответил: - Ну, иди. Тишиха сидела ещё полчаса и снова сказала: - Ну, я пойду…Дед ей опять разрешил: - Ну, иди.
А потом Тишиха всем рассказывала, что он, старый хрен, ни на что не способный, и - Боже мой – как она ругалась!
И так по-русски, что её оглохшая сестра, баба Юля, обрела слух, и побежала к совхозной модистке со своей смертной одеждой, чтобы та перешила ей, пропахший нафталином саван, на что-нибудь весёленькое.
СЦЕНА 8
Приусадебный участок Ивана Мальзама отличался чистотой и аккуратностью не только в праздники и дни проезда по Растсовхозу знаменитых иностранных гостей. Иван имел какую-то природную слабость делать всё красиво. Помидоры у нег вырастали стройными, огуречная ботва пышно стелилась по грядкам, а сорняки, ближе пяти шагов, боялись подойти к металлической сетке, окружающей участок Мальзама.
За двадцать лет работы в совхозной мастерской Мальзам получил множество благодарностей, и трудолюбие его даже поощряли денежными премиями. Когда в Растсовхозе перед Пасхой запустили первый троллейбус, Мальзам, как передовик производства, был приглашён разрезать алую ленточку, а потом его бесплатно прокатили из конца в конец вместе с другими передовиками.
Ничто больше, чем серьёзность, не способствует укреплению репутации. И в этом отношении Мальзам был безупречен. Если Иван сказал: дом горит, - значит, дом действительно, горит, нужно звать пожарных и скорее бежать смотреть на пожар. Если Иван сказал: - Дом сгорел, - значит, бежать уже никуда не нужно, пожарники не приехали, а на головешки можно спокойно посмотреть в любой выходной.
Не замечалось у Мальзама и крайностей: когда сказали всем сдать коров, гусей и удавов, он послушно сдал. Сосед его, Юзик, спрятал корову в погреб, кормил её там исподтишка, доил. Но, за разбрасыванием в огороде навоза, его выследил Рытхэу и слегка заложил кое куда следует. Юзика забрали вместе с коровой. Рытхэу поставили в совхозе учётчиком.
А Мальзам одним из первых сдал свою корову. Поэтому, когда уже, будучи в расцвете лет и сил, и имея на руках четверых крепеньких внуков, Мальзам вздумал пошутить, шутка обернулась для маленького посёлка большой трагедией.
Ни для кого не новость, что если семена помидоров посеять в ящики в феврале, то скушать первый помидор, или же его продать, можно уже где-то в июле. Чтобы кушать в июне, посадить нужно в январе. Но в Растсовхозе скромные энтузиасты приусадебных хозяйств весь январь мирно отдыхали. Смотрели телевизоры. Перерезали глотки своим свиньям, пили тёплую кровь, набивали настоящим мясом кишки домашних животных и коптили колбасы. А, по воскресеньям, собирались у Виолины, плясали, читали стихи и ели и пили столько всего такого, о чём неподготовленному городскому жителю и читать вредно
Как только февраль начинал пригревать южные скаты железных крыш совхозных частнособственнических домишек, их обитатели засыпали мелкие ящички чернозёмом и сеяли в них помидоры. А в июле наперегонки бежали с первыми помидорами на базар и портили там настроение людям кавказских национальностей.
Как-то в середине мая, под вечер, Мальзам освобождал свой погреб от ненужных солений и - какая его муха укусила? - целую бочку, нерастраченных за зиму помидоров, распределил на грядках на молодых кустах, терпеливо привязывая каждый плод к ветке суровыми нитками.
На следующее утро, ничего не подозревавшие доверчивые совхозные женщины погнали своих реабилитированных и расплодившихся коров в единоличное стадо, а, поскольку дорога проходила мимо Мальзамова огорода, то глазам их предстало потрясающее зрелище…
Если Иван сказал, что дом сгорел…
Иван Гельд не выдержал удара и повесился от чёрной зависти. Иван Клясс удавился от белой. Соломон Иванов надрался обыкновенной водки и выл всю ночь белугой. Рытхэу пошёл пешком, куда следует, в надежде получить должность заведующего складом.
Представители кавказских национальностей прискакали на своих ГАЗ-24, и вышли к Мальзаму без оружия, с пухлыми пачками советских денег. Мальзам их не пожалел. «Рецепт» уступил за круглую сумму, и пришельцы не торговались. Спокойствие братских республик стоило таких денег.
Когда обман обнаружился, и правда раскрылась во всей своей вопиющей наготе, сейсмологи Южной Америки зарегистрировали странные подземные толчки, а также и некоторое подрагивание атмосферы, что можно было принять за крупное землетрясение в Европейской части СССР.
Это, в небольшом посёлке Растсовхоз, оскорблённая общественность сотрясала окружающее пространство неистовыми раскатами сочного, непереводимого и понятного на всех языках, русского мата.
Я проходил среди оградок и памятников. История Растсовхоза – здесь она, на этих улицах. Биографии жителей посёлка моего детства уже заключены в строгие рамки «родился-умер». Нет уже ни Мальзама, ни Доблера, ни Колтайса. Давно ушли из жизни гроза местных мальчишек Ильинёв и глухая баба Тишиха.
Но это – старшее поколение. Все те, кто не только видел войну, но многие из которых прошли её от Берлина до Магадана. Весь Растсовхоз – это выстроенные в сороковых-пятидесятых годах бараки, заселённые ссыльными со всей нашей свободной страны и дальнего зарубежья.
А вот и… Алеся… Двинская… Господи! Неужели и?.. Алеся была ровесницей, помогала своей матери разносить почту. Весёлая школьница, она забегала и к нам, заносила письма, газету «Путь к коммунизму». Однажды… День был жаркий, летний, Алеся, как всегда принесла свежую газету. Улыбаясь, стояла в проеме входной двери, в тонком платье, насквозь просвечиваемая солнцем. Эротическое видение ударило меня по голове, не помню, как стал забирать газету. Алеся рассмеялась, отскочила. Я взялся отнимать, будто бы случайно коснулся ладонью юной, упругой, груди. Сжал её, волнуясь, сходя с ума. Смеясь, Алеся отстранилась от меня, убежала…
А я тогда - то ли в седьмой класс ходил, то ли в восьмой. К девчонкам не прикасался ещё ни разу. Девичья грудь… Как это интересно! И как хотелось бы повторить, потрогать ещё… Хоть беги следом, догоняй…
Алеся ушла, а у меня всё дрожало внутри. И даже снаружи, по вздыбленным сатиновым бриджам, волнение моё ещё долго было заметно…
И вот Алеся здесь. Н а фото – молодая женщина, в которой с трудом узнавалась моя смешливая односельчанка.
Я спросил у знакомых в посёлке, что случилось с Алесей Двинской? Ответили, не помню, кто: - Рак груди…
А ещё раньше на самосвале разбился её муж, мой одноклассник, Витька Мелешкин. Женились они как-то непонятно. Витька бегал за Валькой Пелевиной, но что-то у них там, не срослось. Как это обычно водится, Вальке нравился совсем другой парень. Ну и Витька психанул, заслал сватов к Алесе. У них раньше, наверное, что-то уже по юности, по баловству, было, ну и – поженились.
А у Витьки ещё была сестра, Галина. Галька… Щупленький тонконогий подросток с большущими чёрными глазами. А ещё – у неё были длинные чёрные волосы. Которые Галькина мама всегда заплетала в косы, но иногда она бегала по двору и просто с распущенными волосами. Мы были соседями, и я заглядывался на черноволосую девчонку, ожидая, что порыв ветра вот-вот обнажит, покажет, как можно выше, её тонкие ножки.
Да… Галька…
В шестидесятые года население нашего советского хозяйства стало потихоньку выбираться из бараков. В черте посёлка находился «лиман», огромная мелкая лужа, которая с весны заполнялась водой, а потом медленно высыхала на протяжении всего лета. Оставалось ровное поле из серой, намытой с далёких холмов, глины. Прекрасный строительный материал, как оказалось. Вообще – эти ссыльные, их пока не убьешь, всё старались выжить. Сколько раз этих немцев, татар, молдаван выбрасывали среди зимы из вагонов в голую степь, и – ничего, выживали. Не все, конечно. Но год-два, десять лет - выкапывались землянки, строились дома…
Как только наш «лиман» слегка просыхал, туда устремлялись строители. На обширную, поросшую ярким, зелёным спорышом, лужайку, выносили мокрую глину. Смешивали её с соломой. Забивали в прямоугольные деревянные формы. Потом вытряхивали оттуда мокрые кирпичи. Раскладывали их для просушки. К осени вся лужайка заполнялась пирамидами, составленными из самодельных кирпичей.
А потом из этих, практически, бесплатных, кирпичей строились дома.
Так отстроили свои аккуратные улицы немцы.
Так построили себе дом Мелешкины. А потом, рядом с ними, появился и наш дом…
Мы Витькой быстро подружились. У нас во дворе ещё не было ничего, потому что мы только, как переехали из барака в свои новые хоромы. А Мелешкины уже обжились. И свиньи у них уже были, и погреб, и крыжовник в палисаднике. Возле сарая у них стояла почему-то пустая в то время деревянная клетка для свиней, которая для нас, детей, представляла настоящее сокровище. Клетка могла быть и океанским кораблём, и самолётом, и – роскошным домом. Галька от нас была заметно помладше, поэтому мы её часто беззастенчиво дурили. Так, позвали однажды и поспорили, что не напишет она на свинячьей клетке: «Лей, лей! Не жалей! Чтобы спору не было!». Галька взялась писать. Ну, мы на неё сзади, пока писала, с полведра воды из кадки и вылили. Очень было смешно. Она на нас с кулаками, а мы ей про её надпись: - Сама, мол, сказала, чтобы не жалели!..
А ещё Галька любила поспать днём. И сон у неё бывал таким, что пушкой нельзя было разбудить. Однажды мне пришлось принять участие в попытках поднять Гальку с постели, когда всей семьёй ей нужно было куда-то поехать. Мы с Витькой стаскивали вялую, мягкую Гальку на пол, брызгали в лицо водой. Витька её щипал. Мы с полчаса повозились с мёртвым тёплым человеком, потом уложили Гальку обратно в кровать, потому что дело безнадёжное. Пока не проспится, не выспится – никто её никуда не повезёт.
Так вот… Про этот Галькин сон…
С детства у меня преобладало мужское, мальчишеское окружение, поэтому юная соседка с голыми летними ногами очень даже привлекала моё внимание. Но в школьном возрасте внимание мальчиков к девочкам чаще проявляется через грубости. А пообщаться с Галькой как-то по-другому, не только, чтобы воду за шиворот, у меня смелости не хватало.
Ну и внимание моё тогда было сосредоточено в основном на примитивном подглядывании. Как девчонка Галька пройдет по двору, как кормит кур, как – о счастливый миг! – как в коротком своём платьице взбирается по лестнице на чердак.
А ещё заприметил я, что часто свою сиесту Галька любит проводить на погрЕбке, деревянной надстройке над погребом. Уходит туда после обеда и на два-три часа отсутствует для человечества в своём смертельном сне. Я стал осторожно прокрадываться к деревянному строению. Не сразу, не в один день. Как Ленин – шаг вперёд, два шага назад. И вот осмелел уже настолько, что добрался до самой стенки и через щель смог посмотреть, где и что делает объект моего наблюдения.
Объект спал на ватном тюфяке, посреди погребки. И мои смелые, сладкие ожидания во многом оправдались. Галька лежала, свободно разметавшись, платье у неё задралось, смялось, и можно было и ноги её рассмотреть во всю длину и даже бледно-голубые, в цветочек, трусы. Я простоял три-четыре минуты, потом запереживал, что меня могут застукать за таким бессовестным занятием и - сбежал. Сердце от волнения колотилось. Во рту пересохло. Вот так вот – первый раз увидеть девчонку, почти голую! Как колотилось сердце! Если бы так на женщин реагировали старики, то уходили бы они с разорванными сердцами из жизни быстро, почти без мучений. Но – на то она и молодость, чтобы многое выдерживать. Я не только не умер, но и на следующий день попытался опять повторить свой подвиг разведчика.
И кто бы удивился тому факту, что простого подглядывания мне скоро показалось мало. Что мне захотелось – вначале зайти в погребку, а потом и присесть, прилечь рядом со спящей красавицей. Вначале я её просто рассматривал. Потом тронул пальцем. Хотел проверить – так ли крепко она спит. Потом гладил уже ладонью и – всё смелее и смелее. А страшно было-то как! В любой момент в погребку могли зайти Галькины отец, мать. Позора, ужаса не оберёшься! Сердце колотилось. Осторожно задрал повыше платье. А ладонь, пальцы, лезли уже к девчонке в трусы, сдвигали их. Интересно было: а что там?
Толька Зубков, мой старший половой наставник, рассказывал, что у девчонок между ног есть дырка, которую он называл матерщинным словом. И что в эту дырку нужно засовывать то, что есть у нас, у мальчишек. И он называл это другим матерщинным словом. Вообще так делают все мальчишки и девчонки, когда подрастут. – А ты делал? – спрашивал я Тольку. – Сколько раз! – с гордостью отвечал Толька. Ну и, поскольку он уже определился у меня, как половой гуру, то обещал и меня всему обучить.
Сказал, что есть у него девчонка, которая ему всегда даёт, мне она даст тоже. И мы даже обговорили время, когда всё должно было произойти.
Вообще я тогда ещё был совсем молодой, в классе так, третьем-четвёртом.
Помню в ночь, накануне перед обещанным половым актом, что-то лежал я в постели вместе с родителями. Заговорились мы о чём-то перед сном и родители уснули. А мне – не спалось. Мне было ужасно стыдно за предстоящее моё грехопадение. Если вдруг родители узнают про такие мои, даже – мысли – нужно будет просто умереть от стыда и позора.
И – потом – вдруг что-то случится непредвиденное? Я старался с Толькой разобрать все возможные ситуации, чтобы уже быть готовым ко всему. Я спросил его как-то: - А вдруг, я - засуну, а мне в этот момент ссать захочется? Логично вообще. Потому что, как я уже понимал, один и тот же орган мог употребляться в разных целях.
Толька на минуту задумался. Потом авторитетно сказал: - Ссы!..
По какой-то причине свидание с обещанной Толькиной девчонкой у меня не состоялось. Но мудрые советы своего наставника я запомнил.
Оставалось ожидать подходящего случая…
В общем, когда я со всех сторон рассматривал мертвецки спящую Гальку, я уже знал, что мальчикам нужно делать с девочками. Оставалось прояснить детали. Беспрепятственно приспустив, наконец, с Гальки трусы, я стал рассматривать, где же у неё та самая заветная дырка, про которую рассказывал Толька. Дырки не было. А была сплошная складка, которая начиналась сверху, от живота и пряталась между ног где-то внизу… Вот, блин, ну, не бежать же сейчас за Толькой! А Галька всё так же спала. Хоть бы ойкнула, там, или ещё что-нибудь. Ну и – ладно. Я решился. Осторожно стянул с неё трусы совсем, снял свои… Конечно, сердце в эти минуты – триста ударов! А вдруг зайдут? А вдруг - всё-таки проснётся? А вдруг?..
Для удобства, я раздвинул Гальке ноги и ткнул своим окоченевшим древом куда-то в середину складки. И… Как будто всё рухнуло! Внизу живота что-то задёргалось, заныло, и на Гальку забрызгала мутная струя жидкости, похожая на яичный белок. Точь-в-точь такая, как после аналогичного сновидения остаётся на сатиновых трусах. Опять перепугался страшно. Вот сколько страху, оказывается, с этими девчонками!
Ох! Быстро натянул трусы, нашёл в углу погребки чистую тряпочку, всё у Гальки насухо вытер, надел на неё трусы. Всё сделал, как было. И тихо-тихо, озираясь по сторонам, чуть ли не по-пластунски, через огурцы, помидоры, крыжовник, убрался к себе…
И страшно было. И сердце колотилось. Но и чувство какое-то было, будто чего-то – то ли сделал не так, то ли недоделал…Походил туда-сюда по дому, чуть успокоился. А ни моих, ни Мелешкиных родителей дома не было. Все уехали на базар, и приехать должны были только к вечеру. Витька удрал на рыбалку. Ему сказали в палисаднике крыжовник собрать, а он удрал.
А сейчас там лежит, спит Галька, которую ничем нельзя разбудить, что только с ней ни делай.
И откуда у меня опять смелость взялась? Нет, нужно тут выразиться несколько по-другому. У меня опять вспыхнуло жуткое желание, не знаю, чего. Но опять вздыбился мой юный дружок, опять властно чего-то затребовал. И это что-то напрямую было связано с той девчонкой, что продолжала спать в деревянной пристройке, всего в каких-нибудь двадцати метрах от нашего дома. И вот смелость у меня, значит, и появилась.
И я уже, почти не прячась, пригнувшись, правда, как по весне наш кот Василий, побежал к погребке.
Гальку пришлось перевернуть. Потому что спала она уже на животе, а мне было нужно, чтобы на спине.
Трусы я с неё снял, уже почти привычно. Разделся сам. Немного задержался напротив раздвинутых ног. Спит. Точно, спит. Волосы разметались по подушке. Свободно, сонно лежат руки по сторонам.
Вновь затвердевший, напрягшийся свой заострённый ствол я приставил опять к середине складки, надавил, и… легко и сладко куда-то провалился и каким-то седьмым чувством, понял, что на правильном пути.
Верно говорил Толька Зубков: есть у них, у девчонок, дырка.
Всё опять повторилось, но уже в более замедленном виде. И как мне показалось, уже по-настоящему.
Я потом всё за собой прибрал. Гальку обтёр. Нашёл трусы, стал надевать. По ходу процедуры на них порвалась резинка. Взялся завязывать. Руки, блин, тряслись, будто кур воровал. Кое-как завязал на корявый узел. Платье обратно натянул, прикрыл живот и бёдра. Ноги соединил вместе. Потом подумал, что поза получается слишком торжественная, как у покойницы. Чуть согнул одну ногу в колене, чтобы выглядело всё естественно.
И – опять осторожно, пригибаясь и оглядываясь, совсем, как наш кот, заторопился к своему дому…
Конечно, тем, кто делал подобное уже сто раз, может показаться неинтересным всё, что я рассказываю…
Ну, вот… Совершил я, значит, свой ратный подвиг и, как и положено настоящему преступнику, «залёг на дно».
В тот памятный для меня день, как будто ничего не случилось на белом свете. Галька проснулась, как ни в чём ни бывало. Гремела у себя во дворе тазиками, чего-то мыла, стирала, убирала. Поливала грядки с овощами. Потом приехали родители. Сначала её - раньше распродались. Потом – мои. Потом пришёл с тремя пескарями Витька со своей рыбалки, получил пендюлей, полез в крыжовник отбывать трудовую повинность. Если бы не возникающий в моих штанах возбуждённый предмет, как только я вспоминал о своём преступлении, то можно было подумать, что всё мне просто приснилось. Может, и правда, приснилось? Но – нет. Слишком ясно, слишком хорошо я всё помнил.
Но – хоть и вспыхивало каждый день у меня желание проскочить ещё разок в погребку во время Галькиной сиесты, скрипя зубами, я его подавлял. Хватит. Внутренний голос говорил, что, если застукают – не сносить тогда ни головы, ни того, что у меня в штанах настойчиво требовало нового свидания.
И прошло какое-то время. Отошли огурцы. Появились первые помидоры. Которые родителям удавалось продавать сначала по три рубля, потом по два пятьдесят, а потом, когда возить стали уже не сумками, а корзинами – и по сорок копеек.
И вот уехали как-то и мои и Мелешкины родители опять на базар. У себя на хозяйстве остался я. Во дворе Мелешкиных подметала двор Галька. Витька чистил сарай. Потом они уходили в дом. Потом вышел Витька, перескочил через забор ко мне и позвал есть ранетки. У них во дворе росло невысокое дерево уральской ранетки, плоды которой были сказочно вкусными, хоть и наполовину с червями.
Мы приставили к дереву кривую, сколоченную из кленовых жердей, лестницу, нарвали в пазухи ранеток, потом спустились и прямо под деревом устроили пир. Простелили старое одеяло, высыпали на него ранетки, сами сели рядом. Приблизительно так взрослые садятся поболтать за стопочкой самогона, бутылью браги, или ведром пива. Все детские игры – имитация взрослой жизни, подготовка к ней.
Мы, обтряхивая червей, ели ранетки, как и положено, вели беседы, которые с каждой ранеткой становились всё сокровеннее.
Постепенно заговорили ПРО ЭТО. Витька спросил меня, ПРОБОВАЛ ли я? Хотя за моими плечами уже имелась вполне конкретная шалость, я предпочёл о ней умолчать. Во-первых, Галька Витькина сестра. Во-вторых, всё-таки «не сама дала». А я вроде, как украл. Нет, признаваться в этом было никак не возможно. Хотя поделиться с кем-то, обменяться впечатлениями, конечно, хотелось.
И я сказал так: что, мо
л, в теории я уже всё знаю очень хорошо. И книжки читал, и пацаны рассказывали. И Вальку Потееву кругом трогал, когда в кулюкушки играли. И она не сопротивлялась. Мы вместе прятались, и кричать было нельзя. И Валька молчала. Игра кончилась, а мы про неё и забыли. Уже друзья наши стали кричать, звать нас…
А Витька сказал: - А я уже ПРОБОВАЛ…
У меня глаза на лоб полезли. Витька на год младше меня, я считал его ещё соплёй, хотя об этом ему по дружбе не говорил. И он уже – ПРОБОВАЛ!
– По-настоящему?
– Ну, да…
– А с кем?
– С сеструхой, с Галькой…
Тут у меня ещё и встали дыбом волосы. С… Галькой?.. Витька?..
– А ты, если хочешь, можешь к ней сейчас пойти, она и тебе даст, - великодушно продолжил свои откровенности Витька. - Она сейчас на погребке, наверное, спать собирается.
У меня был какой-то ступор, который Витька истолковал за нерешительность: - Да чё ты, всё нормально, мы уже с ней три года!..
Ну… да… конечно… три года – это… Три года?..
И Витька тут сказал: - Чего ты, - мол, - ссышь? Иди, пока она спать не завалилась…
И я… пошёл…
Галька сидела в полутёмной погребке, на знакомом мне ватном матрасе. В коротеньком халате. Расчесывала свои длинные волосы. – Привет, - говорю, Галя, - что делаешь?.. Как будто слепой, не вижу. Но заговорить как-то нужно. Галька мне что-то отвечала, а я думал, о чём бы её дальше спросить, чтобы беседа не оборвалась. Сел рядом – А ты, говорю, что, ногти ножницами не стрижёшь, обкусываешь? – А можно я на тебя на голую посмотрю, я никогда девчонок голых не видел?..
Галька, как будто не заметила странного перехода в моих вопросах от ногтей к раздеванию, смущённо улыбнулась и сказала просто: - Ладно. Только ты тоже разденься, а то я так стесняюсь…
Мне казалось, что всё это не со мной, что это вообще какой-то сон.
Галька расстегнула халатик, осталась в маленьких жёлтых трусах. Потом сняла и их. Легла на ватный матрас, вытянув вперёд свои тонкие ноги и зачем-то сделав руки по швам.
Раздевался, путаясь в одежде, и я. Уже задубел и жёстко встал мой мальчишеский друг, торчал колом, трусы за него зацепились, я чуть не упал. Наконец, ото всего освободился, остался совсем голым перед лежащей на матрасе Галькой. Стоял с вздыбленным писом, который в напряжении чуть подрагивал. Не знал, что сказать. Вроде время, которое необходимо, чтобы посмотреть на голую девочку уже прошло. И посмотрел уже и рассмотрел. И что-то нужно было делать дальше. Или – сказать…
Когда я учился в четвёртом классе, у нас в школе пошла эпидемия любовных признаний. Кто-то в кого-то обязательно влюблялся, образовывались пары, которые ходили вместе в школу и обратно, подолгу стояли рядом… Большим успехом пользовалась Валька Киселя. Несколько сердец она безжалостно разбила, но были у неё и романы, почти, как настоящие. Мальчишки завидовали тому, кто завладевал вниманием Вальки. И это уже являлось как бы поводом, чтобы влюбиться в неё тоже.
Не избежал этой участи и я.
Стал оказывать Вальке знаки внимания, а однажды, когда мы остались с ней наедине у почты, я в любви ей признался. В этом возрасте каждый из нас уже не раз смотрел в клубе фильмы про любовь и в общих чертах был знаком с техникой признания.
Я сказал Вальке: - Я тебя люблю.
Валька ответила: - Я тебя тоже.
Ответила, как и положено во всех советских фильмах про любовь.
Мы постояли возле почты. Я ждал наступления счастья. Но оно почему-то не приходило. Наверное, оно не сразу приходит после того, когда произносишь волшебные слова «Я тебя люблю». Наверное, оно, как таблетка. Должно пройти какое-то время – потом наступает счастье.
Значит, нужно просто подождать, убить время.
– Ну, что, погуляем? – спросила Валька.
– Пойдём, погуляем, - я ответил ей.
И мы пошли. Прошлись по всему совхозу из конца в конец. Счастья не было. Я предложил пройтись ещё раз. Но Валька уже не согласилась. Потому что была зима, и мы оба уже замёрзли, как собаки.
По молчаливому обоюдному согласию на следующий день и на всю оставшуюся жизнь мы с Валькой сделали вид, что у нас ничего не было.
И, правда, не было.
И вот теперь я стоял перед Галькой без трусов с бессовестно большим голым писом и не знал, что сказать. Пауза затянулась, и я спросил, я сказал ей то, что не говорил потом никогда ни одной девушке: - Давай поебёмся?.. – Давай, - опять просто ответила Галька. Немного опустилась с подушки вниз так, что подогнулись колени, и - развела их в стороны…
Нет, это продолжался какой-то сон. Я взобрался на матрас, взгляд мой остановился на вертикальной складке между Галькиных ног. Знакомая складка. Галька прикрыла ладошкой глаза. А складку не прикрыла. Что тут думать-то! Член вонзился туда, в середину, толстым поршнем, по-взрослому, вошёл глубоко внутрь. Я не мог ни думать ничего, ни контролировать себя. На смену обычным земным чувствам пришёл целый космос неизведанных ощущений! Я не мог остановиться. Я безжалостно пронзал худенькую Гальку, а она в ответ только постанывала.
И потом вдруг кончилось всё. Ноющее сладострастие в низу живота, вспышка в мозгах и медленно наступающее успокоение…
– Ты всё? – по-будничному спросила Галька. - Слазь. Спать я уже не буду, нам ещё с Витькой помидоры нужно готовить к базару.
«Готовить к базару» - это собрать, протереть тряпочкой, уложить помидоры в корзины. Те, что позеленее, более плотные – на дно. Самые красные – сверху, чтобы не помялись, когда их будут везти в автобусе. Работы много.
Я вышел.
У меня тоже по домашнему хозяйству было много дел.
И стал я с тех пор потихоньку забегать к Гальке. То на погребку, то и – прямо домой, когда её родителей не было дома.
Но у меня возникли некоторые вопросы к брату её, Витьке. Мне было интересно, как это он умудрился уже давно стать взрослым и ещё скрывать это ото всех так ловко.
Я улучил момент и обратился к нему со всякими расспросами на волнующую меня тему. Как раз была ночь. Мы выгнали в ночное совхозных лошадей. Зажгли костёр, побросали туда картошку. Наломали душистой конопли, сделали себе из неё мягкие постели, улеглись перед костром и под звёздами.
Время от времени звёзды падали. Их, падающих, в августе много. Можно одно за другим загадывать желания, которые обязательно потом будут сбываться.
Ну и я тут к Витьке о своём. Пусть не наболевшем – чему уж тут болеть, но – о волнующем.
В общем – Как? Когда? Ну – ты ва-а-щее!
Поскольку мы стали с Витькой уже почти, как родня, то не стал он ничего скрывать, не стал отнекиваться. Тем более что поговорить на взрослые темы ему, по-видимому, ещё ни с кем не удавалось. Это мне повезло: у меня был Толька Зубков. В теории я был уже подкован – как я думал – дальше некуда. А тут уже как-то так удачно и практика подоспела…
В общем, рассказал мне в эту ночь Витька свою историю.
Во-первых, почему молчал, никогда не похвалился? – Ты что? Если бы папка с мамкой узнали – сразу бы убили!
И, правда – убили бы, кто бы сомневался!
Ну, а как всё получилось? Тут всё как-то само собой вышло. Ну, Витька с сестрой росли вместе. И вместе – прямо совсем. У них была общая спальня, чуть ли не до окончания школы. Друг дружку не стеснялись, имели полное представление о том, что девочки отличаются от мальчиков, и даже знали, чем.
Как-то летом, Галька тогда, кажется, окончила пятый класс, а Витька седьмой, собрались они «в поход». Звучит громко. На самом деле «поход» - это была небольшая прогулка в степь за дом. Нужно было взять с собой хлеба, бутылку молока и где-нибудь подальше от дома их съесть.
В степи росла кукуруза. Её приказал посадить дедушка Хрущёв. Чтобы маленькие дети могли по кукурузе гулять, в ней прятаться, играть в войну. Играть в войну, чтобы потом напасть первыми на Америку, которая всё время хочет на нас напасть.
Ну, и Витька с Галькой пошли в кукурузу. Местность, где её посеяли, была неровной. Бугры, ложбинки. На буграх королева полей вырастала низенькой, не дотягиваясь, даже нам, детям, до колен. А в ложбинках вытягивалась так, что хитрая частная корова могла в ней укрыться с рогами.
В одной из таких ложбинок сестрёнка и братик решили устроить привал.
У Витьки на этот случай было прихвачено с собой небольшое тонкое одеяло. Его расстелили. Галька, как хозяйка, накрыла на стол. Шли до кукурузного поля каких-то минут пятнадцать, а аппетит уже разыгрался зверский. Покушали. Дома хлеб с молоком никогда такими вкусными не были. Дел вроде уже не было никаких. Поход закончился. И тут Витьке пришла идея поиграть «в доктора». – Давай, - обрадовалась Галька, - а как? – Ну, ты снимай трусы, а я тебе буду укол делать.
Сделали Гальке укол. Потом решили укол сделать Витьке. Пока готовили «шприц», «растворы», пока, наконец, сделали Витьке укол, у него встал его пис. Решили, что его тоже нужно лечить. Галька оторвала широкий кукурузный лист и аккуратно обмотала, «перевязала» Витьке «больной» орган. Правда, пис от этого ещё больше напрягся, и головка его даже высунулась из перевязки.
Потом очередь «лечить» настала у Витьки. Он тоже оторвал кукурузный лист, попросил Гальку снять трусы и наложил ей «повязку»: пропустил зелёный бинт от пупка по дуге вниз, до попки. Сверху натянул трусы, чтобы «повязка» не спадала.
«Болезнь» у Витькиного писа не проходила. Он так у него торчал всё время, пока «доктор» занимался «лечением» своей сестры. Тогда решили поиграть в «папки-мамки». – А что это такое? – опять спросила Галька. – Витька сказал: - Снимай трусы. Галька сняла. «Бинты» размотали, повыкидывали. Витька знал, что «папки-мамки» - это, когда дяденька ложится на тётеньку и тыкает в неё своим писом. Да, что там - Витька! Все во дворе уже давно об этом знали. И Галька тоже. Только они с Галькой ещё не пробовали.
Ну, Витька на Гальку лёг, стал тыкать. Когда оба устали, решили, что пора уже идти домой. Но игра, хоть и не доставила обоим удовольствия, но понравилась. Была в ней какая-то тайна, которую вообще-то знают одни взрослые, а теперь вот и они, Галька и Витька. И стали они ходить в поход всякий раз, когда не было по дому особенных дел, когда родители уходили на работу, ездили на базар.
И тут как-то случилось неожиданное. Пошли Витька с сестрой, как обычно, «в поход». Как обычно, расстелили одеялко, сели, покушали хлеба с молоком. Галька сняла трусы, легла играть в «мамку». И – то ли легла как-то по-особенному, то ли Витька тыкнул сильнее обычного, только пис у него просунулся дальше, стал уходить вглубь Гальки. Раньше только головка окуналась, тыкалась в Галькину щелку, а теперь весь пис, будто чего прорвав, стал уходить внутрь. Галька ойкнула, А Витька ещё надавил. И потом стал в ней двигаться, двигаться… Галька сразу пыталась оттолкнуть, как будто ей больно было, а потом сама стала двигаться навстречу, «подмахивать». Потом Витька устал, вытащил своего писа. И!.. Такой ужас они увидели вместе с Галькой! Весь Витькин пис был в крови, в крови было у Витьки всё вокруг, весь низ живота у Гальки был перепачкан кровью!..
Перепугались оба страшно! Витька подумал, что разорвал чего-то своей сестре. Конечно, он же чувствовал – как будто чего-то рвётся! Он приложил своего писа к Галькиному животу. Длинный возбуждённый пис от низа живота дотягивался до пупка. Что тут может быть? Кишки? Лёгкие? Если Витька проткнул сестре лёгкие, то она вот-вот умрёт. А родители его убьют.
Галька плакала, била Витьку кулаками. Если бы она была при смерти, то кулаками, наверное, не била бы. Витька стал успокаивать сестру. Обтёрлись травкой, листьями кукурузы. – Трусы не надевай, - предупредил сестру Витька, - запачкаются. Немного посидели. – Пойдём домой, ты как? - спросил сестру Витька. - Ничего. Только страшно – сказала она тогда ему, размазывая слёзы, которые всё ещё продолжали катиться из глаз.
Но никаких страшных последствий после кровавого происшествия не случилось. Родителям ничего не сказали, и они ничего не узнали. У Гальки ничего не болело, крови больше не было и вообще всё опять стало весело и хорошо.
Только перестали они ходить «в поход». Витька иногда звал: - Пошли, просто погуляем. Но Галька отказывалась. Боялась. А Витька звал опять. Клялся, что ничем её не обидит. Только сходят в кукурузу, выпьют вместе молочка – и всё.
Поверила.
Когда молоко выпили и съели хлеб, Витка осторожно попросил: - А, давай, попробуем, как раньше? Мы с тобой поиграем в «папку-мамку», как раньше, я просто на тебе полежу?.. – А, давай, вначале - в «больницу»? – сказала Галька.
Она медленно, как-то по-особенному перевязывала Витькин пис. Вначале подержала, погладила, внимательно его рассматривая. Потом обмотала кукурузным листом и продолжала держать в руках.
«Лечить» Гальку Витька уже не стал. Они, не сговариваясь, пошли к одеялу. Галька улеглась, приподнявши бёдра, сняла трусы. И – да, как в прошлый раз, раздвинула согнутые в коленях, ноги.
Витька не сдержал своей клятвы. Он сразу хотел делать всё, как раньше, но не встретил уже привычного препятствия, и продвинул, правда, с усилием, своего писа дальше и так – по самые, до самого конца. И Галька не вскрикнула и ничего не сказала.
И потом, когда они ещё и не раз, и не два приходили в кукурузу играть в «папу-маму», крови у неё уже не было.
Когда Витька это рассказал, почти всё мне стало понятно. Только один вопрос я в своё время не прояснил с Толькой Зубковым и спросил у Витьки. Я сказал, что, говорят, от этого бывают дети. Что будет, если Галька вдруг забеременеет? И Витька меня успокоил: - Ты чё, дурак?! Дети родятся, когда уже все взрослые, когда женятся!..
В общем, опасений на этот счёт, оказывается, тоже никаких быть не могло. Мы ещё не взрослые и жениться нам - как пешком до дружественного Китая.
Но лето это у меня было последним в совхозе. Я поступил в культпросвет, и уже с осени стал жить в городе, в общежитии.
А с Галькой встретился вновь уже на её свадьбе.
Меня нашли, пригласили пофотографировать торжество в семье Мелешкиных.
Галька дружила где-то с год с парнем из соседней улицы, Серёжкой Пантюхиным. У них, говорят, была любовь. Как похвалялся своим дружбанам Серёжка - он сломал Гальке целку. Количество сломанных целок в рассказах совхозных сердцеедов раза в два превышало число девушек призывного к половой жизни возраста. Но, тем не менее, Серёжка, как порядочный человек, был обязан на Гальке жениться. На тот момент она ещё счастливо забеременела. Прав был Витька: дети появляются уже у взрослых и – в период женитьбы.
Галька была на свадьбе очень красивой. У неё даже выросли груди!
Но прожили они с Серёжкой всего лет десять. Они переехали в город, купили машину, дачу. Там, на даче, Сережка и сгорел. В небольшом деревянном домике, который сам построил.
Хоронить его привезли в Растсовхоз, на «родовое» кладбище советских ссыльных.
В разных местах совхозного погоста расположились холмики друзей, товарищей моего детства: Витьки Мелешкина, Алеси Двинской, Серёжки Пантюхина.
В короткую надпись «родился-умер» вместилась целая жизнь каждого. Где уже не было войны. Не было голода. И у каждого – какое счастье! – были и папа и мама.
И была обыкновенная жизнь. Единственная и неповторимая.
ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ ХХХ
У Вадика что-то не заладилось с университетом. Накопилась куча несданных зачётов. Экзаменов. Нужно было или сдавать, или… В общем, Вадик выбрал академический отпуск. Тем более, что было это уже не впервой. Время пребывания Вадика на факультете журналистики МГУ приближалось к восьми годам и грозило опять растянуться на неопределённый срок.
И поехал Вадик в деревню, к родителям. Чтобы не сидеть у них на шее, даже устроился на работу. Мотористом – качать воду на совхозные поля. Работа – не бей лежачего: утром включаешь мотор, вечером выключаешь. Время от времени подтянуть на насосе сальники, либо набить новые.
Мотор с насосом в специальном, похожем на погреб, сарайчике, где летом всегда прохладно. И даже стоял широченный, разложенный диван-кровать, где в знойные дни после обеда можно было прекрасно отдохнуть. Только неизвестно, правда, от чего. С утра валялся, слушал «Спидолу», Сашу Чёрного читал, потом обедал бутербродом с маслом и со свежим, пахучим огурчиком. А после обеда – опять на диван, опять отдыхать...
Дни помогала коротать Нина Андреевна, молоденькая учительница начальных классов. Хотя она и говорила «звОнит» и «крантик», однако при близком общении показала себя довольно смышлёной и поначалу даже девственницей. Последнее обстоятельство, по-видимому, её уже давно угнетало, но не могла она позволить решить наболевшую проблему грубому сельскому механизатору. Была у Нины Андреевны интуитивно-инстинктивная тяга к людям интеллигентным и образованным. Вот, как, к примеру, таким, как из Москвы приехавший Вадик. Которого уговаривать долго не пришлось.
Ну, это, конечно, так, общая схема.
На самом деле был, конечно, традиционный период знакомства, который проходил под звуки танго на танцах в местном клубе. Учиться танцевать танго совсем не обязательно. После того, как начинает играть музыка, нужно подойти друг к другу, обняться и начать топтаться посреди зала. Обняться – грудь к груди, бедро – к бедру. Очень волнующе. Иногда музыка из-за этого прямо в голову ударяет. В это время пальцами, ладонями можно деликатно обследовать тело девушки, тактильно и сенсорно выявить расположение крепёжных элементов её нижнего белья, а также и приблизительный его фасон.
Нина Андреевна на этот счёт ничем особенным не выделялась. В чём, после прогулок в роще при луне, осторожных, а потом уже и неудержимо-страстных поцелуев на прохладных травках, Вадику посчастливилось убедиться.
Ну, а дальше…
Дальше – Нина Андреевна зачастила к Вадику на работу. Потому что у неё были летние каникулы, а у Вадика – укромный отдельный офис с облупленным диваном. Посреди офиса с влажным земляным полом, правда, урчали мотор с насосом, чего, отнюдь, не являлось помехой для молодой пары.
То, что она невинна, Нина Андреевна подчёркивала на каждом шагу: девственное, мол, ложе, ещё не смято смертною рукой. Когда девушка об этом настойчиво рассказывает, всячески подчёркивает, то, ясный перец, с этим нужно что-то делать. Она ищет каких-то убедительных доводов, чтобы, при соблюдении всех необходимых приличий, устранить-таки досадную препону. Вадик всё это сразу смекнул и не стал тупо настаивать на отношениях, которые могли привести к позорной дефлорации. Он сделал вид, что девственность Нины Андреевны ему самому дороже всего на свете. Но, ведь можно как-то общаться, чтобы и волки были сыты, и целки целы. Целуя, и при этом, всё смелее и смелее поглаживая под одеждами Нину Андреевну, он заинтриговал её всякими таинственными намёками. Что, мол, если любишь, то можно всё и по-другому. И не будет никаких повреждений. А однажды, когда в его страстных объятиях несчастная девственница не находила себе места, он, словно бы невзначай подставил ей своего взволнованного, вздыбившегося, дружка. Нет, он не сказал ей пошлое: «Соси!». Со стоном, нежно, просительно, он прошептал: «Поцелуй…». Ну, и дальше пошло всё, как по маслу.
Вадик очень гордился своей педагогической победой. Он потом ещё много раз, для закрепления материала, повторил, что нет в их обновлённых отношениях ничего постыдного, что он понимает, как важно Ниночке до замужества сохранять свою чистоту. И он, как бы ему ни было трудно, никогда не переступит запретной черты, чтобы не навредить грядущему Ниночкиному замужнему счастью.
Ведь как бывает? Ночь. Луна. Поцелуи, праздник прикосновений. Уже произошло всё, даже признания в любви. Не было, только одного. Чего нельзя. И для девушки только нужны подходящие слова, чтобы и то, чего нельзя, стало можно. Что-то, вроде: «Сезам! Откройся!». Она уже готова, она уже ждёт этих слов. Но, ошибёшься, не то ляпнешь – и всё пропало. Сформулируешь обоснование из красивых слов – она твоя. В такие минуты красиво соврать – святое дело.
Созревшие девушки на пороге новой, взрослой, жизни мечтают, чтобы их обманули. Они хотят близости с мужчиной, но не так, чтобы мечту эту можно было произнести вслух обыкновенными словами. Когда вслух, открытым текстом – это уже грубо, стыдно. Да и вообще – как кто-то мог подумать, что они могут захотеть всего этого грязного безобразия! Но встречи с юношами, разговоры с ними, кажутся вполне безобидными. - Ну и что такого, говорит себе девушка, - если мы сходили с ним вместе в кино? - Ну и что, если он взял меня за руку? - Потом - Мы только поцеловались…
Потом… Юноша-старшеклассник убедил свою подружку что, если она станет «в стоечку», то есть, на четвереньки, то он ей сделает очень хорошо, и детей не будет. Всё, что мальчик до этого делал девушке и говорил, было, действительно, очень хорошо и нежно. Могла ли она сомневаться, что на этот раз он сделает ей что-нибудь дурное? Ну, встала, как он просил. Хорошо не получилось. Даже вышло больно, но вытерпела. Потом ещё несколько раз пробовали – не убедил её мальчик, что это так уж хорошо. Просто целоваться было интереснее.
А потом она ещё и забеременела.
Обманул? Наверное, немножко – да.
Но, ведь девушка для того и встречалась, она сама хотела этого обмана…
Однажды (наш герой опять выбрал подходящий момент) Вадик шепнул Нине Андреевне, что, если он очень осторожно постарается к ней войти, то всё её природное сокровище останется в целости и сохранности. На тот момент на учительнице не было уже не только трусиков, но и платья. А в руках она уже привычно сжимала то, чего, оказывается, могло в неё войти совсем безобидно. Она ещё раз осмотрела его со всех сторон – ну, да, ничего страшного. Даже – такой красивый! Поцеловала, отчего он ещё больше напружинился, заблестел своей глянцево-фиолетовой головкой. И – легла поудобнее. Вадик ещё попросил коленки развести подальше, чтобы, значит, обеспечить максимальную безопасность, истекающему соком, атрибуту невинности.
Получилось совершенно замечательно. Невинность даже не пикнула. В следующий раз Нину Андреевну уже и упрашивать не пришлось. Быстро сняла трусики, легла и широко-широко раздвинула коленки.
А тут ещё Вадику подвернулось медицинское пособие, где про эластичность девственной плевы был целый абзац. Выходило, что у некоторых девушек она может растягиваться, как резиновая. Вадик эту полезную, очень своевременную, строчку Нине Андреевне показал. Которая ноги уже так сильно не раздвигала, и осторожно с Вадиком допускала некоторое разнообразие поз, но хотела всё-таки своему смелому поведению иметь научное оправдание.
И наступила у них после этого яркая, насыщенная экспериментами и открытиями, полноценная любовь. Нина Андреевна была очень довольна, что, несмотря на сильное искушение, сохранила главное, чем должна дорожить девушка. Вадик радовался, что нашёл для подружки нужные слова. Они со стороны, может, и казались не очень убедительными, но роль свою сыграли.
Так радуется кандидат в депутаты, который, бормоча в народ одинаковые со всеми другими кандидатами слова, находит вдруг спасительную, очень чувствительную для электората, строчку.
Которая и приводит его потом к заветному депутатскому креслу…
Есть аксиома, которая говорит, что никакое счастье не только не может быть бесконечным, но и долгим. Праздник на Вадиковой улице кончился совсем неожиданно, и неприятность пришла со стороны, откуда он её никак не ожидал.
Нину Андреевну комсомольская власть наградила путёвкой на молодёжный семинар в Эстонию. Комсомол доживал последние дни, но мероприятия по инерции ещё катились. Вадик свою фею проводил. Десять дней – это практически туда и обратно. И, действительно, время пролетело быстро. В жаркий июльский полдень Нина Андреевна в ярком розовом платье легко сбежала к Вадику в землянку по прохладным деревянным ступенькам. Платье было короткое, плотно облегало девичью фигурку, и едва доходило до. Вернее сказать, едва прикрывало. Но рассмотреть обновку толком даже и не удалось. Полетел в сторону чёрный поясок, в другую – само платье. - Смотри, - хохоча и радостно подпрыгивая, звенела тоненьким голоском Нина Андреевна, - какие я себе купила блядские трусики! Трусики – крохотный полупрозрачный треугольник на верёвочках, который даже не мог скрыть пышной Ниночкиной растительности. Да и треугольник задержался на ней только на мгновение. Уже в следующую секунду лучшая комсомолка района, в чем мать родила, крепко повисла на шее у Вадика.
Встречу тут же отметили жаркой любовной схваткой на стареньком диване.
Теперь можно было и поговорить. Эстония – это почти заграница. Культура со всех сторон. Но, самое главное, на семинаре было столько интересных людей! Нина Андреевна принимала самое активное участие во всех обсуждениях, конкурсах и соревнованиях, которые проводились на молодёжном форуме. После соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки, к ней подошёл сам инструктор Пент Моориц и душевно пожал руку русской комсомолке. Он потом вечером узнал её на дискотеке и предложил вместе попрыгать. И Нина Андреевна с этим Пентом, в оставшиеся до конца семинара дни, целовалась. Ходили вместе на дискотеку, в бар – очень было весело. Пент всё хотел, чтобы отношения у них стали самыми близкими, но Нина Андреевна ему не позволила, хотя весь последний вечер они провели вместе, в номере инструктора. Ну, конечно, он целовал её груди. Чтобы не помять платье, сельская учительница повесила его на спинку деревянной кровати. Груди целовал, хотел стянуть трусики, но Нина была в этом месте неприступна, как скала. Ну, потому, что ей, как мы все знаем, ещё замуж выходить. И – потому что Вадика она уже, кажется, любила… В этот момент Нина Андреевна нежно прижалась к Вадику и со значением стиснула рукой его обмякшего, уставшего, дружка.
Вадик слушал этот озвученный поток сознания и думал, что, однако, как быстро взрослеют эти сельские девушки. Всего десять дней, а какая чувствуется в Нине Андреевне продвинутость! Чтобы поддержать беседу он спросил, просто так – а не брала ли она чего в рот от этого Пента. Рассчитывал, что они сейчас вместе посмеются такому его нелепому предположению. Нина Андреевна, и правда, рассмеялась: - Ну, конечно же! Он всё так мучился, так хотел КОНЧИТЬ… Мне его стало жалко…
– Ой, - вскрикнула Нина Андреевна, мне ещё нужно домой забежать, я чайник на плитке оставила! Быстро оделась, выбежала.
Вадик некоторое время лежал без движения. У него возникло состояние оглушённости. Ревность, что ли? Откуда ревность, если они с Ниной Андреевной про любовь никогда не заговаривали? Вот только сегодня у неё вырвалось. Да… Сегодня у неё много чего вырвалось…
Несколько последующих дней прошли, как в тумане. Любовь? Да, не любовь это. Хорошо вместе проводили время – и только. Да и дурочка эта Нина Андреевна. Какая может быть к ней любовь?
И, в то же время, было ощущение, будто какой спецназовец молниеносно ткнул его ножиком в грудь. Так, как они умеют – смертельно, а, в первые минуты, даже и не больно. И – ушёл…
А Нины Андреевны и не было несколько дней. Готовилась к августовским совещаниям, возила в город, в отдел народного образования, какие-то бумаги.
Прибежала опять, когда время уже было ближе к обеду. Весёлая, влюблённая. Опять кинулась на шею – соскучилась. Опустилась на корточки, стала деловито расстёгивать Вадику брюки. Привычно достала из недр твердеющего дружка. Захватила, пока он ещё маленький, всего в рот целиком, и стала дразнить. Вадик испытывал некоторое смятение. Он никак не мог определить своего отношения к этой девушке. С одной стороны – он испытывал сильное уязвление. Больно ему было в груди от страшного рассказа его юной подружки. С другой стороны – он очень ждал, когда она снова придёт к нему в прохладный погребок, ему хотелось…
А потом что-то вдруг помутилось в голове. Накатила злость. До ненависти – один шаг! Вадик с характерным звуком выдернул изо рта Нины Андреевны разбухший ХУЙ и наотмашь, ХУЕМ, дал ей пощёчину. На лице девушки отобразилось неподдельное изумление. Вадик развернулся и ударил хуем по другой щеке. Потом – опять и опять. Нина Андреевна бросилась к выходу. Вадик – за ней. Когда она взбегала по ступенькам, он огрел её хуем по спине. А потом погнался за ней по полю. Бежать с поднятым хуем было неловко, он поддерживал его рукой и, когда удавалось нагнать подругу, опять смачно, с растяжкой, с размаху, ударял её по спине, по плечам, ягодицам – куда удавалось на бегу достать. Нина Андреевна споткнулась, упала. Вадик нагнал её, остановился, взял в обе руки разгневанный ствол хуя, как бейсбольную биту, и собрался убить, заразу, совсем, к чёртовой матери. Нина Андреевна лежала на спине, прикрыв руками лицо. Платье от падения задралось выше живота, обнажив «блядские» трусы, треугольник которых сбился на бок, совсем всё раскрыв напоказ.
Вадик, правда, собрался её совсем убить. Вместо этого он что-то задержался, задумался, потом… рухнул на Нину Андреевну. Оторвал руки от лица и жадно впился в её губы. И одновременно хуй с усилием воткнул, вогнал, засандалил через низ живота, до самых гланд. Так, что Нина Андреевна вскрикнула на мгновение, перестала дышать. Но Вадик не останавливался. - Блядь! - Кричал он, отрывая губы от поцелуя, - Ёбанная в рот!!! - Матерщинными словами ругался. Но по смыслу, вроде, подходило. Да и не мог Вадик других на тот момент найти. И – целовал дальше. И – ЕБАЛ!!!
Никогда в жизни ему ещё не было так хорошо с женщиной. И – как признавалась потом Нина Андреевна, - ей тоже.
Когда наступила осень, они поженились. Вадик устроился в районную газету корреспондентом, потом дошёл до главного редактора. Жили они с Ниной Андреевной долго и счастливо.
Что, впрочем, не исключало ситуаций, когда журналисту приходилось опять брать в руки хуй и жёстко корректировать её поведение.
ПОЧТИ ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ НАТАШКА
Наташку открыл бывший поэт Коля Адамов. Тогда он был поэтом действующим. Здравствующим. Потому и открыл. Ведь Наташка умная была. Не только красивая, но и умная.
Коля увязался за ней на улице. Увидел симпатичную попку в джинсах - и поскакал следом. Он за всеми попками скакал, а тут ещё Гюльчатай, то есть, Наташка, и личико показала. Губки пухлым бантиком, щёчки-персики и - глазищи! Коля заговорил стихами. Теми, что всегда, и чем, бывало, часто пугал, непривыкших к такому обращению, актюбинских попок. Кроме Саши Чёрного, Коля читал и своё:
Вы знаете, ведь это - как болезнь Я должен видеть Вас ежеминутно И что я есть, и почему я здесь Я всё при Вас воспринимаю смутно...Наташка ответила сразу. Что-то типа:
Мы – рабы Рабы с момента зачатия Как только Природа совьёт из любви эмбрион...Вроде как достаточно, чтобы два молодых существа получили возможность для более близкого знакомства. Что они, собственно, вскоре и сделали, но Коля мне долго в этом не признавался. Рассказывал обо всех и всё. И про студенточку. И про уборщицу в подсобке овощного магазина. А про Наташку молчал. Уже после, когда Коля женился на красавице (конечно же! опять - красавице!) Ирине, когда прожил в далёкой Москве лет восемь или пятнадцать, он так, между прочим, обронил как-то в сторону пару фраз.
Не знаю, почему они - и Коля, и Машкович так стеснялись говорить о Наташке. Даже Машкович. Этот герой-любовник на сцене и в жизни, который рассказывал свои истории с женщинами так, что они казались страшной неправдой. У них в театре гибли рододендроны, если случайно им доводилось слышать рассказы Машковича о женщинах. Но - и он молчал о Наташке. А рассказал спустя лет десять или восемнадцать, когда жил уже в Талды-Кургане со своей красавицей и царицей над ним, Тамарой. Рассказал, а потом долго молчал.
Спустя двадцать-двадцать пять лет, и Коля, и Машкович, каждый в отдельности, как Бойль-Мариотт, пытались расколоть меня. Во мне подозревали счастливого преемника и ожидали, традиционного уже, смущения и грустного молчания по поводу пережитых катаклизмов. Но тогда мне нечего было им рассказать.
Я рассказываю сейчас.
В 70-е годы Наташка была красивой умницей-диссиденткой. За перса она вышла замуж именно поэтому. Она полюбила его поэтому. Он полюбил её за красоту, она его - в первую очередь, из диссидентской своей вредности. А не потому, как она потом пыталась версифицировать: сильный, стройный... Хотела идти всем наперекор, всё делать наоборот - и вышла за перса. Бросила институт, страну (продала Родину) - уехала с персом в Германию.
Органы госбезопасности не могли проигнорировать яркую индивидуальность в виде Наташки. Когда она вернулась из Берлина (Западного) обратно к маме насовсем, Наташку подвергли внимательной диспансеризации. По случаю любого праздника её вызывали на ул. Ленина1 - и спрашивали: а не Вы ли это, Наталия Васильевна, на заборе слово из трёх букв про русский член нарисовали? Наташка писала объяснительную, с неё ещё раз снимали отпечатки пальцев и отпускали.
Подозрительным в ней казалось всё: и то, что, играючи, окончила в Берлине (Западном) Академию художеств, что там же, с такой же лёгкостью, родила мальчика. Подозрительно было, что ушла от мужа, гордая, и приехала обратно от сверкающих витрин и сытого благополучия в нищету и грязь, под колпак НКВД2.
Когда она свободной своей, несоветской, походкой шла по ул. Карла Либкнехта, в кустах карагача неловко пробирался за ней бдительный филёр: а не выронит ли прокламацию где-нибудь в людном месте эта перерожденка?..
Так несколько лет прошли у Наташки. Потом, из-за подозрительных бёдер, у неё возникли любовные хлопоты с Адамовым Колей. Потом - с Машковичем. Уж так устроены эти женщины со своими бёдрами. Но... мужчины приходят и уходят, после них остаются дети. Наташка родила во второй раз, и в ней перемкнулись какие-то биологические контакты. Она располнела ровно в два раза. Увеличение фигуры произошло настолько стремительно, что первое время Наташка "не вписывалась" в дверь, задевала столы и стулья. Когда привыкла - пришла ко мне в гости. Потому что уехали Коля и Машкович, а я оставался, хотя и грустным, но живым напоминанием о приятной и весёлой когда-то компании.
Я не знал, что, кроме перемен чисто внешних, в Наташке произошли изменения нового, непонятного мне свойства. Она стала ведьмой, но я этого сразу не заметил.
Это, вообще, нормально, когда женщина, по прошествии определённого времени, становится ведьмой. Но для этого, как минимум, нужно, чтобы она стала вам близка, хоть каким-нибудь, боком. Никогда ко мне не приближался ни Наташкин бок, ни вся конструкция, в целом. Да и ведьмой она стала не ко мне, а ко всему миру.
Внешне это выглядело совершенно безобидно. Обыкновенные сеансы экстрасенсорики. Хотел, к примеру, сосед по даче, у меня кусок земли оттяпать - Наташка руки ко мне на плечи положила, возвела к небу жуткие свои глазищи - и, на другой день, сосед сам на вскопанной земле справедливую межу протоптал.
Вздумал Сашка Чернухин от курения отвыкнуть - Наташка со смешком попросила его представить жаркую, вонючую комнату, переполненную окурками пепельницу, грязные стаканы. Сашка сбежал. Потому что я, под руку шепчущей нашей ведьме, сказал ещё про потных женщин. - Насчёт женщин - сказал Сашка - мы не договаривались.
Но целых два месяца, и, правда, не курил, удивляясь сам себе.
В общем, в прошлом цивилизованная, прогрессивная и суперсовременная Наташка занялась, чёрт знает чем. В те дни я часто заходил к ней в маленькую квартирку на ул. Карла Либкнехта, развешивал уши, а Наташка пересказывала мне новые откровения, которые, прямо с небес, поступили к ней, вот только-только, минувшей ночью. По словам Наташки, по окончании курса небесных лекций, к ней непременно должна была вернуться прежняя стройность фигуры, и она уже стала замечать потерю своих гормональных привесов.
Потом, как я понимаю, у неё пошли гонки.
В те дни страшное убийство было совершено в нашем городе. Трёх милиционеров какие-то подонки зверски зарезали прямо на рабочем месте, в служебном помещении. Всю милицию подняли на ноги, и она сбилась с ног, разыскивая бандитов. А Наташка сказала, что знает убийц, знает, где их найти. И - впервые в жизни - сама пошла в КГБ, чтобы "заложить" преступников.
Бандитов поймали. Но Наташку это почему-то не удовлетворило. Она даже расстроилась. По её мнению, арестовать должны были и тех, кто организовал жуткое убийство. Там, в КГБ, она называла фамилии, но главные виновники так и остались на свободе. Они живут и здравствуют, разъезжают на роскошных машинах, они... управляют городом. Наташка ещё раз сходила в КГБ, но оттуда её с благодарностями, вежливо, выпроводили.
А Наташка, за чашечкой чая и парочкой собственноручных блинчиков продолжала рассказывать мне скандальные подробности из жизни людей, имена которых упоминать даже и неудобно. Она, якобы, видела, знает, сколько миллионов и кому было перечислено за аферу с кассовыми аппаратами, она знает, может пофамильно назвать всю цепочку людей, которые собирают по области дань для одного, весьма значительного, лица.
У неё это было просто. Она как-то астрально перемещалась, проникала в квартиры, подслушивала, высматривала.
Одним словом, как я уже говорил, у неё пошли гонки, которые можно было сформулировать так: за что боролись, на то и напоролись. Вечная диссидентка Наташка, за которой всю жизнь бдило и подглядывало недремлющее око госбезопасности, сама, в шизофренических своих мечтах обрела гнусные способности своих извечных врагов.
В последний раз я видел Наташку у себя на работе. Высокая, цветущая, всё-таки - похудевшая, постройневшая, она вошла в кабинет. Растерянная слегка. Рассеянная. Мы поговорили о пустяках. Таких, например, как предсказания, заглядывание в будущее, которые Наташка освоила буквально на днях. - А что? - издадут ли когда-нибудь мою книжку? - спросил я Наташку. Она взяла мою руку, закрыла глаза, подумала. - Ну, тебе ведь это и не очень важно, правда? - ответила. Добавила: - Да, тебя будут издавать маленькими тиражами. Очень маленькими. Твои книги станут семейной реликвией, их будут передавать сыновья внукам и - дальше.
(Что удивительно - ведь она оказалась права. Когда я умер, сын Витя привёл в порядок мои рукописи, набрал книгу в компьютер, и сделал вручную что-то, около десятка, экземпляров. Он пришёл ко мне на могилку, показал, как выглядит книга, полистал страницы...)
Но это случилось много позже. А тогда ушла Наташка, и я её больше не видел.
Мысли о ней неожиданно вспыхнули, когда юный гэбэшник Спивак-Лавров принёс мне посмотреть странную видеозапись. Он её сделал сам и поэтому пришёл ко мне пьяный, с перепуганными глазами. Я ему и раньше говорил: - Олежка, не бросай телевидение, не уходи ты туда. И говорил - куда. Человеку с добрыми глазами, читающему стихи, еврею к тому же - не место в органах нашей безопасности. Спасаясь от армии, Спивак согласился на сладкие посулы тайной нашей полиции, пошёл, будто бы, пресс-секретарём, и, по совместительству - видеооператором. Сначала было ничего, но вот вчера ночью...
...вчера ночью Спивака повезли с видеокамерой арестовывать какую-то умалишенную. Красивая женщина. Было лето. Она в свете автомобильных фар убегала в ёлочную лесную посадку около Актюбинского водохранилища. По ней стали стрелять. Пули сбивали её с ног, но женщина вскакивала и бежала опять. Потом её всё-таки окружили, взяли в кольцо, на окровавленную набросились. Изрешечённая пулями женщина визжала и сопротивлялась. Верёвка рвалась, её скрутили проволокой, надели наручники. Потом...
Потом, в ярком свете фар, кто-то, молодой и крепкий, ей молотком сноровисто забил деревянный кол, чуть пониже левой груди, туда, где должно быть сердце. Разорванная кофточка, красивая, забрызганная кровью, грудь...
Я узнал Наташку. Это была она. Сумасшедшая диссидентка. Красивая, как никогда, с колдовскими своими, закрытыми уже, глазами. Куда, в какую приёмную потащилась она делиться своими оскорбительными знаниями? И какой компьютер, либо чёрный колдун или упырь, взятый чекистами на довольствие, выдал информацию, что только осиновый кол может остановить Наташку, заставить её замолчать?
Ну, а дальше всё было совсем просто.
Вначале от несчастного случая погиб Олежка Спивак-Лавров. Потом - я.
____________________
1 – Лубянка по-актюбински
2 – “ты его, как хочешь, назови” – КГБ, конечно
январь, 1998г.
БУЛЬВАРНОЕ ЧТИВО
Небо грезило грозой. Цветные тучи в предзакатном солнце пучились и клубились. На востоке лучи солнца запутались в мелкой водяной пыли облаков, и с неба на далёкий лес упала двойная радуга.
Ниночка вышла к реке неожиданно. Хотя и не река вовсе - так, почти ручеёк. Берег порос молодыми тополями, талой. Коса камушков намылась, отмыла от основного русла живописное озерцо. Всё маленькое, карликовое. Речка, озерцо. Молодые вокруг деревья.
Ниночка собиралась искупаться где-нибудь от людей подальше. И остался где-то, дальше лая собак, посёлок Курайли1. Иволга хныкала в кустах. Грозилось на востоке чёрное, в красных пятнах, небо. Но здесь, на камушковой косе, было жарко и уже чуть оранжево от предзакатного солнца.
Когда никто не видит... Ниночка вначале убедилась, что вокруг никого нет. Ни одной человеческой живой души. Ни заблудшего рыбака. Ни бича мечтательного.
Когда никто не видит, можно поиграть с водой, с одеждой. Всё-таки представить, что кто-то подглядывает из-за кустов и зайти в озерцо поглубже, естественно, вынужденно, приподняв платье.
Потом выбежать снова на берег. Лечь на горячие камушки, как попало. Тепло солнца послушать на себе. Шелест узких листьев тальника; вода, побулькивая, перебегает где-то рядом.
...она всё-таки сбросила с себя дорогое английское ситцевое платьице, пошла в озерцо. В нём вода чистая отстоялась, согрелась в покое своём.
Уже собиралась Ниночка плюхнуться всем телом, окунуться. И тут из ровной глади водоёмчика, подобно фонтану, вынырнул мужчина. Страшно стало, конечно. А мужчина был еще к тому же обнажён и возбуждён, и того и другого испугалась Ниночка сразу, как только испугалась бурного восстания из тихой глади крохотного озерца. Кряжистый мужчина, молодой, глаза наглые, синие. Вынырнул, встал с водой чуть выше колен и в улыбке оскалился. Стоит - и к Ниночке не идёт, и обратно не ныряет. А вдруг пойдет? - подумала с женским страхом Ниночка и прикрыла рукой груди от наглого взгляда. Кинулась было второй рукой защитить себя больше, надёжнее, но только вчера, на рынке у ДСК2, купила за пятьсот тенге3 прелестные французские трусики из бежевого цвета, хлопка и воздуха. Были ещё за семьсот, из воздуха и цвета. Но у Ниночки не хватило денег. Вспомнила девушка и - поправила причёску. Разметались волосы от неожиданного испуга.
И тут мужчина шаг сделал навстречу Ниночке. Как тут не убежать? Тем более - непонятно, сколько он в этой воде сидел. Холодный, наверное.
Ниночка всё бросила и заподпрыгивала к берегу. Но тут - уж, действительно, ужас! На берегу, на круглых мелких камушках опять стоял этот взрослый, судя по волосам на груди, мужчина, и ждал уже к себе Ниночку. Вот сейчас она к нему подбежит, загорелая, пухленькогубая. Во французских своих...
Ниночка позабыла о приличиях и, уже не прикрываясь, вскрикнув даже, кинулась по кромке косы туда, откуда пришла. Хоть бы, какой рыбак попался, или пионер-следопыт. Вместо пионера, уже почти добежав до зарослей, уже почти спасена от развития приключения, Ниночка чуть не наткнулась опять на него, на этого весельчака, который стоял у неё на пути в кустах, ждал ее, и очень видом своим выдавал откровенное, агрессивное уже желание.
______________________________
1 – Курайли - Юлиус Фучик думал, что там разводят кур
2 - ДСК – рынок для бедноты в Актюбинске
3 - 500 тенге – 12 бут. водки (рус.)
Ниночка бросилась обратно.
Конечно же, там, у края косы, там, где она оставила свое английское летнее платье и лёгкие туфельки, там уже стоял он. Голый, как жених. Весь, как жених, которому очень не хватает невесты, который ждёт эту невесту, чуть ждать не замучился.
А невеста-то - вот она! Идёт - ещё далеко до суженого, метров пятнадцать. Но – идет. Сама идёт. Не убегает никуда. Вроде бы можно и побегать, и места много вокруг, и солнце ещё не село. А фигурка какая! А волосы... Красиво идёт, длинноногая. Не прикрывается совсем. Чего от суженого скрывать-то!
Ниночка шла навстречу этому непонятному мужчине, который её ждал. Ноги подгибались, но Ниночка заставляла себя двигаться шаг за шагом туда, где было платье, туфельки, туда, где стоял, в однозначном ожидании, мужчина с волосатой грудью.
Лунатически последние метры она прошла, остановившись близко купольной грудью от него. Мужчина заставил Ниночку поднять глаза, поймал ее взгляд. Странно. Он казался ей выше. Положил на голые плечи руки. Они, волосатые, сделались тяжёлыми, и ей пришлось опуститься, стать на колени. Ниночка ничему уже не сопротивлялась. Суженые, они, наверное, все такие. От них никуда не уйдёшь. Суженый - это изощрённо скрытая форма фатального насилия.
Всё-таки тёплый мужчина, безвольную Ниночку, как попало, принудил к сожительству. В финале прокричал, провыл чего-то. Поскрежетал зубами. Кое-где от рёва оборвались, осыпались тополевые листочки, завяли лютики.
Эхом где-то на востоке отозвался гром.
Потом он оставил Ниночку так же, коленопреклонённой, с уронившимися к земле волосами. Сделал несколько шагов обратно к себе в воду, в своё озеро и пропал без кругов среди глади в глубине, как будто его и не было.
Еще в оцепенении, механически, Ниночка поднялась, собрала вещи. Начинался закат. Его апельсиновые краски густели. Гроза так и не пришла. Ругаясь тихими громами, утихла потихоньку.
Не надевая платья, Ниночка пошла обратно, к поселку Курайли. Когда послышался лай собак, она всё-таки решила одеться.
10.06. 97г.
***
Машкович, от нечего делать, решил снять фильму. Так - для себя, для друзей. Немного юмора, немного эротики, слегка жутковатый. До этого в Актюбинске серьёзных фильмов не снимали. Пробел в культурной жизни - ничего не скажешь. Машкович однажды напился в гараже с Сашкой Чернухиным и предложил снять совместную фильму. Обрисовал в двух словах: нужны актрисочка, актёр и кинокамера. И - всё. На большее в городе Актюбинска рассчитывать нечего. Съёмки производить на натуре. Понадобится лето, речка, солнце. Всё это у нас бесплатно. Поэтому снять фильму возможно вполне.
Кинокамера у Сашки Чернухина была. Он работал оператором на местной телестудии. Машкович там же работал полгода режиссёром. Потом его выгнали по собственному желанию, потому что, несовместно с должностью, носил бороду и потёртые джинсы. На областной телестудии бороды носить в те времена было зазорно. К заслугам Машковича можно было отнести ещё и то, что его таскали в КГБ за чтение Булгакова и Солженицына. За фильму его могли даже посадить.
По сценарию Машковича, актрисочка должна была выглядеть на берегу речки в облике, оскорбительном для советской морали, а её партнёр - тем более. К тому же, преступно мыслящий Машкович, рассчитывал снять между ними сцену орального секса. В стране, где секса не было вообще, за такое могли расстрелять. Но искусство требует жертв. Машкович на сцене настаивал. Тем более что сценарий свой он писал, уже исходя из реалий, на конкретных людей.
Кто, например, мог согласиться подпольно безобразничать перед камерой с угрозой последующего расстрела, какая такая сумасшедшая актриса? Для этого нужны были свои люди. Родные. Например, Чернухин мог сыграть фатального злодея, Алла Владимировна, из Комитета по охране гостайн в печати, вполне могла справиться с ролью, потерпевшей по сценарию, Ниночки.
Когда-то Алла Владимировна была любовницей Чернухина. Вернее, между ними два или три раза происходила разнообразная половая связь. Без любви. Просто из взаимного уважения и для удовольствия. А влюбилась Алла Владимировна в Машковича. Бывает же так - любишь одного, а приходится - с другим. Кроме Чернухина, у Аллы Владимировны был, разумеется, и муж. Но не в этом дело. Она так полюбила Машковича, что не ощутить этого было невозможно. В присутствии Машковича молодая женщина прямо-таки дышала сексуальностью. От одних одежд возле неё с ума можно было сойти. В какой-то момент Машкович сорвался, чуть не изничтожив пылко на Алле Владимировне очередное просвечивающееся платье. Но - обычное свинство природы! Сам Машкович на тот период испытывал бесполезное влечение к подруге и сотруднице Аллы Владимировны. Сотрудница никак не отдавалась, Машкович страдал и писал ей письма утром, в обед и вечером. Выглядели они примерно так:
"... Этой ли, невинно-юной пишу я свои мысли? - думал я, глядя на тебя, стройную, ореольную, высокую, как Мечта, когда ты, среди обыкновенных, стояла у двери к начальству. Всяк мог видеть твою затерявшуюся в разрезе коленку, грешен, не удержался и я.
Можешь, могла забыть через такое длительное время, каждодневно беззвучно с тобой говорящего. Мой Храм Прекрасноокий. Не разрушайся, не пропадай…”
Оторвавшись на Аллу Владимировну, Машкович не прекратил своих домогательств к её хладнокровной сотруднице. Одно из писем было даже как-то перехвачено Аллой Владимировной, с ней случилась истерика, она чуть не разошлась с мужем. В общем, для фильмы она вполне подходила. Образованная, с красивой фигурой, одинаково родная, как Чернухину, так и Машковичу. Могла хранить тайны.
Там же, в гараже, друзья порешили не откладывать дела в долгий ящик, и снять фильму в ближайшую субботу. Пока июнь, пока солнце. Пока степень хрупких родственных связей могла позволить использовать их бескорыстно на благо киноискусства.
Аллу Владимировну Чернухин взялся просто пригласить "на пикничок", не посвящая в окончательные коварные планы сложившегося творческого объединения. Они продолжали встречаться время от времени. С Чернухиным Алла Владимировна заглушала возникавшую у неё душевную боль.
А не получилось всё из-за пустяка. В условленном месте друзья договорились встретиться. Естественно, на речке Илек, у посёлка Курайли, по сценарию. На автомобиле марки "Запорожец", вместе с кинокамерой, Сашка Чернухин должен был доставить и Аллу Владимировну. Провести с ней короткую подготовительную беседу, посвятить, так сказать, в курс дела. Чуть-чуть напоить. Если девочку напоить, можно делать с ней всё, что хочешь. Даже снять с ней фильму.
Часиком позже, на готовенькое, должен был на попутке подъехать Машкович, через ДСК, с французскими трусами. Если подвыпившей советской женщине показать, а потом даже подарить настоящие французские трусы, то не только можно с неё снять трусы фабрики "Большевичка", но и снять с ней любую фильму.
Только одно беспокоило режиссёра Машковича в ночь перед съёмками. Получалось, что Чернухину выпадало играть роль героя-любовника. У него и волос полно на груди, и эрекция возникает сразу, после включения кинокамеры. Но тогда из двух остававшихся членов конспиративного творческого объединения оператором становился непрофессионал-Машкович. Таким образом, с операторской стороны картине предстоял явный ущерб.
Только одно это - операторский свой непрофессионализм, и беспокоило начинающего кинорежиссёра в ночь перед съёмками.
Но всё равно ничего не получилось. Подъехавши на попутке к условленному месту, Машкович никого там не нашёл. А место вообще было гиблое. Туда нога человека никогда не ступала. Машкович постоял, посидел на жаре полчасика, утирая лицо французским хлопком и воздухом, потом плюнул, сел на свою попутку и уехал. Не отпускал он от себя попутку на всякий случай, чтобы не пропасть одному в гиблом месте у посёлка Курайли.
ВОТ ПОТОМУ-ТО, ГДЕ ПОПАЛО, И НЕ ВОЗНИКАЮТ ХОРОШИЕ ФИЛЬМЫ. ОНИ НЕ ДЕЛАЮТСЯ С БУХТЫ-БАРАХТЫ, НАСКОКОМ, С КОНДАЧКА. И ЗА ВСЁ, В КОНЦЕ КОНЦОВ, ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ. ГДЕ - ДЕНЬГАМИ. ГДЕ - РУХНУВШЕЙ МЕЧТОЙ.
Когда в чайной посёлка Курайли, куда от горя заехал Машкович, когда в этой жаркой чайной он запивал своё горе тёплой водкой, в это время к условленному гиблому месту подкатил на своём "Запорожце" Сашка Чернухин. То ли он время попутал, то ли "Запорожец" на жаре не хотел заводиться, хотел на холоде - сейчас это уже не важно. Фильма - то всё равно не получилась.
Но Сашка проделал всё, как договаривались: усадил Аллу Владимировну в тенёчек, на коврик. Проверил кинокамеру. - А зачем это? - спросила Алла Владимировна. Сашка напоил снявшую платье женщину, потом принялся объяснять концепцию предстоящего фильма. На оральный секс Алла Владимировна согласилась, но - без камеры. Машковича всё равно не было, а Алла Владимировна - вот она - сидела рядом, улыбалась, и как-то уже очень глубоко, пронзительно смотрела в глаза Сашке. Секунды две Сашка ещё колебался. Машкович очень просил поберечься, без съёмок не тратиться. Но даже: не дав истечь второй секунде, Сашка набросился на улыбку Аллы Владимировны. Эх! Молодость, молодость!
ВОТ ПОТОМУ-ТО ГДЕ ПОПАЛО, КОГДА ПОПАЛО, И НЕ ВОЗНИКАЮТ ХОРОШИЕ ФИЛЬМЫ.
Ведь - чего тут греха таить - выходит, что Сашка Чернухин больше тогда о себе думал, чем об идее фильма.
В тот день он ещё психанул на Аллу Владимировну. Ну, ясно, что любит она другого. Что оживилась, услышав про Машковича, хотела, наверное, увидеть. Собственно, любви от неё Сашка и не добивался. Просто - человеческого отношения. Но, когда Алла Владимировна вдруг брезгливо дернулась, и бесценный Сашкин перламутр невостребованно разбрызгался у неё по волосам, Сашка психанул. Покурил. Походил туда-сюда по гиблому месту, не замечая горячести песка. Чеша время от времени свою волосатую грудь.
Потом сгрёб в кучу закуски, остатки шампанского и, сославшись на комаров, позвал Аллу Владимировну ехать обратно.
Она ещё пыталась в машине, на ходу, допить шампанское, но Сашка со словом "мать" вырвал у нее из рук бутылку и вышвырнул в открытое окно, добавив ещё несколько слов. Вот так он, наверное, справедливо, психанул на Аллу Владимировну. Хорошо ещё, что не ударил. Умеет Сашка с женщинами обращаться, за что они его и любят.
Только Алла Владимировна в него не влюбилась. Наверное, всё потому так и вышло.
Потом, в гараже, Машкович и Чернухин обсудили ситуацию. Выпили очень хорошо, потому что решили ещё раз собраться и фильму всё-таки снять.
НО ХОРОШИЕ ФИЛЬМЫ, КАК ПОПАЛО, НЕ ДЕЛАЮТСЯ.
Они так и не собрались.
13.06.97г.
(эстафета)
Длинный полупустой и светлый автобус ехал за город. Возможно, он ехал в Курайли. Возможно - в Мартук1. Кинси хотелось попасть за город. На ней было короткое белое платье без рукавов. От платья ли было так светло в автобусе? Но и за окном было ярко, зелено. После пересечения городской черты, после шлаковых гор и оскорбительных линий городского пейзажа, всё, что замелькало мимо, изменило свои названия. "Сегодня" стало "нынче". Трава превратилась в "травостой". Наездник на ишаке - "труженик села в будни", потому что светлый день поездки Кинси назывался тогда понедельником.
Все окна были открыты в автобусе. Жары не чувствовалось. Ветерок гулял по салону, платье Кинси хотелось улететь.
Желания Кинси двоились. Она была не против улетевшего платья в такую жару, но и приятно было ощущать его на себе порхающим. Платье осталось. А Кинси вспомнила о парне своей мечты.
В жизни он не встречался ей. Одному, на него похожему, она даже отдала как-то свою невинность. Они потому и расстались, что парень был просто похож. Где-то в толпе людей опять иногда мелькало знакомое лицо. Как мираж, пропадало.
В 22 года, как воды в пустыне, хочется любви, любимого. Торопя события, юность бежит навстречу, принимая очередной мираж за последний подарок судьбы.
Кинси вспомнила своего желанного. Забыла. Автобус летел, мчался, и странно выглядели люди в нём. Только сейчас Кинси обратила на них внимание. Все улыбались. Просто улыбались - и всё. Старушка смотрела куда-то вбок и улыбалась. Лысый мужчина со своей полузастывшей улыбкой сидел, глядя в занавеску. И, улыбаясь каждый чему-то своему, молча сидели все, как покойники. Пассажиры, конечно, сидели живые, но - как покойники. Потому что так улыбаться человек может только после смерти.
Кинси сошла одна. Мимо речки Илек по тропинке она должна была...
Зайти к бабушке.
Повидать знакомого тракториста Леонида, любителя собачьего мяса. (Если в тех местах, чего не исключено, могла оказаться бабушка. Или - любитель собачьего мяса, многодетный тракторист, Леонид).
Так, по пути к неизвестно куда, Кинси вышла к речке. Прекрасной речки Илек ещё не было видно. В зарослях тальника впереди где-то она струила тёплые свои, слегка хромированные, воды. Лежало поле песка перед Кинси. Чистого, ослепительно белого. Ровное поле раскалённого солнечного песка, по которому не ступала нога человека, редкая птица над жаром которого рисковала пролететь.
Но в тапочках к речке можно было пройти. Может быть, и к бабушке.
Его Кинси увидела случайно. Нет, не Леонида, любителя собак. А... того самого парня. Из мечты. Она тысячи раз себе его представляла - и в офисе, и в смокинге, и на площадке для игры в гольф. Но такого - никогда. От скромности ли? Или потому, что мечта не бывает голой?
____________________________
1 – Мартук – мортык (каз.) – травка - по версии краеведа Афанасьева
Её красавец дрых на берегу. Рядом – одежда, сигареты. Вокруг из песка - зелёные мохнатенькие хвостики талы. А на песочной полянке, искупавшийся, видно, уже юноша, валялся и спал совершенно обнажённый. Взгляд Кинси невольно задержался. Потом она отвела его в сторону, а он опять пришёл.
Шурша, Кинси безразлично мимо мечты двинулась, надеясь пробудить. Парень спал. Ему было на фик всё равно, кто ходит вокруг, кто на него смотрит. Кинси подняла прибрежный камушек килограмма на полтора, швырнула в речку. Никто вокруг даже ухом не повёл. Узнать бы, как зовут мечту... - А меня Кинси - подумала Кинси, а потом и тихо произнесла это вслух. Без результата. Дальнейшие действия Кинси были следующими: чтобы победить неловкость, майкой "Мегадет", которая валялась рядом, она прикрыла основной раздражитель внимания. Потом она сидела рядом, обхвативши колени. Хотела насмотреться на лицо. Она давно любила это лицо. Но оно могло проснуться и оказаться женатым, пьяницей, хамом, или - ужас!!! - чересчур порядочным.
Насмотревшись, Кинси в ладонях принесла речной воды, брызнула на лицо, на грудь. Избранная мечта морщилась, дальше спя. Виновата ли после этого Кинси, что сдёрнула майку "Мегадет", потом коснулась, потом поцеловала. Не просыпался парень - это его проблемы. Кинси отбросила условности, прильнула. Она осторожно, потом страстно совершила молитву любви над спящим юношей. Не просыпаясь, он стал готов быть возлюбленным.
Что и свершилось. Что и не заставило себя долго ждать.
Виновата ли Кинси, что, любя уже давно, решилась присесть на символический космодром? На этот раз уже почему-то осторожно, боясь разбудить.
Какие сны видел, безнадёжно спящий, её красавец?..
Восторг наступил почти сразу. Кинси устало провела ладонью по слегка волосатой груди. Постепенно, послойно возвращалась реальность. Стал заметен ветерок. Песчинки собирались в метель, осыпались на холмиках. Кинси взглянула на лицо юноши. Знакомое, любимое лицо. Но... странная улыбка появилась на нём. Как там, в автобусе, у пассажиров. Кинси внезапно стало холодно. И ветер сильнее подул, и песок стал заносить, засыпать тело юноши. И кожа его начала трескаться, а на лице как-то стягиваться. Улыбка разорвалась в оскал; всё ещё сидя, Кинси почувствовала под собой расползающуюся плоть и кости скелета.
Кто может такое выдержать? Даже, если вы очень человека любите, у вас есть предел восприятия его отличительных особенностей.
Кинси вскочила, так сказать, в ужасе. И побежала сквозь кусты, под собою не чуя ног. Толком так и не оделась - в одном платье, куда глядят глаза.
А перед глазами пробежали и пышный травостой, и заросли тальника, и поле, огромное поле горячего белого песка.
Она долго бежала ещё потом, когда сил уже не было. Она потом упала на красивой зелёной лужайке. Упала без чувств, без движения, в белом своём платье, разметав, без умысла, красивые обнажившиеся ноги. В спасительном забытьи.
03.06.97г.
***
Ясно. Безветренно. Зелено. Тепло. Почему бы бабочек не половить? Молодой человек, по внешнему виду очень похожий на Горбачевского1, пританцовывая, шёл по лугу. Любитель-энтомолог он был. В хорошую погоду наденет шортики, шляпку, захватит с собой сачок и - к природе. Очки у него, конечно, были, и - приличная к очкам рассеянность. По имени он был, может быть, даже Артур. Да, да, иного имени у него и не могло быть. Точно, Артур. Значит, так: очки, шляпа, шорты, сачок. Между очками и шортами, допустим, майка. Или просто бабочка-галстук-киска. На резиночке.
Шёл, пританцовывая, напевая свои тирольские песенки, Артур. Увидит бабочку, притаится в кущах чилиги или вереска. Потом, обратите внимание: как кот, приподнимает напряжённый зад и нервно водит им из стороны в сторону - туда-сюда. Туда-сюда - и замахивается сачком, чтобы предотвратить полёт невесомой крылатой тварюшечки.
Редко когда удача преследовала молодого неженатого энтомолога. Ещё реже она его настигала. Хотя - смотря что называть удачей. Бабочки со смехом улетали, а Артур оставался. Очаровывался внезапной прелестью полевого цветка или даже былинки, согнувшись, долго разглядывал через толстые свои очки обыкновенное чудо природы. Зачем ему бабочки? Ему и женщины не были нужны. И девушки. Потому что Артур был однолюбом. В очереди за мороженым...
...в очереди за бутылкой превосходного "Кагора", он увидал как-то одну пирамидальную прелестницу. Ещё смешливостью, светловолосостью она отделялась среди всех. Артур пытался протиснуться к ней, рассказать про бабочек и подарить суслика, но давка за "Кагором" усилилась, бутылки стали передавать через головы, какая-то дамочка, подпихиваемая локтями почти в эпицентре, зубами выдернула из бутылки пробку и стала пить прямо из горлышка. Вино плескалось и куда надо, и куда не надо. Артуру стакана два вылилось на его галстук - киску, и он пошёл стираться.
Очередь сосредоточилась на льющейся из бутылки кровавой струе, люди ловили бесплатный хмель ладонями, ртами и одеждой. Артур пошёл стираться. Девушка пропала. Светловолосая. Не ведая того, сама, она оставила Артуру в ушах свой колокольчиковый смех, а, где-то на внутренней поверхности его черепной коробки, спереди, на чёрном фоне - своё светящееся изображение. В грустные минуты (например, когда у Артура пропала его любимая собака доберман кобель Эврик), в грустные минуты Артур призывал к себе на внутреннюю переднюю пластинку черепа свою радость - смеющийся светящийся облик. Бывают же в мире прекрасные и совершенные женщины, пока с ними не ознакомишься поближе.
Бегая по летнему лугу, маша сачком, Артур совсем не предполагал встретить свою девушку. Среди мягкой пушистости длинной травы, в тени пожилой берёзы, она разметалась свободно, как будто на бегу уснув. Кроме платья на ней не было ничего лишнего. Артур покраснел. Давала о себе знать неженатость, нетронутость.
Артур бросил сачок. Кинулся в заросли глубже, туда, где росли ландыши, орхидеи, тюльпаны и розы. Охапки снёс к своей девушке. Накрыл, скрыл ландышами девические тайны. Через ландыши касался любимой своей, дрожали руки у Артура, он не понимал, у кого это сон, кто спит. Лучше, если спит она, светловолосая. Пусть поспит подольше. Мало ли кем она может проснуться...
Разбросав вокруг синие, алые, жёлтые, белые, оранжевые тюльпаны, Артур принялся за розы. Отделял от колючек, лепестки обрывал, осыпал лесную свою принцессу. Она спала, спала, удивительная. Долго спала. Тёплая - Артур чуть коснулся плеча. Если проснётся - всё равно от судьбы не уйдёшь.
Девушка не просыпалась. Ресницы дрогнули, перевернулась чуть, осыпались ландыши. Сороки могли увидеть. Соловьи. Мог увидеть выхухоль нескромную во сне нимфу. Прикрыл её Артур губами. Лицом. Почему-то даже слеза у него выкатилась, скатилась, упала сразу на тело девушки, горячая; смело, непредсказуемо упала, обожгла не загоревшую среди смуглости кожу, где-то у выпирающей косточки на краю живота, пахнущего ландышами.
______________________________
1 – Горбачевский – интеллигент города Актюбинска
Артур сорвал с себя свою киску-галстук...
Может, это был сон на двоих. Для двоих. Слов таких никогда никому не говорил Артур. Он даже их не знал. Они родились и выплеснулись в горячечном любовном шёпоте. Девушка, не открывая глаз, ответила ему. Любимый! - много раз тихо вскрикивала она и почему-то плакала.
После она даже не захотела взглянуть на цветы, на Артура. Она сделала вид, что спит дальше, что даже не просыпалась. И лицо её сначала сделалось другим, не таким, каким оно было у неё, любимой. Да, да, чего уж тут скрывать через обиняки и экивоки, ведь шила в мешке не утаишь. Потом, как догадываемся мы, но Артур ещё ни о чём не подозревал - потом лицо девушки стало странно морщиться, и мелкие кровянистые полоски, трещинки побежали от лица по телу. Плесенью покрылось белое платье, истлело на глазах, кости скелета проступили сквозь оседающую, распадающуюся плоть.
У Артура все волосы встали дыбом. Он первый раз в жизни видел такое. Позабыв, что стал мужчиной, он вскочил и кинулся прочь, куда глаза глядят, они глядели, куда попало. Артур даже не нацепил своего галстука, он забыл про него, не говоря о фирменных шортах. Он упал возле какого-то сарая. Упал, потому что устал. Потому что не мог больше бежать. Он не мог больше кричать. Сквозь кусты, без тропинок, вслепую, с ужасом, сквозь ужас, он бежал, и ещё кричал, оказывается.
Когда Артур упал, он уснул. Сразу крепко, провалившись подальше от ужаса в небытие. Было вздыбившиеся волосы его, успокоились. Улеглись. Дыхание установилось. Сон всё лечит. Время всё лечит.
Красивый, у какого-то сарая лежал, спя, как будто упав на бегу, но, успокоившись, лежал во сне прекрасный, как юный греческий бог, молодой, будто всё ещё впереди, Артур...
6.06.97г.
* * *
Никто не мог подумать, что, спустя годы, Машкович действительно станет кинорежиссёром. Великим. Сначала из Актюбинска (республика Казахстан) он уехал в Израиль, потом - в Америку. Его фильм "Эстафета" получил неожиданное признание. В Каннах ему (неизвестно за что) присудили Золотую пальмовую ветвь, в Голливуде - пять Оскаров.
Машкович, которого никак нельзя было упрекнуть в недостатке бредовых идей, решил найти старого друга и соратника Сашку Чернухина и доснять-таки с ним т о т фильм. Самый первый. Самый дорогой, потому, наверное, и памятный Машковичу.
Сашка уже собирался в Германию. После того, как его, трезвого, избили в суверенном вытрезвителе, он сразу же согласился на уговоры тестя и мигом подготовил все документы.
Друзья опять встретились в гараже и опять выпили. И снова каких-то 4 - 5 дней отделяли их от решающего дня съёмок, а потом, естественно, от всемирной славы. Машкович припёр из своей Америки кучу техники, все номера гостиницы "Илек" были превращены в уборные, и их забили гримёрами, каскадёрами и парикмахерами. Лучшую проститутку для Сашки Чернухина выписал из Лос-Анджелеса Машкович. Она, к тому же, была ещё и киноактрисой.
Но тут в местные властвующие структуры, из самых властных верхов, обвалился документ, который вне закона поставил в городе Актюбинске фильмы Спилберга, Тарантино и... Машковича. И, если раньше кто-то ещё путался в разграничении эротики и порнографии, то умный документ теперь всё чётко разграничил. Если в фильме длина мужского пениса у артиста не превышала семи сантиметров, то он относился к разряду эротических и допускался к просмотру в закрытых аудиториях. Жаждущие острых ощущений эротоманы должны были предъявлять на входе страховое свидетельство, справку из психдиспансера, справки об оплате коммунальных услуг и налога на эротическое кино. Залы для просмотра рекомендовалось устраивать отдельно для мужчин и женщин, со специальными бытовыми комнатками.
Появление на экране, даже бездействующего, пениса, длиной свыше семи сантиметров, определяло жанр картины, как порнографический, а её авторы, хранители и исполнители автоматически становились отпетыми уголовниками, по которым враз, наперебой, стали плакать все неприватизированные тюрьмы.
Машкович сгоряча предложил Чернухину укоротить себя до эротики и фильм всё-таки снять. Пристал к нему с линейкой, хотя и так было видно, что обрезать придётся много. Искусство, конечно, требует жертв, НО НЕ ТАКИХ ЖЕ - сказал Сашка. - Мне, Валюха, через пару недель в Германию, языка не знаю, специальности нет, надо же как-то, хоть первое время, сводить концы с концами...
Машкович всё ещё на что-то надеялся, но в гостиницу, прямо к нему в уборную, заглянул милиционер-полицейский и объявил рыжую американскую морду "персоной нон грата". Припомнили ему и всемирную известность, и бороду, которой Машкович когда-то дразнил беззащитные власти. Машкович послал - как от сердца оторвал - в областную администрацию приму-проститутку. Пришла через двенадцать часов в роскошном чепане, в синяках и укусах. Сказала, путая чистый свой английский, с чистым русским матом, что дали три дня отсрочки для того, чтобы этот поганый Машкович смог попрощаться со своими родственниками. Родственником можно было считать только необрезанного Сашку.
Друзья напились в гараже до ишачьего крика. Козе понятно, что ДАЖЕ АМЕРИКАНСКИЕ ФИЛЬМЫ НЕ ДЕЛАЮТСЯ В АКТЮБИНСКЕ С БУХТЫ-БАРАХТЫ.
Когда они оба уехали, мне, человеку постороннему, стало отчего-то грустно. Мне показалось, что, вместе с ними, эмигрировало что-то прекрасное, хотя легкомысленное и греховное. Как будто вместе с ними, персонами "нон грата" в нашем городе стали легенды и сказки, красивые женские ноги, улыбки богинь.
Вместе с Машковичем и Чернухиным Сашкой, они уехали туда, где и так всего хватало.
Мне сделалось одиноко и страшновато от мыслей, что как-нибудь и ко мне постучатся в дверь и укажут на дверь в моём родном и любимом городе.
И ещё страшней, если не заметят, не зайдут. Значит, я уже, как все. Как все, кого не выгнали. Кто остался.
17.06.97г. 17.09.97г.
СТРЕСС
Тороплюсь. Зябко что-то, зуб на зуб не попадает. Гости уже, наверное, собрались, а меня нет. Ну – бывает. Причина у меня уважительная – простят. Такой стресс пришлось пережить… Расскажу – все ахнут.
Да, вот и дом. Во дворе полно машин. Даже с заграничными номерами. Интересно, кто это? Сейчас зайду – сразу всё узнаю. А зайти попробую незаметно. Посмотрю – кто приехал, что обо мне говорят…
Пробираюсь на цыпочках, через коридор, уставленный туфлями, сапогами и ботинками моих гостей. Ну, вот! Не дождались-таки! Уже все расселись и приступили к еде. Никакого уважения к виновнику торжества, то есть – ко мне. Ладно, я ещё им выскажу. Всем и каждому в отдельности.
Меня до сих пор никто не заметил. Увлеклись едой, болтают. Как с голодного краю. Но пришли ещё не все. Есть свободные приборы. Я тихонько присаживаюсь с краю. Сам проголодался. Посижу, перекушу. Заодно понаблюдаю. Так даже интереснее.
Ага… Сашка Чернухин там выступает. Ну, чудик. Не писал, не писал, а тут вдруг взял, да и приехал. Чего-то бормочет в тарелку. Лицо красное. Самогон у меня крепкий. Чистый. При изготовлении отбрасываю безжалостно первую поллитру – там самый яд. До конца тоже всё не собираю. В конце вместе со спиртом выходят вонючие сивушные масла. Средняя часть потом проходит обработку марганцовкой, после чего в каждую трехлитровую банку с водкой вливаю пятьсот граммов парного молочка. Мой «Абсолют» - самый чистый. Когда отстоится – можно заняться оттенками – добавить лимонной мелиссы, чабреца, боярышника. Где достаточно просто щепотки полыни.
Нынешнюю партию с месяц готовил. Хватило бы отгулять хорошую свадьбу. Вон я вижу Горбачевского – он сегодня точно под столом будет валяться.
О! Тут и Валька Машкович! Валентин Леопардович. Сто лет не виделись. Будет чего вспомнить. С Валькой в мою жизнь впервые вошло понятие «диссидент». Машкович был классическим диссидентом. Длинные волосы, рыжая, всклоченная борода, потёртые, в обтяжку на худом теле, американские джинсы. Валька органически не переносил коммунистов и чекистов.
У Машковича была небольшая, но качественная библиотека. Кафка, Ионеско, Мандельштам, Рильке, Солженицын. Редко в какой из книг не было библиотечного штампа. При мне Машкович вынес под рубахой из Ломоносовской библиотеки Бабеля, которого знал почти всего наизусть. Он сделал это красиво: задержался около библиотекарши, наговорил ей кучу комплиментов, задал несколько вопросов профессионального характера - про библиотеку. Терпеливо выслушал ответы. В общем, оставил о себе самое благоприятное впечатление.
Хорошо поставленным актёрским голосом Валентин читал мне «Одесские рассказы», и я тоже влюбился в Бабеля. Я попросил Вальку подарить мне обшарпанный краденый томик. Он долго мялся. Не потому, что ему очень был нужен этот Бабель – дарить просто так, бесплатно, ему было больно. Сошлись на том, что за подарок я отдам ему альбом Эрзи.
А ещё Машкович читал мне рукописного Булгакова. «Собачье сердце», «Роковые яйца» Я ему читал свои первые рассказы. И потом дарил четвёртый или пятый экземпляр вынутого из-под копирки машинописного шедевра.
Когда Машковичу на хвост упали кагэбешники, он сжёг в титане и Булгакова, и Солженицына и меня, что до сих пор наполняет моё сердце особенной гордостью.
Чистые руки чекистов до Машковича всё-таки дотянулись. Его не арестовали – нет. За что? Трое суток Вальку продержали на местной Лубянке, выпытывая пароли и явки. Потом – отпустили. И не тронули даже пальцем. Что казалось странным, но мы себе объяснили это так: не те сейчас времена, чтобы даже таких откровенных и наглых диссидентов, как Машкович, оскорблять физическим воздействием. Ошибались. И рано радовались.
Спустя неделю какие-то подонки схватили Машковича на улице, впихнули в УАЗик, вывезли за город и там избили сапогами. Ничего, правда, не сломали. Машкович постучался ко мне часа в 4 утра. Нос, рассечённый до кости, опухшее разбитое лицо. В холодной осенней грязи рубаха и фирменные джинсы. Он был сильно напуган. Думал, что в живых его не оставят. Оказалось, что ещё так счастливо отделался.
Валька отогрелся в горячей ванне. Я дал ему сухую одежду. Мы пили чай. Даже понемногу стали шутить. Лицо Машковича я сфотографировал. На память о семидесятых. Когда весь советский народ жил дружно и счастливо.
Но нет. Не всё было так мрачно и безысходно в те времена. И не только о литературе и о политике чесали мы на кухне языки с Машковичем. Его истории с женщинами… Я знаю, что они его любили, как кошки. За что? Тощий. Потом уже – и старый. Никогда у него не было денег. Все романы Вальки протекали бурно. Любовь. Ревность. Ненависть. Страсть – всё с большой буквы. И все они имели грустный конец. Потому что, во-первых, на каком-то этапе своей очередной любви до гроба, Машкович вдруг вспоминал, что по-настоящему он любит всё-таки свою жену, Тамару Яковлевну. Извинялся, плакал и женщину, которая ему отдала всё, что можно, и даже то, чего не отдавала никому и думала нельзя – бросал. Иногда развязка наступала раньше. Сильно травмированный Машкович рассказывал мне о ней, а я и не знал – верить ему, или не верить. Ну, вот, к примеру…
Женщина Валькиной мечты. Совершенство. Надежды – никакой. И тут подворачивается Его Величество Случай. Если долго ходить вокруг женщины, которая вас интересует, то рано или поздно, а благоприятный момент представится. То ли её кто бросит, то ли она сама, гордая, от него уйдёт, то ли просто бдительность потеряет, расслабится, а тут, к примеру - и вы. Вот в такой момент, видимо, Машкович и оказался возле своей Мечты в опасной для неё близости. Тёплая, июльская ночь, травка. Всё шло, как по нотам: «Ура, мы ломим, гнутся шведы!..». Ах! Какие у неё были духи! (и сейчас вспоминаю, думаю: наверняка врал, бестия Машкович, но как врал!) По всем признакам, неприступная крепость была готова к полной капитуляции. И только какие-то ничтожные, совершенно ничего в жизни не значащие мгновения, отделяли Валентина (Машковича) от соития, а, значит, и от счастья и радужных перспектив дальнейшего многократного обладания таким сокровищем. Вот тут то и случилась катастрофа. Машкович обосрался. Уже взобравшись. Уже, так сказать, войдя… Обосрался жидко, обильно, а, поскольку он находился сверху, то силы земного притяжения усугубили, жестоко довершили на бедную женщину весь этот непредумышленный кошмар. Машкович рассказывал (я так думаю, что он всё-таки, врал) – он рассказывал, что для него всё, что произошло, конечно, не было неожиданностью. Ведь не мальчик он уже был. Но – муж. Живот его беспокоил ещё днём. И приступы накатывали, но с ними удавалось справляться, так сказать, в рабочем порядке. И тут – этот самый Его Величество Случай. Потрох сучий. К слову сказать, у Машковича раньше уже были женщины. И он знал, что, если момент упустишь, то, может быть потом уже – никогда в жизни. Это, как с революцией. Сегодня, быть может, ещё рано, а завтра будет поздно. Не мог Машкович откладывать на потом, до выздоровления, судьбоносную встречу. Думал - обойдётся, пронесёт. В принципе, оно так и вышло. И больше они не встречались.
…Меня ещё не заметили, но кто-то опять налил рюмочку и подложил салата оливье. Как вижу, во мне тут особенной нужды и нет. Все и так славненько гуляют.
Да, вот про это самое КГБ. Меня туда тоже как-то вызывали. Только поступил на работу в редакцию, так они к себе на беседу и пригласили. – Как работа? Как сотрудники? О чём говорят? Что читают? А, скажите, никто не предлагал вам почитать, к примеру, Некрасова? Да, говорю, - Ефросинья Ефремовна. Они оживились: - Кто такая? – в редакции у вас, кажется, не числится. – Правильно, - говорю. – Ефросинья Ефремовна мне литературу в восьмом классе преподавала.
В то время я и правда, не знал того Некрасова, который причинял этим аккуратным вежливым ребятам зубную боль. И они мне поверили. Погрустнели. Больше к себе не вызывали.
У Машковича я научился покупать в магазине хорошие книжки. Оказывается, это очень просто: нужно полистать страницы, наугад прочитать два-три абзаца. Хорошего писателя видно сразу. И плохого тоже.
В учебниках литературы не встретить фамилии Энн Ветемаа. Его завезли в наш магазин экземпляров триста. Где-то по десятку – дарить друзьям – разобрали мы с Машковичем.
«27-го числа наступил коммунизм. Все сразу пошли в магазины и набрали себе товаров по потребностям». - Валентину нравились такие мои рассказы. Я радостно ему притаскивал свежие, ещё с непросохшей пастой, опусы, читал, и Машкович всегда находил несколько слов, чтобы мне хотелось писать дальше. Когда он с семьёй переехал от нас на две тысячи километров южнее, в Талды-Курган, играть в областном театре героев-любовников, я однажды и там его настиг со своими писульками.
Вот сейчас – годы прошли, и я думаю – может, это от меня бегал по стране, прятался деликатный Машкович? Хотя… Вот сегодня же пришёл, не побоялся. А у меня, к случаю, и рассказик свеженький припасён…
Так… А вон там, за столом под синенькой скатертью, сидит Леночка Акчурина. Да, чья же ещё. Вот уж не ожидал. Её сейчас, однако, нужно Еленой Валерьевной величать – большим человеком стала. Каким же ветром сюда, куда Макар телят не гонял, занесло Вас, сударыня? То, что мы с Вами когда-то в одной песочнице играли, ещё не повод, чтобы тащиться в такую даль. Не иначе – нужно чего. Свиней у меня уже нет – всех порезал, бычка Педрито для себя держим. Ну, уж, заинтриговали Вы меня, Елена Валерьевна.
А рюмочка у меня уже опять полная. Наклюкаюсь я тут, однако, и свалюсь под стол. И никто этого и не заметит.
А там кто? Да это же Лёва Кричевский! Сколько лет, сколько зим! Приехал. Нашёл время. Забыл обиду. Или не забыл, но простил. Такое вообще не забывается.
Мы когда-то очень славно дружили – я, Лёва и Аринка. Тесная, тёплая компания. Которую связывала работа, алкоголь, любовь к литературе и еле уловимая вибрация эротизма, которая непрерывно исходила от Аринки.
Наша подружка была умницей и модницей. Закончила в Москве с отличием полиграфический институт. В летние жаркие дни приходила на работу в платье с вырезом на спине до копчика. И начальство смотрела на это сквозь пальцы. Стараясь делать просветы между ними, как можно шире. Начальство не могло переносить потёртых джинсов и бороды Машковича, а голую спину Аринки, стиснув зубы, терпело. И правда – чего придираться: гениталиев на спине нет, и – что главное! – идеологически Аринкина спина не несла на себе никакой антисоветской пропаганды.
Правда, губы Аринки являли собой самое откровенное половое бесстыдство. Смотреть на них было невыносимо. Когда она о чём-либо рассказывала, растягивая слова и поблёскивая зелёными кошачьими глазами, тексты не воспринимались. И тупо ныло внизу живота.
Рядовой мужской состав нашего коллектива пытался в курилке угадать, было ли в такие жаркие дни на Аринке хоть какое-нибудь бельё, но счастливца, который мог бы похвалиться, что знает об этом, не находилось. Знали только мы с Кричевским. Но об этом позже. И даже прямо сейчас.
Так вот. Лёва. Аринка. Я. Бывало, с утра заходим по одному к главному редактору с выражением крайней озабоченности на лице: «Геннадий Иванович, я на объект…». А куда Геннадию Ивановичу деваться – работа есть работа. Журналиста ноги кормят. И уже через полчаса наши ноги резво уносили нас в сторону любимой речки Илек. С сетками, полными нехитрых закусок и с бутылками дешёвого тогда сухого вина.
У нас в распоряжении оказывался весь длинный летний день, тёплая речка и поляны чистого, ослепительно белого песка среди зарослей гибких кустарников. Обстановка была совершенно дикой – вокруг ни души. Казалось, что нога человека нигде не ступала в этих местах.
Будучи современными и продвинутыми, мы после первой бутылки вина сбрасывали с себя все одежды и продолжали гуляние уже, как настоящие дикари.
Всё же Аринка, как и положено девушке, всегда запаздывала и свои – всегда особенные и неповторяемые плавочки - стягивала уже после второй бутылки. Да, случалось, что под платьем их уже не было. Эти образованные девушки так непредсказуемы…
Конечно, ни о каком там сексе не могло быть и речи. Мы были выше этого. Загорали. Купались. Разговаривали о вечном.
Такие командировки «на объект» стали у нас доброй традицией. Всю осень, длинную зиму и весну мы ожидали сухого горячего летнего тепла, чтобы как-нибудь утром зайти у Геннадию Ивановичу и сказать: «Мне нужно на объект». И услышать: «Ну, что ж, иди, журналиста ноги кормят…».
И вот как-то мы со своими ногами в очередное лето всей привычной компанией вновь оказались на песчаной полянке у нашей речки. Всё было, как обычно. А, значит, весело и хорошо.
Выпили. Похихикали над Геннадием Ивановичем. Уже несколько раз искупались и полежали на песке. Лёва сказал, что умеет ловить раков, и пошёл вдоль берега их искать. Нагая Аринка лежала под солнцем на спине, раскинув руки. Я вылез из воды и мокрый, холодный, улёгся рядом на живот. Поговорили с Аринкой о Лёве. Тонкий. Интеллигентный до женственности. Да, есть в нём что-то женское. Голос. Интонации. Не может забить гвоздя, и вилку из розетки машинально вытаскивает за шнур. Наш Лёва легко ранимый. Обидчивый. И чувствовалась в нём какая-то загадка, непонятность, чему в то время мы не могли найти объяснения.
Я тоже перевернулся на спину. Речной песок облепил, приклеился к моему телу, и так на нём остался.
Мы лежали с Аринкой молча. Вообще – какое это удовольствие – лежать обнажённым на песке возле голой девушки! Греет солнце. И можно лежать с закрытыми глазами, но чувствовать, что рядом, на расстоянии ладони – открытая девичья грудь с торчащими сосочками, мягкий нервный живот, а ниже, прячась между ног, но выглядывая – пухлый, покрытый короткими кудрявыми волосами, холмик. Именно – не представлять всё это зрительно, а – чувствовать.
Я лежал, переживал всё это сладко, ничем, впрочем, себя не выдавая. Уж так в нашей компании сложилось, что мы как будто не замечаем половых различий друг у друга. Хотя каждому – чего уж тут греха таить - было приятно украдкой, вскользь, наблюдать их открытость.
И тут в моём организме произошёл какой-то сбой. Безо всяких причин мой первичный половой признак вдруг стал, подёргиваясь, наливаться кровью, разбухать. В нашем, годами испытанном коллективе, это было противу правил. Отношения – только дружеские. Никаких намёков, никаких посягательств. Даже когда я по просьбе Аринки – само собой, в присутствии Лёвы – делал ей массаж её умопомрачительной спины, и когда она потом перевернулась – ни один мускул не выдал моего волнения, ни один член.
А тут один член вдруг по-первобытному ожил, зашевелился. И стал на глазах превращаться из вялой тряпочки в туповатое и грозное стратегическое оружие. С боеголовкой, и стволом, облепленными от кончика и до самого основания мелкими зернышками речного песка.
Наконец он поднялся, выровнялся и напрягся. И так остановился, чуть подрагивая, очевидно, ожидая от меня какого-то решения.
Я понимал, что таким отдельным поведением я нарушаю неписанный устав нашего сообщества, но не находил в себе ни сил, ни решимости заставить такую самобытную красоту обмякнуть и улечься обратно. Тем более что Аринка, казалось, дремала и ещё не заметила моего бескультурного вида.
А потом – не знаю, как это получилось – моя рука потянулась к голой сотруднице, ладонью осторожно – так, чтобы не разбудить – легла ей на грудь. Несколько долгих мгновений - Аринка продолжала дремать. У неё такая гладкая, такая упругая, грудь. Горячая от солнца. Я уже её поглаживаю? Палец коснулся сосочка. Тот занервничал, напрягся, стал ягодкой. Моя рука сдвинулась на живот. Медленно, круговыми движениями, стал его ласкать. Что же я делаю? Надо бы остановиться… Меж тем мой подрагивающий мужской предмет стал ещё жёстче и толще. Ох! Нельзя себя так вести. Ведь мы, хоть и не договаривались вслух и не клялись на крови, но ведь были же у нас в компании свои благородные принципы, свои табу…
А рука тем временем спустилась ещё ниже – к волосам на мягкой подушечке - тоже от солнца горячим, и – тут же – ещё ниже. Пальцы сразу опустились, погрузились в болотистую местность. Конечно, мне уже случалось касаться девушек в таких укромных уголках, но Аринка меня поразила неожиданной, обильной влажностью. Всё было мокро и скользко, даже снаружи, как будто под кудрявый островок пролился стакан яичного белка. Размазывая слизь по внутренней стороне Аринкиного бедра, я чуть слышно на него надавил. И в ответ оно тихо, послушно, отодвинулось в сторону. И только прикоснулся к другому – и оно отошло, распахнув, раскрыв Аринку настежь.
Я уже не мог сопротивляться сам себе. Ну, не железный же я. Хотя, частично – уж точно – железный. Я, наконец, решился и повернул к Аринке голову и повернулся весь. Она так и лежала, закрыв глаза, с раздвинутыми коленками, истекая любовным соком. Осторожно, как будто боясь девушку разбудить, я приподнялся, не касаясь, над ней навис, упираясь руками в песок. С меня на Аринку тоже посыпался песок. Её накрашенные голубым веки дрогнули. Она открыла глаза: - Николаев, ты что?
Есть феномен спящей красавицы. Вот уснула она, спит уже годами. Для неё уже и гроб хрустальный соорудили – лежит, как мёртвая – так пусть уже лежит там, где в таком состоянии прилично. И никакие ни колдуны, ни знахари, ни костоправы не могут её оживить, привести в нормальные чувства. И вся эта катавасия тянется до тех пор, пока не появляется смышлёный добрый молодец, который, всего один взгляд, бросивши на прекрасную покойницу, понимает, что не заговоры ей нужны, не припарки. А любовь. И обыкновенная мужская ласка.
Далее – дело техники. Добрый молодец касается эрогенных зон болезной красавицы, целует её – и все становятся свидетелями чудесного исцеления. Нет такой девушки, женщины, которую не смог бы разбудить внимательный мужчина.
Причем не обязательно сразу – трогать, целовать. «Поговори с ней» - советует другу по несчастью герой фильма Педро Альмодовара. Ему самому удаётся вывести из комы любимую девушку. Правда, цикл любовной психотерапии был выдержан по полной программе - девушка даже забеременела…
Накрашенные голубым, веки Аринки дрогнули. Она открыла глаза: - Николаев, ты что? - Аринка всегда называла меня по фамилии. Напротив её бёдер торчал мой, напряжённый до безумия, облепленный песком и меленькой галькой, член. Я почему-то и не подумал его отряхивать. И, вместо ответа, я в жгучем желании погрузил его в Аринкины хляби, в них рухнул до самых своих пределов.
Несколько минут бешеных, страстных объятий. Аринка сильно несколько раз вскрикнула, потом обмякла. Я немного запоздал. Сделал ещё несколько сильных толчков и – А! – будь что будет – несколькими ударами задубевшего поршня о матку, которая ответно напряглась – утопил её в семени, а потом взбил, вспенил, превратил всё в горячий брачный коктейль.
Ну, в общем, случилось то, чего не должно было случаться. Тут пришёл Лёва. Не нашёл он никаких раков. Посмотрел на нас. Аринка лежала в отключке. Я сделал вид, будто дремал, а тут вдруг от Лёвиных шагов проснулся. Даже протёр глаза. Артист из меня плохой.
Мы потом ещё искупались. И Аринка тоже. Все делали вид, будто ничего не произошло. Но на речке вместе мы уже не собирались. И в разговорах как-то обходили эту тему.
На речке с Аринкой встречался только я. Но это уже другая история. Радостная, больная, длинная, растянувшаяся на много, много лет. А вот Лёва…
Лёва пошёл по рукам.
Как выяснилось позже, Лёва был голубым и тайно, чуть ли ещё не с подготовительных курсов в институт, любил меня. Я же этого не замечал. Был категорически гетеросексуален. Лёва – близкий друг. Я знакомил его со всеми своими подружками. Сейчас я понимаю, какие страдания ему причинял.
А времена-то были советские. Признаться в такой своей ориентации – значило стать изгоем. За мужеложство сажали в тюрьму. И как было жить мужчине с таким психофизическим устройством? Природа определила ему любить мужчин, а общество против. Закон – против. Гомосексуальные ЦК и правительство – против.
Кричевскому приходилось встречаться с женщинами. Он выбирал тех, которые были похожи на мужчин. Волевые, грубоватые. У его первой женщины, которую звали Капитаншей, были покрыты густыми волосами не только ноги и спина, но даже живот и груди.
В своих желаниях, привязанностях Кричевский определился ещё до женитьбы. Довелось ему как-то ночевать в одной комнате с дядей Борей, каким-то тридесятым родственником. Лежали на полу, в темноте. И, наверное, дядя Боря чего-то в Лёвушке почувствовал. Взрослый стреляный воробей и тот ещё гусь дядя Боря нашарил Лёвушкину руку, потянул к себе и дал потрогать… А потом попросил взять в рот. Лёва воспринял это нормально, даже ничуть не удивившись и не оскорбившись. И у него это получилось очень легко, он увлёкся. И тогда дядя Боря предложил семнадцатилетнему Лёвочке снять трусы. Ну, трусы – это всегда дело серьёзное. Лёва испугался…
Прошло много лет. Кричевский женился на мужеподобной женщине. Но это была всё-таки женщина, и того, что называется семейным счастьем, у них так и не получилось. Вместе они выпивали и ходили выпивать с друзьями. У них родились дети. Подросли и тоже стали выпивать. Внешне это была всё же обыкновенная семья, со средним уровнем достатка. Оба учительствовали.
О своей страшной тайне Кричевский поведал мне как-то зимой, когда уже прочно ступил на стезю порока.
После того случая на речке в наших отношениях появился некоторый холодок. Но потом он растаял. Кричевский снова стал весёлым, общительным. И – ещё более женственным. Он влюбился. И это была любовь взаимная. Осветитель Жека из областного драмтеатра обратил внимание на стройную Лёвушкину фигурку, на круглую, плотно обтянутую джинсиками, попку. О своём неожиданном счастье Лёвушка хотел рассказать всему миру. Ему на глаза попался я, старый друг. Лёвушка сначала взял с меня клятву, что я – ни-ко-му! Ни-ког-да! И потом рот у него не закрывался. Он, Жека, молодой. Говорит, что любит и никогда не бросит. Двойной минет – это так здорово! – Пойдём, постоим возле его дома, я хочу посмотреть на его окна, - просил меня Лёвушка. И мы шли к этому дому вечером, и Лёвушка сияющими глазами смотрел на жёлтые окна. Потом просил: - а ты можешь его вызвать? Вызови его, пожалуйста, хоть на минутку… Я стучался, звал. Слава Богу, никто не вышел. Участвовать во всех этих играх мне как-то было не по себе.
Когда мы шли от Жеки, было уже темно. Усилился мороз. Лёвушка взял мою руку и положил к себе на талию. Так мы и шли. Освободиться, сбросить руку я не мог – боялся Лёвушку обидеть.
Хоть бы никто не увидел, хоть бы никто не увидел – шептал я про себя…
Несмотря на обнаружившиеся половые различия, мы с Лёвой продолжали общаться. Он всегда был умницей – этого у него нельзя было отнять. Научил меня любить Окуджаву. За увлечение Высоцким его разбирали в институте на комсомольском собрании.
Иногда в разговорах со мной Лёва вёл себя, как женщина, которую я бросил, не оценил. С нарочитыми подробностями рассказывал, как его любят другие мужчины. Я догадывался, что втайне он на что-то надеется. Но, увы, помочь не мог ничем. Я любил баб. Любил, как они вредничают, целуются, пахнут, плачут, смеются. При всех своих достоинствах, Лёва сюда никак не вписывался.
Помню, когда я ещё ничего о нём не знал, мы на работе отмечали мой день рождения. Объятия. Поцелуи. Лёва предложил мне выпить с ним на брудершафт, и я, ничего не подозревая, согласился. Мы хлопнули по бокалу шампанского и тут Лёва, широко раскрыв свои мокрые губы, чувственно впился мне в рот.
Какая всё-таки гадость – эти мужские поцелуи!..
Лёвушка рассказывал, что в школе, в классах, он замечает мальчиков, которые такие же, как он. Он замечает, узнаёт на улице, в толпе, таких же мужчин, как и сам.
И я сейчас иногда задумываюсь – вот мальчики, которые бывают среди других в каждой школе, в каждом классе – как сложится, как складывается у них жизнь в этом нашем мире? Прошла перестройка, наступил советский капитализм. И осталась нетерпимость к тем, кто не похож на других. Их объявляют больными, чуть ли не калеками, хотя и калек тоже не любят.
Должны пройти десятилетия, чтобы возможность, право любить в нашей стране все голубые, розовые и фиолетовые получили наравне со всеми остальными – белыми и пушистыми.
Как прожить, как пережить эти десятилетия мальчику, с которым встречался глазами, которого среди других узнавал старый педик Лёва Кричевский?..
Жека, конечно, бросил нашего Лёвушку. Но обнаружился целый круг всяких знакомых армян, которые катали его на дорогих машинах и водили с собой в сауну. Это можно было бы назвать откровенным блядством, но… Если жизнь фактически началась тогда, когда больше половины её уже оказалось за плечами…
Ну, вот – рюмка опять полная…
А это кто? Не может быть! Моя несбывшаяся мечта – Наташка Цыпляева. Когда-то я робко предлагал ей своё сердце. Она внимательно его рассматривала, улыбалась и не говорила ни «да», ни «нет». Я писал ей письма. Это было какое-то странное состояние: невесть откуда брались удивительные сочетания слов. Потом ей стали не нужны ни мои письма, ни сердце. В тот момент для отечественной словесности погиб великий эпистолярный писатель.
У нас ничего не было с Наташкой, поэтому ничего и не получилось. В решении таких вопросов всегда первична половая связь. Никогда нельзя с женщиной вначале сердце – потом связь. Это бесперспективно. Тупик. Наше половое бытие определяет наше дальнейшее сознание. Сказали Маркс и Энгельс. (ПСС, т. 98, Мюнхен, 1903г., стр.704).
И вот Наташка здесь. Не иначе, как от Артурчика узнала, что у меня знаменательное событие и примчалась. Наташа! Для тебя моё сердце всегда свободно! Могу ли я надеяться, что сегодня у нас с тобой, наконец, что-нибудь случится? Наутро и свадьбу сыграем.
Опять размечтался.
Я вот тут всё собираюсь произнести речь. Скучно как-то пьют в России люди. Нальют в стаканы, поглядят друг на друга, молча и – хлоп! Закусили. – Ну, что? – ещё по одной? – Опять налили, подумали и молча – хлоп! После Казахстана непривычно. Там один за другим поднимаются гости и произносят сладкие речи в честь виновника торжества. И каждый ждёт, когда наступит его очередь, когда ему дадут слово. Получается длинная череда импровизаций и создаётся впечатление, что гости только для того и пришли, чтобы, как можно красивее рассказать о достоинствах героя застольного события. Конечно, в процессе ещё едят и закусывают, но это проходит как-то фоном, приятной второстепенной формальностью, которую также необходимо исполнять.
Я и пьяных-то не видел на таких гулянках. Не видел драк.
Ну, сегодня у меня, точно, все перепьются. Я уже и сам - не помню, какую рюмку – выпил.
Но голова почему-то чистая. Конечно. Такое потрясение пережить. Никогда в жизни такого не было. Даже не мог представить. Кстати, о стрессах. Знакомый лётчик рассказывал.
Летал он на кукурузнике. Обрабатывал гербицидами колхозные поля. И вот разбрызгал он над пшеницей вонючую отраву, собрался лететь обратно, как тут двигатель взял, да и заглох. Тишина, только ветер в крыльях шумит, и пропеллер замер, будто машина уже на земле стоит. Ситуация, конечно, неприятная, но не смертельная. Нужно только приглядеть где-нибудь ровное поле и спланировать. И поле тут же подвернулось. Такое, как надо. Лес, деревушка и настоящий зелёный аэродром для его истребителя вредных растений.
Стал туда планировать. И получилось, что чуточку не рассчитал. Ветер придал лёгкой машине ненужное ускорение, и её понесло к краю поля, где прямо поперёк была проложена глубокая чёрная борозда.
Самолёт, качнувшись, чуть не клюнув носом, остановился от неё в метре. Лётчик вышел из кабины на ватных ногах. Какая-то сотая, тысячная доля секунды – и на этом месте была бы сейчас куча горящих дров, а посередине – груда костей и мяса, завёрнутых в лётный комбинезон.
Пилот постоял. Потом поплёлся к крайней избе. Там его уже ожидали бородатый мужичонка, а возле него двое мальчишек в грязных рубахах и с перепачканными носами. Они всё видели. Мужик держал в руках бутылку самогону и пустой стакан. Лётчик выпил самогон прямо из горлышка, залпом, как воду. Он и подумал, что ему дали воду. А голова оставалась чистой и ясной. И пустой. Это вот о стрессах.
Я так думаю, у меня история, может, ещё и покруче получилась. Расскажу, расскажу… Сейчас вот, ещё рюмочку, и…
Нет, ну, это вообще - ни в какие ворота. Гости встают, начинают расходиться. Не дождавшись меня, не увидев, не выслушав. В конце концов – это же мой день! Вот и фотография моя на столе. И рюмка снова налита до верху. И свечка…
Зачем-то горит свечка. Зачем?.. Ведь вокруг и так – вон как светло…
ПАПА
Папа выходит из дома. Перед этим он в передней становится на половичок и тщательно вытирает ноги.
Папа, ты же из дома выходишь, а не заходишь в квартиру с улицы!..
Ах, да, говорит папа. Дошаркивает левой ногой о половичок и выходит.
За папой всё время нужно следить. Как бы он чего не отчубучил. Проследить, что он надевает на себя перед тем, как пройтись по деревне, как он ходит, что собирается делать. От прежней городской жизни он вынес убеждение, что и тут, в забытом Богом отделении бывшего совхоза, а теперь А/О, он должен выглядеть интеллигентно и идти в ногу со временем. Поэтому он почти не расстаётся с фетровой шляпой, оставленной впопыхах сбежавшими в Германию друзьями-немцами. Шляпа изгрызена молью, что, по мнению папы, подтверждает её происхождение из дорогих натуральных материй. К нам в отделение ничего натурального уже давно не привозят, только забирают. Заезжие лица кавказской национальности, обративши внимание на папин простодушный вид, попытались выманить у него шляпу за леденец. То ли, как тряпку, то ли – как цветной металл. Папа запросил триста долларов, как за тарелку НТВ, чем ещё больше убедил смуглых пришельцев в том, что у него не все дома. Но шляпы они так и не получили. Только и поживились, что сняли ночью сердечники с поселкового трансформатора, да метров сто алюминиевого провода. Хотя, может, сердечники с проводами сняли и не они, потому что прошлый месяц в местную милицию взятку за лицензию на воровство цветмета возил наш, русский.
Папу не смущает, если из дома он выходит в разных ботинках и ему на это укажут. Носки он каждые два дня проворачивает на ноге на девяносто градусов. По его мнению, так пятка меньше изнашивается, а срок службы каждой пары увеличивается в четыре раза. Со свитерами сложнее. Их можно проворачивать только на сто восемьдесят градусов, т.е. надеть задом наперёд, чтобы не протирались рукава на локтях.
Папе ничего бы не стоило уйти из гостей в чужой обуви, но это невозможно физически: у папы очень большой размер ноги.
Обустраивая подворье, папа откуда-то приволок старые двери, высотой метра три или четыре, и с метр шириной. Откуда такие могли взяться, остается загадкой. Может, половинка от входа в опочивальню какого-нибудь великого князя? Тащили, тащили по степям белогвардейцы, да и бросили. Или тащили красные для опочивальни своего комиссара, грабанув и обосрав напоследок помещичью усадьбу?..
Конечно, дома такую вещь приспособить было негде, и папа установил свою находку во дворе, в центре забора, для удобства прохождения из огорода к сараю. Под сооружением осталось установить объёмную надпись: «Никто не забыт. Ничто не забыто». И водить туристов. Потому что второй такой в данном огородном контексте в мире больше не было. Дверь было видно за версту. Проезжающим по трассе шофёрам она стала служить ориентиром. Вначале на горизонте появлялась дверь. Потом – папин посёлок.
Однажды, загрузившись дустом, дверь сбил низко пролетавший над посёлком самолёт-кукурузник.
Папа забывает всё и про всё на каждом шагу. Встаёт в пять часов утра в мороз, в метель, уходит на работу, на маленькую газораспределительную станцию, передавать режим. Через час возникает из ночи, как снеговик: ключи забыл. Но дома их нет. Всей семьёй помогаем папе искать ключи. Находим у него же в кармане. Выражение муки и обречённости на лице папы сменяется детской радостью: «Ну, я, прям, опять – как чукча…».
Вообще работа у папы хорошая, не шибко обременительная, но то, что его вагончик с приборами ещё не взорвался, нужно считать откровенной милостью Божьей. Хорошо, что папа не курит, не любит играть со спичками.
Стремление папы идти в ногу со временем, в сочетании с его модной бразильской амнезией, производит подчас неожиданные эффекты. Так, папа узнал, что крутые мэны, или, там, мачо, не носят под джинсами никакого белья. Если бы ещё папа не забывал задёргивать на них металлическую шторку… Посёлок испытал на себе два или три сеанса. Встряска была ощутимой. До шока. Целомудрие местного населения, правда, не рухнуло, но пошатнулось. Даже замужние женщины впервые увидели при дневном свете ужасающие подробности устройства мужского организма. До этого они всё какие-то догадки строили, потому что поселковые мужья никогда жёнам при свете дня эту пакость показывать не решались.
Дома папе сделали замечание, которое пришлось ему, как об стенку горохом. Но не у всех же в семье амнезия. И стали папу проверять всякий раз, когда он собирался пройтись по посёлку.
Но, разве за всем уследишь?
Про следующий случай мне уже, как старшему сыну, папа рассказал сам.
Было это в выходной. Откушал он в обед супружниного борщику и прилёг отдохнуть в дальней спальне. Даже вздремнулось чуть-чуть. И сон пришёл. Но опять обидный какой-то, про еду. Опять – это потому, что уже не в первый раз такое снилось и всё об одном и том же. Будто собрался папа в буфете покушать. Был при себе и пластмассовый пузырь самогону на полтора литра. И еда-закуска уже стояла на столике, и тут папу зачем-то отозвали. Вернулся - а закуски-то и нет. Так и проснулся с чувством потери. И даже, несмотря на сытный обед, опять засосало под ложечкой. Одна радость: откуда ни возьмись – эрекция вдруг возникла. Да такая, что твой камертон: стукни чем железным, так и зазвенит звуком «ля» - четыреста сорок колебаний в секунду. Тут, кстати, из кухни раздалось позвякивание посуды, и потянулся запах блинчиков. Очевидно, супруга решила, по случаю выходного, порадовать своего муженька на полдник чем-нибудь вкусненьким. И папа решил, что и он может прийти сейчас на кухню не с пустыми руками. Пошёл вразвалочку, естественно, в чём мать родила, пытаясь придать ещё своему сокровищу вращательное движение. Так, кладенцом своим маша, и вошёл.
Жена, как и полагается, хлопотала у газовой плиты, а за столом, расширив глаза и забыв закрыть рот с блином, оцепенела соседка Вика Аляпкина. Девица двадцати восьми лет. Чёрт её принёс в это время в гости…
Думать, что экстравагантная папина выходка останется в ошалевшем сознании Вики Аляпкиной без оперативной ретрансляции – так это просто оскорбительно подумать о самой Вике. Кто ж из нормальных такую сенсацию, хотя бы на полчаса, в голове удержит?.. Но, после памятных папиных променадов с расстёгнутой ширинкой, у папы уже сложилась репутация человека, возможно, в чем-то и обиженного судьбой. И потому ещё один штрих, даже такой жирный, уже никак не мог ему повредить.
Правда, сказать, что папа у меня бабник, или какой-то там фиксированный эротоман, в посёлке не мог никто. Даже Вика Аляпкина. Которая однажды, на вечеринке, после всех перечисленных событий, пригласила папу выпить на брудершафт «Красного Востоку». А, после того, в обязательном поцелуе, пыталась недвусмысленно пососать папин язык, что ничего ей, кроме разочарования, не принесло. Как всегда, папа думал о чём-то другом, и про язык, терзаемый девственницей Аляпкиной, совсем забыл.
И, тем не менее, эротическая компонента в папе присутствует. Проявляется она традиционно, хотя уже и не по возрасту – в стихах. Причём, в большинстве своём, стихи и посвящаются Прекрасной Даме, с неизменным обращением к ней на «Вы». На самом деле никакой такой Прекрасной Дамы у папы нет. Есть жена, моя мама. Папа её любит, но стихов о ней не пишет. Говорит, что писать стихи о жене – это всё равно, что о партии, комсомоле, или об органах госбезопасности. Подхалимаж – и никакой благодарности в ответ. Одна подозрительность. Поэтому – Прекрасная Дама. Но стихи получаются такие, что читать их собственной жене папе неловко. Женщины – они всё понимают по-своему. Поэтому всякую информацию, которой владеет мужчина, для женщины нужно адаптировать. Где – дополнить. А где – и выкинуть пару абзацев. Я недавно женился, я знаю.
Ну, так вот о стихах. Несколько папиных короткостиший:
Вы, как всегда, прекрасны, всем желанны, Умны, интеллигентны, иностранны Большого плаванья большому кораблю, А я – на пристани. Я Вас ещё люблю.***
Не сорваться бы в крик… В чём печали причина? Я ещё не старик, Я ещё – молодчина. Вы при мне в неглиже: Я любуюсь картиной, Но для Вас я уже Предыдущий мужчина…***
Мой к Вам неюношеский пыл Увы, ещё не охладился. Я Вас себе не сотворил. Я Вам осознанно молился…И появляются-то подобные стихи, будто бы, безо всякой связи с внешним миром. Пошёл папа как-то в сарай, выгребать навоз от свиней и коров. Копошился часа три. Естественно, при шляпе. Потом пришёл, помыл руки, отвёл меня в сторону:
Сынка, давай я тебе свежий стишок прочитаю?…
Я знаю, что главное для папы в этот момент – это, чтобы ему не успели сказать «нет». И я молчу. Я люблю своего папу. Слушаю:
С годами всё отчётливее грех И жжёт сильней, чем ближе край могилы. Я предал Вас, но Вы меня простили. И тем за всё жестоко отомстили. Хотя и были беззащитней всех…Мой папа боится инспекторов ГАИ. Когда он приезжает из своей деревни в город на старенькой «Ниве», его обязательно останавливают. И не просто, позёвывая: - Куда едешь, что везёшь? – а по полной программе: - Руки на капот! Ноги расставить! Документы – медленно!..
Потом начинаются расспросы:
Авессалом Евтихиевич… Странное какое-то имя. Еврей что ли?
Нет, селькуп.
Что-то развелось вас, черножопых.
Мы белые. В центре Российской федерации…
Папа хочет показать жопу. Милиция хватается за пистолеты:
А ну, дыхни! А ручник у тебя работает?
Всё равно пятьдесят рублей приходится отдать.
На работе у папы по-разному. Почему-то его невзлюбил мастер, которого папа старше, лет на двадцать. Когда мастер приезжает с проверками на папину газораспределительную станцию, он кроет папу матом и, как Ваньку Жукова, посылает в посёлок за самогоном.
Однажды, после пьяной проверки, которую начальник решил устроить прямо под Новый год, папа пришёл с работы, и на нём не было лица.
После этого он долго не читал мне стихов. Ежевечерне брился и потом подолгу смотрел на себя в зеркало. Для чего-то ещё надевал на себя свой старый твидовый пиджак и галстук цвета «мокрый асфальт» - давний подарок приятеля Фазлула из Бангладеш. Из бывшей советской республики Бангладеш…
А потом я собрался в областной центр. Нужно было оформлять гражданство, с которым у нас в районе никак не ладилось. Знакомые азербайджанцы сказали, что нужно было заплатить пять тысяч, и тогда бы сделали быстро и гражданство и паспорт. Но теперь Дума придумала о гражданстве новый Закон и цены повысились. Родителям пришлось продать корову, чтобы на этот раз всё получилось. Чтобы меня, сына российских граждан, мужа россиянки-жены, но – переселенца из Казахстана, поставили в многолетнюю очередь на получение российского гражданства…
На автовокзале меня провожает папа.
Сынка, можно, я тебе свежий стишок прочитаю?..
Можно, папа, можно…
В сарае курочка несчастная кричала. На ней петух, нагой, без покрывала, Вершил крутой, рабочий самосуд. (По слухам, курочки от этого не мрут) И за неё хозяйка не боялась. Кричала курочка – хозяйка улыбалась.И я тоже улыбаюсь. И улыбается папа. Шляпа на месте. На щеках пробивается привычная небритость.
– Папа, дома волосы из носа повыстригай… Да и с ушей тоже…Деньги есть? Возьми хоть пятьдесят рублей – может, ГАИ остановит. Возьми, мне должно хватить…
Вечером, в гостинице, снимая со своих больших ног туфли, я обратил внимание на то, что как-то странно у меня надеты, новые ещё, носки.
Пятками кверху.
Неужели когда-нибудь придётся писать стихи?
22.10.02г.
25.09.05г.
ГЕНДЕРНОЕ ПОДЛЕЦЫ И НЕГОДЯИ
Да, мужики – они подлецы и сволочи. Ах, нет – негодяи. Дурют они белых и пушистых женщин.
Вот ходит томная, чисто-непорочная женщина, а тут подкрадается к ней такое мерзопакостное создание природы. На лицо доброе, а внутри ужасное. И начинает доверчивой женщине вешать лапшу на уши: «Я, мол, русалка, всё пойму, и с дитём тибе возьму…». Ну, или, там что-то в этом роде: «Жену оставлю». Если ещё не женат – «Женюсь!». И всё для достижения одной, гнусной цели – овладеть телом, насладиться. А потом уже – как получится. Сбежать ли, попользоваться ещё…
В основном у этих мужиков всё зиждется на обмане, в угоду их низменным инстинктам.
Даже, если женится, то при случае налево свернёт, обманет зазевавшуюся девчушку – и обратно. Или не обманет любовницу, а обманет жену. И бросит жену.
Вот такая у них, у этих мужиков, природа. Их можно классифицировать на виды, подвиды, определяя вектор порочности. Чтобы потом уже встречать врага во всеоружии.
Кто предупреждён – тот уже вооружён.
Вот так – изучить все повадки этих мерзавцев, а потом отдаваться им расчётливо и хладнокровно: «Бери, подлюга! Но я тебя всё равно насквозь вижу!..».
Как-то… Ничего нового…
Обычное швыряние камнями из женского лагеря в мужской.
А откуда, всё-таки, эти негодяи, эти подлецы, берутся?
Вот вертится женщина перед зеркалом. - «Для кого ты так стараешься, красишься, выбираешь бельё, верхнюю одежду?». - «Для себя».
Конечно, «для себя». Особенно удачное оформления себя «для себя» может уже от подъезда собрать шлейф особей мужского пола. А, при особом старании, если у женщины получится изобрести себе уж очень радикальный кутюр, то какая-то особь уже и не сможет себя сдержать, решится на насилие.
Ах! Как много несчастных одиноких женщин, которые тайно живут с женатыми мужчинами. Как это унизительно – жить во лжи. А годы проходят, всё лучшие годы…
Но – обратимся к истокам: была определённая точка отсчёта, с чего это всё началось.
Каждая женщина от природы оснащена набором средств, которые должны притягивать к ней мужчин. И природа позаботилась о том, чтобы средства эти действовали безотказно. Иначе зачахнет род людской, вымрет. Природе наплевать – женат кто – разведён? Мужчина должен встретиться с женщиной, с ней совокупиться, чтобы она родила ребёночка. Поэтому у женщины – специальный запах, который воздействует на подсознание мужчины, у неё определённые нотки в голосе, которые доводят его до дрожи. Она одевается так, чтобы обратить внимание мужчины, привлечь его к себе, возле себя задержать.
И что – строить из этого выводы, что женщины коварны и – порочны? Пытаться их классифицировать, делить на подвиды?
Порочна ли кошка, приглашая кота на рандеву?
В конечном счёте, ей нужен не кот, а котята.
Отнимите у неё котят, и кошка снова будет искать кота.
Как вы думаете – как он узнаёт о том, что понадобился? А – просто – когда кот нужен кошке, у неё появляется особенный запах, она по-особенному мурлычет, она надолго задерживается возле какого-то ободранного Васьки, сидит, будто бы просто так, из желания поговорить о погоде.
Если кот кошке не нужен – он не будет соваться к ней со своими услугами.
«Кобель не вскочит, если сучка не захочет». Народная мудрость. Нравственность кобеля целиком зависит от желаний сучки. Не будет он её ни обманывать, ни обещать, чтобы добиться своего, золотые горы, если она сама его не заставит это делать.
Быки в стаде ведут себя спокойно, пока какой-нибудь корове не пришло время в очередной раз забеременеть.
И тут – всё мужское население стада приходит в движение. Коровка, которая ни сном, ни духом, которая ни о чём таком даже не помышляла, которая из себя вся смирение и добродетель – бежит крупной рысью из стада к посёлку. За ней – десять-пятнадцать претендентов на её копыто и сердце.
Заметим – корова к быкам не пристаёт. Она им не подмигивает и не принимает развратных поз. Никаких внешних признаков, которые могли бы уличить её в легкомыслии.
А быки – как сдурели.
День-два и всё заканчивается. Бычье семя попало в корову, укоренилось. И быки о ней сразу забыли.
Никто уже не подходит к ней, не спрашивает, который час, любит ли она Ахматову и что делает в ближайшие выходные.
Корова выключила свою систему воздействия на быков. И они снова стали тихими и целомудренными.
Так, о чём это я?
Говорят, на базаре два дурака – один продавец, другой – покупатель.
Нужно ли упрекать женщин, за то, что они женщины, а мужчин, за то, что они мужчины?
Мужчины, пока живы, будут обращать внимание на женщин, будут к ним приставать. Женатые ли, холостые… К замужним, разведённым, девушкам и чьим-то невестам. Будут им врать, делать подарки, говорить комплименты. Природа наделила их своим арсеналом оружия, чтобы воздействовать на женщин с оптимальным результатом. Программа всё та же – продолжение рода.
Если люди пытаются сопротивляться – надевают презервативы, делают аборты – у них не пропадает желание искушать, соблазнять, обманывать.
Чтобы опять встретиться, чтобы женщина одним взглядом заставляла землю уходить из-под ног мужчины, а он в ответ ей что-нибудь красиво и безбожно врал…
КОД ПРЕДАТЕЛЬСТВА
Сперма мужчины содержит в среднем восемьдесят миллионов сперматозоидов. Если представить супружескую пару, у которой близость происходит регулярно, два раза в неделю, а живут муж и жена, пусть не пятьдесят, не сорок лет вместе, а хотя бы тридцать, то получается, что женщину на протяжении супружеской жизни призывают к зачатию около ведра сперматозоидов. Сотни миллиардов. Целый Китай. С Бирмой, Индией и Лаосом, вместе взятыми.
А за жизнь – два-три ребёнка – больше почти не бывает. Все остальные когорты сперматозоидов, помыкавшись в женщине, отходят в мир иной, так и не сумев себя реализовать.
Но… Невостребованность этих хвостатых шалунов не является их собственной проблемой. Если их так много, значит, это кому-то нужно?
Нужно. Ну, да! Кому? Природе. Этой Природе желательно, чтобы сперматозоидов оплодотворилось, как можно, больше. Её как-то и в голову не приходит, что одна женщина не может родить даже миллиард детей. Ей это абсолютно всё равно. Природа навешивает на мужчину яйца – генератор спермы, пенис и, как Партия, даёт задание засеять, как можно больше, посевных площадей. У Природы на этот счёт нет никаких моральных принципов. Сей! – и всё тут!...
Ну и… мужчина по этому поводу испытывает всю жизнь известное беспокойство. С одной стороны – однажды и на всю жизнь, и только смерть разлучит. С другой – куда же девать всех этих своих претендентов на гражданство?
Выдерживает не всякий.
Попробовал я как-то разводить гусей. Не по своей воле – старушка Гурьевна, по доброте душевной, подарила пару.
А Маркин, преподаватель биологии в местной школе, сразу сказал, что эксперимент по разведению гусей, заранее обречён на неудачу.
Потому что для существования популяции необходим определённый минимум особей. В моём случае – гусиное стадо. Где этих гусей и гусынь несколько десятков. Иначе, в своём небольшом семейном коллективе, гуси перестают нестись и – конец.
Гусь вообще по своей природе однолюб.
Он всё время при своей супруге-гусыне состоит, ухаживает за ней, одаривает любовным вниманием. До тех пор, пока не посадит её на яйца.
Потом влюбляется в другую, которую любит так же беззаветно. Вот для этого-то и нужно гусю стадо.
Бывают ли случаи, чтобы гусь, если его разлучает судьба с гусыней, вдруг взмывает в небо и оттуда, как лебедь, сложивши крылушки, бросается вниз, чтобы умереть, погибнуть? Рассказов таких нет. Я думаю, причина тут, скорее, эстетическая, нежели в отсутствии на свете таких верных и благородных гусей.
Если с неба падает лебедь – тогда «ох!» и «ах!» - красота-то какая погибла! А, если простой гусь – то, кроме мыслей о борще, такая романтическая смерть ничего не вызывает.
Это я про что?
Бывают Правила. И бывают Исключения.
Правила – это когда Гусь сажает Гусоньку свою на яйца и отправляется дальше для исполнения своего природного долга. Чтобы род гусиный не вывелся, не пропал.
И – Исключения.
Это, когда Гусь, потерявши свою Единственную Возлюбленную, взлетает повыше и разбивается насмерть.
Подозреваю, что и у лебедей то же самое.
Вернёмся же к нашим баранам, то есть, к нам, к мужчинам.
Природа, когда навешивает на мужчину все необходимые приспособления для продолжения рода, одновременно в мозги вводит ему и программу неверности. Кодирует.
Мужчины, потому что у них воспитание, долг, совесть со стыдом, конечно, от этого мучаются. У них и борьба всё время идёт с этой аморальной кодировкой и ломка. Но, в основе своей, остаются предателями, потому что, хоть взглядом, хоть мыслию, а допускают себе отклонение от равномерного моногамного существования.
Даже самый первый поцелуй мужчины – самый чистый, самый искренний, это уже поцелуй Иуды…
У каждого на этой земле своя роль, своё предназначение.
Иисус знал, чем для него кончится его земная жизнь Живой человек – он не хотел мучений, он просил Господа – «Пронеси мимо меня эту чашу!..» Так, риторически, просил. Знал, что произойдёт то, что должно произойти.
Но трагедия не могла состояться без Иуды. Роди распределены. Расписан распорядок действий. Любимый ученик Христа должен его предать. Потом страдать. Потом повеситься.
Потом быть проклятым во всех человеческих поколениях.
Такова была Воля Господа.
Хотел ли этого Иуда?
Мог ли упросить Бога пронести мимо него Эту Чашу?..
СТУПЕНИ ВОЗРАСТА
Встречаемся как-то с другом Петей, и он мне сообщает радостную новость: - Знаешь, с такой женщиной познакомился! Красивая, одинокая, со своей квартирой. Сын в армии.
Время – Советский Союз. Нам по двадцать пять. В Советском Союзе одна из главных задач для решения интимных потребностей – это иметь какой-то угол. И не просто угол панельной пятиэтажки с её внешней стороны, а – угол, пусть той самой пятиэтажки, но со стороны внутренней. И желательно с обогревом в зимнее время. Квартира – это вообще была мечта. А, если в этой квартире ещё и не путалось под ногами никакого постороннего населения, то мечта превращалась в прижизненный коммунизм. Когда каждому по потребностям. И – столько этому каждому, сколько он хочет.
Братья по мужскому оружию рассказывали всякие экзотические истории о сексе в жиденьких кустиках сквера, в подвалах, на крышах домов, возле люка мусоропровода. Приходилось делить территорию с исконно кошачьими владениями.
Друг детства Толик Зубко рассказывал, как он лишал невинности девушку зимой в подъезде, посадив её на батарею. Глухая ночь. Слабый свет электрической лампочки. Мороз. Запах кошачье-человечьей мочи. Кровищи было! Слёзы! Первая любовь… Наш адрес, блин – Советский Союз… Сейчас говорят – хорошо тогда было. Кому?..
И вот Петя рассказывает мне про такую жизненную удачу: красивая женщина с квартирой! А у неё, наверняка, есть подруга. И… сын в армии…
Когда тебе двадцать пять, представление об окружающих тебя людях вполне определённое. Например, если у женщины, даже у самой красивой, сын в армии, то сразу думаешь: а передвигается ли ещё она по комнате без посторонней помощи? Представляешь в глубоких морщинах лицо, отвисшие груди… И на фиг тогда эта её отдельная квартира? Лучше уж в подъезд, на батарею, с девятнадцатилетней…
А вот когда было пятнадцать, то совсем взрослыми выглядели девчонки, которым исполнилось восемнадцать. Казалось, что они такие взрослые и уже всё знают…
Да, Бог с ними, с девчонками. Фильмы нашего детства, юности. Штирлиц-Тихонов не пожилой, но очень взрослый мужчина. Зрелого возраста Высоцкий. Леонов. Табаков…
Проходят десятки лет, ты снова смотришь фильмы с любимыми актёрами и думаешь: - Господи! А ведь Владимир Семёнович-то совсем мальчишка!.. И Мимино-Кикабидзе, почти подросток, пристаёт к стюардессе-старшекласснице Прокловой. И Леонов… Какой же он старик! Мужчина в расцвете лет!
Идёшь летом по городской улице и видишь прекрасных, одетых со вкусом, по последней моде, женщин, про которых говорят, что им пятьдесят, но почему-то ты не замечаешь у них, ни морщин, ни каких-то других, казалось бы, свойственных возрасту, изъянов.
Распрямляешься сам, подтягиваешь живот, делаешь обаятельную улыбку. И, как тебе кажется, у тебя загораются глаза.
А женщина, в лучшем случае, проходит мимо, просто тебя не заметив.
В худшем – думает: - Живой ещё дедушка. И передвигается ещё без посторонней помощи. Только вот лицо у него что-то перекосило (это про мою обаятельную улыбку).
– Дедушка, вам плохо? Может, вызвать врача?..
Самое подходящее, что можно в этом случае ответить, так это поддакнуть, согласиться: - Спасибо, дочка, я как раз в полуклинику… Я сам… Тут недалече…
ЖЕНЩИНА ПОСЛЕ…
Прибегает маленькая девочка домой с улицы, плачет, жалуется маме: - У Юрки есть писюнок, а у меня нету. Он смеётся надо мной и дразнится. – Не плачь, дочка, - успокаивает мама. Вырастешь – у тебя много писюночков будет…
Права мама девочки, но только отчасти. Поначалу, да. Исполняется девушке двадцать лет – и перед ней весь парк мужских писюночков в возрасте от двадцати до пятидесяти лет. Все дороги к ним открыты, все пути.
Но проходит десять лет.
Парк писюночков сокращается на десятилетие.
Ещё десять – остаётся всего ничего.
И вот наступает у женщины замечательный возраст: пятьдесят, ягодка опят. Время, когда уже не нужно предохраняться, не нужно себя сковывать в желаниях. Когда уже про эти мужские писюночки знаешь всего столько, что можешь уже предположить практически любой сценарий развития событий. Когда и можется, и – что главное! – ещё как хочется! И уже знаешь, чего именно, как и - сколько. Только… Писюночков мужских уже вокруг – раз, два и обчёлся…
Ну, тут я, может, несколько краски сгустил. Где-то, может, не точны рамки хронологии, но, в общем, картина следующая: к моменту женского полового расцвета, женское население вынуждено любоваться бледными красками мужского заката.
Царствие небесное моим родителям, но вспоминаю я, как в восьмидесятилетнем возрасте проговорилась мама, что переживает отец по поводу ослабевания мужских своих способностей. Папа на пять лет был мамы моложе…
А вот ещё друг рассказывал про своего отца-родителя. Папа его жил на старости лет одиноким, но активно пытался кем-то скрасить своё одиночество. В первый же день пребывания в каком-нибудь доме отдыха, папа, с помощью матюгальника, или же просто взобравшись куда-нибудь на возвышение, привлекал к себе внимание и объявлял о своих достоинствах: холост, два института, хорошая пенсия, хочет познакомиться с женщиной для серьёзных отношений. Кастинг в парке на скамейке в девятнадцать часов.
И женщины приходили. И, случалось, дело, действительно, доходило до серьёзных отношений. То есть: женщина приглашала дипломированного холостяка к себе жить. Кормила борщом. Стирала ему одежду. Показывала огород и кур.
Потом папа вдруг собирал чемоданчик и бросал свою подругу. Уезжал к себе домой. И с возмущением рассказывал родственникам, что очередная невеста ожидала от него ЕЩЁ ЧЕГО-ТО!!!
Я часто задумываюсь: у нас миллионы женщин в возрасте от пятидесяти до восьмидесяти лет. Все они не только живые, но среди них ещё очень много таких, кто бы ещё отнюдь не прочь порадоваться жизни во всех её самых счастливых подробностях. Но…
Я не зря начал отсчёт от пятидесяти лет. Многие в этом возрасте ещё на ногах, многие ещё бегают. Но мужчины, с теми замечательными качествами, за которые по преимуществу их женщины любят, эти мужчины как-то выпадают из списков кандидатов, которых ещё хочется, ещё удобно поздравить с Днём Святого Валентина. Номинально они ещё остаются в списках мужчин. Но ходят они по земле, доживают, отмеренные судьбой сроки, как уже никому не интересные зомби с ватерпасами.
После пятидесяти мужчины-самцы гаснут, как звёзды на утреннем небосклоне.
И вот – жизнь женщины: отмеренный ей судьбой срок она доживает без половой жизни. Ещё десять, двадцать, тридцать лет приходит весна, а прекрасное это время года, как будто уже умерло. Чирикают воробьи, насекомые жу-жу-жу, а для женщины в этом, за роковой чертой, возрасте – всё это уже какой-то параллельный мир. По телику песни про любовь, фильмы про любовь, на улицах по пятницам свадьбы, соседку бросил любовник (к другой ушёл, кобель) – всё это – из другого мира…
Мужику-то что: он походил несколько лет со своим ватерпасом и с облегчением умер, а женщине… Она ещё несколько лет остаётся жить. Одна в постели. Никто не принесёт цветов, не скажет «доброе утро!», а вечером, перед сном не поговорит, не погладит вагину…
Да, можно сказать: - Что это за глупости, мелочи какие! В Зимбабве народ голодает, российское здравоохранение лечить не успевает, пенсионный фонд – платить. В доме батареи полопались, а ЖКХ деньги дерёт…
И – далась она кому, эта половая жизнь на старости! Позор-то какой…
Но, как женской душе десятилетия ещё, изо дня в день, жить без… Любви?..
И ведь – живёт…
ПРО ВЫСОКИХ МУЖЧИН
Наша телевизионная программа «10 Ѕ» в бывшем городе Актюбинске, которая была обо всём и про всё, однажды познакомила своих зрителей с информацией, которую можно было бы отнести к весьма специфическим.
В «лихие» девяностые вдруг резко обвалился рубль. Ну, и последствия стали себя обнаруживать в тех уголках нашей жизни, в которые мы стараемся не заглядывать без крайней на то надобности.
Но – вначале о тех, в которые нам заглядывать приятно.
Самый продвинутый, авангардный, первый в Актюбинске частный еженедельник «Время» стал публиковать объявления о любовных знакомствах. Никто в актюбинщине до него этого не делал. А, поскольку людям не только интересно знакомиться для любви, но и про это читать, то и тираж еженедельника, естественно, подскочил.
Знакомиться хотели все и со всеми. Вначале робко, о потом всё смелее и смелее стали давать объявления «мальчик-мальчик», «девочка-девочка», «я вышел на пенсию, где ты, моя Лолита!» и пр.
Были в объявлениях требования к партнёру общего порядка. Женщинам хотелось, кроме того, чтобы избранник называл тёщу мамой, ещё и - чтобы рост у него был не менее, чем метр восемьдесят.
Ну и – ладно. Хотят – пусть ищут. Кому что.
Но тут обвалился рубль. И стали к нам в редакцию, наряду с другими, поступать тревожные звонки, что возникли проблемы человека похоронить. Гробы резко подскочили в цене. Раньше старики друг друга хоронили и как-то с этим тихо справлялись. А тут выяснилось, что на то, чтобы похоронить человека в гробу, элементарно не хватает средств. По городу поползли слухи о «многоразовом» использовании гробов. О том, что делать их стали уже, чуть ли не из картона, лишь бы покойника до кладбища довезти.
Ну, и – такой слух: если рост (или – длина?) покойника превышает метр восемьдесят, то платить за гроб уже нужно, чуть ли не двойную цену.
Вот так вот! Мечтает женщина, мечтает о мужчине высокого роста, а потом выясняется, что за это удовольствие нужно расплачиваться по повышенным тарифам.
Вообще, непонятно, что женщины хотят от высокого мужского роста? Какая от него польза? Ну, в кои-то веки лампочку завернуть, звёздочку на ёлку поцепить. В остальном же – одни расходы. Высокий мужчина с экономической точки зрения семье совсем не выгоден. Костюмы ему нужно большие покупать, длинные. Туфли огромные. Кормить нужно… Даже в армии рослым солдатам дают дополнительную пайку.
Да, насчёт нашей армии. Современной. Набор ударных боевых частей Российской Красной Армии сейчас ведётся в основном из деревень. Во-первых, потому, что у деревенских нету таких серьёзных денег, чтобы от армии откупиться. Во-вторых, они смотрят единственный первый канал телевизора и верят, что армия для мальчика – это и долг и честь.
Но не всегда деревенские подходят под физические стандарты, какие для нашей Армии необходимы. Зачастую рост не достигает полутора метров, а те, кто счастливо для папы с мамой эту планку преодолел, не проходят по весу.
Ну, эти фокусы известны всем ещё со времён бравого солдата Швейка. Рост, конечно, призывнику выправить трудновато. А вот с весом… И направляют деревенских мальчишек-доходяг на «доращивание» в специальные лагеря. Кормят там их, как на убой, как будто завтра на передовую. За три-четыре недели с тридцати килограммов вес будущего десантника достигает уже сорока. Как минимум, его уже можно выставлять против китайца. Другое дело, что через две недели в армии, после того, как новобранец примет присягу перед знаменем, в туалете, перед «дедами», его тельце вернётся к первоначальному объёму. Ну, подумаешь, двух наших десантников выставим против одного китайца. И вообще – богатства наши будут прирастать Сибирью. Когда вся Сибирь «прирастёт», заполнится Иванами Ивановичами, выходцами из Китая, то мы и троих против ихнего одного выставить сможем.
Одна закавыка – враг-то у нас один, основной – Америка!..
Однако, вернёмся к нашим баранам.
Итак, что толку от мужчины высокого роста?
Длинный, или маленький пролежит весь вечер на диване с газетой перед телевизором? Длинный диван промнёт больше. Еды съест больше. В кровати кругом его ноги. И совсем нет никакой прямой зависимости между ростом мужчины и его мужскими качествами. Весь организм растягивается на длину рук и ног. Естественно, что это происходит за счёт сокращения других жизненно важных, органов. К другому присовокупится только в том случае, если от чего-то отымется…
А потом ещё этот… гроб… И раньше в минуты потери близкого человека бывало грустно, а теперь, когда, говорят, цены на гробы для длинных мужиков удвоились, то стало горше ещё в два раза.
И программа «10 Ѕ» решила прояснить ситуацию.
Мы выехали со съёмочной группой в похоронное бюро, которым заведовал Георгий Дзоценидзе, и спросили напрямую:
– А, что, существует ли разница в расценках на гробы для покойников обыкновенных и для тех, кому за сто восемьдесят?
– Нет. - Ответил Георгий Дзоценидзе. - Никакой разницы между покойниками в плане расценок на гробы мы не делаем.
Вопрос, который вызывал тревогу у граждан Актюбинска, проживающих со своими высокорослыми родственниками, был снят.
Этот выпуск программы «10 Ѕ» был опубликован в еженедельнике «Время» на последней странице.
Там же, где размещались объявления о знакомствах и некрологи.
ПРО ВЫСОКИХ ЖЕНЩИН
Это, конечно, субъективно.
Почему высокие женщины выбирают маленьких мужчин?
Чёрная сигара не идёт в усах вам. Она – для негра с чёрными усами!
Высокую женщину – высокому мужчине!
Ан – нет. Высокая – так обязательно возле неё какой-нибудь Дэнни Де Вито, маленький лысый малыш.
А вот представьте жизнь высокого мужчины. Вокруг все или одного роста, или пониже. Но почти все женщины – ниже. Невысокий рост женщины, по сравнению с мужчиной, это её дополнительный вторичный половой признак.
Если рядом с высоким мужчиной оказывается высокая женщина, он начинает чувствовать себя как-то неуютно. Что-то в мире нарушается, смещается. Он, как вроде снова становится маленьким. Или – возникает ощущение, что женщина, которая рядом – одного с ним пола. Потому что привычный рост женщины – маленький.
Это, как если, впервые целуясь с женщиной, провести рукой у неё по грудям и вдруг обнаружить на их месте абсолютно гладкое место.
Нет признака – нет женщины. Или – нужно к этому привыкать. Для первой встречи это неподъёмно.
И – представьте жизнь высокой женщины.
Для неё рост партнёра к половым признакам не относится. Потому что в основном все рядом с ней – и мужчины, и женщины – маленькие. Вот эти маленькие – мужчины. А вот эти маленькие – женщины. И женщина с интересом наклоняется, разглядывает мужчину, который хочет завладеть её вниманием. Он подпрыгивает, пытаясь заглянуть ей в глаза. Говорит о своих чувствах повышенным тоном – чтобы докричаться. Пытается добросить до уровня её глаз букет с цветами.
В конце концов, ему удаётся взобраться, допрыгнуть до всего, о чём он так страстно мечтает.
ДЛЯ ЧЕГО МЫ РАЗНЫЕ?
Мужчины и женщины мир воспринимают по-разному. Поэтому между ними часто возникают споры, в которых каждый чувствует себя правым и никак не может понять, почему о вещах, вполне очевидных, нужно спорить и ещё чего-то доказывать.
Естественно, закрадывается мысль, что жена или подруга дура, а прекрасная половина тихо и обречённо думает, что муж, друг просто в некоторых вопросах козёл.
Вспоминается придумка служащих английского метрополитена, которые выпустили две разные карты одного и того же метро. Одну – для своих английских дур, другую – для сэров-козлов.
С художниками сотрудничали учёные.
И, говорят, и та и другая половина английского общества весьма положительно оценила внимательность и деликатность сотрудников подземки. Леди как-то сразу подходили любоваться картинкой, приготовленной для них, джентльмены молниеносно ориентировались в мужской схеме.
Вообще Творец, созидая мир и всяких тварей, ничего не делал просто так. Во всём, если приглядеться, всегда был и умысел и промысел.
И, почему же он, поделив человечество по половому признаку, ещё и в мозги внёс это непонятное различие? Ну, сделал бы всех одинаковыми – и тоже бы не сомневался, что это хорошо.
Познакомились парень с девушкой, дружат – и никаких споров у них, никаких разногласий.
Супружеские пары жили бы бесконфликтно по пятьдесят лет – и тоже всё замечательно до того, что вспомнить нечего.
Но тогда возникает вопрос: а зачем человеку два уха? Глаза? Две ноздри, руки?
Ведь, кажется, если смотреть на мир двумя глазами, то ничего нового о нём не узнаешь. Одним глазом посмотри – домик, речка, огород. Закрой его, посмотри другим – то же самое.
Но вот двумя-то глазами смотреть лучше. И, если ухо одно, то и определить трудно, откуда марал кричит, с какой стороны трамвай по путям грохочет.
Выходит, на мир смотреть, его слушать, нюхать лучше всё-таки с разных точек! Чтобы картина полнее была.
Вот и создавая мужчину и женщину, Творец, предполагая, что потом, как им не вертеться, а нужно объединяться в одно целое, наделил их чуточку разным взглядом на свой мир. Чтобы видели они его в объёме. Чтобы, соединившись, полнее видели, понимали, чувствовали его красоту.
Но – созерцание природы влюблёнными парами в 3D, вряд ли являлось главной целью Создателя. Свой рукотворный мир Он представлял не как застывшую, раз и навсегда удачную, совершенную догму, а - как развивающуюся конструкцию.
Об эволюции Он начал думать гораздо раньше Дарвина и его обезьян.
И вот для того, чтобы родители, воспитывая своё потомство, могли полнее заряжать его всякой, полезной для жизни, информацией, им и была подарена такая способность видеть мир по-разному.
Не для того, чтобы спорить на кухне про борщ или выяснять, из-за чего они поженились и кто первый. А – для более тонкого продвижения своих чад вверх, по ступенькам эволюции.
Папа поговорил с сыночком о технике, дал посидеть за рулём машины, мама булочку в рот засунула, по попке шлёпнула – вот и сразу, рывком и продвинулся ребёнок в развитии.
Конечно, вырастают нормальные дети и при одном родителе.
После войны целое поколение на мамах выросло. Ничего, в общем-то. И на поколении это никак не сказалось. Совсем не заметно.
Как, в принципе, если смотреть на мир одним глазом.
Почти
никакой
разницы.
ВНУЧКА
Перед новогодними праздниками шестилетняя внучка Катенька торжественно мне сообщает: - Меня на Новый год выбрали Снегурочкой!
Этому невозможно было не обрадоваться. Я обрадовался. И спрашиваю: - А кто будет Дедом Морозом?
– ???????????
Катенька молчит и смотрит на меня с очевидным непониманием.
Я повторяю вопрос. – А, кто, - мол, Дедом Морозом-то будет?..
– Никто…
– Ну, как это никто? У вас что, Деда Мороза не будет?
– Будет.
– А кто будет Дедом Морозом?
Опять: - Никто.
– Ну, вот ты, Катенька, будешь Снегурочкой, а кто у вас будет Дедом Морозом?..
И тут Катенька, кажется, понимает.
Она понимает, что дедушка уже старенький и просто кое-где тормозит. И просто уже забыл, откуда берутся Деды Морозы.
– Ну, дедушка!.. Он же – НАСТОЯЩИЙ!!!...
Звоню сыну. Трубку берёт Катенька.
– Алё!..
– Добрый вечер, Екатерина Викторовна!
– Здравствуйте…
– Екатерина Викторовна, Вы сегодня замечательно выглядите!..
Катенька молчит, слушает.
– Мне очень нравятся Ваши волосы, у Вас очень красивые глаза…
Ребёнок слушает дальше.
– Катенька, а папа с мамой дома?
– Да…
– Ты им скажи, пожалуйста, что мы с бабушкой подойдём к ним через полчасика.
– Хырашшоу!.. – раздаётся в трубке тонкий голосок, в котором неожиданно угадываются нотки фотомодели, уставшей от многочисленных признаний поклонников.
На другой день я зашёл за внучкой в садик. Катенька весело одевалась, отбегала, приносила тетрадку, в которой были её рисунки и отличные оценки преподавательницы. Потом вдруг остановилась, встретилась со мной на какой-то момент глазами, которые вдруг стали совсем серьёзными, и тихо сказала:
– Дедушка… А я всё помню, что ты мне вчера говорил…
ЖЕНЩИНА И… БОГ…
Скоро Восьмое Марта. Чаще, чем обычно, думается про женщин. Обычно думается всё время, а перед Восьмым Марта чаще.
И вот что пришло в голову ни с того, ни с сего.
Что вот верю я в Бога. Хотя говорить об этом не люблю. Дело это личное, интимное. Но… Не смогу пройтись пешком по озеру. Не такая у меня вера, не совершенная. Но я приблизительно знаю, какой она должна быть. Какие чувства нужно к Богу испытывать. Мне есть с кем сравнивать. С Женщиной.
Вот, когда в неё влюбляешься, то чувство это может быть бесконечно далеко от обычного полового влечения. Просто восторг. Просто – счастье. Непрерывное, сладостное, всепоглощающее. Когда приближаешься к ней – перестают действовать законы гравитации. Да, и озеро можно спокойно перейти и перешагнуть через пропасть. И счастье всё – и прикосновение, и голос, и запах. И даже вещи любимой женщины становятся священными, на них как бы нисходит благодать от вашего Божества. Забытый шарфик. Запах духов. Оставленный волосок на расчёске…
Но – нет, конечно, сравнивать никак нельзя! Кощунство! Богохульство! Но я -сравниваю. Редко, но в церковь я захожу. Крещусь перед иконами, читаю молитвы. И я понимаю разумом, что должен был бы испытывать какой-то трепет, но – нету трепета.
Я чувствую это несоответствие, эту разницу и думаю, что я, конечно не прав. И так, как я отношусь к Женщине, нужно относиться к Богу. Но, ведь нельзя просто механически поменять их местами, чтобы было правильно. Чтобы перед Женщиной помолился, поставил свечку, а, перед Богом – радость, восторг. Потеря гравитации…
Что-то не правильно у меня.
Прости меня, Господи!..
Картина на обложке - Numberism. Sienna Morris.


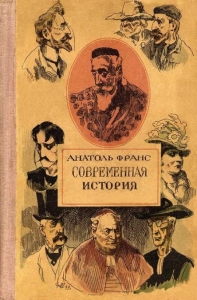

Комментарии к книге «КОД ПРЕДАТЕЛЬСТВА», Александръ Дунаенко
Всего 0 комментариев