I Эгюзон
Мало найдется во Франции таких унылых городишек, как Эгюзон, расположенный на юго-западе провинции Берри, у границы с Маршем. Около сотни домиков, довольно убогих (если не считать двух-трех, принадлежащих зажиточным владельцам, которых мы не назовем, щадя их скромность), образуют две-три улицы этого местечка, прославившегося на десять лье в округе сутяжничеством своих обывателей и скверными дорогами. Невзирая на эту последнюю помеху, которой вскоре не станет — когда проложат наконец новое шоссе, — немало путешественников отважно преодолевают пустынные окрестности Эгюзона и, рискуя своими двуколками, трясутся по его ужасающей мостовой. Единственный постоялый двор расположен на единственной площади городка, тем более обширной, что она неприметно переходит в поле и словно ждет, когда на ней вырастут новые дома будущих горожан; летом, в дни наплыва проезжих, на постоялом дворе вынуждены отказывать гостям в приюте и отсылать их в соседние дома, где их, впрочем, встречают весьма радушно. Эгюзон ведь стоит посреди живописной местности, усеянной величественными развалинами: пожелаете ли вы осмотреть Шатобрен, Крозан, Прюньо-По или, наконец, еще не вполне разрушенный и доныне обитаемый замок Сен-Жермен, вы непременно должны будете переночевать в Эгюзоне, чтобы ранним утром начать осмотр этих достопримечательностей.
Несколько лет тому назад, когда в душном воздухе чувствовалось приближение грозы, жители Эгюзона провожали изумленным взором статного молодого человека, который вскоре после захода солнца проезжал через площадь, покидая город. Погода хмурилась, быстрее обычного наступала темнота, а между тем молодой путник, слегка перекусив на постоялом дворе и задержавшись ровно столько, сколько требовалось, чтобы конь мог передохнуть, отважно пустился на север, не внимая увещаниям трактирщика и, по всей видимости, не страшась предстоящего пути. Юноша не был никому знаком. На расспросы он отвечал нетерпеливым пожатием плеч, на уговоры — улыбкой. Звонкий топот его коня вскоре затих вдали.
— Дело ясное, — решили городские зеваки. — Видно, молодой человек знает дорогу как свои пять пальцев или вовсе ее не знает… То ли он раз сто по ней ездил и каждый булыжник наперечет помнит, то ли понятия о ней не имеет — и тогда ему придется туго!
— Наверно, он нездешний да в придачу еще самонадеян. Подождите-ка с полчасика: только непогода разыграется, он и возвратится, — предсказал чей-то рассудительный голос.
— Если не свернет себе шею при спуске с Пильского моста, — заметил кто-то.
— Его добрая воля, — дружно согласились присутствующие. — Пора ставни закрывать, как бы градом стекла не побило!
И по всему городку пошел гулкий стук поспешно затворяемых окон и дверей, а ветер, завывая над зарослями вереска, опережал запыхавшихся служанок и больно ударял их тяжелыми створками деревянных ставен: местные плотники, верные обычаям предков, не пожалели на них ни дуба, ни железа. На улице то и дело раздавались чьи-то возгласы — это соседи, стоя на пороге своих домов, перекликались друг с другом.
— Ваши-то вернулись?
— Эх, у меня еще два воза не свезено!
— А у меня еще шесть копен стоят!
— Ну, а мне и горя мало: все уже под крышей…
Речь шла об уборке сена.
Всадник погнал рысью превосходную бреннскую лошадку; тяжело нависшая туча осталась позади, и, нахлестывая коня, он уже радовался, что сумел ускакать от грозы. Но вдруг дорога круто повернула, и ездок понял, что дождь непременно настигнет его сбоку. Он накинул плащ, притороченный ремнями к баулу, опустил ремешок картуза и, дав шпоры коню, помчался во весь опор, рассчитывая, по крайней мере засветло, миновать опасные места, о которых его предупреждали. Но он обманулся в своих ожиданиях: дорога становилась все круче, и ему пришлось пустить коня шагом, осторожно выбирая путь, так как склоны были сплошь усеяны обломками скал. Когда он поднялся на вершину горы, у подножия которой протекала Крёза, тучи заволокли уже все небо, наступила кромешная тьма, и лишь по глухому реву потока он мог судить о глубине пропасти, по краю которой пролегала тропинка.
Юности свойственна отвага, и всадник, презрев нерешительность сторожкого коня, направил его вниз по опасному склону, который с каждым шагом становился все бугристее и обрывистее. Но внезапно лошадь шарахнулась и разом стала, изрядно встряхнув при этом всадника. В ярком свете молнии он увидел, что находится на самом краю пропасти и, сделай лошадь еще шаг, — очутился бы на дне Крёзы.
Полил дождь; яростный вихрь раскачивал верхушки старых каштанов, пригибая их к земле. Ветер гнал всадника вместе с конем прямо в реку, и опасность была столь очевидной, что, желая спастись от неистовых порывов бури, ездок спешился: так меньше хлестал ветер и легче стало находить во мраке дорогу. Картина, промелькнувшая в блеске молнии перед его взором, показалась ему восхитительной; впрочем, обстоятельства, в которых он очутился, полностью отвечали любви к приключениям, столь свойственной юности.
Снова вспыхнула молния, и это позволило путнику еще раз обозреть местность, а при третьей вспышке он уже ясно различил все вокруг. По крутому склону оврага вилось несколько тропинок, протоптанных лошадиными копытами и усеянных рытвинами; тропинки причудливо переплетались, образуя довольно широкий путь, по которому, однако, было трудно передвигаться. Ни изгороди, ни придорожной канавы — видимо, никто не заботился здесь об удобствах путешественников. Пешеходы карабкались по облысевшим склонам, как им заблагорассудится: летом протаптывали стежку тут, зимою — там или же восстанавливали прежнюю, давно забытую и плотно утрамбованную от времени дорожку. Между этими прихотливо извивающимися тропками торчали скалистые бугорки, неотличимые в темноте от клочковатых зарослей вереска; а тут еще одна стежка пролегала выше, другая ниже и переходить с одной на другую было страшно, так как ничего не стоило сорваться вниз. К тому же дорожки не только круто вздымались вверх, но и сильно кренились в сторону обрыва, так что при спуске приходилось резко откидываться назад и влево. Словом, среди всех этих запутанных тропинок не было ни одной надежной. За лето они были одинаково истоптаны местными жителями, которые шагали по ним среди бела дня, не разбирая дороги; но во мраке грозовой ночи ошибиться было небезопасно, и юноша, заботясь о том, чтобы его любимый конь, который был ему дороже жизни, не повредил себе ног, решил укрыться под первым же скалистым выступом, достаточно высоким, чтобы служить защитой от резких порывов ветра, и переждать там, пока хоть немного прояснится. Прислонившись к Вороному и краем плаща прикрыв седло и бока своего верного друга, он впал в мечтательную задумчивость, наслаждаясь завыванием бури, тогда как жители Эгюзона — если только они еще помнили о нем в эту минуту — воображали, должно быть, что он охвачен тревогой и отчаянием.
Молнии вспыхивали одна за другой, и вскоре молодой человек уже довольно хорошо ознакомился с окружающей местностью. Дорога подымалась по противоположному склону оврага столь же круто, как только что спускалась, и представляла для путника не меньшие трудности. Полноводная прозрачная Крёза почти бесшумно катила свои волны по дну пропасти, с глухим и протяжным ревом врываясь под тесные своды старого и, видимо, шаткого моста. Впереди все исчезало за крутым поворотом дороги, но слева простиралась зеленая даль раскинувшихся по склонам сочных лугов, среди которых змеилась река, а прямо перед глазами путника, на высокой горе, щерившейся грозными скалами, выступавшими над пышной растительностью, возвышались еще мощные, хотя и полуобвалившиеся башни огромного разрушенного замка. Но если бы даже смелому юноше и пришло в голову искать там убежища от грозы, он отказался бы от этой мысли, ибо замок, отрезанный от дороги другим оврагом, по которому несся поток, низвергавшийся в Крёзу, казался совершенно недоступным. Необычайно живописная местность при мертвенно-бледном отблеске молний выглядела весьма зловеще, что про нее никак нельзя было сказать при свете дня. Крыша замка обрушилась и обнажила гигантские печные трубы, вонзавшиеся в тяжелую, нависшую над ними тучу, словно они стремились ее разорвать. Когда мгновенные вспышки молний рассекали небо, развалины белым видением вставали из тьмы, но стоило глазу освоиться с мраком, они вырисовывались черной громадой на более светлом небосводе. Яркая звезда, которую облака не осмеливались, казалось, поглотить, долго сияла над горделивой башней замка, подобно драгоценному алмазу на челе великана. Затем она исчезла, и сквозь потоки дождя, полившего с удвоенной силой, путник видел все как сквозь густую сетку. Падая на ближние скалы и на окаменевшую от летнего зноя почву, струи подскакивали и вскипали белой пеной, образуя вихри водяной пыли, которые подхватывал ветер.
Молодой человек подвинулся, чтобы надежней укрыть коня под естественным каменным навесом, и тут обнаружил, что в этом убежище он не один. Какой-то незнакомец искал приюта под тем же выступом, а может быть, забрел сюда раньше нашего путника. Ослепительный свет чередовался с непроницаемой тьмою, и поэтому трудно было что-либо увидеть. Всаднику не удалось как следует разглядеть пешехода, но одежда незнакомца показалась ему убогой, лицо — не внушающим доверия. Вдобавок тот явно хотел остаться незамеченным и стремился поглубже забиться под скалу, однако, догадавшись по восклицанию молодого человека, что его обнаружили, незнакомец сразу же громко и уверенно заговорил:
— Неважная погода для прогулки, сударь! Лучше бы вам вернуться в Эгюзон.
— Благодарствуйте, дружище! — ответил молодой человек и с силой рассек воздух хлыстом со свинцовым наконечником, давая понять своему подозрительному собеседнику, что он вооружен.
Тот превосходно понял намек и в ответ как бы невзначай хватил толстой дубиной по скале, так что осколки камня полетели во все стороны. Оружие было надежное, да и рука также.
— По такой погоде далеко не уйдешь, — снова заговорил пешеход.
— Далеко или близко — это уж мое дело, — возразил всадник, — и никому не советую меня задерживать.
— Видать, вы струсили — не иначе как воров испугались, — а то не стали бы грозить, когда с вами говорят по-хорошему. Не ведаю, молодой человек, из каких вы краев, но, видно, не знаете, что у нас, слава богу, ни воры, ни разбойники, ни душегубы не водятся.
Заносчивый, но искренний тон незнакомца внушал доверие. Юноша заговорил уже мягче:
— Так вы здешний, дружище?
— Да, сударь, был здешний, здешним и останусь.
— Вы правы, что никуда отсюда не хотите двигаться: славные здесь места.
— Ну, как сказать! Нынче, например, не порадуешься: погода бесовская; дождь как зарядит, так уж на всю ночь.
— Неужели на всю ночь?
— Уж будьте покойны! Ежели вздумаете выбираться ложбиной, так вам от грозы и до полудня не уйти. Но я так думаю: раз вы на ночь глядя пустились в дорогу, значит, у вас есть где переночевать.
— По правде сказать, я и не предполагал, что место, куда я держу путь, так далеко. Я почему-то вообразил, что в Эгюзоне просто хотят меня задержать, а потому преувеличивают и расстояние, и трудности дороги. Но еду я всего только час, а вижу, что меня не обманули.
— Любопытно, куда же это вы направляетесь?
— В Гаржилес… Далеко это?
— Не очень, сударь, когда на дворе светло. Но раз вам эта дорога незнакома, так вам и ночи не хватит. Здешние места — пустяки, но вот как будете перебираться из ложбины Крёзы в ложбину Гаржилесы, там такие волчьи ямы пойдут — ни за что пропадете!
— Послушайте, дружище, а вы не проводите меня? Я бы хорошо отблагодарил.
— Нет уж, сударь, спасибо…
— Значит, дорога действительно опасна, раз вы не желаете оказать мне эту услугу?
— Для меня-то она не опасна, я ее знаю не хуже, чем вы парижские улицы. Но с какой радости стану я всю ночь мокнуть для вашего удовольствия?
— Ну что ж! Как-нибудь обойдусь и без вашей помощи. Но я ведь не задаром прошу, я предлагаю…
— Нечего, нечего!.. Хоть вы и богаты, а я бедняк, да я ведь с протянутой рукою еще не хожу и первому встречному служить не намерен! У меня на то свои причины! Знать бы, кто вы такой…
— Значит, вы мне не доверяете? — спросил молодой человек, любопытство которого было возбуждено смелой и горделивой отповедью собеседника. — Чтобы доказать вам, что недоверие — порок, я заплачу вперед. Сколько вы хотите?
— Простите, сударь, виноват… Ничего я не хочу! Нет у меня ни жены, ни детей — ничего мне и не надо. Но зато есть у меня друг, добрый приятель, у него тут жилье неподалеку. Вот только немного прояснится, я к нему доберусь, поужинаю и высплюсь под крышей. С какой стати мне лишаться всего этого ради вас, скажите на милость? Уж не потому ли, что у вас лошадь добрая и новенький плащ?
— Гордость ваша мне по душе, но она ни к чему: ведь это услуга за услугу.
— А я вам и оказал услугу, какую мог. Предупредил ведь: не ходите ночью — темно, хоть глаз выколи, да и дороги через полчаса совсем развезет… Чего же вам еще?
— Ничего… Я к вам потому за помощью обратился, что хотел узнать нравы здешних жителей. Видно, они только на словах хороши с приезжими.
— С приезжими! — воскликнул берриец с оттенком грусти и укоризны, поразившим путника. — А что мы от них видели, кроме худого? Нет, сударь! Люди несправедливы! Но бог все видит, ом знает, как безропотно крестьянин дает себя стричь образованным, что наезжают из больших городов.
— Значит, горожане причинили вам много зла? Вот уж не думал; да я за них не в ответе — ведь я тут у вас впервые.
— Едете-то вы в Гаржилес? Значит, к господину Кардонне? Вы, наверно, ему родственник или приятель?
— А кто он, этот Кардонне? Вы на него, очевидно, в обиде? — спросил молодой человек после минутного колебания.
— Не будем об этом, сударь! — возразил крестьянин. — Если он вам не знаком, вам и слушать о нем неинтересно. А раз вы богаты, так опасаться вам нечего: он только, беднякам страшен.
— Но все же, — возразил путник не без сдержанного волнения, — быть может, у меня есть основание любопытствовать, какого мнения в этих местах о господине Кардонне. Если вы отказываетесь объяснить, по какой причине вы дурно о нем думаете, значит, вы что-то против него имеете, и это что-то вам чести не делает.
— Я никому отчетом не обязан, — возразил крестьянин, — что думаю, то при мне и останется. Доброй ночи, сударь! Дождь как будто перестает. Жалею, что не могу предложить вам ночлег, но у меня только и есть для ночевки, что вон тот замок, да и тот не мой. Однако, — добавил он, сделав несколько шагов и остановившись, словно в раскаянии, что плохо выполняет долг гостеприимства, — если вы вздумаете искать там приют, ручаюсь, что примут вас неплохо.
— Разве в этих развалинах кто-нибудь живет? — спросил молодой человек, которому надо было спуститься в овраг, чтобы переправиться через Крёзу; и он зашагал рядом с крестьянином, ведя лошадь под уздцы.
— Это верно, что развалины, — заметил его попутчик, подавляя вздох, — но еще на моей памяти — а не такой уж древний я старик — замок стоял целехонький, во всей красе, и снаружи и изнутри такой, что хоть королю поселиться впору. Хозяин не слишком тратился, чтобы поддерживать и украшать его, да и незачем было — так он был крепко да ладно сложен: стены обтесаны хорошо, камины и рамы сработаны на загляденье. Какое же еще нужно убранство? Каменщики да строители потрудились на совесть — богаче не украсишь! Но всему приходит конец, и богатству — тоже, вот последний владелец Шатобрена и откупил дедовский замок всего-навсего за четыре тысячи франков!
— Возможно ли?! Такая груда камня, пусть даже в развалинах, — и за такую малость?!
— Эта груда камня имела бы цену, если бы здание можно было разобрать и камень вывезти, но где в наших краях найдешь рабочих и раздобудешь инструмент, чтобы развалить этакую громадину? Уж не знаю, чем крепили в прежнее время, только скреплено до того прочно, что башни и наружные стены словно из глыбы вытесаны. Да к тому же здание стоит на вершине горы, а кругом пропасти. Где уж тут весь этот камень вывезти! Какая телега его возьмет, какая лошадь?! Пока гора не рухнет, так эта громада и будет на утесе стоять, и этих сводов еще надолго достанет, чтобы приютить незадачливого хозяина с дочерью.
— Значит, у нынешнего владельца Шатобрена есть дочь? — спросил молодой человек, с возросшим интересом взглянув на замок. — И живет тут?
— Ну да, тут, вместе с филинами и совами! И не дурнеет от того, не хиреет. Воздуха и воды вдоволь, и, хотя нынешние законы насчет охоты строги, на столе у господина Шатобрена частенько увидишь то зайца, то куропатку. Так вот, сударь, если вам не так уж к спеху попасть в Гаржилес, чтобы рисковать из-за того жизнью, идем-те-ка со мной! Примут вас хорошо, я уж постараюсь. Да тут особых стараний и не нужно: господин Антуан де Шатобрен не прогонит в такую ночь доброго христианина, приютит и накормит.
— Но хозяин замка, видимо, очень беден. Мне совестно злоупотреблять его добротой.
— Да что вы! Он только рад будет!.. Эге, гляньте-ка, непогода снова разыгралась пуще прежнего! У меня совесть будет не чиста, если я вас одного оставлю тут в горах… Уж вы не обижайтесь, что я вас давеча проводить отказался: у меня были на то свои причины; вы о них судить не можете, и я вам их выкладывать не стану! Но мне не уснуть спокойно, если я не уговорю вас. Я ведь господина Антуана знаю: он крепко на меня подосадует, что я вас не привел. Чего доброго, сам за вами прибежит, а уж это для него и вовсе нездорово, особливо после ужина.
— А вдруг его дочь рассердится, увидев какого-то незнакомца?
— Дочь-то ведь его — значит, она в отца и не хуже его, если только не лучше!
Молодой человек заколебался, но, подстрекаемый романтическим воображением и любопытством, мысленно заранее рисуя себе жемчужину красоты, обитающую в этих угрюмых стенах, он подумал, что ждут его в Гаржилесе не ранее завтрашнего дня, что, приехав среди ночи, он нарушит мирный сон своих родителей, что, наконец, упорствуя в своем намерении снова пуститься в путь, он совершит подлинную неосторожность. Да и мать его, конечно, не допустила бы этого, будь у него возможность испросить ее совета. Убежденный собственными доводами, как это бывает, когда в дело вмешается бес юности и любопытства, молодой человек двинулся вслед за провожатым в направлении старого замка.
II Замок Шатобрен
Минут двадцать спустя наши путники, с трудом преодолев крутую тропинку, или, вернее, грубые ступени, высеченные прямо в скале, достигли замка Шатобрен. Ветер и дождь усилились, и юноша не успел разглядеть как следует величественный портал: перед его глазами лишь на мгновение выступили неясные очертания какой-то громады. Он заметил только, что вместо традиционной решетки вход преграждал деревянный заборчик, похожий на полевую изгородь.
— Подождите, сударь, — сказал ему провожатый, — я перелезу и поищу ключ. Можете себе представить, эта старуха Жанилла с недавних пор вздумала повесить замок. А что у них возьмешь? Впрочем, она с самыми добрыми намерениями, я не в осуждение ей говорю…
Крестьянин ловко перелез через изгородь, а молодой человек ждал, тщетно пытаясь разобраться в хаосе гигантских развалин, смутно различимых в глубине двора.
Минуту спустя какие-то люди открыли загородку, кто-то взял под уздцы лошадь, кто-то повел за руку самого юношу, еще кто-то осветил дорогу фонарем — иначе здесь было бы не пробраться: обломки камня и кустарник преграждали путь. Наконец, пройдя через внутренний двор и вереницу просторных темных зал, где свободно гулял ветер, они очутились в длинной сводчатой комнате, по всей видимости бывшей в прежние времена не то буфетной, не то кладовой и расположенной где-то между кухней и конюшнями. Ныне это старательно выбеленное помещение служило владельцу Шатобрена гостиной и столовой. Его обогревал небольшой камин с навесом и деревянными наличниками, навощенными до блеска. Огромная чугунная доска, вынутая, очевидно, из какого-нибудь большого камина в старом замке, занимала всю внутренность очага; вместе с высокой решеткой из полированного железа она великолепно отражала тепло и свет пылающего огня, отчего в этой полупустой комнате с белыми стенами, освещенной всего лишь небольшой жестяной лампочкой, было совсем светло. Стол каштанового дерева, за которым в торжественных случаях могло уместиться до шести человек, несколько соломенных стульев и немецкие часы с кукушкой, купленные у коробейника за шесть франков, составляли скромное убранство гостиной. Но все тут поражало опрятностью: стол и стулья немудреной работы деревенского столяра так и блестели, свидетельствуя об усердном применении щетки и воска; пол перед очагом был аккуратно подметен и посыпан песком на английский манер — новшество для здешних мест, — а на камине, в глиняном горшке, красовался огромный букет роз, вперемежку с полевыми цветами, какие растут на окрестных холмах.
В этом скромном убранстве не было на первый взгляд и признака изысканности или какой бы то ни было поэтической живописности. Но, приглядевшись получше, можно было заметить, что и здесь, как во всяком жилище, характер и врожденный вкус хозяйки наложили свой отпечаток на выбор помещения и его убранство. Молодой человек, попавший сюда впервые и предоставленный самому себе, пока хозяева были заняты приготовлениями к достойному приему гостя, вскоре составил довольно правильное представление о склонностях здешних обитателей. Во всем сказывалась давняя привычка к изяществу и сохранившаяся поныне потребность в уюте; но ввиду стесненных обстоятельств здесь благоразумно отказались от всяких суетных притязаний на внешний блеск и потому из немногих зал огромного здания, не поддавшихся разрушению, выбрали именно эту небольшую, но милую комнату, которую к тому же легче было убрать, отопить, обставить и осветить. Эта обитель представляла собой не что иное, как первый этаж квадратного флигеля, пристроенного в период позднего Возрождения к древним стенам, ограждавшим внутренний двор со стороны главного входа. Архитектор, соорудивший эту угловую башенку, стремясь сгладить контраст между двумя столь различными стилями, придал окнам форму защитных бойниц и наблюдательных отверстий, но ясно было, что эти небольшие круглые окошки никогда не служили пушкарям и попросту являлись украшением. Окаймленные узорными наличниками из красного кирпича и белого камня, они делали помещение необычайно красивым изнутри. В простенках между окнами шли симметрично расположенные ниши с такими же узорными наличниками, так что не было нужды ни в обоях, ни в обивке и даже мебели, — они бы только перегрузили эти стены, ничего не добавив к их привлекательной простоте.
В одной из ниш, на белой, блистающей, подобно мрамору, плите, что служила ей основанием, путник увидел хорошенькую деревенскую прялку с веретеном, на которое намотана была коричневая шерсть. Созерцая это хрупкое и трогательное орудие труда, молодой человек погрузился в задумчивость, из которой его вывел шелест женского платья. Он стремительно обернулся, но его ждало глубокое разочарование, юное сердце забилось напрасно: бесшумно ступая по песку, которым был посыпан пол, вошла старая служанка и подбросила в камин охапку сухих виноградных лоз.
— Пододвиньтесь к огню, сударь, — сказала старуха, так сильно картавя, что это казалось почти нарочитым, — дайте-ка мне ваш картуз и плащ, я просушу их на кухне. Какой славный плащ! Не знаю, как зовется эта материя, но я видела точно такую в Париже. Вот бы нашему графу такой плащ! Да он, надо полагать, дорогой, и, кто знает, захочет ли граф носить плащ! Ведь он воображает, что ему все еще двадцать пять, и ежели с неба льет, так от этого будто бы ни один порядочный человек не простужался, — а сам прошлой зимой воспаление седалищного нерва подхватил! Но в ваши годы такие болезни не страшны… Однако погрейте-ка спину. А ну, поверните стул, так-то будет лучше! Бьюсь об заклад, что вы парижанин! У вас кожа чересчур бела для наших мест. Хорошие места, сударь, но уж очень жарко летом, а зимой слишком холодно. Вы скажете, что нынче ночь студеная, словно в ноябре. Это верно, да что поделаешь — гроза. Но комната у нас хорошая, ее легко отопить — посидите с минуту, сами почувствуете. Да и в валежнике недостатка нет. Пропасть сухого дерева! Одного только кустарника, что растет на дворе, хватит, чтобы всю зиму печку топить! Правда, мы никогда большого огня не разводим, граф не великий едок, да и дочка в него; самый большой прожора — наш парнишка-слуга, он один три фунта хлеба в день проглотит; но я для него отдельно хлеб пеку — подсыпаю побольше ржаной муки. Для него и так сойдет, а если добавить отрубей, так оно еще сытнее и для здоровья полезней. Ха-ха! Смейтесь, смейтесь, я не обижусь. Я, знаете, всегда любила посмеяться, да и поболтать тоже. Работа тогда лучше спорится, а я люблю, чтобы все у меня спорилось. Господин Антуан вроде меня: если уж он сказал — лети словно ветер! В чем другом, а в этом мы с ним всегда согласны. Вы уж нас простите, сударь, вам придется немного подождать. Граф спустился в погреб с человеком, что вас привел, а ступеньки так осыпались, что туда нескоро доберешься. Но это хороший погреб, сударь: стены толщиной больше десяти футов, а глубина такая, что, как спустишься, словно тебя похоронили заживо! Верно, верно. Даже страшно! Говорят, в прежние времена пленные там содержались. Мы-то никого в погребе не держим, зато вино там сохраняется на славу! А замешкались мы еще и оттого, что дочурка наша спать уже легла. У нее нынче голова от солнца разболелась, потому что без шляпки гуляла. Хочу, говорит, приучиться без шляпки ходить! Она думает, раз я без шляпы и зонтика обхожусь, так и ей можно. Как бы не так! Она ведь у нас словно барышня воспитана — так уж ей, бедняжке, положено. Я-то хоть и называю ее «дочуркой», только я ей не мать — она на меня похожа, как щегленок на старую сороку. Но я ее пестовала и привыкла дочуркой звать. Не хочет она никак, чтобы я ей «вы» говорила. Такое это славное дитя! Обидно только, что она спать легла! Но вы, сударь, утром ее увидите: мы вас без завтрака не отпустим, и она за вами поухаживает получше, чем я, старуха. Расторопности-то мне хватает, сударь, ноги меня еще носят. Я ведь маленького роста и к старости не раздобрела. Вам ни за что не угадать, сколько мне лет!.. А ну-ка, сколько вы мне дадите?.
Молодой человек понадеялся было, что ему удастся, наконец, вставить словечко, поблагодарить за прием кое-что разузнать: ему не терпелось получить более — подробные сведения о мадемуазель Шатобрен. Но не тут-то было… Не дожидаясь его ответа, старушка снова затараторила:
— Мне, сударь, как-никак, в Иванов день шестьдесят четыре стукнет, а работаю за троих молоденьких. Работа так и кипит! Я ведь нездешняя. Оно сразу и видно: родилась я в Марше — это больше полулье отсюда. Вы разглядываете, как наша дочурка рукодельничает? Она, знаете ли, прядет не хуже любой деревенской пряхи: так же ровно и тонко. Вот захотела, чтоб я научила ее прясть. «Послушай-ка, матушка, — говорит (она меня всегда так называет: ведь бедное дитя матери не знало и любит меня, как родную, хоть похожа она на меня, как роза на крапиву), — послушай-ка, — говорит она мне, — все эти вышивки, рисованья, все эти пустячки, каким меня в пансионе обучали, здесь ни к чему. Научи-ка меня прясть, вязать и шить, я помогу тебе обшивать отца…»
Но, не успев коснуться предмета, который весьма занимал ее притомившегося слушателя, неугомонная старушка, должно быть, в десятый раз вышла из комнаты, ибо, разглагольствуя, ни на секунду не оставалась без дела и уже успела накрыть стол грубой белой скатертью, расставить тарелки и кружки, положить ножи, подмести пол у очага, обтереть стулья и раз десять подбросить в огонь хворосту, неизменно возобновляя прерванный монолог на последней фразе. Однако на сей раз ее картавую речь, доносившуюся из коридора, заглушили чьи-то звучные голоса, и взорам молодого человека предстал наконец граф де Шатобрен; следом за ним шагал крестьянин, доставивший путника в замок; оба несли по два глиняных жбана, которые и поставили на стол. Только теперь молодой человек мог как следует разглядеть вошедших.
Господин де Шатобрен был мужчина лет пятидесяти, среднего роста и атлетического сложения, широкоплечий, с бычьей шеей, с красивым и благородным лицом, столь же смуглым, как и у его спутника, с большими руками, огрубевшими, загорелыми и потрескавшимися от воздуха и солнца, — руками браконьера, сказали бы мы, ибо наш помещик охотился на чужих землях, за неимением достаточно обширных своих.
У него было благодушное, открытое, улыбающееся лицо, твердая поступь и оглушительный голос. Добротный охотничий костюм, опрятный, хоть и залатанный на локтях, грубая холщовая блуза, кожаные гетры, седоватая щетина на щеках, терпеливо дожидавшаяся воскресного бритья, — все свидетельствовало о привычке к суровому, нелюдимому существованию; но приятное выражение лица, обходительные и сердечные манеры, непринужденность обращения, не лишенная достоинства, выдавали в нем учтивого дворянина, человека, привыкшего скорее покровительствовать и помогать, нежели принимать помощь и покровительство.
У его спутника был далеко не столь опрятный вид. Блуза и башмаки его сильно пострадали от ливня и дорожной грязи. Если помещик не брился с неделю или около того, то крестьянин не прикасался к бритве недели две с лишним. Худой, костлявый, подвижный, он казался на несколько дюймов выше господина Шатобрена, и, хотя лицо у него тоже было доброе и приветливое, в глазах сквозили лукавство, грусть, нелюдимость и высокомерие. Чувствовалось, что он умнее, но незадачливее господина Шатобрена.
— Ну как, сударь, — спросил хозяин, — обсохли немного? Мы рады вам, милости прошу поужинать с нами.
— Благодарю за радушный прием, — ответил путник, — но, боюсь, что, не представившись, я погрешу против учтивости.
— Хорошо, хорошо, — возразил граф, которого отныне мы станем называть просто господином Антуаном, как его называли все в округе. — Успеете сделать это, если вам так уж хочется. Мне лично спрашивать вас не о чем, и я намерен выполнить долг гостеприимства, не принуждая вас склонять ваши имена и титулы. Вы — путник, человек чужой в наших краях, вас застигла дьявольская непогода у порога моего жилища — вот они, ваши титулы и ваши права! Кроме всего прочего, у вас приятная внешность, и вы мне нравитесь; надеюсь, что мое доверие будет вознаграждено тем удовольствием, какое я получу, оказывая услугу достойному молодому человеку. Итак, присаживайтесь, ешьте и пейте!
— Вы чересчур добры, я тронут чистосердечной и приветливой встречей, какую вы оказываете путешественникам. Но я ни в чем не нуждаюсь, сударь, и прошу вас только разрешить мне переждать у вас грозу. Я поужинал в Эгюзоне час тому назад, и поэтому, умоляю вас, не хлопочите, пожалуйста, ради меня.
— Что же с того, что вы поужинали! Это еще не довод. Неужто ваш желудок не может переварить больше одного ужина зараз? В ваши годы я готов был ужинать в любое время, будь то вечером или ночью, представился бы только случай. Верховая езда и горный воздух весьма возбуждают аппетит. Правда, в пятьдесят лет желудок не такой сговорчивый: мне, например, достаточно полстакана доброго вина и корки черствого хлеба, и я уже сыт. Ну, а вы не церемоньтесь, явились вы как раз вовремя: я только что собирался сесть за стол, и мы с Жаниллой заранее грустили, что придется ужинать только вдвоем, потому что у моей бедной крошки сегодня разболелась голова. Значит, ваше прибытие послужит нам утешением, так же как и приход этого славного малого, друга моего детства, которого я всегда рад видеть. Послушай, садись-ка рядом со мной, — сказал он, обращаясь к крестьянину, — а ты, матушка Жанилла, — напротив. И хозяйничай сама. У меня ведь, знаешь, рука несчастливая: чего доброго, изрежу не только жаркое, но и тарелку, и скатерть, даже стол — и ты же будешь сердиться.
Ужин, поданный услужливой матушкой Жаниллой, состоял из козьего и овечьего сыра, орехов, чернослива, большого каравая пеклеванного хлеба и четырех жбанов вина, собственноручно принесенных господином Антуаном и его гостем. Присутствующие с явным удовольствием принялись уничтожать скромные яства, и только наш путник, закусивший в Эгюзоне, отказался от еды; он не переставал любоваться обходительностью почтенного хозяина, который без малейшего замешательства и ложного стыда приглашал гостей разделить с ним великолепие его повседневной трапезы. В такой сердечной и наивной непринужденности чувствовалось нечто одновременно отеческое и ребячливое, что покорило сердце молодого человека.
Господин Антуан, верный старинным правилам гостеприимства, не задал гостю ни единого вопроса, избегая даже намеков, которые могли бы сойти за праздное любопытство. Крестьянин казался несколько более озабоченным и сдержанным. Но вскоре, вовлеченный в общую беседу, затеянную господином Антуаном и матушкой Жаниллой, он почувствовал себя запросто и так часто наполнял свою кружку, что путник начал с любопытством приглядываться к человеку, который мог изрядно выпить, не только не теряя при этом способности соображать, но и сохраняя обычное свое хладнокровие и степенность.
Иное дело — владелец замка. Он еще не выпил и половины стоявшего перед ним жбана, а взор его уже заблестел, нос побагровел, рука потеряла твердость. Тем не менее он не стал болтать вздор, даже осушив вместе со своим приятелем крестьянином все четыре жбана. Жанилла — то ли из бережливости, то ли из врожденной умеренности — подлила в свой стакан с водой всего-навсего несколько капель вина, путник же, сделав героическое усилие, с трудом отпил глоток терпкой, мутной, довольно отвратительной бурды и этим ограничился.
Зато оба деревенских жителя пили, казалось, с наслаждением. Не прошло и четверти часа, как Жанилла, которая не могла сидеть сложа руки, встала из-за стола и, примостившись к камельку, взялась за вязанье, поминутно почесывая спицей виски и стараясь при этом не растрепать жидкие пряди еще черных волос, выглядывавшие из-под чепчика. Надо думать, эта опрятная маленькая старушка была в свое время недурна собой: нежные черты ее лица не лишены были благородства, и, если бы она не жеманилась, не старалась казаться ловкой и любезной, наш путник мог бы даже почувствовать к ней расположение.
Не считая отсутствовавшей барышни, домашнее окружение господина Антуана состояло из Жаниллы, шустрого пятнадцатилетнего парнишки со смышленой физиономией, выполнявшего в доме обязанности «слуги за все», и дряхлого охотничьего пса — тощего, с потускневшим взором и грустно-задумчивым видом; он глубокомысленно дремал у ног хозяина, однако пробуждался всякий раз, когда господин Антуан подсовывал ему лакомый кусок, с шутливой серьезностью называя собаку «сударем».
III Господин Кардонне
Уже более часа сидели они за столом, а господин Антуан не проявлял ни малейших признаков утомления. Он и его друг крестьянин жевали сыр и потягивали вино из огромных кружек с той величавой медлительностью, которой порой как бы рисуются беррийцы. Они поочередно вонзали нож в лакомое кушанье, издававшее пронзительный кисловатый запах, «разделывали» его на мелкие кусочки, аккуратно раскладывали сыр на глиняной тарелке, а затем, положив на пеклеванный хлеб, съедали крошку за крошкой. Каждый кусок они запивали добрым глотком местного вина, предварительно чокнувшись и пожелав друг другу: «Будь здоров, приятель!» — «Будьте и вы Здоровы, господин Антуан!» Или: «Доброго здоровья, старина!» — «И вам также, хозяин!»
Судя по всему, пиршество могло затянуться на всю ночь; наш путник, усердно делая вид, что ест и пьет, старательно избегал того и другого: он отчаянно боролся с одолевавшей его дремотой; однако мало-помалу беседа, вертевшаяся вокруг непогоды, сенокоса, цен на скот, отводков виноградных лоз, приняла оборот, чрезвычайно его заинтересовавший.
— Если погода не переменится, — говорил крестьянин, прислушиваясь к непрерывному шуму дождя, — реки разольются, словно в марте. Тогда с нашей Гаржилесой не сладишь. Господину Кардонне может причинить ущерб.
— Весьма печально, — сказал господин Антуан. — Право, жаль! Он порядком потрудился над этой речушкой.
— Так-то оно так, да речушка на это не посмотрит, — возразил крестьянин. — А мне думается, невелико горе.
— Как же это? Человек ухлопал в Гаржилесу более двухсот тысяч франков, а стоит реке, как у нас говорят, взбелениться — и все его труды пойдут прахом.
— Эка беда! Подумаешь!..
— Я и не говорю, что это беда непоправимая, когда у человека миллионное состояние, — возразил владелец замка, который в простоте души не замечал враждебных чувств своего сотрапезника, — а все же убыток — это убыток!
— Вот именно. Уж и посмеялся бы я, если б судьба ударила его по карману.
— Нехорошо так говорить, старина! С чего ты зубы точишь на этого пришельца? Ведь он нам с тобою ни добра, ни зла не сделал.
— Еще сколько зла сделал, господин Антуан, — и вам, и мне, и всей округе! Нет, не говорите… Много он зла натворил — и все с умыслом, и, поверьте, еще больше натворит. Погодите, отрастут у коршуна когти, и посмотрите тогда, что от нашего птичника останется.
— Заблуждаешься, старина! Сто раз я тебе говорил, что ты заблуждаешься. Не жалуешь ты этого человека, а все из-за того, что он богат. Разве это его вина?
— Конечно, его! Ведь он из простого звания, может статься, как и я, а смотрите, куда залетел! Богатство его неправедным путем нажито.
— К чему ты это говоришь? Неужели ты полагаешь, что нельзя составить себе состояние честным путем?
— Уж не знаю, но думаю, что нельзя. Чего проще: вот вы рождены в богатстве, а нынче бедствуете; или, скажем, я: рожден в бедности, значит, на всю жизнь бедняком и останусь. А мне так думается, что, отправься вы, к примеру, в чужие края, не заплатив долги вашего батюшки, или начни я барышничать да стричь всякого встречного и поперечного — так мы бы с вами сейчас в каретах разъезжали!.. Уж извините, если чем вас обидел… — добавил грубовато и задиристо крестьянин, обращаясь к молодому человеку, который явно чувствовал себя не в своей тарелке.
— Сударь, — сказал владелец замка, — возможно, вы знакомы с господином Кардонне, может быть, служите у него или чем-либо ему обязаны. Прошу вас, не обращайте внимания на слова нашего земляка. Человек он хороший, только представление о многих вещах, в которых он мало смыслит, у него превратное. Поверьте, в глубине души он не питает к господину Кардонне ни злобы, ни зависти и не способен причинить ему ни малейшего вреда.
— Я и не придаю значения его словам, — ответил молодой незнакомец. — Одно только меня удивляет, граф: человек, которого вы удостаиваете своим уважением, голословно чернит имя другого человека, ничего не зная о его прошлой жизни. Я уже имел случай просить вашего сотрапезника рассказать мне подробнее о господине Кардонне, которого он, по-видимому, ненавидит, но он не пожелал вступить в объяснения. Судите сами, можно ли составить себе беспристрастное мнение на основе столь беспочвенных обвинений. Ведь вашего гостя можно заподозрить в злом умысле: а вдруг вы или я, поддавшись ему, вынесем суждение, неблагоприятное для господина Кардонне!
— Молодой человек, ваша речь мне по душе, я согласен с вами, — ответил господин Антуан. — А ты не прав, — обернулся он к своему деревенскому гостю и, яростно стукнув кулаком по столу, метнул на него хоть и недовольный, но в общем дружелюбный и добродушный взгляд. — Ты не прав! А ну-ка расскажи, в чем ты упрекаешь этого самого Кардонне, чтобы мы могли судить, основательны ли твои жалобы! Иначе ты просто неисправимый хныкала и брюзга.
— Что я скажу, про то всякому известно, — спокойно возразил крестьянин, по-видимому, ничуть не смутившись этой отповедью. — Все видят, что дело тут неладно, вот каждый и судит по своему разумению. Раз молодому человеку господин Кардонне незнаком, — добавил он, бросив пронзительный взгляд на путника, — и раз уж ему хочется узнать, что это за птица, расскажите-ка вы, сударь, сами, а подробности я добавлю от себя; я скажу что к чему, а он пусть судит сам, если только у него нет своих причин молчать.
— Хорошо, согласен, — сказал господин Антуан, который, не в пример своему приятелю, не замечал возрастающего беспокойства молодого человека. — Я расскажу все, как оно есть, и, ежели ошибусь, разрешаю матушке Жанилле — она у нас памятлива и точна, словно календарь, — прервать меня и опровергнуть. А ты, пострел, — сказал он, обращаясь к своему «пажу», одетому в блузу и деревянные башмаки, — не таращь на меня глаза — а то голова идет кругом — и не разевай так рта: ведь, чего доброго, меня проглотишь. Это еще что?! Я тебе покажу! Ты чего смеешься! Этакий молокосос и смеет ухмыляться, когда с ним хозяин разговаривает! Становись позади и держи себя прилично — вот как Сударь!
Господин Антуан явно дурачился, но он с таким серьезным видом указывал мальчику на своего пса и говорил с таким пылом, что гостю пришло в голову: уж не самодур ли этот граф, хотя его добродушный вид противоречил подобному предположению. Впрочем, достаточно было взглянуть на лицо мальчугана, чтобы убедиться, что это всего-навсего привычная игра: мальчик беспечно присел подле собаки и стал забавляться с нею, без малейших признаков обиды или замешательства.
Надо сказать, что повадки господина Антуана были весьма необычны, особенно для первого знакомства, и путник, вообразив, что владелец замка с пьяных глаз мелет всякий вздор, решил не придавать его словам никакого значения. Но даже в тех случаях, когда господину Антуану отказывались служить ноги, голова у него работала хорошо, и если сейчас он предавался своему излюбленному занятию и шутил, потешаясь над домочадцами, то лишь из желания смягчить тягостное впечатление, которое произвел на гостя недавний спор.
— Сударь, — произнес он, обращаясь к молодому человеку…
Но тут в дело вмешался пес, привыкший к этому шутливому прозвищу. Приняв возглас хозяина на свой счет, он вскочил с места так резво, как только позволял его возраст, и уткнулся мордой в локоть господину Антуану.
— А ну-ка, Сударь!.. — воскликнул тот, сделав страшные глаза. — Что это значит? С каких это пор вы стали столь невоспитанны? Что вы, какая-нибудь дворняжка, что ли? А ну-ка, лежать смирно!.. И чтоб больше мне не приходилось по вашей милости проливать вино на скатерть, а то вы будете иметь дело с матушкой Жаниллой!.. Так знайте же, молодой человек, — продолжал господин Антуан, — что в один прекрасный день прошлой весной…
— Простите, сударь, было только девятнадцатое марта, значит, еще зима стояла… — прервала его Жанилла.
— Стоит ли придираться из-за каких-нибудь двух дней!.. Во всяком случае, погода была великолепная: жара, как в июне, даже все пересохло…
— Вот уж истинная правда! — воскликнул деревенский грум. — Конягу господина Антуана в нашей речонке напоить — и то не удавалось!
— Это никакого отношения к делу не имеет, — возразил господин Антуан, топнув ногой, — а ну-ка, малый, придержи язык! Когда тебя спросят, тогда и скажешь, а пока навостри уши — быть может, научишься уму-разуму. Да, так вот, в один прекрасный день возвращался я потихоньку с ярмарки пешком, а навстречу мне едет в шарабане высокий, представительный мужчина; хорош собой, хотя как будто ненамного меня моложе, но с виду суровый, даже жестокий! Черные глаза так и сверкают на изжелта-бледном лице. Он катил по крутому спуску, чуть не задевая камни, положенные по краям дороги еще нашими дедами, и погонял лошадь, видимо не подозревая об опасности. Я не удержался и решил его предупредить.
«Сударь, — обратился я к нему, — сколько я себя помню, никогда еще ни телега, ни двуколка, ни даже тачка не спускались по этому откосу. Возможно, ваше намерение и осуществимо, но вы, чего доброго, можете свернуть себе шею. Если вы пожелаете избрать более далекий, но зато более надежный путь, я вам его укажу».
«Благодарствуйте, — ответил он несколько сухо, — но, по-моему, дорога вполне проезжая. Ручаюсь вам, что лошадь вывезет».
«Как вам угодно, — сказал я, — ведь это я из чистого человеколюбия».
«Весьма признателен, сударь. И поскольку вы так любезны — не хочется и мне оставаться в долгу. Я еду в вашу сторону, а вы шагаете пешком. Если не откажете сесть в мою коляску, вы скорее спуститесь в долину. Мне же будет приятно ваше общество».
— Все как есть правильно, — заметила Жанилла. — Так в точности вы нам в тот вечер и рассказывали, только еще добавили, что на том господине был длинный синий сюртук…
— Простите, мамзель Жанилла, — возразил мальчуган, — хозяин говорил — черный.
— А я говорю тебе — синий, всезнайка ты этакий!
— Нет же, матушка Жанилла, — черный!
— Синий! Ручаюсь!
— Могу поклясться, что черный!
— Довольно, оставьте меня в покое! Зеленый! — воскликнул господин Антуан. — Матушка Жанилла, не прерывай меня больше. А ты, пострел, либо спрячь свой длинный язык в карман, либо отправляйся на кухню и поищи там вчерашний день… Ну, выбирай!..
— Сударь, я лучше помолчу, только позвольте мне послушать!
— Так вот, — продолжал владелец замка, — с минуту я колебался, не зная, согласиться и свернуть себе шею или отказаться и сойти за труса. «Как-никак, — подумал я, — этот незнакомец ничуть не похож на сумасшедшего, да и рисковать жизнью у него вроде бы никаких причин нет. Лошадь у него, несомненно, превосходная, и таратайка неплохая». Я уселся рядом с ним, и мы рысью покатили с горы, причем лошадь ни разу не оступилась, а хозяин ее, ни на секунду не теряя решимости и хладнокровия, беседовал со мною о том о сем, расспрашивал о наших краях… Должен сознаться, что отвечал я несколько невпопад, ибо чувствовал себя не в своей тарелке…
«Ладно, — сказал я, когда мы благополучно подкатили к берегу Гаржилесы, — пусть головоломный спуск остался позади, но реку нам не переехать. Правда, она здесь неглубока, однако брода нет, надо подняться немного левее».
«И это вы называете глубиной! — возразил незнакомец, пожимая плечами. — По-моему, тут одни только камни и тростник. Вот еще! Делать крюк из-за какой-то пересохшей речушки!..»
«Воля ваша!» — отвечал я, несколько уязвленный. Его пренебрежительная отвага меня раздражала. Я опасался, что он, чего доброго, угодит в самый водоворот, но, будучи человеком неробкого десятка, отказался выйти из коляски, хотя он мне это и предложил. Уж очень мне хотелось, словно в отместку, чтобы он как следует перетрусил. Пусть бы мне пришлось даже окунуться с головой, хоть я и не большой любитель нырять…
Но мне не довелось испытать ни мстительного удовольствия, ни членовредительства. Коляска не опрокинулась… Как раз посредине реки, где Гаржилеса особенно углубила свое ложе, лошадь провалилась по самую шею и коляску подхватило течением. Незнакомец в зеленом сюртуке (сюртук-то, Жанилла, был зеленый) подхлестывает коня, тот скользит, оступается, бросается вплавь и словно чудом выносит нас на другой берег. Отделались мы довольно прохладной ножной ванной. Я не струсил, так как плаваю не хуже кого другого; но спутник мой потом признался, что пошел бы ко дну как топор. А все же он глазом не моргнул, не выругался, не побледнел. Да, думаю, крепкий малый! И даже его самоуверенность мне понравилась, хотя в его спокойствии чувствовалось какое-то сатанинское презрение ко всему на свете.
«Ежели вы в Гаржилес, так и я туда же, — сказал я ему, — и мы можем вместе продолжать путь…»
«Хорошо, — говорит. — А что такое Гаржилес?»
«Так, значит, вы не туда?»
«Сегодня, — говорит, — никуда, но готов — куда угодно!»
Я, сударь, не суеверен, но все-таки, уж не знаю с чего, припомнились мне рассказы моей кормилицы, и нашла на меня минута какого-то глупого сомнения: словно сижу я в коляске бок о бок с самим дьяволом. И я весьма недружелюбно поглядел на моего чудака: неужели он скачет без всякой цели через горы и реки ради одного только удовольствия поиграть своею, а заодно и моею жизнью, раз уж я, глупец, позволил себя уговорить и сел в его чертову коляску?
Видит он, что я молчу как убитый, и начинает меня успокаивать:
«Вас удивляет, зачем я безо всякой видимой цели разъезжаю по окрестностям? Так знайте же, что я прибыл с намерением основать предприятие там, где я сочту наиболее подходящим. У меня есть капитал — свой ли, чужой ли, вас это, разумеется, не касается. Но вы могли бы мне помочь своими указаниями».
«Отлично, — ответил я, успокоившись, так как рассуждал он вполне разумно. — Но, чтоб дать совет, надо знать, какого рода предприятие вы собираетесь основать».
«С меня довольно, — продолжал он, как будто не расслышав, что я сказал, — если вы ответите на мои вопросы. К примеру, какова наибольшая мощность речушки, через которую мы с вами только что перебрались, — отсюда и до ее впадения в Крёзу?»
«В разных местах — разная. Вы видели самое мелководье. Но далеко не так бывает во время паводков, а они в здешних местах не редкость: если вы захотите взглянуть на самую нашу крупную мельницу — бывшее монастырское владение в Гаржилесе, — вы убедитесь, как яростен этот поток, каким постоянным разрушениям подвергается это бедное ветхое строение, и вы поймете тогда, что было бы безумством пускаться здесь на крупные затраты».
«Но при крупных затратах, сударь, можно обуздать неукротимые силы природы. Где погибнет жалкая деревенская мельница, Там выстоит мощная фабрика».
«Это верно, — отвечаю я. — Крупная рыба всегда пожирает мелкую».
Пропустив мимо ушей мое замечание, он катит дальше и все расспрашивает. Любезность обязывает, да к тому же я и сам поколесить не прочь: видно, я по натуре бродяга! Вот мы и колесили по всей округе. Заглянули на одну, на другую мельницу; побеседовал он с мельниками, внимательно все оглядел, а возвратившись в Гаржилес, потребовал, чтобы я немедля познакомил его с мэром и другими местными «столпами». На обеде, который устроил в его честь священник, он снисходительно позволял за собою ухаживать, давая понять, что может оказаться полезен окружающим более, нежели они ему. Говорил он мало, больше слушал, но успел осведомиться обо всем, даже о вещах, имевших, казалось бы, довольно отдаленное отношение к делу, например: набожны ли наши крестьяне или только суеверны, охотники ли наши буржуа хорошо пожить или скопидомничают, каких взглядов у нас придерживаются — либеральных или демократических, из кого состоит совет департамента.
Словом, всего не перечесть! Вечером он взял проводника и отправился в Пэн, так что я увидел его только дня через три. Проезжая через Шатобрен, он остановился у наших ворот. Сказал, что хочет поблагодарить меня за любезность. Но думаю, что на самом деле он рассчитывал задать мне еще несколько вопросов.
«Через месяц я вернусь, — сказал он на прощанье. — Полагаю, что мой выбор остановится на Гаржилесе. Он расположен в центре края. Местность мне нравится. Что же касается этого ручейка, который вы изобразили таким свирепым, то, полагаю, его нетрудно будет обуздать. Это обойдется дешевле, чем возиться с Крёзой. Да к тому же, избежав пустячной опасности, которой мы подверглись при переезде через ручей, я начинаю верить, что мне суждено победить именно здесь…»
На этом он со мною распростился. Человек этот был господин Кардонне.
Не прошло и трех недель, как он вернулся и привез с собой англичанина-техника, а с ним нескольких рабочих. С той поры в Гаржилесе не перестают ворочать землю, железо, камень. Господин Кардонне взялся за работу рьяно: встает до зари и ложится последним. В любую погоду, увязая по колено в тине, он зорко наблюдает за рабочими, знает все «как» и «почему» и ведет одновременно строительство большой фабрики, жилого дома с садом и пристройками, служб, сараев, плотин, мостов и шоссейных дорог, — словом, создает великолепнейшее заведение. В его отсутствие какие-то дельцы подписали от его имени купчую на землю, причем сам он ни во что не вмешивался. Он переплатил — из этого заключили, что он ничего не смыслит в делах и непременно «свернет себе шею»; он повысил поденную плату рабочим — насмешки посыпались на него градом; а уж когда он стал добиваться от муниципального совета права отвести реку в сторону и за это обязался проложить дорогу (а она обошлась ему недешево), тогда все в один голос решили: это безумец, его пылкое прожектерство — верный путь к разорению! Но я отнюдь не вижу здесь безрассудства и готов поспорить, что этого человека ждет успех: нельзя было удачнее выбрать место и для постройки, и для вложения капитала. Нынешней осенью река здорово ему досадила, но, к счастью, весной она держалась смирнехонько, и господин Кардонне успеет закончить работы до начала дождей, если только летом не пройдут сильные грозы. Размах у него широкий, денег он не жалеет — что верно, то верно; а если ему не терпится поскорее все закончить и он может, да и хочет, подороже заплатить бедному труженику — что же в этом дурного? Мне думается, напротив, это великое благо! И чем обзывать его сумасбродом, как это делают одни, или же ловким воротилой, как другие, мы должны быть ему благодарны за то, что он принес в наши края благодеяния промышленности. Я кончил! Слово предоставляется противной стороне!
IV Видение
Прежде чем крестьянин, который все еще сумрачно жевал хлеб, собрался ответить, молодой человек горячо поблагодарил господина Антуана и за его рассказ, и за беспристрастное изложение событий. Не открывая собеседникам своих отношений и связей с господином Кардонне, он показал, что растроган той широтой, с какою граф де Шатобрен судил о характере этого человека, и добавил в заключение:
— По-моему, сударь, тот, кто старается найти во всем хорошую сторону, реже ошибается, чем тот, кто во всем видит только дурное. Какой-нибудь оголтелый спекулятор проявил бы на месте господина Кардонне мелочную скаредность, и мы были бы вправе поставить под сомнение его моральные качества. Но когда мы видим, как человек деятельный и умный щедро оплачивает труд…
— Постойте-ка, сделайте милость! — прервал его крестьянин. — Вы оба люди добросердечные. Насчет вас, господин Антуан, я не сомневаюсь, надеюсь, что и гость ваш человек хороший. Но, не в обиду вам будь сказано, дальше своего носа вы не видите! Послушайте-ка! Вот, к примеру, имеются у меня денежки, и хочу я вложить их в дело, да так, чтобы не только честно получать приличный доход, что никому не возбраняется, но за два-три года удвоить и утроить мой капитал! Не такой же я простак, чтоб разболтать об этом людям, которых я собираюсь разорить!.. Сначала попробую их ублажить: вот, мол, какой я великодушный! А если червячок сомнения в них зародится, прикинусь сумасбродом и мотом. Вот я и поймаю моих дурачков на удочку!.. И вся-то приманка обойдется мне, я так полагаю, в сотню тысяч франков. Что и говорить, сотня тысяч для наших краев деньги немалые, но для меня — если у меня несколько миллионов — пустяк! Надо же подмазать для почину. И все-то меня любят, хоть иные и посмеиваются над моей простотой, но больше жалеют и даже уважают: остерегаться давно уж позабыли. Время бежит быстро, а смекалка у меня работает и того быстрее. Закинешь сеть — рыбка-то и попалась! Сперва разная мелюзга, ее и проглотишь-то, не заметив, а потом и покрупней — пока всю не переловишь!
— Что ты хочешь сказать этими сравнениями? — спросил господин Антуан, пожимая плечами. — Брось ты свои загадки, меня от них ко сну клонит. Поторапливайся, уже поздно.
— Что ж тут непонятного? — возразил крестьянин. — Разорю мелкие предприятия, что стоят мне поперек дороги, и такую власть заберу, что всем вашим предкам до революции не снилось! А тогда мне закон не писан: провинится какой-нибудь горемыка, я за пустячный грешок упрячу его за решетку, сам же буду делать все, что взбредет в голову или послужит к моей выгоде: стану загребать чужое добро, а в придачу жену и дочерей, если я падок до женского пола, — и, глядишь, уж я хозяин целого департамента! Ловко собью цены на продукты, а затем начну по своему произволу их вздувать. И раз мне все с рук сходит, значит, могу я грабить, могу голодом всех морить. Тут уж задавить конкурентов нехитрое дело: все деньги ко мне в руки плывут, а деньги — ключ ко всему. Тайком даешь в кредит и помалу и помногу, ссудишь тому, другому — вот, глядишь, все у тебя в долгу, и ты владеешь всей округой. Пусть тебя и не жалуют, зато боятся. Даже местные воротилы — и те не трогают, а уж мелкота — только дрожит да охает! Но ведь у меня смекалка есть и опыт — вот я иной раз и прикинусь великодушным: то спасу какое-нибудь семейство, то приложу руку к какому-нибудь благотворительному делу. Смажешь колесо фортуны — оно и катится быстрей. Глядишь, а люди снова меня жалуют, и я для них уже не шалый простачок, а справедливый и благородный человек. И все у меня в кулаке: от префекта департамента до деревенского священника и от священника до последнего нищего. Весь народ стонет, а откуда беда — никому невдомек. Только мое богатство и растет, а мелкота разоряется, потому что я высосал все источники доходов, набил цену на самые что ни на есть насущные съестные припасы, а на всякую роскошь снизил, а надо бы как раз наоборот! И торговцу плохо, и покупателю не лучше. Мне-то благодать, потому что капитал в моих руках, а значит, без меня и продавцу и покупателю — смерть! «Это что же такое делается? — спохватится вдруг кто-нибудь. — Мелкий торговец прогорает, покупатель сидит без гроша… Правда, у нас и домов хороших, и нарядов стало больше, и стоит это все как будто дешевле, зато в кармане — пусто! Каждому не терпится показать себя, а долги нас точат. Конечно, господин Кардонне тут ни при чем, он наш благодетель, без него мы бы совсем пропали. Постараемся же отблагодарить господина Кардонне: сделаем его мэром, префектом, депутатом, министром, королем, если на то пошло, — и наш край спасен!»
Вот как выезжал бы я на чужой спине, будь я господином Кардонне. Думается, господин Кардонне так и рассчитывает поступить. А ну, скажите теперь, что я зря его мараю или вижу все в черном свете и ничего такого не случится! Дай бог, чтобы ваша была правда! Но я-то задолго чую грозу! На одно только моя надежда: река поумнее наших простофиль, ее никакими машинами не обуздать. Как она закусит удила да в одно прекрасное утро встанет на дыбы, так у господина Кардонне пропадет охота с нею шутить, и придется ему пристраивать свои капиталы где-нибудь в другом месте! Ну вот, я свое сказал! Если сужу опрометчиво — да простит мне бог!
Крестьянин проговорил все это с большим воодушевлением. Его ясные глаза сверкали проникновенным огнем, улыбка горестного негодования блуждала на искривленных губах. Наш путник глядел на это лицо, истомленное усталостью, невзгодами, а возможно, и горем, казавшееся еще угрюмей от густой седеющей щетины на давно не бритых щеках; и, несмотря на боль, причиненную ему словами этого человека, он помимо воли находил его прекрасным, восхищался его безыскусным красноречием и смелой откровенностью его речей, дышавших искренностью и любовью к справедливости. Слова крестьянина, которые в нашей передаче утратили всю свою непосредственность, были просты и порою даже грубоваты, но его решительные движения и самый звук голоса невольно привлекали внимание слушателей. Глубокая печаль овладела присутствующими, когда он бесхитростно и без прикрас нарисовал образ бездушного богача, упорно идущего к своей цели. Вино не оказало на рассказчика никакого действия, и всякий раз, как он подымал суровый взгляд на молодого человека, тому казалось, что взглядом своим он проникает ему в самую душу и как будто строго допрашивает его. Хотя господин Антуан несколько отяжелел от выпитого вина, он внимательно слушал своего приятеля и, поддавшись, как обычно, влиянию этого человека, более твердого духом, нежели он сам, время от времени испускал глубокий вздох.
Когда крестьянин умолк, господин Антуан поднял кружку, словно совершая жертвенное возлияние, и произнес:
— Да простит тебе бог, дружище, если ты судишь опрометчиво. А если твое предсказание сбудется — да отвратит провидение свой бич от беззащитных и обездоленных!..
— Выслушайте меня, господин де Шатобрен, и вы также, друг мой! — воскликнул молодой человек, схватив за руку господина Антуана и его гостя. — Господь, который слышит все и читает в человеческом сердце, видит, что вы зря опасаетесь подобных напастей, что предчувствия ваши — всего лишь заблуждение. Я знаю человека, о котором вы говорите, знаю очень хорошо! И пусть у него надменное лицо, неуступчивый характер, энергический и сильный ум — ручаюсь вам, что намерения его чисты и он сумеет найти благородное применение своему богатству. В его упорстве есть нечто пугающее, я с этим согласен, и неудивительно, что от его сурового вида вам стало как-то не по себе, словно в мирных ваших селениях появилось некое сверхъестественное существо. Но душевная сила этого человека зиждется на принципах религии и морали, и это делает его если не самым кротким и приветливым из людей, зато подлинно справедливым и по-королевски великодушным.
— Ну что же, тем лучше, черт подери! — ответил владелец замка, чокаясь с крестьянином. — Выпьем за здоровье господина Кардонне! Счастлив, что отныне могу уважать человека, которого я готов был проклинать. Полно, дружище, не упрямься, поверь этому славному молодому человеку: он говорит, словно книгу читает, и знает побольше нашего. Ведь сказал же он тебе, что знаком с этим Кардонне, и хорошо знаком! Чего тебе еще? Он за него ручается — стало быть, беспокоиться нечего! А теперь, друзья, пора спать, — сказал владелец замка, с радостью принимая поручительство за малознакомого человека от человека вовсе не знакомого, которого он не знал даже по имени. — Уже пробило одиннадцать, а это наш положенный час!
— Разрешите откланяться, мне пора! — сказал юноша. — Надеюсь, вы позволите навестить вас и принести благодарность за ваше гостеприимство.
— Никуда вы сейчас не уедете! — воскликнул господин Антуан. — Это невозможно! Дождь льет как из ведра, дороги окончательно развезло, темень страшная! Если вы вздумаете упрямиться, никогда больше на глаза мне не показывайтесь!
Хозяин был так настойчив, а непогода и в самом деле так разбушевалась, что молодой человек вынужден был воспользоваться предложенным ему гостеприимством.
Сильвен Шарассон — так звали «пажа» господина Шатобрена — принес фонарь, и господин Антуан, взяв гостя за руку, повел его через развалины замка в комнату, где тот мог переночевать.
Семейство господина Шатобрена занимало весь квадратный флигель. Но, кроме этого маленького жилого здания, избегнувшего полного разрушения и недавно восстановленного, по другую сторону двора сохранилась огромная многоэтажная башня, самая древняя из всех, самая высокая, самая устойчивая, с самыми толстыми стенами и сводчатыми залами, возведенная из камня еще более прочного, нежели квадратный флигель. Темные дельцы, которые за много лет до того приобрели этот замок с тем, чтобы разобрать его камень за камнем, вывезли отсюда все дерево и железо, вплоть до дверных задвижек, но не сочли нужным разрушить нижние этажи. Поэтому господин Антуан распорядился прибрать и запереть одну комнату, отведя ее для тех редких случаев, когда ему представлялась возможность оказать гостеприимство. Для нашего дворянина это было верхом расточительности: семейство его вовсе не нуждалось в этом помещении, а между тем пришлось починить здесь двери и окна, поставить кровать и несколько стульев.
Господин Антуан охотно пошел на эту жертву и заявил как-то Жанилле:
— Мало самим устроиться уютно, надо подумать, как достойно приютить своего ближнего.
Тем не менее, переступив порог грозной феодальной башни, молодой человек почувствовал, что задыхается, словно в каземате: сердце его сжалось, и он охотнее последовал бы за крестьянином, который согласно своим вкусам и привычкам отправился спать вместе с Сильвеном Шарассоном на свежей соломе. Но господин Антуан уж очень был доволен и горд тем, что вопреки стесненным обстоятельствам может предоставить к услугам гостя «комнату для друзей», и молодой человек почел своим долгом воспользоваться для ночлега этой мрачной средневековой темницей.
Впрочем, яркий огонь, пылавший в огромном камине, и постель — то есть пухлая перина, положенная поверх набитого сеном тюфяка, — скрашивали картину. Все вокруг выглядело бедно, но опрятно. Юноша вскоре прогнал мрачные мысли, невольно овладевающие любым путником в столь угрюмом обиталище, и, невзирая на раскаты грома, крики ночных птиц, шум дождя и завывание ветра, от которых содрогались рамы, а также яростную возню крыс, неистово атаковавших деревянную дверь, не замедлил уснуть глубоким сном.
Однако странные видения тревожили его, а под утро стал душить кошмар — должно быть, и впрямь немыслимо провести ночь в обители, запятнанной загадочными преступлениями средневековья, не став жертвой мучительных видений. Ему почудилось, что в комнату входит господин Кардонне; он попытался вскочить с постели, чтобы поспешить навстречу отцу, но призрак властным движением приказал ему не шевелиться; он с непроницаемым видом приблизился и наступил молодому человеку на грудь, не отвечая ни единым словом на его мольбы. На окаменевшем лике отца не было и тени сострадания к сыну, пораженному смертельным ужасом.
Задыхаясь под этой нестерпимой тяжестью, спящий тщетно отбивался, и эти несколько мгновений показались ему вечностью. Но вот, испустив хриплый, будто предсмертный стон, он наконец проснулся. Уже начинало светать и можно было различить внутренность башни, однако юноше, потрясенному впечатлениями сна, все еще мерещилось неумолимое лицо и чудилась тяжесть тела, навалившегося, подобно свинцовой глыбе, на его измученную, истерзанную грудь. Он встал с постели и несколько раз прошелся по комнате. Твердо решив уехать спозаранку, он вынужден был снова лечь, такое изнеможение овладело им. Но стоило ему закрыть глаза, призрак снова принимался его душить, и юноша, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание, кричал, задыхаясь: «Отец, отец! Что я вам сделал? За что вы убиваете меня?»
Он проснулся от звуков собственного голоса и поспешно распахнул окно, надеясь отогнать страшное видение. Едва только утренняя прохлада хлынула в низкую комнату, самый воздух которой, казалось, нагонял тяжелые сны, бред рассеялся, и юноша быстро оделся, желая поскорее покинуть эту спальню, где так жестоко насмеялось над ним воображение. Но все же какое-то тягостное беспокойство томило его, и «комната для друзей» в Шатобрене показалась ему еще более похожей на склеп, нежели накануне. При свете серого и тусклого утра ему удалось наконец увидеть в окно весь замок. То была доподлинно груда развалин, все еще величественные останки графских владений, строившихся в разные эпохи. Внутренний двор зарос густою травой, в которой были протоптаны две-три тропинки — от большой башни к малой и от колодца к главному входу; очевидно, за эти пределы не выходили скромные в своих потребностях нынешние обитатели замка. Впереди двор замыкала полуразрушенная каменная стена и виднелись остатки фундамента нескольких строений, а также красивая часовня с прекрасно сохранившимся фронтоном, украшенным изящной розеткой окна, увитой плющом. В глубине двора, посреди которого находился большой колодец, возвышался остов того, что было когда-то главным корпусом, — подлинным жилищем владельцев Шатобрена со времен Франциска I и вплоть до революции. Это пышное некогда здание стояло теперь бесформенным скелетом, обнажив причудливый хаос рухнувших перекрытий, и казалось оттого непомерно высоким. Ничего не пощадил разрушительный молот: ни башен, в которых, как в сквозной клетке, вились изящные винтовые лестницы, ни огромных зал, расписанных фресками, ни каминов, украшенных резьбою по камню; и лишь кое-где, нетронутые безжалостной рукою, сохранились остатки этого великолепия: там обломок фриза, здесь гирлянда из листьев — создание резца мастеров Возрождения — или щит с гербом Франции, перерезанный наискось жезлом, указующим на побочную ветвь, — все это было высечено из превосходного белого камня, не потемневшего даже от времени. Грустное зрелище являло собою это произведение искусства, неумолимо принесенное в жертву всевластному закону суровой необходимости.
Взглянув на небольшой флигель, в котором ютился ныне последний отпрыск некогда славного и богатого рода, молодой Кардонне преисполнился жалости к живущей здесь прекрасной девушке, чьи предки имели к своим услугам пажей, вассалов, своры гончих, породистых лошадей, а она, унаследовавшая от них эти мрачные руины, вынуждена, быть может, подобно царевне Навзикае, сама стирать в ручье свое белье.
В эту самую минуту в верхнем этаже квадратной башни бесшумно распахнулось небольшое круглое окошко и в нем показалась женская головка на прелестной шейке. Головка склонилась вниз, словно незнакомка хотела побеседовать с кем-то во дворе. Хотя Эмиль Кардонне и принадлежал к поколению близоруких, он обладал превосходным зрением; впрочем, и расстояние было не столь велико, так что он мог с легкостью разглядеть черты прелестной блондинки, чьими развевающимися локонами свободно играл ветер. Ему показалось — да так оно и было на самом деле, — что это поистине ангельское личико, сияющее очарованием девичьей красы, исполненное кротости и благородства. Голос ее был пленителен, а слова звучали в ее устах особенно изысканно.
— Жан, — сказала незнакомка, — неужели всю ночь лил дождь? Погляди, какие лужи на дворе! Из моего окошка даже лугов не видно, как будто вокруг озеро разлилось!
— Настоящий потоп, дочка, — ответил со двора крестьянин, по-видимому, близкий друг семьи. — Прямо смерч какой-то! Уж не знаю, где это там тучи продырявились, а только в жизни я не видел такой паводи.
— Дороги, наверно, совсем размыло, Жан. Тебе лучше остаться у нас. Отец проснулся?
— Нет еще, Жильберта, но матушка Жанилла уже на ногах.
— Жан, голубчик, попроси-ка ты ее подняться ко мне. Я хочу ее кое о чем спросить.
— Бегу…
Окошко захлопнулось; девушка словно и не заметила другого раскрытого окна, у которого стоял любовавшийся ею незнакомец.
Минутой позже он спустился во двор; по узким тропинкам и вправду неслись бурные ручьи; незнакомец зашагал к конюшне, где Сильвен Шарассон усердно чистил лошадей — гостя и хозяйскую — и судачил с Жаном, — наконец-то Эмиль Кардонне узнал его имя, — о происшествиях этой ненастной ночи. Накануне этот человек внушил ему смутную тревогу — казалось, в нем таилось нечто загадочное и зловещее. Молодой Кардонне заметил, что господин Антуан ни разу не назвал крестьянина по имени, а когда это имя готово было сорваться с уст Жаниллы, хозяин взглядом призывал ее к осторожности. За ужином крестьянина называли «дружище», «приятель», «старина», «ты» — словно его имя окружено было какой-то тайной и ее боялись выдать. Кто же этот человек, крестьянин по обличью и языку, так далеко заходивший в своих мрачных предвидениях и суровом порицании богачей?
Эмиль попытался было завязать с ним беседу, но тщетно: крестьянин держался еще более замкнуто, чем накануне. А когда юноша спросил о разрушениях, причиненных бурей, Жан ограничился кратким ответом:
— Советую, не теряя времени, ехать в Гаржилес, пока не снесло мосты. Часа через два начнется такая паводь, что чертям тошно станет!
— Что это значит? Не понимаю…
— Паводь? Вы не знаете, что это такое? Ну так сегодня узнаете — и не забудете вовек! Доброго здоровья, сударь, торопитесь. Того и гляди, у вашего друга Кардонне приключится беда!
И он ушел, не добавив ни слова.
Охваченный смутным беспокойством, Эмиль поспешил оседлать свою лошадь и, протянув серебряную монету Шарассону, сказал:
— Передашь хозяину, что я уезжаю не прощаясь, но вскоре вернусь поблагодарить его за гостеприимство!
Он был уже в воротах, когда его нагнала Жанилла. Она утверждала, что господин Антуан вот-вот встанет, что барышня уже одевается, что завтрак через минуту будет готов, что дороги размыло, что снова начинается дождь… Эмиль от души поблагодарил старушку, но не дал себя уговорить, а подарил ей на прощание несколько монет, которые она приняла с видимым удовольствием. Он еще не достиг подножия холма, как услышал позади тяжелую, размеренную рысь. Это верхом на кобыле господина Антуана догонял его Сильвен Шарассон; мальчуган не успел даже оседлать лошадь, а вместо узды накинул простую веревку.
— Я провожу вас, сударь! — закричал он, опережая всадника. — Мамзель Жанилла говорит, что вы себя загубите, не зная пути. И это сущая правда.
— Отлично, но держись кратчайшей дороги, — приказал молодой человек.
— Уж будьте покойны! — ответил деревенский «паж».
И, пустив в ход свои деревянные башмаки, он погнал крупной рысью неоседланную кобылу, раздутое брюхо которой, набитое одним только сеном без всякой примеси овса, странно противоречило впалым бокам и тощей шее.
V Паводок
Наш путник и новый его проводник стрелой спустились по крутому склону и, благополучно перебравшись через разлившиеся речушки, вскоре выехали на равнину. Они промчались уже мимо небольшого болотца, выступившего из берегов, когда мальчуган удивленно оглянулся и заметил:
— Наша Марготта полным-полна! Небось в долине беда… Уж и не знаю, как мы через реку переберемся. Поспешите-ка, сударь!
И он пустил галопом свою клячу, которая, невзирая на нескладное туловище и короткие мохнатые ноги, поросшие клочками шерсти, свисавшей самой земли, с поразительной ловкостью и осторожностью преодолевала неровности пути.
Здешние плоскогорья представляют собою обширные равнины, изрезанные глубокими оврагами, отвесные склоны которых столь же мало доступны для подъема и спуска, как склоны горных ущелий.
Часа через полтора наши всадники достигли ложбины Гаржилесы, и перед ними развернулось восхитительное зрелище. Селение Гаржилес, разбросанное по островерхой горе, напоминавшей сахарную голову, увенчанную красивой церковкой и старинным монастырем, возникало, казалось, из глубины бездны, а в самой низине стояли приятные на вид, просторные новенькие здания. На них-то и указал мальчуган.
— Гляньте-ка, сударь, это все господин Кардонне понастроил! — сказал он.
Эмиль, изучавший право в Пуатье и проводивший каникулы в Париже, впервые посетил края, где отец его год тому назад приступил к постройке большой фабрики. Уголок этот показался Эмилю очаровательным, и он почувствовал благодарность к своим родителям, выбравшим такое прелестное местечко, где к тому же промышленность могла развиваться, не оскорбляя ничьих поэтических чувств.
Перед ним лежало плато, и, добравшись до его обрывистого склона, можно было охватить взглядом всю местность. С каждой минутой Эмилю открывались все новые красоты. Монастырь, гордо высившийся на скале, у подножия которой виднелись фабричные здания, казалось, нарочно был воздвигнут здесь для полноты картины. Склоны оврага, куда стремительно низвергалась речушка, оделись буйной зеленью, и молодой человек, внимание которого невольно было отвлечено созерцанием его новых владений, с удовлетворением отметил, что, невзирая на порубки, неизбежные при строительстве в столь лесистой местности, в усадьбе сохранились великолепные старые деревья, служившие ей лучшим украшением.
Жилой дом, расположенный неподалеку от фабрики, манил уютом, изяществом и нарядной простотой; занавески на окнах возвещали, что он уже обитаем. Дом стоял среди прекрасного сада, уступами подымавшегося над рекой, и даже издали бросалась в глаза яркая зелень пышной растительности, появившейся, словно по волшебству, на месте ивовых пней и топей, некогда окаймлявших берега. Какая-то женщина спустилась со ступенек террасы и медленно шла по аллее, окаймленной прекрасными цветами. Сердце молодого человека забилось: это была его мать. Он поднял обе руки и помахал фуражкой, желая привлечь ее внимание, но безуспешно: госпожа Кардонне спокойно осматривала свое цветочное хозяйство, она ждала сына только к вечеру.
На более оголенном берегу Эмиль увидел искусные и замысловатые сооружения отцовской фабрики; среди нагромождения разнообразнейших материалов озабоченно сновало полсотни рабочих: одни тесали камень, другие замешивали известь, третьи ровняли балки, четвертые грузили тележки, запряженные сильными лошадьми.
Ехать приходилось шагом, так как дорога круто спускалась вниз, и юный Сильвен воспользовался этим, чтобы начать разговор:
— До чего дрянной спуск — правда, сударь? Держите-ка покрепче вашу конягу. Надо бы господину Кардонне тут дорогу проложить, а то нашим людям к нему в «заведение» никак не проехать! Посмотрите, какие дороги он на том берегу понастроил! А мосты!.. Все каменные! Верно, верно говорю! Раньше летом хочешь не хочешь — мокни, реку вброд переходи, а как зима, так и вовсе не переберешься!.. Да чего там… Здешние люди в ноги должны ему кланяться!
— Значит, ты не согласен с твоим приятелем Жаном? Ведь он его бранит.
— Жан! Жан!.. Мало ли что он там мелет, не стоит и внимания обращать!.. У него нынче забот много, вот ему и мерещится всякая напасть, хотя он не злой, ничуть не злой. Но он только один во всей округе такое говорит, а все господином Кардонне довольны. Он ведь не скаред. На словах он сердитый, и рабочим у него не очень сладко, чего уж там греха таить, зато и платит он!.. А по мне, хоть подыхай, а если платят тебе хорошо, так будь доволен. Разве не правда, сударь?
Молодой человек подавил вздох. Он не вполне одобрял систему материального возмещения, провозглашенную Сильвеном Шарассоном, и ему было неясно, при всем желании оправдать отца, каким это образом деньги, которые хозяин платит рабочим, могут возместить потерю здоровья и жизненных сил.
— Удивительно, что он нынче рабочих не погоняет, — наивно добавил простодушный «паж». — Он ведь им дух перевести не дает. Зато работа у него так и кипит! Это не то что наша Жанилла: кричать кричит, а все сама делает. А господин Кардонне и с места не сдвинется, зато во все глаза смотрит, а как рабочий замешкается, заболтается с кем или же бросит кирку, чтобы трубку закурить или, пуще того, всхрапнуть на солнышке в самую жарищу, — он тут как тут! «Вот что, — говорит, да спокойно так. — Тебе тут покурить или вздремнуть толком не удастся, отправляйся-ка восвояси. Дома выспишься всласть!» И уж будьте покойны, целую неделю к работе не подпустит, поймает во второй раз — месяц, а если в третий — так и вовсе прогонит.
Эмиль снова вздохнул: в этих черточках он узнавал педантичную суровость отца и, желая оправдать в своих глазах его способ действий, всячески старался постичь цель, которую тот преследовал.
— Черт подери, да вот и он! — воскликнул мальчуган, указывая на господина Кардонне, который благодаря своему высокому росту и темной одежде был отчетливо виден на противоположном берегу. — На реку глядит. Не иначе как паводи боится, а ведь всегда толкует, что все это глупости.
— Паводь — это паводок, что ли? — спросил Эмиль, который начинал понимать смысл этого непривычного для него слова.
— Ну да, сударь. Это вроде как водяной вихорь (он хотел сказать «вихрь») при сильной грозе. Да ведь гроза прошла, а паводи нет! Значит, Жан зря каркал. Однако, сударь, поглядите, до чего вода низко спала, почти совсем со вчерашнего дня высохла! Не к добру это! Поспешите-ка, того и гляди, начнется.
Они погнали лошадей и без помехи переехали вброд один из рукавов реки. Но при подъеме на крутой берег небольшого островка у лошади Эмиля лопнула подпруга, и всаднику пришлось спешиться, чтобы укрепить седло. Сделать это было нелегко, к тому же Эмиль, которому не терпелось увидеться с родителями, слишком поспешил. Едва он сунул ногу в стремя, как только что завязанный узел разошелся; Шарассону пришлось обрезать конец веревочной узды и получше скрепить подпругу. Все это отняло у них немало времени и внимания, так что они позабыли про беду, которой опасался Шарассон. К тому же островок порос густым ивняком, и это мешало что-либо видеть даже на десять шагов вокруг.
Внезапно послышался рев, напоминавший продолжительные раскаты грома. Рев с неимоверной быстротой несся в их сторону. Эмиль с недоумением взглянул на небо, безмятежно синевшее над головой, но мальчуган побледнел как полотно.
— Паводь! — закричал он. — Паводь! Спасайтесь, сударь!..
Оба галопом пересекли остров. Но не успели они еще выбраться из ивняка, как навстречу им хлынули желтые пенистые волны. Вода достигала лошадям уже до груди, и всадники мгновенно очутились посреди вздувшегося потока, который несся, яростно захлестывая все вокруг.
Эмиль хотел двигаться дальше, но проводник вцепился в него.
— Нет, нет, сударь! — кричал он. — Нельзя. Поглядите, как хлещет! Видите, какие бревна несет?.. Ни человеку, ни животине теперь не спастись!.. Бросайте поводья, сударь. Скотина, может, сама догадается и выплывет, а нам свою христианскую душу губить незачем! Черт подери!.. Мостки унесло!.. За мной, сударь! Скорее за мной, а не то вам конец!..
И Шарассон, которому вода доходила уже до плеч, стал быстро карабкаться на дерево. Вода неистовствовала и с каждой секундой прибывала на фут. Храбрость в таких обстоятельствах становилась безумием, и Эмиль, вспомнив о матери, решил последовать примеру юного Сильвена.
— Не туда, сударь, не туда! — закричал мальчуган, видя, что Эмиль схватился за осину. — Не надо туда, ее, как соломинку, снесет! Идите ко мне, ради господа бога! Лезьте на мое дерево!..
Признав справедливость этого замечания, ибо перепуганный Сильвен все же не потерял ни присутствия духа, ни благого желания спасти своего спутника, Эмиль бросился к старому дубу, на который успел взобраться мальчуган, и не без труда вскарабкался на могучую ветвь, низко склонившуюся над водой. Но так как вода подымалась все выше, они, спасаясь от разбушевавшейся стихии, перебирались с ветки на ветку.
Наводнение неистовствовало с чудовищной силой; Эмиль добрался уже чуть ли не до верхушки дерева, служившего им убежищем, и отсюда мог видеть, что происходит в долине. Опасаясь, что его узнают домашние, он старался поглубже укрыться в листве и приказал замолчать Сильвену, вздумавшему было звать на помощь. Он больше всего боялся, что родители, в особенности мать, узнав, в каком положении очутился их сын, будут смертельно испуганы. Эмиль заметил отца, внимательно наблюдавшего за катастрофой и медленно отходившего по мере того, как вода подбиралась к саду и заливала фабрику. Он неохотно отступал перед бедствием, в силу которого не верил и даже сейчас не желал поверить. А еще через несколько минут Эмиль отчетливо разглядел силуэт отца уже в окне, рядом с госпожой Кардонне. Рабочие побросали в грязь свои куртки и инструменты и, пытаясь уйти от опасности, старались забраться куда-нибудь повыше. Те, кого потоп захватил в нижних этажах фабрики, поспешили вскарабкаться на крышу. Если более искушенные в глубине души, возможно, радовались наводнению, рассчитывая дополнительно подработать, когда будут восстанавливать разрушенное, то большинство поддалось естественному чувству сожаления, видя, как стихия угрожает погубить плоды их изнурительного труда.
Камни, щебень, глыбы свежей штукатурки, недавно оструганные балки — все, что держалось недостаточно крепко, кружилось теперь в пенном водовороте. Рушились только что возведенные мосты, сорванные с быков, которые уже не могли служить им опорой; по дорожкам наполовину затопленного сада стремительно плыли, огибая купы деревьев, оранжерейные рамы, ящики с цветочной рассадой и тачки.
Внезапно со стороны фабричного здания донесся душераздирающий крик. Огромный плот из строевого леса с силой ударил в затопленную часть машинного помещения, и от страшного удара здание сотряслось до основания и чуть не рухнуло в воду. Десятка полтора мужчин, женщин и детей находились в это время на гребне крыши. Они кричали, плакали. Холодный пот выступал на лбу у Эмиля. Насколько он был равнодушен к опасности, угрожавшей ему самому, если бы напором воды повалило дуб, на котором он укрылся, настолько его страшила участь людей, в отчаянии метавшихся по крыше. Он готов был броситься вплавь им на помощь, но вдруг услышал зычный голос господина Кардонне, кричавшего в рупор с крыльца:
— Погодите! Сейчас будет плот! Вы в безопасности!
И таков был авторитет хозяина, что все успокоились и Эмиль сам невольно подчинился властному окрику.
По ту сторону острова открывалось зрелище не менее печальное. Крестьяне поспешно сгоняли скот, женщины скликали ребятишек. Особенно пронзительные крики, встревожившие Эмиля, шли с реки; но это место было скрыто от него густой дубовой листвой. Вскоре, однако, он разглядел какого-то мужчину, который стремительно плыл к противоположному берегу, одной рукой держа ребенка. Течение здесь было слабее, чем у фабрики, но все же пловцу стоило неимоверных усилий бороться с волнами, которые поминутно его захлестывали.
— Я поплыву к нему! Поплыву на помощь! — воскликнул Эмиль, взволнованный до слез, намереваясь спуститься с дерева.
— Нет, сударь, нет! — закричал Сильвен, удерживая его. — Смотрите-ка, вот он уже вылезает из воды… спасся! Больше не плывет… По илу шагает… Бедняга, нелегко ему пришлось! А ребенок живехонек: ревет, словно дьяволенок какой. Бедный младенчик! Да не реви ты так, ведь тебя же спасли! Эге, гляньте-ка: ведь это наш Жан! Пусть меня черти на том свете припекут, если это не он вытащил ребеночка из воды! Ну да, ну да, сударь! Конечно, это Жан! Вот храбрец-то! Ой, ой! Смотрите-ка! Отец не знает, как и благодарить, мать ноги Жану целует… а ноги-то все в грязи! Эх, сударь! Жан ведь добрейший человек! Другого такого на всем свете не сыщешь! Если бы он знал, что мы с вами тут торчим, он нас отсюда вытащил бы, право! Окликнуть его, что ли?
— И не вздумай! Мы здесь вне опасности, а ему опять придется рисковать. Да, я вижу теперь: он благородный человек. Эти люди, что же, сродни ему?
— Да нет, сударь, нет!.. Это Мишо. Их младенец Жану такая же родня, как и мне. Но уж если где какое горе стрясется, Жан тут как тут. Где другой шагу не ступит, наш Жан в самое пекло полезет, хоть ему от этого пользы никакой, даже стакана вина не поднесут. А ведь одному богу известно, каково Жану в наших краях приходится. Ему здесь не жить!
— Разве ему угрожает в Гаржилесе еще какая-нибудь беда, кроме опасности утонуть?
Сильвен не ответил и, по-видимому, упрекал себя за то, что проболтался.
— Вода-то убывает!.. — воскликнул он, чтобы отвлечь внимание Эмиля. — Через часок-другой можно будет и домой возвратиться. А если вам надо к господину Кардонне, так в ту сторону еще часов шесть не подступишься.
Перспектива была не из веселых; тем не менее Эмиль, не желавший тревожить родителей, смирился. Но не прошло и получаса, как новое происшествие заставило его изменить решение. Вода убывала довольно быстро, обнажая захваченные ею высоты, однако разлив реки образовал озеро, отрезавшее Эмиля от отцовского жилища. По ту сторону этого озера он заметил рабочих, которые вели к господскому дому двух лошадей: одну неоседланную, а другую под седлом.
— Наши лошади, сударь! — воскликнул Сильвен Шарассон. — Наши! Слава богу! Обе спаслись! Скотинка ты моя славная! А я-то думал, она утонула. То-то господин Антуан обрадуется, как я приведу домой Искорку. Вот уж кто заслужил овса! Может статься, Жанилла раздобрится и подбросит ей горсточку. А ваш Вороной, сударь!.. Вы небось рады, что он целехонек? Он, видно, тоже плавать приучен?
Эмиль быстро сообразил, что может произойти. Правда, господин Кардонне еще ни разу не видел его лошади — Эмиль купил ее в пути, — но откроют баул, установят владельца и без долгих размышлений сочтут его погибшим. Он тут же решил не скрывать более своего присутствия и после многократных попыток перекричать неумолчный рев потока ему удалось наконец привлечь внимание людей, приютившихся на крыше фабричного здания. Он попросил сообщить о его местонахождении господам Кардонне. Новость мгновенно перелетела из уст в уста по крыше, и вскоре Эмиль увидел в окне свою мать, махавшую ему платком, и отца, который вместе с двумя рослыми работниками вскочил на плот, горя решимостью перебраться через поток. Эмилю удалось удержать их от этого: он кричал, повторяя каждое слово по нескольку раз, так как звук его голоса тонул в реве потока, что он в безопасности, что пусть за ним приплывут попозже, а сейчас немедля освободят рабочих, отрезанных водой в здании фабрики. Лишь после того, как его просьбу выполнили и больше не за кого было тревожиться, он спустился с дерева и по пояс в воде побрел навстречу плоту, поддерживая не слишком рослого Сильвена, чтобы тот не оступился. Через три часа после начала наводнения наши путники сидели у пылающего камина, и госпожа Кардонне, рыдая, осыпала поцелуями Эмиля, а юный Сильвен, обласканный ею, как родной сын, вдохновенно повествовал об опасности, избегнутой ими.
Эмиль обожал мать; сильнее привязанности у него еще не было. Он не видел матери со времени каникул, которые они провели в Париже, вдали он вечных придирок и неумолимого гнета их общего владыки — господина Кардонне. Оба равно страдали от ига, тяготевшего над ними, хотя никогда в этом друг другу не признавались. Госпожа Кардонне, женщина кроткая, любящая и нерешительная, чутьем угадывала, что сын ее унаследовал от отца немалую долю его энергии и твердости и что при отзывчивом и благородном сердце это сулит ему немалые огорчения, стоит только этим двум сильным натурам, чувствующим столь различно, столкнуться в каком-либо вопросе. А потому она молча сносила все обиды, старательно скрывая их от сына, бесценной своей радости и единственного утешения. Госпожа Кардонне вовсе не была убеждена в праве своего супруга постоянно обижать и угнетать ее, но, казалось, покорно принимала свою участь, словно то был закон природы или религиозная заповедь. Безропотное повиновение, которому сама мать подавала пример, стало второй натурой юного Эмиля, а не то рассудок уже давно заставил бы его возмутиться. Но видя, как все и вся — и мать первая — склоняются перед малейшими изъявлениями отцовской воли, он не смел и думать, что могло и должно было быть иначе. Однако тягостная атмосфера деспотизма, в которой он вырос, с самого детства развила в нем склонность к грустной мечтательности, к беспричинной тоске. Таков уж закон природы, что уроки, оскорбляющие чувства ребенка, приводят к обратным результатам. Вот и Эмиль уже в ранние годы, в противовес отцовскому гнету, приобрел склонности, прямо противоположные тем, какие отец желал ему внушить.
Последствия этого естественного и неизбежного несходства двух натур раскроются с достаточной очевидностью в событиях нашей повести, и поэтому нет нужды объяснять их здесь.
Выждав, пока мать успокоилась после пережитых тревог, Эмиль отправился с отцом выяснить размеры ущерба, причиненного наводнением. Несмотря на все превратности этого дня, господин Кардонне обнаруживал необычайное присутствие духа и ничем не выдавал своей досады. Он молча прошел через толпу крестьян, сбежавшихся из деревни, чтобы удовлетворить свое любопытство и поглазеть на жестокое зрелище его несчастья.
Одни глядели равнодушно, другие — с искренним сочувствием, но большинство — с тем невольным, хотя и скрытым, чувством удовлетворения, какое благоразумно прячет, но наверняка испытывает каждый бедняк, видя, что стихия равно обрушивает свою ярость и на него и на богача. Почти все крестьяне пострадали от наводнения: у одного унесло стог сена, у другого смыло огород, у третьего — овцу, сколько-то кур или весь запас хвороста; потери сами по себе ничтожные, но для них столь же чувствительные, как для богатого фабриканта Кардонне понесенные им огромные убытки. И все же при виде разрушений, постигших это прекрасное, еще недавно столь цветущее предприятие, они были подавлены — словно богатство, при всей зависти, возбуждаемой им, таит в себе нечто, достойное уважения.
Господин Кардонне не стал дожидаться, пока окончательно спадет вода, и приказал возобновить работы. Он разослал людей по окрестным лугам на поиски унесенных рекою материалов, велел раздать рабочим кирки и лопаты, распорядился очистить подступы к фабрике от нанесенного водою ила и сена, а когда удалось проникнуть в здание, вошел первым, чтобы не волноваться понапрасну, слыша охи и ахи, неизбежные при первом взгляде на последствия катастрофы.
VI Плотник Жан
— Эмиль, возьми карандаш, — приказал фабрикант, обращаясь к сыну, который следовал за ним, опасаясь, чтобы отца не постигла какая-нибудь новая беда. — Смотри не ошибись, я тебе сейчас продиктую цифры… Одно… два… Здесь три поломанных колеса… рама снесена… машина повреждена… Три тысячи… пять… семь… нет, восемь… Возьмем максимум, так будет вернее… Пиши: восемь тысяч франков… Плотина разрушена?.. Удивительно!.. Пиши: пятнадцать тысяч… Придется ее отстроить заново, из более прочных материалов… Здесь поврежден угол… Пиши, Эмиль… Записал?..
Так, добрый час господин Кардонне подсчитывал убытки и составлял смету предстоящих расходов. Он приказал сыну подвести итог и нетерпеливо пожимал плечами, видя, что юноша, то ли по рассеянности, то ли с непривычки, не может справиться с цифрами так быстро, как того хотелось отцу.
— Готово? — спросил он после двух-трех минут напряженного ожидания.
— Да, отец… Это составит приблизительно восемьдесят тысяч франков.
— Приблизительно? — переспросил господин Кардонне, нахмурив брови. — Что значит «приблизительно»?
В его глазах, устремленных на сына, блеснула насмешливая искорка.
— Так вот, — сказал он, — ты, видно, еще не пришел в себя от сидения на дереве. Я сделал подсчет в уме и, как это ни грустно, должен тебе сказать, что он был готов еще до того, как ты успел очинить карандаш. Издержки составят восемьдесят одну тысячу пятьсот франков.
— Как много! — заметил Эмиль, пытаясь придать себе серьезный вид и скрыть нетерпение.
— Нельзя было и предположить подобного буйства в этакой речушке, — продолжал господин Кардонне с необычайным спокойствием, словно подсчитывал чьи-то чужие убытки. — Но все это недолго исправить. Эй, есть тут кто? Вон там балка застряла между колес, ее так и качает водой. А ну-ка, убрать поживей, пока не сломались колеса!..
Рабочие бросились исполнять приказание, но сделать это было труднее, чем могло показаться. Механизм крепко зажал огромную балку. Люди выбивались из сил, но тщетно.
— Осторожней! Не повредите рук! — невольно вырвалось у Эмиля, который, желая облегчить рабочим тягость труда, сам взялся за дело.
А господин Кардонне только покрикивал:
— Тащите! Толкайте! Да что это? Из пеньки у вас руки, что ли?!
Пот катил со всех градом, а дело не двигалось.
— Стой, ребята! А ну, убирайтесь-ка отсюда! — внезапно раздался чей-то голос, который Эмиль сразу узнал. — Пустите, я один справлюсь!
И Жан, вооружась рычагом, быстро отшвырнул камень, которого никто не заметил, и затем с поразительным проворством изо всей силы толкнул балку.
— Потише, черт побери! — воскликнул господин Кардонне. — Вы сломаете машину.
— Сломаю, так заплачу, — возразил крестьянин с деланной грубоватостью. — Эй, вы там! Давай сюда двух ребят покрепче! Налегай!.. Так!.. Держись, Пьер… так, хорошо! Еще малость. Эх, наддай! Гийом!.. Так!.. Молодцы!.. Ладно!.. Ладно… идет!.. А ну-ка, я уберу ногу, а то ты мне ее раздавишь, черт тебя побери! Идет… толкай!.. Не бойся… я держу!..
Не прошло и двух минут, как Жан, одно присутствие и голос которого словно наэлектризовали рабочих, освободил машину от балки, грозившей ей повреждением.
— Жан, пойдите-ка сюда, — позвал его господин Кардонне.
— Зачем, сударь, — возразил крестьянин. — Я и так достаточно сегодня потрудился.
— Вот я и хочу поднести вам стакан моего лучшего вина. Идите-ка сюда, мне надо с вами поговорить… Эмиль, скажи матери, чтоб она распорядилась подать малаги.
— Это ваш сын?! — воскликнул Жан, растроганно взглянув на Эмиля. — Ну, если он ваш сын, так я иду: мне сдается, он славный малый.
— Да, мой сын — славный малый, — ответил господин Кардонне, в то время как Жан принимал из рук Эмиля стакан вина. — Да и вы тоже неплохой человек, и пора вам это доказать, но не так, как вы это делаете вот уже два месяца.
— Прошу прощения, сударь, — возразил Жан, недоверчиво озираясь вокруг, — переучиваться мне поздно, и не за тем я пришел сюда весь в поту, чтоб выслушивать ваши нравоучения, от них мороз по коже. За ваше здоровье, господин Кардонне! Благодарствуйте, молодой человек! Я вам доставил вчера немало огорчений. Вы на меня не в обиде?
— Подождите, — сказал господин Кардонне. — Получите за труды, а потом уж отправляйтесь к вашим лисьим норам.
И он протянул Жану золотой.
— Не нужны мне ваши деньги, вовсе не нужны! — в сердцах возразил Жан, локтем отталкивая протянутую руку. — Я не из интереса работал, вы должны бы это знать, и не ради вашего удовольствия я тут хлопотал. Попросту не хочу я, чтобы ваши рабочие зря спину гнули. К тому же, если понимаешь в работе толк, терпения нет, когда берутся за нее нескладно. Кровь у меня горячая, вот я, надо не надо, не в свое дело и суюсь!
— Это верно. И очутились вы там, где вам не следует быть, — жестко возразил господин Кардонне, с явным намерением одернуть дерзкого крестьянина. — Жан, это последний случай столковаться по-хорошему: воспользуйтесь им, не то пожалеете! Еще в прошлом году, приехав в эти края, я обратил внимание на вашу предприимчивость и сметку. Рабочие, да и крестьяне вас любят, не нахвалятся вашей честностью. Вот я и решил поручить вам все плотничьи работы и платить вдвое — поденно либо сдельно, — но вам одному. А вы в ответ понесли околесицу. Вы, должно быть, забыли, что я слов на ветер не бросаю.
— Нет, сударь, не так было дело, уж вы не обессудьте. Я ответил тогда, что в вашей работе не нуждаюсь, что у меня ее и в поселке по горло хватает.
— Ерунда и враки! Дела у вас шли из рук вон плохо, а теперь еще того хуже. Долги выгнали вас из дому. Мастерскую вы бросили и скрываетесь в горах, словно дичь, преследуемая охотником.
— Уж если говорить, так говорить правду! — надменно возразил Жан. — Долги тут ни при чем. Никто, сударь, меня за долги не преследовал, как вы о том толкуете! Я человек честный и степенный, и пусть кто-нибудь посмеет сказать, что я кому-то в деревне или в округе задолжал! Хоть всех опросите!
— А ведь есть уже три приказа о вашем аресте, и за вами жандармы два месяца кряду гоняются — правда, безуспешно.
— Так и будут до скончания века гоняться. Не велика беда! Пусть-ка эти храбрецы покатаются верхом по берегу Крёзы, а я тем временем по другому берегу пешком прогуляюсь. Подумаешь, какие немощные! Им ведь за то и деньги платят, чтоб они свежим воздухом дышали да хвалились тем, чего не сделали! Нашли кого жалеть! Им, сударь, правительство деньги платит, но правительство не слишком обеднеет, если я его на тысячу франков разорю. А это ведь правда, так суд насчет меня и порешил: плати тысячу франков или садись за решетку! Вас, молодой человек, удивляет, что вот есть такой бедняк, который всю жизнь старался добрым людям услужить, а не то что причинить кому вред, однако ж за ним гонятся, словно за беглым каторжником. Вы хоть и богач, да сердце у вас доброе — это потому, что вы еще молоды. Так знайте же, в чем мои грехи! Послал я три бутылки своего вина хворому приятелю, а наши акцизные крысы возьми да и задержи меня: толкуют, будто я без налога вином торгую. А я врать и унижаться не умею — чем пресмыкаться да с чиновниками в сделку войти, я свое твержу, истинную правду: что я, мол, ни единой капли не продавал и, значит, штрафу не подлежу! Вот за то и присудили мне, по-ихнему, самую малость: пятьсот франков штрафа! Легко сказать: самая малость! Пятьсот франков! Все, что я за год заработаю! И за какие-то три бутылки вина! Уж не говоря, что и приятеля моего, которому этот подарок сделал, тоже осудили. Это-то меня больше всего и разозлило. А так как уплатить деньги я не мог, все у меня разгромили, расхватали, продали с молотка, даже мой плотничий инструмент и тот забрали! Так чего ради стану я платить налог за ремесло, которое меня больше не кормит? Вот я и бросил платить… Как-то раз был я на поденной работе, а тут новая беда: поссорился с писарем мэра да по забывчивости возьми и дай ему тумака… Что тут поделаешь? Хлеба и того у меня не стало. Взял я ружье да в вереске зайца и пристрелил. По прежним временам браконьерство в наших краях почиталось делом обычным и почти что законным: после революции бывшие господа на это сквозь пальцы глядели, иной раз даже из одного удовольствия вместе с нами браконьерствовали.
— Доказательство тому — господин Антуан де Шатобрен, который до сей поры не бросил этого занятия, — иронически заметил Кардонне-старший.
— А вам-то что? Ведь он не на вашей земле охотится! — сердито возразил крестьянин. — Да что говорить! Подстрелил я зайца да поймал в капкан двух кроликов. Тут опять меня сцапали, присудили к штрафу и тюрьме. Но только по дороге на ихний «постоялый двор» улизнул я из полицейских лап. С той поры и живу по своему разумению. Не желаю ходить в кандалах.
— Как вы живете, нам известно, — возразил фабрикант. — Рыщете круглые сутки, браконьерствуете когда и где попало, ночуете каждую ночь на новом месте — и чаще всего под открытым небом. Иной раз приютят вас в Шатобрене — ведь ваша мать была кормилицей господина Антуана. Я не порицаю его за то, что он вам помогает, но он бы поступил благоразумнее, если бы посоветовал вам, в ваших же интересах, работать и вести степенную жизнь… Так вот, Жан, довольно болтать, выслушайте меня. Мне вас жаль, я поручусь за вас и тем самым верну вам свободу и безопасность. Вы отделаетесь несколькими днями тюрьмы, только для проформы. Я уплачу за вас все штрафы, и тогда вы сможете ходить с гордо поднятой головой. Вы меня поняли?
— О, вы правы, отец! — воскликнул Эмиль. — Как вы добры и справедливы! Видите, Жан! Разве я вас обманул?
— Вы как будто уже знакомы? — спросил господин Кардонне.
— Да, отец, — с горячностью подтвердил Эмиль. — Жан вчера оказал мне немалую услугу, но еще сильнее я привязался к нему нынче утром, когда он, рискуя жизнью, спас тонувшего ребенка. Жан, примите помощь, которую предлагает вам мой отец, и пусть его великодушие одержит верх над вашей бессмысленной гордыней.
— Это неплохо, господин Эмиль, — ответил плотник, — вы любите отца, это неплохо. И я тоже уважал своего родителя. Но только вот что, господин Кардонне, на каких же условиях вы все это для меня сделаете?
— Ты станешь у меня плотничать, — ответил фабрикант. — Будешь руководить работами.
— Работами вашего предприятия?! На разорение множеству людей?!
— Нет, предприятия, которое составит благополучие всех моих рабочих и твое также.
— Ну что же! — произнес Жан, поколебавшись. — Не я, так другие станут у вас плотничать, помешать этому не в моих силах. Отработать вам тысячу франков я, пожалуй, готов. Но кто же меня будет кормить, пока я вам мой долг день за днем стану отрабатывать?
— Кормить тебя буду я — ведь поденная плата будет повышена тебе на одну треть.
— Трети будет маловато: одеться мне тоже надо. Я совсем обносился.
— Что ж, удвоим! По здешним ценам ты получал тридцать су поденных, значит, полтора франка. А я дам тебе три!.. Половину будут выдавать тебе на руки, а другая пойдет на погашение долга.
— Ну да!.. Его не скоро погасишь! Хочешь не хочешь, придется четыре года лямку тянуть!
— Ошибаешься! Надеюсь, через два года стройка будет уже окончена.
— Как, сударь? Я буду работать на вас всю неделю? День за днем, без передышки?
— Понятно, кроме воскресений.
— Еще бы! Никто про воскресенье и не говорит!.. Но разве на неделе у меня не будет одного-двух свободных деньков, чтобы я мог провести их как мне вздумается?
— Ты, Жан, как я погляжу, стал совсем лентяем! Вот оно до чего доводит, бродяжничество!
— Молчите лучше, — заносчиво оборвал его плотник, — сами вы лентяй! Никогда Жан бездельником не был! А в шестьдесят лет меняться поздно. Но, видите ли, у меня свое соображение есть, отчего я и решил согласиться: хочу построить себе домик. Раз уж мой продали, хочется новый построить, да самому, своими руками, по своему вкусу. Оттого-то мне и требуется хотя бы один свободный день на неделе.
— Этого я не потерплю, — жестко возразил фабрикант. — Дом тебе не нужен, инструмент также; спать ты будешь у меня, есть — у меня, работать моим инструментом! Ты…
— Хватит!.. Выходит, что я стану вашей собственностью, рабом! Благодарствуйте, сударь, мне тут делать нечего!
И Жан направился к двери.
Условия, поставленные отцом, показались Эмилю весьма суровыми, но, если Жан их не примет, его ждет еще более суровая участь, — и вот Эмиль попытался выступить посредником.
— Жан, старина! — примирительно воскликнул он, удерживая плотника. — Подумайте, прошу вас! Два года пролетят незаметно, а вы за это время подкопите денег. Тем более, — добавил он, бросив на отца умоляющий, но твердый взгляд, — тем более, что отец сверх положенной платы обещает вас кормить…
— Правда? — переспросил Жан.
— Согласен, — ответил господин Кардонне.
— Вот видите, Жан! Одежда — пустяки! Мать и я с радостью поможем вам в отношении платья. Так что через два года у вас-будет чистых тысяча франков. На небольшой домик вам хватит. Ведь вы холостяк?
— Вдовец, сударь, — вздохнув, ответил Жан, — а сын убит на войне.
— А так у тебя весь недельный заработок на прожитье уйдет, — с прежним хладнокровием продолжал Кардонне-отец, — ты все промотаешь, год пройдет — ты и дома не построишь, и ничего не скопишь.
— Что-то вы больно обо мне печетесь! Почему бы это?
— Да потому, что, если, ты все время будешь отрываться от работы, дело пойдет кое-как, тебя никогда не будет под рукой. А если через два года ты предложишь мне свои услуги, я уже не буду в них нуждаться. Я возьму на твое место другого.
— Но ведь работа по ремонту у вас всегда найдется. Неужели вы думаете, что я разорить вас собираюсь?
— Нет, но лучше разориться, чем ждать.
— Как вам не терпится пожинать плоды наших трудов! Ладно! Так вот, обещайте мне один день в неделю и инструмент.
— Видите, как он настаивает на этом! Дайте ему один день, батюшка!
— Я даю ему воскресенье.
— Да я в воскресенье отдыхать должен! — в негодовании воскликнул Жан. — Язычник я, что ли? По воскресеньям я не работаю. Это, сударь, приносит несчастье — еще испортишь работу, и свою и вашу.
— Хорошо, отец даст тебе еще понедельник…
— Замолчи, Эмиль! Никаких понедельников! Я этого не потерплю! Ты не знаешь, что это за человек: башковитый, вечно что-нибудь мастерит, порой удачно, а чаще впустую. Ему бы только тешиться всяким вздором: сегодня он плотник, завтра — краснодеревец. Что и говорить: руки у него золотые! Но когда ему что-либо взбредет в голову, тут уж непоседливей, рассеянней человека не сыщешь! О хорошей работе и говорить не приходится!..
— Он художник, отец! — улыбаясь, но со слезами на глазах произнес Эмиль, — Имейте немного сочувствия к таланту!
Господин Кардонне презрительно взглянул на сына.
— Дитя мое! — сказал Жан с присущей ему простотой и достоинством и взял молодого человека за руку. — Уж не знаю, верить ли тебе, или ты смеешься надо мной, но сказал ты правду! Слишком много у меня выдумки для здешнего дела. Когда я работаю на деревне, у моих друзей — у господина Антуана, священника, мэра или же у бедняков вроде меня, они говорят мне: «Делай как знаешь, старина. Придумывай сам, как тебе смекалка подскажет! Хоть оно и будет дольше, зато лучше!» Вот когда работаешь в свое удовольствие! С такой охотой работаешь, что не заметишь, как и день пройдет и ночь наступит. Устанешь, лихорадит, до смерти другой раз намучаешься, а приятно, как пьянице чарка! Вся-то моя радость в этом. Ладно, тешьтесь, издевайтесь надо мною, господин Кардонне. Вы меня не заполучите. Да, не заполучите, грозите хоть жандармами, хоть гильотиной!.. Продаться душой и телом на два года?! Делать все, что вы прикажете, а самому не сметь слова сказать?! Вы меня знаете, но и я вас тоже знаю. Я-то знаю, что у вас и колышка не вобьешь без вашей указки!.. Значит, стать мне чернорабочим, надрываться на барщине, как покойный мой отец у монахов в Гаржилесе? Ну нет, боже упаси! Я свою душу не продам за такую нудную и дурацкую работу! Если б вы мне хоть лишний день свободный дали, чтоб я мог на моих старых заказчиков и самого себя поработать, — а ведь и того нет!
— И не будет! — отрезал взбешенный господин Кардонне, потому что самолюбие художника заговорило и в нем. — Убирайся, знать тебя не хочу! Бери свой золотой и ступай! Пусть тебя хоть повесят!..
— По нынешним временам уже не вешают, сударь, — возразил Жан, швырнув золотой на землю. — А хотя бы и повесили — так не меня первого: мало ли честных людей попадалось палачу в лапы!
— Эмиль, — обратился к сыну господин Кардонне, как только крестьянин вышел, — позови полевого сторожа. Вон он стоит на крыльце с железными вилами в руках.
— Боже, что вы хотите сделать? — испуганно воскликнул Эмиль.
— Вернуть этого человека к рассудку, добронравию, труду, благонадежности, счастью. Он проведет ночь за решеткой и станет покладистей, а когда-нибудь поблагодарит меня за то, что я избавил его от дьявольской гордыни.
— Но, отец, вы посягаете на личную свободу!.. Вы не имеете права!..
— С нынешнего дня я мэр, и мой долг распорядиться о задержании бродяги. Иди, Эмиль, не то пойду я сам…
Эмиль все еще колебался. Господин Кардонне, не терпевший ни малейшего противоречия, резко отстранил сына и вышел из комнаты, чтобы в качестве местной власти дать сторожу приказ о задержании Жана Жапплу, уроженца Гаржилеса, плотника по профессии, определенного местожительства в настоящее время не имеющего.
Этот приказ пришелся не по душе сельскому сторожу, господин Кардонне по его лицу увидел, что тот колеблется.
— Кайо, — сказал он решительно, — выбирай: или увольнение в недельный срок, или двадцать франков награды!
— Хорошо, сударь, — ответил Кайо и, потрясая своим оружием, быстро зашагал по дороге.
Он нагнал беглеца на расстоянии двух ружейных выстрелов от деревни, что и неудивительно, ибо Жан, погруженный в мучительное раздумье, шел медленно, опустив голову на грудь.
«Когда б не моя дурость, — размышлял он, — я нынче же вступил бы на путь отдыха и благополучия, а теперь должен снова влезать в хомут нищеты, рыскать, как волк, среди скал и колючих зарослей, обременять добряка Антуана, который неизменно встречает меня с распростертыми объятиями и, при всей своей бедности, всегда готов дать мне хлеба и вина; сколько бы я ни приносил ему куропаток и зайцев, все равно я перед ним в долгу… Сердце разрывается, как подумаешь, что придется навек расстаться с родной деревней, где я родился и прожил всю жизнь, где остались все мои друзья; а я вот крадусь сторонкой, словно голодный пес, который, рискуя получить пулю в лоб, подбирается к куску хлеба. Земляки все ко мне добры и, если бы не трусили перед стражниками, не отказали бы мне в ночлеге».
Так размышлял Жан, когда до его слуха донесся колокольный звон, созывающий к вечерне; невольные слезы покатились по его загорелым щекам.
«Нет, — подумал он, — на десять лье в округе не сыщешь такого звонкого и славного колокола, как у нас в Гаржилесе!»
Рядом, в кустах боярышника, защелкал дрозд.
— Счастливец! — обратился к нему Жан. — Ты можешь вить себе здесь гнездо, порхать по здешним лесам, клевать в любом саду ягоды и плоды, и никто на тебя протокола не составит!
— Протокола… вот это верно, — произнес у него за спиной чей-то голос. — Именем закона арестую тебя!..
И Кайо схватил Жана за шиворот…
VII Арест
— Это ты? Ты, Кайо?! — изумленно воскликнул плотник с таким выражением, какое, вероятно, было у Цезаря, когда его поразил кинжал Брута.
— Я самый и есть — полевой сторож Кайо! Именем закона! — завопил Кайо на случай, если бы поблизости оказались свидетели. И шепотом добавил: — Спасайся, старина! Ну же! Толкни меня хорошенько и улепетывай!..
— Что ты! Оказать сопротивление и вконец запутать дело? Нет, Кайо, так не годится. Как же это ты решился, несчастный, жандармом стать? Арестовать меня — Друга твоей семьи, твоего крестного отца?
— Да разве же я тебя арестовываю, крестный?! — вполголоса возразил Кайо… — А ну! Пошел за мной, не то я людей созову! — заорал он во все горло. — Да ну же, папаша Жан, улепетывай потихоньку; для вида дай мне тумака, я и упаду…
— Нет, дружище Кайо, тебя со службы прогонят, и пойдет о тебе слава, что ты мокрая курица и трус. Раз у тебя достало духу пойти на такое дело, доводи его до конца. Тебе, как я понимаю, грозили, принуждали… Ума не приложу, как это господин Жариж решился на такую несправедливость!
— Да ведь господин Жариж больше не мэр! Нынче мэр — господин Кардонне.
— Ага, понятно!.. Так бы и хватил тебя по шее! Почему ты сразу не подал об увольнении?
— Твоя правда, папаша Жан!.. — с убитым видом согласился Кайо. — Я и подам, будь покоен… Ну, беги!..
— Беги, Жан!.. А ты стой! Ни с места! — произнес Эмиль Кардонне, выходя из кустов. — Ну-ка, приятель, падай, раз уж так хочется! — добавил он, ловко, по-мальчишески, дав Кайо подножку. — А когда спросят, кто тебе подстроил ловушку, скажешь отцу, что я.
— Неплохо придумано! — проворчал Кайо, потирая ушибленное колено. — Если ваш папаша велит посадить вас за решетку, пеняйте на себя!.. Вы меня малость ушибли, я бы лучше упал на траву. Убежал он, этот старый дурень?
— Нет еще, — ответил Жан, который за это время успел подняться на холм и находился от них уже на почтительном расстоянии. — Благодарствуйте, господин Эмиль, я вам этого никогда не забуду. Я бы покорился, раз уж судьба моя такая, но как услыхал, что здесь не в одном законе дело, а что тут папаша ваш сподличал, я и решил: лучше в реку головой, чем такому лживому и злому человеку поддаться! Про вас этого не скажешь, вы лучшего родителя заслужили! Сердце у вас доброе, и пока я жив…
— Убирайся прочь! — возразил Эмиль, шагнув к нему. — И не смей при мне плохо отзываться об отце. Я многое мог бы тебе сказать, да сейчас не время. Придешь завтра вечером в Шатобрен?
— Да, сударь. Только смотрите, чтоб вас не выследили, и не спрашивайте обо мне у ворот слишком громко. А все же благодаря вам я не попал за решетку — это не так уж плохо.
И он исчез в мгновение ока. Обернувшись, Эмиль увидел Кайо, лежавшего на земле словно бы в обмороке.
— Что это с тобой? — испуганно спросил молодой человек. — Сильно я тебя ушиб? Повредил что-нибудь?
— Да нет, сударь, — возразил хитрец. — Но я, видите ли, подожду лучше, когда кто-нибудь меня подымет, а то никто не поверит, что мне дали тумака и сбили с ног.
— Зачем это? Я все беру на себя, — возразил Эмиль. — Ступай к отцу и скажи, что я оказал сопротивление и не дал арестовать Жана. Я иду следом за тобой. Остальное уж мое дело.
— Нет, сударь, идите лучше вы вперед, а я поплетусь за вами, будто вы мне ногу подшибли. Ведь если я побегу да скажу, что вы мне переломили обе ноги, а я и не пикнул, ваш папаша мне не поверит и прогонит с места.
— Дай руку, обопрись на меня, и идем вместе, — сказал Эмиль.
— Вот это дело, сударь! У меня все тело ноет!..
— В самом деле? Я просто в отчаянии, приятель!
— Да нет, сударь! Ничего подобного: просто — так надо!
— Это что значит? — сурово спросил господин Кардонне, увидев сторожа, опирающегося на руку Эмиля. — Жан оказал сопротивление, ты, как болван, дал себя отколотить, и преступник скрылся?
— Простите, сударь, преступник тут ни при чем. Это ваш сын проходил мимо да как толкнет меня… нечаянно, конечно… Я только хотел схватить беглеца, а тут — бах!..
Как покачусь!.. Шагов двадцать головой вниз под гору летел. Бедный молодой человек очень опечалился. Он как прибежит да меня как подхватит… а то бы мне не миновать в реку нырнуть; тут бы я уж хлебнул водички вдоволь!.. А кому от того польза — папаше Жапплу! Мне бы за ним кинуться, а я лежу как мертвый, ни рукой, ни ногой пошевелить не могу… Он и был таков!.. Если б ваша милость пожаловала мне стаканчик вина, это меня бы подкрепило, а то у меня все кишки наверняка отшибло…
Эмиль должен был признать, что этот крестьянин, такой простоватый, хотя и лукавый с виду, оказался куда изобретательнее его по части выдумки и с большим успехом, нежели он, сумел привести дело к благополучному концу. Юноша колебался, почти готовый подтвердить рассказ Кайо, но в проницательном взгляде отца без труда прочел, что тот не удовольствуется его безмолвным свидетельством, и, чтобы его убедить, потребуется дерзости не меньше, чем у дядюшки Кайо.
— Что за нелепица? В чем дело? — спросил господин Кардонне, хмуря брови. — С каких пор мой сын стал таким силачом и грубияном? И чего ради он очутился на вашем пути?! А ты?.. Если ты не можешь держаться на ногах и от первого толчка спотыкаешься и катишься, словно куль с овсом, — так ты, видно, просто пьян! Говори правду, Эмиль: Жан Жапплу избил сторожа и, быть может, столкнул в овраг, а ты… Чего ты улыбаешься? Что за ребячество!.. Ты нашел это забавным, поспешил на помощь дуралею Кайо и согласился взять на себя его нарочитую оплошность? Так ведь, говори?
— Нет, отец, не так! — решительно возразил Эмиль. — Если говорить о ребячестве, тут вы правы, и в мальчишестве моем, быть может, есть некоторый умысел. Пусть Кайо думает что ему угодно о моей привычке походя опрокидывать встречных. Если я его ушиб, я готов извиниться перед ним и возместить обиду… А пока что разрешите отправить его к вашей экономке: он просит подкрепиться, пусть она поднесет ему стакан вина. С глазу на глаз я расскажу вам откровенно, как случилась со мною эта оплошность.
— Ступай отведи его в буфетную, — приказал господин Кардонне, — и возвращайся скорее.
— Господин Эмиль, — сказал Кайо молодому человеку, спускаясь с ним в буфетную, — я вас не продал, так и вы меня не выдавайте!
— Будь спокоен, только не напивайся до бесчувствия, — промолвил молодой человек. — Знай, что вся вина падет на меня одного.
— И какого черта вы на себя вину берете? Это уж, вы меня простите, глупость!.. Ведь ежели вы сопротивление представителю власти оказали, да еще при исполнении служебных обязанностей, вас могут в тюрьму засадить.
— Это уж мое дело! Ты стой на своем, раз ты так ловко вывернулся, а я объясню свои намерения, как мне будет угодно.
— Сердце у вас доброе, — произнес изумленный Кайо, — а вот сметки отцовской вам не хватает!..
— Ну, Эмиль, — сказал господин Кардонне, который в ожидании сына взволнованно шагал по кабинету, — не разъяснишь ли ты, что это за непостижимое приключение?
— Отец, виноват во всем я один, — твердо ответил молодой человек, — Пусть все ваше недовольство и все последствия моего поступка обрушатся на меня одного. Клянусь вам честью, Жан Жапплу дал себя задержать без малейшего сопротивления, а я грубо оттолкнул и повалил сторожа и сделал это преднамеренно.
— Отлично! — холодно произнес господин Кардонне, решив узнать всю правду. — И этот олух дал себя свалить? Кайо упустил арестованного, и, как бы он сейчас ни врал, он великолепно понял, надо думать, что ты все это проделал неспроста.
— Он ровно ничего не понял, — возразил Эмиль. — От неожиданности он растерялся и упал. Полагаю даже, что он порядочно ушибся.
— Надеюсь, ты не разубеждал его, что с твоей стороны это была только шутка?
— Не все ли равно, как он толкует мои намерения и что у него в мыслях? К счастью, наши мысли не подвластны судейским чиновникам. Они могут судить одни лишь поступки!
— И это говорит мой сын?!
— Нет, отец, ваш подчиненный, преступник, которого вы собираетесь судить и карать. Спрашивайте меня о том, что касается меня, и я отвечу как должно. Но речь идет о бедном Кайо, живущем на свое скудное жалованье. Он в вашей власти, он боится вас, и, если вы прикажете ему отвести меня в тюрьму, он беспрекословно выполнит ваше распоряжение.
— Мне жаль тебя, Эмиль! Ну, довольно говорить об этом Кайо и об его увечьях! Я прощаю его, а тебе поручаю его вознаградить, если он сумеет держать язык за зубами, ибо я отнюдь не желаю, чтобы ты ознаменовал свое появление в наших краях нелепым скандалом. Но объясни, пожалуйста, чего ради ты разыгрываешь какую-то шутовскую комедию в духе исправительной полиции? Что это за приключение, где тебе досталась роль Дон-Кихота, а Кайо — Санчо Пансы? Куда это ты так торопился, когда он арестовывал плотника? Почему очутился вдруг рядом с ним? Что за блажь освободить Жана из рук правосудия, презрев мои добрые намерения относительно этого человека? Уж не сошел ли ты с ума за те полгода, что мы не виделись? Или дал рыцарский обет? Или попросту намерен перечить во всем, идти против моей воли? Отвечай по-серьезному, если можешь. Ведь я твой отец и спрашиваю тебя всерьез!
— Отец, я многое мог бы сказать в ответ, если бы вы спросили меня о моих чувствах и мыслях. Но сейчас речь идет о незначительном частном случае, и я опишу вам в немногих словах, как все произошло. Я поспешил за беглецом, желая избавить его от позора и мук тюремного заключения: я надеялся опередить Кайо и убедить Жана добровольно вернуться, выслушать ваши предложения и подчиниться закону. Я опоздал и уже не мог отговорить стражника от исполнения его долга; поэтому-то я и вмешался, зная, что понесу кару за совершенное преступление. Подчиняясь непосредственному побуждению, я действовал непредумышленно, необдуманно, увлекаемый властным порывом сочувствия и сострадания. Если я поступил плохо — побраните меня. Но если через два дня я силой убеждения и кротостью заставлю Жана добровольно к вам возвратиться, вы простите меня и согласитесь, что подчас и сумасброда может осенить счастливая мысль.
— Эмиль! — сказал после некоторого молчания господин Кардонне, продолжая шагать по кабинету. — Я должен сделать тебе серьезный упрек: ты поднял открытый бунт, я уж не говорю — против сельских властей (тут я не буду чересчур придирчив), — но ты восстал против меня. В тебе говорит неуемная гордыня и недостаточное уважение к отцовской воле. Я не склонен терпеть подобные выходки, ты меня достаточно хорошо знаешь и можешь сам об этом догадаться, если за время нашей разлуки не успел окончательно все перезабыть. Однако на сегодня я избавлю тебя от длинных нравоучений — боюсь, что ты не способен извлечь из них пользу. Судя по твоим поступкам и настроениям, нам следует серьезно поговорить и упорядочить как твой образ мыслей, так и твои намерения относительно будущего. Бедствие, постигшее мою фабрику, не позволяет мне уделить тебе сейчас больше времени. У тебя за нынешний день было достаточно волнений, тебе следует отдохнуть: побудь с матерью и ложись пораньше спать. Как только на фабрике восстановятся порядок и спокойствие, я сообщу тебе, зачем я тебя вызвал из твоего, как ты выразился, изгнания и чего я от тебя жду.
— А до этого объяснения, которого я жажду, ибо впервые в жизни вы намерены побеседовать со мною как со взрослым человеком, смею ли я надеяться, что вы больше на меня не сердитесь? — спросил Эмиль.
— Когда встречаешь сына после долгой разлуки, трудно быть слишком суровым, — ответил господин Кардонне, пожимая Эмилю руку.
— И вы не прогоните беднягу Кайо? — продолжал Эмиль, обнимая отца.
— Нет, при условии, что ты больше никогда не станешь вмешиваться в дела муниципалитета.
— И не велите арестовать Жана?
— Мне незачем отвечать на такой вопрос. Я слишком доверял тебе, Эмиль, но вижу, что мы во многом расходимся, и, пока мы не придем к согласию, я как глава семьи не желаю, чтобы мне перечили. Ну, довольно! Спокойной ночи, дитя мое! Я должен поработать.
— Не могу ли я вам помочь? Вы никогда не верили, что я хоть чем-нибудь способен облегчить ваши труды!
— Надеюсь, со временем будешь способен. Но пока ты еще не знаешь даже простого сложения!
— Цифры, вечно цифры.
— Ступай спать! Мое дело бодрствовать и трудиться, чтобы со временем ты стал богат.
«Разве я сейчас недостаточно богат? — размышлял, уходя, Эмиль. — Если богатство, как мне часто и совершенно справедливо говорил отец, возлагает на человека тяжкие обязанности, то к чему тратить жизнь на то, чтобы придумывать эти обязанности, быть может вовсе для нас непосильные?»
Весь следующий день господину Кардонне пришлось трудиться над приведением в порядок фабрики, пострадавшей от наводнения. При всей твердости своего характера он испытывал сильнейшую досаду, обнаруживая на каждом шагу, в тысяче мелочей, ущерб, неожиданно нанесенный его предприятию. Рабочие потеряли голову. Все еще не удавалось отрегулировать напор воды, приводившей в действие механизмы, и упорядочить работу машин: она разлаживалась все больше, так как вода перехлестывала через плотину. Господин Кардонне был задумчив и сосредоточен, он еле скрывал раздражение, закипавшее в нем при виде бестолковости подвластных ему людей, которых он привык считать машинами в большей степени, нежели самые машины. Он приучил их к слепой, безропотной покорности и почувствовал теперь, что в минуту опасности, когда воли, одного человека недостаточно, раб — плохой слуга. Он не призвал, однако, на помощь Эмиля, напротив того: всякий раз, как юноша предлагал свои услуги, господин Кардонне под тем или иным предлогом отклонял их, словно и в самом деле не доверял сыну. Подобная кара была убийственна для горячего, самоотверженного сердца.
Эмиль пытался искать утешения у матери, но добрая женщина была совершенно беспомощна, а ее обычная подавленность и душевное оцепенение нагоняли тоску на всех, не исключая и сына, который впал в неодолимую меланхолию вопреки стараниям матери развлечь и рассеять его. Госпожа Кардонне тоже обращалась с сыном, будто с ребенком, не замечая, что в ее нежном покровительстве, как и в высокомерии ее мужа, есть нечто оскорбительное. Она не смела признаться самой себе, что мужа и сына разделяет пропасть, но вместе с тем была достаточно проницательна, чтобы почувствовать это; она в страхе отвращала взоры, не желая видеть всю глубину этой бездны, и пыталась беспечно играть с сыном на ее краю, как будто могла его обмануть.
Она водила Эмиля по дому и саду, занимала его шутливыми разговорами, словно хотела убедить, что единственная причина ее грусти — вчерашнее наводнение.
— Если бы ты приехал днем раньше, ты бы увидел, какая здесь была красота, какой порядок, какая чистота! Я бы с таким наслаждением поила тебя кофе вот здесь, в чудесной, увитой жасмином беседке над самым обрывом. Увы! — от нее и следа не осталось, даже землю смыло; а взамен река нанесла сюда отвратительный грязный ил и гальку.
— Утешьтесь, дорогая матушка! — отвечал Эмиль. — Мы скоро все приведем в порядок. Если рабочие отца будут заняты, я сам стану вашим садовником. Вы расскажете мне, как все было расположено. Впрочем, я уже видел, это было как сказочный сон! С вершины вон того холма я любовался вашим волшебным садом, чудесными цветами! И подумать только, что в один миг их смыло у меня на глазах. Но не горюйте, бывают потери более огорчительные!..
— Страшно подумать, что тебя самого чуть не унесла эта мерзкая река! Я сейчас ее просто ненавижу! Ах, дитя мое! Я оплакиваю тот день, когда твоему отцу пришла мысль обосноваться здесь. Мы пережили за эту зиму не одно наводнение, и всякий раз приходилось все начинать сызнова. Отца это терзает, мучит, хотя он старается и виду не подать. Характер у него портится, да и здоровье может пошатнуться! А все из-за этой реки!
— А вы, матушка, как? Вы не боитесь, что жизнь в новом каменном доме, да еще при такой сырости, может вам повредить?
— Не знаю, дитя мое! Я находила утешение в моих цветах и в надежде снова тебя увидеть! Но ты приехал и попал в зловонную яму, в болото. А я-то мечтала, как ты будешь читать здесь, в саду, или курить сигару, прогуливаясь среди цветов и газонов! Проклятая река!
Наступил вечер, и лишь тогда Эмиль заметил, как бесконечно долго тянулся для него этот день и сколько проклятий реке слышалось со всех сторон. Один лишь господин Кардонне продолжал твердить, что все это пустяки и достаточно небольшой насыпи, чтобы раз и навсегда обуздать этот «ручеек». Но его побледневшее лицо и стиснутые зубы выдавали скрытое бешенство, и выносить это было еще тяжелее, чем жалобы окружающих.
Обед прошел уныло, в ледяном молчании. Раз двадцать господина Кардонне вызывали, и раз двадцать он вставал из-за стола, чтобы отдать распоряжения, а так как госпожа Кардонне безгранично почитала мужа, блюда всякий раз уносили на кухню, все подгорало, и супруг находил кушанья отвратительными. Жена то бледнела, то краснела, сама бегала в буфетную, лезла из кожи, разрываясь между желанием угодить мужу и не досадить сыну, который решил под конец, что в этом богатом доме обед очень плох и тянется мучительно долго.
Поднялись из-за стола поздно. И так как в темноте переправляться вброд через реку было все еще опасно, Эмиль отказался от мысли навестить господина Антуана. Он рассказал родителям, какой прием оказали ему в замке Шатобрен.
— Ах, я непременно поеду их отблагодарить! — воскликнула госпожа Кардонне.
Но супруг ее возразил:
— Совершенно излишне. Я вовсе не желаю, чтобы старый пьянчуга, который панибратствует с мужичьем, вздумал, чего доброго, отдать мне визит и перепился с рабочими у меня на кухне.
— У него прелестная дочь, — робко заметила госпожа Кардонне.
— Дочь? — высокомерно повторил глава семьи. — Какая? Та, что он прижил со служанкой?
— Он ее узаконил.
— И хорошо сделал! Иначе старой Жанилле трудненько было бы установить, кто же отец ее ребенка. Как бы ни была эта девица прелестна, надеюсь, Эмиль не вздумает предпринять такое путешествие нынче вечером. Уже темно, а дороги прескверные.
— Ах нет! — воскликнула госпожа Кардонне. — Нынче он не поедет. Дорогой Эмиль, ты не захочешь так меня огорчить! Завтра днем, если вода совсем спадет, — в добрый час!
— Ну что же, поеду завтра, — ответил Эмиль, неохотно подчиняясь матери. — Но согласитесь, что в ответ на столь теплое гостеприимство я обязан нанести им визит.
— Конечно, — подтвердил господин Кардонне. — Но я надеюсь, что этим и ограничатся твои отношения с семейством Шатобрен; на мой взгляд, это неподходящее для тебя знакомство. Постарайся не засиживаться: завтра вечером, Эмиль, я намерен с тобою побеседовать.
На рассвете следующего дня, пока родители еще спали, Эмиль велел оседлать коня и, переехав через взбаламученную и все еще неспокойную реку, пустился галопом по дороге в Шатобрен.
VIII Жильберта
Уже подымалось солнце, когда Эмиль подъехал к Шатобрену. Утро стояло чудесное. Развалины, столь грозные при свете молний, предстали сейчас во всем своем очаровании и великолепии, как бы торжествуя над разрушительным ходом времени. В бледно-розовом свете утренних лучей пышная зелень, причудливо обвивавшая стены замка, казалась достойным украшением прекрасного памятника старины, как будто помолодевшего в этом девственном убранстве.
Замок Шатобрен необычайно горделиво возвышается на вершине горы, и въезд в него на редкость величествен. Внушительные очертания квадратного здания с огромными воротами и сводчатой колоннадой поражают своим благородством. На своды и обрамление замковой решетки пошел строительный камень ослепительной белизны. Замок выходит фасадом на искусственную площадку, поросшую травой и кустарником и словно прилепившуюся к утесу, нависшему над бурным потоком. Деревья, скалы и лужайки, прихотливо сбегающие с обрывистых склонов, исполнены естественной прелести, недостижимой для самого искусного художника. Позади замка открываются широкие и величавые просторы: река Крёза, пересеченная наискось двумя шлюзами, вьется среди лугов и зарослей ивняка, образуя два мягко ниспадающих, мелодично журчащих водопада. Красавица река то мирно течет по своему ложу, то яростно мчит кристальные, прозрачные воды меж берегов, радующих глаз восхитительными пейзажами и живописными развалинами. С высоты большой замковой башни видно, как Крёза, образуя множество излучин, несется среди крутых, обрывистых берегов и затем, слезно лента серебристой ртути, бежит по темной зелени луга или пробивается среди поросших розовым вереском утесов.
Проехав мост, перекинутый через широкий, полузасыпанный от времени ров, склоны которого поросли густою травой и цветущим кустарником, Эмиль остановил лошадь, залюбовавшись обширной естественной террасой, где каждый уголок на подступах к замку был омыт и очищен грозовым ливнем. Дождем унесло весь щебень, весь хворост и сухой кустарник, словно некая добрая великанша заботливо расчистила тропинки, омыла обветшалые стены, убрала песок и освободила проходы от обломков и камней, — задача, непосильная для самого владельца замка. Словом, наводнение, которое изуродовало, загрязнило и разрушило всю прелесть нового жилища господина Кардонне, воскресило и омолодило развалины Шатобрена. Могучие древние стены торжествовали над веками и бурями; умышленно возведенные на высоком холме, они господствовали над непрочными созданиями рук последующих поколений.
При всей своей гордыне (а он был горд, как может и должен быть горд потомок старой буржуазии, этого умного, мстительного и упрямого сословия, у которого были в прошлом свои славные дни, сословия, которое могло бы быть благородным, если бы оно протянуло народу руку, вместо того чтобы дать ему пинка ногой) Эмиль был поражен величием этого феодального владения, хотя и лежавшего в развалинах. Сын богатого и влиятельного выскочки ощутил почтительную жалость, переступив через ограду замка, где одно лишь имя хозяина могло поспорить с реальными преимуществами положения молодого Кардонне. Эта благородная жалость усугублялась тем, что владелец замка ни своими чувствованиями, ни поведением не стремился вызвать к себе сожаление или, напротив, отвергнуть его. Благодушный, беззаботный, сердечный, господин Антуан в этот час подрезал фруктовые деревья у входа в сад. Он с отеческим радушием поспешил навстречу Эмилю и сказал улыбаясь:
— Добро пожаловать, дорогой господин Эмиль! Теперь я знаю, кто вы, и рад познакомиться с вами поближе. Право же, ваше лицо мне понравилось с первого взгляда, а так как вы рассеяли предубеждение против вашего батюшки, которое мне пытались внушить, будет особенно приятно почаще видеть вас среди этих развалин. Прежде всего пойдемте на конюшню, я помогу вам привязать лошадь, потому что Сильвен занят: он помогает Жильберте прививать черенки роз — не следует отвлекать мою крошку от столь важного занятия. На сей раз, надеюсь, вы с нами позавтракаете. Мы в долгу перед вами: ведь в прошлый раз вы уехали от нас без завтрака.
— Я приехал отнюдь не за тем, чтобы доставлять вам новые хлопоты, дорогой хозяин, — ответил Эмиль, с невольной симпатией пожимая мозолистую руку сельского дворянина. — Прежде всего я хотел бы поблагодарить вас за радушное гостеприимство и, кроме того, полагал встретить здесь одного человека, нашего с вами друга. Я должен был увидеться с ним здесь вчера вечером.
— Знаю, знаю, — ответил господин Антуан и приложил палец к губам. — Он мне все рассказал. Правда, его жалобы на вашего батюшку, по обыкновению, преувеличены. Об этом мы еще поговорим, но я со своей стороны должен принести вам благодарность за сочувствие к этому человеку. Он ушел, едва забрезжил свет, и «не знаю, удастся ли ему возвратиться сегодня: за ним нынче особенно рьяно охотятся. Но я уверен, что с вашей помощью дело его вскоре примет хороший оборот. Вы расскажете мне, чего вам удалось в конце концов добиться от вашего почтенного батюшки, чтобы спасти моего несчастного друга и помочь ему. Жан поручил мне выслушать вас и дать за него ответ; стало быть, я облечен полномочиями заключить перемирие. Не сомневаюсь, что условия, переданные таким человеком, как вы, могут быть только почетными! Но торопиться некуда, и вам незачем отказываться от завтрака. К тому же, заверяю вас, что я не намерен вступать в переговоры натощак. Начнем с того, что мы накормим вашу лошадь, — раз животные не умеют заявлять о своих желаниях, приходится заниматься прежде всего ими, а уж затем собой, не то, чего доброго, и позабудешь о них. Эй, Жанилла! Насыпь-ка полный передник овса и неси сюда: ведь благородный конь привык ежедневно получать овес, а мне хочется слышать дружелюбное его ржание всякий раз, как он завидит наш замок. Я хотел бы даже, чтобы он сворачивал в нашу сторону помимо воли своего хозяина, ежели тот обо мне позабудет.
Невзирая на всю бережливость и даже скупость, Жанилла охотно принесла немного овса, хранимого ею для торжественных случаев. Конечно, в глубине души она считала это излишним, но, чтобы поддержать честь господского дома, она готова была продать с себя последнюю кофту. Возможно, на сей раз великодушная Жанилла не без лукавства подумала, что монеты, полученные ею от Эмиля в прошлый раз, будут, конечно, не последними и таким образом он сам с лихвой покроет расходы на прокорм коня как в этот раз, так и во все последующие.
— Кушай, красавчик, кушай! — приговаривала она, поглаживая лошадь с нарочито мужественным и независимым видом, а затем, вооружившись пучком соломы, принялась деловито тереть ей бока.
— Оставьте, матушка Жанилла, — вскричал Эмиль, выхватив солому у нее из рук. — Я сам вытру.
— Вы, что же, думаете, я не справлюсь? Вот увидите — не хуже мужчины! — возразила многосведущая старушка. — Будьте покойны, сударь! Я и на конюшне управляюсь, и в буфетной, и в бельевой. Если бы я каждый день не заглядывала в стойло да в шорную, наш ветрогон жокей и не подумал бы следить за кобылой! Поглядите, какая наша славная Искорка чистая и упитанная! Рысаком, сударь, ее не назовешь, но уж до чего кротка! Как и все мы, здешние. Я не говорю о моей дочке, потому что она кроткая и к тому же красавица.
— Ваша дочка? — озадаченно переспросил Эмиль, ибо при этих словах поэтический образ мадемуазель Шатобрен несколько померк в его глазах. — У вас есть дочь? Я еще не видел ее.
— Бог с вами, сударь! Что вы говорите! — воскликнула Жанилла, и на ее бледных, поблекших щеках вспыхнул стыдливый румянец, а господин Антуан улыбнулся с некоторым замешательством. — Вы, видно, не знаете, что я девица!
— Простите, — возразил Эмиль, — я ведь недавно в этих краях, и, боюсь, мне не раз придется попадать впросак. Я полагал, что вы замужем или же вдова.
— Это правда, в мои годы я могла бы схоронить не одного мужа, — заметила Жанилла, — да и за женихами остановки не было. Но замужество мне всегда претило: своя воля всего дороже. Я потому говорю: «наша дочка», что барышню почти с самого ее рождения нянчила и люблю, словно родную. Ведь я ее с самых младенческих лет пестовала, вот хозяин и не перечит мне, когда я с его дочкой запросто, словно с родной, обращаюсь: ведь я уважаю ее оттого не меньше. Когда вы увидите барышню, сразу заметите, что она похожа на меня не больше, чем, скажем, вы, и что в жилах у нее течет только благородная кровь! Боже ты мой! Ну откуда бы у меня взяться такой дочке? Да будь она моя, я бы до того возгордилась, что всему свету возвестила бы! Пускай себе думают что хотят! Ха-ха-ха! Вам смешно, господин Антуан? Смейтесь, смейтесь. Я на пятнадцать лет вас старше, сплетни ко мне не пристанут.
— Да что ты, Жанилла! Никто, насколько мне известно, ничего худого и не думает, — сказал господин де Шатобрен с принужденной веселостью. — Это была бы для меня слишком большая честь, а я не такой уж ветреник, чтоб этим хвастать. И называй мою дочь как хочешь: это твое право, ты ведь была ей больше чем матерью.
Последние слова владелец замка произнес серьезным и проникновенным тоном; словно облачко затуманило его глаза, а в голосе прозвучала глубокая печаль. Но долгая грусть была не в характере господина Антуана, и он быстро обрел обычную безмятежность.
— Скорей готовь завтрак, юная ветреница, — весело обратился он к своему дворецкому в юбке, — мне осталось подрезать еще два дерева. Господин Эмиль составит мне компанию.
Сад в Шатобрене был некогда обширен и великолепен, под стать всему остальному, но большую его часть продали вместе с парком, который впоследствии распахали под посевы, и теперь этот сад занимал всего несколько арпанов. Та его часть, которая примыкала непосредственно к замку, поражала своей дикой красотой и обилием зелени; сквозь привольно разросшиеся декоративные деревья и травы то тут, то там виднелись ступеньки или развалины стены — все, что осталось от знаменитых беседок и лабиринтов времен Людовика XV. Нет сомнения, что все эти мифологические статуи, вазы, фонтаны, псевдодеревенские домики некогда задуманы были в подражание кокетливым и вычурным украшениям королевских дворцов. Теперь все это лежало грудой развалин, обвитых виноградом и плющом, но в глазах поэта или художника они, возможно, обладали большей прелестью, нежели в дни их былого великолепия.
На пригорке, где за живой терновой изгородью паслись на приволье две козы, тянулся фруктовый сад. Узловатые, изогнутые ветви яблонь и груш, никогда не ведавшие принуждения, не ограниченные шпалерами, не подстриженные наподобие веретена, являли причудливый, фантастический вид. Это чудовищное сплетение древесных гидр и драконов протянуло свои лапы над головами людей, распростерлось по земле, и трудно было пробраться сквозь чащу, не споткнувшись о гигантские корни или не зацепившись шляпой за ветку.
— Старые, верные слуги! — сказал господин Антуан, прокладывая Эмилю путь среди этих ветеранов Шатобрена. — Они приносят теперь урожай лишь раз в пять-шесть лет, но какие чудесные, вкусные плоды неторопливо наливаются их обильным соком! Когда я выкупил землю, все кругом советовали срубить эти древние насаждения, но дочь просила пощадить старые деревья за красоту. Хорошо, что я последовал ее совету: здесь теперь столько тени; и хотя плодов они дают немного, нам хватает. Взгляните, какая огромная яблоня! Она, надо думать, старше моего покойного отца и, ручаюсь, переживет моих внуков! Да разве же это не преступление — обезглавить старого великана? А эта айва! За год она приносит с дюжину плодов, не более. Для такого рослого дерева маловато. Зато плоды размером с мою голову и желты, как золото! А запах, сударь! Осенью узнаете сами! Постойте, вот недурная вишня: сколько ягод! Значит, и старики кое на что годятся, как вы думаете? Надо только правильно подрезать деревья. Какой-нибудь придирчивый садовод, возможно, скажет, что недопустимо, чтобы столь пышно разрастались ветви, что их надо подрезать, укорачивать, и тогда почек будет больше. Но, когда состаришься сам, опыт подсказывает иное. Если фруктовое дерево полвека плодоносило, нужно вернуть ему свободу и на несколько лет предоставить попечению природы. Тогда для него наступает вторая молодость: оно сильней ветвится, пышней распускается листва — дерево отдыхает и в благодарность за то, что вы не превратили его в общипанный веник, вознаграждает вас щедрыми дарами. Вот посмотрите на эту толстую ветвь: она как будто лишняя… — добавил он, приготовив садовый нож. — Но нет, придется ее пощадить: такая серьезная ампутация может истощить дерево. В дряхлом теле кровь обновляется не столь быстро, ему не перенести операцию, которая безопасна для молодого организма. Точно так же и у растений. Я обрежу только сухие сучья и соскребу мох. Поглядите-ка, это очень просто.
Простодушная серьезность, с какою господин де Шатобрен углубился в свои невинные занятия, растрогала Эмиля. Все, с чем он сталкивался здесь на каждом шагу, так непохоже было на то, что он видел у себя дома! Там садовник, получавший большое жалованье, и двое его подручных с утра до вечера только и делали, что наводили красоту и порядок в саду госпожи Кардонне, а сама госпожа Кардонне сокрушалась над каким-нибудь неудавшимся розовым бутоном или своенравным зеленым побегом. Здесь же было обратное: господин Антуан умилялся горделивой дикости своих «питомцев», ставя превыше всего плодородие и щедрость самой природы. Этот старый сад, весь поросший мягкой, шелковистой травою, которую усердно пощипывали кроткие овечки, пасущиеся без присмотра пастуха или собаки, был поистине великолепен в прихотливом буйстве растительности, одевшей волнистые склоны, — истинный приют мечтателя, счастливо избежавший ревнивой заботы человека.
— Ну, вот я и кончил, — сказал господин Антуан, надевая висевшую на дереве куртку. — А теперь разыщем дочь и пойдем завтракать. Вы ведь еще не видали моей дочери? Но она вас уже знает. Она посвящена во все маленькие тайны нашего Жана: он так к ней привязан, что советуется с нею охотней, чем со мной. Вперед, Сударь! — крикнул он псу. — Сообщи-ка твоей госпоже, что пора садиться за стол. Эге! Я вижу, ты доволен! Для тебя голод — самые точные часы!
Пес господина Антуана охотно отзывался как на поощрительное прозвище Сударь, которым его величали, когда он того заслуживал, так и на свою настоящую кличку — Разбойник, которая, впрочем, не нравилась барышне Шатобрен, почему хозяин и прибегал к этой кличке только на охоте или в порядке укоризны в тех весьма редких случаях, когда псу случалось совершить какой-нибудь проступок: чавкать за едой, храпеть во время сна, лаять, когда Жан среди ночи перелезал через стену. Разбойник, казалось, понял слова хозяина и улыбнулся — явление, весьма нередкое у некоторых собак, что придает их физиономии человечески умное и приветливое выражение, — затем стремглав побежал вперед и исчез под откосом, спускавшимся к реке.
Господин Антуан обратил внимание Эмиля на красоту открывавшейся их взорам местности.
— И вздумалось же вчера нашей Крёзе выйти из берегов! — сказал он. — Но мы уже успели свезти сено, что оставалось на прибрежной луговине. А все Жан! Это он посоветовал нам не пересушивать сено. Жана у нас считают чуть ли не вещуном; и правда, он обладает удивительной наблюдательностью и редкой памятью. По каким-то никому не ведомым приметам — по цвету воды, облаков, а в особенности по луне ранней весной, — он может безошибочно предсказать, какая погода будет стоять весь год. Для вашего отца Жан — человек неоценимый, если только им удастся столковаться. Он мастер на все руки, и, будь я на месте господина Кардонне, я бы ничего не пожалел, а уж постарался завоевать его дружбу. Но превратить его в прилежного и ревностного слугу — об этом нечего и думать! По натуре он дикарь и лучше умрет, чем подчинится. Заставь его делать что-либо без охоты — ничего путного не выйдет. Но стоит завоевать его сердце, самое великодушное из всех сердец, когда-либо созданных богом, и вы увидите, что в трудных обстоятельствах этот человек превосходит самого себя! Если наводнение, пожар или какое другое несчастье обрушится на фабрику господина Кардонне, пусть тогда он скажет, что я перехвалил и переоценил смекалку и золотые руки Жана Жапплу!
Эмиль внимал под конец этому славословию с куда меньшим интересом, нежели он проявил бы при других обстоятельствах, ибо слух его и мысли отвлечены были иным: где-то неподалеку свежий голосок напевал, или, вернее, мурлыкал, наивную, полную грустного очарования песенку, какие часто звучат в этих краях. И дочь владельца замка, внебрачное дитя (имя ее матери оставалось загадкой для всех в округе), показалась из густых зарослей шиповника — прекрасная, как самый прекрасный дикий цветок этого очаровательного захолустья.
Жильберте де Шатобрен, блондинке с ослепительно белой кожей, было лет восемнадцать-девятнадцать; в характере и во внешности Жильберты чувствовалась удивительная для ее возраста смесь рассудительности и детской веселости, какую в ее положении сумели бы сохранить лишь весьма редкие из ее сверстниц, ибо она не могла не знать о своей бедности и о том, что в наш век расчета и эгоизма ей грозит одиночество и лишения. Но, по-видимому, это печалило девушку не более, чем ее отца, вылитым портретом которого она была как по своему моральному, так и физическому облику: в ее твердом и приветливом взоре светилась трогательная безмятежность. Заметив Эмиля, она сильно покраснела, но скорее от неожиданности, чем от смущения, ибо спокойно пошла к нему навстречу и поздоровалась без всякой неловкости и той деланной стыдливости, какую наивные ханжи чрезмерно превозносят в юных девицах. Жильберте и в голову не приходило, что молодые люди могут пожирать ее взглядом, что ее долг всегда с достоинством обуздывать их тайные дерзновенные вожделения. Наоборот, она простодушно посмотрела на гостя, как бы желая убедиться, прав ли отец, так расхваливший наружность Эмиля, и с первого взгляда определила, что хотя юноша очень красив, но нимало этим не кичится, что он не гонится за модой, отнюдь не напыщен, не дерзок, не заносчив и что у него выразительное лицо — открытое, доброе и мужественное. Довольная своими наблюдениями, она внезапно почувствовала себя столь непринужденно, словно, кроме нее и господина Антуана, здесь никого не было.
— Это правда, — сказала она, подхватив слова господина де Шатобрена, которые тот произнес, представляя ей Эмиля, — отец был недоволен вами, сударь, за то, что вы вчера сбежали, не позавтракав. Но я понимаю: вам не терпелось поскорее увидеть вашу матушку. И к тому же еще это наводнение! Каждый опасался за своих близких. К счастью, судя по дошедшим до нас слухам, госпожа Кардонне была не очень напугана — ведь никто из рабочих не погиб?
— Благодарение богу, и у нас и в деревне все целы, — подтвердил Эмиль.
— Но ущерб вам нанесен большой?
— Это не столь уж важно: сравнительно с нами бедняки пострадали куда больше! К счастью, отец может и хочет оказать помощь пострадавшим.
— Говорят, что в особенности… говорят, что ваша матушка также, — поправилась девушка, слегка покраснев из-за своей невольной обмолвки, — также чрезвычайно добра и отзывчива. Я только что беседовала о ней с нашим Сильвеном; она его так обласкала!
— Моя мать — совершенство! — подхватил Эмиль. — Но в этих обстоятельствах естественно было проявить дружеское участие к мальчугану, без которого я бы, возможно, погиб по своей неосмотрительности. Мне не терпится повидать его и поблагодарить.
— А вот и он, — сказала мадемуазель де Шатобрен, показывая на Шарассона, который шел несколько поодаль, неся корзину и горшочек смолы. — Мы сделали более пятидесяти прививок; среди этих черенков есть и такие, которые подобрал Сильвен у вас в саду. Садовник выбросил их, подрезая кусты, а у нас они превратятся в чудесные розы, если только мы не слишком плохо сделали прививку. Вы взглянете на нашу работу, батюшка, не правда ли? Ведь я еще не очень опытна в этих делах.
— Нет, уж не говори! Ты своими маленькими ручками справляешься с прививкой куда лучше меня, — возразил господин Антуан, поднося к губам хорошенькие пальчики дочери. — Прививка — дело женское, она требует ловкости, а этого нам, мужчинам, не хватает. Но ты бы надела перчатки, дочурка. Коварные шипы тебя не пощадят.
— Ну и что же, батюшка? — улыбаясь, возразила девушка. — Я не принцесса и очень этому рада. Так я чувствую себя свободней и счастливей.
Эмиль не упустил последнего замечания Жильберты, хотя оно и было сказано вполголоса в то время, как он подошел к Сильвену, чтобы дружески с ним поздороваться.
— Э, чего там! Я здоров, — заявил «паж» Шатобрена. — Одного я боялся — как бы лошадь не застудилась, искупавшись в такую непогоду. Да, по счастью, нашей кобыле купанье пошло на пользу! А мне понравилось в вашем замке: комнаты хорошие, слуги вашего батюшки в красных жилетах, а на шапках золото.
— Ах, вот что ему вскружило голову! — расхохоталась от всего сердца Жильберта, показав два ряда белых и ровных, как жемчужины, зубов. — Вы не думайте, господин Сильвен у нас тщеславен! С того дня, как он узрел лакеев в галунах, он глубоко презирает свою новую блузу и серую шляпу. Что же будет, если он, не дай бог, увидит егеря с петушиными перьями на шляпе и нашивками на плечах? Он просто с ума сойдет!
— Бедное дитя! — сказал Эмиль. — Если бы он знал, насколько его жизнь достойней, счастливей, свободней жалкой доли разряженных в пух и прах парижских лакеев!
— Он и не подозревает, до чего унизительна ливрея, — заметила девушка. — Ему невдомек, что он счастливейший слуга на свете.
— Да я и не жалуюсь! — возразил Сильвен. — Все ко мне тут хороши, даже матушка Жанилла, хоть она и прижимиста немного. Я из здешних краев уезжать не собираюсь. Тут у меня и отец и мать в Кюзьоне, совсем близко. А приодеться немножко не мешает — сразу у человека вид другой.
— Ты, значит, хочешь быть наряднее, чем твой хозяин? — спросила мадемуазель де Шатобрен. — Ты только взгляни на батюшку, как он просто одет. Он чувствовал бы себя несчастным, если бы ему пришлось ежедневно носить черный сюртук и белые перчатки.
— Это верно, трудно было бы вернуться к прежним привычкам, — сказал господин Антуан. — Но, дети мои, слышите: Жанилла зовет. Она охрипла, скликая нас к завтраку.
«Дети мои» — были привычные слова, с какими в хорошие минуты господин Антуан обращался к Жанилле и Сильвену, когда они бывали вместе, или к местным крестьянам. Поэтому — Жильберта удивилась, заметив быстрый взгляд, который молодой Кардонне невольно бросил на нее. А Эмиль вздрогнул, сердце его забилось от смутного чувства симпатии, страха и удовольствия, когда он услышал, как владелец замка в своем отеческом обращении объединил его и свою прелестную дочь.
IX Господин Антуан
На сей раз завтрак в Шатобрене был обставлен несколько торжественнее, чем обычно. Жанилла успела сделать кое-какие приготовления. Она раздобыла сливок, масла, меда, яиц и самоотверженно пожертвовала двумя петушками, которые еще кукарекали, когда Эмиль появился на тропинке: когда же их поджарили на вертеле, они оказались довольно нежными на вкус.
После прогулки по саду молодой человек изрядно проголодался и нашел завтрак великолепным. Его похвалы весьма польстили старушке Жанилле, восседавшей, как обычно, напротив хозяина дома и не без достоинства угощавшей гостя.
Жанилла особенно растрогалась, когда Эмиль одобрил варенье из ежевики ее собственного приготовления.
— Матушка, — сказала Жильберта, — надо послать образчик твоего искусства и рецепт госпоже Кардонне, а она подарит нам за это отростки ананасной клубники.
— Ничего они не стоят, ваши садовые ягоды, — возразила Жанилла. — Одна вода. То ли дело наша горная земляника — красная, пахучая! Я, конечно, дам господину Кардонне банку варенья для его матушки, ежели она не откажется ее принять.
— Матушка не пожелает лишать вас такого лакомства, сударыня, — возразил Эмиль Кардонне, которого растрогало наивное великодушие Жильберты, и в глубине души он невольно сравнил искренность и доброжелательность этого бедного семейства с высокомерием своих домашних.
— О, — возразила, улыбаясь, Жильберта, — это для нас не лишение! У нас большой запас этой ягоды, и мы можем его еще пополнить. Ежевика здесь не редкость: если мы не поостережемся, она своими колючками проткнет стены и прорастет прямо в комнаты.
— А кто виноват, что кустарник нас задушил? — вмешалась Жанилла. — Я ведь сколько твержу, что его нужно срезать! И давно бы срезала, да не дают!
— Верно, матушка дорогая, не дают! Я отстояла эти кусты. Они так чудесно украшают наши развалины, что жалко их уничтожать!
— Не спорю, с ними красивее, — согласилась Жанилла. — На десять лье в округе не сыщешь такого славного кустарника. А ягода какая крупная!
— Слышите, господин Эмиль? — вмешался господин Антуан. — Такая уж наша Жанилла: все, что есть прекрасного, хорошего, полезного и здорового, — все по воле небес произрастает в Шатобрене!
— Ей-же-ей, сударь, попробуйте хоть на что пожаловаться! Право — жаловаться-то не на что, — возразила домоправительница.
— А я и не жалуюсь, — сказал добряк, — сохрани бог! И дочка и ты — со мною. Чего же мне еще желать для полного счастья?
— Ну да! Послушаешь вас — вы всем довольны, а только отвернешься, так вы от пустяка голову вешаете. В вашем положении это не пристало.
— В своем положении я никого не виню — все от бога, — печально и кротко возразил господин Антуан. — Если дочь моя примирилась с нашей жизнью, так уж нам с тобою нечего жаловаться на всевышнего.
— Я «примирилась»? — воскликнула Жильберта. — Объясните, чего же мне недостает? Я ничего лучшего не желаю!
— Я согласен с мадемуазель, — сказал Эмиль, растроганный искренностью и благородством чувств, отразившихся на красивом личике Жильберты. — Уверен, что дочь ваша счастлива, потому что…
— Потому что… продолжайте, сударь! — задорно подхватила Жильберта. — Вы хотели объяснить почему — и вдруг замолчали.
— Я крайне огорчен, если то, что я скажу, покажется вам пошлым комплиментом, — ответил Эмиль, покраснев не меньше Жильберты, — но я подумал, что, обладая такими тремя сокровищами, как красота, молодость и доброта, трудно не быть счастливой, ибо они завоевывают всеобщую любовь.
— Я еще счастливее, нежели вы полагаете, — ответила Жильберта, пожимая одной рукой руку отца, а другой — руку Жаниллы. — Ведь меня любят ни за что — просто так! Не знаю, хороша ли я, добра ли, но уверена, что, будь я даже уродлива и сварлива, батюшка и матушка Жанилла любили бы меня не меньше, чем сейчас. Так что мое счастье — в их доброте и ласке, а не в моих достоинствах.
— Верьте мне, это счастье — и в том и в другом, — возразил господин Антуан, обращаясь к Эмилю и прижимая к сердцу дочь.
— Ах, господин Антуан, что вы наделали! — воскликнула Жанилла. — Вечно эта ваша рассеянность! Смотрите, вот вы и посадили пятно на рукав Жильберты!..
— Ничего, — возразил господин Антуан. — Я его сам и замою…
— Ну уж нет!.. Только размажете. Вы выльете на платье целый кувшин и, чего доброго, утопите дочь. Поди сюда, дитя мое, я вытру пятно. Ненавижу пятна!.. Разве не жаль? Хорошенькое, совсем новенькое платьице испорчено!..
Тут только Эмиль взглянул на одеяние Жильберты. До сих пор он видел лишь ее изящную фигурку и миловидные черты. На ней было светленькое серое платьице из довольно грубого тика и белоснежная косыночка, повязанная вокруг шеи. Жильберта подметила пристальный взгляд гостя и ничуть не смутилась, наоборот: она не без гордости заявила, что платье это ей очень нравится, что оно весьма прочное, не боится ни колючек, ни шипов и что ни одной материи она не носила с большим удовольствием, потому что это выбор Жаниллы.
— Действительно, очаровательное платье! У моей матушки есть точно такое же, — заметил Эмиль.
Это была выдумка. Крайне правдивый от природы, Эмиль бессознательно допустил маленькую ложь; и хотя Жильберта поняла это, она была признательна Эмилю за его деликатность.
Жанилле польстила похвала ее хорошему вкусу, ибо она гордилась этим своим качеством не менее, нежели красотой Жильберты.
— Моя девочка не любит наряжаться, да зато я люблю ее наряжать, — заявила она. — Вы бы первый были недовольны, господин Антуан, если б ваша дочь не была мило и опрятно одета, сообразно с ее положением в свете.
— Все наши счеты со «светом» покончены, дорогая Жанилла, и я об этом не жалею, — возразил господин Антуан. — Не обманывайся понапрасну.
— А вид у вас такой, сударь, словно вы жалеете, хоть я вам и твержу, что знатность — она как была, так и останется. Да ведь вот вы какой: на все рукой махнули!
— Вовсе нет, — возразил владелец замка. — Напротив, я со всем мирюсь.
— Да, миритесь! — произнесла Жанилла, вечно искавшая предлога для спора (очевидно из опасения, как бы ее язык и руки не остались без дела). — Подумаешь, какое великодушие — примириться с такой участью! Вас послушать, так действительно поверишь, что для этого надо невесть сколько ума и рассудительности! Чего там! Вы просто неблагодарный человек!
— К чему ты все это болтаешь, вздорная твоя голова?! — промолвил господин Антуан. — Повторяю тебе: все хорошо, я давно утешился…
— Утешились?! Скажите на милость! Да от чего вам было утешаться? Кто-кто, а вы всегда были счастливчиком.
— Ну, положим, не всегда!.. И у меня в жизни можно насчитать немало горьких минут… впрочем, иначе и не бывает. Да и с какой стати я должен быть счастливее других людей, более достойных, чем я?
— Вот уж нет! Другие вас не стоят, я это отлично знаю и знаю также, что вам всегда лучше жилось, чем кому другому. Хотите, сударь, я вам докажу, что вы в сорочке родились.
— Ну что ж! Если ты можешь это доказать, я буду только рад! — улыбаясь, сказал господин Антуан.
— Ах, так? Вот я вас и поймала на слове. Что ж, я начну. Господин Кардонне будет и за судью и за свидетеля.
— Пускай говорит, — обратился к Эмилю владелец замка. — Завтрак подходит к концу, и теперь уж никакая сила не остановит Жаниллу. Предупреждаю вас, сударь: она наговорит кучу вздора, да зато увлекательно, живо. Ручаюсь, вы не соскучитесь!
— Во-первых, — важно начала Жанилла, желая оправдать хвалебную речь хозяина, — господин Антуан от рождения прозывается графом де Шатобрен! Неплохое имя и немалая честь!
— Не много стоит нынче эта честь, — возразил господин де Шатобрен. — А раз я ничего не сумел прибавить к славе моих предков — не велика заслуга и носить такое имя.
— Довольно, сударь, довольно, — возразила Жанилла, — знаю, что вы хотите сказать, я сама об этом скажу… Только не мешайте!.. Господин Антуан тут и родился (на всем свете краше места не сыщешь!). Вскормила его одна деревенская женщина, румяная, свежая, кровь с молоком, первая красавица на деревне, — мать нашего Жана Жапплу и моя подружка, хотя я несколькими годами и помоложе ее. Жан так на всю жизнь и остался господину Антуану верен: куда один, туда и другой, словно иголка с ниткой. Туговато Жану сейчас приходится… да кончится же это когда-нибудь…
— Благодаря вам!.. — добавила Жильберта, взглянув на Эмиля. И этим наивным и приветливым взглядом она вознаградила его за похвалы ее красоте и туалету.
— Если ты пустишься в твои обычные отступления, мы никогда не кончим, — заметил господин Антуан, обращаясь к Жанилле.
— Да нет же, сударь!.. Итак я заключаю, как говорит священник из Кюзьона в начале каждой своей проповеди, — итак, господин Антуан был превосходного сложения: в жизни я не встречала такого красивого юноши. Лучшего кавалера во всей округе не сыскать было: все наши дамы это оценили по достоинству, и тому нашлось немало доказательств.
— Довольно, довольно, Жанилла, — шутливо прервал ее владелец замка, хотя в голосе его прозвучала печаль. — Стоит ли об этом говорить?
— Будьте покойны, — возразила старушка. — Ничего лишнего не скажу… Воспитывался господин Антуан в поместье, в этом старом замке; был этот замок тогда большой и богатый… да и теперь, слава богу, жить можно! Играл наш мальчуган с ребятишками-сверстниками да со своим молочным братом Жаном Жапплу. И таким здоровяком вырос!.. А ну-ка попробуйте, сударь, на какие-нибудь болезни посетовать и назовите мне хоть кого ни на есть, кто в пятьдесят лет был бы вас бодрее и крепче.
— Превосходно, но ты умалчиваешь, что я родился во времена смуты и революции и в моем образовании есть большие пробелы!
— Позвольте, сударь! Значит, вы хотели родиться лет на двадцать раньше? Да вам бы сейчас семьдесят стукнуло. Вот уж странная причуда! Вы вовремя родились, вам еще, слава господу, жить да поживать!.. А что до образования, так какие там «пробелы»! Отдали вас в коллеж, что в городе Бурже, и учились вы там превосходно.
— Напротив, очень плохо! Привычки к умственному труду у меня не было, на уроках я засыпал, памятью похвастаться не мог, самые простые вещи давались мне труднее, нежели другому самые сложные.
— Ну так что ж! Зато и заслуга ваша больше, раз вам труднее все давалось. К тому же учености у вас для дворянского звания достаточно: не в священники ведь вас готовили и не в школьные учителя! К чему вам греческий да латынь? Когда вы на каникулы сюда приезжали, вы были молодой человек хоть куда: ловчее вас и сильнее никого не было. Мяч вы закидывали повыше башни, а когда скликали собак, вас в Кюзьоне было слышно.
— Все это еще не свидетельствует о слишком глубоких знаниях, — возразил господин Антуан, от души смеясь ее похвалам.
— Вы ученье кончали, а тут война началась и с австрияками, и с пруссаками, и с русскими. Сражались вы хорошо. Вон сколько у вас ранений!
— А опасных — ни одного! — сказал господин Антуан.
— И слава богу! — продолжала Жанилла. — Неужели вам хотелось сделаться калекой и с костылем ходить? Лавры и слава вам и без того достались, а пострадали вы не сильно.
— Да нет, Жанилла, уверяю тебя! Какая там слава! Старался я, как мог, но, что ни говори, я все-таки опоздал явиться на этот свет. Родители слишком долго сопротивлялись моему стремлению служить узурпатору, как они называли Наполеона. Только я начал делать карьеру, как пришлось возвращаться домой, «прихрамывая и волоча крыло», в отчаянии и тоске после поражения при Ватерлоо.
— Согласна, сударь, что падение императора было вам ни к чему и вы по доброте своей о нем убивались, хоть этот человек не очень-то хорошо с вами обошелся. При вашем имени он должен был бы вас сразу в генералы произвести, а он на вас и внимания не обращал.
— Надо думать, — смеясь, возразил господин де Шатобрен, — его отвлекали более серьезные и неотложные обязанности. Однако согласись, Жанилла, что моя военная карьера не удалась, а из-за моего превосходного, как ты говоришь, образования я не слишком годен для какой-нибудь иной.
— Вы прекрасно могли бы служить Бурбонам, но не захотели!
— Я разделял тогда образ мыслей моего поколения, да, возможно, и теперь мыслил бы так же, если бы пришлось все начать сначала.
— Ну и что же, сударь! Кто же вас за это осудит? Если верить тому, что у нас тогда говорили, вы вели себя весьма достойно, и только родители вас осуждали.
— Да, родители мои были горды и непреклонны в своих легитимистских взглядах. Ты ведь знаешь, что они отреклись от меня перед лицом грозившей мне беды и весьма мало горевали о том, что я лишился состояния.
— А вы показали себя еще большим гордецом: не пожелали их ни о чем просить.
— Нет, не из гордости — от беспечности или же из чувства собственного достоинства я не просил у них поддержки.
— Всем известно, что состояние вы потеряли, когда судились за отцовское наследство. И если вы проиграли дело, так по своей вине!
— И это благороднейший и достойнейший поступок отца! — горячо воскликнула Жильберта.
— Дети мои, — возразил господин Антуан, — не следует говорить, что я проиграл дело, — я просто не допустил, чтобы дело дошло до суда.
— Конечно, конечно! — подтвердила Жанилла, — Потому что приговор оказался бы в вашу пользу. Все в один голос это утверждали.
— Но отец считал, что одно дело обстоятельства, а другое — право ими воспользоваться, — с живостью подхватила Жильберта, обращаясь к Эмилю, — Я хочу, чтобы вы, господин Кардонне, знали эту историю; отец сам, конечно, о ней не расскажет, а вы человек новый в наших краях, откуда же вам знать. Отец был еще несовершеннолетним, когда дед мой наделал долгов. Это были долги чести. Он скончался и не то не успел, не то не позаботился — благо его никто не торопил — с ними расплатиться. Долговые расписки кредиторов не имели перед законом достаточной силы. Но отец, знакомясь с делами, обнаружил среди дедушкиных бумаг одну такую расписку. Он мог бы ее уничтожить: никто не знал о ее существовании. А батюшка, напротив, дал ей ход, продал все фамильные владения и уплатил этот священный долг. Отец воспитал меня в таких же правилах, и я полагаю, что он поступил как должно, хотя многие богачи рассуждали по-другому. Иные считали его простаком и сумасбродом. Но мне будет приятно, если, услышав от какого-нибудь выскочки, что Антуан де Шатобрен разорился по собственной вине, — а в глазах таких людей это величайший позор, — вы будете знать, что подразумевают они под легкомыслием и сумасбродством моего отца!
— Мадемуазель, — взволнованно сказал Эмиль, — какое счастье быть дочерью такого человека! Я завидую вашей благородной бедности.
— Не делайте из меня героя, дорогое дитя, — сказал господин Антуан, пожимая руку Эмиля. — В суждениях людей всегда есть доля правды, пусть даже по большей части они жестоки и несправедливы. Я всегда был немного расточителен, это верно, ничего не смыслил в делах, не умел вести хозяйство с разумной бережливостью, и если пожертвовал состоянием — невелика заслуга, раз я об этом почти не сожалею.
Господин Антуан оправдывался с такой глубокой скромностью, что это нашло в сердце Эмиля живейший отклик: он порывисто склонился к руке, сжимавшей его руку, и приник к ней губами с чувством восхищения, в котором и Жильберта, конечно, играла не последнюю роль. А Жильберта была растрогана этим внезапным порывом более, нежели сама ожидала. Желая скрыть слезинку, повисшую на ресницах, она потупила взор и попыталась принять чинный вид, но, повинуясь неодолимому влечению сердца, чуть было не протянула руку гостю; поборов, однако, этот порыв, она прибегла к наивной уловке: с грацией и простотой, достойной дочери библейского старца, подносящей кувшин с водой к пересохшим устам путника, она вскочила, чтобы переменить Эмилю тарелку.
В первую минуту Эмиль был удивлен этим выражением признательности, очень мало отвечавшим условностям общества, в котором он вырос. Но потом он все понял и почувствовал такое волнение, что даже не смог поблагодарить владелицу Шатобрена, так мило ухаживавшую за ним.
— После всего сказанного Жанилле придется согласиться, что не всегда я был счастлив, — продолжал господин Антуан, не заметив в поведении дочери ничего необычного. — Тяжба уже началась, когда я обнаружил в старом, развалившемся шкафу записку, в которой батюшка подтверждал свой долг. До той поры я не верил честности кредиторов: мне казалось невероятным, что по несчастной случайности они могли потерять долговые расписки, и я был совершенно спокоен… Мне и в голову не приходило, что Жильберту ждет необеспеченное будущее. Рождение дорогой крошки заставило меня больнее ощутить удар, который, при моей врожденной беспечности, я перенес бы куда легче, будь я один. Оставшись без всяких средств, я решил работать. Но тут мне пришлось сначала туговато.
— Верно, сударь, — заметила Жанилла. — Однако вы изо всех сил старались, и, признайтесь, скоро к вам вернулись и хорошее расположение духа, и ваша искренняя веселость!
— Благодаря тебе, моя славная Жанилла! Ведь ты меня не покинула. Мы поселились в Гаржилесе вместе с Жаном Жапплу, и этот достойный человек нашел мне работу.
— Как, граф, вы были рабочим? — спросил Эмиль.
— Конечно, друг мой! Я плотничал: начал с ученика и подручного, а спустя несколько лет стал подмастерьем. Еще года два назад вы могли бы меня видеть в рабочей блузе и с пилой на плече. Я ходил тогда на поденщину вместе с Жаном.
— Так это потому… — смущенно произнес Эмиль и запнулся, не решаясь продолжать.
— Ну да, потому… я понимаю вас, — ответил владелец замка. — Вы слышали, должно быть: старик Антуан впал в нищету и опустился, жил вместе с рабочими, с ними водился, а заодно и пил по кабакам… Так вот, хочу объяснить вам, как обстояло дело. Я отнюдь не собираюсь прикидываться более мужественным, чем на самом деле. Конечно, какой-нибудь дворянин или местный богач считают, что я обязан был хранить почтенный и скорбный вид, горделиво нести тягостное бремя невзгод, безмолвно трудиться, украдкой вздыхать и краснеть, получая заработанные деньги, — это я-то, привыкший в свое время платить их без счета! — и уж конечно мне, по мнению этих людей, не полагалось делить воскресный отдых с рабочими, хотя именно с ними я трудился всю неделю. Не знаю, может, мои хулители и были правы, но только у меня другой характер. Уж так я устроен, что не способен ни по какому поводу долго предаваться отчаянию или страху. Рос я вместе с Жаном и другими крестьянскими ребятишками — моими сверстниками. В детских забавах держался с ними на равной ноге. И с той поры никогда не разыгрывал перед ними барина. Когда со мною стряслась беда, они приняли меня с распростертыми объятиями, помогали добрым советом, предлагали кров, делились ломтем хлеба, инструментом, заказами. Как же я мог их не любить? Как могло мне их общество казаться низким? Мог ли я не разделять с ними свои воскресные досуги, свой недельный заработок? Конечно, нет! И, словно в награду за мой труд, я вдруг снова обрел способность радоваться и веселиться. Их песни и сборища в беседке из виноградных лоз, где у низенького входа свисает ветка остролиста — эмблема кабачка, их простодушная непринужденность в общении со мною и нерушимая дружба нашего славного Жана, моего молочного брата, наставника в ремесле и утешителя, — все это пробудило меня к новой жизни, которая вовсе не была лишена своей прелести, в особенности когда я достаточно наловчился в работе, чтобы не быть в тягость моим дружкам.
— Что и говорить, потрудились вы немало, — заметила Жанилла, — и Жану вскоре очень пригодились. А помню, как вначале он бушевал. Жан у нас человек горячий, нетерпеливый, а господин Антуан уж очень был неловкий! Право, господин Эмиль, вот бы вы посмеялись!.. Жан, бывало, кричит и ругает графа, словно мальчишку-ученика. Ну, а потом, конечно, помирятся, обнимутся… я без слез на них смотреть не могла… Вот и рассказали мы вам всю нашу жизнь и даже поссориться не успели, а я-то собиралась… Конец я сама доскажу, не то господину Антуану только дай волю — он словечка никому не позволит вставить!..
— Говори, Жанилла, говори! — воскликнул господин Антуан. — И прости, пожалуйста, что я так долго мешал твоему красноречию.
X Добрый поступок
— Если верить господину Антуану, — начала Жанилла, — так выходит, что мы были вовсе без средств. Но ведь это длилось недолго. Через несколько лет распродали мы по частям землю Шатобрена и расплатились с долгами. И вот, когда мы выбрались из беды, оказалось, что у господина Антуана остались кое-какие деньги, так что, если бы их поместить с умом, мы могли бы получить не меньше тысячи двухсот франков ренты. Не такой уж пустяк, как видите! Но при доброте и великодушии господина Антуана деньги у него живо бы улетучились. Вот тут «наша добрая Жанилла», которая с вами беседует, и сообразила, что следует взять бразды правления в свои руки. Она поместила деньги, и неплохо. А что Жанилла вам тогда сказала? Помните, сударь, что я вам сказала?
— Прекрасно помню, Жанилла, ты сказала тогда разумную вещь. Повтори-ка сама!
— Я сказала: «Эге, сударь, вот когда можно вам пожить, ничего не делая. Но вам это наскучит, вы вошли во вкус, привыкли работать. Вы еще молоды и здоровы и, значит, можете еще немножко потрудиться. Есть у вас дочь — настоящее сокровище по уму и красоте. Надо подумать о том, как бы дать ей образование; отвезем-ка ее в Париж, устроим в пансион, а вы еще несколько лет поплотничаете». Господин Антуан ничего лучшего и не желал. Надо по справедливости сказать: он на свою работу никогда не жаловался. Но, по-моему, понаслушавшись этих славных поселян, он и сам стал рассуждать слишком уж по-простецки. «Раз, говорит, мне суждено жить в деревне и работать со всеми наравне, пусть и дочь моя будет воспитана как деревенская хозяюшка, пусть научится читать, шить, прясть, домовничать». Как бы не так! Я и слышать ничего не хотела. Могла ли я стерпеть, чтобы Жильберта не получила воспитания, как подобает барышне благородного происхождения? Господин Антуан уступил. Вот Жильберта и обучалась в Париже. Уж мы ничего не пожалели, чтобы ум ее и таланты образовать; она же, ангелочек наш, изо всех сил старалась. А как минуло ей семнадцать, я и говорю господину Антуану: «Гм, гм, — говорю я, — сударь, не пожелаете ли вы со мною прокатиться в сторону Шатобрена?» Господин Антуан согласился, но, когда очутились мы среди развалин, загрустил.
«Зачем ты меня привезла сюда, Жанилла? — спросил господин Антуан с глубоким вздохом. Я знал, что мое бедное старое родовое гнездо разорено, и даже в него не заглядывал: не хотелось мне входить в замок, видеть своими глазами все это опустошение. Не то чтобы гордыня привязывала меня к этим местам, но ведь здесь протекли мои юные годы, здесь был я счастлив, здесь умерли мои родители. Если бы новые владельцы поселились тут и восстановили замок, я бы вполовину меньше горевал, ибо мы любим вещи так же, как должны бы любить людей: скорее ради них самих, нежели ради себя.
Неужто тебе приятно напоминать мне, во что превратила эта мерзкая шайка барышников жилище моих предков?»
«Сударь, — ответила я, — все-таки следовало вам сюда приехать, оценить понесенный ущерб и установить, какие затраты потребуются, если мы с вами пожелаем отстроить замок. Представьте себе, что в одну злосчастную ночь буря разорила ваше гнездо. Разве вы с вашим характером стали бы плакаться? Нет, вы бы все сделали, чтоб его восстановить».
«К чему говорить об этом, — возразил господин Антуан. — На какие средства стану я восстанавливать наш фамильный замок? Будь даже у меня деньги, все равно бы это ни к чему не привело, раз этот жалкий остов и тот мне больше не принадлежит».
«Погодите, сударь, — сказала я, — сколько с вас просили, когда вы надумали выкупать дом с приусадебным участком, фруктовым садом, парком, холмом и лужайкой подле реки?»
«Жанилла, разве я всерьез об этом спрашивал? Мне просто хотелось убедиться, что такая богатая усадьба идет за бесценок. За все это разоренное гнездо с меня запросили десять тысяч франков, ну, я и повернул от ворот, так как десяти тысяч у меня и в помине не было».
«Ну так вот, сударь, — говорю я, — нынче речь идет не о десяти тысячах, а всего о четырех. Они рассчитывали, что вы не выдержите характера и отдадите последние деньги, лишь бы водвориться на развалинах ваших владений. Потому-то с вас и заломили десять тысяч за имение, которое и половины того не стоит да никому, кроме вас, и не нужно. Но, когда увидели, что вы отказываетесь, стали посговорчивей. Я действовала втихомолку, без вашего ведома, через третьих лиц. Стоит вам сказать «да» — и завтра вы хозяин Шатобрена».
«Но к чему мне это, голубушка Жанилла?! — сказал господин Антуан. — Что мне делать с этой грудой камня да стенами без окон и дверей?»
Я объяснила хозяину, что квадратный флигель еще почти цел: своды сохранились хорошо, внутри помещение совсем сухое и надо лишь покрыть черепицей крышу, сколотить двери и рамы да обзавестись скромной обстановкой. Весь расход франков на пятьсот, самое большое. Тут господин Антуан как закричит:
«Ты мне, Жанилла, таких мыслей не внушай! Неужели тебе хочется, чтобы мне жизнь вконец опротивела? Ведь все это пустые мечтания! Нет у меня ни десяти, ни пяти, ни четырех тысяч франков! Чтоб их скопить, я должен еще лет десять лишения терпеть! Лучше уж пусть останется все как есть».
«Ну кто же вам сказал, сударь, что у вас нет шести, даже шести с половиной тысяч? Да знаете ли, сколько у вас есть? Спорить готова, что нипочем не угадаете!..»
Тут господин Антуан прервал Жаниллу:
— Это верно: я ничего не знал, и по сию пору не знаю, и никогда мне не догадаться, каким это образом при доходе в тысячу двести франков, оплачивая в течение шести лет воспитание дочери в Париже и живя в Гаржилесе, правда простым рабочим, но в очень чистеньком домишке, где Жанилла сама хозяйничала… Добавлю, что, хотя кошелек был в ее руках, она разрешала мне по воскресеньям прокутить с приятелями франка два-три… Нет, нет, никогда мне не понять, откуда у меня могло взяться шесть тысяч сбережений! Это настолько невероятно, что я вынужден объяснить такое чудо господину Эмилю Кардонне, если он уже сам его не разгадал.
— Да, граф, я догадываюсь, — ответил Эмиль. — Мадемуазель Жанилла, служа у вас еще в ту пору, когда вы были богаты, отложила небольшую сумму про черный день либо имела свои деньги, и вот она…
— Нет, сударь! — поспешно возразила Жанилла. — Совсем не так!.. Вы забыли, что, плотничая, господин Антуан зарабатывал на жизнь, и, верно, догадываетесь, что пансион нашей Жильберты был не из самых дорогих в Париже, хоть могу похвалиться — неплохой был пансион…
— До чего же ты отважно лжешь, матушка Жанилла! — сказала Жильберта, целуя ее. — Но что бы ты ни говорила, мы с отцом всегда будем считать, что Шатобрен откуплен на твои деньги и в действительности принадлежит тебе, а мы, хоть ты и приобрела его на наше имя, — только твои гости.
— Да нет же, нет, Жильберта! — прервала ее великодушная Жанилла. Странная это была старушка: при всяком удобном случае не прочь прихвастнуть, показать, что все понимает, во всем разбирается, но тут, оберегая господское достоинство ревнивей, чем сами господа, она решительно отрицала самый великодушный в своей жизни поступок. — Да нет же, говорю я вам, я тут ни при чем. Виновата я, что ли, что твой папаша до пяти сосчитать не умеет, а ты вся в него? Да что тут! Оба вы не знаете ни ваших доходов, ни расходов. Дай вам волю — поглядела бы я, как вы тут выпутаетесь! Я без обмана говорю, так оно и есть: вы здесь хозяева, я же если и могу чем похвастать, так это порядком в делах и бережливостью. А для чего мне было хлопотать? Чтобы вы, сударь, проснувшись в одно прекрасное утро, узнали, что вы богаче, нежели полагаете. Ну так вот, — продолжала Жанилла, — сейчас докончу. Послушайте, господин Эмиль! Откупили мы замок. Жан Жапплу и господин Антуан сами, своими руками, восстановили в этом флигеле все, что требовалось по плотничьей и столярной части, — на это ушло не более полугода; а я тем временем отправилась в Париж за нашей дочкой, счастливая и гордая тем, что привезу ее в родовой замок, о котором у бедняжки сохранились лишь детские воспоминания. С той поры мы живем — не тужим, и потому, когда господин Антуан сетует на что-либо, я всегда его браню. И в самом деле, кому и когда так везло, как ему?
— Да я ведь никогда ни на что и не жалуюсь, — возразил господин Антуан. — Зря ты меня упрекаешь.
— Нет простите, у вас такой иногда вид, словно вы хотите сказать: вот, мол, теперь уж не прежнее житье. Ан и ошибаетесь! Разве, имея тридцать тысяч ливров дохода, вы были богаче? Вас обворовывали, грабили, а вы и ведать ничего не ведали. А нынче все необходимое у вас есть, и жуликов бояться нечего: всякий знает, что вы луидоры под тюфяком не прячете. Было у вас десять человек прислуги, все, как один, обжоры и пьяницы, — одно слово, парижская челядь! А нынче у вас только господин Сильвен Шарассон. Правда, тоже порядочный лентяй и обжора! — Последние слова Жанилла произнесла погромче, чтобы их мог услышать на кухне Сильвен. Затем она добавила, понизив голос: — Но его дурачества вас только смешат, и, если он что и разобьет, вы не сердитесь, вам даже приятно, что не вы самый неуклюжий в доме. Было у вас несколько выездов, да только лошади вечно стояли нечищеные, неухоженные, для езды не пригодные. А нынче у вас старушка Искорка — на всем свете лучшей лошадки не сыщешь. Чистенькая, выносливая — глаз радуется! А уж неприхотлива! И сухой лист жует, и камыш — что твоя коза! А наши козы! Где еще такие красавицы найдутся? Обе что твоя лань! Молоко превосходное, а забавницы какие, попрыгуньи — знай скачут среди развалин! Вот вам и развлечение по вечерам. А винный погреб? Был он у вас полнехонек, да ваши мошенники лакеи потягивали винцо в свое удовольствие, вам же одни опивки доставались. А нынче пьете вы кларет, полезное прохладительное местное винцо, — оно и в прежнее время было вам по вкусу, и если я сама догляжу, так оно прозрачное получается, как ключевая вода, от него и резей в желудке не бывает. Одеждой вы, что ли, недовольны? В прежние времена гардероб ваш моль поедала, и жилеты выходили из моды раньше, чем вы их успевали надеть: вы ведь никогда наряжаться не любили… Нынче, правда, у вас только и есть, что самое необходимое: легкая одежда на лето да теплая на зиму. Наш деревенский портной прекрасно на вас шьет и никогда нигде не обузит. Сознайтесь-ка, сударь, что все к лучшему! Забот у вас нет, вы просто счастливчик! Я уж не говорю о другом: дочка у вас красавица, и она счастлива, что живет подле вас!..
— И еще со мной моя несравненная Жанилла, которая день и ночь готова печься о счастье ближних, — весело подхватил растроганный господин Антуан. — Ну что ж, ты права, Жанилла! Я и раньше знал, что ты всегда права. Обидно, когда ты в этом сомневаешься. Я был несправедлив: сам вижу, что судьба меня балует. И когда бы не тайная забота, о которой ты знаешь, — хорошо, что ты не упомянула о ней, — мне ничего больше от жизни не надо. Что ж, пью за твое здоровье, Жанилла! Ты говорила словно по писаному. И за ваше также, господин Эмиль! Вы богаты и молоды, образованны и рассудительны — вам нечего завидовать другим, но пожелаю вам такой же счастливой старости, как моя, и таких же сердечных привязанностей! Впрочем, довольно толковать о себе, — добавил господин Антуан, ставя кружку на стол — Не следует забывать и о наших друзьях. Вспомним о лучшем из них — после Жаниллы, конечно, — поговорим о Жане Жапплу и его делах.
— Ну что ж, поговорим! — раздался чей-то зычный голос, заставивший всех вздрогнуть.
Обернувшись, господин Антуан увидел на пороге комнаты Жана Жапплу.
— Как, Жан, средь бела дня?! — воскликнул изумленный хозяин.
— Да, среди белого дня и к тому же через главные ворота, — ответил плотник, утирая лоб. — Ну и бежал я! Скорей, матушка Жанилла, глоток вина — я задыхаюсь от жары!
— Бедняжка Жан! — воскликнула Жильберта, поспешно захлопывая двери. — Так за тобою гнались? Куда бы тебя спрятать? Ведь могут прийти за тобою и сюда!
— Да нет же, нет! — сказал Жан. — Нет, моя милая крошка! Незачем запирать двери, никто за мною не гонится. Я принес добрую весть, потому-то и спешил: я свободен, счастлив, спасен!
— Бог мой! — воскликнула Жильберта, обхватив своими прелестными ручками запыленную голову Жана. — Значит, моя молитва услышана! Я так молилась за тебя нынче ночью!
— Ангелочек мой небесный! Вот ты мне радость и вымолила, — сказал Жан; он не успевал отвечать на ласки Жильберты, на расспросы Антуана и Жаниллы.
— Да скажи ты наконец, кто вернул тебе свободу и покой? — продолжала Жильберта, после того как плотник залпом осушил кружку плохонького виноградного вина.
— Никогда не догадаетесь; а ведь он взял меня на поруки и штраф заплатит. Ну-ка! Держу пари, что не угадаете!
— Священник из Кюзьона? — колебалась Жанилла. — Человек он хороший, только вот проповеди у него немного путаные. Но он не так богат.
— А ты как думаешь, Жильберта? — спросил Жан. — Кто же это, по-твоему?
— Должно быть, госпожа Роза, сестра нашего приходского священника. У нее доброе сердце… Но ведь она не богаче брата.
— Еще бы! Где ей!.. А вы, господин Антуан?
— Теряюсь в догадках, — ответил владелец замка. — Да говори же скорее, не томи нас.
— Держу пари, что я угадал, — воскликнул Эмиль. — Готов поспорить, что это отец! Я с ним беседовал и знаю, что он хотел…
— Простите, молодой человек! — перебил его плотник. — Не знаю, чего хотел ваш папаша, но зато отлично знаю, чего не хочу я: не хочу ни в чем обязываться человеку, который чуть меня в тюрьму не упрятал, когда я отказался принять его великие благодеяния, а условия он ставил жесткие… Благодарствуйте! Вас я уважаю, но отца вашего… Не будем о нем говорить! Никогда больше не будем о нем говорить!.. Ну, так кто же? Так и не догадались? А что бы вы сказали, если б я назвал господина де Буагильбо?
Эмиль уже не впервые слышал это имя. Господина де Буагильбо считали в Гаржилесе одним из богатейших местных землевладельцев. На обитателей Шатобрена имя маркиза произвело такое же действие, как если бы через них пропустили электрический ток. Жильберта вздрогнула; Антуан и Жанилла переглянулись, не в силах вымолвить ни слова.
— Это вас, кажется, удивляет? — спросил плотник.
— По-моему, этого быть не может! — ответила Жанилла. — Насмехаешься ты, что ли? Господин де Буагильбо, наш общий враг!
— Зачем так говорить? — возразил господин Антуан. — Господин де Буагильбо никому не враг; он всегда рад ближнему сделать добро, а уж никак не зло!
— Я не сомневаюсь, что он способен на доброе дело, — сказала Жильберта, — я ведь говорила тебе, матушка. Он просто несчастный человек, это по лицу видно. Но…
— Ты его не знаешь, и не тебе о нем судить! — возразила Жанилла. — А ну-ка, Жан, расскажи, каким это чудом ты сумел к нему подойти? Ведь более холодного и черствого гордеца на всем свете нет!
— Всему помог случай, или, вернее господь бог, — ответил плотник. — Шел я лесом, вдоль владений маркиза, — они отделены от того места только живой изгородью да небольшой канавкой. Гляжу поверх кустов и любуюсь: до чего в парке красиво, уютно, чисто, какой во всем порядок! Иду и думаю: вот в этом парке, да и в замке бывал я словно у себя дома; и так вдруг мне взгрустнулось… Я ведь работал там без малого лет двадцать и к маркизу относился по-дружески. Он, правда, любезностью никогда особенной не отличался, но в те времена нередко бывал в хорошем расположении духа. Однако ж лет двадцать нога моя туда не ступала, и после того, что между нами произошло, у меня бы нипочем смелости не хватило попросить у маркиза пристанища.
Размышляю я так, вдруг слышу конский топот и вижу: два стражника прямо на меня скачут. Они меня еще не приметили, но, пересеки я им дорогу, увидели бы непременно, да и знакомы со мною слишком уж хорошо. Где тут долго раздумывать? Пробрался я сквозь изгородь, проскользнул, как лиса, между кустов и очутился в парке Буагильбо, вытянулся вдоль ограды и лежу тихонечко; а стражники едут по дороге и даже не обернутся в мою сторону. Только они немного отъехали, я встал и хотел улизнуть тем же путем, каким пришел, вдруг чувствую — кто-то меня хвать за плечо! Оборачиваюсь и сталкиваюсь нос к носу с господином де Буагильбо; лицо у него грустное, а голос замогильный:
«Ты что здесь, говорит, делаешь?»
«Черт побери! Вы же видите, маркиз, — прячусь!»
«А почему?»
«Потому что стражники рядом».
«Ты, значит, преступник?»
«Ну да! Поймал двух кроликов да зайца застрелил».
Вижу я, что много расспрашивать он меня не собирается, и быстро изложил ему мои злоключения, потому что вы сами знаете, какой это человек: у него голова чем угодно занята, только не тем, о чем ему толкуют. Просто не знаешь, слушает он или нет: вид у него такой, словно он вовсе и не слышит. Давненько я его не видал, ведь он сидит у себя в парке безвылазно, словно крот в норе, — к нему и не доберешься! Показалось мне, что он сильно постарел, ослаб, хоть и держится прямо, как тополь, но исхудал до того, что совсем прозрачный стал, а борода побелела, будто у старого козла. Больно мне было на него глядеть, да и досадно: я с ним говорю, а он как будто и не слышит, знай выдирает сорняки скребком, с которым никогда не расстается. Я иду за ним по пятам и все толкую про мои невзгоды — не затем, чтобы о помощи просить, об этом я и не думал, а просто чтобы убедиться, сохранил ли он ко мне хоть немного дружеского расположения. Наконец оборачивается он в мою сторону и говорит, не глядя на меня:
«А почему ты не просил, чтобы за тебя поручился кто-нибудь из деревенских богачей?»
«Черт побери! — отвечаю я ему. — Нет больше в Гаржилесе богачей».
«А господин Кардонне, который там недавно поселился?»
«Этот хоть и богат, да ведь он мэр — он-то и хочет меня арестовать».
Минуты три, не меньше, он молчал; я уж думал, он обо мне забыл, и собрался уходить; вдруг он говорит:
«Почему же ты ко мне не пришел?»
«Вот еще! — выпалил я. — Вы сами знаете почему».
«Нет, не знаю».
«Как это не знаете? Да вы разве забыли? Поработал я у вас немало, всегда вы мною довольны были, да и с чего бы вам быть недовольным! Только в одно прекрасное утро призываете вы меня к себе в кабинет да и говорите: «Вот тебе расчет, можешь идти». Я вас спрашиваю, когда мне снова приходить, а вы отвечаете: «Никогда». Мне это, господин Буагильбо, конечно, пришлось не по душе; стал я расспрашивать, чем я перед вами провинился, а вы тогда не соблаговолили даже рта раскрыть, только на дверь указали. Вот уж двадцать лет с тех пор прошло; вы, может, об этом и позабыли, но я-то не забыл. Уж очень сурово и несправедливо поступили вы с рабочим человеком, а я ведь трудился как умел, не хуже других. Подумал я сначала, что вы попросту чудите, пройдет, мол, это. Но ждал я, ждал — так вы меня и не позвали. А я чересчур горд, чтобы просить у вас работы. Впрочем, работы у меня хватало, всегда завален был по горло. Да и нынче, не скрывайся я в лесах, у меня в заказах недостатка не было бы. А всего обиднее, что прогнали вы меня, словно пса, хуже того — словно бездельника или вора, и оправдаться даже не дали. Я подумал: может, нашелся у меня враг в вашем доме и невесть что на меня наговорил. Кто он, невдомек мне было, потому у меня, кроме стражников да акцизных, других врагов не водится. Я смолчал, никому не плакался, вас жалеючи, раз вы так легко наговорам верите; но я к вам всей душой был расположен, и ваша несправедливость меня огорчила».
Господин де Буагильбо будто меня и не слышит. Но только я кончил, он меня безразличным таким тоном спрашивает:
«Сколько тебе штрафа платить?»
«Тысячу франков, не считая проторей».
«Поди скажи вашему мэру… господину Кардонне — так, кажется? — пусть пришлет доверенное лицо, чтоб я мог уладить твое дело. Скажешь ему, что я болен, не выхожу и потому прошу его сделать мне это одолжение».
«Так вы согласны взять меня на поруки?»
«Нет, я заплачу за тебя штраф. Можешь идти».
«Когда же мне прийти, чтоб свой долг отработать?»
«Работы у меня нет, приходить незачем».
«Так вы хотите подать мне милостыню?»
«Нет, просто оказать тебе небольшую услугу, которая мне ничего не стоит. Довольно, иди».
«А если я не желаю принимать ее?»
«Напрасно».
«Вы и благодарности не хотите?»
«Ни к чему она мне».
Тут он попросту повернулся ко мне спиной и зашагал прочь, а я за ним. Разводить разные там любезности с ним не приходится, поэтому я и говорю: «Господин Буагильбо, разрешите пожать вашу руку!»
— Что? Ты осмелился ему так сказать! — воскликнула Жанилла.
— Ну да. А почему бы мне не осмелиться? Это самое лучшее, что я мог сказать.
— Что же он ответил? Как поступил? — спросила Жильберта.
— Не задумываясь взял и пожал мне руку, да так крепко; а у самого пальцы не гнутся и холодные как лед.
— Что же он сказал? — осведомился господин Антуан, не без волнения слушая рассказ Жана.
— Сказал: «Убирайся!» — ответил плотник. — Видно, это у него самое вежливое словечко. Он от меня чуть не бегом пустился, ноги у него такие тощие да длинные. А я поспешил сюда, чтоб поскорее все вам пересказать.
— Ну, поеду к отцу и сообщу ему о намерениях господина да Буагильбо, — сказал Эмиль. — Пусть он сейчас же и пошлет кого-нибудь к нему.
— Нет, знаете ли, так, по-моему, ничего хорошего не получится, — ответил плотник. — Отец ваш на меня сердит. Штраф ему придется принять, ну а вот насчет тюрьмы — это уж в его власти. Могут меня для острастки посадить за бродяжничество, пусть даже на два-три дня… но ведь и это невелика радость!
— О, конечно! — воскликнула Жильберта. — Неужто жандармы поведут Жана в тюрьму? Он никогда не снесет такого унижения! Еще натворит чего-нибудь! Господин Эмиль, вы не должны этого допустить!.. Поговорите с вашим батюшкой, попросите его, скажите ему…
— Ах, сударыня! — с горячностью возразил Эмиль. — Напрасно вы смотрите на моего отца глазами Жана., В этом случае он несправедлив. Я убежден, что отец сегодня же вечером либо завтра сделал бы для Жана то же, что и господин Буагильбо. А что касается преследования за бродяжничество, головой ручаюсь, что…
— Если вы ручаетесь головой, почему бы вам сейчас же не заехать к господину де Буагильбо? — спросил «Жан. — Это в двух шагах отсюда. Я буду спокойней, когда вы с ним договоритесь. Верю, что вам это удастся. Признаюсь, если я хоть одну ночь проведу в тюрьме, я ума решусь. Божье дитя Жильберта верно сказала, — : добавил он, указывая на девушку. — Она-то меня знает!
— Иду немедля, — ответил Эмиль, подымаясь и бросая Жильберте пламенный взгляд, исполненный воодушевления и преданности. — Вы проводите меня, Жан?
— Конечно, — ответил плотник.
— Да, да, поспешите! — воскликнули одновременно Жильберта, ее отец и Жанилла.
Эмиль понял, что Жильберта довольна им, и бросился бегом на конюшню за своим Вороным.
Ведя лошадь под уздцы, он неторопливо спускался вместе с плотником по тропинке, когда их догнал господин де Шатобрен и, остановив Эмиля, не без смущения произнес:
— Дитя мое, вы человек тонкой души, вам я могу довериться… хочу предупредить… может быть, это и не важно… но вы должны знать… Дело в том, что… по тем или иным причинам… одним словом… я в ссоре с господином Буагильбо… Так что не стоит говорить ему обо мне… Избегайте произносить при нем мое имя и не говорите ему, что были у меня: это может испортить ему настроение и охладить его добрые намерения в отношении Жана.
Эмиль пообещал молчать и, погрузившись в размышления, в которых образ прекрасной Жильберты занимал куда больше места, чем судьба его подопечного и предстоящий разговор, последовал за провожатым к поместью маркиза.
XI Тень
Однако по мере приближения к замку Буагильбо Эмиль все больше и больше задумывался над тем, с каким превосходным, а быть может и странным, человеком ему предстоит столкнуться. Он невольно прислушивался к тому, что толковал Жан, который с чисто крестьянским здравомыслием пытался найти разгадку этой таинственной личности. Из его довольно противоречивых и сбивчивых пояснений Эмиль мог почерпнуть только то, что маркиз де Буагильбо несметно богат и ничуть не жаден, хотя порядок любит. Он щедр и благотворительствует, насколько это позволяет его нелюдимость, — то есть помогает беднякам, которые к нему обращаются, но никогда не интересуется невзгодами и горестями своих подопечных и оказывает всем такой холодный и мрачный прием, что без крайней нужды никто за помощью к нему не обращается. Черствым, бесчувственным его не назовешь: никогда он просителя не прогонит, не подвергнет сомнению его право на милостыню, но у каждого сердце сжимается и леденеет в его присутствии, — таким он кажется рассеянным и ко всему равнодушным. Редко он кого-нибудь распекает, никогда никого не наказывает. Жапплу, пожалуй, единственный, с кем он поступил так сурово. И теперь, раздумывая о том, как маркиз поспешил уладить его дело, Жан пришел к заключению, что, будь сам он менее гордым и покажись на глаза господину де Буагильбо раньше, тот и не вспомнил бы о минутной причуде, повинуясь которой когда-то прогнал плотника.
— Но есть один человек, — добавил Жан, — на которого господин де Буагильбо зол еще больше, чем на меня, хотя никогда не пытался ему повредить. Я говорю о господине Антуане. Поссорились они крепко, и раз уж господин Антуан сам вам про то намекнул, могу сказать, сударь: многие сочли тогда, что маркиз свихнулся. Подумать только! Двадцать лет был он не только соседом, но другом, советчиком, чуть ли не отцом родным господину Антуану де Шатобрен, и вдруг — нате вам! — повернулся к нему спиной и захлопнул у него перед носом Дверь!.. И никто, даже сам господин Антуан, не мог сказать, в чем тут дело… Уж во всяком случае, предлог такой был пустячный, что только сумасшедший мог к нему придраться. Иного объяснения не найдешь. Вышло все из-за охоты: господин Антуан нарушил правила, охотясь на землях маркиза. И заметьте, с незапамятных времен охотился он в поместьях маркиза как в своих собственных: ведь они были друзья-приятели, а господин де Буагильбо ни разу в жизни ружья в руки не брал, ни одной куропатки не подстрелил и потому ничего дурного не видел в том, что друзья вместо него поохотятся. Да к тому же он господина Антуана не предупредил, что запрещает ему на своих землях стрелять. С того времени прошло, пожалуй, лет двадцать — оба соседа ни разу не свиделись, ни разу не поговорили, и господин де Буагильбо даже имени господина де Шатобрен слышать не может. А господин Антуан тоже заупрямился: хоть и мучается, но вида не показывает, не желает сделать первый шаг; и с тех пор они с маркизом друг друга избегают. Заметьте, что и меня-то маркиз как раз в те времена прогнал. Думаю, он на мне гнев сорвал, или же тут другое было: знает он, что я с детства к господину Антуану привязан, вот и побоялся, как бы я за того не вступился — дерзости мне ведь не занимать — да и не разругал бы господина Буагильбо за его причуду. Так оно и есть: я за словом в карман не полезу и уж конечно выложил бы маркизу все, что у меня на душе. Вот он и решил меня опередить — иначе я его суровость объяснить не сумею.
— У маркиза есть семья? — спросил Эмиль.
— Да нет, сударь. Женился он на одной своей бедной родственнице, очень красивой девице и чуть ли не вдвое его моложе. Женился будто по любви, да по его поведению вы бы этого не сказали. Какой был, таким и остался — ни веселей, ни обходительней, ни любезней не стал. Так и продолжал он жить, точно медведь, — иного слова не подберешь, прости господи! Пожалуй, единственно, кто у них в доме бывал, так это господин Антуан. Маркиза в конце концов до того соскучилась, что в один прекрасный день уехала в Париж, а супруг и не подумал за нею следовать или ее вернуть. Там она и умерла, в молодых еще годах, не оставив ему детей. И с той поры, должно быть, у ее мужа от тайной печали в уме помутилось или нашел он в таком уединении утеху — живет в своем замке, словно в тюремном заключении. Всегда один-одинешенек, даже пса при нем нет, не то что друга. Родичи его почти все перемерли, наследников как будто тоже нет. Так что трудно сказать, кому его богатства достанутся, когда он умрет.
— Очевидно, он просто маньяк, — сказал Эмиль.
— Как вы говорите? — переспросил плотник.
— Я говорю — не в своем уме.
— Да уж верно, что не в своем! — подтвердил Жан. — Только отчего же это с ним стряслось? Никто не знает. Одна у него страсть — это парк: он его сам разбил, насадил деревья и никуда из него шагу не ступит. Я думаю, он и спит там стоя или же на ходу: иной раз видишь, как он ночами шагает по аллеям, словно привидение. Потому никто и не смеет к нему через ограду за яблоком или вязанкой хвороста перелезть.
Тропинка, которой они шли, подымалась по склону горы, и, подойдя ближе к парку, Эмиль смог поверх ограды увидеть краешек прекрасного уголка. Юноша был восхищен красотой, великолепием парка, тенистой прохладой, удачным расположением зеленых беседок, свежестью лужаек, изящными очертаниями причудливых склонов, которые мягкими уступами спускались к берегу небольшой речонки, одного из стремительных притоков Гаржилесы.
«Нет! Сумасшедший не мог бы создать такой рай земной и так удачно использовать красоты природы», — подумал Эмиль. Юноше казалось, что только душа поэта способна была дать жизнь столь прелестному уголку. Но вид замка опроверг все его предположения: трудно было представить себе жилище более холодное, уродливое и отталкивающее, чем замок Буагильбо. Позднейшая перестройка несколько изменила прежний его облик, но безупречный порядок, поддерживаемый вокруг, еще сильнее подчеркивал угрюмость здания.
Жан остановился на тропинке у ограды парка, а Эмиль, дав ему несколько превосходных сигар, чтобы тот не соскучился в ожидании, направился ко входу в замок по дорожке, приводившей в отчаяние своей безукоризненной опрятностью.
Ни кустик, ни веточка плюща не скрашивала наготу суровых стен серовато-стального цвета, и лишь одна-единственная архитектурная деталь привлекла взор Эмиля: огромный щит с гербом Буагильбо над решетчатыми воротами, восстановленный и обновленный позднее, нежели все здание, — должно быть, в годы реставрации Бурбонов; во всяком случае, топорное обрамление никак не соответствовало изяществу самого герба. Эмиль сделал отсюда вывод, что маркиз весьма дорожит своей родовитостью и старинными привилегиями.
Юноша долго звонил у входа в парк, но калитка не отворялась; наконец она медленно повернулась на петлях — очевидно, с помощью пружины, приведенной в действие издали, так как у входа никто не появился. Привязав лошадь, молодой человек вошел, и калитка с легким стуком захлопнулась за его спиной, будто невидимая рука защелкнула за ним ловушку. Уныние, даже страх овладел Эмилем, когда он, словно пленник, шел по огромному пустынному двору, посыпанному ярко-желтым песком и безмолвному, как монастырское кладбище, — однообразные, похожие одно на другое здания да несколько тисов у главного входа, подстриженных в виде конуса, усиливали это сходство. К тому же — ни ароматного цветка, ни виноградной лозы, обвившейся вокруг окон, ни паутины на рамах, ни треснувшего стекла, ни человеческого голоса, ни даже петушиного крика или собачьего лая, ни голубя, ни клочка мха на черепице; думаю, что даже муха, случайно залетевшая во двор замка Буагильбо, и та не посмела бы здесь прожужжать.
Эмиль озирался вокруг, ища, к кому бы обратиться, но на свежеразровненном песке не было видно и следа человеческой ноги. Наконец до него донесся чей-то слабый, дребезжащий голос, не очень любезно осведомившийся:
— Что вам угодно, сударь?
Эмиль долго оглядывался по сторонам, стараясь понять, откуда исходит этот голос, и наконец заметил в окошке подвального этажа старательно напудренную белую старческую голову со светлыми, словно невидящими глазами. Он подошел ближе, надеясь, что его услышат, но слух старика дворецкого ослабел не меньше, чем его зрение, и на все расспросы гостя он отвечал невпопад.
— Парк можно осматривать только по воскресеньям, — твердил он. — Потрудитесь прийти в другой раз.
Юноша вручил ему визитную карточку, и старик, выглядывавший из подземелья, медленно вытащив из кармана очки, столь же медленно стал ее изучать. Затем он исчез и появился уже в дверях первого этажа.
— Пожалуйста, сударь, — сказал он. — Маркиз приказал принять особу, которая явится от господина Кардонне… господина Кардонне из Гаржилеса, не правда ли?
Эмиль утвердительно кивнул головой.
— Вот и чудесно, сударь, — повторил старый слуга, учтиво кланяясь и, по-видимому, весьма довольный тем, что ему можно быть вежливым и гостеприимным, не нарушая полученных приказаний. — Маркиз не предполагал, что вы прибудете так скоро, он ждал вас не раньше завтрашнего дня. Маркиз в парке. Я побегу доложить. Но прежде разрешите просить вас пожаловать в гостиную.
Нужно сказать, что в устах дворецкого слова «я побегу» прозвучали несколько самонадеянно. По походке и медлительным движениям его легко можно было принять за столетнего старца. Он подвел Эмиля к низенькому и узкому входу в башенку и, медленно выбрав среди связки нужный ключ, пригласил гостя следовать за собою. Они поднялись по лестнице и остановились перед другой дверью, блиставшей двойным рядом гвоздей с крупными шляпками и запертой на ключ подобно первой. Опять поворот ключа — и, пройдя длинный коридор, старик уже третьим ключом отпер парадные покои. Молодой человек шагал за ним через вереницу сумрачных комнат; после яркого солнечного света ему показалось, что он попал в склеп. Наконец они вошли в просторную залу, и слуга, придвинув гостю кресло, сказал:
— Ежели желаете, сударь, я могу открыть ставни.
Юноша знаком дал ему понять, что это излишне, и старик удалился.
Когда глаза Эмиля освоились с полумраком, наполнявшим залу, он поразился ее великолепием. Все — мебель, безделушки, ковры — было времен Людовика XIII; в каждой мелочи чувствовался верный глаз любителя старины. Ничто не было забыто: от подрамников для зеркал и до последнего гвоздика — все было выдержано в едином стиле. Подлинная старина! Пусть кое-что поизносилось и потускнело от времени, но нигде ни пятнышка; роскошь удивительным образом сочеталась здесь с простотой. Эмиль был восхищен. Лишь знаток мог бы проявить такой безупречный вкус. Только много позже юноша узнал, что страх перед любой переменой являлся, по-видимому, наследственной чертой в роду Буагильбо и этому страху обязаны были владельцы замка тем, что здесь сохранились в полной неприкосновенности сокровища, которые, в угоду современной моде, скупают за бешеные деньги антиквары, чем придают такую привлекательность и великолепие своим лавкам.
Но удовольствие, с каким Эмиль осматривал эти редкости, сменилось вскоре ощущением холода и чрезвычайной грусти. Угнетало не только окружающее безмолвие, не только леденящий воздух жилища, наглухо закрытого от щедрых солнечных лучей. В этом извечном, нерушимом порядке, в этой изящной роскоши, которой никому не дано было наслаждаться, чувствовалось нечто кладбищенское. Достаточно, казалось, взглянуть на крепко запертые двери, ключи от которых хранились у слуги, на безукоризненную чистоту — нигде ни пылинки, ни пятнышка, — на тяжелые спущенные шторы, чтобы понять, что владелец замка никогда не ступал в гостиную и что навещали ее лишь щетка да метелочка для пыли. Эмиль с ужасом подумал о покойной маркизе де Буагильбо. Какую унылую жизнь, должно быть, пришлось вести молодой и прекрасной женщине в этой вечно безмолвной обители! И он от всей души простил покойнице ее стремление хотя бы перед смертью подышать иным воздухом.
«Кто знает, — подумал он, — не в этом ли холодном склепе поразил ее один из тех страшных и медлительных недугов, которые становятся смертельны, если вовремя не подоспеет лекарство?»
Он и вовсе утвердился в этой мысли, когда дверь вдруг медленно отворилась и на пороге появился владелец замка собственной персоной. Если бы не одежда, его можно было бы принять за статую командора, сошедшую с пьедестала: та же размеренная поступь, та же бледность, тот же отсутствующий взгляд, то же торжественное и окаменелое выражение лица.
Господин де Буагильбо не перешагнул еще за седьмой десяток, но он принадлежал к тем людям, у которых нет и не бывает возраста. Он не был ни плохо сложен, ни некрасив; черты лица у него были довольно правильные, держался он все еще прямо, словно аршин проглотил, и ходил, если только не торопился, по-прежнему твердой поступью. Но крайняя худоба делала маркиза совершенно бесплотным, и одежда его, казалось, облекала не человеческое тело, а деревянную куклу. Лицо не отталкивало надменностью, не внушало отвращения, но ничего не выражало: вы тщетно старались бы уловить на этом лице мысль или же следы переживаний, которые характеризуют известные нам самые различные человеческие типы. Лицо маркиза пугало. И Эмилю невольно вспомнилась немецкая сказка, повествующая о некоем весьма почтенном господине, который стучится в двери замка и в ответ на приглашение хозяина говорит, что в теперешнем своем виде не отваживается войти из опасения напугать присутствующих. «Но вы как будто одеты весьма прилично, — говорит гостеприимный хозяин. — Войдите, прошу вас». — «Нет, нет, — возражает незнакомец, — Это невозможно; вы же сами будете меня упрекать. Соблаговолите выслушать меня у порога: я вам принес вести с того света». — «Что мы тут будем с вами толковать? Входите, идет дождь, сейчас разразится гроза». — «Присмотритесь же ко мне, — продолжает загадочный гость, — и вы поймете, что я не могу, не нарушив правил вежливости, сесть за ваш стол. Вы разве не видите, что я мертв?» Владелец замка, присмотревшись, убеждается, что перед ним действительно мертвец. Он захлопывает входную дверь и, вернувшись в пиршественную залу, падает в обморок.
Эмиль не упал в обморок, когда господин Буагильбо с ним поздоровался. Но если бы вместо вежливых слов: «Простите, что я заставил вас ждать, я был в парке», — господин де Буагильбо произнес: «Меня как раз собирались хоронить», — Эмиль не очень бы изумился.
Старомодное одеяние делало маркиза еще более похожим на привидение. Он оделся по моде единственный раз в жизни — в день свадьбы. С тех пор он уже не помышлял ни о каких изменениях в своем туалете и в качестве образца из года в год давал портному свое старое платье, под тем предлогом, что он-де к нему привык и опасается, как бы новый покрой не оказался стеснительным. Итак, маркиз остался верен костюму щеголя времен Империи, что находилось в самом странном противоречии с его грустным, увядшим лицом. На нем был очень короткий зеленый камзол, нанковые панталоны, туго накрахмаленное жабо и сапоги, вырезанные сердечком. Не желая изменять привычке, он носил небольшой белокурый парик под цвет своих прежних волос, с коком спереди. Очень высокие воротнички подпирали длинные белоснежные бакенбарды, что придавало его продолговатому лицу форму треугольника.
Костюм маркиза был опрятен до педантичности, и несколько сухих травинок, приставших к камзолу, свидетельствовали о том, что он не переодевался для встречи гостя и всегда совершает свою одинокую прогулку но парку в полном параде.
Господин де Буагильбо поклонился молча, сел молча и взглянул на посетителя тоже молча. Сначала Эмиль смутился этим молчанием и приписал его небрежению. Но, заметив, что маркиз неловко вертит в руках веточку жимолости, желая преодолеть замешательство, гость понял, что старец то ли от природы застенчив, как ребенок, то ли отвык общаться с людьми.
Тогда Эмиль отважился заговорить и, желая быть приятным хозяину, а также стремясь поддержать его благорасположение к плотнику, без стеснения через каждые два слова вставлял «маркиз», невольно в глубине души поддаваясь ироническому отношению к дворянской спеси собеседника.
Но маркиз, видимо, оставался столь же равнодушен к насмешливой почтительности Эмиля, как и к цели его посещения. Он отвечал односложно, поблагодарил молодого человека за усердие и подтвердил, что берет на себя уплату штрафа.
— Какой прекрасный, какой великодушный поступок, маркиз! — воскликнул Эмиль. — Ваш подопечный, в судьбе которого живо заинтересован и я, достоин вашего участия, ибо умеет его ценить. Вы, очевидно, не знаете, что недавно, во время наводнения, он бросился в реку, чтобы спасти чужого ребенка, хотя ему самому грозила смертельная опасность.
— Ребенка?.. Своего ребенка? — спросил господин де Буагильбо. Он казался ко всему настолько безразличным и равнодушным, что, по-видимому, недослышал Эмиля.
— Нет, чужого, совсем чужого. Я задал тот же вопрос и узнал, что Жан почти незнаком с его родителями.
— Так он спас ребенка? — повторил маркиз после минутного молчания, как будто уносившего его в иной, воображаемый мир. — Это весьма удачно.
От голоса маркиза, от манеры говорить веяло холодом еще больше, чем от выражения его лица и повадок. Он говорил медленно, безо всякого выражения; казалось, ему стоило величайших усилий связно произнести фразу.
«Теперь ясно, почему маркиз никуда не выходит и никого не видит: старик сам знает, что он уже мертв», — подумал Эмиль, еще раз вспомнив немецкую легенду.
— Вы, маркиз, выразили желание, чтобы мой отец прислал к вам доверенного. Не будете ли вы добры сказать, с какою целью? Я к вашим услугам и жду ваших указаний.
— Дело в том… — заговорил господин де Буагильбо, явно затрудняясь необходимостью дать прямой ответ и пытаясь собраться с мыслями. — Дело в том, что человек, о котором вы говорите… не хочет отправляться в тюрьму. Его аресту следует воспрепятствовать. Скажите вашему уважаемому батюшке, что этому надо воспрепятствовать.
— Но, господин маркиз, это совершенно не зависит от моего отца! Он, само собой разумеется, не станет требовать от правосудия суровых мер против бедняги Жана, но вряд ли он сумеет воспрепятствовать их применению.
— Простите, — возразил маркиз, — он может переговорить или попросить, чтобы кто-нибудь переговорил с представителями местных властей. Он пользуется влиянием; он должен пользоваться влиянием.
— Почему же вы сами, маркиз, не сделаете этого? Вы дольше отца живете в здешних краях. И, если уж говорить о влиянии, вы не можете недооценивать ваших привилегий — положение отца не идет ни в какое сравнение с вашим.
— Привилегии происхождения нынче не в моде, — ответил господин де Буагильбо, не обнаруживая ни досады, ни сожаления. — Ваш батюшка в качестве коммерсанта должен пользоваться нынче большим весом, нежели я. К тому же меня никто не помнит, я слишком стар. Я не знаю даже к кому обратиться — всех перезабыл. Если бы господин Кардонне взял на себя труд похлопотать, этого человека перестали бы преследовать за бродяжничество.
Окончив столь длинную речь, господин де Буагильбо глубоко вздохнул, словно сраженный усталостью. Эмиль успел уже подметить странную привычку хозяина замка: его вздохи не являлись ни следствием астматической одышки, ни выражением душевной тоски. Скорее это было что-то вроде нервного тика, и хотя бесстрастное лицо старого маркиза оставалось при этом столь же бесстрастным, вздохи повторялись так часто, что нервы собеседника не выдерживали: это случилось и с Эмилем, — ему в конце концов стало не по себе.
— Я полагаю, маркиз, — сказал юный Кардонне, из любопытства желая испытать собеседника, — вы были бы весьма дурного мнения о таком обществе, где те или иные привилегии, даруемые рождением либо состоянием, служили бы сирому и слабому единственной защитой против суровости закона. Мне хочется думать, что моральной силой и влиянием обладает тот, кто умеет взывать к законам милосердия и человеколюбия.
— В таком случае, сударь, я предоставляю действовать вам, — ответил маркиз.
В этом лаконическом ответе прозвучали смирение и похвала, а может быть, даже ирония.
«Кто знает, — подумал Эмиль, — а вдруг этот старый человеконенавистник способен на самую жестокую издевку? Ну что ж! Будем обороняться!»
— Я готов сделать для человека, которому вы покровительствуете, все от меня зависящее, — ответил Эмиль. — И если мне это не удастся, то, поверьте, никак не по злой воле или нерадению, а только по недостатку способностей…
Быть может, маркиз не понял упрека. Он, казалось, уловил в речи гостя только одно слово и в каком-то задумчивом оцепенении повторил с привычным вздохом:
— Которому я покровительствую?
— Мне следовало бы сказать: «который вам обязан», — продолжал Эмиль, раскаиваясь в своей опрометчивости и опасаясь повредить плотнику. — Как бы, с вашего позволения, я ни называл его, этот человек преисполнен благодарности к вам за вашу доброту и, если бы осмелился, явился бы сюда вместе со мной, чтобы еще раз выразить вам свою признательность.
Легкий румянец вдруг окрасил бледные щеки господина де Буагильбо, и он ответил уже более твердым тоном:
— Надеюсь, что впредь он оставит меня в покое.
Эмиль был задет подобным оборотом и не сумел этого скрыть.
— Будь я на его месте, — заметил он, — я бы крайне страдал от того, что являюсь предметом благодеяния, за которое не могу отплатить ни своей преданностью, ни признательностью, ни трудом. Вы проявили бы, маркиз, еще большее великодушие, если бы разрешили этому славному Жану Жапплу выразить вам свою признательность и предложить свои услуги.
— Сударь, — промолвил господин де Буагильбо и, вдруг умолкнув, поднял с полу булавку и вколол ее в рукав, то ли не желая обнаружить своего смущения, то ли вследствие закоренелой привычки к аккуратности и порядку. — Сударь, предупреждаю вас, что я раздражителен. Да, да, весьма раздражителен.
Признание это было сделано таким спокойным и медлительным тоном, что Эмиль чуть не расхохотался.
«Ну что ж, — подумал он, — значит, мы, как говорит Жан, немножко рехнулись».
— Если я имел несчастье, маркиз, чем-то вам не угодить, — произнес он, вставая, — я удалюсь, дабы не усугублять моей вины, требуя от вас совершенства; впрочем, в этом случае виновны были бы скорее вы, а не я.
— Как так? — спросил маркиз, беспокойно вертя в пальцах веточку жимолости, хотя сам он, по видимости, оставался вполне спокойным.
— Мы требовательны к тем, кого почитаем, я сказал бы даже — к тем, кем восхищаемся, если бы не опасался оскорбить вашей скромности.
— Так вы уходите? — с минуту загадочно помолчав, не менее загадочно произнес маркиз.
— Да, маркиз. Разрешите засвидетельствовать вам свое почтение.
— Может быть, вы отобедаете со мной?
— Это невозможно, — ответил Эмиль, ошеломленный и испуганный подобным предложением.
— Вы боитесь соскучиться, — продолжал маркиз со вздохом, который на сей раз каким-то образом нашел доступ к сердцу Эмиля.
— Сударь! — ответил юноша с внезапной горячностью. — Я буду рад у вас отобедать, когда вы только этого пожелаете!
— Завтра! — произнес господин де Буагильбо удрученным тоном, столь не соответствовавшим его радушному приглашению.
— Хорошо, пусть будет завтра, — ответил молодой человек.
— Ах нет, не завтра! — возразил маркиз. — Завтра понедельник, тяжелый для меня день… Во вторник.
Согласны?
Эмиль любезно согласился, хотя в глубине души его угнетала мысль провести несколько часов наедине с этим живым мертвецом, и он раскаивался, что уступил непреодолимому порыву сострадания.
Тем временем господин де Буагильбо слегка оправился от смущения и пожелал проводить гостя до калитки, где была привязана лошадь Эмиля.
— Красивая лошадка, — сказал он, оглядев Вороного с видом знатока. — Бреннской породы. Хорошая порода, выносливая и нетребовательная. Вы умелый наездник?
— У меня больше привычки и смелости, нежели подлинного умения, — ответил Эмиль, — Я еще не успел изучить правила верховой езды, но рассчитываю сделать это при первом благоприятном случае.
— Верховая езда благородное и здоровое занятие, — продолжал маркиз. — Если вы будете иногда заглядывать ко мне, помните, что мои слабые познания в этой области к вашим услугам.
Эмиль учтиво принял это предложение, но невольно бросил взгляд на хилое существо, предлагавшее ему себя в учителя верховой езды.
— Она хорошо выезжена? — спросил господин де Буагильбо, поглаживая Вороного.
— Послушная и преданная лошадка, но по-настоящему не обучена, как и ее хозяин.
— Я не особенно люблю животных, — продолжал маркиз, — однако иной раз занимаюсь лошадьми. Вы увидите, у меня есть неплохие лошадки. Разрешите мне испытать вашу?
Эмиль поспешил предложить старому маркизу своего скакуна. Но, опасаясь несчастного случая и видя, как медленно и с какими трудностями старец вставляет ногу в стремя, он не мог удержаться и, рискуя обидеть маркиза, предупредил его, что Вороной несколько резв и норовист.
Маркиз покорно выслушал это предостережение, однако не отказался от своей мысли и сел в седло с чопорной важностью, в которой было что-то смешное. Эмиль трепетал за престарелого хозяина замка. Вороной задрожал от негодования и страха, почуяв чужую руку. Он даже пытался взбунтоваться, и, видя, как маркиз потакает капризам горячившегося коня, можно было подумать, что и сам он не слишком уверен в себе.
— Ну, ну, милый, — приговаривал господин де Буагильбо, похлопывая лошадь. — Ну, ну, не будем сердиться!
Но господин де Буагильбо действовал так только в силу верности правилам, которые запрещают жестокое обращение с животными, ибо это противоречит кавалерийской науке. Мало-помалу он лаской успокоил коня и прогнал его по обширному двору, пустому и посыпанному желтым песком, словно манеж; он переводил Вороного на различные аллюры, и тот с необычайной легкостью проделывал все повороты или менял шаг, словно хорошо выезженная лошадь, казалось, охотно подчиняясь воле наездника. Но когда маркиз вернул лошадь Эмилю, по ее раздувавшимся ноздрям и блестевшему от пота крупу видно было, что благородному коню пришлось уступить молчаливому приказу твердой руки всадника и его длинных негнущихся ног.
— Я и не подозревал за ней такой учености, — сказал Эмиль, желая сделать приятное маркизу.
— На редкость умное животное! — скромно ответил тот.
Но как только Эмиль снова сел в седло, Вороной взвился на дыбы и сделал яростный скачок, словно желая отомстить менее опытному всаднику за только что полученный неприятный урок.
«Вот странный покойник!» — решил Эмиль, спускаясь галопом к тому месту, где поджидал его Жан Жапплу. Невольно вспоминая страдающего одышкой маркиза, который робел перед юнцом и мог укротить необузданного коня, он подумал: «Уж не скрывается ли за этим мертвенным лицом и угасшим голосом железный характер?»
Плотник ждал его в нетерпении и беспокойстве; когда же Эмиль дал ему полный отчет о состоявшейся беседе, Жан произнес:
— Хорошо, благодарствуйте. Доверяю вам защиту моих интересов. Но надо и самому о себе позаботиться, что я как раз и собираюсь сделать. Пока еще вы будете писать властям, отправлюсь-ка я к ним сам. Ваше писание займет немало времени, а я не усну спокойно, пока не обниму моих гаржилесских дружков среди бела дня на пороге нашей церкви, когда народ расходится по домам. Иду в город!..
— А если вас задержат по дороге?
— Не задержат! Я такие тропинки знаю, какие жандармам вовек не узнать! Приду в город ночью, проберусь потихоньку к прокурору на кухню, служанка его — моя племянница. Язык у меня подвешен неплохо; я ему все растолкую и завтра же, еще до темноты, вернусь в свою деревню с гордо поднятой головой.
И, не дожидаясь ответа Эмиля, плотник в мгновение ока исчез в чаще кустарника.
XII Промышленная дипломатия
Когда Эмиль сообщил отцу, что плотник нашел спасителя, и рассказал о протекшем дне, господин Кардонне нахмурился. В течение нескольких минут он хранил молчание, столь же загадочное, как недомолвки и вздохи господина де Буагильбо. Но при всей кажущейся холодности этих двух людей в характерах их нельзя было обнаружить ни малейшего сходства. Холодность маркиза являлась следствием привычки и врожденной нерешительности, тогда как фабрикант выработал ее огромным напряжением воли. Первый был тяжелодум; у второго, наоборот, холодность скрывала и сдерживала неукротимость мысли. Словом, холодность господина Кардонне была наигранной. Это было достоинство, взятое напрокат, роль, принятая на себя, чтобы повелевать другими; и когда фабрикант был особенно холоден, это означало, что он судорожно прикидывает, какое впечатление произведет его с трудом сдерживаемый гнев. Так, если прискорбная робость старого господина Буагильбо разрешалась некими загадочными, нечленораздельными словами, обманчивое спокойствие господина Кардонне таило бурю, которую он сознательно укрощал, но которая рано или поздно прорывалась в очень определенных и веских выражениях. Можно было бы сказать, что один черпал жизненную силу в самых мощных ее источниках, тогда как у другого она растрачивалась в тщательно сдерживаемых переживаниях.
Господин Кардонне прекрасно знал, что переубедить Эмиля нелегко, что с ним не сладить ни принуждением, ни угрозами. Он слишком часто сталкивался с решительным характером сына, не раз испытывал силу его сопротивления — хотя до сих пор оно проявлялось лишь в ребячествах, свойственных юному возрасту, — и понимал, что прежде всего следовало внушить Эмилю незыблемое уважение к отцу. Поэтому он тщательно следил за собою, остерегаясь совершить в присутствии сына какую-либо оплошность.
— Как, отец! Неужели вы недовольны удачей Жана и пеняете на меня за то, что я поспешил навстречу добрым намерениям его спасителя? — спросил Эмиль. — Я обещал вашу поддержку, и следует непременно добиться, чтобы этот маловер плотник узнал вас, стал вас уважать и даже любить.
— К чему столько слов? — возразил господин Кардонне. — Надо немедленно написать о нем властям. Письмоводитель занят, но я полагаю, что ты не откажешься иной раз, в щекотливых случаях, его заменить?
— О, с великой радостью! — воскликнул Эмиль.
— Так пиши! Я буду диктовать.
И господин Кардонне продиктовал несколько писем, преисполненных ревностной заботы о его подопечном и проникнутых редким пониманием жизни и сознанием собственного достоинства. Он даже предлагал в свою очередь поручиться за Жана Жапплу, в случае — конечно, невероятном, как оговаривался он, — если бы господин де Буагильбо, предвосхитивший его намерения, передумал. Подписав и запечатав письма, фабрикант велел Эмилю отправить их с нарочным и добавил:
— Вот я и исполнил твое желание: бросил дела, чтобы плотник не пострадал от промедления. Теперь мне надо работать. Обед подадут через час, после обеда побудь с матерью, ты ее нынче совсем забыл. А вечером, когда я кончу работать, ты, надеюсь, будешь полностью в моем распоряжении: я хочу побеседовать с тобою о серьезных вещах.
— Отец, вы же знаете, что в вашем распоряжении не только сегодняшний вечер, но и вся моя жизнь, — сказал Эмиль.
Господин Кардонне поздравил себя с тем, что не поддался первому порыву гнева. Ему снова удалось утвердить свою власть над Эмилем. Вечером, когда фабрика закрылась и рабочие разошлись по домам, господин Кардонне направился в уголок сада, не пострадавший от наводнения, и долго прогуливался там в одиночестве, размышляя о том, что он скажет своему непокорному сыну. Он не желал звать Эмиля, пока полностью не овладеет собой.
Лихорадочная усталость, наступившая после долгого дня напряженных хлопот и хозяйственных распоряжений, зрелище опустошения, все еще преследовавшее его, а возможно, и состояние атмосферы не давали улечься его обычному нервному раздражению. Слишком резкие и внезапные скачки температуры действуют крайне расслабляюще. Лето было в разгаре, и теплый воздух, насыщенный испарениями, словно в ноябре, полнился не прохладным, прозрачным осенним туманом, а каким-то удушливым паром, поднимавшимся от земли. По одну сторону аллеи, где широким шагом расхаживал фабрикант, росли розовые кусты и какие-то великолепные цветы, но по другую валялись обломки, громоздились исковерканные доски и принесенные потоком огромные булыжники. От этой предельной черты, куда достигло наводнение, и до самой реки, на площади в несколько арпанов, весь сад, занесенный грязным илом, смешанным с красным песком, напоминал своим видом американские леса после опустошительного разлива Огайо или Миссури. Опрокинутые наводнением молодые деревца сплетали в лужах стволы и ветви, образуя неожиданные запруды и не давая стока воде. Прекрасные, полуувядшие, утопавшие в тине растения тщетно пытались подняться из грязи, а некоторые, напоив досыта влагой свои примятые стебли, Торжествующе раскрывали роскошные венчики. Их восхитительное благоухание побеждало солоноватый запах ила, и, когда порывы легкого ветерка разрывали туман, проносились попеременно то нежные ароматы, то страшное зловоние. Лягушки, которые словно упали с неба вместе с дождем, отчаянно квакали в кустах роз, а грохот машин, до сих пор работавших вхолостую, вызывал у господина Кардонне лихорадочное раздражение. Между тем в листве деревьев, пощаженных наводнением, приветствуя полную луну, пел соловей, с беспечностью влюбленного или художника. Повсюду разлито было ощущение счастья и одновременно уныния, уродства и красоты, словно могучая природа пренебрегала этими потерями, столь чувствительными для человека и столь незаметными для нее самой, ибо ей достаточно одного солнечного дня и одной прохладной ночи, чтобы возместить разрушения.
Несмотря на все свои усилия, господин Кардонне не мог сосредоточиться мыслями на семье — его поминутно волновали и отвлекали денежные заботы.
«Проклятая речонка! — думал он, помимо воли устремляя взгляд на поток, который, словно издеваясь, горделиво катил свои воды у его ног. — Когда ты откажешься от бесполезной борьбы? Я сумею обуздать тебя и прибрать к рукам! Еще немного камня, еще немного железа — и ты послушно потечешь по тому руслу, какое укажет тебе моя воля. О, я сумею совладать с твоей безрассудной яростью, сумею предвидеть твои причуды, подстегнуть тебя, лентяйку, и усмирить твой гнев! Гению человека суждено одержать победу над слепым бунтом природы. Лишняя дюжина рабочих — и ты почувствуешь узду! Деньги — и только деньги! Горки «презренного металла» достаточно, чтобы сдержать горы воды. Только не потерять времени, не оплошать! Изделия моей фабрики должны быть выпущены к назначенному сроку, иначе мне не возместить издержек. Достаточно месяц провести, бессильно опустив руки, — и все погибло. Кредит — это пропасть, которую нужно рыть без колебаний, ибо на дне ее — сокровище прибылей. Будем же рыть! Будем рыть еще и еще! Глупец и трус тот, кто остановится на полпути и позволит рухнуть своим планам и намерениям. Нет, нет, коварный поток! Бабьи страхи, лживые предсказания завистников не запугают меня, не принудят отречься от задуманного! Столько принесено жертв, столько впустую пролито человеческого пота! Столько умственных усилий затрачено мною! Столько чудес рождено моей мыслью! Либо эти мутные воды поглотят мой труп, либо они послушно принесут к моим ногам сокровища, созданные этой фабрикой!»
И в мучительном напряжении воли господин Кардонне с каким-то яростным воодушевлением топнул ногой о берег.
Но тут ему снова пришло на ум, что собственная его плоть и кровь, родной сын, может оказаться препятствием, более грозным для будущего, нежели горные потоки и бури. Родной сын мог стать на пути отца и в один прекрасный день все разрушить. Как бы ни был алчен и себялюбив по природе человек, он никогда не будет удовлетворен, трудясь для себя одного. Нет такого капиталиста, который, думая о будущем, не думал бы о тех, кто связан с ним узами крови. Всем своим нутром Кардонне ощущал животную любовь к сыну. О, если бы он мог переплавить эту мятежную душу и приобщить Эмиля к делу своей жизни! Какой гордостью, какой уверенностью наполнилась бы его душа! Но любимый сын, проявлявший большие дарования ко всему, что было чуждо устремлениям отца, по-видимому, возымел устойчивое отвращение к богатству, и следовало найти какую-то лазейку, какое-то уязвимое место, чтобы привить Эмилю эту гибельную страсть. Кардонне хорошо знал, на каких струнах следует играть. Но сумеет ли он так преодолеть свойства своего ума и способностей и так пойти им наперекор, чтобы сын не услышал фальшивой ноты? Инструмент был одновременно и нежным и мощным. Малейшее нарушение гармонии в задуманной системе звуков — и он встретит в сыне придирчивого и проницательного судью.
И Кардонне, этот грубый и в то же время изворотливый человек, в котором привычка властвовать преобладала над привычкой хитрить, вынужден был вступить в страшную борьбу с самим собою и, погасив в себе всякую вспышку непосредственного чувства, заговорить несвойственным ему языком убеждения. Наконец, несколько успокоившись и полагая себя достаточно подготовленным к беседе, он велел позвать Эмиля и в ожидании сына вернулся на то самое место, где предавался долгим и мучительным раздумьям.
— Вот и я, батюшка! — произнес молодой человек, взволнованно и нежно беря отца за руку. Он чувствовал, что наступила минута, которой суждено решить, что одержит в его сердце верх — сыновняя любовь или же осуждение и страх. — Я готов почтительнейше выслушать все, что вы намереваетесь мне сказать. Мне двадцать один год, я уже взрослый человек. Вы не торопились разрешить меня от обета молчаливой покорности и слепого доверия. Я подчинялся в силу сердечной привязанности к вам, но теперь во мне заговорил разум, и я жду вашего отеческого слова, чтобы привести его к согласию с моим сердцем. Вы сделаете это, я не сомневаюсь. И вы откроете мне врата жизни, ибо до сей поры я только мечтал, ждал и искал чего-то. Я колебался, томясь странными сомнениями, и немало выстрадал, не осмеливаясь в том признаться. Нынче вы исцелите меня, вы дадите мне ключ от лабиринта, где я блуждаю, вы укажете мне путь в будущее, по которому я охотно пойду. Я буду счастлив и горд, если смогу идти вместе с вами!
— Дитя мое! — ответил господин Кардонне, несколько взволнованный этим пылким вступлением. — Ты привык там к возвышенным разглагольствованиям. Я не стану им подражать. Это дурной способ выражать свои мысли, так как разгоряченный и восторженный ум в конце концов становится жертвой излишней чувствительности. Я знаю, что ты любишь меня и в меня веришь. Ты тоже знаешь, как ты мне дорог. Твое будущее составляет единственную цель моей жизни и единственный предмет моих забот. Так давай же поговорим разумно и по возможности хладнокровно! Сначала вспомним твою еще недолгую, но счастливую жизнь. Ты рожден в довольстве — я прилежно трудился, и богатство послушно легло к твоим ногам, столь легко и на первый взгляд столь естественно, что ты даже и не заметил, как это произошло. С каждым годом возможности твоей будущей карьеры ширились; ты был еще младенцем, когда я уже заботился о твоей старости и о будущем твоих детей. Ты проявлял счастливые задатки, но пока лишь в бесполезных искусствах, в таких забавах, как рисование, музыка, поэзия… Я вынужден был бороться — и поборол развитие этих художественных склонностей, коль скоро они грозили заглушить в тебе более насущные и важные способности.
Наделяя тебя богатством, я налагаю на тебя и ответственность. Изящные искусства — это отрада и роскошь бедняка. Но богатство требует большой закаленности, чтобы человек не пал под грузом налагаемых деньгами обязанностей. Я изучил себя и понял, чего мне недостает; я решил, что мы должны дополнить друг друга, — ведь в силу кровного родства мы можем быть едины в своих замыслах. Хотя я знаком с промышленной теорией в той области, которую избрал для себя полем деятельности, я не получил в свое время должного опыта и специальных знаний и только чутьем, догадкой приходил к разрешению вопросов, связанных с геометрией и механикой. Я не мог не ошибаться, попадал на ложную дорогу, увлеченный фантазиями своими и чужими, и терял, не говоря уже о деньгах, дни, недели, годы, терял время — драгоценнейший из всех капиталов. Потому-то я и хотел, чтобы по выходе из коллежа ты обучался этим наукам, и ты, невзирая на свой юношеский возраст, отдался упорному труду. Но вскоре твое умственное развитие устремилось по пути, уводящему тебя от моих целей.
Изучение точных наук привело тебя, помимо моей и твоей воли, к увлечению естественными науками, и ты, отклонившись от своего прямого пути, начал бредить астрономией и мечтать о недоступных нам мирах. Борьба была неравной, и все же я вынудил тебя оставить эти науки, ибо не верил, что ты найдешь им здоровое и полезное применение. Но, отказавшись от мысли сделать из тебя инженера, я стал размышлять, чем бы ты мог быть мне полезен. Надеюсь, ты не поймешь меня превратно, когда я говорю «полезен». Я имею в виду, что мое состояние — в то же время и твое, и я обязан подготовить тебя для дела, которое вскоре, быть может, сократит мои дни в твою пользу: это в порядке вещей. Я счастлив, выполняя свой долг, и выполню его, если понадобится, даже против твоей воли. Но разве рассудок и отеческая любовь не вынуждают меня научить тебя если не увеличить, то, по крайней мере, сохранить и сберечь наше состояние? Из-за незнания законов я сотни раз попадался на удочку невежественным и коварным советчикам. Я становился добычей этих тунеядцев — судейских крючкотворов, которые, толком не разумея дела и не разбираясь в нем, требуют от клиентов слепого послушания и, в силу тупости, упрямства, заносчивости, излишнего хитроумия и всяческих оплошностей, не говоря уже обо всем прочем, вредят нашим насущнейшим интересам. Тогда я подумал, что ты, при твоей сообразительности и ясном уме, в несколько лет сумеешь изучить право и получить достаточно точное и детальное представление о юридических нормах, благодаря чему мы никогда не будем нуждаться ни в чужом руководстве, ни в чужих советах и ни в каком ином поверенном, кроме тебя самого. Я не собираюсь делать из тебя краснобая-адвокатишку, судейского комедианта — я только просил тебя слушать лекции и сдавать экзамены… Ты обещал мне это!
— Что же, батюшка! Разве я вам перечил? Разве я нарушил слово? — сказал Эмиль, удивленный тем, с какой надменностью и презрением отец отзывался об этих профессиях, блеск и достоинство коих превозносил в свое время, желая склонить сына к их изучению.
— Эмиль, — продолжал фабрикант, — я не собираюсь тебя упрекать, но твоей безразличной и вялой покорности я предпочел бы твердый отпор. Если бы я мог предвидеть, что ты впустую потеряешь время, я сумел бы придумать что-либо иное. Ведь я уже говорил тебе: время — драгоценнейший из всех капиталов, а эти два года ничего не дали для развития твоих способностей и, следовательно, для твоего будущего.
— Льщу себя надеждой, что это не совсем так, — сказал Эмиль со смешанным выражением смирения и гордости. — Смею вас уверить, батюшка, что я много работал, много читал, много размышлял и, могу сказать, кое-что приобрел за время моего пребывания в Пуатье!
— О, я хорошо знаю, что ты читал и что изучал, Эмиль. Во всяком случае, я заметил бы это сам по твоим письмам, если б даже ты мне этого не сказал. И я заявляю тебе, что вся эта хваленая философско-метафизико-политико-экономическая наука, по моему разумению, самое пустяковое, ложное, туманное и нелепое, чтоб не сказать — опасное занятие для молодых людей. Да что говорить, будь я сторонним наблюдателем, я бы хохотал до упаду над твоими последними письмами, но как отец я испытывал смертельное огорчение. И вот, увидев, что ты оседлал нового конька и опять собираешься пуститься в заоблачные дали, я решил вызвать тебя сюда на время, а может быть и навсегда, если мне не удастся вернуть тебя к здравому смыслу.
— Отец, ваши жестокие насмешки и презрение не только оскорбляют мое самолюбие — они ранят меня в самое сердце! Пусть вы не согласны со мною — я готов выслушать осуждение моим верованиям. Но вот, впервые в жизни, я ощутил потребность излить перед вами мои думы и чувствования и осмелился сделать это, а вы отталкиваете меня своей иронией… Мне горько это, и я страдаю сильнее, чем вы думаете!..
— В этой ребяческой кротости больше гордыни, нежели ты полагаешь. Разве я не твой отец? Не лучший твой друг? Разве не обязан я высказать тебе всю правду, когда ты обманываешься, и возвратить тебя на путь истины, когда ты введен в заблуждение? Полно! К чему ложное самолюбие, ему нет меж нами места! Я ценю твой ум более, нежели ты сам, и потому не хочу, чтоб ты питал его дурной пищей. Выслушай меня, Эмиль. Я знаю, что У нынешних молодых людей повелось рядиться в тогу законодателей, философствовать по любому поводу, печься об изменении порядков, которые переживут их, изобретать какую-то новую религию, новое общество, новую мораль. Воображение тешится этими мечтами — впрочем, весьма невинными, коль скоро они преходящи. Но все это хорошо только для школьников, и, прежде чем разрушать общество, следует хорошенько изучить его и пожить в нем; тогда станет ясно, что общество представляет большую ценность, чем мы, грешные, и что самое благоразумное — это суметь подчиниться ему и терпеть его законы. Ты уже вышел из того возраста, когда позволительно бесплодно расточать свои желания и помыслы, обращая их на предметы неосновательные. Я хотел бы, чтоб ты приблизился к действительной, реальной жизни. Чем впустую изощряться в критике законов, правящих обществом, не лучше ли изучить их смысл и найти им применение? Если изучение их, напротив, вызовет у тебя досаду и ты разочаруешься в истине — бросай ученье и попытайся найти какое-либо полезное занятие, к которому ты чувствуешь себя пригодным. Послушай, Эмиль! Мы встретились здесь, чтобы понять друг друга и окончательно договориться. Никакого пустозвонства, никаких поэтических разглагольствований, направленных против неба и людей! Мы лишь ничтожные создания, однодневки, нам нет времени вопрошать судьбу о том, что было до нашего краткого пребывания на земле и что ждет нас после него. Этой загадки нам не разрешить вовек. Наш долг — долг верующего — без устали трудиться на этой земле и безропотно ее покинуть. Мы отвечаем за свои дела перед уходящим поколением, которое воспитало нас, и перед грядущим, которое воспитываем мы. Вот почему семейные узы священны, а право наследования нерушимо, невзирая на все ваши прекрасные коммунистические теории, которые всегда были мне непонятны, ибо они незрелы, и пройдут еще века и века, прежде нежели человечество сможет их принять. Что же ты собираешься делать? Отвечай!
— Не знаю, — ответил Эмиль, подавленный узостью этих взглядов, сухостью и обилием общих мест, преподнесенных с таким высокомерным пренебрежением и с такой непримиримостью. — Вы так смело решаете вопросы, для ответа на которые мне понадобится, быть может, целая жизнь, что я не в состоянии следовать за вами в этой стремительной спешке к неведомой цели.
Очевидно, я настолько слаб и настолько ограничен, что не могу найти в моей личной деятельности награду и оправдание стольким усилиям. У меня нет ни малейшего вкуса к этому. Я люблю умственный труд и полюбил бы физический, если бы один служил на благо другому и оба приносили бы душевное удовлетворение. Но трудиться ради стяжания и, стяжая, накапливать, чтобы снова стяжать, пока смерть не положит предел этой слепой жажде обогащения, — вот что не имеет для меня ни смысла, ни привлекательности! Я не обладаю ни малейшими способностями, пригодными для осуществления вашей цели: я не рожден игроком, и азартная ставка на повышение или понижение, даже если на карту поставлено мое состояние, ни в коей степени не может меня взволновать. Если мои стремления и восторги — пустые мечтания, недостойные зрелого ума, если не существует вечной истины, божественного смысла вещей, идеала, питающего душу, ведущего нас вперед через недуги и несправедливости нашего времени, — значит, не существует и меня; я ни во что более не верю! Отец, я готов умереть за вас! Но жить и бороться подобно вам и вместе с вами — такой род деятельности претит моей душе, разуму, сердцу.
Господин Кардонне содрогнулся от гнева, но сдержался. Не без умысла совершил он эту неосторожность — вызвал негодующий отпор сына. Он хотел, чтобы Эмиль высказал свои мысли, хотел узнать получше, что представляет его восторженная вера. Поняв по горестному тону Эмиля и по отчаянному выражению его лица, что опасения подтвердились и дело действительно серьезно, господин Кардонне решил обойти препятствие и, искусно маневрируя, вернуть себе прежнее влияние.
XIII Борьба
— Эмиль, — продолжал фабрикант с наигранным спокойствием, — я вижу, что мы начинаем говорить на разных языках. Если мы будем продолжать в том же духе, ты станешь искать со мною ссоры и, чего доброго, смотреть на меня, как юный святой на закоренелого язычника. На кого ты сердишься? Не напрасно я с самого начала предостерегал тебя от чрезмерной восторженности. Вся эта пылкость ума — лишь горячка молодости, не более. Приобретя немного житейского опыта и воспитав в себе чувство долга, ты в мои годы перестанешь даже понимать, зачем так распинаться в доказательство своей честности и так трезвонить о своих убеждениях. Берегись напыщенности — это язык самовлюбленности и тщеславия! Послушай, дитя мое! Не вообразил ли ты, что честность, нравственные устои, верность принятым на себя обязательствам, человеколюбие, жалость к обездоленным, преданность родине, уважение к чужим правам, семейные добродетели и любовь к ближнему — достоинства весьма редкие или вовсе не возможные в наши дни и в том обществе, где мы живем?
— Да, отец, я твердо в этом убежден!
— А я думаю иначе. Я и в пятьдесят лет не такой человеконенавистник, как ты в двадцать один, и не такого скверного мнения о своих ближних; очевидно, потому, что я не обладаю ни вашей просвещенностью, ни вашей проницательностью!..
— Бога ради, отец, не издевайтесь надо мной! Мне больно это.
— Ну что ж, поговорим серьезно! Я охотно готов допустить, что в эти добродетели верят и следуют им немногие. Но, надеюсь, ты не отказываешь в них, по крайней мере, твоему отцу?
— Отец, ваши поступки почти всегда доказывали, что вы помышляли только о добрых делах. Зачем же своими речами вы стараетесь внушить мне, будто ставили себе менее благородную цель?
— Вот к этому-то я как раз и веду. Ты признаешь поведение мое безупречным, и, однако ж, тебя возмущает, когда я взываю к здравому смыслу и логике. Скажи-ка, что бы ты подумал о своем отце, если бы он вечно разглагольствовал, порицая тех, кто не следует его примеру? Если бы, ставя себя за образец и пыжась от любви к собственной персоне, он при всяком удобном и неудобном случае надоедал тебе самовосхвалениями и проклинал весь род человеческий? Ты молчал бы, стараясь смотреть сквозь пальцы на этот смешной недостаток, но ты невольно сожалел бы о плачевной слабости твоего милейшего родителя и считал, что подобное тщеславие роняет его достоинство.
— Конечно, отец, я предпочитаю вашу сдержанность и благородную скромность. Но когда мы остаемся с вами с глазу на глаз, особенно в тех редких и важных случаях, когда вы, как нынче, удостаиваете меня сердечной откровенности, я был бы безмерно счастлив услышать, что вы превозносите высокие идеи, вливая в меня священный энтузиазм, вместо того чтобы с презрением порицать и подавлять мои порывы.
— Не твои высокие идеи я презираю и не твои благие порывы высмеиваю. Я отвергаю, я хочу заглушить в тебе пристрастие к напыщенному краснобайству, фанфаронству, свойственное сочинителям новых теорий человеческого счастья. Мне нестерпимо слышать, когда старые как мир истины выдают за неведомые до того откровения. Я желал бы, чтоб ты с непоколебимым спокойствием оставался верен своему долгу и выполнял его в стоическом молчании подлинной убежденности. Верь мне, добро и зло ведомы нам не со вчерашнего дня, и я полюбил справедливость еще до того, как ты начал вкушать манну небесную, покуривая сигары на улицах Пуатье.
— Отец, все это, может быть, в общем и справедливо, — сказал Эмиль, подстрекаемый упорными насмешками господина Кардонне. — Есть люди пожилые, которые, подобно вам, совершают добродетельные поступки, не бахвалясь ими, и есть дерзкие молокососы, которые проповедуют добродетель, не любя ее, даже и не ведая о ней. Но ваш последний насмешливый намек я не могу принять ни на мой счет, ни на счет моих друзей. Не стану отрицать, что я еще юнец. Я не кичусь своим житейским опытом. Напротив, я пришел, преисполненный благими порывами и благими намерениями, почтительнейше и доверительно искать у вас совета, примера, поощрения, надеясь услышать от вас слова истины и получить наставления. Мое единственное достояние — юношеские идеалы, и я кладу их к вашим ногам.
Возмущенный ужасающими противоречиями, которые признаются и освящаются законами нашего общества, я умоляю вас, скажите: как могли вы, оставаясь честным человеком, безропотно примириться с ними? Я не боюсь признаться в своей слабости и невежестве, но следовать по этому пути не могу. Ответьте мне наконец, вместо того чтобы осыпать меня ледяными насмешками. Разве это преступление, если я прошу вас просветить меня? Разве это дерзость и безумие, если я хочу повиноваться велениям моей совести? Если я хочу постичь смысл жизни? Да, у вас достойный характер, и поступаете вы мудро и осмотрительно. Да, у вас доброе сердце и щедрая рука. Да, вы приходите на помощь бедняку и вознаграждаете его труд.
Но куда идете вы этим путем столь непоколебимо и прямо? Я нахожу, что иной раз вам недостает снисходительности, и часто ваша суровость пугает меня.
Я хочу думать, что вы более проницательны и предусмотрительны, чем иные нежные и робкие натуры; что вы заставляли меня претерпеть мимолетную боль, дабы упрочить мое благоденствие, закалить дарования. Поэтому, невзирая на отвращение к занятиям, на которые вы меня обрекли, невзирая на то, что вкусы мои были принесены в жертву вашим сокровенным целям, а желания зачастую оказывались растоптаны и задушены в самом зародыше, я почел своим долгом следовать вашим наставлениям и подчиняться вам во всем.
Но настало время, когда вы должны открыть мне глаза, если хотите, чтобы я сделал такое нечеловеческое усилие, — ибо изучение права не успокаивает мою совесть, я не мыслю, что когда-нибудь смогу вмешаться в дрязги судопроизводства, и еще менее — что смогу принудить себя, подобно вам, выжимать прибыль из людей, заставляя их на меня работать. Я не вижу перед собою ясной цели и не знаю, насколько необходима человечеству та жертва, какую я принесу вам, лишившись своего счастья.
— Твое счастье, следовательно, в том, чтобы жить сложа руки и любоваться небесными светилами? По-видимому, всякий труд раздражает либо утомляет тебя — даже изучение права, которым играючи овладевают все молодые люди!
— Отец, вы хорошо знаете, что это не так; вы видели, с какой страстью я отдавался занятиям более отвлеченным, но вы положили им конец, словно я спешил навстречу гибели. А ведь для вас не было тайной, к чему я стремился, когда вы поставили передо мною требование найти практическое применение моим любимым наукам. Вы не пожелали, чтоб я стал художником и поэтом. Возможно, вы были правы. Но я мог сделаться натуралистом, хотя бы агрономом. Вы воспрепятствовали и этому. А ведь это-то и значило бы найти подлинно практическое применение моим знаниям.
Я люблю природу, и жизнь полей влекла меня. Безграничное наслаждение, какое я черпал, постигая законы природы и ее тайны, естественно, приводило меня к пониманию ее скрытых сил, к желанию управлять ими, оплодотворять их разумным трудом.
Верьте, в этом было мое призвание! Земледелие находится еще в младенческом состоянии, крестьянин по старинке надрывается в непосильном труде, огромные земельные участки остаются невозделанными. Наука удесятерит богатства почвы и облегчит утомительный труд человека.
Мои общественные идеалы созвучны с этими мечтами о будущем. Я просил вас направить меня учиться на какую-нибудь образцовую ферму. Я был бы счастлив, сделавшись крестьянином, работая головой и руками, в непрестанном общении с природой и людьми, близкими к природе. Я учился бы с жаром и, быть может, успешнее других поднимал бы целину открытий. И когда-нибудь, где-нибудь в пустынной и голой степи, преображенной моими усилиями, я основал бы колонию свободных людей, живущих по-братски и любящих меня как брата.
К этому-то и сводились все мои помыслы, все моя жажда удачи и славы. Разве это безрассудно? Почему же вы потребовали, чтоб я начал рабски изучать кодекс законов, которые никогда не станут моими?..
— Вот, вот! — сказал, пожимая плечами, господин Кардонне. — Вот она — утопия брата Эмиля, моравского брата, квакера, неохристианина, неоплатоника, или как их там зовут! Это великолепно, но бессмысленно.
— Почему же, отец, скажите? Вы всегда выносите приговор, не приводя никаких доказательств!
— Потому что, примешав к пустой умозрительной учености свои социалистические утопии, ты бросил бы драгоценное зерно на камень и не взрастил бы на этой бесплодной почве пшеницы, как не создал бы людей, способных жить по-братски на общинной земле. Ты безрассудно расшвырял бы то, что собрано мною, и к сорока годам, утомленный пустыми выдумками, исчерпав свои таланты и веру в себя, наскучив тупостью или испорченностью своих последователей, быть может лишившись рассудка, — ибо этим обычно кончают чувствительные и романтические души, пожелавшие воплотить в жизнь свои мечты, — ты возвратился бы ко мне, подавленный своим бессилием, негодуя на человечество, а вступить на верную дорогу было бы уже поздно. Но если ты послушаешь меня и последуешь за мною, мы пойдем вместе по прямому и верному пути; не пройдет и десяти лет, как мы станем обладателями такого капитала, что я даже не решаюсь назвать тебе цифру — ты не поверишь!
— Предположим, отец, что это не мечты подобно моим; но меня занимает другое: что мы сделаем с этим капиталом?
— Все, чего пожелаешь! Все то добро, о каком ты возмечтаешь тогда! Я верю, что рассудок и благоразумие восторжествуют, обогащенные опытом жизни и спокойно созревшим умом; и тогда я перестану опасаться за тебя.
— Значит, мы будем делать добро? Вот, вот о чем я хотел услышать от вас, отец! И поверьте, вы не найдете слушателя более внимательного! Какое же счастье мы дадим людям?
— И ты еще спрашиваешь! В чем, как не в делах человеческих, искать нам божественную тайну? Мы осчастливим целый край благодеяниями промышленности! И разве мы не стали уже на этот путь? Разве мой труд не является источником и пищей для труда других? Разве мы не даем ежедневно работу большему числу людей, чем давали ее за целый месяц земледелие и мелкие кустарные промыслы, которые я со временем уничтожу? Разве оплата труда не повысилась? И разве эти люди не приобретают постепенно склонности к порядку, предусмотрительности, воздержанию — ко всем добродетелям, которых им так недостает? Где же таятся эти добродетели — единственная отрада бедняка? Во всепоглощающем труде, в спасительной усталости и умеренной плате за труд. Хороший рабочий любит семью, подчиняется закону, уважает собственность, экономит, знает цену сбережениям. Праздность, мать дурных умствований, — вот что губит рабочего! Займите его делом, завалите его работой — он вынослив и сделается еще выносливее, — он перестанет мечтать о ниспровержении общественных устоев. Он будет печься о благонравии, о чистоте у себя в доме, о своем очаге, принесет в него благоденствие и обеспеченность. А когда он состарится и станет не способным к труду, ему не понадобится твоя помощь, сколько бы ты ни желал ее оказать. Он сам позаботится о своем будущем; он не будет нуждаться ни в милостыне, ни в покровительстве, как твой приятель — бродяга Жапплу; он станет подлинно свободным человеком. Эмиль, нет иного способа спасти народ! Я с огорчением должен тебе сказать, что осуществить все это труднее, нежели выдумать какую-то утопию. Да, дело это нелегкое и требует времени, потому оно и достойно такого философа, как ты. Я не считаю его непосильным и для труженика, подобного мне.
— Как, и в этом весь идеал, к которому стремится промышленность? — воскликнул Эмиль, убитый выводами отца. — У народа нет иного будущего, кроме непрестанного труда, обогащающего класс, который никогда не будет работать?
— Я не это имел в виду, — возразил господин Кардонне. — Бездельников я ненавижу и презираю, потому-то я и не люблю поэтов и метафизиков. Я хочу, чтобы все трудились сообразно своему умению и таланту, и мой идеал — раз тебе нравится это слово — недалек от лозунга сен-симонистов: «От каждого по его способностям, каждому по его делам». Но в наше время промышленность еще не достигла такого расцвета, чтобы можно было помышлять о какой-то системе распределения, отвечающей нравственному идеалу. Надо ясно видеть, какова действительность, и стремиться только к возможному. Все развитие нашего века связано с промышленностью. Так пусть же властвует и торжествует промышленность! Пусть каждый работает — кто руками, кто головой. Тому, у кого сильна голова, а не руки, суждено управлять остальными. Богатеть — его право и долг! Богатство священно, поскольку ему предназначено расти, обеспечивая рост труда и платы за труд. Так пусть же общество всеми способами стремится утвердить могущество наиспособнейшего! Его способности — благодеяние для общества. И пусть он сам непрестанно стремится к усиленной деятельности: в этом его долг, его религия, его философия. В общем — как ты сказал, Эмиль, не подозревая даже, что изрек глубокую истину, — мы должны богатеть, чтобы еще и еще богатеть!
— Так как же, отец? Вы воздаете каждому только по его труду? А того, кто не может трудиться, вы ни во что не ставите?
— Богатство даст мне возможность помочь больному и умалишенному.
— А как же с лентяем?
— Попытаюсь его исправить. А если не удастся, призову закон, чтобы принудить его, дабы он не стал вреден и не подпал под действие законов более жестоких.
— В совершенном обществе это, может быть, и справедливо: ведь лентяй был бы там чудовищным исключением! Но пока действует суровая власть, подобная вашей, требующая от рабочего всех его сил, всего времени, всех помыслов, всей его жизни… Подумайте же, сколько «лентяев» вы изгоните из вашего общества и бросите на произвол судьбы!
— Благодеяния промышленности помогут в скором времени настолько повысить благосостояние нуждающихся классов, что легко будет учредить почти бесплатные школы, где дети рабочих научатся любить труд.
— Думаю, что вы ошибаетесь, батюшка. Но, если даже богачи и позаботятся о просвещении бедняков, любовь к неустанному подневольному труду, не сулящему никакой награды, кроме незначительного обеспечения под старость, настолько противоречит самой природе, что вы никогда не привьете ее с детства. Какая-нибудь исключительная натура, пожираемая жаждой деятельности или честолюбием, возможно, и пожертвует своей юностью, но всякая простая, любящая душа, склонная к мечтательности, к невинным и законным утехам, испытывающая потребность в нежных привязанностях и покое, что составляет законную отраду рода человеческого, будет бежать этой каторги непосильного труда, куда вы желаете ее заключить, и предпочтет превратности нищеты любому рабству, хотя бы и обеспеченному. Ах, отец! Вы — с вашей неутомимой энергией, стоической умеренностью и привычкой к непрестанному труду вы исключительны! Но, рисуя себе общество, созданное по вашему подобию, вы не замечаете, что оно благоприятствует только людям исключительным. Позвольте же вам сказать: ваша утопия куда более страшна, нежели все мои утопии.
— Ну что ж, Эмиль, прими эту утопию! — с горячностью произнес господин Кардонне. — В ней источник силы и драгоценный двигатель, способный всколыхнуть наше общество мечтателей, бездельников и равнодушных, которое бесит меня. Уподобься мне, и, если на сей день во Франции найдется сотня таких людей, ручаюсь, что лет через сто они уже не будут исключением. Всякая деятельность заразительна, она увлекает, околдовывает. Именно в силу этого Наполеон покорил Европу, и он удержал бы ее, будь он не воином, а промышленником! Ты способен к энтузиазму, но ведь то, к чему я тебя призываю, тоже требует энтузиазма. Стряхни свою вялость и зажгись моим примером. И если нам самим не удастся увлечь за собой человечество, мы проложим широкие борозды, и наши потомки со священной яростью станут трудиться на вспаханной нами ниве.
— Нет, нет, отец, никогда! — воскликнул Эмиль, напуганный страшной решимостью господина Кардонне. — Нет, не таков путь человечества! В ваших словах нет ни любви, ни жалости, ни нежности. Человек рожден не затем, чтобы знать одни лишь страдания и простирать свои победы только на блага материальные. Завоевания разума в области идеалов, сердечные радости и наслаждения, которым вы отводите в жизни труженика ничтожную, послушную вашей указке роль, всегда есть и будут наиблагороднейшей и наисладчайшей потребностью гармонического человека. Разве вы не видите, что умаляете намерения и благодеяния божественного промысла? Проповедуя рабство труда, вы не даете человеку времени ни вздохнуть, ни познать себя. Воспитание, направленное на погоню за прибылью, даст не всесторонне развитого человека, но бездушную машину. Вы утверждаете, что лелеете идеал, который осуществится в веках, что наступит время, когда каждый будет вознаграждаться по его способностям. Так знайте же, формула эта порочна, ибо она неполна; если не добавить к ней: «Каждому по его потребностям», она утверждает несправедливость, право более сильного разумом и волей, то есть господство аристократии и привилегий, только под иной личиной.
Ах, отец! Чем бороться на стороне сильных против слабых, давайте бороться вместе со слабыми против сильных. Попытаемся! Но тогда уж забудем о наживе, откажемся думать о личном обогащении. Согласитесь же на это, раз согласился я, для которого вы трудитесь. Объединившись на этом пути и отдавшись труду, откажемся от личной выгоды. Раз мы не можем, сейчас своими силами создать общество, построенное на всеобщей гармонии, давайте, подобно труженикам будущего, станем на защиту обездоленных и слабых в обществе настоящего!
Если бы гений Наполеона вдохновлен был этим учением, возможно, оно преобразовало бы мир! Пусть найдется сотня людей, похожих на нас с вами, пусть лихорадка стяжательства уступит место священному порыву, пусть нами руководит жажда милосердия, — приобщим рабочих к нашим прибылям, и пусть наше огромное состояние не будет ни вашей, ни моей собственностью, но сокровищем тех, кто в меру своих сил и способностей помогает нам его созидать! И пусть чернорабочий, подносящий камень, получит такую же возможность наслаждаться материальными благами, как и вы, отдающий этому делу свой талант! Пусть и он получит право жить в хорошем доме, дышать чистым воздухом, питаться здоровой пищей, отдохнуть, когда устанет, дать образование детям. И пусть наградой нам служит не эта ненужная роскошь, какою мы можем себя окружить, но радость от сознания, что мы осчастливили людей! Такое устремление мне понятно! Оно может меня захватить! И тогда, отец, дорогой отец, ваше дело благословенно!
Эта лень, эта вялость, на которую вы негодуете, — лишь следствие борьбы, где торжествуют единицы за счет огромного большинства, подающего в изнеможении и отчаянии. Но пороки исчезнут сами собой в силу изменившихся обстоятельств. И тогда вы увидите вокруг столько воодушевления и столько любви, что вам не придется уже в одиночку истощать свои силы, побуждая к труду всех прочих, как вы делаете это сегодня. Но сегодня иначе и быть не может, и смешно на это жаловаться.
Когда правит закон эгоизма, каждый отдает свои силы и добрую волю соразмерно получаемой выгоде. Что удивительного, если вы — человек, который пожинает все плоды, — одни только вы трудитесь горячо и прилежно, тогда как наемный рабочий, получающий у вас несколько более щедрую милостыню, чем у других, работает на вас несколько усерднее — и только!
Вы повышаете оплату труда — это, конечно, превосходно; и вы — лучше, чем большинство ваших конкурентов, которые стремятся ее снизить. Но вы могли бы в десятки, в сотни раз умножить рвение рабочих, словно чудом разжечь в них преданность, найти сердечное понимание в оцепенелых, удрученных душах — неужели вы не желаете этого? Почему же, отец? Ведь наслаждения роскоши не для вас; единственное ваше наслаждение — это опьянение замыслами и успехами. Так вот, откажитесь от личной выгоды — вам она ни к чему, а я отрекусь от нее с восторгом. Мы будем считать себя только хранителями богатства, только распорядителями среди участников общего дела. Тогда богатство, о котором вы мечтаете, не осмеливаясь даже назвать его цифру, настолько превысит ваши ожидания и чаяния, что вскоре вы будете в состоянии предоставить вашим рабочим возможность приобщаться к духовным, умственным и физическим благам, в силу чего они станут новыми, всесторонне развитыми, настоящими людьми, а до сей поры я таковых еще не видал! Всякое равновесие нарушено; вокруг нас только мошенники и скоты, тираны и рабы, могучие хищники орлы да глупые трусишки воробьи, обреченные служить им пищей! Мы живем, подчиняясь слепому закону первобытной природы: кодекс кровожадного инстинкта, тяготеющий над зверями, — вот что является душой нашей мнимой цивилизации! А мы еще смеем говорить, что нет надобности искать новых путей, ибо промышленность спасет мир. Нет, батюшка, нет! Все эти ваши новейшие политико-экономические рассуждения — заблуждение и ложь! Если вы принудите меня принять богатство и власть, о чем вы столько раз мне говорили, если в силу безжалостного могущества денег почитатели их сделают меня своим представителем в каком-нибудь совещательном органе нашей страны, я выскажу все, что у меня на душе. Я скажу все, но только раз, потому что меня принудят замолчать или изгонят. Однако со временем они припомнят мои слова, и те, кто меня избрал, раскаются в своем выборе!
До глубокой ночи продолжался этот спор, но, как легко можно себе представить, Эмиль не переубедил отца. Господин Кардонне не был человеком злым, либо бесчестным, либо сознательным преступником перед богом и людьми. Он имел кое-какие житейские добродетели и проявлял недюжинные способности. Но железный характер сочетался у него с душою, лишенной всяких идеалов.
Он любил сына, но не понимал его. Он бережно заботился о жене, но даже не думал о том, что душит в ней всякое проявление свободной воли, могущее стать помехой на его пути. Ему хотелось бы так же подавить и волю сына, и, когда он убедился, что это невозможно, чувство глубокого горя охватило его, и не раз во время этой бурной ночной беседы слезы досады увлажняли его воспаленные веки. Он искренне верил, что логика на его стороне, единственно приемлемая и приложимая к жизни логика.
Он мучительно размышлял, почему злой рок дал ему в сыновья мечтателя и утописта, и не раз в невыразимой печали вздымал к небесам могучие руки, вопрошая, за какие грехи послана ему подобная кара.
Эмиль, надломленный усталостью и тоской, в конце концов сжалился над уязвленной душой отца, над его неисцелимой слепотой.
— Вот что, дорогой батюшка, не будем никогда больше говорить об этих вещах! — сказал он господину Кардонне, также утирая слезы, источник которых лежал еще глубже — в самом сердце. — Мы никогда не придем к согласию. Я могу лишь по-прежнему покориться, отдавая вам дань моей сыновней любви и не помышляя более о самом себе и о счастье, какое я приношу вам в жертву. Что же вы прикажете? Должен ли я вернуться в Пуатье, чтобы закончить ученье и сдать экзамены, или мне надобно остаться здесь в качестве вашего письмоводителя либо управляющего? Я слепо подчинюсь и буду работать, как машина, сколько хватит силы. Я стану вашим служащим, вашим конторщиком.
— И я перестану быть для тебя отцом? — возразил господин Кардонне. — Нет, Эмиль! Оставайся со мною. Ты свободен. Я даю тебе три месяца сроку: поживи в кругу семьи, вдали от разглагольствований безусых философов, загубивших тебя, и ты сам вернешься на путь разума. У тебя горячий нрав, и от напряженного умственного труда мозг твой, быть может, слишком воспалился. Для меня ты — больное дитя. Вот и поживи в деревне, пока не поправишься. Прогулки, охота, верховая езда — одним словом, развлечения — вернут тебе душевное равновесие, которое, на мой взгляд, нарушено куда более, чем порядок в нашем обществе. Надеюсь, твоя нетерпимость смягчится, когда ты поймешь, что мой дом — не очаг злодейства и порочности. Пройдет время, и, быть может, ты сам скажешь, что пустые бредни наскучили тебе, и пожелаешь добровольно стать моим помощником…
Эмиль безмолвно поник головой. С чувством глубокой скорби обнял он отца и молча удалился. Господин Кардонне за неимением лучшего выхода решил выжидать; он улегся спать, но еще долго ворочался в постели, размышляя о том, что на сей раз ему следует нарушить свой обычай и положиться на провидение, а не на самого себя.
XIV Первая любовь
Неутомимый Кардонне, с головой окунувшись в каждодневные заботы или же достаточно владея собой, ничем не выдал своих душевных страданий и уже на следующее утро предстал перед домашними во всеоружии своего леденящего высокомерия.
Эмиль, угнетенный печалью и страхом, пытался улыбаться матери, но его рассеянный вид, изменившееся лицо взволновали госпожу Кардонне. Однако робость ее была так велика, что она утратила даже чуткость, свойственную женщинам. Все ее способности притупились, и в сорок лет она ничем, кроме внешности, не отличалась от восьмидесятилетней старухи. И все же она продолжала любить мужа в силу неистребимой потребности любви, никогда не получавшей удовлетворения. Она не могла в чем-либо упрекнуть супруга. Он никогда ее не оскорблял, не подавлял открыто своей волей, но всякий порыв чувства или воображения, вспыхивавший в ней, тут же угасал, наталкиваясь на насмешливую снисходительность и презрительную жалость; и теперь все ее мысли и желания ограничились пределами круга, очерченного жесткой рукою господина Кардонне.
Заботы о доме не были для нее просто благонравным занятием, которому она предавалась охотно, как и прочие женщины. Они стали для нее суровым и священным долгом, как для римской матроны, и госпожа Кардонне выполняла свои обязанности с ребяческой торжественностью.
Итак, госпожа Кардонне представляла собой странный анахронизм: наша современница, наделенная способностью чувствовать и мыслить, она совершила над собой безрассудное усилие, дабы вернуться на много веков назад, к тому времени, когда женщины Древнего Рима считали бесправие прекрасного пола лучшим его украшением.
Самое удивительное и грустное во всем этом было то, что действовала она не по убеждению, но, как сама себе признавалась в душе, для собственного спокойствия. А его-то как раз и не было! Чем больше она жертвовала собой, тем больше докучала своему владыке.
Ничто так быстро не стирает и не разрушает умственные способности, как слепая покорность.
Госпожа Кардонне была тому примером.
Рабство иссушило ее мозг, и супруг, не догадываясь, что таковы плоды его господства, втайне ее презирал.
Когда-то господин Кардонне был чудовищно ревнив, и жена, давно успевшая подурнеть и отцвести, все еще трепетала, полагая, что муж может заподозрить ее в легкомыслии. Она приучила себя ничего не видеть и не слышать, дабы с чистой совестью ответить на вопрос о каком-нибудь мужчине: «Я на него и не взглянула. Не знаю, что он сказал; я не обратила на него ни малейшего внимания». Единственно, на кого она осмеливалась глядеть, это на собственного сына, и только с ним осмеливалась беседовать, ибо, если ее тревожила чрезмерная бледность лица или суровость взгляда господина Кардонне и она подымала на него глаза, он без церемоний спрашивал: «Что вы на меня уставились? Впервые, что ли, меня видите?» Иной раз, заметив вечером, что жена плакала, он вновь становился по-своему нежен: «А ну-ка, что с тобой? У женушки какое-нибудь горе? Может быть, купить тебе кашемировую шаль? Хочешь, поедем прокатиться в коляске? Нет? Так, может быть, у тебя вымерзли камелии? Я велю выписать из Парижа более выносливые и такие красивые, что ты перестанешь жалеть о прежних». И в самом деле, он старался при всяком удобном случае удовлетворить невинные прихоти своей подруги. Он даже требовал, чтобы она наряжалась роскошней, нежели ей того хотелось. Он считал, что женщины — те же дети и в награду за хорошее поведение следует дарить им игрушки и всякие пустячки.
«Несомненно, муж очень меня любит, он удивительно внимателен ко мне, — думала в таких случаях госпожа Кардонне. — На что мне жаловаться? Но тогда откуда же эта постоянная грусть?»
Госпожа Кардонне видела мрачное и подавленное состояние сына, но не сумела вырвать у него тайну его печали. После нудных расспросов о здоровье она посоветовала Эмилю пораньше ложиться спать. Впрочем, она подозревала, что тут дело посерьезнее бессонницы, но старалась убедить себя, что лучше дать страданию молчаливо утихнуть, нежели разжигать его излияниями.
Вечером, прогуливаясь у околицы деревни, Эмиль повстречал Жана Жапплу. Возвратившись за несколько часов до того, Жан радостно, в кругу многочисленных друзей праздновал у порога деревенского домика свое освобождение.
— Значит, ваши дела устроились? — спросил молодой человек, протягивая ему руку.
— Что до полиции, сударь, — да. А нищета как была, так и осталась. Явился я с повинной, потолковал с королевским прокурором; выслушал он меня терпеливо, наговорил кучу глупостей, вроде как в назидание, но человек он неплохой: напоследок пообещал, что сделает все возможное, чтобы избавить меня от преследований… А тут как раз ваши письма и подоспели. Прочитал он их и даже бровью не повел, но, видно, принял к сведению, потому что сказал мне: «Ладно, иди с миром, поселись где-нибудь, брось браконьерствовать, работай, и все устроится». Вот я и пришел сюда. Друзья приняли меня, как видите, неплохо, дали мне приют до лучших дней. Надо, однако, подумать о самом необходимом — заработать маленько, какой ни на есть одежонкой обзавестись. Я еще засветло деревню обойду, попробую у добрых людей работы поискать.
— Послушайте, Жан! — сказал Эмиль, идя за ним следом, — Я не располагаю большими средствами — отец дает мне определенную сумму на содержание, но я не уверен, что и дальше будет так продолжаться, раз я живу при нем. Однако у меня осталось несколько сот франков; деньги эти мне здесь ни к чему, и я прошу вас их принять: вы оденетесь, и на хлеб насущный вам хватит. Вы очень меня огорчите, если откажетесь. Пройдет несколько дней, вы поостынете и убедитесь, что понапрасну досадуете на отца; тогда попросите у него работу или, еще лучше, поручите мне переговорить с ним; он заплатит вам больше всякого другого, и, я уверен, откажется от суровых условий, какие предложил вначале. Так что…
— Нет, господин Эмиль, — возразил плотник, — Ничего этого мне не надо: ни ваших денег, ни работы у вашего батюшки. Не знаю, как там господин Кардонне с вами обходится и как он вас содержит, но только знаю, что для молодого человека ваших лет стеснительно, когда в кармане нет золотой или серебряной монеты, чтобы при случае не отстать от других. Услуг вы мне оказали достаточно, премного вами доволен, представься мне только случай, вы убедитесь, что помогли человеку, который о благодарности не забывает. А чтобы вашему отцу служить — да никогда! Я чуть было не наделал глупостей, но господь бог не допустил! Нехорошо поступил ваш батюшка, приказав Кайо меня арестовать, но я ему прощаю: ведь он, может быть, и не знал, что Кайо мне крестником доводится. Но раз господин Кардонне написал про меня королевскому прокурору, чтоб меня не трогали, приходится про свою обиду позабыть. Да какая тут может быть обида, когда вы столько для меня сделали! Но строить ваши фабрики? Нет, спасибо!.. Вы в моих руках не нуждаетесь, у вас рабочих сколько угодно найдется, а почему я так поступаю, вам известно.
Плохое дело вы затеяли, людям на разорение, и не только здешним людям, а всей округе!.. Из-за ваших плотин да водохранилищ хиреют все мельницы, что расположены ниже по течению. Груды камня и земли, принесенные водой с вашей фабрики, испакостили все окрестные луга. Богач, видно, и против своей воли бедняку поперек дороги становится! Не хочу я, чтобы говорили, будто Жан Жапплу в разорении своих земляков повинен. Вы мне больше об этом не толкуйте. Лучше мне взяться за прежнюю работу, а в ней недостатка не будет.
Нынче из-за ваших фабрик в городе ни одного плотника не сыщешь: все у вас заняты. Их прежние заказчики перейдут по наследству ко мне. А когда у вас на фабрике с работой станет туго, я вашим плотникам этих заказчиков верну. Верьте мне: нынче ваш батюшка тем берет, что дорого платит рабочему, который трудится на него в поте лица. Но долго так не протянется, если господин Кардонне не желает прогореть. Придет день — и он, может быть, уже недалек! — когда господин фабрикант заставит их работать по дешевке, и горе тогда тем, кто, польстившись на его посулы, пожертвует своею свободой. Батюшка ваш согнет их в бараний рог, а им только и останется, что сдаться на милость хозяина.
Не верите? Тем лучше для вас! Значит, во всех этих проделках господина Кардонне вы не повинны. Но помешать — вы ничему не помешаете. Доброй ночи, сынок! А перед отцом за меня не хлопочите: могу вас подвести. Господь бог вызволил меня из беды, ему одному и стану я нынче угождать и постараюсь во всем слушаться голоса совести. Хоть я бедняк, но принесу пользы беднякам больше, чем ваш батюшка со всем его богатством. Я стану работать для тех, кто мне ровня, а им выгодней мне платить малую толику, чем загребать у вас на фабрике помногу. Вот увидите, господин Эмиль, да и все поймут, что я был прав. А когда ярмо на шее, раскаиваться уже поздно!
Как ни бился Эмиль, ему не удалось сломить упорство плотника, и он возвратился домой еще более грустный, нежели прежде.
Предсказания Жана Жапплу, этого неподкупного труженика, вызвали в нем безотчетный страх.
Неподалеку от фабрики он встретил отцовского письмоводителя господина Галюше — человека молодого, но уже разжиревшего, весьма способного по счетной части, однако во всех прочих отношениях совершенного тупицу.
Настал обеденный час, и Галюше воспользовался этим, чтобы поудить пескарей. То было его любимое занятие; наполнив корзину рыбой и пересчитав улов, он подытожил добычу этого дня и, приплюсовав ее к предшествующим, вытащил из воды удочку, с удовлетворением заметив:
— Семьсот восемьдесят два! Всего лишь за два месяца! И все этим вот крючком! Жаль, что я не вел пескарям учет в прошлом году!
Прислонившись к дереву, Эмиль наблюдал за рыболовом. Флегматическая невозмутимость и бездумное терпение Галюше бесили молодого Кардонне. Он не понимал, как можно чувствовать себя счастливым только потому, что тебе платят жалованье и ты не нищий. Он попытался завязать с Галюше беседу, в надежде обнаружить у того под слоем жира хоть проблеск чувства или мысли, способных скрасить унылое существование Эмиля под кровлей родительского дома. Но фабрикант обладал безошибочным глазом и редким нюхом в выборе служащих. Констан Галюше был, что называется, кретин: он не понимал ничего, не знал ничего, кроме арифметики и счетоводства. После двенадцати часов корпения над цифрами у него едва хватало смекалки для ловли пескарей.
Все же Эмилю удалось вытянуть из Галюше несколько слов, озаривших отцовские дела самым мрачным светом. Этот человек-машина умел вычислить прибыли и убытки и подвести баланс внизу страницы. Обнаруживая блистательное неведение относительно планов и материальных возможностей своего хозяина, Констан заметил, однако, что заработная плата рабочих чрезмерно высока и, если в течение двух месяцев она не будет снижена наполовину, наличных капиталов не хватит, чтобы покрыть расходы.
— Но пусть ваш батюшка не беспокоится, — добавил он. — Коня кормят по той работе, какую с него спрашивают. Так же платят и рабочему: удваивают работу — удваивают и плату за труд, словно лошади порцию овса! А когда дело не к спеху, соответственно снижают рацион в кормушке.
— Но отец не сделает этого! — возразил Эмиль. — Он может поступить так с лошадьми, но не с людьми.
— Ну, не скажите, сударь, — возразил Галюше. — У вашего батюшки есть голова на плечах: будьте спокойны, глупостей он не натворит.
И он ушел, таща своих пескарей, в полном восторге от того, что ему удалось успокоить сына, встревоженного мнимой неосмотрительностью отца.
«Неужели это верно? — размышлял Эмиль, взволнованно шагая по берегу реки. — Неужели минутное великодушие отца скрывает бесчеловечные расчеты? Неужели Жан прав? Неужели отец, слепо повинуясь законам общества, не превосходит какого-нибудь прожженного дельца ни добродетелями, ни просвещенностью, могущими смягчить разрушительные последствия его честолюбия? Нет, нет! Этого не может быть!.. Отец добр, он любит людей!»
Эмиль был убит горем. Он как бы обозрел всю деятельность отца, всю его жизнь, оправдываемую будущим благополучием сына, — и отпрянул в ужасе и отвращении. Он спрашивал себя: как может он не внушать ненависти всем этим труженикам, работающим на него, богача? И сам он, во имя справедливости, готов был себя возненавидеть.
В глубокой тоске проснулся поутру Эмиль, и все же ему радостно было сознавать, что, посвятив часть наступившего дня господину де Буагильбо, остальное время он втайне от домашних, как и задумал накануне, проведет в Шатобрене.
Когда он садился на лошадь, господин Кардонне насмешливо окликнул его:
— Рано же ты собрался к господину Буагильбо! Как видно, беседа с учтивым маркизом имеет для тебя неотразимую прелесть. Вот бы никогда не подумал! Каким это чудом ухитряешься ты не заснуть между двумя его фразами?
— Отец, если вы хотите дать этим мне понять, что намерения мои вам не по душе, — сказал раздосадованный Эмиль, собираясь соскочить с лошади, — я готов от них отказаться, хотя и приглашен к маркизу на обед.
— Не по душе? — переспросил фабрикант. — Мне совершенно безразлично, где ты будешь скучать — у Буагильбо или еще где-нибудь. Поскольку ты томишься все более в отчем доме, я ничего не имею против того, чтобы ты развлекался в дворянских домах.
При всяких иных обстоятельствах Эмиль отложил бы поездку, чтобы доказать, сколь незаслужен этот упрек; но он начал разгадывать тактику отца, который нарочно поддразнивал его, желая вызвать на разговор. К тому же непреодолимая сила влекла Эмиля в Шатобрен, и он решил не поддаваться на уловки господина Кардонне. Хотя насмешки близких людей были всегда мучительны для юноши, он постарался сделать вид, что ничего не заметил.
— Если бы меня действительно ждали в замке Буагильбо одни только удовольствия, — возразил он, — то, поверьте, я не избрал бы самого дальнего пути и не делал бы крюк в пять-шесть лье, как школьник, отлынивающий от уроков. Но если я вам нужен, батюшка, я охотно пожертвую прелестями скачки по косогорам, да еще в самый солнцепек.
Но эта военная хитрость не обманула господина Кардонне; бросив на сына острый, пронизывающий взгляд, он ответил:
— Поезжай, куда тебя влечет демон молодости! Я спокоен, у меня есть к тому основания.
«Ну что ж! — подумал Эмиль, пуская лошадь галопом. — Если вы спокойны, то и меня не особенно тревожат ваши угрозы».
И, чувствуя, как в груди его закипает невольный гнев, он, ища успокоения, поднял Вороного в карьер.
«Боже! — взмолился спустя несколько минут Эмиль. — Прости мне эти порывы досады, которых я не могу подавить. Тебе ведомо, что сердце мое исполнено любви и уважения к отцу, но ты видишь, как он утесняет все мои сердечные порывы и леденит мою нежность!»
То ли из-за нерешительности, то ли из предосторожности, Эмиль не сразу направился в Шатобрен, сделав сначала довольно большой крюк. Но когда с вершины холма перед ним вдалеке, на краю горизонта, открылись развалины замка, он почувствовал такое острое сожаление о потерянном времени, что вонзил шпоры в потные бока Вороного, стремясь поскорее доскакать до места.
Летя напрямик к заветной цели, Эмиль десятки раз был на волосок от гибели, он перепрыгивал через рвы, пронесся вскачь по самому краю пропасти и через полчаса очутился на берегу Крёзы. Его окрыляло страстное желание, в котором он, однако, не решался себе признаться.
«Я не люблю ее, — твердил он. — Я едва с нею знаком, как же могу я ее любить? Да и напрасно было бы любить ее! Не она привлекает меня и не ее добрейший отец, но этот романтический уголок, где все дышит покоем, счастьем и безмятежностью! Я нуждаюсь в зрелище чужого счастья, чтобы позабыть, что у меня нет и никогда не будет своего!»
По дороге Эмиль увидел Сильвена Шарассона, который деловито вымачивал в Крёзе какую-то лозу. Мальчуган бросился к нему навстречу и радостно сообщил:
— Господина Антуана нет дома. Он отправился на ярмарку продавать баранов, целых шесть голов. Но мамзель Жанилла дома и мамзель Жильберта тоже.
— Я им не помешаю, надеюсь?
— Нет, что вы, господин Эмиль! Они рады будут вас видеть, они ведь частенько за обедом с господином Антуаном про вас говорят. Они вас очень уважают!..
— Возьми мою лошадь, — сказал Эмиль. — Я пешком скорей доберусь.
— Верно, верно, — подтвердил мальчуган. — Стойте-ка! Идите вон туда, по старой тропке. Подальше будет лаз, и оттуда можно спрыгнуть прямо во двор — там невысоко. Жан всегда этой дорожкой ходит.
Эмиль бесшумно соскочил в густую траву и подошел к квадратному флигелю, даже не вспугнув двух коз, поглядевших на него как на старого знакомого.
Сударь, он же Разбойник, подобно своему хозяину, не был гордецом, хотя и принадлежал к благородной породе охотничьих псов; в случае надобности он не брезговал обязанностями овчарки и сейчас помогал господину Антуану гнать на ярмарку баранов.
Подойдя к дому, Эмиль ощутил вдруг сильнейшее сердцебиение, которое приписал быстрому подъему по скалистому косогору. Он вынужден был остановиться, чтоб прийти в себя и предстать перед хозяйками Шатобрена в пристойном виде. Из комнаты доносилось жужжание веретена, и никогда еще никакая музыка не звучала пленительней для слуха юноши. Но вот глухое жужжание прялки оборвалось, и он услышал голос Жильберты:
— А ведь право, Жанилла, в те дни, когда батюшка уезжает, меня ничто не веселит. Хорошо еще, что ты со мною, а то я, наверно, не знала бы, куда деваться от скуки.
— Работай, доченька, работай! Это самое верное средство против скуки, — ответила Жанилла.
— Да ведь я работаю, а все же мне ничуть не весело. Я прекрасно знаю, что вовсе не обязательно все время развлекаться. Но когда батюшка с нами, мне всегда радостно, я готова целый день смеяться, прыгать… Согласись, матушка, что, если б нам пришлось жить в разлуке с ним, мы бы забыли, что такое веселье и радость. О, жить без батюшки! Да это немыслимо! Лучше уж сразу умереть!
— Ну вот, нечего сказать, хорошая мысль! — возразила Жанилла. — Боже упаси! Что только тебе в голову приходит? Отец твой еще молод и, слава богу, здоров. С чего это на тебя такая дурь нашла? Вот уже дня два-три, как я замечаю…
— Дня два-три?
— Ну да, три, даже четыре! Ты уж который раз загадываешь, что с нами будет, если мы — не приведи господи! — лишимся твоего добрейшего отца.
— Если мы его лишимся? — воскликнула Жильберта. — Ах, не говори так, я вся дрожу. У меня этого и в мыслях не было! Ах, нет! Я и подумать не могу!
— Ну вот, ты уж и в слезы! Ты что же, хочешь, чтоб и матушка Жанилла разревелась по твоей милости? Вот так-так! Нечего сказать, обрадуется господин Антуан, когда, вернувшись, увидит, что у тебя глаза красные! Еще, чего доброго, и сам заплачет, с него станется! Идем, дитя мое, ты сегодня почти не гуляла; убери шерсть и пойдем покормим кур. Ты рассеешься, поглядишь на хорошеньких куропаточек, которых вывела твоя любимица Белянка.
И Жанилла заключила беседу материнским поцелуем. Опасаясь, что его застигнут под дверью, юноша поспешно отошел и слегка кашлянул, желая предупредить радушных хозяек о своем присутствии.
— Ах! — воскликнула Жильберта. — Кто-то пришел! Какое счастье! Это, наверно, батюшка!
И она, не раздумывая, бросилась к дверям с такой поспешностью, что, столкнувшись с Эмилем на пороге, чуть не упала ему на грудь. Но как ни велико было ее смущение, когда она увидела свою ошибку, оно не шло ни в какое сравнение с замешательством Эмиля. Со свойственной ей непосредственностью Жильберта звонко расхохоталась и таким образом вышла из затруднительного положения, тогда как юноша, при мысли, что он едва не очутился в объятиях, предназначенных другому, потерял всякое самообладание.
Девушка была так хороша, глаза ее, еще влажные от слез, и звонкий ребяческий смех были так пленительны, что очарованный Эмиль уже перестал сомневаться в том, какая сила влекла его в Шатобрен: добряк Антуан, живописные руины или прелестная Жильберта.
— Ну вот, — сказала Жанилла, — чуть не напугали нас! Милости просим, господин Эмиль, как говорит хозяин. Господин Антуан скоро будет. А пока что не мешает вам с дороги выпить чего-нибудь холодненького — я спущусь в погреб и нацежу вина.
Эмиль удержал ее за рукав.
— Если вы в погреб, — возразил он, — так и я с вами. Пить я не хочу, но я не прочь взглянуть на ваше знаменитое подземелье: вы рассказывали, что оно такое глубокое и мрачное…
— Сейчас не ходите, — запротестовала Жанилла, — вы разгорячились, а там холодно. Ну да, разгорячились! Раскраснелись, словно маков цвет. Передохните минутку, а до прихода господина Антуана мы еще покажем вам и погреба, и подземелья, и весь замок: ведь вы его и не разглядели как следует, хоть он того стоит! Еще бы! Иной раз издалека приезжают, чтобы замком полюбоваться! И уж так надоедают нам! Дочурка уходит тогда к себе в комнату и сидит за книгой, пока тут любопытные бродят. Но господин Антуан им не запрещает. «Пускай, говорит, осматривают!» Особенно если люди приезжают издалека. «Когда владеешь таким любопытным местечком, — говорит господин Антуан, — надо и другим дать возможность им полюбоваться».
Сказать по совести, Жанилла приписывала господину Антуану свои собственные доводы, которые ловко сумела ему внушить. Дело в том, что, показывая развалины, она выручала кое-какую мелочь и тайком тратила ее, как и все свои личные сбережения, на нужды семьи Шатобрен.
Эмиль, которому настойчиво предлагали попробовать чего-нибудь холодненького, согласился выпить стакан воды, и так как Жанилла вызвалась сходить к источнику, он остался наедине с Жильбертой.
XV Ступени
Если опытный повеса радуется нежданной удаче, позволившей ему остаться наедине с предметом своих искательств, то целомудренный, искренне увлеченный юноша, напротив, испытывает смущение, почти испуг, когда ему впервые выпадает такой счастливый случай.
Так произошло и с Эмилем Кардонне. Жильберта внушала ему глубокое уважение, он боялся поднять на нее глаза или чем-либо обмануть оказанное ему доверие.
Наивная, как дитя, Жильберта не испытывала ни малейшего замешательства. Мысль, что Эмиль может воспользоваться ее неопытностью и беззащитностью и допустит, хотя бы на словах, какую-нибудь вольность, даже не возникала в ее благородной и невинной головке. Святое неведение охраняло Жильберту от подобных опасений. Итак, она первая нарушила молчание, и голос ее, словно по волшебству, вернул покой взволнованным чувствам юного гостя. Бывает иногда голос столь задушевный и пленительный, что достаточно услышать его, и ты, еще не видя, уже полюбил того, кому он принадлежит и чей характер выражает так полно. Именно такой голос и был у Жильберты. Слушая, как она разговаривает, смеется или поет, каждый чувствовал, что в душе ее никогда не возникало ни дурной, ни унылой мысли.
Что трогает и чарует нас в пении птиц? Не столько мелодия, чуждая всем условностям музыки, и не поразительная переливчатость и мощь, но прежде и больше всего — та особая безыскусность и простота, о которых ничто не напоминает в человеческой речи. Всякий, слыша Жильберту, признал бы, что ее голос подтверждает это сравнение и что самые обычные слова, слетающие с ее уст, приобретают более глубокий смысл.
— Сегодня утром мы видели нашего друга Жана, — сказала Жильберта, — пришел на рассвете и забрал с собою весь отцовский инструмент! Нынче Жан работает первый день; он уже получил заказы, и мы надеемся, что недостатка в них не будет. Он посвятил нас во все, что вы для него сделали и что ему предлагали вчера вечером. Поверьте мне, сударь, если отказ его был, возможно, высокомерен и даже грубоват, он от всей души благодарен вам.
— Я так мало мог для него сделать, что мне даже неловко вас слушать, — возразил Эмиль, — Особенно грустно, что из-за своего упорства он лишается постоянного заработка: ведь положение его еще очень непрочно. На шестом десятке сызнова начинать трудовую жизнь, и к тому же на голом месте, не имея ни крыши над головой, ни одежды, ни даже необходимого инструмента, — согласитесь, мадемуазель, разве это не страшно?
— По-моему, не страшно, — ответила Жильберта. — Когда я росла, мы жили всегда сегодняшним днем, вот потому-то я, наверно, и усвоила эту счастливую беззаботность бедности. Возможно, у меня просто такой характер или же меня успокаивает беспечность Жана, но только сегодня поутру никто из нас не ощутил ни малейшего беспокойства. Жану так мало нужно! Он воздержан и вынослив, как дикарь. Лучше всего он чувствовал себя, когда целых два месяца скитался по лесу и часто ночевал под открытым небом. Он уверяет, что зрение у него стало за эти месяцы острее, что к нему возвратилась молодость и, если бы лето длилось вечно, он никогда бы не вернулся в деревню. Но в глубине души Жан питает непреодолимую любовь к родимым местам, и, потом, он не способен долго наслаждаться бездельем. Только нынче утром мы уговаривали его остаться в Шатобрене и жить, как мы, не заботясь о завтрашнем дне. «Места у нас много и материала на постройку жилья тоже хватит, — говорил ему батюшка, — в камне и дереве недостатка не будет. Я помогу тебе отстроиться, как ты в свое время помог мне». Но Жан отказался. «Вот еще! — сказал он. — Что же я буду делать, живя тут с вами по-господски? Ренты у меня нет, а жить на ваш счет не хочу… Кто знает, быть может, я лет тридцать еще протяну! Будь даже вы и богаты, все равно я умер бы с тоски. Это для вас хорошо, господин Антуан, потому что вы для безделья воспитаны были. Хоть вы и не лодырь — это все знают, — но вернуться к барским привычкам вам ничего не стоит. А мне тогда ни скрываться, ни охотиться больше не придется. Значит, так и сидеть сложа руки? Право, недели не пройдет, как я свихнусь!»
— Да, — сказал Эмиль, вспомнив отцовскую теорию непрестанного труда и не знающей отдыха старости. — У Жана никогда не будет потребности в свободе, хотя во имя своей предполагаемой свободы он приносит столько жертв.
— Как! — удивленно воскликнула Жильберта. — Разве свобода и безделье одно и то же? Не думаю! Жан горячо любит работу, и для него свобода в том, чтобы делать любимое дело. И когда работа ему по вкусу и требует выдумки, он отдается ей с еще большим пылом.
— Вы правы, мадемуазель Жильберта, — с внезапной грустью сказал. Эмиль. — В этом-то все и дело! Человек рожден для того, чтобы постоянно трудиться, но трудиться соответственно своим склонностям и в той мере, в какой работа доставляет ему удовлетворение. Ах, зачем я не умею плотничать! С какой радостью я работал бы вместе с Жаном Жапплу, отдавая заработок этому мудрому и бескорыстному человеку!
— Ну вот, сударь, — сказала Жанилла, возвращаясь с глиняным кувшином, который она несла на голове, желая показать свою ловкость. — Вы говорите совсем как господин Антуан! Ведь он собрался было нынче утром, под стать прежним временам, идти вместе с Жаном в Гаржилес на поденную работу. Голубчик мой! До чего только его доводит доброта! «Довольно, говорит, ты помогал мне зарабатывать; теперь я хочу помочь тебе. Не желаешь ты разделить со мною стол и кров, так, по крайней мере, бери себе мой заработок, потому что мне он лишний». И что же вы думаете? И пошел бы! Это в его-то годы и с его положением идти обтесывать такие огромные бревна!
— А зачем ты ему помешала, матушка Жанилла? — взволнованно произнесла Жильберта. — И зачем Жан отказывался? Батюшка не стал бы чувствовать себя оттого хуже, а одним благородным поступком в его жизни было бы больше! Ах, почему я не могу взять в руки топор и сделаться подручным у человека, который так долго был кормильцем моего отца! А я, ничего не подозревая, послушная вашей воле, училась в это время петь и рисовать! Ах, вот уж подлинно — женщины ни на что не годны!
— Как, как это женщины ни на что не годны? — воскликнула Жанилла. — Вот что я тебе скажу: давай-ка полезем вдвоем на крышу, станем обтесывать бревна и укладывать балки. Правда, правда! Я хоть и стара и ростом не вышла, справлюсь с этим куда лучше твоего! Тем временем наш господин Антуан, у которого руки что крюки, пусть сядет за прялку, а Жан возьмется чепчики гладить!
— Ты права, матушка, — ответила Жильберта. — Шерсть на веретено намотана, а я сегодня еще ничего не напряла. Надо поторопиться, тогда еще до холодов успеем приготовить сукно на теплую одежду Жану. Начну-ка я работать, наверстаю потерянное время. Но все же помни, что аристократка — это ты! Ведь ты ни за что не хочешь, чтобы отец снова стал рабочим, хоть ему это и по душе.
— Так знайте же, — доверительно и торжественно произнесла Жанилла, — что из господина Антуана так и не вышло хорошего плотника. Охота у него была, но сноровки недоставало, и если я позволяла ему работать, так только для того, чтобы он не скучал и не отчаивался. Спросите-ка Жана, как ему, бедняге, доставалось: он бы вдвое быстрее сам все сделал, чем после этакого подручного подправлять. А вид у нашего хозяина был такой, словно он горы сворачивает. Заказчики были довольны и платили хорошо, но, поверьте, мне в те времена покоя не было. Я не жалуюсь, только вечно я дрожала, как бы господин Антуан не промахнулся, когда бьет по бревну, или не свалился с лестницы, не повредил себе руку или ногу, а то он по свей рассеянности, бывало, расположится на стропилах, словно дома у камелька…
— Ты пугаешь меня, Жанилла! — воскликнула Жильберта. — Ах! В таком случае хорошо, что ты своими насмешками отбила у батюшки охоту снова браться за плотничье ремесло. Ты, как всегда, оказалась нашим добрым провидением.
Жильберта была ближе к истине, чем полагала. В жизни ее отца Жанилла играла роль ангела-хранителя.
Не будь она так осмотрительна, по-матерински деспотична и проницательна, этот превосходный человек вряд ли сумел бы пройти сквозь все невзгоды жизни, ни в чем не отступив от нравственных правил. Во всяком случае, ему не удалось бы сохранить ни внешнего своего достоинства, ни благородства и чистоты врожденных склонностей. Слишком много в нем было смирения, слишком часто он забывал свои интересы. Излишне откровенный и расточительный, он легко потерял бы меру, усвоил бы не только достоинства простого народа, но и его недостатки. И тогда он, быть может, в какой-то мере действительно заслуживал бы то презрение, с каким давали себе право относиться к нему глупые и тщеславные выскочки.
Но с помощью Жаниллы, которая, не противореча ему открыто, умела поддержать в нем душевное равновесие и уберечь от излишеств, он вышел из этого испытания с честью, не потеряв ни уважения, ни признания людей разумных.
Беседа то и дело прерывалась, заглушаемая жужжанием веретена: Эмиль улавливал лишь отрывистые фразы. Жильберта усердно взялась за работу, решив закончить ее. Но, видимо, не только благородная цель, которую она перед собою поставила, заставляла ее трудиться с таким пылом. Она настойчиво советовала Эмилю пойти с Жаниллой и осмотреть развалины замка, вместо того чтобы слушать однообразное жужжание прялки, но, поскольку Жанилла тоже хотела сначала разделаться со своей пряжей, Жильберта, не отдавая себе в том отчета, торопилась вдвойне, спеша закончить работу одновременно с нею, чтобы принять участие в прогулке.
— Мне стыдно, что один я бездельничаю, — заявил Эмиль, не решаясь пристально глядеть на прекрасные руки и изящные движения юной пряхи из опасения встретиться со взглядом маленьких пронзительных глазок Жаниллы. — Не найдется ли у вас и для меня какой-нибудь работы?
— А что вы умеете делать? — улыбаясь, спросила Жильберта.
— Надеюсь, все, что умеет Сильвен Шарассон.
— Я послала бы вас полить салат, — рассмеявшись, сказала Жанилла, — но это лишит нас вашего общества. Может быть, вы заведете часы? Они остановились.
— Вот уже три дня, как они стоят, — заметила Жильберта, — и я ничего с ними не могу поделать. Я думаю, там что-нибудь сломалось.
— О, это как раз по моей части! — воскликнул Эмиль. — Я ведь немного изучал механику — правда, не скажу чтобы с очень большой охотой. Но вряд ли эту кукушку так уж сложно починить.
— А вдруг вы совсем их поломаете? — возразила Жанилла.
— Ну и пусть, раз это доставит ему удовольствие, — с добродушным видом сказала Жильберта; в эту минуту она особенно напоминала снисходительного и беспечного господина Антуана.
— Если такова их участь, я готов, с вашего позволения, их сломать, но при условии, конечно, что заменю другими, — ответил Эмиль.
— Ну уж нет! — сказала Жанилла. — Если сломаете, я хочу получить точно такие же: не надо мне ни лучших, ни больших, нам и эти вполне годятся! Бой у них звонкий и не слишком оглушительный.
Эмиль принялся за работу; он разобрал немецкие часы с кукушкой и убедился, что они просто слегка запылились внутри. Склонившись над столом, неподалеку от Жильберты, он вычистил и старательно собрал несложный механизм, перебрасываясь с обеими женщинами шутливыми замечаниями, что придавало беседе дружескую непринужденность.
Говорят, что душа открывается за общей трапезой, но не скорее ли душевная близость возникает во время совместной работы?
Все трое испытали это сейчас: под конец они почувствовали себя как бы членами единой семьи.
— И впрямь это по вашей части, — сказала Жанилла, видя, что ее любимые часы снова пошли. — Чем вы не часовщик? А теперь можно и прогуляться. Только я прежде зажгу фонарь. Мы спустимся с вами в подземелье.
— Сударь, — заговорила Жильберта, когда Жанилла вышла, — вы сказали сейчас, что предполагаете обедать у господина де Буагильбо. Какое впечатление произвел на вас этот человек?
— Затрудняюсь определить, — ответил Эмиль. — Холодность так странно сочетается в нем с привлекательностью, что сразу его не распознаешь. Надо еще и еще раз его повидать, и понаблюдать, и поразмыслить, прежде чем разгадаешь такого чудака. А вы с ним незнакомы? Может быть, вы поможете мне его понять?
— Я совсем его не знаю; раз или два видела мельком, хотя мы и соседи. Очень хотелось бы взглянуть на маркиза — я столько о нем наслышалась! Но всякий раз, проезжая мимо нас с отцом, он, бывало, поклонится, не подымая глаз, словно не знает, кто мы такие, пришпорит своего коня и унесется галопом, будто желая скрыться в облаке пыли, взметенной копытами лошади.
— Значит, несмотря на столь близкое соседство, господин де Шатобрен вовсе не поддерживает отношений с маркизом?
— Да. И это так удивительно! — с доверительным и наивным видом произнесла вполголоса Жильберта. — Но вам я могу об этом рассказать, господин Эмиль: мне почему-то кажется, что вы сумеете пролить свет на эту тайну. В молодости батюшку связывала с господином де Буагильбо самая задушевная дружба. Мне это известно, хотя он никогда об этом не говорит, а Жанилла упорно отмалчивается, когда я ее расспрашиваю. Но Жан, который, правда, не больше меня знает о причинах разрыва, не раз говорил мне, что когда-то они были неразлучны. Поэтому я всегда и считала, что господин де Буагильбо вовсе не такой гордец и не такая ледышка, как это кажется: батюшка, с его живым, веселым нравом, не мог бы испытывать расположение к человеку высокомерному и черствому. Признаюсь, я не раз слышала, как отец, полагая, что меня нет поблизости, делился с Жаниллой своими мыслями о маркизе. Батюшка утверждал, что единственное непоправимое несчастье его жизни — это потеря привязанности господина де Буагильбо; что он останется безутешным до гроба и готов без колебания пожертвовать глазом, рукою или ногой, лишь бы вернуть дружбу маркиза. Жанилла упрекала его за эти безрассудные, по ее мнению, жалобы и советовала никогда не делать ни малейшей попытки к примирению, так как она слишком хорошо знает господина де Буагильбо и может поручиться, что он никогда не забудет причины их ссоры! «Ну что ж, — возразил однажды батюшка, — я предпочел бы объяснения, упреки, даже поединок в ту пору, когда силы наши были еще примерно равны, — все что угодно, но только не это неумолимое молчание и ледяное упорство, которые разрывают мне сердце. Нет, нет, Жанилла, никогда я с этим не примирюсь, и, если перед смертью мне не удастся пожать ему руку, я умру, сожалея, что жил на свете!» Жанилла всегда старается отвлечь его от этих мыслей, и не без успеха, потому что у батюшки живая и привязчивая натура: он не способен огорчать близких своей печалью. Но вы, господин Эмиль, — горячо любящий сын, и вы, конечно, поймете, как тяготит мою душу тайная скорбь отца с той поры, как я угадала ее. Право, чего бы я только не сделала, лишь бы избавить батюшку от печали. Уже год я все думаю об этом, и раз двадцать мне снилось, будто я еду в Буагильбо, бросаюсь к ногам этого сурового человека и говорю ему: «Мой отец — лучший из людей и преданнейший вам друг. Невзирая на злую судьбу, он счастлив благодаря своим добродетелям. Одно печалит его, и печалит глубоко, но стоит вам сказать лишь слово — и вы исцелите его!..»
Он же всякий раз отталкивает меня и в ярости выгоняет вон. В страхе я просыпаюсь, а однажды ночью, когда я крикнула во сне его имя, Жанилла подошла ко мне и, крепко обняв, сказала: «Зачем ты поминаешь его? Злой это человек. Но он над тобою не властен, да и над отцом твоим тоже!»
Из этого я заключила, что Жанилла его ненавидит. Но стоит ей сказать хоть слово противу господина де Буагильбо, батюшка горячо становится на его защиту. Что произошло между ними? Может быть, пустяк, ребяческая обида? Возможно, они поссорились из-за охоты, так, по крайней мере, полагает Жан Жапплу. Если это верно, нельзя ли их примирить? Господин де Буагильбо и батюшке тоже снится. Иной раз после ужина, когда батюшка задремлет на стуле, он в глубокой тоске повторяет это имя. Господин Эмиль, я полагаюсь на ваше великодушие и осмотрительность: быть может, вам удастся хоть что-нибудь выведать у господина де Буагильбо! Я дала себе слово при первой же возможности попытаться примирить двух друзей, некогда так любивших друг друга. Если бы Жан действительно вошел в милость к маркизу, я бы понадеялась на его смелость и природный ум. Но и он, подобно отцу, жертва прихоти господина де Буагильбо; вы один можете прийти мне на помощь!
— Поверьте, отныне я буду неуклонно стремиться к этой цели, — горячо ответил Эмиль.
Но стук деревянных башмаков по каменным плитам возвестил о возвращении Жаниллы, и Эмиль поспешил вскарабкаться на стул, якобы с целью укрепить маятник; на самом же деле он не хотел, чтобы старушка заметила радостное волнение, пробужденное в нем доверием Жильберты.
Девушка тоже была взволнована. Ей пришлось собрать все свое мужество, чтобы открыться едва знакомому юноше: не так уж она была ребячлива и по-деревенски простодушна, чтобы не понимать, что поведение ее противоречит правилам приличия. При своей прямоте Жильберте тяжело было таиться от Жаниллы. Но она говорила себе, что намерения ее чисты, а Эмиль не способен злоупотреблять ее доверием. Она взглянула на входящую в комнату Жаниллу, и впервые в жизни в ней пробудилась врожденная женская хитрость. Чувствуя, что лицо у нее горит, Жильберта нагнулась, делая вид; будто разыскивает иголку, которую она с умыслом уронила на пол.
Таким образом проницательная старуха была введена в заблуждение двумя детьми, весьма мало искушенными в житейских вопросах, и все трое весело отправились осматривать подземелье.
Оно было расположено непосредственно под квадратным флигелем: крутые ступени, высеченные прямо в скале, спускались вниз на головокружительную глубину. Жанилла, привыкшая исполнять обязанности чичероне у приезжавших в Шатобрен туристов, смело шествовала впереди. Эмиль шел за нею следом, прокладывая дорогу Жильберте, за каждый шаг которой трепетала Жанилла, хотя девушка легко и безбоязненно пробиралась вперед.
— Осторожней, крошка, — ежеминутно выкрикивала домоправительница. — Господин Эмиль, поддержите Жильберту, а то она упадет! Она такая рассеянная, вся в батюшку! Это у них в роду. Просто младенцы какие-то! Хорошо, что я с них глаз не спускаю, а то бы они давным-давно поубивались!
Эмиль был счастлив своею новой ролью опекуна. Он устранял с пути Жильберты осыпавшиеся камни и, так как спуск становился все более и более неровным и трудным, счел себя вправе предложить девушке руку, которая сначала была отвергнута, а затем по необходимости принята.
Кто сумеет описать страстное опьянение первой любви, овладевшей мужественной душой? Почувствовав в своей руке руку Жильберты, Эмиль затрепетал и уже не в силах был отвечать на шуточки своих спутниц. Жильберта вначале дурачилась, но мало-помалу, охваченная все возрастающим смущением, умолкла, не находя слов.
Они прошли рука об руку всего с десяток ступеней, однако время остановилось для Эмиля, и когда позже, бессонной ночью, он вызывал в памяти эти минуты, они представлялись ему вечностью.
Вся предшествующая жизнь вдруг показалась юноше каким-то сновидением, а сам он словно преобразился. Вспоминались ли ему дни детства, годы, проведенные в коллеже, горести и утехи студенческих лет — он чувствовал себя бесконечно далеким от того покорного, скованного существа, каким был до сих пор. Нет, другой Эмиль — с душою, озаренной любовью к Жильберте, — шествовал по жизни, и сама эта жизнь озарена была светом нового дня! Он видел себя ребенком, видел запальчивым школьником, мечтательным и беспокойным студентом, и эти образы, столь различные между собой, как и этапы его жизни, сливались теперь в его представлении в единый образ — образ существа, отмеченного судьбой, победно шествовавшего навстречу тому дню, когда руке Жильберты суждено было очутиться в его руке!
Лестница выводила к подножию холма, на вершине которого стоял замок. То был запасной выход на случай осады, и Жанилла не скупилась на похвалы этому искусному и сложному сооружению.
Хотя старушка и жила как ровня с господами Шатобрен и ни за какие блага мира не согласилась бы расстаться с ними — так она дорожила своими правами, — она, как это ни странно, была одержима феодальными предрассудками. Жанилла до такой степени отождествляла себя с развалинами Шатобрена, что в конце концов привыкла безоговорочно восхищаться прошлым, о котором, по правде говоря, имела довольно смутное представление. А может быть, зная, что перед нею сын богатых буржуа, старушка считала своим долгом сбить с него спесь, без устали превознося былое могущество предков Жильберты.
— Поглядите-ка, сударь, — твердила она, водя Эмиля по мрачным подземельям, — вот где усмиряли непокорных! Здесь еще видны железные цепи, которыми приковывали узников к стене. А вот в этом подземелье, говорят, огромная змея сожрала трех бунтовщиков! У прежних господ водились такие змеи. А сейчас мы вам покажем тайники. Тут уж было не до шуток! Повидали бы вы их до революции, вам бы и в голову не пришло смеяться, не раз со страху перекрестились бы…
— К счастью, нынче можно тут и посмеяться да и позабыть об этих чудовищных преданиях! — воскликнула Жильберта. — Благодарение богу, я родилась в такое время, когда все это кажется недобрым сном. Я люблю наше старое гнездо таким вот безобидным, утратившим свой грозный облик. Ты ведь знаешь, Жанилла, что отвечает отец жителям Кюзьона, когда они приходят к нему просить камень для постройки: «Берите, дети мои, берите! Впервые он послужит доброму делу!»
— Все равно! — сказала Жанилла. — Что ни говори, а только вы были первыми в округе господами — это чего-нибудь да стоит.
— Тем больше радуешься, ощущая свое равенство со всеми и зная, что никому больше не внушаешь страха.
— Да, вот этим можно гордиться, вот такому счастью я завидую! — воскликнул Эмиль.
XVI Талисман
Если б неделей раньше Жильберте сказали, что наступит день, когда ее сердечный покой будет возмущен еще не изведанным чувством, и мало того, что в кругу ее привязанностей наряду с отцом, Жаниллой и Жаном появится молодой незнакомец, но что это новое имя решительно потеснит дорогие ей имена, она испугалась бы и не поверила.
И, однако, она смутно ощущала, что отныне образ стройного юноши с черными кудрями и пламенным взором будет сопровождать ее на каждом шагу, преследовать даже во сне.
Она пыталась бежать этой роковой неизбежности, но тщетно. Нежная, целомудренная душа Жильберты медлила отдаться овладевшему ею опьянению, и все же оно завладело ею с той самой минуты, когда рука Эмиля дрогнула и затрепетала, коснувшись ее руки.
Неведомое, таинственное могущество любви! Против него бессильны все заклятья, оно подчиняет себе иных прежде, нежели они успеют спохватиться и приготовиться к обороне или нападению.
Первое прикосновение этого скрытого пламени слегка взволновало Жильберту, но пока что она шутливо играла с огнем. Безмятежная ясность ее души еще не была потревожена, и, если Эмилю уже приходилось делать над собою усилие, чтобы скрыть волнение, Жильберта по-прежнему непринужденно улыбалась и болтала; но грусть, охватившая ее при отъезде Эмиля, и нетерпение, с каким она поджидала, когда он снова появится, подсказали ей, что присутствие этого юноши отныне стало для нее властной необходимостью.
Жанилла ни на минуту не оставляла их одних, но как-то так получалось, что их беседа неприметно переходила на предметы, в которых старушка, при всей живости и остроте своего ума, мало что смыслила.
Жильберта получила образование достаточно основательное — насколько это возможно для девушки, воспитанной в парижском пансионе; надо признать, что в большинстве женских учебных заведений за последние двадцать лет произошли большие перемены. К руководству пришли женщины просвещенные, здравомыслящие и прекрасно воспитанные, а люди с именем, нисколько не боясь уронить своего достоинства, соглашались читать этой проницательной и умной половине рода человеческого курс истории, литературы, преподавали начатки естественных наук и математики.
Жильберта имела некоторое понятие о том, что принято называть изящными искусствами; однако, всецело подчиняясь родительской воле, она все же обращала преимущественное внимание на развитие своих более серьезных наклонностей.
С первых же дней она решила, что в их скромной, уединенной жизни изящные искусства вряд ли ей пригодятся, что работа по дому отнимет слишком много времени, и, если рукам ее суждено трудиться, надо образовать свой ум, чтобы не терзаться впоследствии духовной пустотой и бесплодным воображением. Такое направление дала ей классная наставница, достойнейшая женщина, с которой Жильберта подружилась, сделав ее поверенной своей изменчивой судьбы. Девушка оценила ее мудрые советы и послушно им следовала.
Однако наслаждение, с юных лет доставляемое Жильберте науками, духовным развитием, стало причиной ее страданий с той поры, как, поселившись среди развалин Шатобрена, она оказалась без книг. Если бы только господин Антуан мог догадаться о желании дочери, он пошел бы на любые жертвы и достал ей книги. Но, видя, как ограничены их средства, и боясь, что отец ради ее прихоти лишит себя необходимого, девушка остерегалась даже упоминать о книгах.
Жанилла, решив раз и навсегда, что ее «дочка» достаточно «ученая», и приписывая Жильберте свою собственную склонность к нарядам, которая самым странным образом уживалась в ней с мелочной экономией, тратила все свои скромные сбережения на «туалеты» своей воспитанницы, и у девушки появлялось то кисейное платье, то какое-нибудь кружевце.
Принимая эти скромные подношения, Жильберта всякий раз выказывала радость, чтобы не отравить доброй старушке удовольствие. Но про себя она вздыхала при мысли, что вместо этих тряпок, за ту же скромную цену, можно было бы приобрести хорошую книгу по истории или томик стихов.
В свободные часы девушка без конца перечитывала те немногие книги, которые привезла из пансиона, хотя знала их почти наизусть.
Раза два ей удалось под каким-то вымышленным предлогом выманить у Жаниллы, хранительницы семейных капиталов, небольшую сумму, предназначенную на покупку нового наряда. Но всегда оказывалось, что либо у Жана развалилась обувь, либо у каких-нибудь бедняков соседей вконец обносились ребятишки. И Жильберта, уступая, как она говорила, неотложной необходимости, откладывала приобретение книг до лучших дней.
Кюзьонский священник дал ей почитать «Жития святых» и «Сочинения отцов церкви» в сокращенном издании; эти книги долгое время служили для Жильберты источником радости: при отсутствии выбора ум волей-неволей довольствуется и такой пищей, хотя юность жаждет иных уроков.
Сухая материя иногда оказывается благодетельной для здорового ума, и, хотя Жильберта наивно жаловалась Эмилю на свое невежество, он, напротив, дивился ее осведомленности во многих серьезных вопросах, о которых сам судил с чужих слов, не пытаясь в них углубиться.
Охваченный восторженной любовью, Эмиль не замедлил признать Жильберту совершенством и в глубине души считал ее самым умным и чистым из человеческих созданий, что было отчасти справедливо.
Лучшее и совершеннейшее из существ, несомненно, то, которое находится с нами в наилучшем согласии, лучше всего нас понимает, лучше всего умеет питать и развивать ростки прекрасного, таящиеся в нашей душе, — одним словом, существо, которое могло бы сделать для нас жизнь действительно радостной и полноценной, если бы нам дано было слить наши судьбы воедино.
«Как я был прав, что сохранил до сих пор девственное сердце и вел целомудренную жизнь, — думал Эмиль. — Как благодарю я тебя, создатель, что ты помог мне в этом! Жильберта — вот кто предназначен мне судьбой! Без нее я только прозябал бы и страдал!»
Беседуя с Жильбертой, Эмиль догадался, что девушка тоскует без книг, но скрывает от домашних, как тягостно для нее это лишение.
Эмиль с грустью подумал, что, кроме трудов по вопросам торговли и определенной отрасли промышленности, в доме его отца не найдется ни одной книги, а свою собственную небольшую библиотеку он оставил в Пуатье, предполагая туда вернуться.
Но Жильберта намекнула, что весьма обширная библиотека имеется в Буагильбо, — Жану как-то пришлось работать в большой комнате, где было несколько сот томов, — и она очень жалеет, что они никогда не встречаются с маркизом: это соседство могло бы оказаться для нее весьма полезным.
Здесь Жанилла, которая даже на ходу не выпускала из рук вязанья, вдруг вмешалась в разговор.
— Вот уж, наверно, скука все эти старые книги! Я и глядеть на них не желаю, — сказала она. — А то, чего доброго, свихнешься, как маркиз. Он-то начитался всякой премудрости!
— Раз господин де Буагильбо много читает, — сказала Жильберта, — он, конечно, очень образован.
— Не пошли ему на пользу ни чтение, ни образованность. Никогда он своей образованностью ни с кем не поделился и не стал от нее ни ласковее, ни любезней!
Не желая больше говорить о человеке, которого она ненавидела, и не желая притом — а может быть, не смея — объяснить причину этой ненависти, старушка вышла во двор и там с излишним усердием стала отгонять коз, которые щипали виноградную лозу, обрамлявшую вход во флигель.
Воспользовавшись случаем, Эмиль заявил Жильберте, что, если действительно у господина Буагильбо такое множество книг, скоро у нее их будет вволю, хотя бы ему пришлось унести их тайком.
Жильберта поблагодарила его улыбкой, не осмеливаясь поднять глаз: с некоторых пор она стала испытывать замешательство, когда ей случалось оставаться наедине с Эмилем.
— Ну конечно, — проворчала, входя, старушка. — Господин Антуан не очень-то торопится домой. Знаю я его! Наверно, заболтался по дороге. Повстречал старых приятелей и потчует их где-нибудь в лесочке — и время и деньги переводит зря! Да еще, не дай бог, кто-нибудь выклянчит у него франков десять — пятнадцать на покупку дрянной козы или тощих гусей. Разве он может отказать! Он бы рад все отдать, да боится, что я его ругать буду. Еще бы! Погнал шесть баранов, а в кошелек попадет выручка только за пять — с ним это частенько случается! Тогда берегись матушки Жаниллы! Больше он без меня на ярмарку ни ногой! Ну вот! Четыре пробило! Спасибо господину Эмилю: хорошо часы починил! Ручаюсь, Жильберта, что твой отец только-только домой собрался.
— Четыре! — воскликнул Эмиль. — Господин де Буагильбо сейчас садится за стол. Я не могу терять ни минуты!
— Так поспешите, — сказала Жильберта, — не надо его восстанавливать против нас: он и так на нас сердится!
— А нам-то что, пускай себе сердится! — возразила старушка. — Значит, вы хотите уехать, не дождавшись господина Антуана?
— К моему великому сожалению, да.
— Где ж этот бездельник Шарассон? — крикнула Жанилла. — Бьюсь об заклад, что храпит где-нибудь в уголке и даже не подумает подать вам лошадь. Стоит только господину Антуану отлучиться из дому, как наш Сильвен куда-то исчезает. Иди сюда, мошенник ты этакий! Куда ты запропастился?
— Ах, зачем вы не можете одарить меня каким-нибудь талисманом! — обратился Эмиль к Жильберте, пользуясь отсутствием Жаниллы, отправившейся разыскивать Сильвена: по всему двору раздавался ее громкий, но отнюдь не сердитый голос. — Ведь я отправляюсь, подобно странствующему рыцарю, в пещеру старого чародея, чтобы похитить его тайну — слова заклятия, могущие положить конец вашим мукам.
— Постойте, — с улыбкой сказала Жильберта, откалывая от пояса цветок, — вот самая прекрасная роза из нашего сада: быть может, в ее аромате таится какое-нибудь благодетельное свойство, способное усыпить осторожность врага и смягчить его жестокость. Положите ее к нему на стол, пусть он полюбуется ею и вдохнет ее волшебный аромат. Господин де Буагильбо сам искусный садовод, но, кто знает, найдется ли в его обширном цветнике такой красивый цветок: недаром же я трудилась над прививками в прошлом году. Будь я владелицей замка в те достославные времена, которые оплакивает Жанилла, я, возможно, сумела бы произнести заклинание, чтобы наделить этот цветок магической силой. Но я всего лишь бедная девушка и могу только молить бога, чтоб он заронил милосердие в эту суровую душу, подобно тому, как он ниспослал росу, заставившую раскрыться этот розовый бутон.
— Неужели я должен оставить маркизу мой талисман?! — воскликнул Эмиль, пряча розу на груди, — Не лучше ли сохранить его, чтобы он послужил мне еще раз?..
Тон, каким Эмиль задал этот вопрос, и волнение, отразившееся на его лице, удивили простодушную девушку. Она неуверенно взглянула на него, не понимая, почему так дорог ему цветок, который она отколола от своего платья. Жильберта попыталась улыбнуться, желая обратить в шутку слова Эмиля, но почувствовала, что краснеет. Воспользовавшись появлением Жаниллы, она ничего не ответила.
Эмиль в опьянении любви смело спустился по крутой и опасной тропинке. У подножия холма он решил оглянуться и на лужайке, средь розовых кустов, увидел Жильберту, которая провожала его взглядом, хотя и делала вид, что усердно срезает цветы.
В тот день она была одета не наряднее, чем обычно. Платье на ней было чистенькое, как и все, что проходило через руки добросовестной Жаниллы, но оно стиралось и гладилось так часто, что вместо лилового стало бледно-сиреневым, приобретя неуловимо блеклый оттенок увядающей гортензии.
Ее великолепные белокурые волосы не держались в прическе и, выбиваясь из-под узкой бархотки, окружали голову девушки легкой золотистой дымкой.
Ослепительно белая строгая вставочка обрамляла прелестную шейку Жильберты, позволяя угадывать изящные очертания плеч. Девушка показалась Эмилю очаровательной в отвесно падавших солнечных лучах, от которых она и не думала прятаться. Яркий румянец не пострадал от загара, а свежий цвет ее лица лишь выигрывал от вылинявшего и поношенного платьица.
Воображение двадцатилетнего юноши слишком богато: что ему до того, пышен или убог наряд его возлюбленной! В глазах Эмиля это линялое платьице играло всеми красками, перед которыми тускнели многоцветные восточные ткани, и он упрекнул в душе художников Возрождения за то, что они не умели облачать в такое великолепие своих улыбающихся мадонн и ликующих святых.
Эмиль застыл на месте, не в силах отвести от Жильберты взгляда, и, если б конь не горячился под ним, не грыз с нетерпением удила, не бил о землю копытом, он бы совершенно забыл, что господину де Буагильбо придется ждать его лишний час.
Тропинка, спускавшаяся к подножию холма, прихотливо извивалась среди зелени; однако по прямой расстояние было невелико, и молодые люди превосходно видели друг друга.
Жильберта угадала нерешимость всадника, который никак не мог оторвать от нее глаз; она скрылась среди розовых кустов, но еще долго сквозь пышные ветви провожала Эмиля взглядом.
А Жанилла по другой тропинке вышла навстречу хозяину. Только заслышав голос отца, Жильберта освободилась из-под власти очарования, державшего ее в плену. Впервые в жизни она позволила Жанилле опередить себя и впервые не она приняла из рук господина Антуана его ягдташ и палку.
По пути к Буагильбо Эмиль сотни раз строил и сотни раз отвергал планы осады вражеской крепости, за стенами которой укрывался загадочный ее владелец.
Увлеченный романтическим воображением, он верил, что прочтет судьбу Жильберты, а следовательно, и свою, начертанную таинственными знаками в каком-нибудь неведомом углу старинного дома, высокие серые стены которого вставали перед ним.
Уединенная эта обитель, огромная, мрачная, печальная и замкнутая, как ее владелец, казалась недоступной самому дерзкому любопытству. Но волю Эмиля отныне подстегивала страсть. Наперсник и поверенный Жильберты, он прижимал к губам полуувядшую розу и клялся, что у него достанет мужества и ловкости преодолеть любое препятствие.
Он застал господина де Буагильбо одного на крыльце, ничем, по обыкновению, не занятого и как всегда безучастного. Эмиль поспешил извиниться за то, что опоздал к обеду, и в свое оправдание заявил, что якобы сбился с пути и, не зная еще здешних мест, потратил добрых два часа, чтобы выбраться на дорогу.
Господин де Буагильбо, словно опасаясь упоминания о Шатобрене, не стал расспрашивать, какою же он ехал дорогой, но, верный изысканной учтивости, заверил гостя, что не заметил времени и отнюдь не испытывал нетерпения.
Однако в отрывистых словах маркиза Эмиль уловил оттенок взволнованности и понял, что, если бы нарушил обещание приехать, старик, обреченный на тоску одиночества, не на шутку бы огорчился.
Обед оказался превосходным, а старый дворецкий прислуживал за столом с ревностной предупредительностью. Остальных слуг не было видно: они держались на кухне, расположенной в подвале, и не показывались, очевидно, имея на сей счет особое приказание; один лишь старый Мартен обладал даром не оскорблять взоров хозяина.
Глухой старик так привык ухаживать за маркизом, что тому почти не приходилось давать распоряжений, и, если слуга не сразу угадывал господскую волю, довольно было одного знака, чтобы он исправил ошибку.
Глухота слуги как нельзя лучше устраивала не склонного к многословию хозяина — возможно, господин Буагильбо радовался и тому, что за ним ходит человек, ослабевший взор которого уже не может ничего прочесть на его лице; это был скорее автомат, чем слуга, и, поскольку недуги лишали престарелого дворецкого возможности общаться с людьми, он потерял к этому охоту и не испытывал потребности в таком общении.
Нетрудно было догадаться, что оба старика могли долгие годы жить бог о бок, не наскучив друг другу, — так мало осталось в них внешних признаков жизни.
Мартен прислуживал не торопливо, но добросовестно. Маркиз и Эмиль просидели за столом часа два. Молодой человек заметил, что хозяин едва прикасается к пище и то лишь с целью побудить гостя отведать все изысканные и вкусные яства.
Вина были превосходные, и старый Мартен торжественно наполнял бокалы, осторожно наклоняя горлышко бутылки, покрытой почтенным слоем многолетней пыли.
Маркиз время от времени отпивал глоток вина и кивком головы указывал старому слуге на пустой бокал Эмиля; но тот, воспитанный в строгости, следил за собой, боясь, как бы бесчисленные образчики коллекции вин господина де Буагильбо не помутили его рассудка.
— Это ваша обычная трапеза, маркиз? — осведомился Эмиль, восхищенный тонким обильным обедом, предназначенным всего лишь для них двоих.
— Я… я не знаю… — ответил маркиз, — я… я в эти дела не вмешиваюсь. Мартен всем распоряжается. Мне никогда не хочется есть, и я не замечаю, что мне подают. А вы находите, что это неплохо?
— Превосходно! И если бы мне выпала честь быть у вас частым гостем, я просил бы Мартена кормить меня не столь роскошно, из опасения сделаться чревоугодником.
— А почему бы и нет? Это такое же удовольствие, как и всякое другое. Счастливы те, у кого их много!
— Но есть удовольствия более благородные и менее разорительные, — возразил Эмиль. — Множество людей нуждается в самом необходимом, мне было бы стыдно превратить излишество в повседневную потребность.
— Вы правы, — с обычным своим вздохом сказал господин де Буагильбо. — Ну что ж! Я велю Мартену в другой раз накормить вас попроще. Он решил, что молодости присущ хороший аппетит. Но мне кажется, вы едите так, словно уже перестали расти. Сколько вам лет?
— Двадцать один.
— Я полагал, что вы старше.
— Судя по лицу?
— Нет, судя по вашим взглядам.
— Хотел бы я, чтоб отец услышал ваше мнение, маркиз, и принял его к сведению, — улыбаясь, ответил Эмиль. — Он все еще обращается со мною как с ребенком.
— А что за человек ваш отец? — спросил господин Буагильбо с такой простодушной заинтересованностью, что вопрос его отнюдь не показался неделикатным, хотя на первый взгляд можно было бы счесть, что это именно так.
— Отец — мой друг, уважения которого я добиваюсь, а осуждения трепещу. Это самое верное, что я могу сказать, желая обрисовать его характер — решительный, суровый и справедливый, — ответил Эмиль.
— Я слышал, что он человек весьма способный, весьма состоятельный и весьма печется о своем влиянии. Это неплохо, если влияние употребляется во благо.
— А как, маркиз, наилучшим образом употребить его?
— Ну, это слишком долго рассказывать! — вздыхая, ответил маркиз. — Вы, наверно, знаете это не хуже меня.
Старик невольно поддался тому доверительному тону, каким говорил Эмиль, надеясь вызвать в маркизе ответное чувство; но спустя минуту господин де Буагильбо снова впал в привычное оцепенение, как будто страшась его нарушить.
«Необходимо любыми средствами разбить этот тысячелетний лед, — подумал Эмиль. — Может статься, это вовсе не так уж трудно. Возможно, я окажусь первым, кто отважился на такую попытку!»
И, умолчав, как и надлежало, об опасениях, внушаемых ему отцовским честолюбием, а также о мучительных стычках между ними, проистекающих от несогласия во взглядах, Эмиль с увлечением и пылом заговорил о своих убеждениях, склонностях и даже поделился с собеседником мечтами о грядущем братстве человечества.
Он был уверен, что маркиз примет его за сумасшедшего, и с наслаждением старался разжечь в нем дух противоречия, желая таким образом проникнуть в загадочную душу этого человека.
«О, если бы мои слова могли вызвать в нем взрыв негодования или презрения! — думал он. — Вот тогда я увидел бы сильные и слабые стороны противника».
Сам того не замечая, он придерживался в отношении маркиза той же тактики, какой следовал по отношению к нему самому господин Кардонне: он с умыслом поносил и сокрушал все, что было свято, как он полагал, в глазах старого легитимиста — власть дворянства и власть денег, крупное землевладение, могущество отдельной личности и рабство масс, иезуитский католицизм, так называемое «божественное право», неравенство прав и состояний как основу общественного строя, господство мужчины над женщиной, которую брачный контракт рассматривает как предмет купли-продажи, а кодекс общественной морали — как собственность, наконец, любые языческие обычаи, не вытесненные Евангелием из общественных установлений и освященные политикой церкви.
Казалось, господин де Буагильбо слушал внимательнее обычного; его большие голубые глаза округлились — не от вина, которого, впрочем, он и не пил, а от изумления: очевидно, эта декларация прав человека, изложенная Эмилем, повергла его в состояние удручающего оцепенения.
Любуясь игрой столетнего токайского в бокале, Эмиль решил, что для вящего воодушевления прибегнет к помощи вина, если обычной пылкости его юношеского энтузиазма недостаточно, чтобы, пустив в ход все свое красноречие, предотвратить обвал снежной лавины, готовой на него обрушиться.
Но надобности в этом средстве не оказалось — то ли снег слишком затвердел и не мог сорваться с ледника, то ли господин де Буагильбо, с виду внимательно слушавший, ничего не слышал, но, так или иначе, он не прерывал громогласной проповеди дерзостного исповедания веры этого сына века и хранил глубокое молчание.
— Так как же, маркиз? — спросил Эмиль, удивленный равнодушной терпимостью, с какою хозяин выслушал его речь. — Разделяете вы мои убеждения или же считаете, что они не заслуживают даже того, чтоб их оспаривать?
Господин де Буагильбо ничего не сказал. Слабая улыбка пробежала по его губам, разомкнувшимся было для ответа, но испустившим лишь загадочный вздох. Он только положил свою руку на руку Эмиля, и тому показалось, что холодная влажность этой каменной длани являла в ней на сей раз какие-то признаки жизни.
Маркиз поднялся наконец и сказал:
— Кофе выпьем в парке. — И после минутного молчания добавил, словно договаривая вслух свою мысль — Я с вами всецело согласен.
— Неужели?! — воскликнул Эмиль и, осмелев, взял маркиза под руку.
— А почему бы и нет? — невозмутимо возразил тот.
— Вы хотите сказать, что все это вам безразлично?
— О, если бы это было так! — ответил господин де Буагильбо, вздохнув глубже обычного.
XVII Лед растаял
До сей поры Эмиль любовался парком Буагильбо лишь через живую изгородь или же сквозь решетку. Теперь его еще сильнее поразила красота этого чудесного уголка с его могучими, живописно разбросанными деревьями.
Природа потрудилась здесь на славу, но большую помощь оказала ей искусная рука человека. Среди холмистых склонов открывались прелестные уголки, полноводный источник, пробиваясь из скал, растекался ручейками по всему парку, и под тенистыми ветвями стояла восхитительная свежесть.
Дно и кручи оврага, примыкавшего к парку, сплошь — . заросли зеленой чащей, которая так удачно скрывала каменную ограду, сливаясь с живой изгородью, что, с какого бы пригорка вы ни любовались беспредельной ширью и великолепием лесного пейзажа, у вас создавалось впечатление, будто парк тянется до самого горизонта.
— Райская обитель! — сказал Эмиль. — Достаточно взглянуть на нее, чтобы убедиться, что вы истинный поэт.
— Истинных поэтов вроде меня, то есть людей, которые живо ощущают поэзию, но не могут выразить свои чувства, на белом свете немало, — заметил маркиз.
— Разве только в словах, изустных или написанных, поэзия находит достойное выражение? — возразил Эмиль. — Разве живописец, дающий величественное изображение природы, — не поэт? А если это так, то всякий художник, следующий в своих творениях самой природе, но преображающий ее с целью раскрыть все ее красоты, — разве он не создает великие поэтические произведения?
— По вашим словам выходит, что да, — сказал господин де Буагильбо лениво-снисходительным тоном, в котором, однако, звучала благосклонность.
Но Эмиль предпочел бы самые жаркие споры тому безразличию, с каким маркиз принимал каждое его слово: он начинал опасаться, что атака не удалась.
«Что бы мне такое придумать, как бы разозлить и вывести его из себя? — размышлял он. — Ни одна прославленная историческая битва не сравнится по трудности с осадой этой крепости!»
Кофе был подан в хорошеньком швейцарском домике, порядок и чистота которого в первую минуту восхитили Эмиля. Но отсутствие людей и домашних животных слишком бросалось в глаза, и уже через минуту ваше восхищение этим сельским приютом улетучивалось.
А ведь недостатка тут не было ни в чем: был здесь и поросший мхом, обсаженный елями холм, и прозрачные струи ручья, ниспадавшие в каменный водоем, а затем выбегавшие оттуда с нежным журчанием, и самый домик, сложенный из смолистых бревен, с прихотливо узорчатыми перилами, прилепившийся к гранитным глыбам, и красивая его крыша с широкими выступами, и мебель на немецкий лад, и даже сервиз синего фаянса. Домик этот — аккуратный, сверкающий чистотою, безмолвный и пустынный — был скорее похож на красивую швейцарскую игрушку, чем на сельскую хижину.
Старый маркиз и старый дворецкий своими увядшими, сморщенными лицами напоминали деревянные раскрашенные фигурки, как будто нарочито помещенные здесь для вящего сходства.
— Вы бывали в Швейцарии, маркиз? — спросил Эмиль. — И сельский домик — дань вашего пристрастия к этой стране?
— Путешествовал я мало, хотя однажды и выехал из дома с намерением объехать весь свет, — ответил господин де Буагильбо, — На пути моем попалась Швейцария; страна эта мне понравилась, но дальше я так и не двинулся, решив, что вряд ли где-нибудь окажется лучше, а неудобств придется испытать уйму.
— Вы, как видно, предпочитаете наши края всем прочим. Вы поселились здесь навсегда?
— Конечно.
— Тут у вас, маркиз, настоящая Швейцария в миниатюре, и хотя здесь нет величественных зрелищ, волнующих воображение, зато прогулки менее утомительны и опасны.
— Любопытно? Нет, я не любопытен, если подразумевать под любопытством нелепую назойливость, но я нахожусь в том возрасте, когда судьба других людей, да и своя собственная, является загадкой, и когда пытаешься почерпнуть полезный урок, наблюдая некоторых, умудренных житейским опытом людей.
— Почему вы говорите «некоторых»? Разве я не похож на всех прочих?
— О, ни в коем случае, маркиз!
— Вы меня удивляете, — заметил господин де Буагильбо тем же тоном, каким за несколько минут до того произнес: «Я всецело с вами согласен». И добавил: — Положите-ка сахару в кофе.
— Но меня еще больше удивляет, — сказал Эмиль, машинально кладя в чашку сахар, — что вы не замечаете сами, какое поразительное и величавое зрелище являет собою для такого юнца, как я, ваше одиночество, сосредоточенность и даже, осмелюсь сказать, ваша мрачная задумчивость.
— Неужели я внушаю вам страх? — спросил господин де Буагильбо с глубоким вздохом.
— И даже немалый, маркиз, признаюсь в этом чистосердечно. Но не истолкуйте мой простодушный ответ в дурную сторону, ибо так же верно и то, что чувство совершенно противоположное — чувство непреодолимой симпатии — побеждает мой страх.
— Удивительно, — сказал маркиз, — весьма удивительно! Объяснитесь, пожалуйста.
— Очень просто. В моем возрасте всегда ищешь разгадку своего будущего в настоящем людей зрелых или же в прошлом людей пожилых, и потому нам страшно, когда мы видим непобедимую грусть и печать какого-то затаенного, но глубокого отвращения к жизни на суровом челе.
— Да, потому-то мой вид вас и отталкивает. Скажите правду. Не вы первый говорите так, и я этого ждал.
— «Отталкивает» — не то слово. Ваш унылый вид повергает меня в какое-то гипнотическое оцепенение, а вместе с тем меня необъяснимо влечет к вам.
— Необъяснимо? Конечно, это необъяснимо. Но, уверяю вас, мне далеко до ваших странностей. С первой же минуты, как я увидел вас, я был поражен вашим несходством с людьми, которых знал в юности.
— И это впечатление оказалось не в мою пользу, маркиз?
— Как раз напротив, — ответил господин де Буагильбо обычным своим безразличным тоном, не позволявшим угадать подлинное значение его слов. — Мартен, — добавил маркиз, обернувшись к старому дворецкому, который согнулся пополам, чтобы расслышать слова хозяина, — Можешь убрать со стола. Рабочие еще в парке?
— Нет, маркиз, никого нет.
— Тогда уходи. Не забудь запереть калитку.
В уединении огромного парка остались только двое — Эмиль и господин де Буагильбо. Маркиз взял юношу под руку и повел в восхитительный уголок, расположенный в скалах над швейцарским домиком.
Солнце клонилось к закату, и на пологие склоны холмов ложились длинные тени тополей, словно занавес, прорезанный теплыми бликами. Лиловая линия горизонта сливалась с небом, мерцавшим подобно опалу над океаном потемневшей зелени; в этот час, когда стихает шум сельских работ, отчетливей слышались немолчный шум потока и жалобное воркование горлиц.
Вечер был поистине великолепен, и юный Кардонне, обратив взоры и мысли к холмам Шатобрена, погрузился в сладкую мечтательность.
Он полагал, что вправе отдохнуть душой, прежде чем снова перейти в атаку, но противник сделал вдруг неожиданную вылазку, первым нарушив молчание.
— Господин Кардонне, — сказал маркиз, — если вы не просто из вежливости или забавы ради сказали, что испытываете ко мне некоторое влечение, невзирая на скуку, которую я на вас навеваю, то этому влечению есть причина: мы исповедуем одинаковые убеждения, мы оба придерживаемся коммунистических теорий.
— Возможно ли? — воскликнул Эмиль, ошеломленный этим признанием: ему казалось, что он грезит. — А я-то думал, что вы слушаете меня из вежливости или же забавы ради. Неужели мне в самом деле выпало такое счастье и мои желания, мои мечты нашли у вас признание?
— Что же в этом удивительного? — спокойно возразил маркиз. — Разве истина не может открыться в уединении, равно как и среди суеты мирской? Разве напрасно прожил я такую долгую жизнь и не могу отличить добро от зла, правду от лжи? Вы считаете меня человеком рассудительным и весьма холодным. Возможно, что я действительно таков; в мои годы так устаешь от самого себя, что нет охоты изучать свою душу. Но, кроме нашей личности, есть общие предметы, более достойные нашего внимания и отвлекающие нас от наших невзгод.
Долгое время разделял я убеждения и предрассудки, в коих был воспитан: вялый по природе, я не испытывал потребности присмотреться к ним поближе; к тому же душевные заботы вытесняли подобные мысли. Но с той поры, как старость избавила меня от всяких притязаний на личное счастье, от сожалений или ожиданий, я ощутил потребность отдать себе отчет в том, как вообще живут люди, и, следовательно, разобраться в божественных законах, приложимых к человечеству.
Случайно попалось мне несколько сен-симонистских брошюр; я прочел их — так, от нечего делать, не предполагая даже, что можно превзойти дерзновением Жан-Жака Руссо и Вольтера, взгляды которых я стал разделять, изучив их труды. Мне захотелось узнать побольше о принципах новой школы, и я перешел к изучению Фурье. Я принимал все эти воззрения, не слишком хорошо разбираясь в их противоречиях, но испытывал некоторую грусть, видя, как рушится старый мир под тяжестью теорий, неуязвимых в их критической части, но туманных и незавершенных в том, что касается созидательных принципов.
Лишь пять-шесть лет назад я с предельным бескорыстием и с огромным душевным удовлетворением принял принципы социальной революции.
Вначале я верил противникам коммунизма, и попытки его осуществления казались мне чудовищными. Читая газеты и издания всех направлений, я томительно долго блуждал в лабиринте идей, но, невзирая на усталость, не падал духом.
Постепенно гипотезы коммунизма высвободились из-под окутывавшего их тумана. Хорошие книги прояснили мой разум. Я ощутил потребность обратиться к изучению истории мысли рода человеческого.
У меня была довольно хорошо подобранная библиотека важнейших документов и наиболее солидных трудов прошлого.
Отец мой всегда любил чтение, а я долго ненавидел этот род занятий и даже не подозревал, каким драгоценнейшим утешением явятся для меня книги под старость. Я принялся за работу один, без наставников.
Сызнова изучив изрядно забытые мною древние языки, я впервые познакомился в подлинниках с историей религиозных и философских учений, и наконец настал день, когда мне открылось то, что роднит множество великих людей: святых, пророков, мучеников, еретиков, ученых, просвещенных ревнителей веры, новаторов, художников, реформаторов всех времен и всех стран, великих деятелей революции и основателей религиозных учений. В своих многообразных исканиях, даже при всех видимых противоречиях, они призывали к признанию вечной истины, разумной и ясной как день, а именно: к признанию равенства прав, откуда строго и неизбежно вытекала необходимость равенства получаемых благ.
С той поры меня удивляло лишь одно: как в наше время, при его богатствах, открытиях, бурной деятельности, просвещении и свободе мнений, мир все еще может пребывать в глубоком неведении относительно закономерности явлений и идей, ведущих к его преобразованию; как из целой армии лжеученых и так называемых теологов, поощряемых и поддерживаемых государством и церковью, не нашлось никого, кто употребил бы свою жизнь на то, чтобы проделать простую работу, какую проделал я, — работу, разрешившую все мои сомнения. Я увидел, наконец, с удивлением и то, что в наше время, когда старый мир, устремившийся по пути крушения и распада, все же надеется спастись с помощью злобы и насилия от готовой поглотить его пропасти, люди, перед которыми открыты законы будущего, еще не обладают всем спокойствием мудрости и не в силах, презрев оскорбления и насмешки, с гордо поднятой головой провозгласить себя последователями коммунистических, и только коммунистических, теорий.
Послушайте, господин Кардонне, вы так красноречиво и восторженно говорите о мечтах и утопиях, что я готов простить вам склонность прибегать к этим понятиям, ибо в вашем возрасте истина воспламеняет и становится идеалом, который охотно ставят в некотором отдалении и на известной высоте, чтобы испытать тем большее наслаждение, с боем прокладывая к нему а путь. Во мне же истина не вызывает такого волнения, как в вас: вам она представляется чем-то новым, дерзким — и романтическим, а для меня она непреложна, очевидна и неоспорима.
Я обрел эту истину в итоге изучения, более глубокого, и уверенности, более прочно обоснованной, нежели ваша. Пусть вы порывисты, — в этом нет ничего худого, но не пеняйте на меня, если я вынужден буду несколько охладить ваш пыл, который способен только опорочить доктрину.
Остерегайтесь этого. Вы так счастливо одарены природой, что расположите к себе даже ваших противников и никогда не покажетесь смешным. Но берегитесь излагать слишком поспешно истины, достойные уважения, первому встречному: всегда найдутся упрямцы, готовые из строптивости противоречить и обороняться, не брезгая ничем.
Что бы вы сказали о молодом священнике, который произносит проповедь, сидя за обильным обедом? Вы сказали бы, что он порочит святость и величие священных текстов. Истина коммунизма требует к себе такого же уважения, как истины евангельские, ибо, в конечном счете, обе истины суть одна и та же истина. Так не будем говорить о ней слишком легко в пылу политического спора! Если вы от природы восторженны, научитесь владеть собою, прежде чем проповедовать эту истину. Если вы флегматичны подобно мне, выждите, пока не почувствуете больше доверия к людям и не ощутите большую непринужденность мысли, что позволит вам открыть свое сердце другим касательно столь важного предмета. Видите ли, господин Кардонне, нельзя допустить, чтобы все это называли сумасбродством, пустыми мечтами, лихорадочным пустозвонством или же мистическим бредом. Достаточно уже твердили такое, и немало лжемудрецов дали к тому основание.
У сен-симонистов, как мы видели, была своя пора исступленной восторженности, лихорадочных и хаотических мечтаний; тем не менее то, что было в сен-симонизме жизненного, выжило.
Заблуждения Фурье не помешали тому, что здравые стороны его учения выдержали испытание. Торжествующая истина совершает свой путь, сквозь какие бы призмы на нее ни глядели и в какие бы одежды ее ни рядили. Но в наше рассудочное время все же лучше сбросить смешную оболочку слепой восторженности.
Разве вы не согласны со мною? Разве не пробил час, когда эта область должна стать достоянием логики, должна проповедоваться методами логики? И пусть заявляют, что добытая разумом истина неосуществима! Разве из того, что большинство людей все еще исповедует и приемлет заблуждения и ложь, — разве из этого следует, что зрячие должны вслед за слепцами ринуться в пропасть?
Пусть доказывают мне необходимость подчиняться преступным законам и пагубным предрассудкам; меня можно принудить к этому силой, но с тем большей убежденностью восстанет противу пагубы мой разум.
Разве заблуждался Иисус Христос? А ведь высказанная им истина вот уже восемнадцать столетий медленно зреет, все еще не давая всходов в человеческих установлениях. Почему же нынче, когда многим из нас становятся ясны его идеалы, нас обвиняют в безумстве за то лишь, что мы видим и признаем истину, которую через сто лет увидят и признают все?
Согласитесь же, необязательно быть поэтом или ясновидцем и все-таки можно до конца оставаться убежденным в том, что вам угодно было назвать возвышенной мечтой. Да, истина возвышенна, и возвышенны люди, умеющие ее открыть. Но тот, кто ее обрел, кто нащупал ее и принял как великое благо, не должен предаваться гордыне, ибо, постигнув, но отринув ее, он был бы глупцом или безумцем.
Господин де Буагильбо говорил с изумительной для него легкостью и, очевидно, способен был говорить еще долго, а ошеломленный Эмиль слушал в полном молчании.
Никогда бы не поверил юный Кардонне, что воззрения, которые называл он своей «верой» и своими «идеалами», могли расцвесть в столь ледяной душе, и на мгновение он усомнился, не отвратит ли его от этих идеалов подобный единомышленник. Но, невзирая на медлительность монотонной речи и застывшие черты лица, господин де Буагильбо произвел на него впечатление чрезвычайное.
Этот бесстрастный человек предстал перед ним живым воплощением справедливости, голосом самой судьбы, изрекающей свой приговор над бездной вечности.
Покой и тишина великолепного парка, та ни с чем не сравнимая чистота небес, когда угасают последние лучи заката и кажется, что голубой свод еще выше возносится в беспредельность, мгла, сгустившаяся под ветвистыми деревьями, безмятежное журчание ручейка, сливавшееся с однотонным, ровным голосом маркиза, — все это повергло Эмиля в глубокое волнение, подобное суеверному страху, какой охватывал новообращенного, когда он во мраке священной дубовой рощи внимал вещему голосу прорицателя.
— Господин де Буагильбо, я готов внять вашим наставлениям и молю простить меня за то, что я хитростью вырвал у вас признание, — сказал Эмиль, глубоко потрясенный словами маркиза. — Я был далек от мысли, что вы можете разделять подобные убеждения, и меня влекло к вам скорее любопытство, нежели почтение. Но знайте, что отныне вы найдете во мне сыновнюю преданность, если только признаете меня достойным вашего доверия.
— У меня никогда не было детей, — произнес маркиз. Он взял Эмиля за руку и долго не отпускал ее; в него словно вдохнули новые силы, и его безжизненная рука, обтянутая сухой и тонкой кожей, вдруг потеплела. — Возможно, я недостоин этого. Возможно, я дурно бы их воспитал. Как бы то ни было, я весьма сожалел, что лишен этой радости. Нынче я примирился с тем, что умру, не оставив и частицы себя; но если кто-нибудь захочет подарить меня своею привязанностью, пусть даже незначительной, я приму ее с благодарностью. Я не слишком доверчив. Одиночество настораживает. Но ради вас я попытаюсь преодолеть себя, постараюсь, чтобы мои недостатки, особенно угрюмость, отпугивающая всех, не отпугнула и вас.
— Эти «все» просто не знают вас, — возразил Эмиль. — Они принимают вас за другого человека, считают гордецом, упрямцем, не желающим расстаться с призраками старинных привилегий. Вы, должно быть, не пощадили усилий, чтобы оградить свою внутреннюю жизнь от окружающих.
— А к чему привели бы объяснения? Не все ли равно, что обо мне думают? Ведь в той среде, где я прозябаю, истинные мои убеждения показались бы еще более смехотворными, нежели те, какие мне приписывают. Если бы я знал, что, открыто воздавая дань тому делу, в которое я верю, и заявив себя его приверженцем, я мог бы принести пользу, никакие насмешки не остановили бы меня. Но в устах человека, столь мало любимого, как я, заверения эти пошли бы скорее во вред торжеству истины. Лгать я не умею, и, если кто-нибудь удосужился бы расспросить меня о тех убеждениях, в каких я утвердился за последние годы, возможно, я ответил бы ему то же, что и вам. Но круг моего одиночества смыкается все теснее, и я не вправе жаловаться. Людей располагает к себе любезность, а я не умею быть любезным; господь бог лишил меня многих достоинств, которых не восполнишь притворством.
Эмиль сумел найти в ответ теплые и искренние слова: ему хотелось смягчить горечь, таившуюся под внешним смирением маркиза.
— Мне легко мириться с настоящим, — грустно улыбаясь, заметил ему старик. — Жить мне осталось немного, и, хотя я не так еще стар и не так уж болен, я чувствую, как уходит из меня жизнь, как с каждым днем холодеет и стынет кровь. Пожалуй, я мог бы посетовать, что в прошлом вовсе не знал радостей; но когда жизнь позади, не все ли равно, каким было прошлое? Восторг и отчаяние, сила и слабость миновали, как сон.
Но все же оставили след! — возразил Эмиль. — Пусть даже сотрутся самые воспоминания, все пережитое — муки ли, радости ли — откладывает в нас свой яд или бальзам, и в зависимости от того, что проникло в наше сердце, оно познает покой или же остается навеки разбитым. Хотя мужество не позволяет вам унизиться до жалоб и гордость заставляет утаивать свои чувства, я вижу, что когда-то вы очень страдали, но оттого я еще больше уважаю вас, испытываю к вам еще большую симпатию.
— Я страдал скорее от недостатка счастья, нежели от того, что принято называть несчастьем. Признаюсь, тайная гордыня не позволяла мне искать утешения в сочувствии ближних. Я не способен искать дружбы — она сама должна была позвать меня.
— И тогда бы вы приняли ее?
— О, конечно, — все так же холодно произнес господин де Буагильбо, но его глубокий вздох дошел до самого сердца Эмиля.
— А теперь разве уже поздно? — спросил молодой человек с чувством искренней и почтительной жалости.
— Теперь… если бы я мог надеяться, — ответил маркиз, — или ждать… а впрочем, от кого?
— А хотя бы от того, кто выслушал вас нынче, кто понял вас. Должно быть, у вас давно не было слушателей, и я — первый?
— Да, это правда!
— Так что же? Неужели вы презираете меня за молодость? Считаете меня неспособным на подлинное чувство? Или опасаетесь помолодеть, подарив свою привязанность зеленому юнцу?
— А что, ежели я состарю вас, Эмиль?
— Ну и пусть. Поскольку я попытаюсь вернуть вас вспять, этот поединок принесет пользу нам обоим. Я наверняка выиграю в благоразумии, а вы в вашем суровом унынии, быть может, обретете некоторое утешение. Поверьте мне, господин де Буагильбо, в мои лета не умеют притворяться, и если я осмеливаюсь почтительно предложить вам мою дружбу, то потому лишь, что чувствую себя в силах выполнить обязательства, налагаемые ею, и оценить ее благодеяния.
Господин де Буагильбо снова взял руку Эмиля и молча пожал ее от всего сердца.
При свете луны, сиявшей высоко в небесах, юноша заметил крупную слезу, скатившуюся по увядшей старческой щеке и затерявшуюся в серебристых бакенбардах.
Эмиль победил! Он был счастлив и горд.
Нынешняя молодежь питает недостойное презрение к старости, наш же герой, напротив, испытывал законную гордость от того, что сломил сдержанность и недоверие несчастного, но весьма почтенного старика.
Ему льстило, что он может служить утешением этому покинутому всеми патриарху и в какой-то мере вознаградить его за несправедливость или забвение со стороны окружающих.
Эмиль долго прогуливался рука об руку с маркизом по красивому парку; юноша засыпал старика вопросами, простодушная доверчивость которых пришлась тому по душе.
Так, например, Эмиля удивляло, что при всем своем богатстве, будучи свободным от семейных уз, господин де Буагильбо не попытался приступить к осуществлению своих идей и не учредил никакой производственной рабочей ассоциации.
— Это не в моих силах, — возразил старик. — Ни по уму, ни по характеру я не способен действовать: мною владеет непреодолимая леность, и еще ни разу в жизни мне не удалось оказать влияние на кого бы то ни было. Ныне я пригоден к этому еще менее, тем паче что пришлось бы не только наметить план устройства такой ассоциации, достаточно простой и осуществимый в настоящее время, но потребовалось бы также выработать религиозные и нравственные каноны, проповедовать свои идеи и внушать другим свои чувствования.
Я сознаю, что для покорения душ необходимо чувство, но это не мое оружие. Я не обладаю способностью отдавать и раскрывать свое сердце; во мне осталось слишком мало жизни, чтобы придать убедительность моим словам.
И затем, я полагаю, что время еще не настало. Я вижу, вы не согласны. Что ж! Не хочу лишать вас счастливой уверенности. Вы созданы для трудных начинаний, и да представится вам случай действовать!
Что до меня, я строю планы на более далекое будущее… После моей смерти… Когда-нибудь я вам, быть может, расскажу… Взгляните на этот прекрасный сад… я создал его не без умысла… Но хочу узнать вас получше, тогда вам все и объясню… Вы на меня не в обиде, надеюсь?
— Я подчиняюсь и заранее уверен, что ваша привязанность к этому земному раю отнюдь не праздная помещичья блажь.
— А все-таки началось с этого… Дом мне опротивел. Ничто не способствует лености и отвращению больше, чем нерушимый порядок, а вы видели, в каком безупречном состоянии содержится дом. Но я не дорожу в нем ничем и, признаюсь, вот уже пятнадцать лет, как там не ночую. Подлинное мое жилище — швейцарская хижина, где мы с вами пили сегодня кофе. Там у меня спальня и рабочий кабинет, куда я вас не приглашал: с тех пор как выстроен этот домик, туда не заходил еще ни один человек, даже Мартен. Смотрите никому об этом не проговоритесь, иначе меня станут преследовать любопытные. Они и без того по воскресеньям осаждают парк.
Бездельники со всей округи бродят по аллеям чуть не до полуночи. Только поздним вечером, когда закрывают ворота, они расходятся, и я могу вернуться в свое жилище. По понедельникам я встаю поздно, чтобы рабочие успели уничтожить все следы воскресного нашествия. За этим наблюдает Мартен.
Не считайте меня человеконенавистником, хотя бы к тому и были основания. Попытайтесь лучше разобраться в таком противоречии: перед вами человек, который жаждет жить в обществе, и, однако, инстинкт заставляет его бежать себе подобных.
Я принадлежу к поколению одиноких себялюбцев, но что у них порок — то у меня болезнь… Этому есть свои причины… Но я предпочитаю не вдумываться в них — слишком тяжелые воскресают воспоминания.
Хотя Эмиль поклялся, что постепенно выведает все тайны господина де Буагильбо или, по крайней мере, все те, в коих могло быть замешано семейство Шатобрен, он не осмелился коснуться этого вопроса. Он рассудил, что для первого дня одержал побед более чем достаточно, и, прежде нежели завоевать полное доверие, следует заслужить уважение, а если возможно, то и любовь.
Юноша хотел пока что получить разрешение проникнуть в библиотеку, и маркиз пообещал в следующее их свидание открыть перед ним ее двери.
Но день свидания назначен не был. Возможно, что господин де Буагильбо вновь поддался своей подозрительности и пожелал удостовериться, скоро ли навестит его Эмиль по своему собственному почину.
XVIII Буря
С этой поры Эмиль почти не жил в родительском доме. Правда, он ночевал там и проводил несколько часов в день, но и в эти часы умом чаще всего пребывал в Буагильбо, а сердцем — почти всегда в Шатобрене. Он, быть может, не так часто навещал бы маркиза, если бы не соседство Шатобрена, — первый визит к господину Антуану дал Эмилю достаточно поводов для дальнейших посещений его замка.
Вначале таким поводом были книги, которые Эмиль доставлял Жильберте; и хотя маркиз разрешил юноше брать их из библиотеки в любом количестве, тот старался вручать их Жильберте по одной, чтобы иметь предлог снова увидеть ее.
Ни Жанилла, ни господин Антуан не задавались вопросом, почему Жильберта с таким жаром предается чтению, и не следили за выбором книг, первая — по неграмотности, а господин Антуан потому, что проницательность не входила в число его добродетелей. Но сам ангел-хранитель Жильберты не был бы столь озабочен чистотой ее помыслов, как Эмиль.
Он любил Жильберту благоговейной любовью; святая невинность девушки была для него сокровищем, которое он оберегал ревнивей, чем ее собственный отец, ибо тот, по выражению Жаниллы, был «задним умом крепок». С каким вниманием Эмиль, бывало, перелистывал страницы книги, прежде чем вручить ее Жильберте, — будь то роман или стихи, книга по истории или морали, — из опасения, как бы иное случайное слово не вызвало краску на ее лице!
Когда в трогательном своем неведении Жильберта просила Эмиля достать ей какую-нибудь серьезную книгу, которая, по его представлениям, могла оскорбить девичью стыдливость кое-какими сомнительными подробностями, он отвечал, что ему никак не удается найти это произведение в библиотеке маркиза.
Родная мать не могла бы вести себя осмотрительней, чем действовал юный воздыхатель Жильберты: он знал, что господин Антуан и его дочь, оба благодушные и беспечные, вряд ли заметили бы попытку смутить юную душу, и поэтому почитал своим прямым и священным долгом оправдать доверие этих наивных людей.
С некоторых пор Жанилла почти не оставляла влюбленных наедине, и Эмилю лишь мельком, и то весьма редко, удавалось поведать девушке о своих беседах с господином де Буагильбо. А когда им случалось бывать в обществе господина Антуана, Жильберта, в силу привычки и сердечной привязанности, ни на шаг не отходила от отца.
Все же она вскоре узнала, что дружба Эмиля со старым маркизом крепнет день ото дня и что покоится эта дружба на редкостном согласии их убеждений и идеалов.
Но Эмиль старательно таил от Жильберты безуспешность всех своих попыток наладить сближение между обоими домами; позже мы расскажем, к чему привели его усилия в этом направлении.
Не теряя надежды добиться со временем успеха, Эмиль скрывал от Жильберты свои неоднократные поражения, а та, понимая, насколько трудна взятая им на себя задача, не торопила юношу, боясь выдать свое нетерпение или же проявить чрезмерную требовательность.
И затем, надо признать, что Жильберта несколько охладела к своему замыслу, тогда как решимость Эмиля не ослабевала ни на минуту.
Любовь поглощает все думы влюбленных, и наши молодые люди были так заняты друг другом, что вскоре ничто иное уже не шло им на ум.
Чувство, страсть завладели всем их существом, и часы пролетали в опьянении свидания или же томительно ползли в ожидании блаженной минуты встречи.
Господину Кардонне, внимательно наблюдавшему за сыном, да и самому Эмилю, уже не отдававшему себе отчета в том, что творится в его душе, это казалось странным, а ведь произошло нечто вполне естественное и неизбежное: страсть, пожиравшая нашего героя в его отроческие годы, а именно: жажда все узнать, все изучить, потребность приобщиться к жизни уступила место сладкой полудремоте сознания, некоему забвению излюбленных теорий.
В цельном, гармоническом обществе любовь, несомненно, станет движущей силой патриотизма и самоотверженного служения обществу. Но когда смелые и благородные порывы направлены на тягостную борьбу с людьми и окружающей обстановкой, личные чувства берут верх в душе человека и господствуют над ним в ущерб всем иным стремлениям, которые постепенно глохнут.
Народ ищет забвения своим горестям и лишениям в вине; влюбленный черпает волшебный напиток забвения во взоре своей возлюбленной.
Эмиль был слишком юн, чтобы страдать и желать страдания, и все же он уже много страдал. И нынче, когда счастье само спешило ему навстречу, мог ли он его бежать? Признаемся без ложного стыда: бедный юноша более не помышлял ни о законах, ни о делах житейских, ни о будущем, ни о прошедшем мироздания, ни о пороках общества, ни о средствах его исцеления, ни о бедствиях рода человеческого, ни о божественном промысле, ни о небесах, ни о земле.
Земля, небо, промысел божий, судьба, мироздание — все стало любовью: лишь бы видеть Жильберту, читать свой приговор в ее глазах, а там пусть хоть весь мир обрушится — он этого даже не заметит!
Он не был в состоянии ни читать книгу, ни поддерживать разговор. Случалось, устав метаться по тропинкам, ведущим к дому его божества, он забывался вечерами подле матери или же читал ей вслух газету, не понимая ни единого слова из того, что произносили его уста. Очутившись один в своей комнате, он поспешно ложился в постель и гасил свет, чтобы не видеть предметов внешнего мира. Тогда внутреннее пламя, горевшее в его душе, озаряло мрак, и перед взором его возникало радужное видение. В исступленном восторге он терял ощущение яви и сна. Он видел с закрытыми глазами, он грезил наяву.
Достаточно было приветливого, веселого слова, улыбки Жильберты, случайного прикосновения к ее платью, травинки, сорванной ею и подобранной Эмилем, чтобы занять его мысли на всю ночь. С первыми лучами солнца он бежал на конюшню, сам седлал Вороного и спешил уехать из дому. Он забывал о еде и уже не удивлялся тому, что для поддержания жизни ему достаточно лишь утренней росы да веяния ветерка из Шатобрена.
Он не осмеливался бывать там слишком часто, хотя знал, что ему не грозит холодный прием со стороны господина Антуана. Но любви присуще боязливое целомудрие, и она пугается своего счастья, когда может наконец коснуться его. И Эмиль блуждал по тропинкам и кручам, прячась в древесной чаще, и украдкой, сквозь ветви, глядел на развалины Шатобрена, словно боясь, что его как на месте преступления могут застигнуть в эти минуты благоговейного созерцания.
Жан Жапплу, которому все еще не удавалось сколотить денег на домик, не желал стеснять своих друзей, и по окончании трудового дня, пользуясь ясными и теплыми ночами, устраивался на ночлег в заброшенной часовенке, выстроенной на холме посреди деревни. Перед тем как растянуться на соломе, служившей ему ложем, он заходил помолиться в красивую гаржилесскую церковь.
Жан облюбовал романский древний склеп, стены которого хранили следы любопытной росписи XV века. Из круглого окошка подземелья далеко внизу виднелась гряда утесов и зеленые лощины, по которым пролегает путь полноводной Гаржилесы.
Плотник так долго добровольно лишал себя возможности видеть родимый уголок, что теперь частенько, прервав мирную молитву, любовался живописным видом, не то молясь, не то грезя, весь во власти того непередаваемого душевного состояния, которое знакомо простым людям, крестьянам, особенно после утомительных дневных трудов.
Нередко, после обеда и прогулки с матерью, сюда наведывался Эмиль, чтобы вместе с Жаном полюбоваться прекрасным памятником архитектуры и побеседовать на вершине холма о том, что обходили молчанием в родительском доме, то есть о Шатобрене, о господине Антуане, Жанилле и, наконец, о Жильберте.
Ведь кроме Эмиля был еще человек, который любил Жильберту, пожалуй, не менее, чем он, хотя и совсем иной любовью: это был Жан.
Он относился к ней как к родной дочери; но к отеческим чувствам у него примешивалось некое преклонение перед редкостными качествами Жильберты и какое-то грубоватое восхищение, которого он не мог бы испытывать в отношении своих собственных детей. Он гордился ее красотою, добрым нравом, рассудительностью и смелостью, как человек, умеющий оценить эти достоинства, равно как и дружбу со столь благородным существом.
Непринужденность, с какою говорил он о Жильберте, опуская словечко «мадемуазель», следуя привычке называть всех запросто, по имени, отнюдь не умаляла того невольного почтения, какое Жан питал к ней, и не оскорбляла слух Эмиля, хотя он-то уж никак не осмелился бы следовать примеру плотника.
Молодой человек с восторгом слушал рассказы о детских играх и забавах Жильберты, о ее сердечных порывах, ее великодушном и нежном внимании к бесприютному другу, который совсем бы пропал, не имей он пристанища в Шатобрене.
— Не так давно прятался я в горах, — повествовал Жапплу. — Бывало, окружат меня со всех сторон, заберусь я в какую-нибудь расщелину между скал или вскарабкаюсь поутру на верхушку ветвистого дерева — и глянуть оттуда не смею.
А тут еще голод дает себя знать. Помню, как-то вечером до того я ослаб и утомился, что стало мне невмоготу. Обогнул я гору, а сам тревожусь, что до Шатобрена еще далеко и, если встретятся мне по пути стражники, у меня силы не хватит от них бежать. Вдруг, гляжу, на тропинке тележка, полная доверху соломы, а возле стоит Жильберта и машет мне рукой. Это она вместе с Сильвеном искала меня повсюду, словно перепела в кустах. Я зарылся в солому. Жильберта тут же уселась наверху, и Сильвен довез нас до Шатобрена. Так я и въехал туда под самым носом у жандармов — они меня в двух шагах от того места искали.
В другой раз договорились мы, что Сильвен принесет мне еду и положит в дупло старой ивы, — до нее от Шатобрена не больше лье. Погода стояла мерзкая, дождь лил как из ведра; по правде сказать, опасался я, как бы плутишка — он ведь у нас особенно утруждать себя не любит — не прикинулся, будто позабыл про меня или, чего доброго, не съел мой обед по дороге.
Все-таки прихожу к назначенному часу, гляжу: корзина на месте, полная всякой снеди, старательно укрытая. И что же я возле ивы заметил? Угадайте-ка! Следы маленьких ножек на мокром песке. Осмотрелся: ясно было, что тут прошли ножки Жильберты, не раз утопая в грязи по щиколотку.
Дитя мое родное! Она и промокла, и перепачкалась, и утомилась, а никому не доверила заботу о старом своем друге!
А еще как-то встретила Жильберта жандармов. Они шагали прямо к старым развалинам, я же, не думая, что опасность так близко, спокойно спал среди бела дня. Жара была непереносимая! Как раз в тот самый день вы прибыли в наши края… Так вот, Жильберта кинулась ко мне по кратчайшей тропинке — а тропинка крутая, опасная: всаднику по ней ни за что не спуститься — и опередила жандармов на целых четверть часа; прибежала — сама вся красная, запыхалась, — будит меня и говорит: «Беги скорей куда глаза глядят!..»
Она тогда заболела, душенька, а старикам своим слова не сказала! Потому в тот вечер, как мы с вами ужинали в Шатобрене, я так беспокоился. Помните, Жанилла еще сказала, что Жильберта, мол, уже спит. Да что говорить! У нее с малых лет сердечко было золотое!
Как в сказке говорится: узнал бы про нее французский король, так за честь бы почел посватать ее за самого любимого своего сына!
Ростом она была еще с ноготок, но и тогда уже всякий мог сказать, до чего красивое и милое растет дитя.
Где угодно ищи, сынок, хочешь — среди знатных дам, хочешь — среди богачих, а только другой такой Жильберты, как наша из Шатобрена, не найдешь!
Эмиль слушал плотника с наслаждением, засыпая его вопросами и десятки раз заставляя повторять один и тот же рассказ.
Господин Кардонне недолго оставался в неведении относительно причин перемены, происшедшей в Эмиле. Куда делась сыновняя грусть, тягостные недомолвки, укоризненные намеки!
Казалось, у Эмиля никогда и не было с отцом никаких расхождений, казалось, он никогда не замечал, что господин Кардонне придерживается совсем иных взглядов, нежели он.
Во многих отношениях Эмиль стал ребячлив: без вздоха печали выслушивал любые планы касательно своих будущих занятий, пропускал мимо ушей то, что явно затрагивало его убеждения, мечтал о красоте летних рассветов, о далеких прогулках по никому не ведомым тропинкам, о прыжках через пропасти. И однако, из этих прогулок он не приносил ни эскизов, ни растений, ни образцов минералов, что не преминул бы сделать во всякое другое время.
Деревенская жизнь восхищала его. Край был прекраснейший на свете! Свежий воздух и верховая езда — исключительно целебны! Словом, все было превосходно — только бы не мешали ему носиться на воле! Если же и случалось ему погрузиться в задумчивость, то ненадолго; он стряхивал ее с себя и озирался с улыбкой, казалось, говорившей: «У меня есть над чем поразмыслить, а все, о чем вы говорите, — ничто в сравнении с тем, что меня занимает!..»
Если иной раз с помощью какой-нибудь уловки господину Кардонне удавалось удержать сына дома, Эмиль впадал в отчаяние. Но через минуту он смирялся, как смиряется человек, обладающий неиссякаемым запасом счастья, которого у него не отнимешь, и покорно выполнял отцовское поручение, спеша поскорее от него отделаться.
«Не иначе как тут замешана какая-нибудь красотка! — размышлял господин Кардонне. — Итак, любовь укротила эту мятежную душу! Что ж, весьма отрадно! Оказывается, философский пыл и умничанье не всегда могут устоять перед жаждой наслаждений или же чувствительными грезами! Как это я тогда не принял в расчет молодости со всеми ее страстями! Пусть бушует этот ураган: он снесет то препятствие, о которое разбились бы мои усилия. Я сам решу, когда наступит время обуздать этот вихрь. Торопись же порхать и любить, мой мальчик! Вспомни, что сталось с Гаржилесой, когда она взбунтовалась против меня. Так же смиришься и ты, как смирилась она, почуяв хозяйскую длань!»
Господин Кардонне не сознавал своей жестокости. Просто он не верил в силу и постоянство любви, и юношеское отчаяние смущало его не больше, чем детские слезы.
Если бы ему пришло в голову, что жертвой его выжидательной тактики может пасть Жильберта, вероятно, он призадумался бы. Но мания стяжательства и заповедь «всяк за себя», не позволили ему даже задуматься о возможном несчастье другого.
«Пусть старик Антуан сам следит за своею дочерью, — размышлял господин Кардонне. — Если этот пьянчуга и проворонит беду — у него командует служанка: это уж ее обязанность покрепче запирать на ночь дверь хваленого флигеля. Когда настанет пора, можно будет открыть дуэнье глаза».
Успокаивая себя подобными рассуждениями, господин Кардонне предоставил юноше полную свободу располагать своим временем и поступать, как ему вздумается. Он только подтрунивал над сыном и при случае желчно поносил семейство Шатобрен, желая застраховать себя от упрека, что открыто поддерживал в свое время домогательства сына.
По его мнению, Антуан де Шатобрен был ничтожеством, жалким субъектом, который, обнищав, опустился и отупел от безделья.
Господин Кардонне испытывал надменную радость, видя, как прежние владельцы поместий, разоряясь, вынуждены искать прибежища у народа, не осмеливаясь рассчитывать на покровительство и дружбу новоиспеченных богачей.
Не щадил он также и господина де Буагильбо, хотя последнего трудно было упрекнуть в распутстве либо в неумении держать себя.
Богатство, которое маркиз сумел сберечь, делало его в глазах господина Кардонне личностью куда более подозрительной, чем господин Антуан; и если графа он презирал, то к маркизу питал настоящую ненависть.
Он заявлял, что Буагильбо прямой кандидат в сумасшедший дом, и не раз повторял, что просто краснеет при мысли об этой бессмысленно долгой жизни и пропадающем втуне состоянии.
Эмиль пытался защищать господина де Буагильбо, скрывая, однако, что видится с ним раза два-три на неделе. Он боялся, как бы отец не запретил ему слишком часто навещать маркиза и тем самым не лишил его единственного предлога, оправдывавшего посещение замка Шатобрен, куда он ненадолго заглядывал по пути в Буагильбо.
Он особенно нуждался в таком предлоге в глазах Жильберты, так как отлично понимал, что со стороны господина Антуана ждать упреков не приходится; но Эмиль боялся, как бы Жанилла не стала внушать Жильберте, что ее достоинство требует держать на расстоянии молодого человека, который, по мнению света, слишком богат, чтобы стать ее мужем.
Юноша предвидел, что в один прекрасный день его чувства будут замечены.
«Но тогда, — думал он, — может статься, я буду любим и смогу заявить, что намерения мои серьезны».
Он, естественно, опасался, что его ждет бурное и длительное противодействие со стороны господина Кардонне. Но тут в нем вскипала отвага, крепчала воля и сердце трепетало, как у воина, готового ринуться в бой и сгорающего от желания водрузить знамя над разрушенной вражеской крепостью. Он дрожал, словно боевой конь, почуявший запах пороха.
Нередко, когда отец обрушивал свой холодный неистовый гнев на кого-либо из подчиненных, Эмиль, скрестив руки на груди и меряя его взглядом, размышлял:
«Посмотрим, испугаюсь ли я, согнет ли и меня натиск этого урагана, когда дерзкая рука посягнет на святая святых моей любви. Ах, отец! Вам удалось отвратить меня от моих любимых занятий, попрать все стремления, бушевавшие в моей груди, ранить мое самолюбие, оскорбить мои привязанности… Если вы потребуете в жертву мои умственные склонности, мои вкусы… Что же, я покорюсь!.. Но мою любовь!.. Нет, вы для этого слишком осторожны и проницательны!.. Вы убедитесь, что хотя я ваш сын и люблю вас, но я также ваша кровь и плоть и сумею вам противостоять. Мы разобьемся друг о друга, как две равные силы, и, чтобы стать победителем, вам придется сделаться детоубийцей!»
Эмиль жил в ожидании этого рокового дня, а пока стоически наблюдал, как отец срывает свою досаду на добряке Антуане и преданной Жанилле, осыпая их напрасными упреками. Эмиль равнодушно выслушивал все, вплоть до намеков на сомнительное происхождение Жильберты. Его весьма мало трогало, что в ее жилах течет плебейская кровь, и он пропускал мимо ушей разглагольствования господина Кардонне по этому поводу.
Впрочем, Эмилю казалось, что попытки защищать отца Жильберты от подобных обвинений были бы для господина Антуана даже оскорбительны. Юноша улыбался, подобно мученику, который, мужественно перенося пытки, бросает вызов палачам.
Невзирая на весь свой ум, господин Кардонне заблуждался, и он шел вместе с сыном к пропасти, надеясь в своей гордыне удержать Эмиля на самом ее краю. Он полагал, что знает человеческое сердце, ибо познал тайну человеческих слабостей; но тот, кому ведомы лишь низменное и ничтожное в жизни и в человеке, познал истину только наполовину.
«Я не раз вынуждал его сдаваться в более важных случаях, а тут — пустяки, какая-то любовная интрижка!»— думал господин Кардонне.
Если бы дело шло только о любовной интрижке, господин Кардонне был бы прав — в этом он кое-что смыслил; но подлинная любовь была ему неведома, и он не мог предвидеть, какую величественную или пагубную решимость она способна внушить.
Быть может, и господин де Буагильбо в свою очередь способствовал тому, что ревностный пыл Эмиля в отношении вопросов социальных несколько поутих. Ледяная невозмутимость маркиза порой выводила из себя пылкого юношу; но чаще Эмиль вынужден был признать, что прав этот хладнокровный пророк, который покорно принимал настоящее, полагаясь на свою веру в будущее.
Когда господин де Буагильбо взывал к Эмилю во имя логики — властительницы миров и матери человеческих судеб, — ему удавалось утишить и убедить юношу, но, слушая рассуждения отца, прибегавшего к обманчивой и грубой логике фактов, Эмиль горел возмущением.
Если несходство характеров Эмиля и господина Буагильбо и вызывало у нетерпеливого юноши нечто вроде благородной досады, все же более зрелый и стойкий ум вскоре вновь обретал над ним власть: старик обнаруживал скрытую силу, таившуюся в нем и возвышавшую его, если дозволено так выразиться, над самим собой.
Издевки господина Кардонне задевали Эмиля за живое и побуждали его к неуемному фанатизму. И наоборот, возвышенная логика рассуждений господина де Буагильбо примиряла его с самим собой; он испытывал невольную гордость, встречая признание у столь опытного и непреклонного в своих выводах старца.
Глубочайшее согласие, царившее между ними в самом существенном, исключало возможность длительных споров, а поскольку коммунистические теории являлись единственной темой, ради которой маркиз изменял своему обычному немногословию, им случалось зачастую, прогуливаясь рука об руку по аллеям, погружаться в молчаливую задумчивость.
Тем не менее Эмиль никогда не скучал в Буагильбо. Прекрасный парк, библиотека и в особенности сдержанная, но несомненная радость, испытываемая маркизом в его обществе, делали для него часы пребывания там приятным и драгоценным отдохновением от более пылких переживаний.
Сам того не замечая, он обретал здесь истинный приют, куда более отвечавший его вкусам, чем грохочущие мастерские или же родительский дом, которым по-военному круто командовал его отец. Но еще более милой его сердцу обителью стал Шатобрен.
Все тут было ему по душе: люди, развалины замка, даже домашние животные. Провести здесь всю свою жизнь — да это верх счастья, райское блаженство! Но после упоительных мечтаний снова всякий раз приходилось падать с небес на землю, и Эмиль предпочитал для этой цели Буагильбо, где падение ощущалось все же менее резко, чем в Гаржилесе. Здесь он словно был на полпути между пропастью и небесами, здесь было преддверие — переход из рая в чистилище. Его принимали так хорошо и так дорожили его обществом, что он привык чувствовать себя в Буагильбо как дома. Он возился с цветами в парке, расставлял по полкам книги и брал уроки верховой езды во дворе замка.
Мало-помалу старый маркиз познал радость общения, и в его улыбке стала иной раз проскальзывать настоящая веселость. Незаметно для него самого — а быть может, он только не желал в этом себе признаться — Эмиль стал ему необходим: юноша был его связью с живым миром. Пока Эмиль был рядом, могло показаться, что господин Буагильбо только снисходит до своего милого гостя, но всякий раз, прощаясь, юноша замечал, как еле уловимо менялось бледное лицо маркиза, и, когда нетерпеливый конь уносил Эмиля вниз по холму, из астматической груди старика вырывался вздох нежности и сожаления.
Наконец и сам Эмиль, изо дня в день вчитываясь в таинственные письмена этой души, понял, как сильно нуждается она в любви и сочувствии, как давно гнетет маркиза глухое раскаяние в том, что он обрек себя на одиночество, которое, очевидно, вызвано было серьезными причинами, а не просто болезненной склонностью.
Эмиль решил, что наступило время исследовать рану и предложить свое лекарство.
Он сотни раз произносил в беседе с маркизом имя Антуана де Шатобрен, но безуспешно: всякий раз оно без отзвука тонуло в тишине парка. Однако Эмиль повторял его вновь и вновь, так что старик принужден был услышать и ответить.
— Дорогой Эмиль, — сказал он однажды таким торжественным тоном, каким еще никогда не говорил с ним. — Вы можете причинить мне немалую боль, и, если вам так этого хочется, извольте — я подскажу вам самый верный способ: говорите со мною о лице, имя которого вы только что назвали.
— Я знаю, — возразил молодой человек, — но…
— Вы знаете? — воскликнул господин де Буагильбо. — Что вы знаете?
Он казался столь раздраженным, в угасших глазах его вспыхнуло столь мрачное пламя, что ошеломленный Эмиль невольно вспомнил, как маркиз при первом их свидании говорил о своей вспыльчивости, — впрочем, он произнес тогда эти слова таким равнодушным тоном, что Эмиль счел их простой шуткой.
— Да отвечайте же! — чуть менее резко, но с горькой усмешкой повторил господин де Буагильбо. — Если причины моего ожесточения вам известны, как же вы осмеливаетесь мне о них напоминать?
— Если они основательны, тогда я их, конечно, не знаю, — отвечал Эмиль. — Потому что те причины, которые называли мне, столь легковесны, что, видя ваш гнев, я уже начинаю в них сомневаться.
— Легковесны! Легковесны! Что же вам рассказывали? Говорите правду, не надейтесь, что вам удастся меня обмануть!
— Чем я дал вам право подозревать меня в такой низости? Разве я когда-нибудь лгал вам? — не сдержавшись, возмущенно возразил Эмиль.
— Господин Кардонне, — сказал маркиз, касаясь руки Эмиля рукой, дрожавшей, как осенний лист под ветром. — Я верю, что вы не станете забавляться моими страданиями. Говорите же, говорите все, что вам известно, — я должен знать.
— Мне известно лишь то, о чем толкуют, и ничего более. Утверждают, что двадцатилетнюю дружбу с господином Антуаном вы порвали из-за какой-то косули. Косуля эта была якобы ручная, прирученная вами забавы ради. Она выбежала из вашего заповедника, ну а господин де Шатобрен, повстречав ее неподалеку от вашего замка, по легкомыслию ее пристрелил. Легкомыслие действительно чрезвычайное: он отлично знал, что косули в здешних местах не водятся и что ему попалась одна из ваших любимиц… Но ведь господин де Шатобрен всегда был так рассеян… и, откровенно говоря, не такое уж это великое преступление, чтоб не простить его старому другу.
— Кто же вам рассказал эту историю? Он сам, конечно?
— Никогда он ничего не говорил по этому поводу — ни со мною, ни при мне. Рассказывал Жан, плотник. О нем ведь вы тоже слышать не желаете, хоть и поступили в отношении него весьма великодушно. Жан говорит, что никаких иных поводов к разладу между вами и господином Антуаном он не знает.
— Превосходное объяснение, что и говорить! От кого только Жан его услышал? Не сомневаюсь, что от служанки господина де Шатобрен!
— Нет, маркиз. Служанка говорит о вас так же редко, как и ее хозяин. То, что я вам рассказал, — это версия, распространенная среди крестьян.
— Ну что ж! По существу она правильна, — произнес господин де Буагильбо после длительного молчания, как будто совершенно успокоившись. — А что же вас тут удивляет, Эмиль? Разве вы не знаете, что иной раз достаточно одной капли, чтобы чаша переполнилась?
— Если чаша вашей горечи переполнилась от одной-единственной капли, да еще такой мизерной, как же мне не удивляться вашей обидчивости? У господина де Шатобрен я вижу один лишь недостаток: он несколько безволен и беспечен. Неужели его рассеянность и совершенная им оплошность виной тому, что его присутствие стало для вас непереносимо? Не узнаю вашей мудрой рассудительности! Я на вашем месте проявил бы куда больше терпения, а вы ведь часто называете меня действующим вулканом. Признаться, вечная рассеянность господина Антуана, пожалуй, веселит меня, а никак не раздражает: она свидетельствует о его непосредственности и простодушии.
— Эмиль, Эмиль! Не вам судить о подобных вещах! — в замешательстве возразил господин де Буагильбо. — Я сам очень рассеян и страдаю от собственных оплошностей. Но, очевидно, чужие оплошности для нас невыносимы… Говорят, любовь питается противоположностями. Двое глухих или двое слепых быстро бы наскучили друг другу. Одним словом, этот человек мне надоел. Не говорите мне больше о нем.
— Ни за что не поверю, что вы сказали это всерьез. Послушайте, благородный друг мой! Если я слишком назойлив, обратите весь ваш гнев против меня одного. Но я не могу не видеть, что этот прискорбный разрыв — один из главных источников вашей печали. В глубине души вы упрекаете себя в несправедливости. И, кто знает, не это ли единственная причина вашей нелюдимости! Мы с трудом переносим окружающих, когда в тайниках нашей души засела мысль, от которой мы не в силах отделаться. Я убежден — и беру на себя смелость сказать вам об этом, — что вы утешились бы, исправив зло, причиненное вами, и к тому же так давно, одному из ваших ближних.
— Зло? Я причинил ему зло? А какое это зло, позвольте спросить? Разве я ему мстил? Плохо о нем отзывался? Жаловался на него кому-нибудь? А вы — что вы знаете о моих подлинных чувствах к нему? Пусть он молчит, несчастный! Какая несправедливость! Он еще на меня жалуется!
— О нет, маркиз, он не жалуется, он оплакивает утраченную дружбу. Сожаление об этой утрате лишает его сна и омрачает ясную безмятежность этой мягкой, безвольной души! И он тоже неохотно упоминает ваше имя, но когда кто-либо говорит о вас в его присутствии, он осыпает вас похвалами, а на глаза его навертываются слезы. Но есть один близкий ему человек, который страдает еще более, нежели сам господин Антуан, — некто, кто вас уважает, боится и не осмеливается вас умолять; некто, чья любовь и признательность скрасили бы ваше одиночество и стали бы опорой вашей старости.
— Что вы хотите этим сказать, Эмиль? — спросил мучительно взволнованный маркиз. — Не о себе ли вы говорите? Уж не ставите ли вы мою снисходительность условием нашей дружбы? Это было бы весьма жестоко с вашей стороны!
— Речь идет не обо мне, — возразил Эмиль. — Я слишком глубоко вам предан, моя привязанность к вам совершенно непроизвольна. Я, право, не могу ставить никаких условий. Тот, о ком я говорю, знает вас только с моих слов, но уже понял вас и оценил по справедливости ваши достоинства. Я говорю об особе, которая в тысячу раз лучше меня; вы полюбили бы ее, как отец, если бы только узнали. Это ангел!.. Словом, я имею в виду мадемуазель Жильберту де Шатобрен.
Стоило Эмилю произнести это имя, на чары которого он в глубине души рассчитывал, как лицо господина де Буагильбо изменилось самым страшным образом. На впалых и бледных щеках вспыхнули два красных пятна; глаза чуть не вылезли из орбит; руки и ноги судорожно задергались. Он хотел заговорить, но вместо слов с губ его слетел какой-то нечленораздельный лепет. Наконец ему удалось овладеть собою, и он произнес:
— Довольно, сударь!.. Довольно! Это уж слишком… Не смейте никогда, слышите — никогда упоминать мне об этой особе.
И, оставив Эмиля одного среди скалистых пригорков парка, маркиз удалился в швейцарскую хижину, яростно захлопнув за собою дверь.
XIX Портрет
Несколько дней сряду Эмиль не появлялся в Буагильбо: слишком велика была его обида. Сначала он негодовал, возмущаясь непонятными и досадными причудами маркиза. Но вскоре, поразмыслив над странным происшествием, он почувствовал глубокое сострадание к этому человеку с больной душой, у которого за ясными мыслями и сердечными порывами таилось какое-то гибельное безумие, прорывавшееся приступами злобы и ненависти, близкими к помешательству.
Только так мог объяснить Эмиль то необычайное впечатление, какое произвело имя боготворимой им девушки на его престарелого друга. Он был настолько опечален этим открытием, что у него недостало духа упорствовать в своих безнадежных попытках и он решил поведать все без утайки Жильберте.
Однажды вечером Эмиль направился в замок; он болезненно ощущал свое поражение и впервые пришел в Шатобрен грустным. Но любовь — великая чародейка: нежданными милостями или ударами она равно опрокидывает все наши предположения.
Он застал Жильберту одну. Конечно, Жанилла находилась где-то поблизости: она отправилась на поиски заблудившейся козы; но так как молодые люди не знали, в какую именно сторону пошла старушка, они рассудили, что не стоит идти ей навстречу, и нашли в собственных глазах благовидное оправдание этому свиданию наедине. Жильберта тоже казалась немного грустной. Однако она затруднилась бы объяснить, почему и как получилось, что после пяти минут, проведенных с Эмилем, она позабыла все невеселые мысли, томившие ее в ожидании юноши.
В Шатобрене давно уже отобедали: по старинной привычке здесь садились за стол в те же часы, что и крестьяне, то есть утром, в полдень и по окончании работ, как и подобает тем, кто не превращает ночь в день.
Когда появился Эмиль, солнце клонилось к закату — в этот предвечерний час все становится прекрасным, значительным и сияет улыбкой. Эмиль подумал, что до сих пор еще не сумел постичь всей прелести Жильберты: красота ее так поразила его, как будто он видел любимую впервые, а ведь уже почти два месяца он жил в восторженном ее созерцании.
Так или иначе, но Эмиль вдруг пришел к заключению, что до этого дня не замечал всей роскоши ее волос, волшебства, таящегося в улыбке, непринужденной грации ее движений и бездонной глубины взгляда.
Ему надо было сказать ей столько важного, а он все позабыл. Он хотел только видеть и слушать ее. Все, что она говорила, было так удивительно, так ново для него!
Как живо Жильберта чувствовала великолепие природы, как умела вникать сама и объяснять другим все ее совершенство даже в мелочах! Если Жильберта показывала Эмилю цветок, он обнаруживал в нем оттенки, нежность и прелесть которых и не подозревал до того; если она любовалась небом, он находил, что никогда не видел такого чудесного небосвода; пейзаж, на который она смотрела, внезапно становился сказочным. И Эмиль твердил только одно:
— О да, это прекрасно, действительно прекрасно! О, вы правы, как верно вы все замечаете и как тонко выразили!
Влюбленным присуща некая пленительная глупость — все у них имеет тайный смысл: «Я люблю вас!» И напрасно мы стали бы искать иного смысла в их всегдашнем и полном единодушии.
Пусть Жильберта была менее опытна, чем Эмиль, но она была женщина и лучше разбиралась в своих чувствах, а Эмиль любил так, как человек дышит, не задумываясь над тем, что каждый миг нашего существования — или загадка, или чудо.
— Жильберта чаще вопрошала свое сердце и больше дивилась захватывавшему ее чувству. Но вот она сделала над собой усилие и первая нарушила тот молчаливый разговор, когда можно поведать друг другу так много, не произнося ни слова.
Она завела речь о господине де Буагильбо, и Эмиль был вынужден сказать ей, что потерял последнюю надежду. Вся утихшая было скорбь ожила в нем при этом признании, и он горько сетовал на судьбу, которая отнимала у него единственную возможность услужить господину де Шатобрен и угодить Жильберте.
— Не горюйте, — сказала девушка задушевным тоном, — я все же признательна вам. Ваши старания и настойчивость не пропали даром: я, по крайней мере, теперь спокойна. Узнайте же, что мучило меня более всего. Надменное упрямство маркиза и великодушное смирение батюшки вселили в мое сердце тяжкое подозрение. Я вообразила, что батюшка — конечно, сам того не желая, — совершил какой-то тяжкий проступок, хотела узнать эту тайну и взять на себя искупление его вины. О, я не пожалела бы жизни. Но теперь…
— Теперь? Так что же теперь? — спросил господин Антуан, неожиданно появляясь из-за поворота аллеи, скрытого от глаз разросшимся кустарником, и улыбаясь с обычным своим доверчивым и добродушным видом. — О чем это вы ведете такую серьезную беседу, черт возьми? И ради чего ты не пожалела бы жизни, малютка? Она, я вижу, избрала вас, Эмиль, своим духовником и кается, что в сердцах убила муху! Ну, говорите же! Ей-богу, у вас обоих такой смущенный вид, что просто смешно смотреть. Неужели у вас завелись тайны от старика отца!
— О нет, батюшка, у меня никогда от вас не будет тайн! — вскричала Жильберта и, обняв господина Антуана за шею, прижалась розовой щечкой к его бронзовому от загара лицу, — И раз уж вы подслушали нас здесь, хоть и не под дверью, а под открытым небом, так извольте узнать, о чем шла речь. Если что-либо и покажется вам предосудительным, не порицайте меня: ведь вы слышали только мои последние слова и истолковали их по-своему — значит, вы потеряли право осуждать меня. Постойте, сударь, я все сама расскажу батюшке. Пусть он знает. Вас огорчает, дорогой отец, несправедливый гнев господина де Буагильбо, тем паче что вызван он сущим пустяком…
— Черт побери! Ты-то зачем в это вмешиваешься? Чего ради? Ты ведь знаешь, что мне неприятно, когда говорят о маркизе, — сказал господин Антуан, и веселое лицо его внезапно омрачилось.
— И все-таки поговорим об этом — пусть в последний раз, — настаивала Жильберта. — Возможно, мои слова и огорчат вас, зато они снимут тяжесть с вашей души. Милый батюшка, зачем вы отворачиваетесь? Почему у вас такой озабоченный вид? Вы же знаете, как это мучит вашу Жильберту. Я понимаю, вы не хотите, чтобы я упоминала имя маркиза. Вы всегда говорили, что ваши распри меня не касаются, что я ничего в них не смыслю. Но ведь я уже не девочка! Я достаточно взрослая, чтобы разделить и понять ваши заботы и тем более — утешить вас. Так выслушайте же меня! Я спрашивала господина Кардонне — он ведь часто бывает у маркиза и пользуется его доверием в важных делах, — какие чувства питает к нам господин де Буагильбо. Я сказала, что отдала бы жизнь, лишь бы избавить вас от раскаяния за то невольное оскорбление, какое вы нанесли когда-то маркизу. Ведь правда, я это говорила?
— Ну, а дальше что? — спросил господин де Шатобрен с удрученным видом, прижимая хорошенькую ручку дочери к своим губам.
— Ну, а дальше, — продолжала Жильберта, — господин Эмиль рассказал мне то, что я хотела узнать: он говорит, что господин де Буагильбо затаил против нас ужасную обиду. Но не стоит печалиться по этому поводу, ибо обида неосновательна и вам, слава богу, не в чем себя упрекнуть. Впрочем, я ни на минуту в том не сомневалась, дорогой батюшка. Я знала, что если вы и провинились в чем-нибудь перед маркизом, то единственно по вечной своей рассеянности. Поэтому, умоляю вас, утешьтесь, не огорчайтесь тем, что бывший друг питает к вам злобу. Господин де Буагильбо в самом деле таков, каким его считают, и вам не остается ничего другого, как признать, что несчастный маркиз помешан.
— Помешан? — воскликнул господин Антуан в ужасе и тоске. — Действительно помешан? Вы сами слышали, Эмиль, как он заговаривается? Он сильно страдает, жалуется? Его помешательство установлено врачами? Какая ужасная весть!
И добряк Антуан бессильно опустился на скамью, тщетно пытаясь удержать глубокие вздохи, разрывавшие его могучую грудь.
— Боже мой! Посмотрите, как он все еще любит маркиза! — вскричала Жильберта, бросаясь на колени перед отцом и покрывая его руки поцелуями. — О простите, простите меня, батюшка! Я сделала вам больно, я не подготовила вас к этой вести. Да помогите же мне успокоить его, Эмиль.
Юноша вздрогнул, услышав обращение Жильберты: в своем волнении она впервые назвала его просто «Эмиль», а не «господин Эмиль». Она обратилась к нему как к брату, и в порыве умиления он опустился рядом с ней на колени перед господином Антуаном, который так разволновался и побагровел, что можно было опасаться апоплексического удара.
— Успокойтесь! — сказал Эмиль. — До помешательства дело еще не дошло и, надеюсь, никогда не дойдет. Господин де Буагильбо находится в добром здравии и твердой памяти. Он помешан на одном лишь пункте, если можно так назвать неприязнь, какую он питает к вашему семейству, но ведь это — давний недуг. Понятно, что, наблюдая подобную странность у человека, весьма спокойного и терпимого во всех прочих отношениях, я счел, что для этого должны быть важные причины. Но сейчас я с полным основанием могу заявить, что их нет; уверен, что это лишь признак временного помешательства, которое пройдет само собой, если не возвращаться в разговоре с ним к запретной теме. К тому же не только вы один вызываете приступы его безумия, есть и другие люди, которые внушают ему то же чувство ужаса и болезненной неприязни, а ведь он совсем их не знает и никак уж не имеет причин на них жаловаться.
— Объяснитесь же — сказал господин Антуан, переводя дыхание. — Кто это?
— Ну, например, Жан, — ответил Эмиль. — Вам хорошо известно, что у господина де Буагильбо нет никаких оснований избегать Жана, и наш добрый друг положительно не может понять, чем он провинился перед маркизом.
— Совершенно верно, ни маркиз, ни кто другой не может ни в чем упрекнуть Жана, но я знаю, почему господин де Буагильбо так поступает. Ну ладно, оставим это! Если речь идет только о Жане, поверьте мне: маркиз ничуть не помешан. Он просто несправедлив в отношении нашего милейшего Жапплу. Но разубедить маркиза так же невозможно, как невозможно залечить рану, которая кровоточит в его сердце. Бедный Буагильбо! Ах, Жильберта, я сам не пожалел бы жизни, лишь бы он забыл прошлое. Но не будем больше об этом говорить!
— Постойте, дорогой батюшка! Еще одно, последнее слово, — проговорила Жильберта, — и вы все поймете! Маркиз ожесточился не только против Жана, но даже против меня, — а меня он видел всего два-три раза, никогда со мной не разговаривал и уж конечно не имеет причин на меня сердиться. Господин Кардонне может вам подтвердить, что, когда, желая успокоить маркиза, он произнес мое имя, тот пришел в неописуемый гнев, как будто господин Эмиль упомянул о его смертельном недруге! Он хлопнул дверью и закричал: «Не смейте, слышите, никогда не смейте говорить в моем присутствии об этой особе!»
Господин Шатобрен опустил голову и несколько мгновений сидел молча. Он поминутно отирал пот с широкого лба грубым платком в синюю клетку. Наконец он взял руки Жильберты и Эмиля в свои и бессознательно соединил их. Бедняга был глубоко озабочен собственными мыслями, ему и в голову не приходило, что они могут любить друг друга.
— Дети мои, — сказал он, — вы думали сделать мне благо, а причинили боль. Спасибо вам за добрые намерения, но прошу вас, дайте мне слово не говорить никогда об этом ни друг с другом, ни со мной, ни с Жаниллой или Жаном. И вы, Эмиль, не касайтесь этого вопроса в беседе с господином де Буагильбо. Никогда, слышите — никогда! — добавил он самым решительным и торжественным тоном, на какой только был способен.
Затем он повернулся к Эмилю и, по рассеянности еще крепче прижимая его руку к руке Жильберты, растроганно произнес:
— Дорогой мой Эмиль, вы совершили большую оплошность из дружеского расположения ко мне. Вспомните-ка, что я вам говорил, когда вы в первый раз собирались в Буагильбо? Я вам сказал: «Не произносите моего имени в этом доме, если не хотите повредить нашему общему другу Жану». И что же? Кончилось тем, что вы позабыли о моем предупреждении и повредили также и мне. Поверьте, господин де Буагильбо помешан не больше, чем любой из нас троих, и если он несправедлив к Жану и моей дочери, которые неповинны в моих проступках, происходит это потому, что чувство неприязни, какое вызывает в нас недруг, мы, вполне естественно, переносим на его родных и близких. Если бы господин де Буагильбо мог читать в моем сердце и все же не простил бы меня, тогда вы могли бы назвать его жестоким, но он слишком страдает. Уважайте же его горе, Эмиль, и не считайте помешанным этого несчастного человека: он заслуживает полного вашего сочувствия, дружбы и уважения. Итак, ради моего спокойствия обещайте не устраивать больше никаких заговоров: они непременно обернутся против меня.
Эмиль и Жильберта, трепеща от волнения, обещали повиноваться, и господин Антуан добавил:
— Дети мои, бывают неисцелимые страдания и кара, которую надо терпеть молча! Ну, а теперь пойдемте посмотрим, не нашла ли Жанилла козу. Взгляните-ка, я принес вам целую корзину абрикосов. Я видел, Эмиль, как вы подымались по тропинке, и мне захотелось угостить вас первыми плодами из нашего старого сада.
Сделав над собой усилие, господин Антуан вновь обрел присущее ему хорошее расположение духа, и даже скорее, чем Жильберта и Эмиль. Юноша не решался больше ни о чем спрашивать, ничего выяснять, ибо все, что касалось Жильберты, стало для него священным. Достаточно было просьбы господина Антуана забыть о происшедшем, — и он уже забыл. Но у него оставалось немало других причин для волнения; к тому же любовь пустила в его сердце такие глубокие корни, что он сделался, пожалуй, еще более рассеянным, чем сам господин де Шатобрен.
Когда Эмиль, ехавший в одиночестве по направлению к дому, добрался до перекрестка, где ответвлялась дорога, ведущая в Буагильбо, Вороной, привыкший и тут и там получать добрую порцию овса, повернул к имению маркиза.
Эмиль не сразу заметил это, а заметив, подумал, что такова воля провидения: он вспомнил, что обещал любить старика маркиза как отца, а меж тем оставил его на много дней во власти печального одиночества; он решил немедля просить у маркиза прощения, пусть даже его ждет суровый прием.
Достигнув подножия холма, Эмиль увидел, что ворота еще не заперты на ночь. Он въехал в парк и направился к швейцарскому домику, рассчитывая, что если и не застанет сейчас маркиза, то с наступлением ночи хозяин наверняка явится туда.
Привязав Вороного у террасы, Эмиль тихонько постучал в дверь, а так как к заходу солнца поднялся легкий ветерок, ему почудилось, что он расслышал внутри движение и даже слабый голос маркиза, приглашающий его войти. Однако это ему только показалось: отворив дверь, он увидел, что в домике никого нет. Но господин де Буагильбо мог находиться в таинственной задней комнате, куда он удалялся каждый вечер. Эмиль кашлянул, скрипнул половицей, чтобы предупредить хозяина о своем присутствии: он твердо решил лучше уйти, не повидав маркиза, чем переступить порог двери, закрытой для всех без исключения.
Но никто не отозвался, и Эмиль, решив, что маркиз, должно быть, еще в замке, хотел уйти. Вдруг порыв ветра с силой распахнул окно и дверь задней комнаты. Эмиль повернулся, ожидая увидеть на пороге господина де Буагильбо. Однако никто не показался, а перед Эмилем предстал маленький рабочий кабинет, где, в противоположность покоям замка, царил величайший беспорядок.
Эмиль ни за что не вошел бы в эту комнату: ему казалось нескромным даже издали разглядывать бедную, простую обстановку и груду старых книг и бумаг, наваленных на столе и едва различимых в полумраке. Но его внимание невольно привлек женский портрет в натуральную величину, висевший в глубине кабинета, как раз напротив двери, так что его нельзя было не увидеть, а увидев, трудно было оторвать взор от пленительного облика, запечатленного столь совершенной кистью.
Дама была одета по моде времен Империи; небесно-голубая, богато расшитая кашемировая шаль, падавшая с плеч свободными складками, скрывала стан красавицы, возможно, недостаточно гибкий и стройный. Светлые волосы чудесного золотого оттенка, уложенные в так называемые «натуральные» локоны, обрамляли прелестное чело.
Никогда еще Эмиль не видел более тонкого и очаровательного личика. Это была, без сомнения, госпожа де Буагильбо; и наш герой, позабыв все на свете, стал внимательно разглядывать черты той женщины, чья жизнь и смерть, по-видимому, оказали такое большое влияние на судьбу отшельника.
Но портрет редко дает правильное представление о характере оригинала, и в большинстве случаев можно с уверенностью сказать, что изображение человека меньше всего отражает его сущность.
Эмиль представлял себе маркизу бледной и печальной, а перед ним была изящная красавица, благородная и величавая, с нежной и гордой улыбкой. Писал ли художник ее портрет до замужества, или такой она стала в последние годы жизни? А может быть, маркиза де Буагильбо просто была совсем иная, чем он предполагал?
Одно было ясно: из рамы на него глядело чарующее лицо! И так как Эмиль теперь уже не мог смотреть на изображение молодой и прекрасной женщины, не представив себе тотчас образ Жильберты, он начал сравнивать их лица и с каждой минутой, как ему казалось, обнаруживал все большее сходство.
День быстро угасал, а Эмиль не решался ни на шаг приблизиться к таинственной комнате и вскоре почти перестал различать очертания лица маркизы.
Только нежная кожа и золотистые волосы светлым пятном выделялись на полотне, создавая столь обманчивое впечатление, что Эмилю стало казаться, будто перед ним портрет Жильберты. Но мало-помалу перед его глазами поплыл туман, пронизанный сверкающими искорками, и только тогда, перестав видеть портрет, Эмиль с трудом вспомнил, что по первому впечатлению — единственно верному в подобных случаях — он не уловил ни малейшего сходства между госпожой де Буагильбо и Жильбертой.
Выйдя из домика и никого не встретив в аллеях парка, Эмиль направился к замку.
Он пересек огромный двор, по-прежнему безмолвный и уединенный, поднялся по лестнице башенки, но навстречу ему не вышел даже Мартен, чтобы доложить о нем маркизу, — церемония, которую старый дворецкий неизменно выполнял, хотя Эмиль был здесь единственным постоянным гостем.
Наконец юноша добрел до темной гостиной, куда даже днем сквозь плотно запертые ставни не проникал свет. Охваченный смутным страхом, словно смерть вошла в этот дом, где давно уже угасла жизнь, Эмиль стремглав пробежал через анфиладу комнат и тут увидел лежавшего на постели господина де Буагильбо.
Маркиз был бледен и недвижим, как труп. Лучи заходящего солнца освещали скупым, печальным светом небольшую спальню, и сидевший у изголовья хозяина старый Мартен, который из-за глухоты не расслышал шагов Эмиля, походил скорее на статую.
Эмиль бросился к постели и схватил руку маркиза. Она горела огнем; но тут больной пробудился он своего болезненного забытья, а старый его слуга стряхнул с себя дремоту, навеянную усталостью или скукой, и гость с облегчением узнал, что недомогание маркиза не представляет большой опасности. Однако последствия двух дней болезни ослабили это и без того немощное и хилое тело и побуждали опасаться за будущее.
— Как хорошо, что вы приехали, — сказал господин де Буагильбо, слегка пожимая руку Эмиля. — Без вас я совсем извелся бы от тоски.
Мартен, конечно, не слышал этой фразы, но мысли маркиза каким-то чудом передавались ему, и он повторил вслед за хозяином громким, как у всех глухих, голосом:
— Ах, господин Эмиль, до чего же хорошо, что вы приехали! Маркиз очень скучал без вас.
И старый слуга рассказал, как третьего дня его хозяин собрался было отбыть на покой в свой швейцарский домик, но вдруг почувствовал озноб и «преспокойно решил, что умирает». Он захотел, чтобы его положили в этой самой комнате, хотя обычно здесь не ночевал, и отдал такие распоряжения, точно не надеялся больше подняться. Ночь прошла довольно плохо, а наутро маркиз сказал:
«Я чувствую себя лучше, все обойдется. Но я так устал, будто совершил длинное путешествие, и хочу отдохнуть. Не волнуйся, Мартен. Несколько дней отдыха, немножко покоя и никаких докторов — такова моя воля! А главное, не тревожься!»
— А так как я, конечно, тревожился, — продолжал старый слуга, — маркиз и говорит мне: «Не грусти, друг мой. Это еще не на сей раз».
— Разве маркиз подвержен таким недомоганиям? — спросил, Эмиль. — Они и впрямь серьезны? Долго ли они длятся?
Эмиль позабыл, что Мартен не слышит никого, кроме своего хозяина.
— Я дал выговориться Мартену, — сказал господин де Буагильбо, когда по его знаку дворецкий вышел из комнаты, — беднягу все равно не остановишь. Но я надеюсь, что, выслушав рассказ Мартена, вы не сочли меня трусом.
Я не боюсь смерти, Эмиль! Когда-то я даже желал ее, а теперь спокойно ожидаю. Уже давно я чувствую ее приближение, но она не спешит, и я умру так же, как жил, — не торопясь.
Я подвержен приступам лихорадки, которая лишает меня сна и аппетита. Ее, однако, никто не замечает, ибо она оставляет мне достаточно сил для тех немногих дел, какими я еще в состоянии заниматься.
Я не верю в медицину: до сих пор она не нашла средств, которые облегчали бы страдания, не разрушая основ жизни. Что бы ни предпринимала медицина, это все игра вслепую; да к тому же я предпочитаю пасть от десницы бога, чем воспрянуть от руки человека.
На сей раз я страдал более обычного. Я чувствовал, что дух мой слабеет; и без ложного стыда признаюсь вам, Эмиль, я понял, что не могу больше жить в одиночестве.
Старики, подобно детям, легко идут за новым счастьем, но, потеряв его, не могут утешиться столь же легко, как дети. Они снова становятся тем, чем были, — стариками, и умирают. Не придавайте значения моим словам: лихорадка располагает меня к излияниям. Дайте мне выздороветь, и я никогда больше не заговорю и даже не вспомню о тоске одиночества, но инстинктивно буду чувствовать ее, несмотря на мою апатию. Не считайте на этом основании, что вы прикованы к моей печальной старости. Не все ли равно, проживу я годом больше или меньше и закроет ли дружеская рука глаза того, кто был так одинок. Но раз вы вернулись, — спасибо. Давайте говорить не обо мне, а о вас. Что вы делали в течение всех этих тоскливых для меня дней?
— Я также тосковал вдали от вас, — ответил Эмиль.
— Что ж, возможно! Такова жизнь, таков человек: страдать самому и причинять страдания другим. В этом одно из великих доказательств единения душ.
Эмиль провел два часа подле маркиза, который был еще более откровенен и благосклонен к нему, чем обычно. Юноша почувствовал, как крепнет его привязанность к старику, и дал себе зарок не причинять ему впредь страданий. Прощаясь, он выразил сожаление, что позволил больному разговаривать слишком много.
— Не тревожьтесь, — ответил маркиз. — Приезжайте завтра и вы увидите, что я буду уже на ногах. Ведь истощает нас не болезнь — убивает и сушит отсутствие близкого человека, которому можно было бы открыть душу.
XX Крепость Крозан
На другой день маркиз и в самом деле почувствовал себя настолько лучше, что даже позавтракал вместе с Эмилем. Отныне ничто не омрачало этой необычной дружбы старика и юноши, и Эмиль, памятуя недавние уверения господина де Шатобрен, не смущался больше мыслями о безумии маркиза и всей душой наслаждался его обществом.
Эмиль сдержал слово, данное господину Антуану, и остерегался упоминать о владельце Шатобрена, но зато открыл маркизу другие тайны своего сердца, ибо не мог не рассказать ему о своем прошлом и не поделиться с ним мечтами о будущем; он поведал маркизу о сопротивлении отца, которое принесло ему и, несомненно, принесет еще немало страданий, пусть на время они и поутихли.
Господин де Буагильбо одобрил намерение Эмиля оставаться почтительным и покорным сыном, но удивлялся рвению, с каким господин Кардонне старался заглушить естественные склонности и порывы юноши, столь трудолюбивого и так счастливо одаренного природой.
Маркиз верил, что способности и интерес Эмиля к сельскому хозяйству свидетельствуют о благородном и достойном призвании, и нередко думал, что, выпади ему счастье иметь такого сына, он еще при жизни сумел бы найти применение своему огромному состоянию, которое предназначал для бедных в будущем, но не знал, как использовать в настоящем.
Не раз он, вздыхая, думал: «Благословенна участь человека, у которого есть сын, друг, преемник, способный плодотворной деятельностью и талантами внести свою лепту в дело его жизни».
В глубине души он осуждал господина Кардонне за то, что тот употребляет во зло силы и средства, дарованные ему богом, чтобы делать добро, и видел в отце Эмиля слепого и упрямого тирана, который чтит деньги превыше всего — превыше счастья не только других людей, но и собственного сына, как будто человек — раб материальных благ, а не слуга истины.
Господин де Буагильбо не был чрезмерно религиозным. Эмиль полагал даже, что он слишком равнодушен к вопросам веры. Говоря: «Я верую в бога», маркиз отнюдь не подразумевал под этим: «Я поклоняюсь ему». Когда в минуту наивысшего подъема, на какой только маркиз был способен, мысль его возносилась к творцу вселенной, он не молился, он как бы воздавал ему должное и говорил: «Имя его — премудрость», а когда Эмиль добавлял: «Имя его — любовь», старик пояснял: «Это одно и то же», — и был прав.
Эмиль не находил нужных возражений, но по тому, какой упор делал маркиз на величие божественного разума и логики, юноша чувствовал, что маркизу чужд тот горячий восторг перед неисчерпаемой благостью всемогущего, каким всегда было переполнено его собственное сердце. Зато когда несчастья, человеческие слабости, низость и все зло мира слишком явно опровергали идею милосердного провидения и Эмиль падал духом — тут воззрения старого философа одерживали верх.
Маркиз никогда не испытывал сомнений, да и не мог их испытывать. Ему не надо видеть, чтобы знать, говорил он не раз, и долгая чреда бедствий, обрушивающихся на наш грешный мир, не могла поколебать в его глазах извечный нравственный закон, как не могут набегающие на солнце тучи изменить закон физический.
Эта безропотность объяснялась отнюдь не смирением или кротостью, ибо, по словам маркиза, перед личными невзгодами он склонялся лишь внешне, но считал вселенную носительницей фатального оптимизма, и вера эта была наиболее отличительной чертой его ума и характера, хотя и противоречила его личному пессимизму.
— Взгляните, — говорил он, — логика есть во всем! Она бесконечна в божьих творениях, но несовершенна и неуловима в каждой отдельной вещи, ибо каждая вещь конечна, в том числе и сам человек, хотя он — наиболее разительное выражение бесконечности в нашем маленьком мире. Ни один человек не может постичь безграничной премудрости — разве только как понятие отвлеченное, ибо, сколько бы он ни искал ее в себе или вокруг себя, он не может никоим образом ее уловить и доказать. Вы часто называете меня логиком — согласен. Я люблю и ищу логику повсюду. Я чувствую в ней огромную потребность, и все, что ей чуждо, не мило моему сердцу. Но логичен ли я в своих поступках и побуждениях? Менее, нежели кто-либо другой. Чем больше я себя изучаю, тем большую бездну противоречий и беспорядочного хаоса обнаруживаю в своей душе. Что ж! Я лишь частный пример того, что представляет собой человек вообще; и чем нелогичнее я в своих собственных глазах, тем яснее ощущаю веяние божественной логики над моей головой. Я заблудился бы без этого небесного компаса и опрометчиво возложил бы на вселенную ответственность за собственную немощь.
Однажды маркиз предложил Эмилю верховую прогулку, и они объехали его обширные владения. Эмиля поразило, что такие огромные земли приносят столь скромные доходы.
— Я сдаю в аренду фермы по самой низкой цене, — объяснил маркиз. — Если человек не умеет извлекать прибыль из современного хозяйства, единственно, что ему остается делать, это как можно меньше отягощать трудолюбивого хлебопашца. Вы сами видите, люди благодарны мне и желают долгих лет жизни. Это понятно. Они считают меня очень добрым человеком, хотя я и кажусь им чудаком. Они не понимают, что моя любовь к ним особого рода: ведь в моих глазах они жертвы, которых я спасти не могу, но и палачом их быть не желаю. Я отлично знаю, что при разумном ведении дел эти земли могли бы приносить во сто крат больше того, что приносят сейчас. Мне легче, когда я мечтаю о будущем: я свято верю в наступление того дня, когда мое имение станет ареной свободного труда множества разумных людей; но я не могу закрывать глаза на нынешнее состояние моих земель, и это зрелище печалит мне сердце и леденит душу; вот потому-то я так редко выезжаю.
И действительно, почти два года господин де Буагильбо не навещал своих ферм и не объезжал владений. Он решался на этот шаг только в случае крайней необходимости. Крестьяне встречали его с уважением и любовью, к которым, однако, примешивался какой-то суеверный страх, ибо, в силу своих странностей и привычки к уединению, он слыл у деревенских жителей чуть ли не колдуном.
Не раз во время грозы крестьяне с горечью говорили: «Если бы господин де Буагильбо захотел, он мог бы отвести от нас град, ведь это в его власти! Но он не делает того, что может, а ищет неведомо чего! И, бог весть, найдет ли!»
— А что сделали бы вы, Эмиль, со всеми этими землями, если бы они принадлежали вам? — спросил маркиз на обратном пути. — Ведь я заставил вас совершить эту скучную поездку лишь затем, чтобы узнать ваше мнение.
— Я бы дерзнул… — начал с живостью Эмиль.
— Конечно, — подхватил маркиз, — я также дерзнул бы, если бы мог, основать настоящую коммуну. Но попытки мои оказались бы тщетными, я потерпел бы неудачу. Да и вы, быть может, тоже.
— Ну и пусть!
— Вот благородный и безрассудный глас юности: пусть неудача, лишь бы только действовать, не так ли? Юность уступает желанию действовать и не замечает препятствий. А они меж тем повсюду, и самое серьезное из них — люди. Ваш батюшка прав, ссылаясь на простую, но все еще очень важную причину: умы недостаточно зрелы, сердца не подготовлены. Я вижу земли и сильные руки, но не вижу души, освобожденной от всевластного себялюбия, которое царит над миром. Нужно какое-то время, Эмиль, дабы созревшая идея распространилась среди людей; и ждать этого не так долго, как думают. Я этого не увижу, но вы, Эмиль, увидите. Итак, терпение!
— Как же это? Разве время может сдвинуть что-либо без наших усилий?
— Нет, но для этого мы должны объединить наши усилия. В иные эпохи приходится мириться с тем, что не можешь осуществить свой идеал и лишь проповедуешь его, а затем наступают времена, когда человек получает возможность делать и то и другое. Вы чувствуете в себе достаточно сил?
— О да!
— Тем лучше! Я тоже верю в вас. Что ж, Эмиль, когда-нибудь мы еще вернемся к этому вопросу… скоро, быть может, при первом же приступе лихорадки, когда мой пульс будет биться сильнее, чем сегодня…
В таких разговорах черпал Эмиль силы, чтобы хоть как-нибудь скоротать часы, которые он проводил вдалеке от Жильберты. Но его дружба с маркизом страдала оттого, что он не мог говорить с ним о Жильберте, о своей любви к ней. Впрочем, счастливая любовь хороша тем, что может обходиться без ободрения окружающих, а для нашего героя еще не наступил тот час, когда в минуту отчаяния влюбленный чувствует потребность жаловаться и искать поддержки.
В чем же заключалось его счастье? И вы еще спрашиваете! Во-первых, он любил, а тому, кто истинно любит, этого достаточно. Затем, он знал, что любим, хотя еще ни разу не осмеливался заговорить о своей любви, тем более что ему не отважились бы ответить.
Между тем на горизонте сгущались тучи, и вскоре Эмиль почувствовал приближение грозы. Однажды, — когда он уезжал из Шатобрена, Жанилла сказала ему:
— Не заглядывайте к нам денька три-четыре! У нас, знаете ли, дела в окрестностях, и нас не будет дома.
Эмиль побледнел, как будто выслушал свой приговор: у него едва достало силы спросить, когда же семейство Шатобрен вернется в родные места.
— Вероятно, к концу недели, — ответила Жанилла. — Впрочем, возможно, я останусь здесь: не в таких я летах, чтобы лазать по горам. Вот вы по дороге и наведывайтесь ко мне — узнать, не вернулись ли господин Антуан с барышней.
— Значит, вы разрешаете нанести вам визит? — спросил Эмиль, пытаясь улыбнуться, чтобы скрыть охватившую его смертельную тоску.
— А почему бы и нет, если вам это приятно? — ответила старушка с важной миной, в которой, однако, подозрительный Эмиль почуял лукавство. — Я не боюсь, что меня за это осудят.
«Все кончено! — подумал Эмиль. — Мои домогательства замечены; и хотя господин Антуан и Жильберта еще ни о чем не догадываются, старуха задумала меня удалить. Она пользуется в доме неограниченной властью, и решительная минута настала».
— Ну что же, мадемуазель Жанилла, — сказал он, — я явлюсь завтра же и с удовольствием поболтаю с вами.
— Вот и хорошо! — подхватила Жанилла. — Я тоже не прочь поболтать. Но как раз завтра мне надо дергать коноплю, так что приезжайте лучше послезавтра. Ладно? Помните же, я буду дома весь день. До свидания, господин Эмиль. Мы побеседуем с вами по душам. Что поделаешь, ведь я вас тоже очень люблю!
Эмиль не сомневался более, что старая домоправительница Шатобрена догадалась о его любви к Жильберте. Какой-нибудь услужливый сосед в разговоре с ней подивился тому, что встречает Кардонне чуть ли не каждый день на пути к замку. Господин Антуан еще ничего не подозревал. Жильберта также. Когда девушка объявила Эмилю о том, что отец ее уезжает на короткое время, она, видимо, сама еще не предполагала, что Жанилла отправит и ее. Хитрая старушка составила целый план: сначала удалить Эмиля, а затем устроить внезапный отъезд Жильберты, чтобы выиграть несколько дней и предотвратить маленькую бурю, которая, как она предвидела, может разразиться в душе влюбленного юноши.
«Итак, придется сказать все откровенно, — подумал Эмиль. — Да и к чему откладывать? Тайные мои надежды неизбежно станут явными. Я открою верной Жанилле и добряку Антуану, что люблю Жильберту и прошу ее руки. Пусть они дадут мне некоторое время, я признаюсь во всем батюшке, мы условимся с ним, какое поприще надлежит мне избрать, так как я до сих пор еще ни на чем не остановил своего выбора. Пора решиться. Предстоит жестокая борьба, но я буду тверд — ведь я люблю! Теперь дело не во мне одном, и я проявлю непреклонное мужество, буду красноречив, уговорю отца».
Несмотря на такую уверенность, Эмиль все же провел тревожную ночь. Он представлял себе беседу с Жаниллой и, зная ее настойчивость и прямоту, мог заранее предугадать все вопросы и ответы.
«Ну что же, — непременно скажет ему Жанилла, — прежде всего переговорите с вашим батюшкой, получите его согласие. Незачем смущать попусту господина Антуана, ведь вы еще не можете сделать официальное предложение. До тех же пор или вовсе не приезжайте к нам, или наведывайтесь пореже. Никто не обязан знать ваши намерения, а Жильберта не такая девушка, чтобы слушать вас, не будучи уверенной, что она станет вашей женой».
Эмиль боялся также, что Жанилла, наделенная от природы здравым смыслом, поймет, что не так-то легко получить согласие господина Кардонне, и запретит Эмилю посещать их дом до тех пор, пока молодой человек не докажет своим поведением, что волен располагать собою.
Итак, юноша ясно видел, что сперва ему придется повести борьбу с отцом, а затем уже действовать смотря по обстоятельствам; до той минуты, пока не появится твердая надежда, что он победит, бывать в Шатобрене лишь изредка, а если надежды его рухнут, то и вообще не смущать более покоя семьи Шатобрен бесполезными признаниями — и, значит, уйти, отказаться от Жильберты.
Но это последнее решение казалось Эмилю невыполнимым. Скорее мысль о смерти может зародиться в голове ребенка, чем мысль отказаться от любимой женщины в сердце пламенно влюбленного юноши. Эмиль предпочел бы пустить себе пулю в лоб, нежели склониться перед волей отца. «Ну, хорошо, — рассуждал он, — завтра же поговорю с батюшкой, с этим деспотом, наводящим на всех ужас. Я найду нужные слова и явлюсь в Шатобрен с гордо поднятой головой».
Однако на следующий день Эмиль не чувствовал себя во всеоружии: он был так изнурен бессонницей, так удручен тоской, что побоялся выказать недостойную слабость и промолчал.
И впрямь, может ли юноша, скрывающий даже от самого себя некую сладостную тайну, целомудренную любовь, — может ли он хладнокровно открыть свою тайну людям, которые ее не поймут или отнесутся к ней с презрением?
Кому бы Эмиль ни сделал это признание, отцу или Жанилле, все равно ему пришлось бы излить свое сердце, исполненное стыдливого томления и святого восторга, перед сердцами, чуждыми подобных чувств или давно для них закрытыми. А он мечтал о совсем иной, о возвышенной развязке! Разве не Жильберта наедине с ним, под безбрежным небом, должна была первая внять священным словам любви, когда их произнесут его уста!
Свет и законы чести, столь равнодушные в подобных случаях, грозили лишить чистое чувство Эмиля того, что было в нем самого девственного и идеального. Эмиль глубоко страдал, и ему казалось, что мир его вчерашних грез отделен мрачной бездной от горестного дня, который сейчас занимался для него.
Он вскочил на лошадь, решив вдали от всех, в уединении, найти спокойствие и стойкость, необходимые ему, чтобы, не дрогнув, встретить первый удар.
Он хотел бежать из Шатобрена, но очутился возле замка, сам не зная как. Он проехал мимо, не повернув головы, по той самой крутой дороге, что вела к вершине, откуда, застигнутый грозой, он впервые увидел при блеске молний величественные развалины.
Эмиль узнал скалы, где он вместе с Жаном Жапплу нашел тогда приют, и не мог поверить, что прошло всего два месяца с тех пор, как он появился впервые в этих краях — беспечный, уверенный, смелый, совсем не похожий на того Эмиля, каким стал теперь.
Он направился в Эгюзон: ему хотелось вновь увидеть дорогу, по которой он проезжал тогда и где еще ни разу не бывал с того времени.
Но когда он въехал на окраину городка, вид глазевших на него с любопытством жителей вызвал в нем прилив такого ужаса и тоски, какие могли возникнуть разве что у старика де Буагильбо. Эмиль резко свернул на тенистую, сумрачную тропинку, уходившую влево, и без всякой цели поскакал в поле.
Эта неровная, но очаровательная дорожка, окаймленная могучими каштанами с потрескавшимися стволами и огромными узловатыми корнями, то взбиралась на невысокие холмы, то пролегала по свежим лугам и мелкому песку. Наконец она вывела Эмиля к каменистой пустоши, и, опустив поводья, он медленно ехал, радуясь тому, что очутился один в этом уединенном уголке.
Дорожка то вилась зигзагами, то огибала крутые склоны, поросшие дроком и вереском, то сбегала по песчаным холмам, перерезанным ручейками, которые каждый год пролагали себе новое русло и текли неведомо куда.
Куропатки взлетали из травы у самых ног Вороного, зимородок огненно-васильковой стрелой проносился над болотом, почти касаясь его крылом.
Прошло, должно быть, больше часа, как вдруг Эмиль, погруженный в свои мысли, заметил, что дорожка суживается и теряется где-то в кустах. Он поднял голову и увидел перед собой, по ту сторону пропасти и глубоких оврагов, развалины башен Крозана, вонзавшихся в небеса на фоне причудливо изрезанных скал, гряда которых терялась вдали.
Эмиль уже побывал однажды в этой любопытной крепости. Но тогда он ехал другой дорогой и теперь, в глубокой задумчивости, не сразу узнал местность.
Дикий пейзаж и возникшие перед ним пустынные развалины как нельзя лучше соответствовали состоянию его души. Он оставил лошадь у какой-то хижины и пошел по узкой тропинке, спускавшейся по выступам скал к руслу потока. Затем он поднялся по другой такой же тропинке, проник в крепость и провел там несколько часов в созерцании страшных и в то же время величественных руин, предаваясь мрачному отчаянию, доходившему минутами до безумия.
Даже первые века феодализма знали немного крепостей, столь удачно расположенных, как Крозан. Крепость стоит на горе, обрывающейся отвесно с двух сторон к рекам Крёзе и Седелле, которые, обогнув полуостров, соединяют в один поток свои рокочущие воды и с немолчным ревом стремятся вперед среди обломков скал и огромных камней. От причудливых склонов горы на всем их протяжении отходят длинные уступы, серые громады нависают над рекой, как сталактиты, исполинами поднимаются со дна пропасти дикие утесы.
Развалины крепостных строений приобрели от времени цвет и форму скал и подчас ничем не отличаются от них, особенно издали.
Природа ли превзошла здесь человека в смелости, или человек в трагическом своем вдохновении оставил природу далеко позади, но только и склоны горы, и развалины крепости кажутся декорациями, в которых сменяют друг друга сцены неумолимой жестокости и вечной скорби.
Подъемный мост, темные норы подземных входов и двойная крепостная стена, прикрытая с боков башнями и бастионами, следы которых еще сохранились до наших дней, — все это делало Крозан неприступным вплоть до дня изобретения пушек. А меж тем история крепости, сыгравшая немаловажную роль в средневековых войнах, почти совсем неизвестна.
Если верить дошедшим до нас преданиям, ее воздвигли сарацинские вожди, которые якобы долго ее удерживали. Заморозки, довольно сильные и продолжительные в этих краях, с каждым годом довершают разрушение крепостных стен, разбитых ядрами, а время обращает их в прах.
Однако огромная квадратная башня, несомненно мавританской архитектуры, еще высится посредине, хотя основание ее уже расшаталось и она ежеминутно грозит рухнуть вместе со всем прочим.
От остальных башен, над которыми беспрестанно реют с клекотом хищные птицы, уцелели лишь остатки стен, торчащие на вершинах остроконечных скал, так что сами башни кажутся зубчатыми утесами.
Прогулка по крепости небезопасна. Во многих местах тропинка пропадает, и нога скользит по краю стремнины, над яростно несущимися водами Крёзы.
Приближение неприятеля можно было заметить только с высоты наблюдательных башен, ибо нижние ярусы крепости и окрестные горные вершины расположены на одном уровне и отсюда видны одни лишь их голые склоны. Ныне, подточенные и размытые, они приняли на себя пласты плодородной земли, где привольно растут курчавые деревья, но во время паводка бурное течение потоков зачастую выворачивает их с корнем.
Дикие козы, которых пасут еще более дикие, оборванные ребятишки, смело цепляются за камни развалин и бесстрашно карабкаются по скалам.
Зрелище это так величественно, так неожиданно открываются взору его красоты, что художник не знал бы, на чем остановить свой выбор. Декоратор растерялся бы перед этим обилием ужасов и грозного великолепия.
Эмиль провел здесь несколько часов, погруженный в хаос сомнений и беспорядочных замыслов. Уехав из дому ранним утром, он сейчас буквально умирал с голоду, но не сознавал физических страданий, которые, однако, немало способствовали его угнетенному состоянию.
Лежа на утесе, он глядел на коршунов, реявших над ним, и вспоминал муки Прометея, как вдруг откуда-то издалека донесся мужской голос, показавшийся ему столь знакомым, что он невольно вздрогнул. Он вскочил, бросился к краю стремнины и увидел, что по противоположному склону оврага спускаются трое.
Мужчина в блузе и серой широкополой шляпе шел впереди, время от времени он оборачивался, желая, видимо, предупредить спутников об опасности. Позади него крестьянин вел за уздечку осла, на осле сидела девушка в выцветшем лиловом платье и простенькой соломенной шляпке.
Эмиль бросился навстречу путникам, не раздумывая над тем, сказала ли им что-нибудь Жанилла и не встретит ли его настороженный и холодный прием.
Он летел как камень, брошенный с крутого обрыва. Он летел как птица, напрямик, перебрался через реку, буйные воды которой напрасно угрожали ему, лизали, окатывая скользкие кручи, очутился наконец на противоположном склоне, попал в дружеские объятия господина Антуана, принял из рук Сильвена Шарассона уздечку послушного ослика, который вез на себе Жильберту, и увидел ее нежную улыбку, внезапный румянец и плохо скрытую радость. Жаниллы с ними не было! Жанилла ничего не сказала!
Каким сладким кажется счастье после горести и как быстро любовь наверстывает часы, потерянные в страданиях! Эмиль забыл о том, что было накануне, и уже не думал о том, что ждет его завтра.
До самых развалин Крозана Эмиль торжественно вел под уздцы осла, который нес его возлюбленную; по пути молодой Кардонне обломал все ветки кустарника, до каких мог дотянутся, и усыпал ими дорогу, подобно тому, как некогда иудеи бросали пальмовые ветки под ноги смиренному животному, на котором восседал божественный учитель.
Затем он принял на руки Жильберту и осторожно опустил ее на непримятую зеленую травку, хотя девушка отнюдь не нуждалась в помощи, чтобы сойти с малорослого и спокойного ослика. Эмиль не робел больше, ибо опьянел от счастья, и, не будь господин Антуан самым недальновидным человеком на свете, он понял бы, что заглушить эту исступленную страсть было столь же трудно, как помешать бурному течению Крёзы и Седеллы.
— Ну и голоден же я! — сказал господин Антуан. — Давайте прежде позавтракаем, а потом поговорим, какими судьбами мы здесь с вами встретились. Лишний сотрапезник нам не страшен: Жанилла надавала нам уйму всякой снеди. Открой-ка охотничью сумку, плутишка, — добавил он, обращаясь к Шарассону, — а я развяжу мешок, что на спине осла. Эмиль пусть сбегает в деревню и принесет нам для подкрепления пеклеванного хлеба. Расположимся у реки: горная вода превосходна для питья, особенно если взять ее поменьше, а вина подлить побольше.
Вскоре завтрак был накрыт на траве; Жильберта сделала себе тарелку из большого листа кувшинки, а господин Антуан нарезал хлеб и мясо чем-то вроде сабли, которую он называл карманным ножичком. Кроме хлеба, Эмиль принес еще молока для Жильберты и диких вишен; путешественники нашли их превосходными, к тому же горьковатый вкус ягод возбуждал аппетит. Сильвен, пристроившийся, как обезьяна, на изогнутом стволе дерева, получил столь же обильную порцию, как и все остальные, и ел, по его словам, с особенным удовольствием, так как мадемуазель Жанилла осталась дома и никто с укоризненным видом не считал каждый кусок. Эмиль насытился в одну минуту. Хотя нередко посмеиваются над героями романов, которые якобы никогда ничего не едят, но у влюбленных и в самом деле плохой аппетит, и романы в этом столь же правдивы, как и сама жизнь.
Какую радость испытывал Эмиль! Он так опасался встретить суровую, недоверчивую Жильберту и вдруг увидел ее непринужденной, благородно-доверчивой — такою же, как накануне! И как он любил Антуана за его детское простодушие, за его открытый, веселый нрав!
Эмиль и сам никогда не ощущал такой веселости, никогда не видел более прекрасного дня, чем этот тусклый сентябрьский денек; ни одна местность не казалась ему такой жизнерадостной и чарующей, как сумрачная крепость Крозан. И будто нарочно, на Жильберте было в этот день ее будничное лиловое платьице: Эмиль уже давно не видел на ней этого платьица, напоминавшего ему тот день и час, когда он полюбил ее без памяти!
Эмиль узнал, что семейство Шатобрен тронулось в путь, желая навестить родственника, жившего в Клавьере, а затем провести два дня в Аржантоне; но, не застав хозяина дома, они решили совершить прогулку в Крозан и пробыть здесь до вечера — а сейчас был только полдень! Эмилю казалось, что перед ним целая вечность. После завтрака господин Антуан прилег в тени и погрузился в глубокий сон. А влюбленные решили в сопровождении Шарассона обойти крепость.
XXI Господин Антуан на привале
Некоторое время юный «паж» Шатобрена развлекал молодую парочку своей наивной болтовней, но вскоре, уступив желанию порезвиться, пустился за козами, затеял было ссору с пастухами и наконец, примирившись с ними, стал бросать камешки в Крёзу, меж тем как Эмиль и Жильберта медленно шли вдоль Седеллы, по противоположному склону горы.
Так как во многих местах потоком подмыло берег, им приходилось то взбираться, то вновь спускаться, перепрыгивать с одного камня, еле выступавшего из воды, на другой, преодолевая различные препятствия и даже подвергаясь опасностям. Но юность предприимчива, а любовь не знает страха!
Провидение особенно милостиво к тем, кто молод и любит, и наши влюбленные счастливо избегли всех опасностей. И не страх, а совсем иное чувство заставляло трепетать Эмиля, когда он приподнимал Жильберту или поддерживал ее за талию. Она же смеялась, чтоб скрыть или рассеять овладевшее ею смущение.
Жильберта была сильна, проворна и отважна, как истое дитя гор; однако она наконец устала взбираться по крутым тропинкам и, опустившись на мох у края бурного потока, сбросила шляпку на траву, чтобы привести в порядок волосы, рассыпавшиеся по плечам.
— Сорвите мне вон ту чудесную наперстянку, — попросила она Эмиля, надеясь, что успеет за это время заплести косы.
Но Эмиль побежал за цветком и возвратился назад так быстро, что застал Жильберту всю окутанную плащом золотистых волос, в которых тонули ее маленькие ручки.
Юноша залюбовался золотистыми прядями, которые Жильберта отбрасывала назад нетерпеливым движением головы; она нимало не гордилась своим сокровищем и давным-давно отрезала бы косы, если бы этому ревниво не противились господин Антуан и Жанилла.
Теперь Жильберта, впрочем, узнала им цену: она отнюдь не была кокеткой, но все же заметила, что Эмиль потерял голову от восхищения, хоть она ничуть не старалась его вызвать.
Если красота иной раз одерживает победы, а любовь не может им не покориться, случается это именно тогда, когда побед не ждут и не ищут. И в самом деле, такие прекрасные волосы скрасили бы все недостатки даже некрасивой женщины, а Жильберта получила их в дар от щедрой природы сверх всех прочих даров.
Жильберта пошла в отца и, по правде говоря, была скорее трудолюбивой, чем ловкой. Вдобавок по пути она растеряла все шпильки, и волосы, свернутые наспех на затылке тяжелым жгутом, распустились, окутав ее с головы до ног.
Эмиль не мог оторвать он нее глаз. Жильберта не оборачивалась и тем не менее чувствовала его страстный взгляд, словно пламенем накалявший воздух вокруг нее.
Радость девушки сменилась смущением, и, как обычно, она попыталась рассеять шуткой охватившее их обоих волнение.
— Ах, если бы я могла распоряжаться своими волосами, — сказала она. — Я отрезала бы их и бросила в реку.
Эмилю представлялся прекрасный случай произнести изящный комплимент, но он воздержался. Что мог он сказать об ее волосах, чтобы выразить все свое восхищение? Он никогда не касался кудрей Жильберты и теперь сгорал от желания дотронуться до них. Он украдкой оглянулся.
Стена утесов и кустарника отделяла их от всего мира. Даже с горы их нельзя было увидеть. Казалось, Жильберта с умыслом выбрала этот уголок, чтобы ввергнуть юношу в искушение, хотя на самом деле невинное создание даже и не помышляло об этом. Девушке и в голову не приходила мысль о какой-либо опасности.
Эмиль перестал владеть собой. Бессонница, страх, горе, радость зажгли огонь в его крови.
Он опустился на колени и коснулся трепещущей рукою непокорных прядей, но, почувствовав, как задрожала девушка, отвел руку и сказал:
— Мне почудилось, что у вас в волосах запуталась оса, а это всего-навсего мох, маленький-маленький клочок.
— Вы меня напугали, — промолвила Жильберта, резко тряхнув головой, — мне показалось, что это змея!
Но рука Эмиля неудержимо тянулась к ее волосам.
Под тем предлогом, что он хочет помочь Жильберте собрать рассыпавшиеся волосы, которыми играл ветерок, он дотрагивался до них сотни раз и наконец украдкой поднес к губам. Жильберта, казалось, ничего не заметила, она торопливо надела шляпку, прикрыв ею небрежно сделанную прическу, поднялась, стараясь сохранить непринужденный вид, и сказала:
— Пойдемте посмотрим, не проснулся ли батюшка!
Но она трепетала. Внезапная бледность согнала яркую краску с ее щек, сердце готово было разорваться. Она пошатнулась и прислонилась к скале, чтобы не упасть. Эмиль бросился к ее ногам.
Что говорил он ей? Он и сам не знал, а эхо Крозана не сохранило его слов. Жильберта тоже как будто не слышала их: в ушах у нее отдавался рев потока, усиленный во сто крат биением сердца, — ей почудилось, что гора дрогнула и закачалась над ее головой.
У нее не было сил бежать, да она и не думала об этом. Напрасно бежать от любви, когда она закралась в душу: любовь срастается с ней и следует за ней повсюду. Жильберта не знала, что любовь таит в себе опасность не только потому, что застает врасплох наше сердце, — впрочем, другие опасности любви не грозили ей наедине с Эмилем. Однако овладевшее ею чувство было столь сильно, что вызвало головокружение, исполненное несказанной прелести.
Жильберта могла лишь повторять со страхом, к которому примешивались сожаление и печаль:
— Нет, нет, не надо меня любить!
— Значит, вы ненавидите меня? — воскликнул Эмиль, и Жильберта, не найдя в себе мужества солгать, отвернулась. — Если вы не любите меня, — продолжал Эмиль, — что вам до того, люблю ли я вас. Но разрешите мне открыть вам мое сердце, таиться я больше не могу. Вы равнодушны ко мне, а ведь то, что безразлично, не может пугать. Поэтому узнайте всю правду. И если я уеду, если не увижу вас более, по крайней мере, вам будет известно почему. Я умираю от любви к вам, я больше не сплю, не работаю, я теряю рассудок и, может статься, скажу вашему батюшке то, что говорю сейчас вам. Пусть вы прогоните меня — вы, а не другие! Прогоните же, но выслушайте сперва, тайна душит меня! Я люблю вас, Жильберта, люблю и умираю от любви!
Сердце Эмиля было так полно, что он разразился рыданиями.
Жильберта хотела бежать, но вместо этого опустилась на землю в нескольких шагах от Эмиля и тоже заплакала. Их слезы были слезами счастья, а не горя. Эмиль поспешил утешить Жильберту, скоро успокоился и сам, ибо понял, что ее испуг вызван лишь нежностью и сожалением.
— Я бедная девушка, — говорила она, — а вы богаты, и ваш батюшка, судя по слухам, только и думает о том, как бы увеличить свое состояние. Вы не можете на мне жениться, а я не должна думать о замужестве: вы же сами знаете положение нашей семьи.
Только случайно мне может встретиться человек, столь же бедный, как я, и получивший некоторое воспитание, но я никогда не рассчитывала на такой случай. Я давно сказала себе, что должна найти удовлетворение в скромной жизни, должна воспитать свои чувства сообразно возможностям — не завидовать другим, иметь простые вкусы, привыкнуть к честному труду.
Я вовсе не думаю о замужестве — ведь для того, чтобы найти мужа, мне пришлось бы, пожалуй, изменить отчасти мой образ мыслей. Хотите, я вам признаюсь: с некоторых пор Жанилле пришла в голову мысль, очень меня огорчившая. Она хочет, чтобы батюшка искал мне мужа. Искать мужа! Разве это не постыдно, не унизительно? Можно ли представить что-нибудь более отвратительное!
Однако эта добрая душа не понимает, почему я противлюсь, и так как отец должен был отправиться в Аржантон за пенсией, Жанилла вдруг потребовала, чтобы он взял меня с собой и познакомил со своими друзьями.
Мы привыкли не противоречить Жанилле и поэтому отправились в путь, но, благодарение богу, батюшка не знает, как взяться за дело, а я стараюсь со своей стороны отвлечь его от этого намерения, так что наша поездка не будет иметь никаких последствий. Вы видите теперь, господин Эмиль: не следует ухаживать за девушкой, которая не обольщается напрасными надеждами и без сожаления и ложного стыда отказывается навсегда от замужества. Я рассчитывала, что вы сами поймете это и, оставаясь в рамках дружбы, никогда не смутите моего покоя.
Забудьте же безумие, помрачившее ваш рассудок, и считайте меня своей сестрой, которая никогда не вспомнит о том, что произошло нынче, если вы обещаете любить ее спокойной и братской любовью. Зачем же покидать нас? Это очень огорчит батюшку и меня.
— Это огорчит вас, Жильберта? — вскричал Эмиль. — Отчего же вы плачете, произнося такие холодные слова? Или я не понимаю вас, или вы что-то скрываете! Но знаете, чего я опасаюсь? Вы недостаточно уважаете меня, не дарите меня доверием. Вы принимаете меня за юного сумасброда, который относится к любви без должного благоговения, без сознания своей ответственности, и потому обращаетесь со мной как с ребенком, которому говорят: «Ты больше не будешь, не правда ли? Я тебя прощаю!» Но если вы верите, что призывами холодного рассудка можно угасить серьезную любовь, — вы сами ребенок, Жильберта, и ваше сердце молчит. Боже мой, возможно ли! Ваши глаза избегают моего взгляда, рука отталкивает мою руку! Что это — презрение или недоверие?
— О, довольно! Неужели вы думаете, что я могу согласиться любить вас, зная, что рано или поздно вы женитесь на другой? В моем представлении любить — это быть навеки вместе! Вот почему, отказываясь от замужества, я отказываюсь и от любви.
— И я так понимаю любовь, Жильберта! Любить — это быть навеки вместе! Я не представляю себе даже, как смерть может положить ей предел. Разве не сказал я вам все это, говоря: «Я люблю вас!» Ах, как вы жестоки, Жильберта! Вы меня не поняли или не хотите понять, но если бы вы любили меня, у вас не было бы сомнений! Вы не говорили бы, что бедны, а, так же как и я, забыли бы об этом!
— Боже мой! Эмиль, я не сомневаюсь в вас! Я знаю, что вы тоже не способны на корыстный расчет. Но, повторяю, разве мы сильнее судьбы, сильнее воли вашего отца?
— Да, Жильберта, да! Сильнее, чем весь свет, если… если только мы любим друг друга.
Бесполезно приводить продолжение этой беседы. Мы не в силах были бы передать все оттенки страха и уныния, охватившие Жильберту: вдруг становясь снова рассудительной, вернее — поддаваясь отчаянию, она указывала на тысячи препятствий, и в ней, хоть и не очень громко, но достаточно явственно, начинал звучать голос гордости, говоривший, что ей легче перенести вечное одиночество, чем унизительную борьбу против кичливого богатства.
Мы могли бы рассказать, какие благородные и искренние доводы приводил Эмиль в подтверждение чистоты своих помыслов. Но самые веские из них, на которые Жильберта не находила возражений, мы не в состоянии передать пером, потому что это были наивные восторги или безмолвные признания.
Влюбленные красноречивы, но не так, как ораторы; и если записать их слова, они покажутся бессмысленными любому, кроме того, к кому обращены.
Если иной раз хладнокровно вспомнить, какое незначительное слово заставило тебя потерять рассудок, сам недоумеваешь, как могло это случиться, и невольно смеешься над собой.
Но голос, взгляд черпают в страсти волшебную силу, и Эмилю скоро удалось убедить Жильберту в том, во что он верил сам: что для них нет ничего проще, чем пожениться, а следовательно, самое важное и самое законное дело на свете — любить друг друга.
Благородная девушка любила Эмиля слишком сильно, чтобы обвинять его в самонадеянности и безрассудстве. Эмиль говорил, что сломит сопротивление отца, а Жильберта знала господина Кардонне только по слухам.
Эмиль не сомневался в поддержке нежно любившей его матери, и это обстоятельство успокоило совесть Жильберты. Вскоре она уже разделяла самообольщение Эмиля, и они условились, что, прежде чем обратиться к господину Антуану, Эмиль переговорит с отцом.
Девушка эгоистическая или честолюбивая вела бы себя осторожнее, чем Жильберта. Она ни за что не призналась бы в своих чувствах, не поставив перед любимым строгих условий, ни за что не согласилась бы вновь увидеться с ним, пока он не попросит ее руки, соблюдая все положенные формальности. Но Жильберта не заботилась о подобных предосторожностях.
Она чувствовала в глубине души безграничную веру и уважение к словам любимого и терзалась теперь при мысли, что явится причиной ссор и огорчений для родителей Эмиля в тот день, когда он все им откроет.
Она не сомневалась в успехе, ибо Эмиль ручался одержать победу, но страдала при мысли о предстоящей борьбе, и ей хотелось отдалить эту страшную минуту.
— Послушайте, — с ангельской наивностью обратилась она к Эмилю, — к чему нам торопиться? Мы и так счастливы, мы молоды и можем ждать. Боюсь даже, что именно это обстоятельство господин Кардонне выставит в качестве самого веского возражения. Вам только двадцать один год, а следовательно, можно опасаться, что вы сделали свой выбор опрометчиво, недостаточно изучили характер невесты. Если ваш отец велит ждать или попросит некоторого времени для размышлений, подчинитесь его требованиям. Если нам удастся соединиться только через несколько лет — не все ли равно, лишь бы мы могли видеться: ведь мы не сомневаемся друг в друге, не правда ли?
— О, вы святая! — воскликнул Эмиль, целуя край ее шарфа. — И я буду достоин вас.
Вернувшись на то место, где отдыхал господин Антуан, они увидели его вдалеке со знакомым мельником и решили подождать у подножия высокой башни, пока он не кончит своей беседы.
Часы летели, как секунды, хоть и были насыщены, словно столетия. Чего только влюбленные не сказали друг другу! И еще больше они не договорили! Счастье видеть, понимать и любить друг друга было столь сильно, что в порыве безумной веселости они резвились, как косули; взявшись за руки, они карабкались по крутым склонам, и камни из-под их ног скатывались на дно пропасти; охваченные неведомым доселе бурным восторгом, они, подобно детям, не сознавали опасности.
Эмиль с таким пылом сталкивал вниз обломки скал или ловко перепрыгивал через них, словно то были препятствия, стоящие на его жизненном пути. Жильберта не испытывала страха ни за него, ни за себя, громко смеялась, кричала и распевала, как жаворонок в поднебесье. Она забыла привести в порядок волосы, которые развевались по ветру и порой окутывали всю ее фигурку, словно золотая вуаль.
Когда среди этого веселья появился господин Антуан, Жильберта кинулась к нему на шею и горячо обняла, как бы желая передать ему счастье, переполнявшее ее душу. Серая шляпа господина Антуана слетела от этой бурной ласки и покатилась на дно оврага. Жильберта бросилась за шляпой, отец бросился вдогонку за дочерью, испуганный стремительностью ее бега.
Еще немного, и оба могли бы разбиться, но Эмиль опередил бегущих, на лету схватил шляпу и, водрузив ее снова на голову господина Антуана, сжал его в объятиях.
— Ну, слава богу! — вскричал господин Антуан и, не спрашивая согласия молодых людей, решительно увел их от опасного места. — Я рад, что вам весело, но, признаюсь, вы меня напугали. Уж не встретилась ли вам заколдованная козочка? Все, на кого она кинет взгляд, начинают прыгать и резвиться. Или горный воздух опьянил тебя, малютка? Ну что ж, прекрасно, только не подвергай себя опасности. Как ты раскраснелась!
Как блестят твои глазки! Я вижу, надо почаще водить тебя гулять, а то ты совсем засиделась дома. Знаете, Эмиль, последние дни она меня очень беспокоила: аппетита никакого, только и делает, что читает; и я уже решил побросать все ваши книги за окно, если так будет продолжаться. К счастью, сегодня она совсем другая; а раз все в порядке, следует, по-моему, свезти ее в Сен-Жермен-Бопре. Живописнейшая местность! Мы проведем там весь завтрашний день. Хотите поехать с нами, Эмиль? Вы доставите нам большое удовольствие. Что вы на это скажете? Не беда, если мы попадем в Аржантон днем позже. Не правда ли, Жильберта? И проведем там один день вместо двух.
— …Даже если не попадем туда совсем! — подхватила Жильберта, запрыгав от радости. — Отправимся в Сен-Жермен, батюшка. Я там никогда не бывала. Какая чудесная мысль!
— Мы как раз на пути туда, — продолжал господин де Шатобрен, — но нам придется заночевать во Фресселине — здесь, конечно, нечего и думать найти ночлег. Впрочем, Фресселин и Конфоланс стоят того, чтобы их осмотреть. Правда, дорога не особенно хорошая, надо будет тронуться в путь засветло. Господин Шарассон, потрудитесь дать Искорке овса. Она охотница до путешествий: ведь матушка Жанилла дома не очень-то ее балует. Осла вы отведете в деревушку Витра, к тем людям, которые нам его одолжили, а затем ожидайте нас с таратайкой и лошадью господина Эмиля на той стороне реки. Мы будем через два часа.
— А я, — сказал Эмиль, — напишу матушке несколько слов: боюсь, как бы она не встревожилась моим отсутствием. Наверное, здесь найдется какой-нибудь мальчишка, которого можно послать в Гаржилес с запиской.
— Попробуйте-ка, уговорите здешних дикарей отправиться в чужие места. Но, ей-богу, нам, кажется, повезло. Вот кто-то с вашей фабрики, если не ошибаюсь.
Оглянувшись, Эмиль увидел Констана Галюше, письмоводителя господина Кардонне, который, сбросив на траву сюртук и прикрыв голову носовым платком, готовился насадить на удочку наживку.
— Констан, вы за пескарями, и так далеко? — спросил Эмиль.
— Конечно, не за пескарями, сударь, — ответил Галюше с важным видом. — Я льщу себя надеждой поймать форель.
— Но вы все-таки рассчитываете вернуться к вечеру в Гаржилес?
— Разумеется, сударь. Я не нужен сегодня вашему уважаемому батюшке, и он освободил меня на целый день. Но как только поймаю форель — если будет на то воля божья! — я минуты не останусь в этом гнусном месте.
— А если вы ничего не поймаете?
— Я прокляну тот час, когда мне пришла в голову мысль отправиться в такую даль поглядеть на подобную рухлядь. Какая мерзость запустения, сударь! Уверен, что нигде не сыщешь более унылого места, да и замок совсем развалился. Подите верьте после этого путешественникам, которые твердят, что здесь прекрасно и что, мол, стыдно жить на берегах Крёзы и ни разу не видеть Крозана. Если только в реке не окажется рыбы, пусть меня повесят, коли я хоть раз сюда загляну! Не верю я в их реку: эта прозрачная вода самая неподходящая для клева, а шум тут стоит такой, что оглохнуть можно. У меня уже голова разболелась…
— Значит, вы совершили неудачную прогулку? — спросила Жильберта; она впервые видела Галюше, и его нелепая физиономия и пошлое высокомерие вызывали у нее неудержимое желание рассмеяться. — А по-моему, эти развалины производят сильное впечатление, во всяком случае, они необычны. Вы еще не поднимались на большую башню?
— Сохрани меня бог! — ответил Галюше, польщенный вниманием Жильберты; из-под рыжих клочковатых бровей он смешно таращил на нее круглые, широко расставленные глаза. — Я и отсюда вижу всю внутренность этого сарая, ведь он весь сквозной, как фонарь. Полагаю, что вряд ли стоит ради него ломать себе шею.
И, очевидно, приняв улыбку Жильберты за одобрение своей язвительной шутки, он добавил тоном, который ему самому казался верхом непринужденности и светскости:
— Что и говорить, прекрасный край! Пырей — и тот не растет! Если мавританские короли так жили, то я их не поздравляю. Странный у них был вкус, да и сами они, видно, были хороши! Они, должно быть, ходили в деревянных башмаках и ели руками!
— Весьма основательная историческая догадка! — обратился Эмиль к Жильберте, которая покусывала кончик носового платка, стараясь не расхохотаться, так смешили ее напыщенный тон и торжественная мина господина Галюше.
— О, я вижу, сударь, вы большой насмешник, — заметила она. — Впрочем, вы имеете на это право. Ведь вы из Парижа, где все блещут остроумием и обладают хорошими манерами, и вдруг очутились здесь, среди дикарей.
— Я бы этого не сказал, по крайней мере в данную минуту, — возразил Галюше, бросая победоносные взгляды на прекрасную Жильберту, которая явно пришлась ему по вкусу. — Но, откровенно говоря, край этот очень отсталый. Здешние жители такие нечистоплотные. Посмотрите хотя бы на детей — босоногие, оборванные! В Париже у каждого есть башмаки, а если у кого их нет, так тот не выходит по воскресеньям на улицу. Возьмите хоть сегодня: вошел я в один дом, хотел закусить, а у них ничего не оказалось, кроме черного хлеба, какого и собака не станет есть, да козьего молока, а от него, извините, козлом воняет! Как не стыдно этим людям так скаредничать!
— А не оттого ли это происходит, что они слишком бедны? — спросила Жильберта, возмущенная высокомерным тоном Галюше.
— Да нет, скорей всего оттого, что они очень ленивы, — ответил тот, несколько озадаченный вопросом Жильберты: подобные мысли никогда не приходили ему в голову.
— Ах, что вы об этом знаете! — воскликнула Жильберта с негодованием, смысл которого остался для Галюше непонятным.
«Видно, мадемуазель большая насмешница, — подумал он. — А все-таки она мне очень нравится. Решительная такая, смелая. Если б я поговорил с ней подольше, она поняла бы, что я не какой-нибудь неотесанный провинциал!»
— Вот вам образец совершенного простофили! — заметил Эмиль, пока Констан шарил под прибрежными камнями, отыскивая червей для наживки.
— Боюсь, что он не столько прост, сколько глуп! — возразила Жильберта.
— Не дай бог, дети мои, попасть вам на язычок! — заметил добродушный господин Антуан. — Не спорю, молодец не из красавцев, но, кажется, он малый порядочный, и господин Кардонне им очень доволен. Галюше весьма обязательный человек и раза два-три оказывал мне мелкие услуги, даже подарил мне как-то прекрасную бамбуковую удочку. К сожалению, я ее потерял по дороге домой, за что Жанилла меня ругала едва ли не так же, как в тот день, когда я потерял шляпу. Послушайте-ка, господин Галюше, — крикнул он, — не хотите ли половить форелей в наших местах? У меня нет вашего терпения, и я не очень-то докучаю рыбам, вот почему у нас должен быть неплохой клев. Итак, я жду вас в один из ближайших дней: вы позавтракаете с нами, а потом я покажу вам рыбные места; там в изобилии водится усач, а это интересная ловля!
— Вы чрезвычайно любезны, сударь, — ответил Галюше, — я непременно приду как-нибудь в воскресенье, если уж вы простираете так далеко свою доброту.
И, в восторге от того, что сочинил подобную фразу, Галюше раскланялся самым грациозным образом и удалился, пообещав Эмилю передать записку его родителям.
Жильберта намеревалась было пожурить отца за его чрезмерную благосклонность к столь неприятному и тупому субъекту, но она сама была слишком добра и, не желая огорчать отца, преодолела отвращение, а через минуту уже позабыла о Галюше, тем паче что в этот день ничто не могло омрачить ее радость.
Наши влюбленные пребывали в таком счастливом состоянии духа, что малейшие дорожные приключения забавляли и радовали их как детей. Старая кобыла господина Антуана, запряженная в двуколку, которая не без основания носила в семействе Шатобрен название таратайки, проявляла чудеса ловкости и послушания, плетясь по ужасным дорогам, ведущим в Фресселин, где их ждал ночлег.
В этой таратайке могли поместиться лишь трое, и Сильвен Шарассон, втиснувшийся посредине, «лихо», по его собственному выражению, правил безобиднейшей Искоркой.
Тряска, какой подвергались седоки в этом нелепом экипаже, была поистине ужасающей, но это мало беспокоило и отца и дочь, не избалованных удобствами и не боявшихся ни бездорожья, ни ненастья.
Впереди гарцевал на своем Вороном Эмиль; он предупреждал своих спутников о препятствиях и помогал им всякий раз, как дорога становилась опасной и приходилось вылезать из двуколки. Когда же таратайка снова катилась по мягкому песку, юноша держался позади, не упуская случая полюбоваться Жильбертой и перекинуться с ней словечком.
Ни один щеголь, блистающий на прогулке в Булонском лесу, не впивался взором в роскошную коляску своей ослепительной дамы с таким восхищением и гордостью, с какими Эмиль неотрывно глядел на прекрасную, боготворимую им поселяночку, когда он следовал за ней но едва заметным безлюдным тропинкам, при робком сиянии первых звезд.
Что для него, сидела ли она в уродливой двуколке, которую тащила кляча, или в роскошной коляске? Была ли она одета в шелк и бархат или в простое выцветшее ситцевое платьице? Перчатки Жильберты разорвались, и из них высовывались розовые пальчики, державшиеся за спинку двуколки. Боясь измять свой праздничный шарф, она сняла его и положила на колени, отчего ее стан казался еще стройнее и тоньше. Теплый вечерний ветерок мягко ласкал ее белоснежную шею. Дыхание Эмиля смешивалось с ветерком. И он был прикован к таратайке, как раб к колеснице победителя.
Вдруг без всяких предупреждений Сильвен резко остановил двуколку, и лошадь Эмиля чуть было не стукнулась о нее мордой. Разбойник положил лапу на подножку, желая напомнить, что он устал и что не мешало бы взять его в таратайку. Господин Антуан нагнулся, схватил собаку за загривок и посадил в кузов: бедный пес был недостаточно проворен и уже не мог прыгать так высоко, как в молодые годы.
Тем временем Жильберта ласкала морду Вороного и гладила своей маленькой ручкой его волнистую черную гриву. Эмиль чувствовал, как ускоренно бьется его сердце, точно некий магнетический ток доносил до него ласки девушки. Завидуя счастью, выпавшему на долю Вороного, Эмиль едва удержался от приторного комплимента, достойного галантных речей господина Галюше, но промолчал, опасаясь, что у него и так достаточно глупый вид. Как счастлив бывает порою умный человек, превратившись в такого глупца!
Уже совсем стемнело, когда они добрались до Фресселина. Деревья и скалы казались сплошной черной громадой, откуда доносился мощный и торжественный гул потока.
Приятная усталость и ночная прохлада повергли Эмиля и Жильберту в какое-то восхитительное оцепенение. Перед ними был долгий завтрашний день — целый век счастья!
Постоялый двор, на котором они остановились, слыл лучшим в деревушке, но там оказалось всего две постели в разных комнатах. Решено было, что Жильберта устроится в лучшей комнате, а соседнюю займут Антуан и Эмиль, причем каждый возьмет себе по тюфяку. Но когда дошло до дела, выяснилось, что на кровати только один тюфяк, и Эмиль решил доставить себе невинное удовольствие — переночевать в риге, прямо на соломе.
При таком распределении постелей и комнат юному Шарассону грозила участь Эмиля, что отнюдь не улыбалось шатобренскому «пажу». Мальчишка любил понежиться, особенно во время путешествий.
Сильвен обычно следовал за хозяином во всех его поездках и отсыпался и отъедался вволю, вознаграждая себя за умерщвление плоти, на какое был обречен в Шатобрене неумолимой Жаниллой.
Господин Антуан любил подтрунить над Сильвеном с грубоватой веселостью, но прощал ему все выходки и, хотя разговаривал с ним, как с негритенком-неволь-ником, сам был рабом этого лукавого мальчугана. Так, когда Сильвен делал вид, что чистит лошадь и запрягает двуколку, работал скребницей и ворочал таратайку сам хозяин.
Если Сильвен засыпал на козлах, Антуан, превозмогая сон и протирая заспанные глаза, подбирал выпавшие из рук Сильвена вожжи, но не будил своего «пажа».
Когда на ужин оставалась только одна порция мяса, господин Антуан говорил Шарассону, пожиравшему лакомый кусок глазами: «Ничего не поделаешь, придется вам с Разбойником глодать кости». Но уж так получалось, что лучший кусок все же доставался Сильвену, а кости грыз сам хозяин. Хитрый малый верил в свою счастливую звезду и знал, что при таком характере господина Антуана ему не угрожает голодный пост, ночное бдение и непосильный труд.
Однако сейчас, увидев, что господин Антуан нисколько не озабочен его судьбой, а Эмиль готов довольствоваться соломой, Сильвен, подавая ужин, принялся зевать, потягиваться, жаловаться на длинный путь, на то, что проклятая деревушка заброшена на самый край света, и удивительно даже, как это вообще они до нее добрались.
Но господин Антуан, что называется, и ухом не вел и, хотя ужин был отнюдь не роскошный, ел с большим аппетитом.
— Вот так я люблю путешествовать! Приедешь куда-нибудь, и все как будто у себя дома: удобства те же и люди знакомые, — говорил он, чокаясь с Эмилем, который заменил его обычного сотрапезника, Жапплу. — И не заикайтесь при мне о дальних путешествиях в почтовой карете или на корабле. Не так-то весело одному рыскать по свету в поисках счастья. Нет, это не для меня! Приятно наслаждаться тем немногим, что у тебя есть, проезжая по чудесной местности, где ты знаешь всех прохожих, все дома, все деревья, даже все выбоины. Ну разве, в самом деле, я здесь не как у себя дома? Если бы с нами за столом сидели еще Жан и Жанилла, мне казалось бы, что я не выезжал из Шатобрена, да и так тоже, раз со мной моя дочка и один из лучших друзей; а затем со мной мой пес и даже господин Шарассон — он-то, я знаю, чувствует себя королем! Во-первых, видит свет, а во-вторых, принят в гостинице по заслугам.
— Вам легко так говорить, сударь, — вмешался Шарассон, который и не думал прислуживать за столом, а уселся у камина. — Хороша гостиница — приходится вместе с собаками спать.
— Для такого шалопая, как ты, и это большая честь! — отрезал господин Антуан, возвышая голос. — Скажи спасибо, что тебя не посылают спать с курами на насесте. Черт побери! Вот еще неженка! Соломы сколько угодно: и спать хорошо, и с голоду не умрешь.
— Простите, сударь, но здесь не настоящая солома, а сено, а от запаха сена у меня болит голова.
— Коли так, ты ляжешь прямо на полу подле моей постели: это отучит тебя роптать. Ты сутулишься, словно горбатый. Поспать на ровных досках будет тебе только на пользу. Приготовь же мне постель и расстели попону для Разбойника.
Эмиля подмывало узнать, приведет ли господин Шатобрен свою угрозу в исполнение, и, когда Жильберта удалилась в отведенную ей комнату, молодой человек последовал за господином Антуаном посмотреть, как он будет уговаривать своего «пажа» примириться с соломой.
Антуан развлекался, заставляя Сильвена прислуживать себе как знатному господину.
— Ну-ка, — говорил он, — стащи с меня сапоги, подай фуляровый платок, потуши свечу! Ложись на полу, и горе тебе, если вздумаешь храпеть! Спокойной ночи, Эмиль! Вам будет лучше без этого негодника, он, чего доброго, помешает вам отдохнуть. Он будет спать на полу в наказание за свои вздорные жалобы.
Часа через два Эмиль проснулся, почувствовав, как кто-то тяжело повалился рядом с ним на солому.
— Ничего, ничего, это я, — сказал господин Антуан. — Не беспокойтесь! Я улегся было с Сильвеном, но его благородие заявил, что у него в ногах судороги, и так меня забрыкал, что я убрался подобру-поздорову. Пусть спит на кровати, если уж ему так хочется! А мне здесь гораздо удобнее.
Таково было суровое наказание, которое понес во Фресселине «паж» господина де Шатобрен.
XXII Заговор
Покинем на время Эмиля, который, позабыв о свидании, назначенном ему Жаниллой, носится по горам и долам с предметом своих воздыханий. Перенесемся на фабрику Кардонне и проследим нить событий, переплетающихся в судьбе Эмиля.
Господин Кардонне начал не на шутку тревожиться частыми отлучками сына; он решил, что настало время понаблюдать за ним и направить его на верный путь.
«Эмиль, кажется, начинает забывать о своем социализме, — рассуждал господин Кардонне. — Теперь самое время для него взяться за какое-нибудь полезное дело. Уговоры бессильны против ума, склонного к вздорным возражениям. Надеюсь, Эмилю прискучил его любимый «конек», не будем же напоминать о нем и подумаем, как бы заменить теории практическим делом. В юношеском возрасте обычно руководятся чувствами, а не идеями, хотя надменно утверждают обратное. Впряжем-ка его для начала в повседневную работу, пускай он войдет в мои дела, хотя бы даже и против воли. Эмиль слишком трудолюбив и умен, чтобы работать плохо! Мало-помалу любое занятие, какое я ему выберу, станет для него потребностью. Разве не таким он был всегда? Разве не изучал он право, питая к нему отвращение? Ну что ж, пусть продолжает изучать право, как бы ненавистно оно ему ни было, пусть даже время от времени вспоминает свои заблуждения, столь беспокоившие меня прежде. Надеюсь, с него слетит весь этот проповеднический пыл новомодных школ, и для этого не потребуется ни слишком большого срока, ни слишком искусной кокетки».
Но каникулы были в самом разгаре, и господин Кардонне не мог немедленно отослать Эмиля в Пуатье. К тому же он возлагал немалые надежды на пребывание сына в Гаржилесе, ибо Эмиль теперь весьма старательно выполнял работы, поручаемые ему время от времени отцом, и, казалось, забыл о высокой цели, какую так яростно отстаивал еще совсем недавно. Всякое дело, за которое брался Эмиль, он выполнял превосходно, и господин Кардонне льстил себя надеждой, что ему удастся в любой момент излечить сына от любви и в то же время держать его в повиновении, направляя на благо его способности, которые уже стали приносить свои плоды.
Госпожа Кардонне, разумеется, и не собиралась обращать внимание мужа на постоянное отсутствие Эмиля. Если бы она могла знать, какое счастье вкушал ее сын во время этих отлучек, и проникнуть в тайну этого счастья, она всячески помогала бы ему избегнуть подозрений, она стала бы его сообщницей, не слишком благоразумной, но зато нежной и преданной. Ей же казалось, что холодный и насмешливый тон, каким часто разговаривал с сыном ее муж, был единственной причиной, гнавшей Эмиля из родительского дома, и, обвиняя в душе своего повелителя, она горько сетовала, что так мало наслаждается обществом сына. Когда Галюше явился с сообщением, что Эмиль вернется только завтра, а то и послезавтра к вечеру, она не могла удержать слез и сказала вполголоса:
— Теперь он уж и не ночует дома! Он не хочет быть с нами. Значит, ему у нас очень плохо!
— Действительно достойный повод для слез, — заметил господин Кардонне, пожимая плечами, — Разве ваш сын юная девица? Нечего пугаться, что он проведет ночь вне дома. Если вы уже сейчас жалуетесь, то что же будет потом: это ведь только начало маленьких шалостей, вполне позволительных для молодого человека его возраста. — Констан, — обратился он к секретарю, оставшись с ним наедине, — что это за люди, в обществе которых вы встретили господина Эмиля?
— Ах, сударь, — ответил господин Галюше, — общество самое приятное. Во-первых, граф де Шатобрен, а, как известно, господин Антуан первый весельчак, человек жизнерадостный, очень обходительный в обращении. А его дочь — роскошная девица! Прекрасно сложена, да и личико прехорошенькое.
— Я вижу, вы, Галюше, знаток и с одного взгляда рассмотрели все прелести этой особы.
— Еще бы, сударь! Глаза на то и даны, чтобы ими пользоваться, — сказал господин Галюше, громко захохотав от удовольствия, ибо хозяин редко оказывал ему честь говорить с ним на темы, выходящие за пределы его обязанностей.
— И, конечно, именно с господами Шатобрен мой сын пустился в свою романтическую прогулку?
— Полагаю, что так, сударь. Я видел издали, как он ехал верхом рядом с ними.
— Бывали вы когда-нибудь в Шатобрене, Галюше?
— Да, сударь, как-то был в отсутствие хозяев, но знай я, что встречу там только их старую служанку, поверьте, не сделал бы этой глупости.
— Почему же?
— Потому что при них я осмотрел бы замок бесплатно, а старая ведьма, пройдясь со мной по этой трущобе, потребовала с меня, сударь, целых пятьдесят сантимов за свою любезность! Стыдно обирать людей, показывая им этакие развалины!
— Полагаю, что старый Антуан многое привел в порядок с тех пор, как я у него был?
— Какое там, сударь! Курам на смех! Восстановили только один угол величиной, извините, с ладонь; у них не хватило денег даже на то, чтобы оклеить комнаты обоями. Сам Шатобрен живет куда хуже, чем я у вас. Ну и убого же у них! Кучи камня во дворе, того и гляди, ноги поломаешь, кругом крапива, терновник! Может быть, помните главную арку — она напоминает вход в Венсенский замок и была бы довольно красива, если бы ее хорошенько покрасить, — так в ней ворот не хватает. Да и все остальное не лучше! Ни одной целой стены, ни одной прочной лестницы, щели такие, что человек может в них спрятаться. А плющ, плющ!.. Никто его не вырывает, — а чего, казалось бы, проще. В комнатах ни полов, ни потолков! Право, тамошние жители — истинные гасконцы, они бахвалятся своими старыми замками, гоняют вас по затерянным дорожкам и показывают — что бы вы думали? — кучу обломков да чертополох! По правде говоря, Крозан — это ведь одно надувательство, а Шатобрен стоит не больше Крозана!
— Значит, вы не очарованы и Крозаном? Но готов биться об заклад, что моему сыну там очень нравится…
— Еще бы господину Эмилю там не понравилось! Разве плохо прогуляться под руку с такой статной девицей. На его месте я тоже не слишком бы жаловался на Крозан. Я — другое дело: я надеялся наловить форели, а не поймал даже пескаря и, понятно, не очень доволен прогулкой; тем более что двадцать лье туда и столько же обратно — вот вам и сорок лье пешком!
— Вы устали, Галюше?
— Да, сударь, очень устал, а главное, очень раздосадован. Больше меня в эти мавританско-королевские крепости не заманишь!
И, вспомнив свою удачную утреннюю шутку, Галюше, язвительно усмехаясь, не без удовольствия повторил:
— Хороши были, должно быть, эти короли! Поручусь, что они ходили в деревянных башмаках и ели руками.
— Вы сегодня очень остроумны, Галюше, — заметил господин Кардонне, не удостаивая его, впрочем, улыбкой. — Вы поступили бы еще остроумнее, раз уж вы так увлечены, если бы нашли какой-нибудь предлог, чтобы время от времени являться с визитом к господину де Шатобрен.
— Я не нуждаюсь в предлогах, сударь, — важно ответил Галюше. — Я хорошо знаком со стариком, он даже приглашал меня удить рыбу в их реке и не далее как сегодня просил к себе на завтрак в воскресенье.
— Ну так за чем же дело стало! Почему бы вам не поехать? Я охотно разрешу вам небольшой отдых.
— Вы очень добры, сударь. Если только вы обойдетесь без меня, я отправлюсь в будущее воскресенье. Я так люблю рыбную ловлю!
— Галюше, друг мой, вы болван!
— Как так, сударь? — спросил сбитый с толку Галюше.
— Говорю вам, милейший, — продолжал спокойно господин Кардонне, — вы болван! Вы думаете только о своих пескарях, вместо того чтобы ухаживать за хорошенькой девушкой.
— Против этого я, сударь, не возражаю! — самодовольно сказал Галюше, почесывая за ухом. — Девица, что и говорить, в моем вкусе! Право, это настоящее сокровище! Глазки голубые-голубые, волосы белокурые, метра полтора длиной, ей-богу, зубки — прелесть, и взгляд лукавый! Я бы здорово в нее влюбился, если бы только захотел!
— А что вам мешает захотеть?
— Как что? Будь у меня капиталец в десять тысяч франков, я пришелся бы ей по вкусу. Но когда у человека нет ничего, как же он понравится девушке, у которой тоже гроша ломаного нет за душой?
— Ее доход, пожалуй, равняется вашему жалованью.
— Ну, это еще вилами по воде писано! А старуха Жанилла, которая слывет ее матерью, — должен признаться, мне претит даже мысль сделаться зятем служанки! — старуха Жанилла наверняка захочет получить маленький капиталец для обзаведения.
— И вы полагаете, что десяти тысяч франков будет достаточно?
— Не знаю, но мне сдается, что эти люди не имеют права требовать слишком много. Их лачуга не стоит и четырех тысяч франков: гора, небольшой лужок — там, у реки, весь поросший камышом, да сад с фруктовыми деревьями, годными только на дрова, — все это вместе, должно быть, не приносит и ста франков дохода. Говорят, у господина Антуана имеется капиталец в государственных бумагах. Но капиталец этот не особенно велик, судя по их образу жизни. Будь у них тысяча франков верной ренты, я уж как-нибудь договорился бы с девицей. Она мне нравится, а в моем возрасте пора обзавестись семьей.
— По-моему, у господина Антуана тысяча двести франков ренты.
— И рента эта перейдет по наследству к дочери, сударь?
— Да, конечно.
— Но хоть он и удочерил ее, она все-таки незаконнорожденная и имеет право только на половину.
— И все же я вам советую немедля добиваться ее руки!
— Благодарствуйте, сударь, а на что жить, воспитывать детей?
— Без сомнения, вам понадобится известный капитал. Его можно было бы найти при желании, Галюше, если бы ваше счастье зависело только от этого.
— Сударь, не знаю, как и ответить на вашу любезность, но…
— Что «но»? Ну же, не скребите так ухо и отвечайте.
— Сударь, я не смею…
— Почему? Ведь мы с вами беседуем по-дружески.
— Чувствительно тронут, — продолжал Галюше, — но…
— Опять «но»? В конце концов вы выведете меня из терпения. Говорите же!
— Так вот, сударь, даже если вы еще раз обзовете меня болваном, я должен высказаться. Дело в том, что господин Эмиль ухаживает за барышней.
— Вы так полагаете? — спросил господин Кардонне, притворяясь удивленным.
— Разве вы не знали, сударь? Я буду очень огорчен, если окажусь причиной недоразумения между вами и вашим сыном.
— Так уже, значит, ходят слухи?
— Не знаю, говорят ли об этом, — мне нет времени слушать сплетни, — но я заметил, что господин Эмиль очень часто навещает Шатобрен.
— Что же это доказывает?
— Уж как вам будет угодно, сударь, мне-то это совсем ни к чему. Я только хотел сказать, что, если бы мне пришло в голову жениться на какой-нибудь девице, меня бы не очень привлекала мысль быть вторым.
— Понимаю. Не думаю, чтобы мой сын всерьез ухаживал за молодой особой, на которой не собирается и не может жениться. У Эмиля слишком возвышенные чувства, и он никогда не опустится до обмана, до лживых обещаний. Если эта девица порядочная, будьте уверены, что ее отношения с ним совершенно невинны. Значит, вы согласны?
— Как вам будет угодно, сударь.
— К чему такая угодливость! Если бы вы были влюблены в мадемуазель де Шатобрен, неужели вам не хотелось бы удостовериться в ее к вам отношении?
— Безусловно, сударь, но я вовсе не влюблен. Я и видел-то ее всего один раз.
— Хорошо, в таком случае выслушайте меня, Галюше! Вы можете мне оказать услугу. То, что вы сейчас рассказали, тревожит меня несколько больше, чем вас, и наш разговор — пусть все это шутка или предположение — послужит мне предостережением, я отношусь к нему вполне серьезно. Повторяю вам, мой сын слишком честен, чтобы соблазнить неопытную девушку, да к тому же не имеющую никакого состояния. Но частые встречи все же могут зародить в нем влечение, которое приведет их обоих к ненужным, хотя бы и недолгим, горестям. Мне было бы нетрудно положить этому конец, без промедления удалив Эмиля, но это противоречило бы намеченному мной плану вовлечь его в мои дела. И было бы очень жаль, если бы из-за такого маловажного повода я вынужден был расстаться с Эмилем. Окажите же мне услугу! Раз вы уверены, что вас хорошо примут в Шатобрене, наведывайтесь туда почаще — столь же часто, как и мой сын, подружитесь с тамошними обитателями. Покладистый характер папаши Антуана сослужит вам хорошую службу. Смотрите, наблюдайте и сообщайте мне обо всем, что там происходит. Если ваше присутствие будет досаждать моему сыну, значит, опасность существует. Если он попытается вас выпроводить, держитесь стойко и без колебаний начните домогаться руки девицы Шатобрен.
— А если я получу согласие?
— Тем лучше для вас!
— Это зависит, сударь, от того, насколько далеко зашло дело между нею и вашим сыном.
— Неужели вы такой простак, что, бывая там в качестве наблюдателя, не сообразите, как себя вести, и упустите время?
— А если я увижу, что пришел слишком поздно?
— Тогда удалитесь.
— Я останусь в дураках, и вдобавок господин Эмиль будет на меня сердиться.
— Галюше, я ведь не прошу у вас ничего безвозмездно. Конечно, это причинит вам некоторые неприятности и потребует хлопот, но жертвы, которых я от вас жду, будут хорошо вознаграждены.
— Я понял, сударь. Позвольте сказать еще только слово: если даже девушка мне подойдет и я ей также, я все же слишком беден, чтобы обзавестись семейством.
— Я предвидел это и помогу вам создать себе положение. Что вы скажете, если я найму вас на определенный срок и дам вперед пять тысяч франков в счет жалованья, а в случае надобности — еще пять тысяч в дар?
— Так это уже не шутка, а всерьез, да? — спросил Галюше, еще яростнее почесывая голову.
— Я не имею привычки шутить. Вам это, надо полагать, известно. И на сей раз я отнюдь не шучу.
— Слушаюсь, сударь! Вы, право, слишком любезны ко мне. Что ж, будем начеку, и, если я хоть на минуту потеряю господина Эмиля из виду, тогда, значит, он — тонкая штучка!
«Во всяком случае, более тонкая, чем ты, да оно и немудрено, — подумал господин Кардонне, как только Галюше ушел. — Но когда Эмиль будет иметь соперника вроде тебя, он устыдится своего выбора. Если в Шатобрене предпочтут эдакого увальня-жениха прекрасному, но случайному воздыхателю вроде Эмиля, он получит хороший урок. В таком случае не стоит жалеть о небольшом денежном даре на устройство господина Галюше, тем паче что благодаря этому мой сын не уйдет от меня и выбросит из головы честолюбивые замыслы покинуть фабрику. Да и то эту жертву придется принести, только если Галюше преуспеет, а тут двадцать шансов против одного, что через некоторое время его выставят за дверь. До тех пор я смогу придумать что-нибудь получше, а пока мне удастся, по крайней мере, помучить Эмиля, разочаровать его, приставить к нему такую докуку, как Констан Галюше, — с эдаким врагом ему придется столкнуться впервые».
Расчеты господина Кардонне не были лишены основания и могли бы осуществиться, не будь слишком поздно — или слишком рано — для Эмиля отказаться от своих мечтаний. Любое соперничество подстрекает пошлую душу, но душа возвышенная страдает от недостойного соперника. Благородная натура неизбежно отвращается от того, кому льстит поклонение глупца. Если даже предмет нашего обожания только терпит подобное поклонение, этого достаточно, чтобы вызвать у влюбленного краску стыда и побудить его удалиться. Но в своих расчетах господин Кардонне не учел гордости Жильберты.
Эмиль вернулся после двухдневного отсутствия, пылая любовью еще больше, чем прежде, и находясь в том состоянии восторга и счастья, когда все кажется преодолимым. Великодушная Жильберта, разделяя его призрачные мечты и надежды, лишь укрепила их. Она оказалась достойной дочерью господина Антуана, такой же порывистой и недальновидной. Все же Эмилю следовало бы упрекнуть себя в том, что он зашел слишком далеко, не заручившись предварительно согласием господина Кардонне. С его стороны это была страшная неосторожность, более того — преступное безрассудство, ибо только чудо могло предотвратить отказ отца. Но Эмиль жил в состоянии того блаженно-лихорадочного возбуждения, когда человек надеется на чудо и мнит себя полубогом, так как он любим.
Однако он вернулся в Гаржилес, не назначив точно дня, когда откроет родителям свои чувства. Жильберта потребовала, чтобы он не торопился, взяла с него слово ни в чем не перечить отцу и исподволь добиваться его согласия. Решено было, что Эмиль до конца недели останется дома, будет усердно выполнять любую работу, которую поручит ему господин Кардонне, и таким образом вознаградит родителей за отлучку, несомненно причинившую им беспокойство.
— Приезжайте к нам только в воскресенье, — сказала Жильберта, прощаясь с ним. — И тогда мы вместе обдумаем план действий на будущую неделю.
Бедная девушка чувствовала, что надо жить сегодняшним днем, и, подобно Эмилю, находила бесконечную отраду, лелея в душе тайну любви, прелесть и глубина которой была понятна только им одним.
Эмиль сдержал слово: он не отлучался из дому всю неделю и написал господину де Буагильбо сердечное письмо, где заверил маркиза в лучших своих чувствах, опасаясь, как бы мнительный старик не встревожился его отсутствием. Эмиль повсюду сопровождал отца, сам просил у него работы и трудился на постройке фабрики, как человек, крайне заинтересованный успехами предприятия. Но нельзя долго идти наперекор сердцу, и Эмиль Не мог принуждать к труду изнуренных, слабосильных рабочих. Не подхлестнуло их и то, что господин Кардонне платил им поурочно. Им не хватало сил, и успехи более выносливых вызывали у них только упадок духа, а не желание быть впереди. Урочный труд оплачивался неплохо, но, видя недовольство хозяина, догадываясь, что их не будут долго держать, рабочие старались подкопить денег на черный день и поэтому всячески ограничивали себя в пище. Когда Эмиль видел, как, присев на мокрые камни, по щиколотку в грязной, тинистой воде, они съедали ломоть черного хлеба с сырой луковицей, точно иудейские рабы на постройке египетских пирамид, его охватывала такая жалость, что он охотно отдал бы этим людям, истощенным недоеданием и непосильным трудом, всю свою кровь, лишь бы избавить их от медленного умирания.
Эмиль знал, что он не в силах спасти сотни людей, но пытался убедить отца немного облегчить их участь и подкрепить их силы, прибавив хотя бы вино к их скудному питанию. Но господин Кардонне весьма убедительно доказывал сыну, что в прошлом году виноградники вымерзли, цены на вина очень поднялись, и они доступны только господам. Там, где вся беда кроется в общем экономическом положении, говорил он, отдельные попытки улучшить его безусловно обречены на провал; следуя неумолимой логике цифр, нужно либо вовсе отказаться от постройки фабрики, либо заставить рабочих пройти через тяжелую нужду, неизбежную в их положении. Господин Кардонне делал, впрочем, все возможное, чтобы облегчить их нищенское существование, но это «возможное» ограничивалось слишком узкими рамками. Эмиль мрачно опускал голову и вздыхал, не позволяя себе никаких возражений: он не мог дать Жильберте лучшего доказательства своей любви.
— Я вижу, — говорил ему в таких случаях отец, — что в тебе нет жилки настоящего хозяина, но, когда меня не будет на свете, надеюсь, что ты сам это поймешь и найдешь себе хорошего управляющего. Материальная сторона дела весьма мало поэтична, но в промышленности, как и во всех иных отраслях, есть свое искусство и своя наука, и они увлекут тебя. Пойдем в кабинет, помоги мне разобраться в запутанных делах, приумножь мое усердие своим талантом.
В течение всей недели Эмиль читал, разбирал, изучал и вкратце излагал многочисленные сочинения по гидростатике. В сущности, господин Кардонне не особенно нуждался в этой работе, но хотел испытать Эмиля и был восхищен его сообразительностью, и ясностью ума. Изучение подобных предметов всегда интересно человеку пытливому, увлекающемуся теориями; любую область науки можно использовать ко благу человечества, и, когда ты не видишь плачевных условий, на какие в наши дни неравенство обрекает людей труда, можно даже увлечься абстрактными науками. Господин Кардонне признавал высокую одаренность Эмиля и утешался надеждой, что человек столь выдающихся способностей не может вечно закрывать глаза на то, что он, господин Кардонне, называл очевидностью.
Наступило воскресенье. Эмилю казалось, что он уже целую вечность не видел Шатобрена, этого волшебного уголка, где природа, в его глазах, была самой прекрасной, воздух самым живительным и свет самым ярким. Тем не менее он заехал сначала в Буагильбо, так как вспомнил, что Констан Галюше приглашен на завтрак в Шатобрен, и понадеялся, что к его приезду этот чурбан отправится восвояси или же увлечется рыбной ловлей. Но Эмиль не предвидел коварства Констана. Увы, господин Галюше собственной персоной восседал за столом напротив господина Антуана; с непривычки он немного отяжелел от местного вина и, развалясь на стуле, громогласно изрекал всевозможные пошлости. Жильберта сидела во дворе, с нетерпением дожидаясь той минуты, когда какие-нибудь хозяйственные заботы отвлекут Жаниллу и она, воспользовавшись этим, сможет выбежать навстречу Эмилю.
Но Жанилла, как на грех, ничем не была занята. Она, словно ящерица, шныряла среди развалин и подоспела как раз вовремя, чтобы ответить на поклон Эмиля, адресованный Жильберте. Однако юноша с первого взгляда понял, что старая домоправительница еще ничего не рассказала своим хозяевам.
— По чести, сударь, — обратилась к нему Жанилла, картавя еще более жеманно, чем обычно, — нельзя сказать, что вы особенно любезны. Мы с дочкой из-за вас чуть не поссорились. Как же так? Вы обещали навестить меня в отсутствие Жильберты, посидеть со мной, назначили день, я жду, надеюсь, — а вместо этого вы отправились путешествовать с барышней только потому, что она на сорок лет моложе! Словно это моя вина! А ведь я достаточно проворна, чтобы бегать, и так же весело болтаю, как молодые! Нехорошо с вашей стороны, нехорошо! Вы умно сделали, что переждали несколько дней, пока не остыл мой гнев. Приди вы раньше, вам бы не поздоровилось!
— Разве господин Антуан не рассказал в мое оправдание, что мы по чистой случайности встретились в Крозане и что путешествие в Сен-Жермен затеял он сам, да к тому же совершенно внезапно? — спросил Эмиль. — Простите же меня, дорогая мадемуазель Жанилла, и верьте, что, не будь я на расстоянии десяти лье отсюда, я непременно явился бы на свидание!
— Знаю, знаю! — закивала Жанилла. — Конечно, виноват во всем господин Антуан. Он у нас ветреник известный! Но я полагала, что вы-то хоть рассудительнее, чем он.
— Я очень рассудителен, голубушка Жанилла, — подхватил ей в тон Эмиль. — И доказательство тому налицо: я целую неделю ни на шаг не отходил от отца, занимался делом и угождал ему, хотя мне не терпелось приехать в Шатобрен и вымолить у вас прощение.
— И вы правильно поступили, сынок: приятно видеть, когда молодые люди чем-нибудь заняты.
— Вы будете мною довольны и впредь, — сказал Эмиль, кидая взгляд на Жильберту, — отец уже простил мне мое долгое безделье. Он очень добр ко мне, и я отвечу ему добром на добро, доказав, что готов пойти на самые тяжелые жертвы, вплоть до того, чтобы отныне не так часто видеть вас, мадемуазель Жанилла. Браните же меня, но не очень сильно, и простите, потому что в течение нескольких недель я буду, вероятно, вынужден навещать вас довольно редко. Мне предстоит много дел, но, если вы будете на меня сердиться, я совсем паду духом.
— Ладно, ладно! Вы славный малый, на вас и сердиться нельзя, — сказала Жанилла. — Я вижу, что мы понимаем друг друга с полуслова, — прибавила она, понизив голос и хитро взглянув на юношу, — приятно иметь дело с таким честным и умным человеком.
Столь благополучный исход разговора, затеянного Жаниллой, снял с души Эмиля огромную тяжесть. Положение было и без того серьезное, а тревога и расспросы верной домоправительницы могли его только осложнить. Совет Жильберты — реже показываться в Шатобрене и все предоставить течению времени — оказался наиболее мудрым, и самый опытный дипломат на ее месте не мог бы поступить искуснее. И впрямь, сколько браков, неравных в имущественном отношении, стали бы возможны, если бы женщина поступилась своими требованиями, гордостью и недоверием и не опутывала возлюбленного сетью тревог и страданий, под бременем которых он теряет мужество и благоразумие, необходимые, чтобы преодолеть препятствия! Детская непорочность сочеталась в Жильберте с ясным рассудком и бескорыстным мужеством. Она знала, что может соединиться с Эмилем только через несколько лет, и черпала в своей любви достаточно силы, чтобы ждать. Суровые годы ожидания представлялись Жильберте, исполненной веры, недолгим лучезарным днем, и в этой своей надежде она была отнюдь не безрассудна, как может показаться на первый взгляд. Ибо не благоразумие, а вера сдвигает горы с места.
XXIII Чертов камень
Очутившись в дорогом его сердцу замке, Эмиль позабыл все на свете, вплоть до имени Констана Галюше; и, когда он вошел в столовую, чтобы поздороваться с господином Антуаном, и увидел хорошо знакомую дурацкую физиономию письмоводителя, его охватило чувство отвращения, как будто душистый плод, к которому он доверчиво протянул руку, осквернила безобразная гусеница. Галюше приготовился встретить Эмиля непринужденно, как человек, который первым занял почетное место в доме и приветливо здоровается с опоздавшим. Еще немного, и он, чего доброго, вообразил бы себя хозяином замка, принимающим гостя. Но холодный и насмешливый взгляд, каким Эмиль ответил на его фамильярно-предупредительный поклон, сильно смутил Галюше. Глаза Эмиля, казалось, вопрошали: «Что это вы здесь делаете?»
Однако Галюше, которого куда больше пленяла мысль заслужить благодарность господина Кардонне, нежели любовь Жильберты, сделав над собой усилие, обрел утраченный было апломб, и его всегда беззлобная физиономия вдруг приняла несвойственное ей дерзкое выражение, весьма неуместное при данных обстоятельствах.
Эмиль раз и навсегда определил свое отношение к местному вину, но, посещая замок, не отказывался воздавать ему должное, чтобы не огорчать господина де Шатобрен. Возможно также, что безграничное обаяние, исходившее от дома, где жила и дышала Жильберта, делало эту кислятину даже вкуснее тонких вин, подававшихся к столу его родителей. Но на сей раз вино показалось Эмилю горьким, особенно когда Галюше со снисходительным видом человека, решившего следовать пословице «с волками жить — по-волчьи выть», приблизил к нему свой стакан с намерением чокнуться по примеру господина де Шатобрен. При этом Галюше игриво повел плечом и согнул калачиком руку, полагая, что подражает патриархальной простоте господина Антуана.
— Граф, — сказал Эмиль, подчеркивая таким обращением свое особое уважение к господину Антуану, — боюсь, что вы позволили господину Констану Галюше выпить лишнее. Посмотрите, глаза у него совсем красные, взгляд осоловел! Будьте осторожны, предупреждаю вас, у него слабая голова.
— Слабая голова, господин Эмиль? Почему вы думаете, что у меня слабая голова? — возразил Галюше. — Если не ошибаюсь, вы еще никогда не видели меня пьяным!
— Тогда я буду иметь удовольствие видеть вас в таком состоянии впервые, если вы станете продолжать в том же духе.
— Не хотите ли вы сказать, что я доставлю вам удовольствие, если стану вести себя непристойно?
— Последуйте моему совету, и, надеюсь, этого не случится.
— Ну что же, — сказал Галюше, подымаясь из-за стола, — может быть, господин Антуан желает прогуляться? В таком случае я предложу руку мадемуазель Жильберте, и посмотрим, крепко ли я держусь на ногах!
— Я предпочитаю не делать такого опыта, — ответила Жильберта; она сидела у входа во флигель и ласкала Разбойника.
— Ну вот, теперь и вы нападаете на меня, мадемуазель Жильберта, — продолжал Галюше, подходя к ней, — Неужели вы поверили господину Эмилю?
— Наша дочка ни на кого не нападает, сударь, — вмешалась Жанилла, — да и вообще я не понимаю, почему это вы так интересуетесь теми, кто не интересуется вами?
— Вы запрещаете мадемуазель Жильберте взять меня под руку? — спросил Галюше. — Что ж, на это мне нечего возразить. Но если кавалер предлагает барышне руку, думается, что он действует в духе французской учтивости.
— Матушка не запрещает мне взять вас под руку, — сказала Жильберта с мягкостью, исполненной достоинства, — благодарю вас за любезность, но я не парижанка и на прогулке не нуждаюсь в опоре. К тому же по нашим узким тропинкам вдвоем и не пройти.
— Ваши тропинки не уже крозанских. А чем труднее подъем, тем более дама нуждается в опоре. Я же видел в Крозане, как, спускаясь с горы, вы положили свою прелестную ручку на плечо господина Эмиля. Да, да, видел собственными глазами, мадемуазель Жильберта, и очень ему позавидовал!
— Господин Галюше, — сказал Эмиль, — я же говорил, что вы выпили лишнее, иначе вы не занимались бы моей особой. Попрошу вас и впредь мной не интересоваться!
— Вот вы и рассердились, — сказал Галюше, стараясь говорить как можно миролюбивее. — Все меня обижают, кроме господина Антуана.
— Не потому ли это происходит, — заметил Эмиль, — что вы держитесь со всеми запанибрата?
— Что здесь такое происходит? — спросил, входя, Жан Жапплу. — Что за споры? Сейчас я вас всех помирю. Здорово, душенька Жанилла, здравствуй, ангел мой Жильберта, здорово, добрый мой Эмиль, здорово, хозяин Антуан… здравствуй и ты, — обратился он к Галюше, — хоть я тебя не знаю, но все равно! Ба, да это никак приказчик папаши Кардонне! Ага, Разбойник, здорово, милый, тебя-то я и не заметил…
— Слава богу! — воскликнул Антуан. — Лучше поздно, чем никогда! Послушай, Жан, как же это ты оплошал? Видимся мы с тобой лишь по воскресеньям, ждем, ждем тебя целую неделю, а ты являешься только в полдень!
— Послушай-ка, хозяин…
— Не называй меня хозяином, не надо.
— А если я хочу тебя так называть? Я, слава богу, довольно побывал твоим хозяином, и мне уже надоело вечно тобой командовать. Теперь, для разнообразия, хочу быть твоим подмастерьем. Выпьем, что ли? Ну-ка, матушка Жанилла, налей винца! Уф, ну и жарища! Не скрою, я уже немного выпил: добрые друзья не отпустили меня из Гаржилеса сразу после обедни. Пришлось зайти поболтать немного к тетушке Лароз, а зря сушить глотку не к чему, вот малость и выпили. Но я торопился: ведь я знаю, что обо мне здесь помнят… Право, Жильберта, с тех пор как я вернулся в наши края, воскресенье должно бы длиться целых сорок восемь часов, иначе мне не поспеть ко всем друзьям, которые так радушно меня принимают…
— Ну что ж, голубчик Жан, раз вы счастливы, мы примиримся с тем, что будем видеть вас реже, — сказала Жильберта.
— Счастлив ли я? — переспросил плотник. — Да нет на свете человека счастливее!
— Сразу заметно, — вмешалась в разговор Жанилла. — Вы посмотрите только, какой у него стал хороший вид с тех пор, как его не травят больше, словно зайца. А потом, Жан бреется теперь каждое воскресенье, да и костюм на нем новый, совсем неплохой.
— А кто прял шерсть для моего костюма? — подхватил Жан. — Матушка Жанилла и ее богоданная дочка! А откуда взялась шерсть? Ее настригли с овец господина Антуана. А кто понес расходы? Их оплачивает дружба! Разве у вас, горожан, есть такое платье? В жизни не променяю своей куртки на ваш сорочий хвост из черного сукна.
— А меня бы вполне устроила пряха, — заметил Галюше, поглядывая на Жильберту.
— Тебя? — весело переспросил плотник, хлопнув Галюше по плечу с такой силой, что у того кости затрещали. — Это тебе-то такую пряху? Матушка Жанилла еще слишком молода для тебя, сынок, а что касается другой — да я ее на месте убью, если она спрядет для тебя хоть волоконце шерсти, будь оно даже короче твоего носа.
Галюше, который и на самом деле отличался смехотворно коротким носом, был немало оскорблен намеком плотника и, потирая плечо, заявил:
— Послушайте, вы, мужлан, не давайте воли рукам. Знайте, с кем шутить, я вам не ровня и разговаривать с вами не желаю.
— Как вы зовете этого молодца? — спросил Жан господина Антуана. — Имя какое-то чертово, никак не могу запомнить!
— Ну, ну, Жан, ты немного разошелся, — сказал господин Антуан, — не надо подтрунивать над господином Галюше. Он порядочный юноша и к тому же — мой гость.
— Правильно сказано, хозяин! Ну, давайте мириться, господин Мальжюше[1]. Хотите табачку?
— Не употребляю, — ответил Галюше высокомерно. — Разрешите, господин Антуан, встать из-за стола?
— Не стесняйтесь, молодой человек, будьте как дома, — сказал хозяин замка. — Господин Эмиль тоже не любитель долго сидеть за столом. Можете немного размять ноги, если желаете. Жанилла покажет вам замок, а то спуститесь к реке да прихватите удочку. Мы скоро придем к вам и покажем рыбное местечко.
— А, в самом деле! — сказал Жан. — Мальжюше — гроза пескарей! В Гаржилесе целые дни торчит на берегу с удочкой, а если с ним заговоришь, корчит гримасы, чтобы не спугнули его рыбешек. Ну, сейчас он с нашей помощью вытащит кое-что получше уклейки! Послушайте, господин Мальжюше, я готов переменить имя Жапплу на имя Мальжюше, если вы не выудите нам к ужину лосося. Только не торопитесь. Лодка в порядке, я недавно положил ей на брюхо здоровую заплату. Раздобудем где-нибудь багор и поплывем к Чертову камню — там лососей на солнышке, в полдень, видимо-невидимо! Но это место опасное, мы не пустим вас туда одного.
— Если Жан поведет лодку, давайте поедем всей компанией, — предложила Жильберта. — Ловить лососей очень занимательно, а места там чудесные!
— О, если вы поедете, мадемуазель Жильберта, я, с вашего разрешения, охотно присоединюсь к компании, — заметил Галюше.
— Уж не воображаешь ли ты, что она отправится ради твоих прекрасных глаз, щелкопер ты этакий? Малый-то, видать, порядочный нахал! Что, все вы таковы в ваших краях? Ого-го! Да перестань дуться, не пыжься зря, меня такими пустяками не испугаешь! Будешь себя хорошо вести, и я с тобой хорош буду. Коли на тебе черный сюртук, как у нотариуса, это еще вовсе не значит, что ты можешь встать из-за стола, когда я сижу. Нет, дружок, ошибаешься! Садись, садись, Мальжюше, я не кончил пить, давай чокнемся!
— Хватит! — сказал, слабо отбиваясь, Галюше. — Говорю вам: с меня хватит!
Но Жан скорее переломил бы его, как щепку, чем выпустил из рук. Он силой усадил Галюше на скамейку и заставил осушить еще несколько стаканов вина; Галюше старался бодриться, хозяин же тщетно пытался защитить его от проделок плотника — по своему добродушию он не разделял отвращения, какое внушали присутствующим вид и манеры Галюше.
Эмиль незаметно ускользнул вслед за Жильбертой и Жаниллой на лужайку и, обманув ревнивый надзор старушки, успел поведать своей любимой, что в точности следует ее наказу, что отец, как ему кажется, весьма к нему расположен и поэтому уже на следующей неделе можно попытаться начать переговоры. Но Жильберта сочла это преждевременным и убедила его по-прежнему сидеть дома и трудиться не покладая рук. Оба были преисполнены мужества, все им казалось преодолимым. Теперь, когда Эмиль знал, что любим, он чувствовал себя беспредельно счастливым, и, мнилось ему, он долго еще ничего не потребует от судьбы. В его душе царил божественный покой. Как много теперь читал он в ясном и глубоком взгляде Жильберты!
Для влюбленных на заре счастья наступает минута блаженного спокойствия, когда самый прозорливый наблюдатель с трудом может угадать по внешнему виду их тайну. Желание говорить друг с другом и видеться ежечасно как бы исчезает, лишь только наступит глубокая уверенность во взаимности. Уж если слова признания соединили души влюбленных, ни докучливые свидетели, ни разлука не могут стеснить и оторвать их друг от друга. Даже всевидящая Жанилла была введена в заблуждение их безмятежно веселым и благоразумным видом, недостижимым для тех, кто страдает и сомневается. Смущение молодого Кардонне, сотни раз подмеченное Жаниллой, внезапный румянец, вспыхивавший на щеках Жильберты при иных словах, смысл которых улавливала она одна, грусть и беспокойство, с трудом скрываемые девушкой, когда она поджидала Эмиля, — все это исчезло со времени поездки в Крозан, и Жанилла дивилась тому, что случайная встреча, казавшаяся ей столь опасной, вдруг обернулась так счастливо.
«Значит, я ошибалась, — рассуждала Жанилла. — Дочка не слишком о нем думает; а он если и думает, то, видно, предпочитает молчать и хочет постепенно от нее отвыкнуть, чтобы не нарушать нашего покоя. Что ж, похвально! Жалко огорчать молодого человека, ведь он понял меня с полуслова и покорился!»
Будь Жан Жапплу сообщником Эмиля, решившим отомстить за него самонадеянному претенденту, он не мог бы действовать удачнее: пока влюбленные бродили с Жаниллой по саду, плотник целый час держал Галюше за столом, действуя то насмешкой и лестью, то открытой силой. Из этого испытания, оказавшегося ему не по плечу, Галюше вышел, потеряв окончательно ту небольшую долю здравого смысла, которым его наделила природа. Его с самого начала возмутили простые обычаи обитателей замка, и, проникшись презрением к хозяину, он стал взирать на него как на собутыльника. Короче, Констан, вообще не отличавшийся возвышенностью чувств и мыслей и не стоивший мизинца двух простодушных друзей, решил, что унижен недостойной компанией, и поклялся расписать фабриканту, как трудна принятая им на себя задача. С каждым стаканом, выпитым Галюше, его рассудок все более заволакивало туманом, и грубая натура восторжествовала над скрытым тщеславием: он начал хохотать, стучал по столу, кричал, бахвалился какими-то подвигами и наконец повел себя так нахально, что Жапплу, душа которого была столь же чувствительна, сколь грубы манеры, пожалел его и самым холодным тоном строго выговорил ему.
— Вот что, сынок, — сказал он, — вы не умеете пить. А когда смеетесь, вы безобразны и острите-то как дурак. Я советую господину Антуану в другой раз подать вам к завтраку вместо вина стакан воды, не то вы, чего доброго, еще заведете при его дочке такие разговоры, что придется мне вас выбросить за дверь. Вы увидели, что мы тут все люди веселые и не очень чинимся друг перед другом, и решили, что мы грубияны и, чтобы стать нам ровней, надо грубить. Вот вы и ошиблись. Тот, у кого нет дурного в душе или нечистых мыслей на уме, может позволить себе держаться запросто. Да если я даже буду пьян в лоск, я все равно знаю, что наутро мне не придется краснеть за свои слова. А вот вы — совсем другое! И вы хорошо делаете, что носите черный сюртук, чтобы те, кто вас не знает, принимали вас за барина, потому что если кто здесь мужлан, так это вы, а не я.
Антуан постарался смягчить отповедь Жана, а Галюше сделал вид, что рассердился. Пожав плечами, Жан встал из-за стола, опасаясь, как бы не пришлось дать Галюше наглядный урок, более доступный его пониманию.
Когда мужчины вышли из дома, Галюше еще держался на ногах более или менее твердо, но мысли еле ворочались в его разгоряченной голове, и он не решался произнести ни слова в присутствии Жильберты из боязни сказать что-нибудь не совсем подходящее.
— Ну что ж, — обратилась Жильберта к Жану, — поедем мы к Чертову камню? Я там не была уже больше года. Жанилла не пускает меня туда с батюшкой — говорит, это место слишком опасное, а мы оба такие рассеянные. Но с тобой она меня отпустит, голубчик Жан. Скажи-ка, достаточно еще у тебя крепка рука и верен глаз?
— Это у меня-то? — переспросил Жапплу, — Да я чувствую себя двадцатилетним юнцом! Хоть на край света могу отправиться!
— А ты часом не захмелел? — спросила Жанилла, беря Жана за руку и становясь на цыпочки, чтобы заглянуть ему в глаза.
— Смотри, смотри на здоровье, — сказал он. — А вот если ты сможешь сделать то, что я сейчас сделаю, — тогда считай, что я пьян! — и, взяв из рук Жаниллы кувшин с водой, он поставил его себе на голову и пробежал немного с этой ношей, не уронив ее.
— Подумаешь, — сказала Жанилла. — Я бы тоже могла так пробежать, если бы захотела, да все это ни к чему. Я уверена в тебе и поручаю тебе дочку: у меня нет времени ехать с вами. А вы, господин Эмиль, присматривайте за папашей, он может прыгнуть прямо в воду посреди реки, особенно если увлечется своими россказнями или начнет балагурить.
— А кто присмотрит за Мальжюше? — спросил Жапплу, показывая на Констана, шествовавшего впереди с господином Антуаном, — Только не я!
— И не я! — сказала Жильберта.
— Будьте спокойны, — вмешался Эмиль, — я его мигом усмирю.
— Ну, это еще как сказать! — возразил Жан. — Если даже он не пьян, лучше он от этого не становится. Он хоть не совсем готов, но сильно навеселе. Ему бы в постель лечь, а не на лодках разъезжать.
— Посмотрите, как он будет спускаться с горы, — посоветовала Жанилла, — и, если увидите, что он может опрокинуть лодку, оставьте его на берегу, пусть выспится на камнях.
Галюше уже сидел в лодке вместе с господином де Шатобрен, когда к берегу подошли остальные. Он был красен и молчал. Но лишь только лодка очутилась посредине реки, от быстрого течения у него закружилась голова, и он начал крениться то в одну, то в другую сторону, так что Жапплу потерял терпение и привязал его веревкой к скамье, — так он там и заснул.
— У вас премилый письмоводитель! — сказала Жильберта Эмилю. — Надеюсь, батюшка, ты в другой раз не пригласишь его к завтраку?
— Боже ты мой! Да разве он виноват. Это Жан заставил его пить, хотя Галюше отказывался.
— Что за мужчина, который не умеет как следует пить, — сказал Жапплу, — это не мужчина, а слюнтяй!
Лодка быстро скользила вниз по течению, и вскоре наши путешественники увидели скалы, до такой степени суживавшие проток, что лодка легко могла разбиться в щепы. Жан недаром слыл в здешних местах первым силачом. Смелость и крепкая воля удесятеряли его физическую силу. За любое пустячное дело он брался с таким пылом, как будто речь шла о завоевании мира, и, несмотря на юношескую восторженность, обладал редким присутствием духа. Жан вел лодку серединой реки, а как только они вступили в узкий проток, поставил ее поперек течения и, перегнувшись через борт, ухватился руками за выступ скалы, чем предотвратил неминуемый толчок. Эмиль усердно помогал плотнику, поочередно меняясь с ним местами, а когда лодка наконец остановилась, они вооружились багром и молча стали поджидать появления лосося. Как известно, эта рыба всегда плывет вверх по течению. Так и теперь: она шла прямо на лодку, однако близко не подходила, испуганная необычным препятствием, и уплывала обратно. Рыбаку, вооруженному багром, приходилось наклоняться вперед и сильно вытягивать руки. Господин Антуан и Жильберта, стоявшие позади на коленях, следили за тем, чтобы от резких движений рыбаков не опрокинулась лодка или они сами не упали в воду. Когда багром бил Жан, Жильберта хваталась за его одежду, опасаясь, как бы он не свалился. Когда же подходила очередь Эмиля, она горячо упрашивала отца держать его как можно крепче, но, видимо не доверяя никому, сама цеплялась за блузу Эмиля, и он не раз чувствовал прикосновение прелестных маленьких рук, готовых удержать его в случае падения.
Хотя опасность грозила равно всем участникам рыбной ловли, Жан и Антуан были целиком поглощены своими лососями, и влюбленные, пользуясь волнением стариков, могли обмениваться взглядами или даже словами, которые еще не совсем проснувшийся Галюше, конечно, был не в состоянии понять. Что бы сказал господин Кардонне, увидев, как усердно его доверенный зарабатывает свое вознаграждение!
Наконец под неистовые крики Жапплу был вытащен первый лосось, и Галюше, немного пришедший в себя при виде богатой добычи, попытался было принять участие в ловле. Но его неловкость и упрямство все испортили, он только распугал и разогнал рыбу, так что разъяренный Жан повернул лодку и сказал ему:
— Когда вы снова вздумаете багрить лососей, ищите себе другого помощника! Наши пескарики не для вас! А если мы, чего доброго, застрянем здесь, я вам голову проломлю!
— Упаси бог отправиться на ловлю еще раз с таким невежей, как вы, — ответил Галюше, присаживаясь на борт лодки.
— Не садитесь сюда, — продолжал плотник, — вы мне мешаете. Помогли бы лучше грести против течения. Видите: волна точно железо, с ней не совладаешь. Смотрите, как господин Эмиль трудится: с таким компаньоном не страшно. Вас бог силой не обидел, но вы сидите сложа руки и любуетесь, как мы обливаемся потом!
— Это ваша вина, — отвечал Галюше. — Вы заставили меня пить, и я теперь ни на что не гожусь.
— Да, но сами-то вы тяжеленный, и, если не желаете работать, мы вас высадим. Ну, к берегу! Сбросим на землю лишний груз!
Они причалили к берегу, но Галюше счел оскорбительным такой образ действий и, непристойно ругаясь, отказался выйти из лодки.
— Тысяча чертей! — вскричал Жапплу, снова приходя в ярость. — Из-за тебя я упустил великолепную рыбину и не желаю надрываться, прислуживая тебе!
И Жан стал выталкивать Галюше из лодки; тот, упираясь, оступился и, скользнув между бортом и берегом, очутился по пояс в воде.
— Вот это ловко, честное слово! — воскликнул Жапплу. — Разбавить вино водой никогда не вредно!
И он быстро оттолкнул лодку, которую Галюше в порыве бессильной злобы пытался опрокинуть.
— Ах поганец! — вскричал плотник. — Видно, и животные бывают безобидные, а бывают и вредные. Пускай побарахтается в воде, — обратился он к своим спутникам, которые, по правде сказать, опасались, как бы подвыпивший Галюше не утонул, хотя здесь и было мелко. — Если он погрузится в воду — не беда, я зацеплю его за пояс крюком и выужу, как лосося. Да что тут! Было бы хоть о ком беспокоиться, а ведь известно, что всякая дрянь, падаль да пустые бутылки, всегда всплывает!
Через несколько минут Галюше выбрался на траву, погрозил Жану кулаком и исчез.
Этот забавный случай, однако, очень опечалил Жильберту. Она впервые почувствовала, к каким серьезным последствиям может привести снисходительность ее отца. Простодушная доброта близких — зеркало их чистоты и порядочности — начинала ее теперь пугать: она чувствовала, что неопытной девушке нужны более разумные защитники.
«Я бедная деревенская девушка, — рассуждала она. — Мне хорошо жить среди крестьян, но лишь при условии, что к нам не будут вторгаться невежественные прислужники богачей, вроде Галюше. Сталкиваясь с ними, крестьяне становятся злыми, а при нашей жизни я беззащитна от мести труса».
Она вспомнила об Эмиле: не он ли опора, дарованная ей небом? Но тут же задумалась: в какой среде вынужден жить он сам? И мысль, что отец его пользуется услугами людей, подобный Галюше, вызвала у нее какой-то смутный страх перед характером и привычками господина Кардонне.
Вечером, возвращаясь в Гаржилес, Жан Жапплу увидел мертвецки пьяного Галюше, валявшегося посреди дороги. Бедняга, отрезвившийся было после холодной ванны, зашел в кабачок, чтобы просохнуть, и, опасаясь за свое драгоценное здоровье, согласился выпить стаканчик водки, которая его и доконала. Он возвращался домой в буквальном смысле на четвереньках. Жан уже позабыл свой гнев, да к тому же не такой он был человек, чтобы равнодушно пройти мимо и не помочь ближнему, если тому грозила опасность попасть под копыта лошадей. Он поднял Галюше и, терпеливо выслушивая его угрозы и брань, довел, или, вернее, дотащил, до фабрики, а тот, не узнавая Жана, на прощанье поклялся отомстить злодею, который чуть было его не утопил.
XXIV Господин Галюше
Проспав двенадцать часов кряду, Галюше наутро почти не помнил о происшедших накануне событиях, и, когда господин Кардонне прислал за ним, у него оставалось только смутное чувство досады на плотника. К тому же ему совсем не улыбалось хвастаться тем, что он оплошал с первых же шагов своей дипломатической деятельности, и в оправдание позднего пробуждения и осоловелого вида он сослался на сильнейшую головную боль.
— Я пока только нащупал почву, — отвечал Галюше на все расспросы хозяина. — Мне так нездоровилось, что я почти ничего не приметил. Могу заверить вас лишь в одном: у них в доме обращение самое простецкое, хозяева на короткой ноге с мужичьем, а уж как едят — смотреть не на что!
— Все это мне давно известно, — сказал господин Кардонне. — Неужели, пробыв в Шатобрене целый день, вы не заметили ничего более примечательного? В каком часу приехал мой сын? Когда уехал?
— Затрудняюсь ответить… У них старые стенные часы, они очень плохо идут.
— Это не ответ. Сколько времени он провел там? Понятно, я не требую, чтобы вы это определили с астрономической точностью.
— Должно быть, часов пять или шесть, сударь. Я очень скучал. Господин Эмиль, видно, не слишком обрадовался, когда увидел меня. А девица просто-напросто недотрога. Там у них на горе чертова жарища, и к тому же двух слов сказать нельзя, чтобы тебя не перебил этот мужлан.
— Очевидно, там действительно было слишком жарко, раз вы и сегодня не в состоянии связать двух слов. О каком это мужлане вы твердите, Галюше?
— Да о плотнике Жапплу. Пройдоха и грубиян каких мало! Всем говорит «ты» и вас, сударь, называет просто «папаша Кардонне», как будто вы ему ровня.
— Мне это совершенно безразлично. О чем говорил с ним мой сын?
— Господина Эмиля его глупости забавляют, а мадемуазель Жильберта находит его чрезвычайно милым.
— А не заметили ли вы, чтобы мой сын и эта особа переговаривались между собой?
— Нет, сударь, ничего особенного не заметил. Старуха, как я теперь уже твердо знаю, приходится мадемуазель Жильберте матерью, потому что зовет ее «дочкой» и не отходит от девушки ни на шаг, так что к той и не подступиться, тем более что она сама задирает нос и строит из себя принцессу. Честное слово, просто смешно смотреть — это при ее-то нарядах и при их бедности! Да предложи мне такую невесту — я ни за что бы ее не взял!
— Все равно, Галюше, вы должны за ней ухаживать.
— Разве чтобы посмеяться над ней! Тогда согласен. С удовольствием!
— И ради того, чтобы заслужить награду, которой вам не видать, если в следующий раз вы не дадите мне ясного и обстоятельного отчета. А сегодня вы городите просто чушь!
Галюше склонился над счетными книгами и целый день боролся с недомоганием — неизбежным следствием излишеств.
Всю следующую неделю Эмиль провел за изучением гидростатики: он не позволял себе никаких развлечений, только по вечерам уходил к Жану Жапплу и всякий раз старался перевести разговор на Жильберту.
— Послушайте-ка, господин Эмиль, — сказал ему как-то плотник. — Вам, видно, никогда не надоедает говорить о ней. А знаете, матушка Жанилла считает, что вы влюблены в ее дочку.
— Что за мысль! — ответил молодой человек, смущенный неожиданным оборотом разговора.
— Мысль как мысль! А почему бы вам и не быть в нее влюбленным?
— Конечно, а почему бы и нет? — ответил Эмиль, смущаясь все более и более. — Но как вы, Жан, дружище, можете говорить об этом так просто?
— Это не я, а вы говорите просто, сынок, потому что отвечаете так, словно мы с вами шутки шутим. Скажите-ка мне всю правду, или навсегда оставим этот разговор.
— Жан, будь я в самом деле влюблен в особу, которую уважаю, как родную мать, то и тогда мой лучший друг не услышал бы от меня ни слова.
— Знаю, что я вам не лучший друг. Но все же мне хотелось бы услышать от вас правду.
— Объяснитесь, Жан!
— Объяснитесь-ка вы сначала, я жду.
— Вам придется долго ждать. На подобный вопрос я не отвечу, хотя питаю к вам искреннее уважение и любовь.
— Коли так, вам придется скоро навсегда распрощаться с Шатобреном. Матушка Жанилла не такая женщина, чтобы зевать, когда под носом опасность.
— Опасность! Какое оскорбительное слово! Не думал я услышать обвинение в том, что подвергаю хоть малейшей опасности особу, честь и достоинство которой для меня так же священны, как для ее родителей и самых близких ее друзей.
— Хорошо сказано, а все же не хотите вы ответить напрямик. Сказать вам правду? В начале прошлой недели я зашел в Шатобрен, чтобы взять у Антуана рубанок. Я застал только матушку Жаниллу, она вас поджидала. Вы не приехали, а она взяла да все мне и рассказала. Ну так знайте, дружок: если она вас любезно встретила в воскресенье и изредка разрешает вам видеть свою дочку, скажите спасибо мне!
— Как так, голубчик Жан?
— Выходит, я больше вам доверяю, чем вы мне. Я прямо сказал матушке Жанилле, что если вы полюбили Жильберту, то женитесь на ней, и поручился за вас спасением моей души.
— И вы правы, Жан! — вскричал Эмиль, схватив плотника за руку. — Вы сказали святую истину!
— Теперь остается узнать, полюбилась ли вам; девушка, а этого-то вы как раз и не хотите сказать.
— Я могу довериться только вам одному, раз вы меня так упорно допрашиваете. Да, Жан, я ее люблю, люблю больше жизни и хочу на ней жениться.
— Вот это хорошо! — вскричал Жан в восторге. — к Я готов вас обвенчать хоть сегодня… Погодите, погодите! Жильберта согласна?
— А если она спросит совета у вас, голубчик Жан? Ведь вы ее друг и второй отец. Что вы ей скажете?
— Скажу, что она не могла сделать выбора лучше, что вы мне по душе и я хочу быть свидетелем у вас на свадьбе.
— Значит, дружище, теперь дело лишь за согласием родителей.
— За Антуана я ручаюсь, надо мне только взяться за него как следует. Он человек гордый и будет опасаться, как бы ваш папаша не заупрямился, но я ему скажу…
— Что, что вы ему скажете?
— То, чего не знаете вы и про что знаю я один. Но сейчас нет нужды говорить — не пришло еще время, да и вы не можете думать о женитьбе раньше, чем через год или два.
— Жан, доверьте мне вашу тайну, как я доверил вам свою. Я вижу только одно препятствие к браку: волю моего батюшки. Я во что бы то ни стало преодолею это препятствие, хотя не скрываю от себя, что это будет не так-то легко!
— Ну ладно. Раз ты был так доверчив и откровенен со старым Жаном, старый Жан отплатит тебе тем же. Послушай, сынок, меньше чем через год твой папаша разорится; а если так, ему уже не придется задирать нос перед Шатобренами.
— Если наше разорение соединит меня с Жильбертой, да свершатся твои удивительные предсказания, хотя я знаю, что для моего отца это будет большим горем.
Я и раньше страшился богатства — правда, по другим причинам.
— Знаю, знаю твое сердце и понимаю, что тебе хотелось бы обогатить скорее других, чем самого себя. Все сбудется по-твоему, уж поверь мне! Не один, а десять раз видел я это во сне.
— Ну, если вам это только снилось, милый Жан…
— Постойте-ка, постойте… Что за книгу вы вечно таскаете под мышкой? Похоже, что вы ее изучаете.
— Я вам уже говорил: это ученое сочинение о силе воды, тяготении, законах равновесия…
— Помню, как же, вы мне говорили… Но, послушайте меня, ваша книга лжет, или вы плохо ее изучили. Иначе вы знали бы то, что знаю я…
— Что же именно?
— Что построить фабрику вам не удастся. Ваш батюшка хоть и уперся, во что бы то ни стало хочет совладать с рекой, а река над ним посмеется: он потеряет все, что вложил, а когда спохватится, будет уже поздно. Вот почему я так повеселел с некоторых пор. Пока я верил в успех вашего дела, я грустил и душа у меня болела, но одна надежда не оставляла меня, и мне захотелось проверить свои догадки. Вот об этом-то я вам и скажу. Я много ходил, наблюдал, трудился, изучал. Да, да, изучал без ваших книг, карт и всякой там тарабарщины — и все понял, все подметил. Господин Эмиль, я только простой крестьянин, и ваш Галюше охотно наплевал бы мне в лицо, если бы только посмел, но я могу вам открыть такое, чего вы и не подозреваете. Знайте же, отец ваш ничего не смыслит в том, что делает. Он слушается плохих советчиков, а у вас не хватает знаний, чтобы его образумить. Придет зима, и ваши постройки не устоят: и так оно будет каждую зиму до тех пор, пока господин Кардонне не выбросит в воду свой последний грош. Запомните мои слова: не пытайтесь убедить вашего папашу. Он, наоборот, еще заупрямится, полезет напролом, а нам это совсем ни к чему. Но все равно, вы разоритесь, сынок, — не здесь, так где-нибудь еще; я вашего папашу насквозь вижу. Если он что-нибудь задумал, весь загорается, ничего слышать не хочет, носится со своими выдумками — а раз человек так сотворен, толку никогда не будет. Сначала я было верил, что он ведет игру правильно, а теперь вижу, что он просчитался. Ведь посмотрите: он сызнова восстанавливает все, что уничтожила последняя паводь. До сих пор ему везло, а уж так издавна повелось: если кому везет, тот слушать никого не желает, воображает о себе невесть что. Так было с Наполеоном, на моих глазах ведь все произошло: подымался, подымался, а чем кончилось? Вдруг свалился, как плотник, который взбирается на крышу дома, не узнав, прочен ли фундамент. Какой бы ты ни был искусный плотник, какую махину ни построй, а если стена шатается, все пойдет прахом.
Жан говорил таким убежденным тоном и черные его глаза так ярко горели под густыми, тронутыми сединой бровями, что Эмилю передалось его волнение. Он умолял Жана изложить причины, на которых основывались его мрачные предсказания, но плотник долго отказывался. Наконец, уступив настойчивым просьбам Эмиля и отчасти задетый его сомнениями, Жан пообещал ему все разъяснить в следующее воскресенье.
— Поезжайте в Шатобрен в субботу или в понедельник, — сказал он, — а в воскресенье мы с вами выйдем на рассвете и прогуляемся берегом реки до того самого места, которое я хочу вам показать. Можете захватить все ваши книги и инструменты. И если они не подтвердят моих слов, тем хуже: значит, ученые врут. Но не вздумайте отправиться верхом или в коляске. Если не рассчитываете на свои ноги, лучше сидите дома.
В следующую субботу Эмиль поехал в Шатобрен, но, по обыкновению, завернул сначала в Буагильбо, не решаясь явиться к Жильберте слишком рано.
Приближаясь к развалинам замка, он заметил у подножия горы черную точку. Мало-помалу эта точка превратилась в Констана Галюше, одетого с ног до головы во все черное: черный сюртук, черные брюки, черные перчатки, черный атласный галстук и такой же жилет. Этот костюм он носил в деревне зимой и летом, пекся в нем на солнце, потел, задыхался, но никогда не выходил за пределы Гаржилеса иначе как в полном параде. Он боялся, что его могут принять за крестьянина, и потому нипочем не надел бы, как Эмиль, блузу и серую широкополую шляпу.
Если согласиться с тем, что современное городское платье — самое убогое, неудобное и неприглядное, какое когда-либо изобретала мода, то нельзя не признать, что все его недостатки и все его убожество особенно бросаются в глаза среди просторов полей. В окрестностях больших городов оно не так отталкивает, ибо пригородная деревня до того однообразно устроена, выровнена, обсажена, застроена и огорожена, что природа лишается всех своих неожиданных красот и прелестей. Можно, пожалуй, восхищаться богатством и порядком, царящим на землях, пользующихся всеми благами цивилизации, но полюбить такую деревню мудрено. Настоящая деревня не там — она здесь, в глубине страны, пусть немного запущенная, пусть дикая; она здесь, где культура еще не проявляет себя жалкими украшениями и ревнивыми оградами; она здесь, где поля сливаются в одно, ибо границу владений отмечает лишь камень или кустик, охраняемые добрыми деревенскими нравами. Только здесь дороги, предназначенные для пешеходов, верховых или тележек, открывают глазу множество живописных видов; только здесь кусты живых изгородей, растущие на свободе, сплетают в гирлянды свои ветви, образуя беседки; и только здесь радуют взор растения, которые тщательно выпалываются в роскошных возделанных парках. Эмиль вспомнил, что исходил десятки лье по окрестностям Парижа и ни разу не встретил там даже крапивы; и теперь он живо ощущал всю прелесть дикой природы, среди которой очутился. Бедность не пресмыкалась здесь стыдливо у ног богатства — наоборот: она привольно и весело выставляла напоказ всю себя; и земля горделиво носила ее эмблемы: полевые цветы и буйные травы, скромный мох и лесную землянику, камыш на берегу широко разлившейся речки и плющ на утесе, который веками преграждает дорогу, не привлекая внимания блюстителей порядка. Нравились Эмилю нависающие над тропинками зеленые ветви, которые щадит рука прохожего, болотца, где, словно предостерегая путника, квакает лягушка — часовой, более бдительный, чем страж, охраняющий королевские покои; нравились ему и разрушенные ограды, которые никто и не думал чинить, мощные корни столетних дубов, арками выпирающие из земли, — все это запустение первобытной природы, так удачно сочетающееся со степенным обликом, с простотой и строгой одеждой крестьянина.
Но когда на фоне сурового, величественного пейзажа, уносящего воображение к временам пастушеской поэзии, появляется, как назойливая муха, некий господин на хилых ножках, в черном сюртуке, с выбритым подбородком, в черных перчатках, — сей царь природы кажется здесь смешным недоразумением, досадным пятном, уродующим картину. К чему оно здесь, под нестерпимо жаркими лучами солнца, ваше траурное платье, в которое с особым ехидством вцепляются колючки? В этой стесняющей ваше тело нескладной одежде вы куда более жалки, чем нищий в своих лохмотьях. Чувствуется, что здесь, на вольном воздухе, вы не у места, что ваша ливрея душит вас.
Никогда Эмиль не представлял себе этого так живо, как при виде Галюше, который, держа шляпу в руке, с мучительным трудом карабкался на холм, отчего смешно раздувались полы его сюртука, и поминутно останавливался, чтобы смахнуть носовым платком пыль и песок — следы падений. Эмилю стало сначала смешно, но затем он с раздражением подумал, что этот трутень опять вьется вокруг заветного улья.
Эмиль пустил лошадь галопом, проскакал мимо отцовского письмоводителя, сделал вид, что не узнает его, и, добравшись до Шатобрена, на сей раз первым возвестил Жильберте о неотвратимом бедствии.
— Ах, батюшка, — воскликнула девушка, — умоляю вас, не принимайте этого невоспитанного и докучливого посетителя! Пусть он не портит наш Шатобрен! Неужели вы позволите, чтобы присутствие этого чужого нам человека, который не может и не должен никогда с нами сблизиться, нарушало мирное течение нашей жизни?
— Что же прикажешь мне делать? — в замешательстве спросил господин де Шатобрен. — Я пригласил его заходить, когда ему захочется, и уж никак не мог предвидеть, что ты, всегда такая терпимая и великодушная, невзлюбила этого беднягу из-за его непривлекательного вида и недостаточного знания приличий. Во мне такие люди вызывают лишь жалость: все их чураются, и жизнь им становится невмоготу.
— Не думаю, — сказал Эмиль. — Напротив, они чувствуют себя великолепно и уверены, что всех пленяют.
— А если так, к чему лишать их этой уверенности, без которой они умерли бы с горя? У меня не хватит духу. Не думаю, чтобы и Жильберта дала мне подобный совет.
— Батюшка, вы чрезмерно добры, — сказала, вздыхая, Жильберта. — Мне тоже хочется быть доброй, да, кажется, я и незлобива… Но это ограниченное и самодовольное существо называет меня по имени с первой же встречи и оскорбляет своими взглядами… Нет, я его не переношу… Право же, я чувствую, что по его вине у меня портится характер, я становлюсь насмешливой и готова его презирать.
— Это правда, Галюше начинает вести себя с вашей дочерью слишком развязно, — подтвердил Эмиль, — и вы вынуждены будете, господин Антуан, рано или поздно напомнить ему об уважении, какое он обязан к ней питать. А когда вам придется его прогнать, вы пожалеете, что приняли его слишком доверчиво. Не лучше ли сегодня же оказать ему более холодный прием и дать понять, что вы не забыли, как нагло он держался при первом посещении.
— По-моему, — сказал господин де Шатобрен, — лучше всего будет, если я уведу Галюше удить рыбу и избавлю вас от него, а вы отправляйтесь-ка с Жаниллой в сад.
Это предложение не особенно понравилось Эмилю. При господине Антуане он чувствовал себя как бы наедине с Жильбертой, а Жанилла была слишком зорким и проницательным соглядатаем. Однако Жильберта сочла несправедливым возложить всю тяжесть посещения Галюше на отца.
— Нет, — сказала она, обнимая господина Антуана, — мы все-таки останемся наперекор тебе, а не то, как только мы уйдем, ты примешь Галюше ласково и приветливо, и он вообразит себя в Шатобрене желанным гостем. О, я знаю тебя, батюшка! Ты непременно пригласишь его к обеду, и он снова напьется. Лучше я останусь здесь, и он вынужден будет сдерживаться в моем присутствии.
— Ну, уж это я возьму на себя, — вмешалась Жанилла: она невзлюбила письмоводителя с того самого дня, когда он торговался с нею из-за десяти су, испрошенных за показ развалин. — Я не против, когда господин Антуан пьет вино с друзьями и людьми, ему приятными, но я вовсе не желаю переводить добро на разных лизоблюдов вроде Галюше. Вот возьму и разбавлю вино водой. Конечно, вы, сударь, не любитель пить разбавленный кларет. Ну, зато за столом не засидитесь!
— Да ты просто деспот, Жанилла! — сказал господин Антуан. — Значит, ты хочешь посадить меня на хлеб и воду? Ты меня уморишь!
— Нисколько, сударь, вы только с лица посвежеете! А если этот малый вздумает привередничать — ну и бог с ним!
Жанилла сдержала слово, но Галюше был слишком взволнован и ничего не заметил. Он чувствовал себя все более неловко в присутствии Эмиля, который, презрительно улыбаясь, глядел на него испытующим взором; а когда Галюше, набравшись храбрости, попытался адресоваться с любезностями к Жильберте, то его так осадили, что он не знал, куда и деться. Он решил воздержаться от шатобренского кларета и обрадовался в душе, когда после первого стакана хозяин не стал настаивать на втором. Господин Антуан, как повелевал долг деревенского гостеприимства, первым осушил стакан и, горестно вздохнув, бросил полный упрека взгляд в сторону Жаниллы, не поскупившейся на ключевую воду. Шарассон, посвященный в тайну домоправительницы, разразился громким смехом, за что и был строго наказан хозяином, приговорившим его докончить за ужином остатки сего невинного напитка.
Когда Галюше убедился, что общество его несносно для Жильберты и Эмиля, он решил, что настало время выполнить поручение господина Кардонне и сделать формальное предложение. Он отвел господина Антуана в сторону и, заранее уверенный в отказе, предложил его дочери руку, сердце и двадцать тысяч франков. Галюше считал, что ничем не рискует, удваивая сумму своего несуществующего капитала.
Узнав об этом небольшом состоянии в придачу к должности, приносившей Галюше тысячу двести франков в год, господин Антуан несколько удивился. По его мнению, это была для Жильберты превосходная партия, и вряд ли она могла рассчитывать на более выгодную, ибо добродушный владелец Шатобрена не мог дать за дочерью никакого приданого, даже если бы лишил себя последнего су. Пожалуй, трудно было найти человека более бескорыстного, чем господин Антуан, что он не раз и доказывал на деле. Но он не без горечи думал о том, что его любимая дочь будет еще надолго, а быть может навсегда, осуждена на девичество, если не встретит человека, который полюбит ее ради нее самой.
«Как жаль, — размышлял он, — что Галюше лишен всякой приятности, ведь он, безусловно, малый честный и великодушный. Жильберта ему нравится, и он не спрашивает, есть ли у нее приданое. Он, несомненно, знает, что у нее нет ни гроша за душой, и сам хочет предложить ей все, чем располагает. У этого человека честные намерения, и ему надо отказать мягко и по-хорошему».
Опасаясь, как бы Галюше не заподозрил, что Жильберта гордится своим именем, и, с другой стороны, не желая озлоблять жениха отказом, Антуан не дал окончательного ответа, а попросил отсрочки, чтобы подумать и посоветоваться с домашними. Галюше, в свою очередь, попросил позволения приехать еще раз, не для того, чтобы любезничать с Жильбертой, а чтобы узнать свою судьбу, и бедняга Антуан, в полном смущении, согласился на это.
Он повел Галюше на берег реки, хотя письмоводитель господина Кардонне не захватил удочки и ему хотелось остаться в замке. Антуан прошел с ним берегом Крёзы, чтобы показать рыбные места, и дорогою, поддавшись минутной слабости и вечному своему добродушию, попросил у него извинения за насмешки и шутки Жана. Галюше был в восторге, великодушно принял всю вину на себя, но, желая выказать себя в лучшем свете, прибавил, что опьянел впервые в жизни, что он не выносит вина и вообще великий трезвенник.
— Слава богу! — сказал Антуан. — А то Жанилла усомнилась в вашей воздержанности, но теперь понятно, что она ошиблась.
Беседа затянулась. Галюше, отлично понимавший причину смущения хозяина, который никак не желал возвращаться с ним в замок, настоял, однако, на своем, и господин Антуан вынужден был в конце концов вернуться с ним в Шатобрен. Здесь Галюше отвел в сторону Жаниллу, считая нужным доверить ей свои намерения и дать Антуану время предупредить дочь. Он рассчитывал, и не без основания, что вызовет раздражение Жильберты: сейчас, когда он был трезв, он ясно увидел все растущее возмущение Эмиля и чувства Жильберты к избраннику ее сердца.
«На сей раз, — рассуждал Галюше, — господин Кардонне не упрекнет меня, что я даром потерял время. Влюбленные голубки обратят всю ярость против меня, и господин Эмиль станет искать предлога к ссоре». Галюше не был трусом и думал не без некоторого удовлетворения, что против Эмиля он выстоит, к тому же последний вряд ли прибегнет к кулачной расправе. Правда, настоящая дуэль по всем правилам была ему еще меньше по вкусу, ибо Галюше ничего не смыслил в благородном оружии, но он уповал на фабриканта, который, несомненно, убережет его от такой опасности.
Пока Галюше беседовал с Жаниллой, господин де Шатобрен повел дочь и Эмиля в разросшийся фруктовый сад и сообщил им о том, что произошло между ним и письмоводителем, однако с некоторыми умолчаниями.
— Ну вот, — говорил он, — вы обвиняете Галюше в глупости и дерзости. Но вы раскаетесь в вашем суровом приговоре, ибо он достойный малый, у меня есть тому доказательство. Я расскажу обо всем в присутствии Эмиля — ведь он наш настоящий друг, — и если бы Жильберта пожелала взглянуть на вещи без предубеждения, она могла бы попросить у господина Эмиля кое-какие сведения об этом молодом человеке. Скажите-ка, Эмиль, по чести и совести, Галюше — порядочный человек?
— Вне всякого сомнения, — ответил Эмиль. — Галюше работает у отца уже три года, и батюшка очень бы огорчился, если б ему пришлось его лишиться.
— А у него хороший характер?
— Я должен признать, что вопреки его поведению в прошлый раз он смирный и вполне безобидный человек.
— Он выпивает?
— Нет, насколько я знаю.
— Прекрасно! В чем можно его упрекнуть?
— Если бы он не напрашивался к нам в гости, я сочла бы его совершенством, — сказала Жильберта.
— Значит, он тебе очень не нравится? — спросил господин Антуан, приостановившись, чтобы взглянуть дочери прямо в лицо.
— Да нет, батюшка, — ответила Жильберта, удивленная его торжественным тоном, — Не принимайте всерьез моей неприязни. Я ни к кому не питаю ненависти, и, если у вас есть причины относиться к Галюше с уважением и его общество хоть сколько-нибудь вам приятно, было бы непростительным капризом с моей стороны лишать вас любезного собеседника. Я попытаюсь — и, быть может, мне это удастся — разделить ваше доброе мнение о нем.
— Ты рассуждаешь как хорошая и разумная девушка! Узнаю мою Жильберту. Помни же, дочка, что тебе меньше, чем кому-либо другому, пристало гнушаться этим молодым человеком. Если ты не испытываешь к нему никакой склонности, то должна, по крайней мере, быть с ним вежлива и мягко ему отказать. Надеюсь, ты меня понимаешь?
— Нисколько!
— Боюсь, что я понял! — сказал Эмиль, и щеки его вспыхнули ярким румянцем.
— Что же, — продолжал господин Антуан. — Я полагаю, что, когда довольно богатый, по сравнению с нами, молодой человек влюбляется с первого взгляда в бедную, красивую девушку и питает в отношении нее самые честные намерения, нельзя грубо выставить его за дверь да еще заявить при этом: «Нет, сударь, вы слишком уродливы!»
Жильберта покраснела так же, как Эмиль, и, несмотря на все свое желание быть покорной дочерью, почувствовала себя настолько оскорбленной притязаниями Галюше, что не могла ничего ответить: слезы выступили у нее на глазах.
— Этот негодяй солгал самым недостойным образом, — воскликнул Эмиль, — и вы имеете право прогнать его с позором! У него нет никакого состояния. Мой отец вытащил его из горькой нужды. Он работает у батюшки всего четвертый год и, если только не получил наследства…
— Нет, Эмиль, нет, он не солгал. Я вовсе не так доверчив и простодушен, как вы думаете. Я осведомился у него и знаю, что источник его состояния чист и надежен. Ваш батюшка даст ему двадцать тысяч франков в том случае, если Галюше найдет себе невесту в наших краях: господин Кардонне, видите ли, желает навсегда привязать его к себе чувством благодарности.
— Но, без сомнения, — сказал Эмиль неуверенно, — мой отец не знает, что Галюше осмелился мечтать о мадемуазель де Шатобрен, иначе он не стал бы поощрять его надежды.
— Как раз напротив, — продолжал господин Антуан, который находил все это вполне естественным, — ваш отец узнал от Галюше, что он неравнодушен к Жильберте, и дозволил ему от своего имени просить ее руки.
Жильберта смертельно побледнела и взглянула на Эмиля, а он опустил глаза, пораженный, уязвленный и униженный до глубины души.
XXV Взрыв
— Что такое? Что случилось? — спросила Жанилла, появляясь в беседке, расположенной у входа в сад. — Чем это Жильберта так расстроена, и почему, когда я подошла, вы замолчали, как будто замышляете заговор?
Жильберта бросилась на шею Жанилле и залилась слезами.
— Ну, перестань, голубка, — продолжала добрая старушка. — Этого еще не хватало! Моя дочка плачет, а я и не знаю, в чем дело. Говорите же, господин Антуан!
— Что, Галюше уже ушел? — спросил господин Антуан, беспокойно оглядываясь по сторонам.
— Надо полагать, ушел. Во всяком случае, он со мной попрощался, и я его проводила до ворот, — сказала Жанилла. — Не так-то просто от него отделаться. Малый глуповат! Ему, видно, очень хотелось остаться, но я дала ему понять, что такие важные дела так быстро не делаются, что мне, мол, надо переговорить с вами, что мы ему напишем, если захотим его видеть. Но сначала скажите, что это с дочкой? Кто ее обидел? Ну перестань, перестань! Твоя Жанилла здесь, с тобой, она защитит и утешит тебя!
— О да, ты поймешь меня! — вскричала Жильберта. — И не дашь меня в обиду! Я оскорблена, и только ты можешь все объяснить батюшке. Знай, что еще немного, и он сам стал бы ходатайствовать за господина Галюше.
— Ах, тебе уже всё известно! Так ты расстроилась из-за наших семейных дел? Я тоже должна кое-что вам рассказать. Но мы, пожалуй, наскучим господину Эмилю.
— Я понимаю вас, мадемуазель Жанилла, — ответил молодой человек, — и знаю, что правила приличия повелевают мне удалиться, но я слишком чувствительно заинтересован во всем здесь происходящем, чтобы подчиниться пошлым обычаям. Можете говорить в моем присутствии, мне все известно.
— Ладно, сударь, раз вы знаете, о чем идет речь, и если господин Антуан находит удобным объясняться при вас, — что, между нами говоря, ни к чему, — я буду говорить, как будто вас здесь и нет. Первым делом перестань плакать, Жильберта. Чем ты так огорчена, дочка? Тем, что какой-то неуч вообразил, будто достоин тебя? Эх, бог ты мой, тебе еще не раз придется — даже когда ты будешь замужем — встречать самонадеянных людей, которые дадут тебе повод посмеяться. Вот и надо смеяться, дитятко, а вовсе не плакать. Молодой человек думает, что оказывает тебе честь и уважение. Прими его так же уважительно и скажи сама или вели передать через кого-нибудь, что ты, мол, благодаришь, но отказываешь ему. Не пойму, чего ты встревожилась? Уж не воображаешь ли ты, что я собираюсь поощрять его домогательства? Этого еще недоставало! Да имей он хоть сто тысяч, сто миллионов франков, я все равно считала бы его недостойным моей дочери! Урод этакий! Глаза вылупленные, нос задран! Пускай убирается на все четыре стороны! Нет у нас для него невесты! Как бы не так! Матушка Жанилла понимает толк в таких делах: чертополоху не место подле розы.
— Прекрасно сказано, дорогая Жанилла! — вскричал Эмиль. — Вы достойны называться матерью Жильберты!
— А вам-то что, сударь? — спросила Жанилла, разгоряченная и возбужденная собственным красноречием. — Разве вас касаются наши дела? Или вы знаете что-нибудь худое о нашем женихе? Впрочем, к чему толковать! Мы и без вас сумеем его спровадить.
— Погоди, Жанилла, не брани его, — сказала Жильберта, ласкаясь к своей старой няне, — мне становится легче на душе, когда и другие признают, что Притязания этого человека оскорбительны для меня. Я не могу думать о нем без ужаса! У меня стынет кровь, я больна! А батюшка меж тем ничего не понимает. Он польщен сватовством Галюше и, я уверена, не в силах будет избавить меня от его присутствия.
— Так, так! — подхватила Жанилла, смеясь, — Вечно виноват батюшка, злодей он этакий! Значит, моя дочка плачет из-за него? Вот так так! Уж не желаете ли вы, сударь, стать тираном на старости лет? Погодите! Матушка Жанилла еще жива и умирать не собирается.
— Ну вот, — сказал господин Антуан. — Выходит, я деспот, жестокосердный отец! Ладно, вините во всем меня, если вам от этого легче. А теперь, дочка, скажи наконец, на кого ты сердишься и какое преступление я совершил.
— Дорогой батюшка, — сказала Жильберта, бросаясь ему на шею, — не надо шутить этим, мне слишком грустно. Немедленно откажите господину Галюше от дома, чтобы я могла свободно вздохнуть и позабыть этот дурной сон.
— В этом-то вся загвоздка, — ответил господин Антуан. — Что я ему напишу? Надо толком посоветоваться.
— Слышишь, матушка? — обратилась Жильберта к Жанилле. — Батюшка не знает, что ответить. Значит, он не придумал, как ему отказать.
— Что ж, дитя мое, твой отец не так уж виноват, — промолвила Жанилла. — И я тоже выслушала предложение от твоего прекрасного воздыхателя и даже глазом не моргнула, не сказала ему ни да, ни нет. Ну, ну, не сердись. Нельзя же так сразу, надо посоветоваться. Кто же это объявляет молодому человеку: «Вы мне не нравитесь». Такие вещи не принято говорить. А еще хуже будет, если мы скажем: «Мы из хорошего дома, а вы — вы только Галюше». Это и жестоко и оскорбительно.
— К тому же это не довод, — подхватила Жильберта. — Что нам наше благородное происхождение? Настоящее благородство в душе, а не в пустых титулах. Не имя Галюше мне отвратительно, а манеры и чувства человека, который его носит.
— Дочка права: имя, занятия и состояние ничего не значат, — отозвался господин Антуан, — и потому на это нам ссылаться не следует. Тем более нельзя упрекать человека за его наружность. Лучше всего скажем, что Жильберта не хочет выходить замуж.
— Вот уж нет! Постойте-ка, сударь, — воскликнула Жанилла, — я не согласна! Ведь если молодой человек станет повторять ваши слова — а уж он, поверьте, не преминет это сделать, — никто из женихов больше к нам и не явится. А я вовсе не желаю, чтобы наша дочка пошла в монастырь.
— Но ведь надо же придумать какую-нибудь причину, — продолжал господин Антуан. — Скажем в таком случае, что она не хочет выходить замуж, так как слишком молода.
— Вот и хорошо, батюшка! Это действительно превосходная причина! Я и в самом деле не хочу покамест выходить замуж, я слишком молода.
— Неправда! — вскричала Жанилла. — Ты уже на возрасте и, надеюсь, скоро найдешь красивого и хорошего мужа, который понравится тебе, да и всем нам.
— Не думай об этом, матушка, — горячо возразила Жильберта. — Клянусь перед богом, что отец говорит правду: я не намерена пока выходить замуж. Пусть все это знают, и пусть женихи не надоедают мне. Ах, если вы будете приглашать назойливых кавалеров, вы только лишите меня счастья, которым я наслаждаюсь, живя в вашем обществе, и омрачите мою юность! И попусту: я все равно не переменю решения и скорее умру, чем разлучусь с вами!
— Кто говорит о разлуке? — возразила Жанилла. — Тот, кто тебя полюбит, не захочет причинить тебе горе… а впрочем, один бог знает, что ты сама решишь, когда полюбишь! Ах, бедное дитя мое! Возможно, тогда плакать придется нам, ибо сказано: «Жена да покинет отца и мать своих и да последует за мужем», — а тот, кто это сказал, знал сердце женщины.
— Нет! — вскричал Эмиль. — Это ведь закон послушания, а не любви. Человек, который по-настоящему полюбит Жильберту, полюбит и ее родителей и друзей, словно своих собственных, и не захочет ее разлучить с ними, как не захочет расстаться с ней сам.
Но тут Жанилла перехватила страстный взгляд, которым обменялись влюбленные, и к ней вернулась вся ее прежняя настороженность.
— Помилуйте, сударь, — заявила она, — вы вмешиваетесь в дела, которые совсем вас не касаются, и, думается мне, зря мы тут объяснялись при вас. Но раз уж вы заупрямились, а господин Антуан находит это вполне уместным, прошу вас не повторять слова, сказанные дочкой в порыве досады на вашего Галюше, и особенно — не верить им. Слава богу, не все мужчины на один покрой, и необязательно Жильберта останется в девицах только из-за того, что хочет иметь более приятного супруга. Мы его найдем, будьте покойны! И, пожалуйста, не воображайте, что, если наша дочка не так богата, как вы, она в одиночестве зачахнет от тоски!
— Постой, постой, Жанилла! — перебил ее Антуан, беря Эмиля за руку. — Ты наговорила бог знает чего.
Похоже, что ты хочешь огорчить нашего друга. Не качай головой. Запомни: Эмиль — наш лучший друг после Жана, которому принадлежит право старшинства, и я заявляю, что за последние двадцать лет, с тех пор как бедность научила меня ценить бескорыстные чувства, никто не выказал и не внушал мне такой привязанности, как Эмиль. Вот потому-то я и твержу: он никогда не будет лишним при обсуждении наших маленьких семейных секретов. По своему уму, благородству убеждений и образованию он намного старше своих лет, да, пожалуй, и нас с тобой, Жанилла; и нам лучшего советчика не найти. Я смотрю на него как на брата Жильберты и головой ручаюсь, что, если нашей дочке представится приличная партия, Эмиль поможет нам разобраться в женихе и будет способствовать браку, который принесет счастье Жильберте, или же помешает союзу, который сулит ей горе. Твоя язвительность, Жанилла, противна здравому смыслу: и если я доверил ему тайну, то знал, почему так делаю. Ты, видно, принимаешь меня за малого ребенка!
— Ах вот как, сударь! Теперь уж стали придираться вы! — взволнованно вскричала Жанилла. — Хорошо же, пусть будет так! Раз сегодня решили говорить только правду, скажу и я: не нужно было выводить меня из терпения. Я и вам заявляю и повторяю господину Эмилю, что он еще слишком молод для роли друга нашей семьи, и хорошо бы, если б его дружба немного поостыла, а то вы почувствуете ее неудобства. Зачем ходить далеко, возьмем то, что произошло сегодня. Является молодой человек, он хочет жениться на Жильберте. Нам он не подходит. Отлично! Решено! Но кто помешает этому жениху, которого мы выпроводили, думать и говорить — хотя бы для того, чтобы отомстить нам, — что наша семья, мол, загордилась, что мы ищем для Жильберты богатой партии и отказываем всем женихам, имея виды на господина Эмиля? Конечно, сам-то господин Эмиль этого не думает. Он знает нас достаточно хорошо и разбирается, кто мы такие. Но никто не поручится, что глупые люди не поверят сплетне и нас же первых ославят дураками. Еще бы! Мы откажем господину Галюше от дома потому, что наша дочка, видите ли, слишком молода. А господин Кардонне-сын будет являться в Шатобрен каждую неделю, словно для него закон не писан. Так не делается, господин Антуан! А вы напрасно смотрите на меня так нежно, господин Эмиль, зря становитесь на колени и берете меня за руку, словно хотите объясниться в любви… Что греха таить, я вас люблю и буду о вас сожалеть, и даже очень, но все же я исполню свой долг, потому что здесь только у меня одной голова на плечах, только я одна решительна и умею все предвидеть. Ничего не поделаешь! Вы тоже уйдете подобру-поздорову, мой дружок, потому что матушка Жанилла слов на ветер не бросает…
Жильберта побледнела как полотно, а господин Антуан рассердился, едва ли не впервые в жизни. Он находил поведение Жаниллы безрассудным, однако, не смея открыто ей перечить, рассеянно теребил уши Разбойника, но хотя собаке было больно, она терпеливо сносила неудовольствие хозяина и даже лизала ему руку. Эмиль стал на колени между Жаниллой и Жильбертой. Сердце его переполнилось, он больше не мог молчать.
— Дорогая Жанилла! — вскричал он в непреодолимом волнении. — И вы, добрый, великодушный господин Антуан! Выслушайте меня и узнайте наконец мою тайну. Я люблю вашу дочь страстно, люблю с первого дня, как ее увидел! И если она соблаговолит ответить на мои чувства, я прошу ее руки — не для господина Галюше, не для кого-либо из приближенных моего отца, не для кого-либо из моих друзей, нет — для меня самого, так как не могу жить без нее! Я не подымусь до тех пор, пока не получу и вашего и ее согласия.
— Приди в мои объятия! — воскликнул господин Антуан, вне себя от радости и восторга. — Ты благородный юноша, я знал, что нет на свете другой такой возвышенной и честной души!
И он обнял Эмиля так крепко, что чуть не задушил его. Растроганная Жанилла отерла глаза носовым платком, но вдруг, подавив слезы, вскричала:
— Но ведь это безумие, господин Антуан, сущее безумие! Владейте собой и не слишком слушайтесь своего сердца. Конечно, господин Эмиль славный молодой человек, и, будь мы богаты или он беден, мы не желали бы лучшего мужа для нашей Жильберты. Но не забывайте, это несбыточно: ведь его семья никогда не согласится. А он в своей юной голове успел сочинить целый роман! Уж очень я вас люблю, Эмиль, а не то побранила бы, что вы так взбудоражили господина Антуана. У него воображение еще богаче вашего, и он, пожалуй, примет всерьез эти бредни! К счастью, Жильберта рассудительнее нас. Взгляните на нее. Она вовсе не смущена вашими нежными словами, хотя признательна вам за них и благодарит за добрые намерения. Но дочка прекрасно знает, что вы себе не принадлежите, не можете обойтись без согласия папеньки, и, если вы даже по возрасту не должны были бы испрашивать отцовского разрешения, она сама из слишком хорошего дома, чтобы насильно войти в семью, которая ее не желает.
— Верно, — сказал господин Антуан, словно упал с облаков на землю. — Мы увлеклись, бедные мои дети! Никогда господин Кардонне не согласится на этот брак. Что мы можем ему предложить? Знатное имя? Но оно для него пустой звук. Да и, по правде сказать, мы сами-то не очень высоко его ценим, и богатства оно нам не принесет. Эмиль, Эмиль, прекратим это разговор, мы только зря мучим друг друга! Останемся друзьями, только друзьями! Будьте другом моей дочери, будьте ей братом, покровителем и защитником в трудную минуту. Но не станем думать о браке, о любви, ибо в наше время любовь — мечта, а брак — сделка.
— Вы не знаете меня, — вскричал Эмиль, — если полагаете, что я подчинюсь, что я могу подчиниться законам света и соображениям выгоды. Не стану вас обманывать. Я поручился бы за согласие матушки, располагай она свободно своим мнением, но отец не будет благосклонен к нашему союзу. Тем не менее батюшка любит меня и, когда сам убедится в твердости моего намерения, вынужден будет признать себя побежденным. Быть может, желая повлиять на меня, он прибегнет к одному имеющемуся в его распоряжении средству — лишит меня на некоторое время преимуществ богатства. О, с какой радостью я буду тогда трудиться, чтобы заслужить руку Жильберты и чтобы стать достойным уважения, которым не пользуются бездельники и которое заслужили вы, господин Антуан, пройдя через почетные испытания! Не сомневаюсь, со временем отец уступит, клянусь в этом пред богом и пред вами, ибо чувствую в себе силу непобедимой любви. И когда этот умный и рассудительный человек уверится в глубокой силе моей страсти, он от чистого сердца откроет объятия и душу моей невесте, потому что любит меня больше всего на свете и уж конечно больше, чем свое состояние и честолюбие. Я хорошо знаю батюшку, и если он подчиняется судьбе, то делает это без оглядки на прошлое, без мелочной досады, без трусливого сожаления. Уверуйте же в мою любовь, дорогие мои друзья, и надейтесь, как я, на провидение! Нас не должны унизить предрассудки, победить которые мне предстоит; а нежность моей матери, живущей только ради меня и мною, тайно вознаградит Жильберту за предубеждения отца, которые рассеются в недалеком будущем. О, не сомневайтесь в этом, молю вас! Вера творит чудеса, и, если вы поддержите меня в моей борьбе, я буду счастливейшим из смертных, боровшихся за самое священное — за благородную любовь во имя девушки, достойной вечной моей преданности!
— Ну, пошел теперь… та-та-та! — прервала его рассерженная Жанилла. — Говорит как по книге и, изволите ли видеть, пытается вскружить голову нашей дочке. Да замолчите вы, златоуст непрошеный! Никто не хочет вас слушать, и никто вам не поверит! Не смейте ему верить, господин Антуан! Вы не знаете, какую еще беду он на вас навлечет и уж наверняка помешает Жильберте составить достойную, разумную партию.
Бедный Антуан не знал, кого и слушать. Когда говорил Эмиль, он весь загорался, вспоминая молодые годы и свою любовь, свято веря, что самое высокое и благородное дело — защищать любовь и поощрять такие прекрасные стремления. Но когда Жанилла выливала на огонь ушат холодной воды, он признавал мудрость и осторожность верной домоправительницы и был то заодно с нею против Эмиля, то с Эмилем против нее.
— Ну, довольно! — сказала наконец Жанилла, возмущенная колебаниями Антуана. — Совершенно незачем произносить такие речи в присутствии нашей дочери. Что бы получилось, будь она легкомысленная или ветреная девушка! К счастью, она не поддается вашим уговорам и не придает значения вашим капиталам; слишком она горда, чтобы ждать, пока господин Эмиль будет располагать своим сердцем. Она распорядится своим будущим как ей заблагорассудится, и, сохраняя к вам уважение и дружбу, попросит вас не бросать на нее тень своими посещениями. Жильберта, ты у нас разумная и решительная девушка, ответь же господину Эмилю, чтобы разом покончить со всеми этими бреднями!
До сих пор Жильберта молчала. Встревоженная и сосредоточенная, она переводила взгляд с отца на Жаниллу, а еще чаще останавливала его на Эмиле, чьи страсть и убежденность воспламенили ее душу. Внезапно она бросилась на колени перед отцом и Жаниллой и, взволнованно целуя руки старушки, воскликнула:
— Слишком поздно требовать от меня холодной рассудительности и призывать к эгоистическим расчетам. Я люблю Эмиля, люблю его так же, как он меня любит. И буду ли я его женой или нет — я поклялась никогда не принадлежать другому. Отец и ты, моя богоданная мать, выслушайте мою исповедь. Уже два месяца я томлюсь, а две недели скрываю от вас тайну, которая гнетет меня и будет первой и последней в моей жизни. Я отдала свое сердце Эмилю и поклялась быть его женой в тот день, когда на это согласятся мои и его родители, а до тех пор я буду любить его, буду ждать терпеливо. Я снова клянусь ему в этом, призывая в свидетели бога и вас! Я поклялась также и повторяю вновь, что, если воля его отца непоколебима, мы будем любить друг друга, как брат и сестра; я все равно не полюблю другого, но никогда не сделаю безумного и отчаянного шага. Верьте мне! Вы видите, я крепка духом. И с той поры, когда в моем сердце Эмиль занял место рядом с вами, я счастлива как никогда. Не бойтесь, я не буду ни жаловаться, ни грустить, ни унывать, я не заболею. Я и через десять лет буду такая, какой вы видите меня сегодня. В вашей любви я буду черпать беспредельное утешение, а в своем чувстве — мужество, которое поддержит меня при всех испытаниях.
— Милосердный боже! — вскричала Жанилла в отчаянии, — Что за проклятие! Только этого еще недоставало! Дочка любит его и сказала ему об этом, да еще и повторяет при нас! Горе нам, горе! В несчастный день этот молодой человек переступил порог нашего дома!
Господин Антуан удрученно вздыхал и обливался слезами, прижимая дочь к груди. Но Эмиль, вдохновленный мужеством Жильберты, нашел нужные слова, чтобы покорить его податливую душу. Даже Жанилла заколебалась, и под конец был принят план, созревший у влюбленных еще в Крозане, а именно: ждать, хотя, по мнению Жаниллы, это еще не разрешало вопроса, и видеться не слишком часто. Последнее обстоятельство немного успокаивало Жаниллу, опасавшуюся людских толков.
Когда они ушли из фруктового сада, оттуда немного спустя украдкой выскользнул Галюше и, не замеченный никем, исчез в кустах, пробираясь под их прикрытием к Гаржилесу.
Эмиль остался к обеду; ни у Антуана, ни у Жаниллы не хватало духа торопить его с отъездом, так как в следующий раз он мог навестить их только на будущей неделе.
Привязчивое и простодушное сердце господина Антуана не могло противостоять ласкам и нежным речам наших влюбленных, и, стоило домоправительнице отлучиться из комнаты, тотчас добряк от всей души благословлял их чувство и разделял их надежды. Жанилла относилась к ним несколько строже: она и в самом деле была искренне опечалена. Но никто лучше влюбленных не умеет привлекать лестью на свою сторону нужных союзников. Жильберта и Эмиль были так добры, так преданны и нежны, так изобретательны и трогательны в своей невинной лести, и отблеск счастья так горел в их взорах и на их лицах, что тигр и тот смягчился бы. Жанилла плакала сначала от досады, затем от горя и, наконец, от нежности. Когда же наступил вечер и они вчетвером отправились посидеть на берегу реки под мягким светом луны, ничто больше не разделяло этих связанных нерушимой любовью людей, чьи сердца бились в лад, а руки сплетались в душевном порыве.
Больше всех сияла Жильберта. Ее чистое сердце переполняла нежность, подобная благоуханию цветов, которые раскрывают чашечки при появлении первой вечерней звезды и возносят к небу свой аромат. А Эмиль, как ни был опьянен, не мог забыть о суровом долге, который ему предстояло выполнить, чтобы сочетать благоговейную любовь к Жильберте с сыновней почтительностью. Но Жильберта верила, что можно ждать бесконечно и что, раз есть любовь, чудо свершится само собой, без всяких усилий с чьей бы то ни было стороны. На прощание Эмиль осмелился в присутствии старших поцеловать Жильберте руку, и Жанилла со вздохом сказала, глядя ему вслед:
— Вот ты, дочка, и загрустишь теперь на целую неделю. Опять будешь ходить с красными глазами, как бывало до этой проклятой поездки в Крозан. Прощай покой и счастье, они покинули наш дом!
— Если ты хоть раз увидишь меня печальной, дорогая матушка, — ответила Жильберта, — запрети Эмилю посещать нас! И если глаза мои покраснеют, я выколю их, чтобы больше его не видеть! Но что ты скажешь, если я стану еще веселее и счастливее, чем прежде? Разве ты не чувствуешь, как спокойно бьется мое сердце? Постой, приложи-ка руку к моей груди, да поскорее, пока еще слышен топот удаляющейся лошади. Взволнована ли я? Зажги лампу и посмотри на меня хорошенько. Разве я не твоя Жильберта, твоя дочка, которая живет только для тебя и батюшки и никогда, ни на минутку, не соскучится с вами? Да, я страдала и плакала, когда скрывала от вас мою тайну, и мучилась оттого, что нельзя было ее открыть. Но теперь, когда я могу говорить вам все, мечтать вслух, я дышу полной грудью, радуюсь, что живу для вас и с вами! Неужели ты не видела, как мы были счастливы сегодня, потому что не таили больше нашей любви и не страшились ее? Уж не думаешь ли ты, что этому наступит конец и что мы с Эмилем можем быть счастливы, если всегда и ежечасно не будем вместе с вами?
«Увы! — подумала Жанилла, вздыхая. — Это еще только начало! Что-то ждет нас впереди!»
XXVI Ловушка
Эмиль решил не медлить более и серьезно поговорить с отцом, но не признаваться прямо и слишком поспешно в любви к Жильберте, а подойти к объяснению постепенно, после предварительной беседы. Он уговорился с Жаном увидеться утром и не без основания думал, что, если плотник окажется прав, тем самым представится прекрасный повод приступить к разговору с господином Кардонне и доказать ему всю шаткость и тщету его планов обогащения.
Нельзя сказать, чтобы Эмиль слепо доверял опыту Жана Жапплу в таких делах, но он знал, как часто логические выводы, сделанные на основании непосредственного наблюдения, могут помочь научному исследованию. Он вышел из дому на рассвете и встретился с плотником в назначенном месте. Накануне он предупредил отца о своем намерении исследовать течение реки, на которой стояла фабрика, умолчав, однако, кого избрал себе в проводники.
Экспедиция была трудная, но поучительная, и по возвращении Эмиль попросил отца уделить ему несколько минут для разговора наедине. Господин Кардонне встретил сына спокойно, но его торжествующий вид не предвещал ничего доброго. Тем не менее Эмиль счел своим долгом предупредить отца о том, в чем успел воочию убедиться, и приступил к разговору без обиняков.
— Батюшка, — сказал он, — вы стремитесь увлечь меня своими планами, чтобы я осуществлял их с таким же рвением, как вы сами. Последнее время я всячески стараюсь с наибольшей пользой для дела предоставить в ваше распоряжение все мои знания и способности. Вы оказываете мне доверие, но в ответ я должен вам сказать, что мы строим здание на песке и наше состояние не только не удвоится, как вы рассчитываете, но будет поглощено бездонной пропастью.
— Что ты хочешь этим сказать, Эмиль? — спросил господин Кардонне, улыбаясь. — Какое грозное начало! А я-то полагал, наука приведет тебя к тем же выводам, к которым приводит практика, другими словами, к выводу, что для воли, руководимой разумом, нет ничего невозможного. Но в результате долгих раздумий ты, как видно, пришел к обратному заключению. Итак, совершив длительную прогулку, ты, без сомнения, произвел глубокое исследование. Я также исследовал в прошлом году реку и уверился: ее надо и можно укротить. А ты как считаешь, сын мой?
— Я считаю, отец, что вы потерпите неудачу, ибо вам потребуются издержки, непосильные для частного лица, да они к тому же не оправдаются соответствующим доходом.
Тут Эмиль проявил немалую осведомленность и пустился в объяснения, которые мы опускаем, щадя читателя. Мысль его сводилась к тому, что Гаржилеса с ее капризным течением представляет непреодолимое препятствие для выполнения задач, поставленных его отцом, если только в предприятие не будет вложен капитал в десять раз больше того, каким он располагает. Придется приобрести участки, прилегающие к реке, чтобы отвести в сторону ее русло, в другом месте расширить его, кое-где взорвать скалы, препятствующие течению Гаржилесы.
Наконец, если нельзя иным путем справиться с постепенным скоплением воды и внезапным и бурным низвержением ее в верхних водохранилищах, придется воздвигнуть вокруг фабрики плотины, в сто раз более мощные, чем те, какие сооружались до сих пор, а это приведет к тому, что воды повернут вспять и затопят окрестные земли. Для проведения этого плана надо было бы скупить половину общины или же обладать такой властью, какой не существует у нас во Франции. Работы, осуществленные до сих пор господином Кардонне, и так уже нанесли серьезный ущерб окрестным мельникам. Отвод воды для надобностей фабрики привел к тому, что мельницы начали работать вхолостую, вращение колес замедлялось, а иногда они и совсем останавливались. Господину Кардонне удавалось умиротворять этих мелких владельцев и ценой немалых расходов возмещать их убытки. Но в конечном счете либо ему самому, либо им грозило разорение: невозможно было применять такую систему возмещений длительное время, и, во всяком случае, она могла существовать лишь до окончания работ. Господин Кардонне очень дорого заплатил одному каменолому за шесть месяцев работы, а другим людям за лошадей, которые потребовались для перевозки материалов. Он успокаивал многих призрачными надеждами, — и, ослепленные временными доходами, люди закрывали глаза на будущее, что свойственно тем, кто не уверен в сегодняшнем дне.
Эмиль не останавливался на всех этих подробностях, которые могли лишь вызвать раздражение господина Кардонне, а отнюдь не переубедить его; юноша стремился напугать отца, ибо был твердо уверен, что нимало не преувеличивает.
Господин Кардонне с большим вниманием выслушал сына, затем отечески ласково провел рукой по его волосам и с улыбкой, в которой сквозило спокойное превосходство, сказал:
— Я очень доволен тобой, Эмиль, я вижу, ты занялся делом, серьезно трудишься и на сей раз не терял зря времени в бесконечных визитах к владельцам замков. Ты умеешь говорить ясно и со знанием дела, как добросовестный адвокат. Я счастлив, что ты начинаешь рассуждать положительно, но знаешь ли, что больше всего меня радует? То, что ты привыкаешь к делу, что изучение его, как я и предсказывал, оказало свое благодетельное влияние… Тебя уже страстно волнует успех нашего предприятия, ты живешь им, ты проходишь через все неизбежные этапы — страх, сомнение и даже временный упадок духа, знакомые любому промышленнику при осуществлении всякого значительного проекта. Да, Эмиль, вот это я называю зачатием и рождением. Это таинство воли осуществляется в муках: мозг мужчины подобен чреву женщины. Но успокойся, мой друг. Опасность, которую ты, как тебе кажется, обнаружил, страшна только для поверхностного наблюдателя, — нельзя охватить всего во время обыкновенной прогулки. Я потратил неделю на исследование реки, прежде чем положил первый камень на ее берегу, и советовался с человеком, более опытным, чем ты. Постой, вот план местности, где указаны уровни, глубина и кубатура. Давай изучим его вместе!
Эмиль внимательно разобрался в плане и заметил в нем немало существенных погрешностей. Составители исходили из того, что даже при чрезвычайных обстоятельствах река не поднимется выше определенного уровня и что препятствия на ее пути могут держать этот уровень только известное время. Из этих возможностей и исходили, но самый простейший опыт — свидетельства старожилов, если бы к ним прислушались, — легко опровергал основные предпосылки теории. Однако строптивый и недоверчивый господин Кардонне не желал учитывать всего этого. Он отдался с закрытыми глазами на волю могучих сил, как Наполеон во время кампании в России, и в своем великолепном упрямстве, подобно Ксерксу, охотно приказал бы наказать розгами мятежного Нептуна. Человек, советами которого он пользовался, при всех своих знаниях стремился лишь угодить хозяину и неумеренно льстил его честолюбию, а быть может, незаметно для себя самого, подпал под влияние его непреклонной воли.
— Батюшка, — сказал Эмиль, — речь идет не только о гидрографических выкладках. Позвольте мне сказать, что слепая вера в искусственные сооружения ввела вас в заблуждение. Вы смеялись надо мной, когда в первые годы занятий науками я говорил вам, что все человеческие знания кажутся мне связанными между собой и, чтобы овладеть в совершенстве каким-нибудь одним специальным предметом, надо стать почти универсальным ученым. Короче, при изучении любой детали нельзя обойтись без обобщений; и прежде чем постичь механизм часов, надо познать механизм мироздания. Вы тогда смеялись, да и теперь смеетесь надо мной, сбрасываете меня с небес на землю и отсылаете к пресловутым мельницам. Однако если бы, кроме гидрографа, вы взяли себе в советчики геолога, ботаника и физика, они доказали бы вам то, что я заметил сразу, хоть и не советовался с более сведущими людьми, а именно: учитывая направление горного ущелья, куда низвергается Гаржилеса, направление врывающихся туда вместе с водою ветров, а также то, что плоскогорье, где берет начало река, расположено высоко над уровнем моря и там есть вершины, среди которых застревают тучи, являющиеся источником грозных смерчей, — можно предвидеть, что в ущелье то и дело будут обрушиваться каскады воды, которые сметут на своем пути все преграды, — разве только вы начнете работы, какие вам не под силу, потому что они превосходят возможности отдельного капиталиста. А вот что сказал бы вам физик, изучив атмосферные условия: он доказал бы, какое воздействие оказывает молния на скалы, которые ее притягивают; геолог обратил бы внимание на природу почвы, ибо в зависимости от того, мергель это, известняк или гранит, почва либо задерживает, либо поглощает, либо пропускает воду.
— А что сказал бы ботаник? — спросил, смеясь, господин Кардонне. — Ботаника ты и забыл!
— Ботаник, — ответил Эмиль с улыбкой, — заметил бы на крутых и бесплодных скалах несколько былинок и просветил бы своих ученых собратьев: в отличие от геолога, который никакими исследованиями не мог бы это доказать, ботаник установил бы, что всем этим кручам случалось бывать под водой. «Это растение, — сказал бы ботаник, — выросло здесь не само по себе, это не его область произрастания: взгляните, какое оно чахлое; наводнение, которое занесло сюда его семена, в дальнейшем либо смоет его, либо окружит его родственной средой».
— Браво, Эмиль! Нельзя сказать удачнее!
— И более верно, батюшка!
— И откуда только ты взял все это? Неужели ты вдруг сделался одновременно гидрографом, механиком, астрономом, геологом, физиком и ботаником?
— Нет, батюшка. Повинуясь вашей воле, я схватил на лету только начатки этих знаний, составляющих, в сущности, единую науку, но есть натуры избранные, у которых наблюдательность и логика заменяют знание.
— Ты не отличаешься скромностью!
— Я говорю не о себе, батюшка, а об одном крестьянине, об одареннейшем человеке, который не умеет читать и не знает названий жидких тел, газов, минералов и растений, но разбирается в причинах и следствиях и чей проницательный глаз и безошибочная память устанавливают различия и схватывают природу вещей; я говорю о человеке, который, изъясняясь языком ребенка, показал мне все это и убедил меня в своей правоте.
— Не скажешь ли, кто же сей новоявленный гений, которого ты случайно встретил?
— Это человек, которого вы не любите, батюшка, и считаете безумцем; его имя я не осмеливаюсь при вас произнести.
— А, догадываюсь! Это твой друг, плотник Жапплу, бродяга, состоящий при господине де Буагильбо, деревенский знахарь, который заговаривает болезни, прекращает пожары, вырубая топором крест на балках!
До сих пор господин Кардонне слушал внимательно, хотя слова сына отнюдь его не убедили, но после признания Эмиля разразился уничтожающим смехом и заговорил тоном, в котором слышались ирония и презрение.
— Значит, — сказал он, — рыбак рыбака видит издалека! Или, вернее, — безумец безумца. Поистине, бедный мой Эмиль, природа сделала тебе плохой подарок, наделив умом и воображением и отказав в главном — в практической сметке, хладнокровии и здравом смысле. Ты чуть ли не бредишь, и все лишь потому, что, начитавшись романов, увлекся первым попавшимся деревенским вещуном. Ты готов бросить к его ногам все свои знания и большую одаренность, лишь бы подтвердить его поразительные выводы. И вот ты уже двинул в бой все науки! Астрономия, геология, гидрография, физика, даже бедная ботаника, которая никак не ждала такой чести, — все науки до единой собираются, чтобы засвидетельствовать непогрешимую мудрость какого-то Жана Жапплу! Пиши стихи, Эмиль, пиши романы! Боюсь, ты не годен ни для чего иного.
— Итак, батюшка, вы пренебрегаете опытом и наблюдением, — ответил Эмиль, сдерживая досаду. — Вы не желаете считаться с простейшими выводами разума и в силу этого осмеиваете большинство теорий. Если вы хотите, чтобы я не сообразовался ни с теорией, ни с практикой, во что же тогда я должен верить?
— Напротив, Эмиль, — ответил господин Кардонне, — я уважаю и то и другое, но лишь при условии, что ими пользуется здравый ум, потому что в головах безумцев они рождают только болезненные химеры. К несчастью, мнимые ученые принадлежат к числу последних; вот почему я и хотел предостеречь тебя от призраков, создаваемых их воображением. Кто наиболее легковерен, кого легче обмануть, как не педанта с предвзятыми идеями? Вспоминаю одного любителя седой старины, который посетил нас в прошлом году: он решил во что бы то ни стало найти каменные памятники друидов, и они виделись ему повсюду. Желая его ублажить, я показал ему старый выдолбленный камень, на котором крестьяне растирают пшеницу для каши, и убедил его, что это урна, куда галльские жрецы собирали человеческую кровь. Он захотел обязательно увезти камень, чтобы водворить в местном музее. Он принимал за древние гробницы-все гранитные колоды, из которых в здешних местах поят скот. Вот как возникают самые нелепые заблуждения. Если бы я захотел, крестьянские корыта и ступки сошли бы за драгоценные памятники древности. А между тем этот знаток провел полвека за чтением и размышлениями. Остерегайся же, Эмиль: скоро ты станешь превращать каждую муху в слона.
— Я выполнил свой долг, — возразил Эмиль. — Я хотел предложить вам заново произвести исследование тех мест, которые осмотрел; мне казалось, что опыт ваших недавних бедствий мог вам подсказать, сколь благоразумен такой шаг. Но раз вы отвечаете шутками, мне нечего добавить.
— Постой, Эмиль, — сказал господин Кардонне после минутного раздумья. — Какой же вывод можно сделать из твоих слов и что кроется за твоими великолепными пророчествами? Только то, что мудрейший Жан Жапплу — давний враг моих начинаний (кстати, он повсюду громит «папашу Кардонне», и даже при тебе, так что ты это знаешь лучше меня). Он хочет через твое посредство убедить меня покинуть эти края, где мое присутствие ему, очевидно, не по вкусу. Ну, а у тебя-то что на уме, мой ученый и философ? Каковы твои замыслы? Какую колонию хочешь ты основать? И какие пустыни Америки намереваешься облагодетельствовать с помощью твоего социализма и моей коммерции?
— Зачем ходить так далеко? — ответил Эмиль. — Если мы всерьез решим цивилизовать дикарей, нам и здесь хватит дела, но ведь известно, что это не входит в ваши намерения, и поэтому, батюшка, не стоит возвращаться к тому, что уже было сказано. Я решил не перечить вам в этом вопросе, и уже давно, если не ошибаюсь, ничем не нарушал почтительного молчания, которое вы мне предписали.
— Полно, друг мой! Не переходи на такой тон: именно твоя сдержанность и скрытность и сердят меня всего более. Хорошо, не будем спорить о социализме. Мы вернемся к нему в будущем году, и, кто знает, оба, быть может, сделаем к тому времени успехи, которые помогут нам лучше понять друг друга. Но подумаем о сегодняшнем дне. Каникулы длятся не вечно. Ну, а затем? Каковы твои планы относительно ученья и работы?
— Я желал бы оставаться подле вас, батюшка.
— Знаю, — сказал господин Кардонне с лукавой усмешкой, — знаю, что тебе очень нравятся наши края, но это тебе ничего не даст.
— Если это мне даст то, что я буду жить в полном согласии с моим отцом, — значит, я не потерял зря времени.
— Красиво сказано, ты весьма любезен! Однако, полагаю, таким образом мы мало подвинем наши дела, — разве только ты целиком отдашься моему предприятию. Послушай, хочешь, призовем сюда лучших советчиков и произведем новое обследование местности?
— Согласен от всей души и по-прежнему убежден, что мой долг вас к этому побудить.
— Прекрасно, Эмиль. Я вижу, ты опасаешься, как бы я не промотал твоего состояния. Это мне по душе!
— Вы совершенно неправильно толкуете мои чувства, — живо возразил Эмиль. — Но,— добавил он, сделав усилие, чтобы сдержаться, — понимайте их, как вам угодно.
— Ты искусный дипломат, приходится с этим согласиться. Но тебе не удастся так легко от меня отделаться. Слушай, Эмиль, нам следует объясниться. Если после вторичного и более тщательного исследования, которое мы с тобой замышляем, наука и наблюдение решат, что вы с мудрейшим Жапплу не так уж непогрешимы, что фабрика может быть достроена и может процветать, что наше общее состояние, вложенное в нее, принесет плоды, согласен ли ты телом и душой отдаться моим начинаниям, помогать мне всеми силами — руками и головой, умом и сердцем? Поклянись, что ты будешь принадлежать мне, что у тебя не останется иной мысли, кроме мысли о нашем обогащении. Предоставь мне выбор средств, не оспаривай их — и в обмен, клянусь, я дам твоему сердцу и чувствам полное удовлетворение, какое только в моей власти и которое не противоречит нравственности. Надеюсь, я говорю достаточно ясно?
— О батюшка! — вскричал Эмиль, стремительно вскочив с места. — Взвесили ли вы ваши слова?
— Вполне, и я хочу, чтобы ты также взвесил свой ответ.
— Я вас не понимаю, — сказал Эмиль, падая на стул; в глазах у него потемнело, он едва не лишился чувств.
— Эмиль, ты ведь хочешь жениться? — снова начал господин Кардонне, желая воспользоваться минутой смятения.
— Да, батюшка, — ответил Эмиль, перегибаясь через разделявший их письменный стол и умоляюще протягивая руки к отцу. — О, не играйте моими чувствами, вы убьете меня!
— Ты сомневаешься в моих словах?
— Не может быть, чтобы вы говорили серьезно.
— Я никогда в жизни не говорил более серьезно, и ты сейчас убедишься в этом. Я знаю, у тебя благородное сердце и возвышенный ум, что ты и доказывал не раз. Но с той же искренностью и уверенностью могу тебе сказать, что ты — натура бесхарактерная, чрезмерно горячая и не образумишься еще и через двадцать лет, а может быть — никогда. У тебя от пустяка кружится голова, где ж тебе научиться действовать хладнокровно. Ты пристрастен к людям и делам, неосмотрителен и неосторожен, спасительное чувство самосохранения не остановит тебя, не послужит предостережением твоему рассудку. Ты натура поэтическая. Я с грустью вижу, сколь тщетны мои надежды, вижу, что тебе необходим руководитель и наставник. Так благодари бога, что он дал тебе в руководители и наставники отца, который является лучшим твоим другом. Я люблю тебя таким, каков ты есть, хотя и желал бы видеть своего сына совсем иным, если бы мне дано было право выбора. Я тебя люблю, как любил бы дочь. Но, увы, природа создала тебя мужчиной. Из этих моих слов ты понимаешь, как я тебя люблю. Не жалуйся же на судьбу и не обижайся на мои упреки.
Наши отношения приняли определенный характер, который теперь для меня совершенно ясен, тем не менее я готов принести любые жертвы ради твоего счастья и твоего будущего. Я преодолею отвращение — признаюсь, немалое — и разрешу тебе жениться на незаконной дочери дворянина и его служанки. Я сдержу слово и, как сказал, удовлетворю стремление твоего сердца, но при условии, что твой разум целиком будет принадлежать мне и я буду располагать тобой, как самим собою.
— Возможно ли! О боже! — воскликнул Эмиль, и в голосе его послышались восторг и страх. — Но какого самоотречения вы от меня требуете?
— Кажется, я уже все объяснил. Не притворяйся, будто ты не понимаешь меня. Слушай, Эмиль, я знаю весь твой шатобренский роман, я могу тебе его рассказать от начала до конца — с минуты твоего приезда в ту грозовую ночь до прогулки в Крозан, и с прогулки в Крозан до вашей беседы во фруктовом саду. Я знаю теперь всех действующих лиц так же хорошо, как ты сам, ибо видел их собственными глазами. Вчера, пока ты обследовал течение реки, я был в Шатобрене, объяснив свое посещение тем, что хочу поддержать сватовство Констана Галюше, и имел продолжительную беседу с мадемуазель Жильбертой.
— Вы, батюшка?!
— Как же мне было не познакомиться с той, которую ты избрал, — правда, не посоветовавшись со мной, — и которая, возможно, станет когда-нибудь моей дочерью?
— О отец, отец!
— Я нахожу ее очаровательной, красивой, скромной девицей: она горда, но не чванлива, прекрасно выражает свои мысли, обладает выдержкой и превосходными манерами, хорошо воспитана, а главное — рассудительна. Она весьма благопристойно отказалась от жениха, предложенного мною. Да, она добра, скромна, исполнена достоинства. Я остался ею очень доволен. Больше всего меня поразили в ней осторожность, сдержанность и умение владеть собой: признаюсь, я с умыслом задел ее и даже оскорбил, желая проникнуть в тайну ее характера. Папаша отсутствовал, но мать — кстати сказать, она препротивная, эта старуха, зятем которой ты мечтаешь быть! — была так раздражена моими замечаниями об их бедности и уместности брака мадемуазель Жильберты с Галюше, что обошлась со мной весьма высокомерно. Старуха без обиняков обозвала меня буржуа, и так как я нарочно продолжал настаивать, чтобы вывести ее из терпения, она, подбоченившись, заявила, что дочь ее — девушка слишком высокого рода и ей не пристало выходить за слугу фабриканта и что, мол, явись сюда даже сын фабриканта, они бы еще хорошенько подумали, прежде чем согласиться на неравный брак. Она меня очень позабавила! Зато Жильберта держалась с удивительным спокойствием и твердостью. Могу тебя заверить, она свято блюдет данное тебе слово — терпеливо ждать и переносить все страдания во имя своей любви.
— О, значит вы заставили ее страдать? — вскричал Эмиль вне себя.
— Да, немного, — спокойно признал господин Кардонне, — и очень этим доволен. Теперь я знаю, что она — человек с характером, и буду рад такой невестке. Эти качества очень полезны в семейной жизни. Нет ничего хуже, когда бог посылает человеку в жены существо слабовольное, но упрямое, умеющее только вздыхать и молчать, как… некоторые мои знакомые. С такой невесткой приятно иногда поспорить и убедиться, что она умеет правильно рассуждать, быть настойчивой в своих желаниях и способна дать мужу хороший совет. Ну, Эмиль, — добавил фабрикант, протягивая сыну руку, — ты видишь, надеюсь, что я не слеп, не чрезмерно несправедлив и хочу выйти с честью из положения, в которое ты меня поставил.
— О боже мой, если вы согласитесь на мое счастье, батюшка, я готов связать себя с вами любым договором! Я стану вашим поверенным, вашим управляющим, рабочим на многие годы, пока вы не сочтете, что я способен сам распоряжаться своей судьбой. Я подчинюсь вашей воле и стану трудиться для вас день и ночь; вы не услышите от меня ни одной жалобы, я пойду навстречу всем вашим желаниям.
— И даже не требуя от меня вознаграждения? — спросил смеясь господин Кардонне. — Полно, Эмиль, не этого я хочу. Видеть тебя в положении слуги было бы противоестественным. Нет, нет, речь идет не о том, чтобы откупиться от меня, да я и не такой человек, чтобы обманываться относительно твоих истинных намерений. Я еще не окончательно разорился и найду средства для оплаты управляющего; к тому же трудно представить себе человека, менее подходящего для роли надзирателя за рабочими, чем ты. Я хочу, чтобы ты стал моим вторым «я», помощником в моей созидательной деятельности, чтобы твои знания пошли на пользу моему делу, чтобы твои идеи вдохновляли меня, а я мог бы оспаривать и исправлять их, чтобы ты изобретал все новые и новые способы увеличить наше состояние, а я прибегал бы к ним в случае надобности. Таким образом, твои занятия наукой и плодотворное твое воображение помогут мне удесятерить предназначенный тебе капитал. Но тогда, Эмиль, нельзя уж будет работать так равнодушно и бесстрастно, как ты работаешь эти две недели. Меня не обманет твое показное смирение. Я знаю, что по уговору с Жильбертой ты решил добиться таким образом от меня согласия. Мне этого мало. Я хочу, чтобы ты повиновался мне всю жизнь. Я хочу, чтобы ты предпринимал длительные путешествия, — можешь при желании брать с собой жену, — знакомился с успехами промышленности, а если понадобится, проникал в тайны наших конкурентов. Я хочу, наконец, заключить с тобой договор, который перечеркнет все твое прошлое, посвященное мечтам и несбыточным надеждам, и обяжет тебя отдать твои убеждения, твою волю, твою веру, твое будущее, твою преданность и чаяния на благо моего начинания. И договор этот мы подпишем не у нотариуса: ты поклянешься моей головой и скрепишь его кровью своего сердца.
— А если я не верю в ваше начинание? — спросил Эмиль, побледнев.
— А ты поверь. Если же оно неосуществимо, я первый отрекусь от него. Но не думай, что таким образом ты ускользнешь от меня. Если нам надо будет снять отсюда наш лагерь, я перенесу его в другое место, — меня остановит только смерть. Где бы я ни был, чем бы я ни занимался, ты должен следовать за мной, помогать мне, пожертвовав мне всеми своими идеалами, всеми своими мечтами.
— Как! Поступиться моими убеждениями, моей верой в будущее? — в ужасе вскричал Эмиль. — О батюшка, вы хотите унизить меня в моих собственных глазах!
— Ах, ты отступаешь? Так, значит, ты даже не влюблен, Эмиль! Но оставим это. Боюсь, что для твоей бедной головы волнений больше чем достаточно. Подожди, поразмысли. Я сам, когда сочту нужным, обращусь к тебе за ответом. Проверь силу своей страсти, посоветуйся со своей возлюбленной. Отправляйся в Шатобрен, бывай там ежедневно, в любое время; ты больше не встретишь там Галюше. Сообщи Жильберте и ее родителям о нашей беседе. Скажи им все. Пусть они знают, что я согласен через год поженить вас, при условии, если ты сегодня же дашь мне клятву, которую я требую. Я хочу, чтобы твоя возлюбленная знала все в точности, такова моя воля. Если же ты об этом не сообщишь ей, сообщу я сам — ведь я знаю теперь дорогу в Шатобрен.
— Я понимаю вас, батюшка, — сказал Эмиль, глубоко оскорбленный и взволнованный словами отца. — Вы хотите, чтобы Жильберта возненавидела меня, если я ее покину, или стала презирать, если я куплю свое счастье ценой унижения и отступничества. Благодарю вас за предложенный мне выбор. Я восхищен изобретательностью отцовской любви!
— Ни слова больше, Эмиль! — холодно возразил господин Кардонне. — Я вижу, что ты упорствуешь в своих социалистических бреднях и что даже любви нелегко восторжествовать над ними. Желаю Жильберте де Шатобрен совершить это чудо, и тогда ты не сможешь упрекать меня в том, что я противился твоему счастью.
XXVII Печали и радости любви
После разговора с отцом Эмиль заперся в своей комнате и провел в одиночестве несколько часов, волнуемый жестокими сомнениями. Надежда соединиться с Жильбертой без борьбы, без битвы, возможность миновать ужасное испытание, не разбивать отцовское сердце, о чем он до тех пор не мог думать без ужаса и боли, приводили его в совершенное упоение. Но, вспоминая о бесчестной клятве, которая может лишь унизить его в собственных глазах, он снова погружался в горестное отчаяние и не знал, что выбрать — счастье или страдание. Посмеет ли он, бросившись к ногам Жильберты, признаться ей во всем? Эмиль верил в мужество девушки, в величие ее души. Но, если он хочет исполнить долг любви, разве не обязан он скрыть от любимой ужасную жертву, которую мог бы принести тайно, не посвящая ее в свои страхи и сомнения? Не твердил ли он ей в Крозане, что ради нее, ради того, чтобы добиться ее руки, он вытерпит все и не дрогнет ни перед чем? Но мог ли юноша предвидеть тогда сатанинский замысел отца, задумавшего использовать самое возвышенное, что таится в душе сына, дабы искалечить и растлить эту душу? Он был сражен неожиданным ударом, он чувствовал себя обезоруженным, он терял голову! Много раз порывался Эмиль пойти к господину Кардонне, надеясь уговорить его ничего не предпринимать и скрыть от семьи Шатобрен свои намерения хотя бы до тех пор, пока он, Эмиль, не примет окончательного решения. Но непобедимая гордость удерживала его. Если отец настолько презирал сына, что счел его способным на отступничество, мог ли Эмиль обнаружить свою нерешительность и до конца раскрыть ему сердце, переполненное любовью?
Но если честь пересилит в нем любовь, кто падет первой жертвой — он или Жильберта? Он был виновен перед нею, он нарушил ее покой своей злосчастной страстью и увлек ее несбыточными мечтами. В чем провинилась бедная Жильберта, за что ее чистая душа лишилась безмятежности, за что принесли ее в жертву суровому долгу? Не слишком ли поздно он заметил подводные камни, о которые по его вине могла разбиться жизнь Жильберты? И не лучше ли погибнуть самому ради ее спасения? Позволит ли ему совесть отступить перед последними жертвами теперь, когда он навсегда связан с Жильбертой?
И даже если Жильберта отвергнет эту непомерную жертву, ведь он, Эмиль, все равно будет бесчестным обманщиком в глазах ее родителей! Поймет ли господин Антуан, который, сам того не ведая, претворял в жизнь идеи равенства, следуя влечению сердца, а также волею обстоятельств, в которые он попал, — поймет ли он, что юноша создал себе из идеи равенства религию и позволил ей восторжествовать над чувством, над клятвой? А Жанилла? Что подумает, подметив даже малейшее его колебание, старуха Жанилла, которая, несмотря на свое скромное положение служанки в разоренном доме, проникнута самыми нелепыми аристократическими предрассудками и, хотя пользуется у своих хозяев всеми преимуществами равенства, вовсе и не помышляет о тех же правах для всего остального человечества? Жанилла сочтет его безумцем или, вернее, решит, что, воспользовавшись подходящим предлогом, он изменил своему слову; она в гневе изгонит его из Шатобрена. Кто знает, не удастся ли ей с течением времени повлиять на Жильберту? И девушка тоже проникнется к нему презрением и негодованием…
Не чувствуя в себе достаточно силы перенести столь тяжкое испытание, Эмиль попытался написать Жильберте. Он начинал и разорвал писем двадцать; не видя выхода, он решил открыть сердце старому своему другу, господину де Буагильбо, и просить у него совета.
А в это самое время господин Кардонне, повинуясь жестокой прихоти своего коварного замысла, написал письмо Жильберте, гласившее:
«Сударыня!
Вчера Вы, должно быть, сочли меня весьма назойливым и не особенно любезным. Взываю к Вашей снисходительности и хочу признаться в невинном притворстве, которое, я в том уверен. Вы простите, узнав мои подлинные намерения.
Мой сын любит Вас, мне это известно; известно мне также, что Вы соизволили ответить на его чувство. С тех пор как я Вас узнал, я счастлив и горжусь этим. Но разве не законным являлось мое желание, прежде чем решить вопрос столь исключительной важности, увидеть собственными глазами и хотя бы отчасти испытать характер той, в чьих руках сердце моего сына, а следовательно, и будущее моей семьи?
Итак, мадемуазель, разрешите принести Вам повинную и сказать, что девушка столь прекрасная и благовоспитанная, как Вы, может обойтись без многого, и даже без состояния, дабы войти в богатое и почтенное семейство.
А посему разрешите мне вновь явиться к Вам, чтобы просить у Вашего уважаемого батюшки Вашей руки от имени моего сына, как только Эмиль меня на то окончательно уполномочит. Последние мои слова нуждаются в кратком пояснении, и оно должно найти место в этом письме.
Я ставлю моему сыну одно-единственное условие, цель коего сделать его счастье более полным и длительным. Я требую, чтобы он отказался от своих нелепых воззрений, которые смущают наше доброе согласие и в будущем могут лишь пагубно отразиться на его состоянии и положении. Уверен, что Вы достаточно рассудительны и разумны, а потому не интересуетесь доктринами равенства и социализма, при посредстве которых мой дорогой Эмиль рассчитывает вместе со своими юными друзьями в самом скором времени перевернуть мир: уверен, что слова о единении всех людей, о равномерном распределении благ и прав и многие другие термины, которыми пользуется недавно возникшее коммунистическое течение, для вас остаются книгой за семью печатями. Не думаю, чтобы Эмиль рискнул надоедать Вам сей высокопарной философией, ибо трудно допустить, чтобы он добился счастья понравиться Вам, прибегая к таким разглагольствованиям. Не сомневаюсь поэтому, что он раз и навсегда откажется от своих заблуждений. При этом условии и на основании одного лишь его добровольного, но священного обещания я от всей души согласен благословить удачный выбор, который он сделал, пленившись такой совершенной девушкой, как Вы. Благоволите, сударыня, выразить Вашему уважаемому батюшке мое сожаление, что я не застал его дома, и сообщите ему содержание настоящего письма.
Примите выражение моего искреннего уважения и отцовской симпатии, с коими я вручаю в Ваши руки судьбу моего сына и мою.
Виктор Кардонне».
В то время как слуга в ливрее, расшитой золотыми галунами, прискакав в Шатобрен на прекрасной лошади, передавал в руки Жильберты это послание, Эмиль, удрученный горем, направлялся пешком к парку господина Буагильбо.
— Вот и прекрасно! — сказал маркиз, крепко пожимая ему руку. — Я ждал вас только в будущее воскресенье и думал вчера, что вы уже позабыли обо мне. Какая приятная неожиданность! Благодарю вас, Эмиль! С тех пор как вы так усердно работаете на фабрике вашего батюшки, время тянется для меня особенно долго. Я могу только одобрить такое повиновение, хотя, признаюсь, с некоторым страхом спрашиваю себя, не заведет ли оно вас, если вы будете следовать принципам отца, несколько дальше, чем вы сами того желали бы… Но что с вами, Эмиль? Вы бледны, печальны. Уж не упали ли вы с лошади?
— Я пришел к вам пешком и упал не с лошади, а с высоты куда большей, — ответил Эмиль, — и боюсь, что у меня сейчас разорвется сердце. Выслушайте меня, друг мой, я пришел к вам, ибо знаю, что вы либо поддержите меня в моей решимости умереть, либо откроете мне тайну жизни. Несказанное счастье и ужасное горе борются в моей груди. С тех пор как мы с вами знакомы, я ношу в себе тайну, которую не смел, не мог вам поведать, но теперь я больше не в силах ее скрывать. Не знаю, поймете ли вы меня, не знаю, посочувствуете ли моим страданиям, но вы меня любите, вы умны, просвещенны, вы исповедуете справедливость. Не может быть, чтобы я не получил от вас спасительного совета.
И он рассказал старому маркизу историю своей несчастной страсти, старательно скрывая, однако, имя любимой, место и время действия, которые могли бы навести на мысль, что речь идет о Жильберте и ее семье. Опасаясь давней неприязни маркиза и возможной предвзятости его суждений, Эмиль дал понять, что предмет его любви совершенно незнаком господину Буагильбо и живет не то в Пуатье, не то в Париже. Его желание скрыть имя возлюбленной показалось маркизу более чем понятным.
Окончив свою исповедь, Эмиль с удивлением увидел, что строгий его наперсник отнюдь не проявляет той стоической твердости, которой не без страха ожидал юноша. Маркиз, вздохнув, опустил голову, потом поднял глаза к небу и сказал:
— Истина вечна!
Вслед за тем он снова уронил голову на грудь со словами:
— А меж тем я знаю, что такое любовь!
— Вы, вы, мой друг? — спросил Эмиль. — Вы понимаете меня, и я могу рассчитывать, что вы меня спасете?
— Нет, Эмиль, никто не в силах отвратить от вас чаши горечи. Какое бы решение вы ни приняли, вам предстоит испить ее до дна. Речь идет лишь о том, как сохранить честь, а счастье… забудьте о нем, оно навсегда утеряно для вас.
— Ах, я это чувствую, — ответил Эмиль. — Из опьяняющего солнечного дня я спускаюсь в сумрак смерти. Знаете ли вы, что ужасное и непоправимое зло уже совершилось? На какую бы жертву я ни решился, сердце мое оледенело, и теперь, мне кажется, я больше не люблю отца, не боюсь его огорчить, и нет больше во мне ни уважения, ни почтения к нему. О боже милостивый, избавь меня от этих мук — они выше моих сил! Вы знаете, что до сих пор, несмотря на все зло, какое он мне причинил, несмотря на страх, который он внушал мне, я нежно любил его и всеми силами души старался ему верить. Я всегда чувствовал себя его сыном и другом. А сейчас мне кажется, что кровная связь порвалась навеки, — и я борюсь против чуждого мне деспота, против угнетателя, который тяготит мою душу, как враг, как привидение. Ах, я вспоминаю сон, приснившийся мне в первую же ночь, что я провел в этих краях: отец навалился мне на грудь, хотел меня задушить. Какой страшный был сон! И вот он теперь сбывается: отец уперся локтями, коленями, ногами мне в грудь, он хочет вырвать из нее совесть и мое сердце. Он выискивает во мне слабое место, куда можно было бы нанести удар. Он весь во власти своего дьявольского замысла. Возможно ли, чтобы страсть к золоту и культ преуспевания внушали подобные мысли отцу против родного сына? Если б вы видели, как, торжествующе улыбаясь, он обольщал меня своим великодушием, сошедшим на него по злому наитию. То был не покровитель, не советчик — то был враг, расставивший западню и с вероломным смехом хватающий свою жертву. «Выбирай! — казалось, говорил он мне. — А если ты умрешь, что из того! Я одержал победу!» О боже мой! Ужасно! Ужасно осуждать и ненавидеть родного отца!
И бедный юноша, разбитый горем, бросился ничком в траву и оросил ее горячими слезами.
— Эмиль, — сказал господин де Буагильбо, — вы не должны ненавидеть своего отца, но вы не можете предавать и возлюбленную. Скажите мне, вы действительно дорожите истиной? Умеете вы лгать?
Маркиз попал в цель. Эмиль резко вскочил.
— Нет, сударь, нет! — сказал он. — Вы отлично знаете, лгать я не умею. И что обман приносит трусам?
Разве он дает им счастье или покой? Пусть бы даже я дал клятву отцу отречься от своей веры, пусть бы я сказал ему, что отныне почитаю невежество и заблуждения, несправедливость и безумие, что я ненавижу божеское в человеке и презираю человеческое в себе самом, — разве все это не было бы напрасно, разве я стал бы, в силу какого-то чудовищного превращения, иным? Разве я мог бы почувствовать себя самодовольным и надменным эгоистом?
— Может быть, Эмиль, труден только первый шаг, и, обманывая других, в конце концов начинаешь обманываться сам? Увы, такие случаи нередки.
— Тогда — долой ложь! Потому что я чувствую себя человеком и не могу по доброй воле превратиться в животное. Мой отец, при всей своей изворотливости и силе характера, слеп. Он требует, чтобы я исповедовал его веру и убеждения и отказался от своих, но если бы ему предложили сделать то же самое, он никогда бы не согласился. Ни расчет, ни страсть не вынудят его пойти на это. Как же он не понимает, что станет первый меня презирать в тот день, когда я унижусь до подлости, на которую сам он не способен? Неужели для того, чтобы утвердиться в своих бесчеловечных принципах, ему нужно уничтожить сына и получить право презирать его?
— Не приписывайте ему таких противоестественных чувств. Он человек своего времени, вернее — человек всех времен. Фанатики не рассуждают, а ваш отец — фанатик, он предает еретиков огню и пыткам во славу своей истины. Разве намного мудрее и человечнее священник, который говорит нам в наш смертный час: «Уверуй, или ты будешь проклят!» А вельможа, который говорит бедному чиновнику или голодному художнику: «Служи мне, и я обогащу тебя», — разве он не считает, что оказывает милость несчастным, осыпает их благодеяниями?
— Но ведь это гнусно! — вскричал Эмиль.
— Да и вообще, — продолжал маркиз, что нынче управляет миром? На чем покоится общественное здание? Надо быть очень сильным, Эмиль, чтобы восставать против этого, ибо тот, кто восстает, должен принести себя в жертву.
— Ах, если бы в жертву был принесен один только я! — в тоске воскликнул юноша, — Но она! Бедное, святое создание! Неужели она также должна пасть жертвой?
— Скажите, Эмиль, если бы она посоветовала вам солгать, продолжали бы вы ее любить?
— Не знаю. Думаю, что да. Раз я люблю ее, нет и не может быть того, что заставило бы меня ее разлюбить.
— Вы любите, я вижу! Увы, и я любил!
— В таком случае скажите мне, могли бы вы пожертвовать честью во имя любви?
— Возможно, если бы я был любим.
— О, как слаб человек! — вскричал Эмиль. — Не может быть! Неужели в моей скорби я не найду опоры, руководства, помощи?.. Неужели никто не даст мне силы? Силы!.. О боже мой, на коленях молю тебя о ней! Я никогда не молил тебя с такой жаркой верой. Дай мне силы!
Маркиз приблизился к Эмилю и обнял его. Слезы текли по морщинистым щекам старика, но он хранил молчание — он ничем не мог помочь своему юному другу.
Долго плакал Эмиль на его груди и чувствовал, что любит этого человека, который после каждого испытания представал перед ним скорее чувствительной, нежели сильной натурой. Он любил маркиза от этого еще больше, но горевал, не находя в нем твердого и надежного советчика, способного поддержать его в минуту слабости. С наступлением темноты он покинул маркиза, господин де Буагильбо сказал ему на прощание:
— Возвращайтесь завтра, я хочу знать, что вы решили. Я не сомкну глаз, пока не увижу вас более спокойным.
Эмиль выбрал самый длинный путь к дому. Он нарочно сделал крюк, чтобы пройти поближе к Шатобрену, пробираясь лесными тропинками, скрывавшими его от прохожих, но вот перед ним открылись развалины замка, и он остановился, потрясенный. Он подумал о том, сколько, должно быть, выстрадала Жильберта со времени разговора с безжалостным господином Кардонне, но не посмел пойти к ней с утешением, из боязни потерять остаток мужества и силы.
Так он стоял, не в состоянии ни на что решиться, как вдруг услышал голос, тихо окликнувший его, и весь затрепетал. Бросив взгляд на дубовую рощицу, окаймлявшую справа дорогу, он увидел мелькнувшее в тени деревьев женское платье. Он кинулся в ту сторону; и когда молодые дубки скрыли его от посторонних взглядов, Жильберта обернулась и окликнула его еще раз.
— Пойдемте, Эмиль, — сказала она, как только он очутился подле нее. — Мы не можем терять ни минуты. Отец на полянке, совсем близко отсюда. Я вас заметила и узнала, когда вы спускались по дороге, и, не сказавшись батюшке, ушла, пока он беседовал с косцами. Я хочу показать вам письмо… письмо от господина Кардонне. Здесь темно, и вы не можете его прочесть, но я перескажу вам его слово в слово. Я знаю его наизусть.
И, ознакомив Эмиля с содержанием письма, Жильберта спросила:
— А теперь объясните мне, что все это значит?.. Мне кажется, я поняла, но я хочу услышать от вас.
— О Жильберта! — вскричал Эмиль. — У меня не хватило мужества прийти к вам и все рассказать, но наша встреча совершилась по воле судьбы. Решите сами мою участь. Скажите мне, Жильберта, моя первая и последняя любовь, знаете ли вы, почему я вас люблю?
— Мне кажется, потому, — ответила Жильберта, не отнимая руки, к которой Эмиль прильнул губами, — что вы угадали во мне душу, способную вам помочь.
— Несравненный друг, мое единственное сокровище в целом мире! Скажите мне теперь, почему вы отдали мне свое сердце?
— Хорошо, я могу сказать вам это, мой друг. С первого дня вы показались мне благородным, великодушным, простым, человечным — одним словом, добрым; а для меня нет выше этого качества.
— Но ведь есть пассивная доброта, в какой-то мере исключающая благородство и великодушие чувств; есть нежность и мягкость, очаровательные для общения, но в трудные минуты человек, наделенный этими качествами, вступает в спор с долгом и готов предать интересы общества, чтобы уберечь от страданий своих близких и себя самого.
— Я понимаю вас и не назову добротой слабость и трусость. Для меня нет настоящей доброты без мужества, достоинства и в особенности без преданности. Если я уважаю вас до такой степени, что могу доверчиво и без стыда признаться вам в своей любви, Эмиль, то лишь потому, что знаю достоинства вашего ума и сердца, знаю, что вы жалеете несчастных и думаете только о том, как бы помочь им, никого не презираете, болеете горестями других, что, наконец, вы готовы отдать все, что у вас есть, готовы пожертвовать последней каплей крови, лишь бы облегчить страдания сирых и бедных. Все это я угадала в вас, как только вы заговорили, как только обратились ко мне, и я подумала: его сердце бьется в лад с моим, его благородные мысли возвышают меня и утверждают во всем, что я лишь смутно до сего угадывала; я сказала себе, что этот чарующий и всепроникающий ум — светоч, и за ним я должна следовать, ибо он поведет меня к самому богу. Вот почему, Эмиль, отдавшись своей любви, я не испытывала ни страха, ни раскаяния. Мне казалось, так я должна поступать, и чувства мои не изменились после того, как я прочла письмо, в котором господин Кардонне осыпает вас насмешками.
— Дорогая Жильберта, вы знаете мою душу и все мои помыслы; только одна вы, с вашей светлой душой, перед которой я преклоняюсь, с вашей божественной добротой, ставите мне в заслугу чувства, представлявшиеся мне столь естественными и которыми господь наделил всех, — мне было бы стыдно, если б я был лишен их. Да, чувства эти должны казаться вам такими близкими потому, что вы сами, больше чем кто-либо, преисполнены их; но сколько людей отвергает их и глумится над ними как над опасными заблуждениями. Есть люди, ненавидящие и презирающие эти чувства, так как им самим они недоступны, а есть и такие, которые в силу некой странной аномалии бедны духом и считают себя вправе не следовать велениям добра и разума. Но, боже мой, боюсь, что я не умею объяснить вам все это.
— Нет, нет, я понимаю вас. Вот Жанилла — та ангельски добра, но по невежеству и в силу предрассудков отвергает мои идеалы равенства и пытается убедить меня, будто я могу любить обездоленных, жалеть их и помогать им, но не должна при этом забывать, что они существа низшие по сравнению со мной.
— Увы, Жильберта, мой отец разделяет предрассудки Жаниллы, но смотрит на дело несколько иначе. Жанилла верит, что знатное происхождение дает право на власть, тогда как мой отец твердо убежден, что ловкость, сила и энергия дают право на богатство, а приобретенное богатство должно приумножаться бесконечно, любой ценой, и что следует пролагать себе дорогу, запретив всем слабым быть счастливыми и свободными.
— Но это ужасно! — простодушно воскликнула Жильберта.
— Такова страшная власть привычки и предрассудков — я не имею права осуждать отца. Но скажите, Жильберта, должен ли я подчиниться ему, когда он требует клятвы в том, что я разделю его заблуждения, его честолюбивую страсть и надменную нетерпимость? Если же такова цена вашей руки, если я минутами колеблюсь, если меня охватывает глубокий страх, что, отрекаясь от своей веры в будущее человечества, я стану недостойным вас, — разве не заслуживаю я хоть капли вашей жалости, хоть слова одобрения и утешения?
— Боже мой! — сказала Жильберта, всплеснув руками. — Вы не понимаете, что случилось с нами, Эмиль! Ваш отец не желает, чтобы мы соединились, и прибегает к хитростям и уловкам! Господин Кардонне прекрасно знает, что вы не можете переменить сердце и ум, как меняют одежду или лошадь; и, будьте уверены, он сам станет вас презирать и отчаиваться, если добьется желаемого! Нет, нет! Он слишком хорошо знает вас, Эмиль, знает, что вы не способны на подобный шаг, и поэтому ничего не боится, но таким путем он достигает своей цели. Он отдаляет нас друг от друга, он пытается нас поссорить; все права на его стороне, а вина падает на вас! Но ему это не удастся, нет, клянусь, Эмиль! Ваша стойкость лишь усилит мою любовь. О, я понимаю, чего он добивается, но я выше этих жалких козней, и ничто никогда не разлучит нас!
— Жильберта, вы мое божество! — вскричал Эмиль. — Скажите, как мне себя вести? Я принадлежу вам всецело. Прикажите, и я покорно надену ярмо, пойду на несправедливость, на преступление ради вас!..
— Надеюсь, вы этого не сделаете, — ответила Жильберта кротко, но с достоинством, — я разлюблю вас, если вы перестанете быть самим собою. Мне не нужен супруг, которого я не смогу уважать. Передайте же своему отцу, Эмиль, что я не согласна отдать вам руку на подобных условиях, а я подожду, пока у господина Кардонне, при всем его затаенном презрении ко мне, откроются глаза для справедливости и душа для более достойных чувств к нам обоим. Я не хочу быть наградой за предательство!
О благородное создание! — вскричал Эмиль, бросаясь к ее ногам и покрывая их страстными поцелуями. — Я поклоняюсь вам, как богу, я благословляю вас, как мое провидение! Но у меня нет вашего мужества. Что будет с нами?
— Увы! — сказала Жильберта. — Некоторое время нам не придется встречаться. Так надо. Отец и Жанилла были дома, когда пришло письмо господина Кардонне. Бедный батюшка совсем опьянел от радости и не понял смысла требований вашего отца. Он все вас поджидал и будет ждать до тех пор, пока я не объясню ему, что вы больше не приедете, — и, надеюсь, мне удастся тогда оправдать и ваше поведение, и ваше отсутствие. Но Жанилла долго вам этого не простит: она и так уже удивляется, сердится и беспокоится, почему вы медлите и почему господин Кардонне как будто ждет вашего согласия, чтобы просить моей руки. Если же вы скажете ей, чего требую я, она проклянет вас и навсегда запретит вам видеть меня.
— Боже мой! — вскричал Эмиль. — Не видеть вас более! Нет, это невозможно!
— Полноте, друг мой! Разве что-нибудь между нами изменится? Разве вы перестанете меня любить, если несколько недель, пусть даже месяцев, не будете меня видеть? Разве мы прощаемся навеки? Или вы не верите в меня больше? Или не предвидели вы препятствий, страданий, временной разлуки?
— Нет, нет! — сказал Эмиль. — Я ничего не предвидел, не верил, что так может случиться… Я еще и сейчас не верю…
— Дорогой мой Эмиль! Молю вас, не теряйте мужества — мне ведь оно тоже нужно. Вы поклялись преодолеть упорство отца — и преодолеете. Мы только что разрушили один из самых злых его замыслов. Господин Кардонне не сомневался, что вы откажетесь от бесчестия, и надеялся, что вы падете духом! Но он не знает вас: вы не перестанете меня любить, каждый день вы будете ему это повторять и доказывать. Ведь самое трудное сделано: ему известно все, и, вместо того чтобы негодовать и огорчаться, он с улыбкой принимает бой — как игру, в которой чувствует свое превосходство. Будьте же стойки. Знайте, что я не сдамся. Не забывайте, что наш союз станет плодом долгих лет постоянства и благоговейного труда. Прощайте, Эмиль! Я слышу голос отца: он идет сюда. Бегу! Оставайтесь здесь, подождите, пока мы не отойдем подальше.
— Не видеть вас больше, — повторял Эмиль, — не слышать вас — и сохранять мужество!
— Если мужество покинет вас, Эмиль, — значит, ваша любовь не так сильна, как моя, и наш союз не сулит нам того счастья, ради которого вы могли бы решиться на длительную и тяжелую борьбу.
— У меня хватит мужества! — вскричал Эмиль, побежденный решимостью Жильберты. — Я умею страдать и ждать. Вы увидите, Жильберта, что уверенность в счастье даст мне силы перенести любые страдания! Но разве мы не можем иногда встречаться — случайно, как сегодня, например?
— Кто знает! — сказала Жильберта. — Будем надеяться на провидение.
— Но иногда нужно помогать провидению. Нельзя ли найти способ сговариваться, предупреждать друг друга?.. Хотя бы письменно…
— Да, но тогда придется обманывать тех, кого любишь.
— Жильберта, что же нам делать?
— Я подумаю. Пустите меня!
— Уйти, ничего не пообещав!..
— А моя вера в вас, мое сердце, которое я вам отдала? Разве это так уж мало?
— Идите же, — сказал Эмиль, усилием воли разъединив руки, сжимавшие гибкую талию Жильберты. — Даже расставаясь с вами, я счастлив. Разве вы не видите, как я вас люблю, как верю в вас и в самого себя?
— Верьте в бога, — сказала Жильберта. — Он охранит вас!
И она исчезла среди ветвей.
Эмиль с трудом покинул место, где только что была его Жильберта. Он целовал траву, которой касались легкие ее ножки, дерево, которое она задела краем платья, и долго не уходил из рощи. Наконец он скрепя сердце расстался с тенистым уголком — тайным свидетелем пережитого счастья.
Меж тем Жильберта побежала вслед за отцом. Господин Антуан быстро шел впереди нее по дороге, ведущей в замок. Неожиданно он обернулся и простодушно сказал:
— Ах, ты тут, дорогая моя! А я как раз хотел вернуться за тобой.
— Значит, батюшка, вы потеряли меня по дороге? — пошутила Жильберта, пытаясь улыбнуться.
— Нет, нет, не говори так. Жанилла опять станет бранить меня за рассеянность! А я как раз думал о тебе. Письмо господина Кардонне не выходит у меня из головы. Может быть, дома нас поджидает Эмиль? Он не мог прийти раньше, возможно, отец задержал его. Идем-ка скорей! Держу пари, что он уже там.
И добродушный господин Антуан, доверчиво улыбаясь, ускорил шаг. Жанилла, поджидавшая их, была в неистовстве. Она не могла понять, почему Эмиль медлит, и тревожилась не на шутку. Жильберта старалась развлечь домашних и за ужином была спокойна и почти весела.
Но, оставшись одна в своей комнатке, она упала на колени и уткнулась в подушку, чтобы заглушить рыдания, раздиравшие ей грудь.
XXVIII Утешение
Жильберта покорилась судьбе, хотя и была вне себя от горя. Возможно, Эмиль отчаивался меньше; ибо в глубине души еще не покорился. Его поминутно терзали сомнения, и чем больше величия души проявляла Жильберта, чем больше она становилась достойной его любви, тем сильнее он ощущал непобедимое могущество своего чувства. Эмиль уже почти дошел до дому, но вдруг повернул назад, не в силах преодолеть желания вновь увидеть Шатобрен; пройдя несколько шагов, он присел у подножия скалы и опустил голову на руки: никогда еще он не чувствовал себя до такой степени во власти любви, во власти всех человеческих слабостей.
«Если бы господин де Буагильбо видел и слышал Жильберту, — размышлял Эмиль, — он понял бы, что я не могу колебаться в выборе между нею и моими убеждениями. Я должен ее добиться во что бы то ни стало, пусть даже ценою лжи. Господи, просвети меня! Ты послал мне любовь, ты дал мне испытать ее силу, так не допусти же меня от нее отказаться».
— А, это вы, господин Эмиль? Что вы здесь делаете? — спросил незаметно подошедший Жан Жапплу, присаживаясь возле юноши. — Я вас искал: привык, знаете ли, болтать с вами, и коли мы не посидим после работы, мне точно чего-то недостает. Да что это с вами? Нездоровится, что ли? Чего вы за голову держитесь, будто боитесь ее потерять?
— Поздно, мой друг! — ответил Эмиль. — Я уже потерял голову!
— Значит, крепко влюбились? Ну так что же! Когда свадьба?
— Скоро, Жан, как только захотим! — вскричал Эмиль, которого мысль о свадьбе ввергла в какое-то исступление. — Мой отец согласен, я женюсь на ней. Да, женюсь, слышишь ты! Иначе я умру. Скажи, я должен на ней жениться?
— Конечно, должен! С чего это вы вдруг стали сомневаться? Если вы ее обманете, я вам этого никогда не прощу и, думается мне, сынок, все равно заставлю жениться, хотя бы для этого мне пришлось вас отколотить.
— Это мой долг, ведь верно?
— Можно подумать, что вы в этом сомневаетесь.
У вас такой вид, точно вы рехнулись!
— Да, я рехнулся, ты прав! Но все равно. Теперь я знаю, в чем мой долг. Это ты помог мне принять правильное решение. Идем сейчас же в Шатобрен!
— Значит, вы направляетесь туда? В добрый час! Давайте-ка поспешим, а то уже поздно. По дороге вы мне расскажете, как это ваш батюшка стал вдруг таким разумным. А я-то считал его помешанным!
— Он и есть помешанный, — сказал охваченный волнением Эмиль, взяв плотника под руку и шагая рядом с ним, — совсем помешанный, потому что согласился на мою женитьбу при условии, если я солгу, хотя сам-то он все равно мне не поверит. Но заставить меня солгать — в этом для него торжество, истинное наслаждение.
— Послушайте-ка, — возразил Жапплу, — да уж не выпили ли вы часом лишнего? Хотя, правда, с вами этого как будто не случается, а между тем вы завираетесь. Говорят, от любви пьянеют, как от вина. И верно — ведь вы бог знает какую чушь городите!
— Мой отец помешался, — продолжал Эмиль вне себя, — и он захотел свести с ума меня тоже. И это ему удалось, как видишь! Он хочет, чтобы я не только признал, но и клятвенно подтвердил, что дважды два — пять. И я согласен, понимаешь? Я готов потакать его безумию, лишь бы он разрешил мне жениться на Жильберте!
— Не нравится мне все это, Эмиль, — сказал плотник. — Ничего я не понимаю и даже злость берет слушать. Если вы действительно спятили, тогда я не желаю, чтобы Жильберта выходила за вас замуж. Давайте-ка посидим и соберемся с мыслями. Нет у меня охоты провожать вас в Шатобрен, раз вы несете эдакую чепуху, сынок!
— Жан, я совсем болен, — сказал, присаживаясь, Эмиль. — У меня кружится голова. Постарайся меня понять, успокой, помоги мне разобраться в самом себе. Ты знаешь, я думаю иначе, чем отец, ну а он хочет, чтобы я думал так, как он. Вот и все. Это невозможно, но ему все равно, лишь бы я говорил, как он.
— Да что он говорит-то, черт побери? — вскричал Жан, который, как известно, не отличался долготерпением.
— О, нелепицу, вздор! — отвечал Эмиль, чувствуя, что его бросает то в жар, то в холод. — Ну хотя бы, что для бедных великое счастье в том, что существуют богатые!
— Враки! — сказал Жан, пожимая плечами.
— …что чем больше будет богатых и бедных, тем лучше пойдут дела на свете.
— Неправда!
— …что между ними — война, на которую сам бог вдохновил богатых, и богатые должны вести ее с исступлением.
— Напротив, бог запрещает ее!
— Наконец, что просвещенным господам уготовано больше счастья, чем простым людям, ибо такова воля провидения.
— Он лжет, разрази его гром! — вскричал Жан, с силой ударяя палкой по скале. — Довольно вам повторять эти глупости, слушать тошно! Наш милосердный господь говорил как раз обратное, и недаром, чтобы доказать свою правду, он, когда сошел на землю, довольствовался долей плотника.
— Так ведь то бог и Евангелие, — возразил Эмиль, — а сейчас речь идет обо мне и Жильберте. Мне никак не удается убедить отца, что он заблуждается. Я должен во всем подпевать ему, Жан, и только тогда он разрешит мне жениться на Жильберте. Он сам пойдет завтра в замок просить для меня ее руки у господина де Шатобрен.
— Да что он, с ума сошел, что ли? Неужели он думает, что вы будете по своей воле повторять за ним эту чушь? Верно, у него в самом деле не все дома, и оттого вы так страдаете, Эмиль! Ведь я вижу, сынок, что у вас разрывается сердце от горя!
Эмиль расплакался; слезы облегчили его, и, придя в себя, он подробно рассказал плотнику, что произошло между ним и господином Кардонне.
Жан слушал его, не подымая головы, затем, помолчав немного, взял юношу за руку и сказал:
— Не следует прибегать к такой лжи, Эмиль, — это недостойно человека. Я вижу, что отец ваш вовсе не рехнулся, он хитрый, его не удастся провести двумя-тремя брошенными на ветер словами. Знаете, как иногда успокаивают подвыпившего человека: говорят ему что-то, словно малому ребенку. Если вы солжете или пообещаете то, что не в силах будете выполнить, отец вас доконает, и, если вы когда-нибудь попытаетесь снова стать человеком, он вам, поверьте, скажет: «Помни, что ты ничтожество!» Я его хорошо знаю. Он жестокий и высокомерный. Он не даст вам и одного денька в неделю, чтобы подумать на свободе, да и жену вашу сделает несчастной. Я его насквозь вижу! Он заставит вас краснеть перед женой и так ловко поведет дело, что и ей придется за вас краснеть. К чертям ложь и кощунственные речи! Не надо, Эмиль, я вам запрещаю!
— А Жильберта?
— Жильберта скажет, как и я, и Антуан также, а Жанилла… Наша Жанилла скажет что ей заблагорассудится. Но я не хочу, чтобы ты лгал. Нет на свете такой Жильберты, из-за которой я пошел бы на ложь.
— Так, значит, я должен от нее отказаться, не видеть ее больше?
— Да, это и в самом деле несчастье, — сказал Жан твердо. — Но когда на нас обрушивается беда, надо мужественно ее переносить. Отправляйтесь-ка к господину де Буагильбо, он скажет то же, что и я; судя по вашим словам, он все понимает и здраво мыслит.
— Да нет, Жан, я уже виделся с господином де Буагильбо. Он чувствует, что эта жертва выше моих сил…
— Он знает, что вы любите Жильберту? Вот так штука! Вы ему рассказали?..
— Он знает, что я люблю, но имени я не назвал.
— И он посоветовал вам солгать?
— Он ничего мне не посоветовал.
— Значит, и он тоже потерял голову! Так вот, Эмиль, выслушайте-ка меня, потому что правда на моей стороне. Я человек не богатый, не ученый, уж не знаю, имею ли я право наедаться досыта и мягко спать, но одно твердо знаю: когда я молюсь милосердному богу, он мне никогда не скажет: «Поди прочь!» Когда же я спрашиваю у него, что ложь, что правда, что хорошо, что плохо, он меня всегда наставляет, а никогда не ответит: «Иди да поучись!» Ну-ка пошевелите мозгами! На нашей земле много бедных и маленькая кучка богатых; и если бы у каждого было помногу, земля оказалась бы слишком тесной. Мы все здорово мешаем друг другу и, как ни стараемся, не можем друг друга любить. И вот доказательство: для того чтобы нас примирить, требуются жандармы и тюрьмы. Может ли оно быть иначе? Не знаю. Вы на этот счет говорите очень складно, и, когда начнете, так и слушал бы день и ночь — уж очень у вас все хорошо получается! За это я вас и люблю. Но я никогда не говорил вам, сынок, что надеюсь дожить до той поры. Если такое и возможно, оно еще очень далеко, и я, человек, привыкший к тяжелому труду, молю всевышнего, чтобы мы оставались какие есть и чтоб богачи не могли ухудшить нашу долю. Если бы все были как вы, как я, как Антуан и как Жильберта — все бы люди ели один суп за одним и тем же столом. Но я знаю, что другие и слышать не захотят о таком устройстве и что понадобится слишком много говорить и делать, чтобы они поняли. Я… я-то гордый, и мне нет дела до тех, кто меня презирает, — вот в чем моя мудрость. Я не забиваю себе мозгов политикой, я в ней ничего не смыслю, но не желаю, чтоб меня слопали, и ненавижу людей, которые говорят: «Давайте все слопаем». У вашего батюшки как раз такая ненасытная утроба, и если бы вы пошли в него, да я бы вам скорее голову топором проломил, чем разрешил мечтать о Жильберте. У вас от природы доброе сердце, а истину вы считаете благом. Стойте же за истину — она единственное достояние, которое нечестивцы не могут у нас отнять. Пусть ваш папаша говорит: «Так оно есть, мне это подходит, пусть так оно и будет!» Что ж, его сила в богатстве, и ни вы, ни я не можем его обуздать. Но какой бы он ни был упрямец и ненавистник, ему не удастся заставить вас признать, что вот это-то и есть добро и что бог этим доволен, — нет уж, извините! Говорить, что бог любит зло, — противно религии, а мы ведь христиане, как я полагаю. Вы крещеный, я также и отвергаю дьявола. По крайней мере, за меня от дьявола отрекался у купели мой крестный отец, и я сам, когда бывал крестным, не раз отрекался от дьявола за других. Вот почему мы не должны давать ложных клятв, богохульствовать и говорить, что люди появляются на свет неравными и потому не все заслуживают счастья, — а то выходит, что мы еще до рождения осуждены на адские муки! Так-то, Эмиль! Вы не солжете и заставите вашего папеньку отказаться от своих бессовестных условий.
— Ах, друг мой, если бы только я мог видеть Жильберту хоть раз в неделю, если бы я не был обесчещен в глазах ее отца и изгнан из их дома, надежда дала бы мне мужество.
— Обесчещены в глазах Антуана? Да за кого вы его принимаете? Неужели вы думаете, что он захочет в зятья предателя и лицемера?
— О, если бы он рассуждал так, как вы, Жан! Но он осудит мое поведение.
— Антуан пороха не выдумает, это верно. Он никак не мог понять или запомнить теорему про квадрат гипотенузы, а я увидел, как ее выводит мой товарищ, и выучил в пять минут. Но вы зря считаете его слишком большим простаком. Что касается чести и добрых чувств, Антуана не проведешь! Неужели, по-вашему, нужно быть уж таким хитрым и умным, чтобы сообразить, что дважды два — четыре, а не пять? А я вам говорю, что для этого вовсе не требуется прочитать все книги на свете, как маркиз де Буагильбо. Всякий несчастный прекрасно понимает, что его доля несправедлива, если только не он сам повинен в своих несчастьях. Разве не страдал, разве мало перенес наш друг Антуан? Разве богачи не отвернулись от него, когда он обеднел? Как же он может их оправдать? Ведь сам он такой, что, когда у него есть кусок хлеба, он отдаст соседу три четверти, а то и весь целиком. Да разве завели бы вы с ним дружбу, не будь вы настоящим человеком? Разве вы полюбили бы его дочь, захотели бы на ней жениться, если бы разделяли взгляды вашего папаши? Нет, вы на нее и не посмотрели бы, а то, чего доброго, просто бы соблазнили! И подло бросили бы, раз у нее нет приданого. Так что, Эмиль, сынок, мужайтесь! Честные люди вас всегда будут уважать! За Антуана я ручаюсь, это уж предоставьте мне. Ну, а если Жанилла станет кричать, я ведь тоже молчать не буду, — и тогда посмотрим, у кого из нас двоих голос громче и язык лучше подвешен. А Жильберта всю жизнь будет питать к вам самые лучшие чувства и останется признательна за вашу прямоту. Другого она не полюбит, будьте уверены. Я ее знаю. Ее слово крепко. Дайте срок, папаша ваш еще переменит мнение, и случится это, когда сам он станет несчастным; а как я вам предсказал, так оно и будет.
— Отец этому не верит.
— Значит, вы ему сказали, что я думаю об его фабрике?
— Пришлось сказать!
— Зря! Но слова не воротишь, пусть будет так, как должно быть. А теперь, Эмиль, пойдемте-ка по домам, вам надо лечь: вас, я вижу, трясет лихорадка, у вас жар. Послушай, сынок, не порти ты себе кровь и положись на милосердного бога. Завтра утром я отправлюсь в Шатобрен и все им скажу. Они меня послушают, не беспокойся. Не такие они люди, чтобы поссориться с человеком из-за того, что он исполнил свой долг! В этом я тебе ручаюсь, не огорчайся.
— Жан, дорогой мой, ты меня успокоил! Слушая тебя, я набираюсь сил, чувствую себя уже лучше.
— Потому что я иду к цели и пустяков во внимание не принимаю…
— Так ты пойдешь в Шатобрен… Завтра, да? Но ведь завтра у тебя рабочий день.
— Ну да, завтра. Работаю-то я бесплатно, так что могу начать, когда захочу. Знаете, на кого я работаю завтра, Эмиль? А ну же, догадайтесь, сообразите! Это вас хоть немного развлечет.
— Не знаю. На господина Антуана?
— Нет, какие же у Антуана работы? А если что и надо сделать, то он сам справляется. Но есть у него один сосед, у того дело всегда найдется, и лишний человек ему не в тягость.
— Кто же это? Неужели господин де Буагильбо помирился с тобой?
— Нет, насколько я знаю. Но он никогда не запрещал своим арендаторам давать мне работу — не такой он человек, чтобы нарочно причинять мне зло. Одна его челядь и знает, что он на меня сердит, если только это так, потому что сам черт не разберет, что у него в голове происходит. Но, заметьте, работаю я на него, а он и не догадывается, потому что, как вам известно, навещает свои владения раз в год, не чаще. Это немного далековато от наших мест, но по милости вашего панаши рабочих здесь мало, так что за мной прислали, а я не заставил себя просить, хоть и имелось у меня срочное дельце поблизости. А признаться, мне доставляет удовольствие работать на старика. Но, как вы сами понимаете, денег я не беру: я и так перед ним в долгу после всего, что он для меня сделал.
— Маркиз не потерпит, чтобы ты работал на него даром.
— Придется ему стерпеть, потому что он ничего знать не будет. Да разве он знает, что у него делается на фермах? В конце года он рассчитывается со всеми оптом и в подробности не входит.
— А если арендаторы насчитывают ему твой поденный заработок, как будто они тебе его платили?
— Для этого надо быть плутами, а они люди честные. Люди, видите ли, таковы, какими их делают. Старого Буагильбо не обкрадывают, хотя нет ничего легче. Но он не обижает и не притесняет никого, а потому и его не надувают и не берут с него больше, чем полагается. Другое дело ваш папаша! Он высчитывает, спорит, следит — и его обкрадывают и будут всегда обкрадывать и другого отношения ему за всю свою жизнь не видать.
Жану удалось рассеять и даже утешить Эмиля. Этот прямой, смелый и стойкий человек неизменно оказывал на юношу самое благотворное влияние, и Эмиль, взяв с Жана обещание узнать завтра же вечером, как настроены по отношению к нему родные Жильберты, лег спать почти спокойно. Жан ручался, что откроет им глаза на поведение Эмиля и его отца. Горе делает нас слабыми и доверчивыми, и, если нам недостает мужества, как утешительно вручить свою судьбу человеку решительному и деятельному! Если нашему покровителю и не удается так легко, как он надеется, помочь нам в беде, то все же общение с ним укрепляет нас и ободряет: его вера незаметно передается нам и помогает выйти из затруднения своими силами.
«Плотник, которого презирает мой отец, — думал Эмиль, засыпая, — этот необразованный крестьянин, бедняк, эта простая душа, сделал мне больше добра, чем господин де Буагильбо. И когда я просил у неба совета, поддержки, молил послать мне спасителя, — оно послало самого бедного и смиренного человека, и тот в двух словах обрисовал мне мой долг. О, какую силу приобретает истина в устах прямодушного и чистого существа, и как ничтожна наша наука в сравнении с наукой сердца! Отец, отец, больше чем когда-либо, я чувствую, что вы ослеплены, и урок, полученный мной от этого крестьянина, — самое суровое вам осуждение!»
Эмиль воспрянул духом, но ночью пережил довольно сильный приступ лихорадки. В часы тяжелых душевных потрясений человек обычно пренебрегает заботой о своем здоровье, не бережет себя. Он не замечает изнуряющего голода, не ощущает холода, дождя и ветра, обливаясь потом или сгорая от лихорадки. Он становится нечувствителен даже к физической боли. Но стоит ей овладеть нами, как мы испытываем чуть ли не облегчение, ибо она отвлекает нас от страданий душевных: человек успокаивает себя мыслью, что страданиям рано или поздно наступит предел, от них когда-нибудь избавит смерть, а сознавать себя слишком слабым для бесконечных горестей — уже немалое утешение.
Господин де Буагильбо прождал гостя весь день и, когда, под вечер, убедился, что тот не придет, не на шутку забеспокоился. Старик крепко привязался к Эмилю, хотя внешне почти не проявлял своих чувств; он не мог больше обходиться без общества своего друга и испытывал глубокую признательность к юноше, которого не смогли оттолкнуть холодность и замкнутость отшельника и который, разгадав чувства, скрытые в его душе, свято соблюдал обет сыновней преданности. Молчаливый, вечно печальный старик, слывший повсюду скучнейшим человеком и по малодушию преувеличивавший свои собственные недостатки, действительно нашел друга, когда уже считал, что ему предстоит умереть в одиночестве, не оставив по себе ни в ком сожаления. Эмиль почти примирил его с жизнью, и маркиз поддавался иной раз сладкому самообману и воображал Эмиля своим сыном, видя, как тот постепенно привыкает к его угрюмому нраву и обычаям в его доме, делит с ним досуг, разбирает библиотеку, перелистывает его книги, прогуливает лошадей, даже входит иногда в денежные дела, чтобы оберечь его от самой большой докуки, любит бывать у него и, наконец, проводить с ним время, — как будто характер и вся атмосфера их близости устранили разницу в летах и вкусах.
Долгое время в душе старого маркиза то и дело пробуждалось недоверие, и он пытался распространить даже на Эмиля свою болезненную неприязнь к людям — но тщетно! Сидя в одиночестве, он мог сколько угодно убеждать себя, что истинная причина частых посещений молодого собеседника, жадного до серьезных разговоров и философских споров, кроется в безделье или пустом любопытстве, однако стоило появиться в его уединении Эмилю, как маркиз, увидев веселое и открытое лицо юноши, такого чистого и смелого, чувствовал, что у него возрождается надежда, и ловил себя на том, что просто-напросто любит его, хоть и знает, что при новом приступе подозрительности снова будет мучиться. И вот, после того как вся жизнь маркиза, и в особенности последние двадцать пять лет, ушли на то, чтобы отгородиться от чувств, на которые он считал себя уже неспособным, эти чувства вновь завладели им, и мысль лишиться дружбы Эмиля была для него непереносимой.
Взволнованно шагал он по аллеям парка, выжидательно останавливаясь у всех калиток, вздыхая на каждом шагу, вздрагивая при каждом шорохе. И наконец, не вынеся безмолвия и одиночества, сокрушаясь при мысли, что не в силах облегчить горе, терзающее Эмиля, старик вышел в поле и направился в сторону Гаржилеса в надежде увидеть скачущего ему навстречу вороного коня.
Господин де Буагильбо крайне редко отваживался на такие смелые вылазки за пределы своей обширной усадьбы и теперь старательно избегал проезжих дорог из боязни встретить чужих. Поэтому он пошел напрямик по лугам, не теряя, однако, из виду дороги, по которой должен был проехать Эмиль. Шел он медленно, даже как будто неуверенно, поскольку все движения господина Буагильбо отличались благоразумной осторожностью, на самом же деле шаг его был тверд.
Добравшись до небольшого притока Гаржилесы, который, выбегая из-под ограды парка, извивался по долине, он услышал звук топора и чьи-то голоса. Маркиз имел привычку уходить при первом звуке, выдававшем присутствие человека, и готов был сделать любой крюк, лишь бы избежать случайной встречи, но на сей раз он поступил иначе, и на то имелась своя причина. Маркиз питал, если можно так выразиться, страсть к деревьям и не позволял своим арендаторам их рубить, — разве только сухостой. Каждый раз, услышав стук топора, он настораживался и не мог устоять против желания убедиться собственными глазами, не нарушается ли его приказ.
Так и теперь — он решительным шагом вышел на луг, где трудились рабочие, и почувствовал искреннюю жалость, увидев десятка три прекрасных деревьев, еще покрытых свежей листвой, которые лежали на земле и были частично уже распилены. Арендатор с помощью сыновей грузил бревна на запряженную волами телегу. Топор, удары которого эхом отдавались в долине, с невероятной быстротой мелькал в проворных руках Жана Жапплу.
Господин де Буагильбо отнюдь не преувеличивал, когда однажды поведал Эмилю самым холодным тоном, что крайне вспыльчив по природе. Такой уж у него странный характер. Узнав плотника, один вид которого и даже имя вызывали в нем неприязненное чувство, маркиз побледнел, потом, заметив, что Жан валит прекрасные, еще вполне здоровые и крепкие деревья, задрожал от гнева, покраснел, что-то забормотал и стремительно бросился вперед; никто не поверил бы, что этот человек за минуту до того шел размеренным шагом, тяжело опираясь на палку с золотым набалдашником.
XXIX Приключение
Срубленные деревья, при виде которых так сильно огорчился господин де Буагильбо, в беспорядке валялись на берегу узкой речки, так что стройные тополя, старые ивы и великолепные ольхи касались своими верхушками противоположного берега, образуя над бурливыми водами зеленый мост. Пока волы вытаскивали на канатах деревья из речки и подтягивали их к телегам, на которые их должны были погрузить, неутомимый плотник, перепрыгивая со ствола на ствол, над самой водой обрубал переплетавшиеся ветви, мешавшие работе. Всегда ревностный в труде, Жан проявлял теперь не только свойственные ему решительность и ловкость, но наносил удары в состоянии какого-то исступления и с той особой радостью, какая хорошо знакома лесорубам. Река была здесь быстра и глубока, и вряд ли кто-либо другой решился бы работать на таком опасном месте. С легкостью и уверенностью юноши Жан добирался до гибких верхушек деревьев, преграждавших течение, и когда очередь доходила до ветви, на которой он с трудом удерживал равновесие, с маху подрубал ее, но лишь только раздавался зловещий треск, предупреждая, что его ненадежная опора вот-вот рухнет в воду, проворно перепрыгивал на соседние стволы, возбужденный опасностью и восхищением товарищей. Сверкающий топор взвивался молнией над его головой, а зычный голос подбадривал других, и те дивились, глядя, как спорится дело, когда за него берется человек, которому воля и ум помогают сметать с пути все препятствия и делать чудеса.
Если бы господин де Буагильбо не потерял обычного хладнокровия, он также, вероятно, залюбовался бы Жаном и даже почувствовал бы некоторое уважение к человеку, который вносил в эту грубую работу такое вдохновение. Но вид прекрасного, полного соков дерева, в самом расцвете сваленного топором, всегда приводил маркиза в негодование и раздирал ему сердце, словно он присутствовал при убийстве, а если, не дай бог, дерево принадлежало ему, он вступался за него, как вступился бы за брата или друга.
— Что вы здесь делаете, безмозглые болваны? — потрясая тростью, вскричал он фальцетом, который в гневе зазвучал пронзительно и резко, как солдатская дудка, — А ты, палач, — крикнул он Жану Жапплу, — ты, видно, поклялся меня мучить и оскорблять!
Крестьяне бывают туговаты на ухо, а в особенности беррийцы. Погонщики волов, разгоряченные непривычным рвением, не расслышали хозяина, тем более что треск сучьев, хлопанье бичей, скрип ярма и зычные властные окрики плотника покрывали слабый голос маркиза. Все предвещало грозу, с горизонта подымались тяжелые лиловые тучи. Жан обливался потом, но не отпускал рабочих, твердя, что от ливня речонка вздуется и может унести бревна. Он был в каком-то неистовстве и, несмотря на свое благочестие, сквернословил на этот раз хуже язычника, словно брань удесятеряла его силы. Кровь стучала у него в ушах. При каждом взмахе богатырской руки у Жана вырывался ликующий и яростный крик, который сливался с раскатами грома. Порывы буйного ветра забрасывали его листвой и развевали серебристые пряди его жестких волос. Бледное лицо, сверкающие глаза, кожаный передник, высокая поджарая фигура, мощная рука, заносящая топор, придавали ему сходство с циклопом, заготовляющим на склонах Этны запасы дров, чтобы поддерживать огонь в горне своей адской кузницы.
Пока маркиз в бессильном гневе взывал к порубщикам, плотник отсек последнюю ветвь, пробежал по тонкому стволу молодого клена с ловкостью, которой позавидовал бы любой акробат, прыгнул на берег, схватил веревку упряжки и, не зная, куда девать избыток своей могучей силы, впрягся вместе с усталыми волами, как вдруг его спину, едва прикрытую грубой рубахой, ожег удар гибкой и сухой трости господина де Буагильбо.
Плотник подумал было, что его опять хлестнула ветвь: на долю Жана пришлось немало таких ударов во время сегодняшней битвы с зелеными гигантами. Он быстро обернулся, громко выругался и, разрубив ударом топора наотмашь трость маркиза, сердито крикнул:
— Больше ты никого хлестать не будешь — отхлесталась!
Только он успел произнести это заклятие, как его глаза, которые словно застлало туманом, так он был опьянен работой, — внезапно округлились от удивления: при вспышке молнии он увидел своего благодетеля, бледного, как призрак. Маркиз держал в дрожащей от бешенства руке золотой набалдашник и обрубок трости. Еще немного, и Жан вместе с тростью отсек бы руку, неосторожно поднявшуюся на него.
— Тысяча чертей! Да это никак господин де Буагильбо! — вскричал плотник, отбрасывая топор. — Если это ваш дух явился ко мне, чтобы меня мучить, так сгинь, пропади, но если это вы сами, маркиз, во плоти и крови, скажите напрямик, потому что я не терплю выходцев с того света!
— Что ты здесь делаешь? Почему рубишь мои деревья, глупая скотина! — ответил господин де Буагильбо, чей пыл нимало не охладел от того, что он только чудом избег опасности.
— Простите, — сказал удивленный Жан, — вы как будто недовольны? Значит, это вы меня так хлопнули?
Вы не очень-то приятны, когда разгневаетесь. И хоть бы словом предупредили! Не вздумайте только продолжать в том же духе! Не окажи вы мне великой услуги, я уже перерубил бы вас, как тростинку.
— Хозяин, хозяин, простите нас! — сказал арендатор и, бросив своих волов, ловко встал между плотником и маркизом. — Это я попросил Жана срубить деревья. Никто не справится лучше него: он один за десятерых сработает. Сами видите: с полудня тридцать деревьев повалил да еще помог их вытащить из воды! Не сердитесь на него, хозяин. Он у нас злой на работу! Если бы для себя рубил, и то не так бы старался.
— Но почему он рубит мои деревья? Кто ему позволил?
— Да ведь их подмыло паводью, хозяин, они уже начали желтеть. Еще одна паводь, и их выворотит и унесет с корнями… Сами поглядите.
Понемногу маркиз пришел в себя и, оглядевшись, увидел, что и в самом деле последнее наводнение подмыло деревья. Развороченная земля, торчавшие из нее мощные корни подтверждали правильность слов арендатора. Тем не менее, все еще не доверяя собственным глазам, он спросил:
— А почему все-таки вы не подождали моего распоряжения? Ведь я вам сто раз наказывал не касаться деревьев без спросу.
— Но, хозяин, неужели вы не помните, как я приходил к вам на другой день после паводи и сообщил о беде, а вы еще мне сказали: «Ну что ж, уберите эти деревья и посадите новые». А сейчас сажать в самый раз, вот мы и торопимся расчистить место. А из этих деревьев каких мы лестниц понаделаем! Чего добру зря пропадать! Да вы извольте дойти до нашего двора, там у нас под навесом уже с дюжину стволов лежит, а завтра остальные притащим.
— В добрый час! — ответил господин де Буагильбо, смущенный своей несдержанностью. — Да, верно! Ведь и в самом деле я разрешил вам, а вот забыл. Надо мне было раньше прийти сюда и посмотреть, как обстоят дела.
— Еще бы, ведь вы так редко показываетесь на людях, хозяин, — добродушно сказал крестьянин. — Я позавчера встретил господина Эмиля, он как раз к вам шел, я ему рассказал, какая у нас беда с деревьями приключилась, и просил вам напомнить. Неужели он позабыл?
— Должно быть, — сказал господин де Буагильбо, — Ну ничего! Но пора и по домам, уже стемнело, да и гроза надвигается.
— Вы промокнете, хозяин, зашли бы куда-нибудь и переждали дождь.
— Не стоит, — ответил маркиз, — дождь может зарядить надолго, а я не так далеко от дома и успею дойти.
— Хозяин, вы не успеете, дождь пошел, да какой частый.
— Ладно, ладно, спасибо! Это уж мое дело! — возразил господин де Буагильбо.
Он двинулся по направлению к замку, а арендаторы погнали своих волов на ферму.
— Не очень-то полезно в его лета под дождем разгуливать, — сказал арендатор сыну, глядя вслед удалявшемуся маркизу: без палки старик шагал совсем медленно.
— Напрасно он не подождал, — заметил молодой крестьянин, — можно было бы сбегать за каретой. Ну, ну, Весельчак! Лысый! — замахнулся он на волов. — Назад, Серый! А ну, не робей, тяни, голубчики!
Понукая волов, отец и сын погнали упряжку прямо через мокрые луга и вскоре исчезли в лесу. Остальные лесорубы следовали за ними, и никто уже не беспокоился о судьбе господина Буагильбо. Крестьянин вообще беззаботен от природы.
А старый маркиз тем временем пересек луг и только было собрался пролезть через живую изгородь, как вдруг, обернувшись, увидел Жана Жапплу: плотник неподвижно сидел на пне среди поваленных деревьев подобно победителю, предающемуся грустным размышлениям на поле битвы. Куда девался веселый пыл, с каким этот силач ворочал толстые бревна! Погруженный в глубокую печаль, он словно бы и не чувствовал, как по его разгоряченному лбу катятся крупные капли дождя, смешиваясь с потом.
«Мне, видно, суждено оскорблять этого человека и самому терпеть от него мучения», — подумал господин де Буагильбо.
Долго он стоял в нерешительности, колеблясь между чистосердечным раскаянием и неудержимой неприязнью к Жану.
Наконец маркиз сделал Жану знак приблизиться, но тот, казалось, не заметил, хотя еще не совсем стемнело. Маркиз позвал его еще раз, уже без всякого гнева, своим обычным ровным голосом, но Жан все не откликался.
«Ничего не поделаешь! — подумал господин де Буагильбо. — Я виноват, надо уступить». И направился прямо к плотнику.
— Ты что здесь сидишь? — спросил он, хлопнув Жана по плечу.
Жан вздрогнул и, с трудом отрываясь от своих дум, спросил резко и раздраженно:
— Чего вы от меня хотите? Опять драться пришли? Нате, вот кусок вашей трости. Я собирался отнести ее вам завтра, на память о сегодняшнем вечере.
— Я был неправ, — сказал господин де Буагильбо, запинаясь.
— Легко сказать «неправ»! — возразил плотник. — Если вы богаты, стары и вдобавок маркиз — значит, так вам все и прощать?
— Что же требуется, чтобы ты простил?
— Вы отлично знаете, что ничего я от вас требовать не вправе. Я мог бы перешибить вас одним щелчком, но я вам обязан. Одного я вам не прощу — того, что вы превратили благодарность в тяжкое и унизительное для меня бремя. Вот уж никогда бы не поверил, что такое может со мной случиться. Ведь и у меня есть сердце, и я горевал, что не мог вас отблагодарить. Лучше мне в тюрьму пойти или снова бродяжить, чем ваши побои выносить. Уходите! Оставьте меня в покое! Только было я начал приходить в себя, как вы снова меня разозлили. Свихнулись вы, что ли! Так и будем знать, тогда и разговаривать нечего.
— Ну что же, ты прав, Жан, я немного свихнулся, — грустно согласился маркиз. — Я не в первый раз теряю власть над собой из-за сущих пустяков. Вот почему я и живу одиноко, никуда не выхожу и показываюсь на люди как можно реже. Разве это не тяжелое наказание?
Жан ничего не ответил, услышав это печальное признание; он чувствовал к маркизу уже не гнев, а жалость.
— Так скажи же, как мне исправить мою вину? — снова начал господин де Буагильбо дрожащим голосом.
— Как? — переспросил плотник. — Я вас прощаю.
— Спасибо, Жан. Не хочешь ли вернуться ко мне на работу в усадьбу?
— К чему? Ведь я и здесь работаю на вас. Мой вид вам докучает, и в вашей власти было не встречаться со мной. Сам я не хотел попадаться вам на глаза. Вы еще вздумаете платить мне, а когда я тружусь на ваших арендаторов, вы не можете принудить меня получать с них деньги.
— Но твой труд приносит мне доход, ведь его плоды остаются в моих владениях, Жан. Я не согласен на это.
— Ах, вы не хотите! А мне плевать! Я желаю с вами расквитаться, и вы не смеете мне мешать. Уж раз вы меня оскорбили да еще поколотили — я теперь нарочно все отработаю бесплатно, черт возьми! Просто назло вам. Это вас небось унизит? Тем лучше, значит, я буду отомщен!
— Отомсти мне каким-нибудь иным способом!
— А каким? Побить вас, что ли? Так мы с вами квиты не будем и я останусь вашим должником, а я не хочу чем-либо быть вам обязанным.
— Что ж! Рассчитывайся как тебе угодно, раз ты такой гордый и несговорчивый! — сказал маркиз, выходя из себя. — Тебя ослепляет злоба, иначе ты видел бы, как я страдаю! Если бы ты мог понять, тебе не потребовалось бы никакой другой мести, а ты хочешь мстить грубо и жестоко. Ты готов умереть с голоду, готов с ног валиться от усталости, лишь бы я краснел от стыда и мучился до конца дней моих.
— Ну, если вы так к этому относитесь… — сказал Жан, смягчаясь. — Я ведь не злой человек, так уж и быть, прощаю ваш юношеский пыл. Да, черт побери! Вы горячи не по летам, и рука у вас крепкая, дай бог всякому! Кто бы мог подумать! Ну, не будем больше об этом говорить. Повторяю еще раз: я вас прощаю.
— Согласен ты работать у меня?
— За полцены. На этом и покончим!
— Нельзя же равнять твое положение с моим, да к тому же получаемая тобою плата несоразмерна твоему труду. Будь великодушен: это самая прекрасная и совершенная месть. Работай у меня на тех же условиях, как у других. Позабудь, что я оказал тебе услугу — кстати, отнюдь не обременительную для моего кошелька, — пусть я, таким образом, буду твоим должником, потому что я нанес тебе тяжкую обиду, а может ли быть более жалкое возмещение за нее, чем деньги.
— Как вы все это обернули, и не поймешь ничего! Допустим, я соглашусь. А что, если я приду и вам опять не понравится моя физиономия? Послушайте, господин де Буагильбо, вот уже сколько времени вы на меня злобитесь, за что? По-моему, пора объясниться. Как знать, может быть, я похож на какого-нибудь вашего недруга? Он, верно, нездешний, потому что в наших краях я не припомню никого, кто бы на меня походил, кроме, пожалуй, старой клячи, на которой разъезжает священник.
— Не задавай мне вопросов, на которые я не могу ответить. Считай, что я подвержен припадкам безумия, и люби меня из жалости, раз уж меня нельзя любить иначе.
— Господин де Буагильбо, — сказал плотник с жаром, — не надо так говорить, вы несправедливы к себе! У вас есть недостатки, это правда: вы капризны, чересчур вспыльчивы, но вы сами знаете, как все вас уважают, потому что есть в вас справедливость, вы любите добро и зла от вас никто никогда не видел. А потом, вы все раздумываете и не из книг свою премудрость взяли — мало кто из богачей до такой дошел… А если бы все думали, как вы, люди могли бы стать счастливыми. Для того чтобы так смотреть на жизнь, мало быть образованным и умным — надо еще горячо любить всех людей на земле, надо, чтобы в груди было сердце, а не камень; думаю, что таких, как вы, наставляет бог. Не говорите же, что вас только жалеют, — стоит вам захотеть, и вас будут по-настоящему любить, вот такого, как вы есть.
— Что же, по-твоему, надо для этого сделать?
— Надо только не отталкивать тех, кто склонен вас полюбить!
— А кого же и когда я отталкивал?
— Да меня, к примеру, и не раз… Не говорю уж о других; есть такие, что вы даже имени их не позволяете при вас упомянуть.
— Поговорим лучше о тебе, Жан, — сказал господин де Буагильбо с неестественной поспешностью, — или, знаешь, приходи-ка ко мне вечером ужинать и останешься ночевать. Я хочу, чтобы с сегодняшнего дня мы окончательно помирились… на известных условиях, которые я тебе, может быть, скажу… и которые не относятся к существу нашей ссоры. Дождь усиливается, под деревьями больше не спрячешься.
— Нет, я не пойду к вам сегодня, — сказал плотник, — но до дома провожу: смотрите, вон какая туча надвигается, через минуту уже трудно будет идти. Вот что, господин де Буагильбо, послушайтесь-ка меня, накиньте на плечи мой кожаный передник; он, правда, не особенно красивый, но грязи на нем нет: ведь дерево — оно чистое, потому-то я свою работу и люблю; к тому же он не боится воды.
— Нет, я хочу, чтобы ты им накрылся. Ты вспотел, и хотя обращаешься со мной как со стариком, но ведь и ты не юноша, друг мой… Ну, чего там церемониться! Я одет хорошо. Недоставало только, чтобы ты из-за меня простудился. Довольно и того, что я сегодня тебя ударил.
— Ох и хитрый же вы! Ладно, идемте! Да, я, конечно, уже не молод, но пока ничего, на годы не жалуюсь. А знаете ли вы, что я только на десять лет вас моложе? Помните, когда я построил для вас деревянный домик в парке — «шале», как вы его называете? Так вот, в Иванов день минуло ровно девятнадцать лет с тех пор, как я насадил подле него рощицу.
— Да, верно! Девятнадцать лет! Только-то? А мне казалось — куда больше. Впрочем, домик чудесно построен, и нужно его лишь кое-где подновить. Хочешь взять на себя этот труд?
— Если нужно, я не против. Помню, в свое время я немало над вашим домиком потрудился. Глядишь, глядишь на ваши проклятые рисунки и стараешься, чтобы вышло точь-в-точь.
— Это твое лучшее творение, и трудился ты с охотой.
— Да, в иные дни эта охота мне дорого стоила, иной раз я просто заболевал от усталости, а тут еще вы подходите и говорите: «Жан, это не то, ты меня не понял!» Да, умели вы меня рассердить!
— Мало сказать — рассердить! Ты меня чуть к черту не послал.
— В то время вы мне и это спускали. Никогда не поверил бы… Терпели, терпели мой характер, а в один прекрасный день вдруг обозлились, да еще причины не сказали! Ну-ка, что же надо починить в вашем деревянном домике?
— Да там одна дверь никак не запирается.
— Осела, значит. Когда начинать?
— Завтра же. Вот почему я хотел оставить тебя на ночь. Куда ты пойдешь в такую погоду, да еще так поздно?
— Верно, того и гляди, в темноте шею сломишь. Смотрите себе под ноги, в яму можно угодить. Но пусть хоть все хляби небесные разверзнутся, я все равно вернусь в Гаржилес!
— У тебя там такие важные дела?
— Да, я хочу повидать моего сынка, Эмиля Кардонне, мне надо ему кое-что рассказать.
— Эмиля? Ты видел его сегодня?
— Нет, я ушел рано утром по его делам… Не будь вы такой чудной, я бы вам кое-что рассказал, потому что вы уже сами немало знаете!
— Не думаю, чтобы у него были от меня тайны, но раз он тебе что-то доверил, а мне не сказал, я не хочу знать.
— Да я и сам не скажу, будьте покойны.
— Значит, ты не можешь мне даже сообщить, здоров ли он? Я очень тревожусь. Я надеялся, что он навестит меня сегодня, и как раз вышел ему навстречу.
— Ага! Теперь я понимаю, почему вы выбрались так далеко, вы же никогда дальше парка не выходите. Зря вы шагаете, не разбирая дороги. Сейчас на лугах ручьи разлились, и я сам не разберу, куда мы зашли. Ну и дождина, пропади он пропадом! Такая же гроза была в тот вечер, когда Эмиль прибыл в наши края! Мы встретились под большой скалой, вместе укрылись там от непогоды; я тогда еще не знал, что приобрел в тот час друга, нашел истинное человеческое сердце, настоящее сокровище…
— Так ты к нему очень привязан? Он не раз пытался говорить со мной о тебе…
— А вы ему, понятно, не разрешали? Я так и думал. Он вроде вас, я-то знаю: в глубине души совсем не гордый и готов отдать другому и жизнь, и все свое имущество. Только он не сердится из-за пустяков, и, если уж он с человеком хорош, можешь не опасаться, что он вдруг вытянет тебя дубиной.
— Да, я знаю, он гораздо лучше меня и уж конечно куда любезнее. Если ты увидишь Эмиля сегодня вечером или завтра с утра, извести меня. Передай, чтобы он зашел ко мне, я очень удручен его горем.
— И я тоже, но не теряю надежды — не то что вы оба. А ведь будь я так богат, как вы…
— Что бы ты тогда сделал?
— Не знаю, но от таких людей, как папаша Кардонне, при деньгах всего добьешься. Что, если бы вы затеяли с ним какое-нибудь крупное дело, не пожалев нескольких сот тысяч франков? Ведь у вас три или четыре миллиона, а детей нету. Он не так богат, как кажется. Дохода у него, конечно, побольше вашего, а капиталу не бог весть сколько.
— Иными словами, ты мне советуешь купить свободу его сына?
— Есть люди, которые не только ничего не дарят, а торгуют даже тем, что должны давать даром… Стойте, черт побери, да ведь это пруд! Здорово же мы с вами взяли вправо, хоть как будто и не пили. Как же мы отсюда выйдем?
— Не знаю, мы давно должны были бы прийти в Буагильбо, а все никак добраться не можем.
— Подождите-ка, подождите, — сказал плотник. — Вон там, позади, просвет, и тут должно быть дерево. Повременим, пока сверкнет молния… Глядите хорошенько! Вот оно. Совершенно верно: это дом тетушки Марло. Ах ты черт! У нее ребятишки больны, у обоих, говорят, тифозная горячка. Но ничего, она женщина славная, и к тому же, будьте уверены, в ваших владениях, куда бы вы ни пришли, вы желанный гость.
— Если не ошибаюсь, эта женщина — моя арендаторша.
— И платит вам она, должно быть, немного, да и нечасто. Ну-ка, дайте мне руку.
— Я и не знал, что у нее больны дети, — сказал маркиз, входя в маленький дворик перед хижиной.
— Вполне понятно: вы никогда не выходите из дому и не заглядываете в эти края. Но, слава богу, о детишках уже позаботились. Смотрите, вот стоит двуколка и лошадь, это одна моя знакомая приехала. И очень кстати.
— Кто эта дама? — спросил маркиз, заглядывая в окно хижины.
— Разве вы ее не знаете? — спросил плотник взволнованно.
— Не припомню. По-моему, я ее никогда не встречал, — ответил господин де Буагильбо, внимательно рассматривая внутренность хижины. — Должно быть, какая-нибудь благотворительница занимается здесь тем, что является моей прямой обязанностью.
— Это сестра нашего кюзьонского священника, — сказал Жан Жапплу, — молодая вдова. Большой души женщина! Настоящая благотворительница, это вы правильно заметили. Постойте-ка, я предупрежу ее о вашем приходе, потому что она у нас немного стеснительная, я ее хорошо знаю.
Жан вбежал в хижину, шепнул несколько слов старухе хозяйке и Жильберте, которую он в порыве внезапного вдохновения превратил в сестру кюзьонского священника, затем вернулся за господином де Буагильбо, открыл дверь и сказал:
— Входите, маркиз, входите! Не бойтесь, вы их не обеспокоите. Ребятишки поправляются. Посмотрите, как славно горит хворост. Подсаживайтесь поближе к огоньку, обсушитесь и погрейтесь.
XXX Непредвиденный ужин
Только разыгравшаяся непогода, а быть может, и влияние какой-то таинственной и неизвестной самому маркизу силы могли принудить его встретиться с незнакомой особой. Старик вошел в хижину, робко и учтиво поклонился мнимой вдове и подошел к очагу, куда тетушка Марло, при виде насквозь промокшего хозяина, поспешила подбросить большую охапку хвороста.
— Ох, да что же это такое? Да как же вы так, маркиз? Ни за что бы не узнала, если бы не Жан! Грейтесь, грейтесь, хозяин! Ведь в ваши годы по такому ненастью недолго простудиться и помереть.
Высказывая это мрачное предположение, добрая женщина, очевидно, полагала, что проявляет в отношении гостя величайшую любезность и внимание, и, все еще не оправившись от неожиданности, развела в очаге такой огонь, что чуть не устроила пожара.
— Ничего, голубушка, — сказал господин Буагильбо. — Я тепло одет и почти совсем не промок…
— Ну еще бы! Вы-то, конечно, хорошо одеты, — продолжала хозяйка, считая, что говорит маркизу нечто приятное и лестное, — денег у вас хватает…
— Да не в этом дело, — ответил маркиз, — я только хочу сказать, чтобы вы не утруждали себя и не оставляли из-за меня своих больных. Мне здесь очень удобно, а жизнь такого старика, как я, куда менее ценна, нежели жизнь ребенка. И давно ваши дети больны?
— Уже две недели, сударь. Но, слава богу, полегче им стало.
— Почему же вы не пришли ко мне, раз у вас дома больные?
— Никак не возможно! Да я и не смею. Разве мы можем вам докучать? Мы ведь люди простые, говорить не умеем, и просить нам совестно.
— Я должен был бы сам заходить к вам почаще и узнавать о ваших нуждах, — со вздохом сказал маркиз. — Но я вижу, что есть люди более деятельные и самоотверженные, чем я, и они исправляют мою ошибку.
Жильберта все это время держалась в глубине комнаты. Онемев от страха и не решаясь поддерживать выдумку плотника, она старалась остаться незамеченной за домоткаными саржевыми занавесками, отделявшими кровать, где лежал младший ребенок. Ей не хотелось вступать в беседу; приготовляя отвар для больного, она стояла вполоборота к вошедшим и усиленно куталась в шаль. Завязанная под подбородком черная косынка из грубых кружев если не совсем скрывала, то, по крайней мере, умеряла блеск ее волос, который невольно поражал всякого, кто хоть раз видел, как отливают золотом эти непокорные кудри. Но господин де Буагильбо встречал Жильберту всего раза два, когда она проходила по дороге под руку с отцом. Еще издали маркиз узнавал господина Антуана и отворачивался. Если бы даже ему пришлось столкнуться с ней лицом к лицу, он все равно закрыл бы глаза, чтобы не видеть лица девушки, которая внушала ему такой страх. Вот почему он не имел ни малейшего представления об ее осанке, чертах и манерах.
Жан лгал так уверенно и вдохновенно, что маркиз ничего не заподозрил. Он не узнал даже Сильвена Шарассона, который спал сладким сном возле очага, свернувшись клубочком, как кот на лежанке. Меж тем паж Шатобрена, прожорливый воришка, не раз, вероятно, попадался во время своих дерзких налетов на владения маркиза, когда перелезал через изгородь и рвал спелые плоды. Тем не менее маркиз не только никого ни о чем не расспрашивал, но упорно старался ничего не замечать и не прислушивался к тому, что происходило за оградой его парка, — откуда же ему было знать, кто этот мальчишка.
В результате ничего не подозревавший маркиз, уже выведенный из своей замкнутости событиями этого вечера, — а они встряхнули его и морально и физически, — настолько осмелел, что принялся издали следить за движениями молодой благотворительницы, а затем рискнул даже приблизиться к ней и задать несколько вопросов о состоянии больных. Робкая сдержанность сострадательной особы поразила маркиза, и он проникся к ней искренним уважением: он оценил ее благородство и счел хорошим тоном то, что она не только не хвастается своими добрыми делами, а, наоборот, кажется смущенной и даже не особенно довольной, что ее застали врасплох подле больных детей.
От страха, что обман откроется, Жильберта забыла, что маркиз никогда не слышал ее голоса, и упорно молчала, давая возможность крестьянке отвечать вместо нее на расспросы старика. Но Жан, со своей стороны опасавшийся, что тетушка Марло не справится с возложенной на нее ролью и по неловкости выдаст Жильберту, всячески старался заслонить хозяйку дома, оттесняя ее к очагу, и всякий раз, как господин де Буагильбо отворачивался, делал ей страшные глаза. Перепуганная тетушка Марло, перестав понимать, что происходит в ее доме, не знала, кого слушать, и молила бога, чтобы поскорее кончился дождь и неожиданные гости убрались восвояси.
Наконец Жильберта, несколько успокоенная приятным голосом и учтивыми манерами маркиза, осмелилась заговорить; и так как он все еще упрекал себя за невнимание к бедным, она возразила:
— Я слышала, сударь, что у вас очень слабое здоровье, что вы много читаете. Многочисленные занятия не оставляют вам времени для иных забот. Другое дело я — я ничем не занята и живу очень близко отсюда. Как же мне не ухаживать за больными нашего прихода?
При последних словах Жильберта взглянула на плотника, как бы желая обратить его внимание на то, что она наконец вошла в навязанную ей роль, и Жан поспешил добавить, чтобы придать больше веса словам благочестивой прихожанки:
— Вдобавок, она без этого жить не может, да и положение обязывает. Кому, как не сестре священника, заботиться о бедных?
— Меня бы не так мучила совесть, — сказал маркиз, — если бы вы, сударыня, соблаговолили обращаться ко мне в тех случаях, когда я, по забывчивости или по невниманию, пренебрегаю своим долгом. Добрые намерения хоть отчасти заменяют недостаток усердия с моей стороны. Вы, сударыня, избрали самую благородную и самую тяжкую долю — самолично ухаживать за больными, а я могу предоставить в распоряжение благотворителей, не имеющих достаточных средств, мой кошелек. Позвольте же мне стать соучастником ваших добрых дел, сударыня, очень прошу вас. А если вы не пожелаете оказать мне этой чести, посылайте ко мне всех ваших бедняков. Я сочту своим священным долгом исполнять ваши просьбы.
— Мне думается, в этом нет нужды, маркиз, — ответила Жильберта, — вы помогаете бедным гораздо больше, чем могу это делать я.
— Вы же видите, что это не так: я оказался здесь случайно, а вы пришли намеренно.
— О нет, я вовсе не знала, что нужна здесь, — ответила Жильберта, — тетушка Марло сама пришла за мною. Иначе я бы тоже понятия ни о чем не имела.
— Вы умаляете свои заслуги, желая смягчить мою вину. А все-таки пришли именно за вами, ко мне же люди в несчастье не смеют даже обратиться. В этом мой приговор и хвала вам.
— Черт побери, Жильберта, дорогая! — сказал плотник, отводя девушку в сторону. — Право, вы творите чудеса и при желании можете приручить нашего старого филина! Так, так, так — как любит говорить матушка Жанилла. Все идет чудесно, и, если вы будете слушаться меня, ручаюсь — вы его примирите с вашим батюшкой.
— О, если бы я только могла!.. Но, увы, отец взял с меня обещание, даже клятву, что я никогда не буду пытаться это сделать.
— А меж тем господину Антуану до смерти хочется, чтобы все уладилось! Поймите, если он взял с вас эту клятву — значит, считал несбыточным то, что сейчас становится возможным, — я не говорю завтра, а именно сегодня, нынче вечером. Куй железо, пока горячо! Вы же сами видите: одно чудо уже совершилось — мы пришли вместе с маркизом, и он говорит со мной по-дружески.
— Кто же совершил это чудо?
— Это чудо совершила трость, пройдясь по моей спине… Но я расскажу обо всем после. А пока постарайтесь быть любезной, смелой, находчивой — одним словом, берите пример со старого Жана. Я начинаю.
И, отойдя от девушки, Жан подошел к старику:
— Знаете, что мне сейчас шепнула эта дама? Она непременно хочет отвезти вас домой в своей коляске. Да разве дамам отказывают? Она говорит, что дороги размыло, что вы не можете идти пешком, вы промокли и простудитесь, дожидаясь своей кареты, а у нее двуколка и неплохая лошадка: у деревенских священников лошади смирные и понятливые и бегут довольно быстро, если; только не лень кнутом махать. Через четверть часа вы будете дома, и вам не придется шагать бог знает сколько времени по грязи и камням.
Господин де Буагильбо сердечно поблагодарил прекрасную вдову и отказался от ее предложения, но Жильберта упрашивала его с неотразимой грацией.
— Умоляю вас, маркиз, — говорила она, поднимая на него свои чудесные голубые глаза и глядя чуть боязливо, как не прирученная голубка, — не огорчайте меня своим отказом! Правда, коляска моя некрасивая, небогатая, забрызгана грязью, да и лошадь, пожалуй, такая же неказистая, но доедете вы спокойно. Я хорошо умею править, а потом Жан отвезет меня домой.
— Но эта поездка вас слишком задержит, — сказал маркиз, — ваши родные будут беспокоиться.
— Вот и не будут! — сказал Жан. — Видите, здесь сидит служка священника: он помогает ему во время богослужения и звонит в колокольчик; у этого мальчугана крепкие ноги, глаза зоркие, и луж он не боится — совсем как настоящая лягушка. Лапы он не промочит, не беспокойтесь: башмаки у него деревянные и прочнее ваших кожаных; ему добежать до Кюзьона — все равно что мне доску перепилить. Он предупредит домашних, чтобы они не беспокоились, скажет, что госпожа Роза под: надежной охраной и что ее проводит старый Жан, то есть я. Решено? Послушай-ка, молодец, — обратился он к Шарассону, который спросонок беспрерывно зевал так, что чуть не вывихнул себе челюсть и изумленно глядел на господина Буагильбо. — Выйди-ка на свежий воздух, тебе это полезно, а мне нужно шепнуть тебе два слова.
Жан вывел Сильвена на улицу, набросил ему на плечи свой кожаный передник и, дергая за ухо, чтобы покрепче запечатлеть в его памяти свою речь, зашептал:
— Лети в Шатобрен! Скажешь господину Антуану, что Жильберта едет со мной в Буагильбо; пусть он будет спокоен: все идет хорошо. И если даже мадемуазель Жильберте придется заночевать не дома — все равно, пусть он не беспокоится. Слышишь? Понял?
— Слышал, а понять ничего не понял! — ответил Сильвен. — Да оставьте же в покое мое ухо, медведь вы этакий!
— Поговори еще, я тебе его живо вытяну, а коли что напутаешь, так оба уха завтра оторву!
— Слышал уже, довольно! Оставьте меня!
— Но если ты вздумаешь баловаться по дороге, тогда берегись!
— Тьфу ты пропасть! Где уж тут баловаться в такую погоду.
— Смотри фартук мой не потеряй.
— Что, у меня головы на плечах, что ли, нет? Не беспокойтесь, не подведу!
И мальчишка пустился бегом по направлению к замку; он, как кошка, находил в потемках дорогу.
— Теперь, — сказал Жан, выкатывая из-под навеса таратайку и выводя старую кобылу, — теперь дело только за нами, уважаемая Искорка! Не сердитесь, господин Разбойник, это я. Вы не хотели оставить хозяюшку — весьма похвально с вашей стороны. Маркиз не замечает людей, это верно, но на собак он глядеть не боится и может вас узнать. Сделайте же одолжение и последуйте за вашим другом Шарассоном. Как ни печально, но придется вам возвратиться домой пешком!
И, вытянув бедного пса кнутом, Жан направил его по следу Сильвена.
— Ну, маркиз, я жду! — закричал потом плотник. И старик, уступив настойчивым просьбам Жильберты, уселся в двуколку между Жильбертой и Жаном Жапплу.
Звезды не видели этой странной троицы — все небо заволокли густые тучи, а тетушке Марло, единственной свидетельнице сего невероятного события, было не до того, чтобы предаваться долгим размышлениям. Уходя, маркиз сунул ей свой кошелек, и весь вечер она провела, пересчитывая блестящие экю и твердя своим больным детишкам: «Все это наша добрая барышня! Это она принесла нам счастье!»
Тем временем маркиз взял вожжи, желая избавить свою спутницу от излишнего труда, а Жан ухватил своей могучей дланью кнут, чтобы подогревать пыл бедной Искорки. Жанилла, отпуская Жильберту к тетушке Марло, снабдила ее огромным зонтом и старым плащом господина Антуана, и таким образом девушка могла сейчас защитить своего спутника от дождя: одной рукой она придерживала раздувавшийся плащ на плечах господина де Буагильбо, а другой с дочерней заботой прикрывала зонтом его голову. Старик был так тронут этим великодушным вниманием, что, несмотря на свою застенчивость, благодарил девушку в самых горячих и почтительных выражениях. Жильберта трепетала при мысли, что расположение маркиза может смениться гневом, а старый Жан тихонько посмеивался, полагаясь всецело на провидение.
Когда наши путешественники прибыли в замок Буагильбо, было около девяти часов, но там все уже спали глубоким сном. Вечером только Мартен прислуживал маркизу, но сегодня дворецкий видел, как господин Буагильбо вошел в свой швейцарский домик, и потому спокойно запер ворота парка, не подозревая, что его хозяин бродит в грозу и бурю по полям в обществе плотника и юной девицы.
Жану не особенно хотелось въезжать во двор вместе с Жильбертой: он подозревал, и не без оснований, что кто-нибудь из слуг замка знает очаровательную обитательницу Шатобрена, и первый же возглас удивления может выдать ее.
Между тем холодный затяжной дождь не переставал, и Жан ломал себе голову, не зная, под каким бы благовидным предлогом высадить маркиза или Жильберту у главного входа, поскольку господин де Буагильбо настойчиво приглашал своих спутников переждать грозу у камелька. Правда, Жану хотелось воспользоваться подходящим случаем и укрепить начавшееся сближение, но испуганная Жильберта отказывалась войти в темный замок Буагильбо, что и в самом деле было для нее чревато известными опасностями.
К счастью, нашим путникам не удалось проникнуть за ограду замка, причиной чего были странные привычки его владельца. Напрасно принимался маркиз звонить в колокол — яростные порывы ветра относили звук далеко в сторону. В этой пустынной и мрачной части здания не ночевал никто из слуг и служанок. Что касается старика Мартена, представлявшего единственное исключение из этого правила, то он был глух и не расслышал бы не только звона колокола, но даже удара грома.
Господин де Буагильбо был удручен тем, что не может оказать гостеприимство, к которому его обязывал долг хозяина, и досадовал на себя за то, что не предвидел подобного случая. Его гнев чуть было не обернулся против старого Мартена, привыкшего ложиться спать с курами. Наконец, решившись, он проговорил:
— Я вижу, мне придется отказаться от мысли попасть домой. К сожалению, у меня под руками нет пушки, чтобы взять замок приступом или хотя бы разбудить слуг. Но, если вы, сударыня, не побоитесь посетить келью отшельника, я могу предложить вам приют, правда, более скромный. К счастью, ключ от него всегда со мной, и мы можем отдохнуть там и согреться.
С этими словами он повернул лошадь к парку, вышел из двуколки, сам открыл калитку и повел Искорку под уздцы, а Жан в это время ободряюще сжимал дрожащую руку Жильберты, чтобы заставить ее решиться и попытать счастья.
— Помилуй боже! — шептал он. — Маркиз ведет нас в свой деревянный домик, где по ночам вызывает нечистого. Но будь спокойна, дочка! Я с тобой, и мы сегодня изгоним отсюда злого духа.
Затворив за собой калитку парка, господин де Буагильбо приказал плотнику взять лошадь под уздцы и отвести ее в сарайчик садовника, куда Эмиль часто ставил Вороного в тех случаях, когда приезжал к вечеру или же намеревался посидеть с хозяином попозже. И когда Жан вышел ставить под навес Искорку и двуколку господина Антуана, маркиз предложил руку Жильберте.
— Я в отчаянии, — сказал он, — но вам придется пройти несколько шагов по песку. Впрочем, вы не успеете промочить ноги, потому что моя обитель совсем рядом, вон за этими скалами.
Жильберта, дрожа, вошла в домик вдвоем с этим странным стариком, которого она считала безумным и за которым покорно следовала теперь в потемках. Впрочем, она несколько успокоилась, когда маркиз открыл вторую дверь и она увидела коридор, освещенный лампой, которая была скрыта в нише, украшенной живыми цветами. Это изящное и удобное жилище, построенное на деревенский лад и обставленное незатейливой мебелью, ей чрезвычайно понравилось, и юному ее воображению, плененному поэтической простотой, обитель маркиза представилась тем дворцом, о котором она так часто мечтала.
С тех пор как Эмиль был допущен в таинственный домик, здесь многое переменилось к лучшему. Юный Кардонне убедил старика, что его аскетические привычки — своеобразный протест против собственного богатства, — пожалуй, уж слишком суровы для его возраста, и, хотя господин де Буагильбо отличался пока неплохим здоровьем, он сам признавался, что сильно мерзнет в дурную погоду. Эмиль собственноручно перенес из старого замка ковры, драпировки, тяжелые занавеси и удобную мебель; в сырые дождливые вечера он сам топил камин, и маркиз охотно принимал внимание и заботы друга, целительные не столько для его тела, сколько для души, так как видел в них доказательство нежной и ненавязчивой симпатии. Эмиль убрал и украсил комнату, где они нередко ужинали с маркизом, превратив ее в гостиную. И Жильберта была в восторге: впервые в жизни ее маленькие ножки ступали по ковру из медвежьей шкуры, впервые она видела прекрасные севрские вазы на мраморных подставках, наполненные редкими цветами.
Огонь в камине, где горой лежали сухие сосновые шишки, вспыхнул как по волшебству, когда маркиз бросил туда кусок горящей бумаги, а свечи, отражавшиеся в зеркале, вделанном в изогнутую дубовую раму, заливали комнату светом, слепившим Жильберту, привыкшую к жалкой маленькой лампе, ибо Жанилла, подобно евангельской разумной деве, экономно расходовала деревянное масло.
Господин де Буагильбо, быть может, впервые в жизни проявлял такую галантность, принимая в своем домике прелестную гостью. Он испытывал простодушное удовольствие, видя, как Жильберта рассматривает цветы и любуется ими, и обещал завтра же дать ей черенки и семена для «приходского сада». Казалось, к маркизу снова вернулась молодость: быстро передвигаясь по комнате, он отыскивал сувениры, которые вывез из Швейцарии, и с детской радостью дарил их Жильберте; когда же, вся зардевшись, она отказалась их принять, он взял маленькую корзинку, в которой она приносила больным детям лекарства и варенье, и наполнил ее красивыми вещицами из резного дерева работы фрейбургских мастеров, печатками и кольцами из горного хрусталя, агата и сердолика; наконец, вынув цветы из всех ваз, сделал огромный букет, который получился довольно нескладным, хотя маркиз и вложил в это несложное дело все свое умение.
Трогательное смущение, с каким оробевшая Жильберта благодарила старика, ее наивные расспросы про путешествие в Швейцарию, о котором господин де Буагильбо сохранил самые восторженные воспоминания и повествовал в несколько старомодном стиле, интерес к его рассказам, тонкие замечания, которые она осмеливалась время от времени делать, чарующий звук ее голоса, простые и естественные манеры, отсутствие кокетства, смесь страха и оживления, придававшие ее красоте еще большую привлекательность, яркий румянец, глаза, затуманенные усталостью и волнением, грудь, вздымавшаяся от непонятного смятения, ангельская улыбка, казалось, молившая о пощаде или покровительстве, — все это так сильно поразило маркиза и так быстро покорило его, что он вдруг почувствовал себя влюбленным до глубины души, влюбленным свято, — то была отцовская любовь к целомудренному и очаровательному ребенку, а не нечистое влечение старика к молодости и красоте. И когда Жан, переступив порог, остановился, ослепленный ярким светом и восхищенный уютом и теплом комнаты, ему показалось, что он грезит; он не мог поверить своим ушам, ибо господин Буагильбо говорил Жильберте: «Сядьте поближе к камину, дорогое дитя, согрейте ноги, я боюсь, как бы вы не простудились, я в жизни не простил бы себе этого».
Затем маркиз, на которого напала удивительная общительность, повернулся к плотнику и, жестом приглашая его войти, сказал:
— Садись и ты с нами, Жан, поближе к огню. Как ты, бедняга, плохо одет. Ты, должно быть, промок до костей — и опять я в этом повинен! Если бы ты не вызвался провожать меня, то спокойно вернулся бы на ферму, переждал дождь и, конечно, уже давно поужинал бы, не то что здесь… Чем бы тебя накормить? Я уверен, что ты умираешь с голоду!
— Сказать по правде, господин де Буагильбо, дождь мне нипочем! Вот голод — другое дело, — с улыбкой ответил плотник и приблизил свои ноги в деревянных башмаках к огню. — Ваш домик здорово похорошел с тех пор, как вышел из моих рук. Помните, эти полки я самолично для вас сбил. Но если бы в шкафу, где-нибудь в уголке, нашелся кусок хлеба, здесь мне все показалось бы вдвое красивее. Нынче с полудня и до самой ночи я рубил, как каторжный, а теперь, кажется, не мог бы и соломинки переломить.
— Ну еще бы! Я думаю! — вскричал господин де Буагильбо. — А знаешь, я ведь тоже не ужинал, но как-то совершенно об этом позабыл. Я уверен, что здесь найдется какая-нибудь еда, только не знаю где. Поищем, Жан! Поищем и найдем!
— Стучите и отверзется, — весело сказал плотник, приоткрывая дверь в заднюю комнату.
— Не там, Жан, — сказал поспешно маркиз, — там только одни книги.
— Ах, значит, эта дверь у вас еле держится? — воскликнул Жан. — Верно! Того и гляди, свалится вам на голову. Завтра же исправлю ее; только всего и дела, что пригнать да стесать наличник, чтобы запирался замок. Ваш старый Мартен, конечно, не догадался починить! Вот уж, право, нескладные руки — с таким пустяком и то не справится!
Жан, который был сильнее, чем оба старика — маркиз и его дворецкий — вместе взятые, прикрыл дверь, не проявив ни малейшего любопытства, и маркиз был признателен ему за это, хотя не спускал неспокойных глаз с плотника, пока тот держался за ручку двери.
— Обычно здесь всегда стоит накрытый столик, — продолжал господин де Буагильбо, — понять не могу, куда он сегодня девался? Может быть, Мартен забыл принести ужин?
— Ну, если только вы сами не забыли завести старика Мартена, чтоб он вовремя прокуковал, как часы, — он промашки не даст! — сказал плотник, с удовольствием восстанавливая в памяти мельчайшие подробности быта маркиза, когда-то хорошо ему знакомые, — А что это там, за ширмой? Глядите-ка, ужин! Правда, не особенно основательный, но зато, видать, вкусный!
Отодвинув ширму, Жан обнаружил маленький столик, на котором стояли в полном порядке заливная телятина, белый хлеб, тарелка с клубникой и бутылка бордоского вина.
— Что ж, господин Буагильбо, — продолжал плотник, — пища для дамы самая подходящая.
— Я был бы счастлив, если бы вы, сударыня, согласились принять мое скромное угощение, — сказал маркиз, подкатив столик к Жильберте.
— А почему бы и нет? — спросил Жан, ухмыляясь. — Держу пари, что ваша гостья позаботилась первым делом накормить других, а у самой маковой росинки во рту не было. Вот что, пусть она отведает клубники, вы, господин Буагильбо, скушаете мясо, а я удовольствуюсь хлебом и стаканчиком вина.
— Мы поедим, как полагается, — ответил маркиз. — Каждый возьмет, сколько ему захочется, и вы увидите, что тут гораздо больше, чем нужно для одного, и хватит нам всем. Прошу вас, сударыня, доставьте мне удовольствие и разрешите предложить вам подкрепиться.
— Я совсем не голодна, — сказала Жильберта; последние дни она была так удручена и взволнована, что потеряла аппетит. — Но вы, пожалуйста, кушайте и вообразите, что я тоже ужинаю вместе с вами.
Господин де Буагильбо сел подле Жильберты и усердно прислуживал ей. Жан заявил, что он слишком грязен и не решается сесть рядом с ними; когда же маркиз стал настаивать, плотник признался, что чувствует себя неловко в таких мягких и глубоких креслах. Он разыскал скамеечку, оставшуюся от прежней деревенской обстановки, и, устроившись поближе к камину, чтобы поскорее обсохнуть, принялся за еду. Львиная доля досталась ему, потому что Жильберта съела только две-три ягодки клубники, а маркиз вообще отличался редкой умеренностью в пище. Да если бы даже после сегодняшней прогулки у него и разыгрался аппетит, он охотно уступил бы свою долю Жану. Он не мог забыть, что два часа тому назад ударил плотника, а тот так великодушно простил его.
Крестьянин ест медленно и в полном молчании, еда для него не удовлетворение капризного и прихотливого вкуса, а своего рода обряд, потому что в течение трудового дня час трапезы — в то же время час отдыха и размышлений. И Жан с самым торжественным видом, аккуратно и не спеша, резал хлеб на маленькие кусочки, глядя, как пылают в камине сосновые шишки. Исчерпав все темы беседы, какую пристало вести с незнакомой особой, господин де Буагильбо впал в обычную свою молчаливость, а Жильберта, утомленная бессонными ночами и тоской, почувствовала, как неодолимо клонит ее ко сну здесь, у камина, после дождя и поездки по холоду. Она изо всех сил боролась с дремотой, но, увы, бедняжка, под стать плотнику, не привыкла к мягким креслам, меховым коврам и яркому блеску свечей. Она пыталась отвечать и улыбалась отрывистым и редким замечаниям маркиза, но ею овладело какое-то оцепенение, внезапно ее хорошенькая головка откинулась на спинку кресла, маленькая ножка скользнула к каминной решетке, и ровное и легкое дыхание возвестило, что ее воля уступила необоримой силе сна.
Увидев, что плотник погрузился в глубокое раздумье, господин де Буагильбо осмелился приблизиться к Жильберте, чтобы вглядеться в черты ее лица, и, когда под слегка сбившимся кружевом заметил сверкающую массу золотистых волос, невольно вздрогнул. Громкий шепот Жана оторвал его от этого созерцания.
— Господин де Буагильбо, — сказал плотник, — держу пари, вы даже и не подозреваете того, что я вам расскажу! Поглядите как следует на эту миловидную даму, а я вам открою, кто она.
Маркиз вдруг побледнел и растерянно взглянул на плотника.
XXXI Неизвестность
— Ну что же, господин де Буагильбо, нагляделись вы на нее? — продолжал плотник с хитрым и довольным видом. — Неужели вы не догадываетесь, что она неспроста вас так интересует?
Маркиз стремительно поднялся и тотчас снова опустился на стул. Страшная догадка озарила его, и чутье, которое так долго его обманывало, вдруг подсказало ему истину скорее, чем того хотел Жан. Маркиз почувствовал, что его подозрение справедливо, и воскликнул в порыве неудержимого негодования;
— Пусть она немедленно покинет мой дом!
Жильберта, проснувшаяся от крика, испугалась, увидев перед собой разъяренное лицо маркиза; она в отчаянии решила, что все потеряно, что ей не только не удалось помирить отца с господином Буагильбо, но даже суждено стать причиной еще более глубокой распри, — и все ее помыслы устремились на то, как бы вымолить прощение для господина Антуана, приняв на себя всю вину. Как цветок, склонившийся под грозным порывом ветра, она упала перед маркизом на колени, схватила его руку и, не в силах вымолвить ни слова от волнения, склонила прелестную головку и прильнула мертвенно-бледным лбом к руке старика.
— Ну же, ну! — сказал плотник, хватая другую руку маркиза и с силой встряхивая ее. — Как вам не стыдно, господин Буагильбо, пугать ребенка! Опять на вас нашло? Ей-богу, я рассержусь, и все тут!
— Кто она? — спросил маркиз, пытаясь оттолкнуть Жильберту, но дрожащая рука не повиновалась ему. — Скажи мне, кто она, я должен знать.
— Вы хорошо знаете, потому что вам уже сказали, — ответил, пожимая плечами, Жан. — Это сестра сельского священника, бедная и простая женщина. Уж не потому ли вы говорите с ней так сурово? Вы, верно, хотите, чтобы она узнала о вас то, что знаю я? Постарайтесь-ка лучше скрыть ваши недуги, господин де Буагильбо. Вы же видите, что ваше злое лицо внушает ей болезненный страх. Странная у вас, однако, манера принимать гостей! Да еще после того, как она была с вами так добра, так любезна. А самое скверное, что я не могу ей объяснить, против кого вы затаили зло, потому что сейчас и сам перестал понимать.
— Ты смеешься надо мной! — промолвил совершенно смущенный маркиз. — О чем ты хотел мне только что сказать?
— О том, что доставило бы вам удовольствие, но я лучше промолчу, потому что вы опять голову потеряли.
— Жан, скажи, объясни мне все, я не могу больше переносить эту неизвестность.
— И я тоже! — вскричала Жильберта, заливаясь слезами. — Не знаю, что сказал или хотел сказать обо мне Жан, но я не могу здесь больше оставаться, не знаю, как мне держать себя. Уедем отсюда!
— Нет, нет, — нерешительно проговорил смущенный маркиз. — Дождь еще идет, погода ужасная, я не хочу, чтобы вы уезжали.
— Хорошо. Так почему же вы только что намеревались ее выгнать? — спросил Жан с презрительным спокойствием. — Кто может разобраться в ваших чудачествах? Во всяком случае, не я, и я ухожу.
— Я не останусь здесь без вас! — вскричала Жильберта и, вскочив, бросилась за плотником, направившимся было к выходу.
— Мадемуазель или мадам, сказал господин де Буагильбо, останавливая Жильберту, а также удерживая и плотника, — соблаговолите выслушать меня и, если вы не причастны к тому, что терзает меня сейчас, простите мое волнение. Оно должно казаться вам смешным, но, поверьте, мне невыносимо тяжело. Однако я обязан объясниться. Мне только что дали понять, что вы совсем не та особа, за которую я вас принимал, а другая, и ее я не желаю видеть и знать. Боже мой! Я теряюсь, я не нахожу слов… Или вы понимаете меня слишком хорошо, или не можете совсем понять!
— А, наконец-то я вас понял! — сказал хитрый плотник. — Я сейчас объясню вашей гостье то, чего вы сами не решаетесь объяснить. Госпожа Роза, — добавил он, обращаясь к Жильберте и смело называя ее именем сестры священника из Кюзьона, — вы, конечно, знаете мадемуазель Жильберту де Шатобрен, вашу соседку?
Ну вот, маркиз питает против нее злобу; очевидно, она тяжко оскорбила его, а так как я собирался сообщить маркизу кое-что по поводу вас и господина Эмиля…
— Что ты говоришь? — вскричал маркиз. — Эмиля?..
— Это вас не касается, — возразил Жан, — вы больше «ничего не узнаете. Я говорю с госпожой Розой. Да, госпожа Роза, господин де Буагильбо ненавидит мадемуазель Жильберту и вообразил, что вы — как раз и есть она. Вот почему он хотел выбросить нас вон и, пожалуй, даже через окошко, а не через двери.
Жильберте невыносимо претило участие в этой нелепой и дерзкой комедии. Весь вечер она чувствовала живую симпатию к маркизу и теперь сурово упрекала себя за то, что злоупотребила его доверием и подвергла таким волнениям, которые, казалось, были ему столь же мучительны, как и ей самой. Жильберта решила проявить больше отваги, чем ее легкомысленный сообщник, и понемногу открыть глаза господину де Буагильбо, приняв на себя возможные последствия его гнева.
— В том, что я слышу, есть какая-то загадка, — начала она с благородной решимостью. — Не могу поверить, чтобы Жильберта де Шатобрен была предметом ненависти такого справедливого и почтенного человека, как господин де Буагильбо. До сих пор я не знала за ней ничего такого, что могло бы объяснить подобное презрение, а для меня очень важно понять, какова же мадемуазель де Шатобрен на самом деле. Умоляю вас, маркиз, поведайте мне все плохое, что вам о ней известно, чтобы она, по крайней мере, могла оправдаться перед честными людьми, которые ее знают.
— Я бы очень хотел, — сказал маркиз с глубоким вздохом, — чтобы при мне не произносили имени Шатобрен.
— Разве это имя запятнано бесчестием? — спросила Жильберта в неудержимом порыве гордости.
— Нет, нет, я никогда этого не утверждал, — ответил маркиз, гнев которого угасал почти так же быстро, как вспыхивал. — Я никого ни в чем не обвиняю и не упрекаю. Я в ссоре с особой, о которой идет речь, и не хочу, чтобы мне о ней напоминали, да и сам не говорю о ней… Зачем же обращать ко мне бесполезные вопросы?
— Бесполезные вопросы! — повторила Жильберта. — Вы не имеете права считать их бесполезными, маркиз. Согласитесь же, крайне странно, что такой человек, как вы, поссорился с молодой девушкой, которую не знает и даже, может быть, никогда и не видел… Очевидно, она совершила какой-нибудь недостойный поступок или сказала о вас что-нибудь ужасное? Вот об этом-то я и умоляю вас осведомить меня; и если Жильберта де Шатобрен не заслуживает ни уважения, ни доверия, я воздержусь от общения с такой опасной особой.
— Умные речи приятно слушать! — вскричал Жан, хлопая в ладоши. — Ну что же, и я тоже не прочь узнать, как мне себя вести. Ведь, по правде говоря, эта самая Жильберта сделала мне немало добра. Она кормила и поила меня, когда я голодал и меня мучила жажда; она пряла шерсть, чтобы одеть меня потеплее и спасти от холода. Жильберта хорошая девушка, нежная, добрая, преданная дочь. Если же она вдруг совершила какой-нибудь позорный поступок, мне стыдно оставаться ее должником, я не желаю быть ей хоть чем-нибудь обязанным.
— Это все ты наделал своими нелепыми «объяснениями», и вот мы завели бесполезный разговор, — сказал маркиз, обращаясь к плотнику. — Откуда ты взял все эти глупости да еще приписываешь их мне? У меня старые счеты с отцом молодой особы, а не с самой этой девушкой. Ее я не знаю и не могу сказать о ней ничего, решительно ничего!
— И тем не менее вы выгнали бы ее из дома, если бы она осмелилась к вам явиться? — спросила Жильберта, несколько ободренная смущением маркиза, и пристально поглядела на него.
— Выгнал бы? Нет, я не выгоняю никого, — ответил маркиз. — Я нашел бы только оскорбительным и странным, если бы ей вздумалось явиться сюда.
— Ну так вот, она думала об этом не раз, — сказала Жильберта. — Я это знаю, потому что мне известны все ее мысли, и я лишь повторяю вам то, что она мне говорила.
— К чему? — перебил ее маркиз, отвернувшись. — Забудьте случайные слова, вырвавшиеся у меня в минуту гнева. Я был бы в отчаянии, если бы по моей вине об этой девушке пошла дурная молва. Я ее не знаю, повторяю вам, и не могу ни в чем упрекнуть. Единственное, чего я желаю, — это чтобы вы не повторяли мои слова, не искажали их, не переиначивали… Слышишь, Жан? Напрасно ты берешься истолковывать то, что я говорю, — тебе это не удастся. Прошу тебя, если только ты ко мне хоть немного привязан, — добавил маркиз с некоторым усилием, — не произноси никогда моего имени в Шатобрене и избавь меня от каких-либо пересудов. Я прошу вас также, сударыня, уберечь меня даже от косвенного общения, от какого бы то ни было окольного объяснения, наконец, от каких бы то ни было отношений с этой семьей. Надеюсь, вы уважите мою просьбу. И если для этого я должен опровергнуть то, что могла необдуманно породить моя излишняя горячность, я готов отказаться от всего, что в моих словах могло очернить поведение и честь мадемуазель де Шатобрен.
Маркиз произнес эти слова нарочито холодно, к нему, казалось, вернулись его обычная сдержанность и достоинство. Но Жильберта предпочла бы новую вспышку гнева — в надежде, что она сменится слабостью и мягкостью. Она больше не осмеливалась настаивать и, поняв по ледяному обхождению маркиза, что ее игра наполовину разгадана и что у старика родилось непреоборимое недоверие, торопилась уехать: она была уже не в силах оставаться здесь. Однако Жана отнюдь не удовлетворил финал объяснения, и он решил испробовать последнее средство.
— Что же, — произнес он, — пусть будет так, как хочет господин де Буагильбо. В глубине души он добр и справедлив, не будем же более его огорчать и отправимся в путь. Только прежде я хотел бы, чтобы вы обсудили еще один вопрос… Ну же, немного больше откровенности! Вы сконфузитесь, будете меня бранить, заплачете, чего доброго… Но я-то знаю, что делаю, такого случая, может быть, нам никогда не представится; придется вам немножко потерпеть, если вы хотите помочь тем, кого любите, и утешить их… Что вы смотрите на меня так удивленно? Разве вы не слыхали, что господин де Буагильбо лучший друг нашего Эмиля и Эмиль ему вполне доверяет? Маркиз не знал только, что речь шла о вас, но он очень хорошо осведомлен о вашем несчастье. Да, господин де Буагильбо, это госпожа Роза. Это она… Вы меня понимаете? Итак, поговорите с ней, ободрите ее, скажите, что Эмиль да и она также хорошо сделали, не поддавшись хитрости папаши Кардонне. Вот что я хотел вам сказать, когда вы меня перебили, устроив скандал по поводу мадемуазель де Шатобрен, бог знает почему.
Жильберта так смутилась, что господин де Буагильбо, смотревший на нее с любопытством и тревогой, был растроган и попытался ее успокоить. Он взял ее за руку и, подведя к креслу, сказал:
— Не смущайтесь! Я старик, и Жан, выдавший вашу тайну, тоже уже не молод. Разумеется, Жан, по своему обыкновению, поступил несколько необычно и весьма смело, но намерения у него добрые, и именно его своеобразный характер отчасти привлек симпатии того человека, которым и вы и я интересуемся больше всего на свете. Попытаемся же победить наше смущение и воспользуемся представившимся случаем, который и в самом деле может не повториться.
Но Жильберта, расстроенная решительными словами плотника и возмущенная тем, что тайна ее сердца находится в руках человека, внушавшего ей скорее страх, чем доверие, закрыла лицо обеими руками и ничего не ответила.
— Ну вот, — сказал Жапплу (если уж он брался за какое-нибудь дело, будь то примирение заклятых врагов или рубка леса, ничто не могло заставить его отступиться). — Теперь она обиделась и рассердится на меня за мою болтливость. Но будь здесь Эмиль, он бы меня не осудил! Эмиль был бы доволен, что господин де Буагильбо собственными глазами увидел, насколько хорош его выбор, и, поверьте, он будет гордиться, когда завтра господин де Буагильбо ему скажет: «Я ее видел, познакомился с нею и теперь вполне вас понимаю». Ведь верно, господин де Буагильбо, вы именно так и скажете?
Маркиз ничего не ответил. Он не отрывал от Жильберты глаз, его влекло к ней, но в то же время мучило ужасное подозрение. Он прошелся взад и вперед по комнате, желая справиться с охватившей его вдруг тоской, но после внутренней борьбы подошел, глубоко вздохнув, к Жильберте и взял обе ее руки в свои.
— Кто бы вы ни были, — сказал он, — в ваших руках судьба юноши благородного, я могу лишь мечтать о том, чтобы иметь в старости такую поддержку и утешение.
Я скоро умру, и я покину мир, не изведав ни минуты счастья, если оставлю Эмиля не примиренным с самим собою.
Молю вас, ведь под вашим влиянием сложится все его будущее, и влияние это может быть благодетельным или роковым… молю вас, сохраните для истины это сердце, достойное быть ее святилищем! Вы молоды, вы еще не знаете, что значит любовь женщины в жизни такого человека, как он. Вы не знаете, быть может, что от вас одной зависит сделать из него героя или труса, мученика или вероотступника. Увы, вам, без сомнения, не понять всего значения моих слов. Нет, вы слишком молоды! Чем больше я на вас смотрю, тем яснее вижу, что вы еще совсем ребенок. Бедное юное существо, неопытное и слабое, вам принадлежит сильная душа, и в вашей воле разбить ее или облагородить. Простите, что я так говорю, я очень взволнован и не могу найти подходящих выражений. Я не хочу ни огорчать, ни смущать вас, но я встревожен. И чем прекраснее и чище вы в моих глазах, тем сильнее я чувствую, что душа Эмиля отныне не принадлежит мне.
— Простите меня, маркиз, — сказала Жильберта, утирая слезы. — Я понимаю вас хорошо и, хотя я в самом деле очень молода, чувствую, как велика ответственность, которую несу перед богом. Но речь идет не обо мне, мне хочется защитить и оправдать в ваших глазах не себя, а Эмиля. Вы как будто сомневаетесь в этом благородном сердце. О, успокойтесь! Эмиль не солжет никому — ни вам, ни своему отцу, ни самому себе. Не знаю, достаточно ли глубоко я вникаю в его и ваши убеждения, но я поклоняюсь истине… Я не умею философствовать, я слишком невежественна. Но я благочестива, воспитана в правилах христианства и не могу их толковать иначе, чем их толкует Эмиль. Я знаю, что господин Кардонне, который, когда ему заблагорассудится, также ссылается на Евангелие, хочет, чтобы Эмиль отступился от своих взглядов. Но если бы я считала Эмиля способным на такой поступок, я устыдилась бы своей ошибки — того, что полюбила бессовестного человека, отрекшегося от истины! Бог уберег меня от этого несчастья! Если понадобится, Эмиль скорее откажется от меня, нежели от своих убеждений. А если настанет такая минута, когда воля Эмиля ослабеет, я найду в себе достаточно твердости. Но я не боюсь этого! Знаю, он страдает, да и я страдаю, но я буду достойна его чувства, как он достоин вашего уважения. И мы найдем в себе силы мужественно и терпеливо перенести все испытания, ибо создатель не оставляет тех, кто страдает из любви к людям.
— Здорово сказано! — вскричал плотник. — Вот бы мне так! Но хоть я и не умею говорить, зато чувствую все это, и милосердный господь вознаградит меня!
— Да, ты прав, — сказал господин Буагильбо, удивленный убежденным тоном плотника. — Я и не подозревал, Жан, что ты такой преданный друг Эмиля и даже, быть может, принесешь ему больше пользы, нежели я.
— Я этого не сказал, господин де Буагильбо. Мне известно, что Эмиль почитает вас как настоящего отца, — во всяком случае больше, чем того бездушного человека, которого судьба дала ему в отцы; но и я тоже отчасти его друг и горжусь тем, что вчера вечером немножко подбодрил его, а сегодня утром подбодрил и еще кое-кого… Что до нее, — сказал он, указывая на Жильберту, — она ни в ком не нуждается. Я и не ждал от нее ничего иного. Она приняла решение с первой же минуты; и, право, можно только подивиться, что в ее лета она такая прямая и смелая, хоть вы, кажется, и не очень это замечаете.
Маркиз в нерешительности снова прошелся молча по комнате. Наконец он остановился у окна, приоткрыл его и, подойдя к Жильберте, сказал:
— Дождь прошел… боюсь, что ваши близкие будут о вас беспокоиться… Я не хочу нынче вас больше задерживать, но… но мы еще увидимся, и тогда я лучше буду подготовлен к разговору с вами… потому что я многое должен сказать вам…
— Нет, маркиз, — ответила Жильберта, вставая, — мы больше никогда с вами не увидимся, в противном случае пришлось бы снова вас обманывать, а ложь для меня непереносима. Случай привел меня встретиться с вами, и я думала, что выполняю свой долг, оказывая вам услугу, — правда, весьма незначительную, но сделала я это от всего сердца. Дурного в том ничего не было, посудите сами: мне пришлось лгать поневоле, иначе вы не приняли бы мои заботы. К тому же батюшка взял с меня клятву, что я никогда не буду надоедать вам напоминаниями о его печали, о раскаянии в нанесенном вам когда-то оскорблении, о котором я ничего не знаю, ни о его любви к вам, горящей в его душе подобно открытой ране. Как часто лелеяла я мечту, пусть детскую, припасть к вашим ногам. «Мой отец страдает, — сказала бы я, — он несчастен из-за вас. Если он вас оскорбил, примите в искупление его вины мои слезы, мое смирение, мою покорность, даже мою жизнь! Но протяните ему руку, а потом попирайте меня. Я буду благословлять вас, только снимите с души батюшки горе, которое его гложет и преследует даже во сне». Да, когда-то я убаюкивала себя этой мечтой. Но я отказалась от нее — такова воля батюшки: он полагал, что я могу лишь усилить ваше нерасположение. Сегодня я отказываюсь от такой попытки больше чем когда-либо, видя ваше холодное равнодушие и отвращение, которое внушает вам мое имя. Итак, я удаляюсь. Молю вас простить отца! Я знаю, я уверена, что батюшка — жертва вашего несправедливого гнева. Но я приложу все усилия, чтобы рассеять и утешить его. А вы, маркиз, можете наказать меня за невинную хитрость, на какую я решилась сегодня, желая спасти здоровье, а может быть, и жизнь того, кто так дорог моему батюшке. Пусть моя тайна в ваших руках, ее открыли вам вопреки моей воле; но я не стыжусь, что вы узнали ее, ибо это тайна гордой души и любви, которую благословило ниспославшее мне ее небо. Не опасайтесь, что вы когда-либо увидите меня, маркиз, не бойтесь, что Жан, наш неосторожный, но великодушный друг, навлекший на себя ваше неудовольствие попыткой примирить нас, станет докучать вам напоминанием о семействе Шатобрен. Я сумею убедить его навсегда отказаться от этого намерения. Я удостоилась чести быть вашей гостьей, маркиз, и разрешите мне никогда не забывать сегодняшнего вечера. Вам не придется раскаиваться, ведь вы не были введены в заблуждение нашей ложью; и если это облегчит вашу ненависть, вы можете с позором прогнать со своих глаз дочь Антуана де Шатобрен.
— Как бы не так! — вскричал Жан Жапплу, беря за руку Жильберту и становясь между нею и маркизом. — Я один виноват, я пошел на эту ложь против ее воли. Я вбил себе в голову, что ей удастся примирить отца с вами. Вы упрямы, господин де Буагильбо, но, клянусь богом, вы не посмеете обидеть мою Жильберту! А не то я вспомню, как нынче перерубил вашу трость.
— Не говорите вздору, Жан, — холодно сказал господин де Буагильбо. — Сударыня, — обратился он к Жильберте, — разрешите предложить вам руку и довести вас до вашей коляски.
Жильберта согласилась, ее трясло как в лихорадке, но, подавая руку маркизу, она почувствовала, что и его рука дрожит, пожалуй, не меньше. Старик молча помог ей сесть в двуколку, и, так как было все еще очень холодно, хотя небо и прояснилось, он сказал:
— Вы вышли из натопленного помещения, а одеты слишком легко, я принесу вам что-нибудь накинуть.
Жильберта поблагодарила за внимание, но отказалась, сказав, что у нее есть плащ отца.
— Но плащ насквозь промок, а это еще опаснее, — возразил господин де Буагильбо и направился к домику.
— А ну его к черту, этого сумасшедшего старика! — воскликнул Жан, яростно хлестнув лошадь. — Довольно! Он меня разозлил, а толку я никакого не добился! Мне не терпится вырваться из его логова, ноги моей здесь больше не будет! Меня от одного его взгляда лихорадка трясет. Уберемся-ка отсюда подобру-поздорову.
— Так не годится, мы обязаны его подождать; неудобно, если он вынужден будет бежать за нами, — сказала Жильберта.
— Да неужто вы думаете, что он и в самом деле очень беспокоится, как бы вы не простудились? Он уже и думать-то о вас забыл. Так он и вернулся! А ну, Искорка, пошла!
Но когда они подъехали к калитке, она оказалась запертой, ключ от нее хранился у господина де Буагильбо, и им волей-неволей надо было либо его дожидаться, либо вернуться за ключом. Жан осыпал хозяина громкими проклятиями, как вдруг из темноты появился маркиз, он нес сверток, который и положил на колени Жильберты.
— Я вас заставил ждать, — сказал он. — Я никак не мог найти нужных вещей. Прошу вас оставить это себе, а также захватить безделушки — вы забыли их вместе с корзиночкой. Не слезайте, Жапплу, я сам открою калитку. — И, отпирая замок, он прибавил: — Я жду вас завтра, голубчик!
И маркиз протянул плотнику руку; тот замялся было, но все-таки пожал ее, так и не разобравшись в сумбурных порывах этой непоследовательной и встревоженной души.
— Мадемуазель де Шатобрен, — сказал затем маркиз слабым голосом, — протяните и вы мне руку на прощание.
Жильберта легко спрыгнула на землю, сняла перчатку, взяла обеими руками дрожавшую руку старика и, охваченная почтительной жалостью, поднесла ее к губам.
— Вы не хотите простить Антуана, простите же, по крайней мере, Жильберту, — сказала она.
Глухой стон вырвался из груди маркиза. Он сделал движение, как будто хотел коснуться губами лба Жильберты, но вдруг в ужасе отпрянул. Затем обхватил ее голову, сжал изо всех сил и после минутного колебания поцеловал золотистые волосы, на которые упала его слеза, холодная, как капля воды, скатившаяся с ледника; потом вдруг резко оттолкнул девушку и пошел по дорожке, закрыв лицо носовым платком; и сквозь хруст гравия под его неровными шагами, сквозь вой ветра, раскачивавшего верхушки осин, Жильберте почудилось, что она слышит рыдания старика.
XXXII Свадебный подарок
Неописуемо тяжелая и мучительная сцена этого необычайного прощания взволновала Жильберту до глубины души, и она тоже зарыдала.
— Полно, что случилось? — допрашивал Жан, погоняя Искорку к Шатобрену. — Вы, должно быть, решили выплакать все глаза! Право, уж не рехнулись ли вы, как наш старик, голубка моя Жильберта? То вы говорили рассудительно, прямо как мудрец, то вдруг стали малодушной, жалуетесь и плачете, словно малое дитя. Знаете, что я вам скажу: у господина де Буагильбо золотое сердце, но что бы ни говорили Эмиль и ваш папаша, у него наверняка не все дома. Полагаться на него нельзя, но не следует и отчаиваться… Может статься, вы никогда больше о нем не услышите, а может, в один прекрасный день, встретив господина Антуана, он расчувствуется и кинется ему на шею. Все будет зависеть от того, с какой ноги он встанет.
— Не знаю, что и подумать, — ответила Жильберта. — Я и в самом деле, вероятно, сошла бы с ума, если б жила с ним вместе. Он внушает мне невыносимый страх, а меж тем минутами я испытывала к нему непреодолимую нежность. То же чувствовал и Эмиль вначале, а кончилось тем, что он полюбил маркиза и перестал его бояться. Значит, все же его доброта берет верх над болезненными причудами.
— Об этом мы еще поговорим, — ответил плотник. — Придется мне, видно, пойти завтра к господину де Буагильбо и разобраться хорошенько в его характере.
— Но ты же знал его когда-то так хорошо! Разве он был другим?
— О, маркиз сильно изменился к худшему. Раньше, бывало, он все грустит да молчит. Ну, случалось, иной раз и вспылит немного. Но он был отходчив — рассердится, а потом станет еще добрее. Он и теперь такой же, пожалуй, но только прежде на него накатывало раз или два в году, а теперь раз или два на день. Он стал и злее, и добрее.
— Он выглядит таким несчастным! — сказала Жильберта, сердце ее сжималось при воспоминании о рыданиях маркиза, отголоски которых еще звучали у нее в ушах.
Жанилла и Антуан сгорали от нетерпения, поджидая Жильберту. Сообщение Шарассона повергло их в величайшее изумление, и, заподозрив, что мальчишка что-нибудь перепутал или же обманывает, желая скрыть от них несчастье, приключившееся с Жильбертой, они поспешили к тетушке Марло, чтобы узнать у нее всю правду. Рассказ старухи рассеял их беспокойство, но мало что объяснил. Жанилла гневалась на плотника, не ожидая ничего доброго от его безумной затеи. Антуан также тревожился, но вскоре его легкомысленная натура взяла верх, и он начал строить тысячи воздушных замков, один другого великолепнее.
— Жанилла, — говорил он, — наша дочка и Жан могут вдвоем сотворить чудо. А что ты скажешь, если вдруг мы увидим, как они возвращаются вместе с Буагильбо?
— Ну и неразумная у вас голова! — отвечала Жанилла. — Вы забываете, что это невозможно. Да этот старый нелюдим, чего доброго, свернет шею нашей девочке, а слушать ничего не захочет. Вдобавок, какие оправдания могут они с Жаном привести, раз сами ничего не знают?
— Вот именно, поэтому все и удастся! Больше всего на свете Буагильбо боится, как бы мы не открыли тайны нашим домашним. Увы, уязвленная гордость, не менее чем обманутая дружба, повинна в том, что он превратился в недоверчивого и несчастного человека. Бедный маркиз! Но, быть может, чистота Жильберты и прямодушие Жана смягчат его сердце. Если бы только он простил мне то, чего я сам никогда не забуду.
— И вы еще жалуетесь, имея такое сокровище, как Жильберта! Но не надейтесь, что она приручит маркиза. Нет, нет! Он никогда не приедет в Шатобрен, да и прекрасный сынок господина Кардонне тоже, так что наши развалины никогда их не увидят.
— Эмиль возвратится с согласия своего отца или не вернется вовсе, Жанилла, я тебе в том ручаюсь. Пока же его поведение заслуживает всяческих похвал: ведь Жан объяснил нам это сегодня утром.
— Значит, вы ничего не поняли вроде меня, а по слабости сделали вид, будто вас убедили. Впрочем, вы всегда были такой. Ну что вы восхваляете примерное поведение этого проклятого Эмиля? Как же вы не видите, что только зря сбиваете девочку с толку! Вы бы лучше внушили ей отвращение к нему, доказали бы, что он вертопрах и ее не любит.
Их спор был прерван знакомым цоканьем копыт Искорки, которая, обогнув скалу, трусила рысцой по дороге к замку. Старики выбежали навстречу Жильберте; и когда прошли первые минуты, заполненные нетерпеливыми расспросами и невразумительными ответами, Жанилла вдруг заметила сверток, который Жильберта держала в руках.
— Что это у тебя? — спросила Жанилла, вынимая из свертка и разворачивая великолепную небесно-голубую индийскую кашемировую шаль, всю расшитую золотом, — Да ведь это же королевский наряд!
— Ах, боже праведный! — вскричал побледневший господин Антуан, дотронувшись до шали дрожащей рукой. — Да, это она!
— А это еще что за коробочка? — спросила Жанилла, открывая футляр, выпавший из шали.
— Это, наверное, камни, — сказала Жильберта. — Кристаллы с Монблана, маркиз собственноручно собрал их во время путешествия.
— Нет, нет, ты ошибаешься, — возразил плотник, — они блестят совсем по-иному. Взгляните-ка!
И удивленная Жильберта увидела ожерелье из крупных, ослепительно сверкающих бриллиантов.
— Боже мой, боже мой, я узнаю и их! — в неописуемом волнении бормотал господин де Шатобрен.
— Замолчите же, сударь! — сказала Жанилла, толкая его локтем. — Вы знаете толк в бриллиантах и шалях, не спорю! Ведь вы были достаточно богаты и когда-то немало повидали всяких роскошных вещей. Но разве поэтому надо так громко кричать и мешать нам ими любоваться? Вот славно! Дочка, ты не потеряла времени даром! Этого, пожалуй, хватит, чтобы отстроить наш замок. Оказывается, господин де Буагильбо не такой уж скаред, как я думала.
Жильберта, видевшая в своей жизни очень мало бриллиантов, настаивала, что это ожерелье из граненого горного хрусталя, но господин де Шатобрен, внимательно осмотрев застежку и камни, уложил ожерелье в футляр, повторяя рассеянно и печально:
— Здесь бриллиантов на сто тысяч франков с лишком. Господин де Буагильбо дает тебе приданое, дочка!
— Сто тысяч франков! — воскликнула Жанилла. — Сто тысяч франков! Да знаете ли вы, что говорите, сударь? Возможно ли?
— Эти блестящие бусинки стоят такую уйму денег? — спросил Жапплу с наивным удивлением, но без малейшей алчности. — И они хранятся вот так, в маленькой коробочке, и никому от них нет пользы?
— Их носят, — сказала Жанилла, надевая ожерелье на шею Жильберты, — и, поверь мне, они очень красят. Набрось-ка шаль, дочка! Да не так! Я видела в Париже, как дамы носят такие вот шали, но, хоть убей, не припомню, каким это манером они в них завертываются.
— Может быть, это очень красиво, но весьма неудобно, — возразила Жильберта, — В этой шали и с драгоценностями я похожа на ряженую. Давай-ка сложим и спрячем их, а завтра отправим господину де Буагильбо. Он, очевидно, ошибся в потемках. Маркиз хотел дать мне безделушки, а положил свадебные подарки своей жены.
— Верно, — промолвил плотник, — он ошибся. Кто же дарит обноски покойной жены чужим женщинам! Да он рехнулся, бедняга! Оказывается, не только вы, господин Антуан, бываете рассеянны!
— Нет, он не ошибся, — заметил господин Антуан. — Маркиз знал, что делает, и Жильберта может оставить у себя эти подарки.
— Еще бы, я думаю! — вскричала Жанилла. — Они принадлежат ей, ведь правда, господин Антуан? Все это принадлежит Жильберте по праву… раз господин де Буагильбо дарит их ей.
— Но это невозможно, батюшка! Мне они совсем не нужны, — проговорила Жильберта. — Что я буду с ними делать? Хороша я буду в нашей двуколке, в ситцевом платье, увешанная бриллиантами, да еще в кашемировой шали на плечах!
— Вот именно! Уж народ и потешится, глядя на вас, а наши дамочки прямо лопнут от зависти, — сказал плотник. — Да вдобавок все вертопрахи будут налетать на ваши бриллианты — они, не разбираясь, кидаются, как майские жуки, на все, что блестит. Если господин де Буагильбо хотел вам дать приданое и тем доказать, что помирился с господином Антуаном, лучше бы он подарил вам небольшую мызу да восьмерку быков.
— Быки — это, конечно, неплохо, да и мыза тоже… — сказала Жанилла, — но такие вот сверкающие камешки — все равно что деньги, на них можно расширить флигель, прикупить землю, обеспечить себе две-три тысячи ливров дохода и найти мужа, который сам имеет столько же. Тогда можно спокойно прожить остаток дней и посмеяться всласть над господами Кардонне, папашей и сынком!
— И в самом деле, — заметил господин Антуан, — вот твое будущее и обеспечено, дочка! О, господин де Буагильбо благороднейший из мстителей. Я был прав, защищая его от твоих нападок, Жанилла. Неужели и теперь ты осмелишься утверждать, что он дурной и злой человек?
— Нет, нет, сударь! В нем есть доброта, это я признаю. Ну, а теперь расскажите-ка нам, как все произошло.
Рассказов хватило до полуночи. Вспоминали малейшие подробности, обсуждали на тысячу ладов, как поведет себя в дальнейшем маркиз в отношении господина Антуана. Жан Жапплу, увидев, что засиделся допоздна, заночевал в Шатобрене. Господин Антуан заснул в мечтах о будущем счастье, а старуха Жанилла — в мечтах о будущем богатстве. Она позабыла об Эмиле и недавних горестях.
«Все это пройдет, — думала она, — а сто тысяч франков при нас останутся. Теперь, когда мы будем владельцами славного именьица, никакие Галюше к нам больше не сунутся!» И она перебирала в уме всех местных дворян, которые, по ее мнению, могли бы составить счастье Жильберты.
«А если к нам посватается кто попроще, — думала Жанилла, — так пусть у него будет недвижимого имущества не меньше, чем на двести тысяч франков». И она положила под подушку ключ от шкафа, в котором заперла приданое Жильберты.
Позже всех уснула разбитая от усталости Жильберта и перед сном успела принять важное решение. На другой день, потихоньку от Жаниллы, она долго беседовала с отцом, затем выпросила у Жаниллы подарки господина де Буагильбо и унесла их в свою комнату, чтобы рассмотреть хорошенько на досуге, как она заявила. Старушка доверчиво отдала шаль и ожерелье, а Жильберта решила на сей раз утаить свои истинные намерения от упрямой воспитательницы. Затем молодая девушка написала длинное письмо и показала его отцу.
— Ты поступила правильно, дочка, — сказал тот с глубоким вздохом, — но берегись, как бы не узнала Жанилла.
— Не бойтесь, дорогой батюшка, — ответила девушка. — Мы скроем от нее, что я действовала в согласии с вами, и весь ее гнев обрушится на меня одну.
— Теперь, — продолжал господин Антуан, — придется подождать Жана, потому что эти вещи нельзя доверить такому ветрогону, как наш уважаемый Шарассон.
Жильберта ожидала прихода плотника с тем большим нетерпением, что рассчитывала получить от него хоть какие-нибудь сведения об Эмиле. Она не знала, что Эмиль болен. Но при мысли об его страданиях испытывала такую тревогу, что забывала о собственных горестях, и дни предстоящей разлуки с ним, которую, как ей мыслилось, она сможет мужественно перенести, казались ей теперь долгими и мрачными, и она с ужасом спрашивала себя, выдержит ли Эмиль это тяжелое испытание. Жильберта утешалась надеждой, что вопреки ее запрещению Эмиль все же найдет способ ей написать или что, по крайней мере, Жан передаст ей свою беседу с ним от слова до слова.
Но плотник все не приходил, и наступивший вечер не принес Жильберте утешения. К ее тайной горести прибавилась еще неприятность: господина Антуана, вначале, казалось, вполне одобрявшего принятое ею решение отказаться от даров господина де Буагильбо, вдруг стали одолевать сомнения; он то и дело порывался посоветоваться с Жаниллой, без которой вот уже двадцать лет не принимал ни одного решения. И Жильберта трепетала при мысли, что властное вето старухи разрушит задуманный ею план.
На следующий день плотник также не явился. Он, конечно, работал у господина де Буагильбо, и Жильберта удивлялась, как это, находясь так близко от Шатобрена, он не догадывался, что нужен ей, что ей надо поговорить с ним хоть пять минут. Смутное беспокойство влекло ее в сторону имения Буагильбо. Она направилась к хижине тетушки Марло и, как обычно, положила в корзиночку скромные лакомства, которых лишала себя за обедом ради больных детей. Но, боясь, как бы в ее отсутствие господин де Шатобрен не открылся Жанилле и та, чего доброго, не заперла бы драгоценности на замок, Жильберта завернула ожерелье и шаль и спрятала на дно корзинки, решив больше не выпускать их из рук, пока не вернет подарки по назначению.
Как истая деревенская жительница, и к тому же дочь небогатых родителей, Жильберта привыкла ходить одна по окрестностям. Бедность освобождает от излишних условностей, и, очевидно, добродетель богатых девиц считается более хрупкой и драгоценной, чем добродетель бедных, ибо первые шагу ступить не могут без провожатых. Жильберта шла пешком, одна, спокойно и уверенно, как ходят крестьянки; и действительно, ей нечего было опасаться еще и потому, что все, кого она встречала или могла встретить на своем пути, ее знали, любили и уважали.
Она не боялась ни собак, ни коров, ни ужей, ни вырвавшегося на свободу жеребенка. Деревенские ребята обычно умеют избегать этих маленьких опасностей — требуется ведь только некоторое присутствие духа и немного хладнокровия. Потому-то Жильберта брала с собой шатобренского пажа и разъезжала на знаменитой таратайке, только когда угрожало ненастье или если она торопилась поскорее вернуться домой. А сейчас солнце еще сияло в ясном небе, дороги были сухи, и она легким шагом шла среди лугов. Если идти по проселочной дороге, хижина тетушки Марло окажется как раз на полпути между Шатобреном и владениями маркиза.
Дети уже почти поправились, и Жильберта решила не засиживаться. Тетушка Марло рассказала, что в день их встречи маркиз оставил ей сто франков, и сообщила, что Жан Жапплу работает в парке в деревянном домике: она издали видела, как он проходил, нагруженный плотничьим инструментом.
Жильберта подумала, что в таком случае есть надежда встретить плотника, когда он будет возвращаться в Гаржилес, и решила подождать его до захода солнца на дороге, по которой он обычно ходил. Боясь, что ее увидят и узнают, когда она приблизится к парку, Жильберта попросила у тетушки Марло ее накидку из грубой шерстяной ткани, сославшись на вечернюю прохладу и легкое недомогание. Укутавшись в накидку и прикрыв капюшоном свои золотые кудри, она направилась кратчайшей тропинкой к поместью и, пробравшись, как лань, сквозь кустарник, дошла до решетки парка, выходившей на дорогу в Гаржилес. Миновав заросли ивняка, неподалеку от того места, где речка подходила к самому парку, она заметила, что калитка еще не заперта, — верное доказательство того, что господина де Буагильбо не было в парке; в противном случае все входы тщательно закрывались, и эту привычку нелюдимого старика хорошо знали местные жители.
Это наблюдение придало смелости Жильберте, и она подошла поближе в надежде увидеть Жана Жапплу. Внезапно она увидела крышу домика — он стоял совсем рядом. Дорожка была темна и пустынна.
Легкая, как птица, Жильберта осторожно скользнула в парк, уверенная, что ее не узнают в таком одеянии. Девушка рассчитывала, что, если Жан окажется один, она подаст ему знак и успокоит наконец свое мучительное нетерпение, расспросив об Эмиле.
Сквозь полуоткрытые двери домика виднелась пустая комната. На полу в беспорядке валялся плотничий инструмент. Кругом царила глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Жильберта прошла на цыпочках и положила на стол сверток и письмо. Затем, пораздумав, она решила, что опасно оставлять такие ценные вещи на самом виду, и, осмотревшись, взялась за ручку двери, приняв ее за дверцу стенного шкафа; заметив, что замок снят, она верно рассудила, что Жан как раз занят его починкой и, без сомнения, скоро вернется, чтобы закончить работу, и, конечно, лучше всего доверить ценности самому верному своему другу. Но когда она потянула дверцу шкафа, чтобы положить туда сверток, перед ней вдруг открылся кабинет, где вперемежку валялись книги и бумаги, а прямо напротив двери висел на стене большой женский портрет.
Жильберте достаточно было бросить один-единственный взгляд, чтобы узнать в прекрасной даме оригинал миниатюры, с которой не расставался ее отец и которую она считала изображением своей матери-незнакомки, давшей ей жизнь. Возможно, что поначалу лицо дамы на миниатюре и не поражало сходством с той, что была изображена на портрете, но поза, костюм и голубая шаль, которую Жильберта как раз держала в руках, свидетельствовали, что миниатюра сделана одновременно с портретом или, вернее, является его уменьшенной копией. Девушка подавила возглас удивления; и так как ее целомудренное воображение не могло даже допустить возможности супружеской измены, она стала себя убеждать, что находится в близком родстве с господином Буагильбо, что она его племянница, а быть может, внучка, что она плод тайного брака, о каких пишут в романах. Внезапно Жильберте показалось, что она слышит чьи-то шаги наверху; она в страхе бросила сверток на камин и стремительно выбежала из домика.
XXXIII История одного, рассказанная другим
Через несколько минут после бегства Жильберты Жан, в сопровождении господина Буагильбо, который дожидался его ухода, чтобы приказать запереть все калитки, вернулся в кабинет, где требовалось вставить замок. Плотник заметил, с каким беспокойством маркиз наблюдает за каждым его прикосновением к заветной двери. Жан не терпел, когда его подозревали в нескромности; он резко поднял голову и с обычной своей откровенностью заявил:
— Тьфу, пропасть! Господин де Буагильбо, вы, видно, боитесь, как бы я не подсмотрел, что вы там запрятали! Ну подумайте сами: я тут копаюсь уже целый час, в моей власти было заглянуть туда, но я совсем не любопытен, и лучше бы вы прямо сказали: «Закрой глаза, Жан», чем ходить за мной по пятам.
Господин де Буагильбо изменился в лице и нахмурил брови. Он мельком заглянул в кабинет, увидел, что от сквозного ветра свалился большой кусок зеленого холста, которым он довольно неумело прикрыл портрет, и понял, что Жан должен был его увидеть, если только он не окончательно слеп. Тогда маркиз решился — он широко распахнул двери и сказал с деланным спокойствием:
— Я ничего не прячу, можешь смотреть, сколько тебе вздумается.
— Ну, мне не очень-то интересны ваши толстенные книги, — ответил, смеясь, плотник. — Ничего я в них не смыслю и дивлюсь только, зачем это понадобилось написать столько слов, чтобы научить людей жизни. А-а, вот портрет вашей покойной супруги. Узнаю. Да, это она! Вы, значит, приказали перенести портрет маркизы сюда? В мое время он висел в замке.
— Я велел перенести портрет сюда, чтобы постоянно иметь его перед глазами, — грустно сказал маркиз. — И что же! С тех пор как он здесь, я почти не смотрю на него. Я стараюсь бывать в кабинете как можно реже и если боялся, что ты увидишь портрет, то лишь потому, что мне самому страшно его видеть. Мне слишком больно. Закрой дверь, если это не мешает тебе работать.
— И вдобавок вы боитесь, чтобы вас не заставили рассказать о вашем горе. Понимаю и, судя по вашим словам, готов об заклад побиться, что вы еще не утешились после смерти жены. Ну что же, это точь-в-точь как я сам. Не стесняйтесь меня, господин де Буагильбо; как я ни стар, а в груди у меня, вот здесь, до сих пор сердце заходится, как подумаю, что я совсем один на свете! А ведь я человек веселый, и не сказать, чтоб был особенно счастлив в браке. Что поделаешь! Это сильнее меня! И любил же я свою жену!.. Дело прошлое! Сам черт не мог бы мне помешать ее любить!
— Друг мой, — сказал, смягчаясь, господин де Буагильбо: он все думал о своем горе, — ты был любим, так не жалуйся! И ты имел счастье быть отцом! Что с твоим сыном? Где он?
— В земле… там, где и жена.
— Я этого не знал… слышал только, что ты овдовел… Бедный Жан, прости, что я напомнил тебе о твоих несчастьях! Мне жаль тебя от всей души. Иметь ребенка и потерять его!..
Маркиз положил руку на плечо плотника, который возился с починкой паркета, и на лице господина Буагильбо можно было прочесть, что творится в его доброй душе. Жан выронил рубанок и привстал на одно колено.
— Знаете ли вы, господин де Буагильбо, что я был еще несчастнее, чем вы, — не сдержавшись, сказал он, — вы даже представить себе не можете, сколько я выстрадал…
— Расскажи мне, тебе станет легче, я пойму.
— Хорошо, вам я все расскажу, вы человек ученый… Кому, как не вам, судить о людях и их делах, — конечно, только когда вы не блажите. Я вам, пожалуй, признаюсь в том, что знают многие в наших краях, но сам я до сих пор ни с кем об этом не говорил. Чудная у меня была жизнь, право… И любила меня жена и не любила. Был у меня сын, но не уверен я, что прихожусь ему отцом.
— Да что ты? Не надо об этом! О таких вещах не следует говорить, — произнес потрясенный маркиз.
— Верно, не следует, пока все болит! А в наши с вами годы можно обо всем говорить, ведь вы не из тех дурачков, которые только и умеют, что смеяться над ближним, над самым тяжким его горем. Вы не насмешник, не злой человек. Скажите мне сами, был я виноват или нет, вел ли себя плохо, поступал как человек или как зверь и как бы вы поступили на моем месте? Ведь в те времена меня осуждал всякий и, не будь у меня тяжелой руки да острого языка, всякий рад бы посмеяться мне прямо в лицо. Посудите сами! Жена моя, бедняжка Нанни, полюбила моего друга, красивого парня и хорошего товарища, честное слово. Но она, однако, любила и меня. Черт побери! Не знаю уж, как это случилось, но в один прекрасный день оказалось, что мой сын больше похож на Пьера, чем на Жана! Сходство бросалось в глаза, сударь! Были минуты, когда мне хотелось отколотить Нанни, задушить ребенка, проломить череп Пьеру. А потом… потом… я смолчал, только плакал и молился богу. До чего же я страдал! Я колотил жену за то, что она, мол, плохо ведет хозяйство, драл за уши малыша за то, что он, мол, слишком шумит, задирал Пьера из-за партии в кегли и чуть было не переломал ему ноги кегельным шаром. А когда они плакали, плакал и я и чувствовал, что я подлец подлецом! Я воспитал сына и оплакивал его; похоронил жену и оплакиваю ее по сей час. Но друг у меня остался, и я все еще люблю его. Вот как все повернулось! Что вы на это скажете?
Господин де Буагильбо не ответил. Он ходил по комнате, и паркет скрипел под его шагами.
— Бьюсь об заклад, что вы считаете меня трусом и дураком! — сказал плотник, подымаясь с пола. — Но, по крайней мере, вы убедились, что вашим горестям до моих далеко.
Маркиз молча опустился в кресло. Слезы медленно катились по его щекам.
— Но почему вы плачете, господин де Буагильбо? Что же, и мне прикажете плакать? Так у нас с вами и слез не хватит! В свое время я столько их пролил от гнева и горя, что не осталось у меня ни одной слезинки, ручаюсь чем хотите! Ну же, ну! Поминайте без горечи свое прошлое и предоставьте богу настоящее, потому что есть люди более обиженные судьбой, чем вы. Ваша супруга была дама красивая и умная, хорошо воспитанная, спокойная, вежливая. Может быть, вы не видали от нее столько ласки и участия, сколько я от своей Нанни, но жена хоть не обманывала вас, вы были в ней уверены, недаром отпускали ее в Париж одну, когда ей того хотелось, и не ревновали — ведь для ревности у вас повода не было. А меня днем и ночью терзала ревность, будто тысячи бесов жгли мне грудь! И я следил, подсматривал, скрывал, что ревную, и стыдился этого, а как мучился! И чем больше я наблюдал, тем яснее видел, как ловко меня обманывают. И никогда я не мог их поймать. Нанни была похитрее меня, и я только зря тратил время, выслеживая ее, а она еще устраивала мне сцены за то, что я, мол, ей не верю. Когда ребенок подрос и стало видно, на кого он похож, и я понял, что не на меня… что же вы думаете… мне казалось, я ума решусь! Ведь я любил и баловал его, работал, чтобы прокормить его, дрожал от страха, когда он набивал себе шишки, привык видеть, как он возится возле моего верстака, сидит верхом на моих бревнах и, забавляясь, тупит мой инструмент. У меня ведь он один-единственный был! Я считал его своим сыном. Других детей мне бог не дал. Да что там!.. Не мог я жить без мальчугана. А этот чертов мальчишка как меня любил! Так, бывало, ко мне ластился. Был такой умненький! Когда я его бранил и он плакал, у меня сердце разрывалось. Под конец я уж и забыл свои подозрения, убедил себя, что я его отец, и, когда на войне его скосила пуля, я и сам хотел руки на себя наложить. До чего же он был красивый и храбрый, и на работу спорый, и солдат примерный! А разве его вина, что он не был моим сыном? Да останься он в живых, я бы счастливым человеком был, — работали бы мы с ним вместе, не старился бы я в одиночестве! Было бы мне с кем коротать время, поболтать вечером после рабочего дня, было бы кому ухаживать за мной, когда я болен, укладывать меня в постель, если я выпью. Он мог бы говорить со мной о матери, а ведь я не осмеливаюсь никогда ни с кем о Нанни говорить… все, кроме него одного, знали о моем несчастье. Полноте, полноте, господин де Буагильбо, вам не пришлось перенести такого горя! Вам-то не подсунули наследника, и если вы не имели от него пользы, то хоть и позора не знали!
— Да и не сумел бы это перенести с таким достоинством, как ты! — сказал маркиз. — Жан, открой дверь, я хочу смотреть на портрет маркизы. Ты вдохнул в меня бодрость, сделал доброе дело. Я был безумцем, когда прогнал тебя. С тобой я не стал бы таким сумасбродом. Я думал, что изгоняю от себя врага, а лишился друга.
— Но какого черта! Почему вы считаете меня врагом? — возмутился Жапплу.
— Ты ничего не знаешь? — спросил маркиз, устремив на плотника пронизывающий взгляд.
— Ничего, — твердо ответил плотник.
— Клянешься честью? — спросил господин де Буагильбо, с силой сжимая его плечо.
— Клянусь вечным спасением! — ответил Жан с достоинством, поднимая руку к небу. — Надеюсь, вы хоть сейчас мне все расскажете.
Маркиз, казалось, не слышал этих решительных и искренних слов. Он почувствовал, что Жан говорит правду. Опустившись в кресло, он повернулся к открытой двери в кабинет и с глубокой грустью стал глядеть на портрет маркизы.
— Ты не перестал любить жену, — сказал он, — простил невинному ребенку — это я понимаю… Но как ты мог встречаться с другом, который тебя предал, и терпеть его — вот это непостижимо!
— Ах, господин де Буагильбо, это и в самом деле труднее всего! Вдобавок, никто меня к этому не понуждал, и, переломай я ему ребра, все были бы на моей стороне! Но знаете, что меня обезоружило? Я увидел, что он искренне раскаивается и сильно горюет. Пока Пьер был одержим любовной горячкой, он переступил бы через мой труп, лишь бы соединиться со своей любовницей. Она была и впрямь хороша, словно майская роза! Не знаю, видели вы ее, помните ли, — знаю одно: Нанни была почти красавица; не похожа на госпожу де Буагильбо, а, пожалуй, не хуже. Я с ума сходил по ней, да и он тоже! Он стал бы язычником ради нее, а я… стал дураком. Но когда молодость прошла, я увидел, что они уже охладели друг к другу и стыдятся своей вины. Жена снова стала меня любить — за мою доброту, за то, что я все ей простил, а он… грех лежал такой тяжестью на его душе, что, когда, бывало, мы выпивали вместе, он все порывался покаяться мне. Но я не хотел слушать. Бывало, стоит передо мной на коленях и вопит как сумасшедший:
«Убей меня, Жан! Убей меня! Я заслужил это, так мне и надо!»
В трезвом виде он не вспоминал об этом, но дал бы себя изрубить на куски ради меня. А сейчас он самый лучший мой друг после господина Антуана. Той, что была причиной наших страданий, уже больше нет в живых, а дружба осталась. Из-за него-то у меня и были неприятности в суде, и чуть я не стал, как вы видели, бродягой. И что бы вы думали! Он работал на моих заказчиков, чтобы сохранить их для меня, отдавал деньги, а потом вернул и самих заказчиков. Все, что у него есть, он готов разделить со мной, а так как он моложе меня, то, надеюсь, в смертный час закроет мне глаза. Это уж его долг. Но в конце концов, сдается мне, и люблю-то я его как раз за то зло, что он причинил мне, за то, что у меня достало силы простить его.
— Да, да, — повторил господин де Буагильбо, — чтобы достичь высшего благородства, не следует бояться быть смешным.
Он тихонько прикрыл дверь кабинета, а когда вновь подошел к камину, в глаза ему бросился сверток и письмо, которое гласило:
«Господин маркиз!
Я обещала, что Вы никогда больше обо мне не услышите, но Вы сами вынудили меня напомнить Вам о моем существовании — надеюсь, в последний раз.
Вы дали мне вещи столь значительной ценности, вероятно, по ошибке или желая подать мне милостыню.
Я не постыдилась бы прибегнуть к Вашей доброте, когда была бы вынуждена просить о ней; но Вы ошиблись, маркиз, считая меня нищей.
Мы живем в достатке, принимая во внимание наши скромные потребности и вкусы. Вы богаты и великодушны — я поступила бы опрометчиво, приняв благодеяния, которые Вы можете обратить на других. Взять Ваш дар — значило бы обокрасть бедных.
Единственное, что мне было бы приятно унести из Вашего дома, даже заплатив за это своей кровью, — это слово прощения, слово дружбы для моего отца, зачеркивающее все прошлые недоразумения… Ах, сударь, Вы не знаете, как может страдать сердце дочери, когда она видит, что ее отец несправедливо обвинен, и не знает, как оправдать его. Вы не захотели облегчить мою задачу, Вы упорно хранили молчание о причине вашей распри. Но как Вы не поняли, что при таких обстоятельствах я не могу принять от Вас подарок и пользоваться Вашей добротой!
Однако я сохраню маленький сердоликовый перстень, который Вы надели мне на палец, когда я вошла к Вам под вымышленным именем. «Это предмет не ценный, — сказали Вы мне, — это память о моих путешествиях…» Он дорог мне, хотя и не является залогом примирения, какое Вы могли бы мне даровать. Но он будет напоминать о той сладкой и страшной минуте, когда я почувствовала, что сердце мое устремилось к Вам, хотя надежды мои оказались напрасными и тотчас угасли… Меж тем я должна бы ненавидеть Вас, ненавидящего моего отца, которого я обожаю. Сама не знаю почему, но я возвращаю Ваши подарки без чувства оскорбленной гордости и не знаю, почему я отказываюсь от Вашей дружбы с такой глубокой болью.
Примите же, маркиз, почтительные чувства
Жильберты де Шатобрен».
XXXIV Воскресение
— Это ты, Жан, принес сюда сверток и письмо? — спросил господин де Буагильбо.
— Нет, сударь, я ничего не приносил и не знаю, откуда они, — искренне удивился плотник.
— Как я могу тебе верить, — продолжал маркиз, — когда третьего дня ты лгал, смело представляя мне некую особу под вымышленным именем?
— Третьего дня я лгал, но клятвы не давал. А нынче клянусь. Я не видел никого и не знаю, кто принес сверток. Но раз уж вы первый заговорили о том, что произошло третьего дня, — сам-то я не осмелился бы, — так позвольте же вам сказать, что бедняжка на обратном пути не осушала слез, думая о вас, и что…
— Молю тебя, Жан, не говори мне об этой девушке и об ее отце. Я обещал тебе, что заговорю о ней сам, когда придет время, а ты обещал не мучить меня. Подожди, пока я тебя сам спрошу.
— Пусть будет так! А вдруг вы заставите меня ждать чересчур долго и я потеряю терпение, что тогда?
— Быть может, я никогда не заговорю. Не расспрашивай меня больше, — сказал маркиз с нескрываемым раздражением.
— Это не годится! — возразил плотник. — Мы так не договаривались!
— Ну хорошо! Отправляйся домой, — сухо сказал господин де Буагильбо. — Работу ты уже закончил, от ужина отказываешься, Эмиль, конечно, ждет тебя с нетерпением. Скажи ему, чтобы он не падал духом и что я скоро навещу его. Скоро… может быть, завтра.
— Если вы собираетесь поступить с ним так, как поступаете со мной: откажетесь с ним говорить о Жильберте и ему не позволите — какая ему польза от вашего посещения? Так его не излечишь!
— Жан, не выводи меня из терпения! Не мучай меня! Уходи, пожалуйста!
«Так, так, — подумал плотник. — Ветер меняется. Подождем, пока выглянет солнышко».
Он надел куртку и направился к двери. Господин де Буагильбо вышел, чтобы самолично запереть за ним калитку. Еще не совсем стемнело. Маркиз различил на разрыхленном граблями песке следы маленькой женской ножки, два ряда следов: это Жильберта проходила здесь к деревянному домику и той же дорогой возвращалась обратно. Он не поделился своими наблюдениями с плотником, а тот ничего не заметил.
Между тем Жильберта все ждала и ждала. Солнце уже минут десять, как зашло, и время, казалось ей, тянулось томительно долго. Сгустившийся сумрак и опасение встретить кого-нибудь из обитателей замка увеличивали ее беспокойство и нетерпение. Она отважилась выйти из своего убежища и пошла вниз по реке, стараясь не упускать из виду дороги. Но едва она очутилась на открытом месте, как услышала позади себя шаги и поспешно обернулась: за ней следовал с неизменной удочкой на плече Констан Галюше, возвращавшийся в Гаржилес.
Жильберта опустила капюшон, но все же знаменитый ловец пескарей успел заметить золотой локон, блеск голубых глаз, розовую щечку. Впрочем, трудно было ошибиться на таком расстоянии. Да и походка у Жильберты была иная, чем у крестьянских девушек, а из-под грубой шерстяной накидки виднелся подол легкого платья и изящная ножка, обутая в прочный, плотно облегающий башмачок. Констана Галюше весьма взволновала эта встреча. Он слишком презирал крестьянок и конечно уж не снисходил до того, чтобы увиваться за ними во время своих рыболовных вылазок. Но его аристократическое сердце дрогнуло при виде переодетой барышни; к тому же что-то подсказывало ему, кто обладательница этих непокорных золотых кудрей, и Констан решительно двинулся за встревоженной Жильбертой.
Он шел за ней буквально по пятам, то отставал, то забегал сбоку, то замедлял, то ускорял шаг — словом, все уловки Жильберты, пытавшейся остаться позади или обогнать Галюше, ни к чему не приводили. Он останавливался, когда останавливалась она, наклонялся к ней и, порой почти задевая, дерзко и с любопытством заглядывал под капюшон.
Напрасно девушка обеспокоенно озиралась по сторонам в надежде обнаружить какое-нибудь жилье, где она могла бы укрыться: вокруг были пустынные луга, и ей оставалось только продолжать путь в Гаржилес, в расчете на то, что плотник нагонит ее и освободит от назойливого провожатого. Но никто не появлялся, и Жильберта, не в силах дольше выносить преследование, приостановилась, заглянула в свою корзиночку, будто позабыла или потеряла что-то, затем быстро повернулась и пошла обратно к парку, уверенная, что Галюше, которому незачем было идти в Буагильбо, не посмеет следовать за ней.
Но было слишком поздно. Констан ее узнал, и его охватило желание подло отомстить.
— Эй, прелестная крестьяночка! — сказал Галюше, настигая ее. — Что это вы там ищете, откройте мне вашу тайну! Не могу ли я вам помочь? Вы молчите! Ага, понимаю! Вы назначили здесь свидание с милым, и я вам помешал. Но что поделаешь! Раз уж молодые девушки разгуливают одни по вечерам, пусть пеняют на себя, если встретят одного поклонника вместо другого. А кто первый пришел, тот и нашел! Не будьте столь разборчивы, ночью все кошки серы! Разрешите предложить вам руку. Если вы не встретили того, кто вам нужен, мы постараемся его заменить и не ударим в грязь лицом.
Жильберта, испуганная грубостью письмоводителя, пустилась бежать. Легкая и более проворная, чем Галюше, она неожиданно для него порхнула в кусты и, забравшись в самую чащу, решила, что опасность миновала; но преследователь пришел в ярость, увидя, как стремительно ускользнула его жертва. Не обращая внимания на хлеставшие его ветки, он в три прыжка очутился подле нее, как раз напротив калитки, ведущей в парк Буагильбо.
— Черт возьми! — заорал он, ухватив ее за накидку, — Надо же мне знать, стоите ли вы того, чтобы рвать из-за вас в клочья сюртук. Если вы уродливы, вам нечего бежать, милочка: я вами не прельщусь! Но если вы молоды и привлекательны, берегитесь, барышня!
Жильберта отбивалась, колотя по лицу и рукам Галюше своей корзиночкой; но силы были слишком неравны: он яростно ухватился за капюшон и едва не оцарапал ее крючком накидки.
В эту минуту двое мужчин показались у калитки парка, и Жильберта, сделав отчаянное усилие, вырвалась из рук Галюше и бросилась за помощью к тому, кто шел впереди; ее принял в свои объятия господин де Буагильбо.
Девушка, едва не лишившаяся чувств от страха и негодования, прижалась лицом к груди маркиза, так что ни господин де Буагильбо, ни плотник не узнали ее. Но последний, заметив обратившегося в бегство Галюше, почувствовал, как в груди его проснулась затихшая было злоба против приближенного господина Кардонне, и бросился за ним. Толстый и низенький Галюше, хотя и был значительно моложе Жана, уступал ему в ловкости и силе.
Видя, что ему не уйти, Галюше, понадеявшись на свои мускулы, решил принять бой.
Противники схватились. Галюше, довольно крепко сложенный, выдержал первый натиск, но Жан недаром слыл силачом — он швырнул Галюше на землю, у самой воды.
— Ага, тебе мало шпионить за добрыми людьми! — воскликнул Жан, упершись коленом в грудь Галюше и так сдавив ему глотку, что побежденный бессильно разжал руки. — Ты еще и оскорбляешь женщин, подлый холуй? Следовало бы раздавить тебя, как клопа, но с тебя, труса, станется потащить меня в суд. Нет, дружок, этого ты не дождешься. Я сумею тебя так отделать, что даже царапины не оставлю — иди-ка, жалуйся. Для начала мы тебя умоем, мыльце у нас припасено как раз по тебе.
И, набрав пригоршню тины, плотник вымазал физиономию, манишку и галстук Галюше, а затем отпустил его с таким напутствием:
— Попробуй только тронь! Отведаешь, какова тина на вкус!
Галюше слишком основательно ощутил, что такое рука плотника, чтобы подвергать себя новому риску. Он охотно запустил бы камнем в голову Жана, отвернувшегося в эту минуту, но подумал, что дело может принять серьезный оборот и, если не удастся свалить плотника с первого же удара, ему, Галюше, несдобровать.
Он отступил, оглашая окрестность бранью и угрозами по адресу Жана и «этой девки», которую тот защищал, но не посмел ни произнести имени Жильберты, ни показать виду, что узнал ее. Он боялся, как бы в один прекрасный день Жильберта не стала невесткой хозяина, ибо последние несколько дней — с тех пор как заболел Эмиль — господин Кардонне казался очень озабоченным и, видимо, был в полной растерянности.
Жильберта и маркиз не видели всей этой сцены. Девушка задыхалась от волнения и, едва ли сознавая, что с ней происходит, позволила маркизу отвести себя к швейцарскому домику. Господина де Буагильбо происшествие это привело в сильнейшее замешательство: ему и хотелось помочь девушке, и страшно было заговорить с ней, дать ей понять, что он ее узнал. К нему вернулась обычная недоверчивость: уж не была ли заранее подстроена эта сцена, чтобы бросить в его объятия трепещущую голубку? Но когда Жильберта замертво упала на пороге домика, когда он увидел ее бескровное личико, померкшие глаза и побелевшие губы, его охватила нежность, сострадание к ней и неистовый гнев против того, кто способен оскорбить беззащитную женщину. Затем он подумал, что ведь девушка подверглась опасности только потому, что желала доказать ему свою благородную гордость и бескорыстие. Он поднял Жильберту, усадил в кресло и сказал, растирая ее похолодевшие пальцы:
— Придите в себя, мадемуазель де Шатобрен. Успокойтесь, умоляю вас! Здесь вы в безопасности, здесь вы желанная гостья!
— Жильберта! — вскричал плотник, увидев с порога дочь господина Антуана, — Жильберта, родная! Великий боже, да что это? Да знай я, что это она, я не пощадил бы негодяя! Но он еще тут где-нибудь, я догоню его и убью!
Побагровев от ярости, Жан снова было бросился за Галюше, но маркиз и очнувшаяся Жильберта удержали его — правда, не без труда: он был вне себя. В конце концов маркиз объяснил ему, что ради доброго имени Жильберты следует отказаться от дальнейшей мести.
Однако старик чувствовал себя неловко в присутствии Жильберты. Девушка хотела немедленно уйти, он же в глубине души желал ее удержать, но не решался прямо сказать об этом и только повторял, что ей следует отдохнуть и оправиться от пережитых волнений. Жильберта, опасаясь опять встревожить родителей, уверяла, что в состоянии добраться до дому. Маркиз то просил гостью воспользоваться его каретой, то предлагал нюхательные соли. Он стал искать флакон и, конечно, не нашел, он суетился вокруг нее, но главное, что занимало его, — как заговорить с Жильбертой о письме и возвращенных ею драгоценностях. И хотя обычно, приняв какое-нибудь решение, господин Буагильбо действовал непринужденно и смело, на сей раз он был неуклюж, как юнец, впервые появившийся в свете, — так сковывала каждое его движение вновь овладевшая им нерешительность.
Наконец, когда Жильберта собралась уходить с Жаном, пожелавшим проводить ее до самого Шатобрена, старик поднялся тоже, надел шляпу и схватил свою новую трость с таким решительным видом, что плотник невольно улыбнулся.
— Разрешите и мне, — сказал господин де Буагильбо, — проводить вас. Этот проходимец, чего доброго, засел где-нибудь в кустах, и всегда надежнее два стража, чем один.
— Пускай идет с нами, — шепнул Жан, когда Жильберта стала отказываться от услуг господина де Буагильбо.
Все трое вышли за ограду парка, и маркиз сначала держался в арьергарде, но потом зашагал впереди своих спутников, как бы возглавляя шествие. В конце концов он очутился подле Жильберты и, заметив, что она еле передвигает ноги, осмелился предложить ей руку. Постепенно он разговорился и овладел собой. Сначала беседа шла об общих предметах, затем маркиз искусно перевел разговор на свою спутницу, стал расспрашивать об ее вкусах, занятиях, чтении и, хотя она отвечала скромно и сдержанно, вскоре обнаружил, что Жильберта — девушка возвышенного образа мыслей и получила хорошее образование.
Пораженный этим обстоятельством, господин Буагильбо осведомился, где и как ей удалось приобрести столь серьезные познания, и тут Жильберта призналась ему, что главным источником просвещения ей послужила библиотека замка Буагильбо.
— Я горжусь этим, я в восторге! — сказал маркиз. — Отныне вся моя библиотека в полном вашем распоряжении. Надеюсь, что вы будете обращаться ко мне, а быть может, согласитесь, чтобы я сам отбирал для вас книги и посылал каждую неделю. Жан не откажется быть нашим посредником, пока Эмиль не сможет вновь взять эту обязанность на себя.
Жильберта вздохнула: молчание Эмиля пугало ее, и она почти не верила, что снова вернутся для нее счастливые дни.
— Прошу вас, опирайтесь крепче на мою руку, — сказал маркиз. — У вас совсем больной вид, не отвергайте же мою помощь.
Когда они подошли к подножию шатобренского холма, господин де Буагильбо, который, казалось, забылся в разговоре, вдруг стал выказывать признаки волнения и беспокойства, как пугливый конь. Он круто остановился и, осторожно отпустив руку Жильберты, подвел свою спутницу к плотнику.
— Вот вы уже почти у цели, — сказал он, — оставляю вас на попечении преданного друга. Я больше здесь не нужен. Не забывайте же своего обещания пользоваться моими книгами.
— О, почему я не могу упросить вас пройти еще немного! — воскликнула Жильберта с мольбой в голосе. — Ради этого я согласилась бы не открывать ни одной книги всю мою жизнь, хотя бог видит, какое это для меня огромное лишение.
— К несчастью, это невозможно, — ответил маркиз со вздохом. — Но положимся на время и случай, это они устраивают неожиданные встречи. Надеюсь, сударыня, что мы прощаемся с вами не навсегда, мысль об этом была бы мне нестерпима.
Он поклонился ей, повернул обратно и снова заперся в своем домике; там до глубокой ночи он писал, перебирал бумаги, то и дело поглядывая на портрет маркизы.
Назавтра, в полдень, господин де Буагильбо надел зеленый фрак, сшитый по моде Империи, свой самый светлый парик, перчатки, замшевые штаны и невысокие ботфорты с короткими, сильно изогнутыми серебряными шпорами. Слуга в парадной форме конюшего подвел маркизу лучшего его коня, вскочил на превосходную лошадь и, пустив ее рысью, последовал за хозяином по дороге в Гаржилес, поддерживая легкую шкатулку, привязанную ремнем к седельной луке.
Велико было удивление местных жителей, когда мимо них проехал господин де Буагильбо, вытянувшийся в струнку, на белом коне, чем-то напоминая учителя верховой езды прошлого века. Он был в праздничном одеянии, в золотых очках, а новый хлыст с золотым набалдашником держал, как свечу при богослужении. Целых десять лет господин де Буагильбо не появлялся ни в деревне, ни в городе. Что за великолепная непринужденность осанки! Ребятишки бежали за маркизом толпой, женщины выскакивали на порог, а рабочие изумленно останавливались посреди улицы, забыв о тяжелой ноше, оттягивающей плечи.
Маркиз был слишком хорошим ездоком, чтобы щеголять своим бесстрашием, вот почему он медленно поднялся по каменистой тропинке, вившейся над пропастью, и тем же аллюром приблизился к фабрике господина Кардонне, а затем, вновь пустив коня крупной рысью, въехал во двор усадьбы; лошадь под искусной рукой шла как заведенная. Вид у маркиза был, без преувеличения, цветущий, и женщины, глядя ему вслед, говорили: «Ну не колдун ли! Подумать только, какой был, такой и остался! Как будто и десяти лет не прошло!»
Маркиза, по его просьбе, провели в комнату господина Кардонне-младшего, где он увидел Эмиля, который полулежал на диване, беседуя с отцом и местным доктором. Несколько поодаль сидела госпожа Кардонне и не спускала с сына встревоженного взгляда.
Эмиль был очень бледен, но его состояние не внушало опасений. Он поднялся и пошел навстречу господину де Буагильбо, который нежно обнял его, почтительно поклонился госпоже Кардонне и, более сдержанно, ее супругу. Несколько минут разговор шел о состоянии больного.
Эмиль перенес довольно жестокий приступ лихорадки, так что накануне ему пришлось пустить кровь; ночь прошла спокойно, и к утру лихорадка совершенно прекратилась. Больному разрешили совершить прогулку в коляске, и он как раз собирался отправиться к господину Буагильбо, когда тот сам явился к нему.
Весь ход болезни Эмиля был уже известен маркизу со слов плотника; однако Жан утаил нездоровье Эмиля от Жильберты. Тревожиться больше не было оснований. Врач объявил, что следует уговорить больного пообедать, и удалился, сказав, что завтра посетит господина Кардонне-сына, хотя не видит в этом особой надобности.
Во время этого разговора маркиз внимательно вглядывался в черты господина Кардонне: на этом лице читалось скорее торжество, чем радость. Без сомнения, болезнь Эмиля заставила фабриканта пережить немало мучительных часов, он трепетал при мысли, что может потерять сына; но теперь, когда страх миновал, он считал себя победителем: Эмиль поборол свое горе.
Со своей стороны, господин Кардонне также приглядывался к странной фигуре маркиза, которого он находил чрезвычайно смешным. Его важность и медлительная речь выводили фабриканта из терпения, тем более что господин де Буагильбо, тщетно стараясь скрыть смущение, изрекал лишь общеизвестные истины и к тому же весьма поучительным тоном. Через несколько минут хозяин дома извинился и с поклоном покинул комнату, сказав, что его ждут неотложные дела. Госпожа Кардонне, угадав по волнению Эмиля, что он хочет побеседовать со своим старым другом наедине, оставила их, посоветовав, однако, сыну не разговаривать слишком много.
— Что же, — сказал Эмиль маркизу, когда они остались одни, — я заслужил мученический венец. Я прошел испытание огнем. Но бог покровительствует тем, кто его призывает, — я вышел целым и невредимым и, как видите, почти неопаленным. Правда, я немного разбит, но спокоен и полон веры в будущее. Нынче утром я, находясь в здравом уме и твердой памяти, повторил батюшке то, что уже говорил ему в минуты возбуждения и даже, быть может, в лихорадочном бреду. Он знает теперь, что я никогда не отрекусь от своих убеждений, и, как бы он ни играл моей страстью, он никогда не одержит победы. Отец как будто вполне удовлетворен, ибо полагает, что ему удалось отвратить меня от брака, который страшит его больше, нежели мои убеждения.
Еще сегодня утром он говорил, что мне надо развлечься, поехать путешествовать, посетить Италию.
Я сказал, что хочу остаться во Франции и никуда не двинусь из наших краев, если, конечно, он не прогонит меня из родительского дома. Он лишь улыбнулся в ответ. Он опасается пока противоречить, так как накануне мне пускали кровь, но я знаю, что завтра он будет говорить со мной как суровый друг, послезавтра — как разгневанный отец, а там уж — как полновластный хозяин. Не беспокойтесь, у меня хватит мужества, спокойствия и терпения. Осудит ли он меня на изгнание, прикажет ли оставаться при себе, чтобы терзать меня, — что до того?
Я сумею доказать ему, как непобедима любовь, когда ее поддерживает сила истины и идеалов.
— Эмиль, — сказал маркиз, — я знаю от вашего друга Жана все, что произошло между господином Кардонне и вами. И знаю также, что совершалось в вашей душе! Вы победили. Я и не сомневался в этом.
— О дорогой друг, я слыхал, что вы примирились с этим простым, но поистине чудесным человеком. Жан мне говорил, что вы приедете меня навестить. Я вас ждал.
— А больше он вам ничего не говорил? — спросил маркиз, пристально глядя на Эмиля.
— Нет, ничего больше, — ответил Эмиль с неподдельной искренностью.
— Значит, он сдержал свое слово, молодец! — продолжал господин де Буагильбо. — Вы и так были в лихорадке, новые волнения подкосили бы вас. С тех пор как мы не виделись с вами, Эмиль, я сам пережил немало, впрочем, я доволен и когда-нибудь расскажу вам почему. Но только не сейчас, Эмиль, у вас еще плохой вид, да и сам я тоже не вполне уверен в своих силах. Сегодня я вас к себе не зову, мне надобно побывать еще в другом месте, но, возможно, вечером, на обратном пути, я загляну к вам. А пока пообедайте, слушайтесь врача — словом, выздоравливайте! Обещаете?
— Обещаю, мой друг. О, если бы я мог сообщить той, кого люблю, что, обретя вновь физические и душевные силы, я люблю ее еще более пылко и верно!
— В таком случае, Эмиль, напишите ей несколько строк, но не утомляйтесь. Я вернусь сегодня же и, если она живет не слишком далеко, берусь доставить ей ваше письмо.
— Увы, друг мой, я не могу назвать вам ее имени! Но если бы Жан согласился, я мог бы ей написать: за мной теперь не так следят, и я не столь уже слаб, — вполне могу взять в руки перо.
— Напишите же, запечатайте письмо, но не надписывайте адреса. Жан работает у меня и получит ваше письмо еще до наступления вечера.
Пока Эмиль сидел за письмом, маркиз вышел в соседнюю комнату и спросил, не может ли он переговорить с господином Кардонне. Ему ответили, что фабриканту только что подали коляску и он уехал.
— Не скажете ли, где я могу его найти? — спросил маркиз, не совсем уверенный в том, что господин Кардонне в самом деле отсутствует.
— Он никому не сообщил, куда отправляется, но можно полагать, что в Шатобрен, так как он посетил замок на прошлой неделе и сейчас поехал той же дорогой.
Услышав этот ответ, господин Буагильбо проявил необычную для него живость: он вернулся к Эмилю, взял у него письмо, пощупал у больного пульс, признал его несколько учащенным, распростился, сел на своего коня и ровной рысью выехал из деревни. Но едва только господин де Буагильбо очутился в поле, он пустил лошадь галопом.
XXXV Отпущение грехов
Между тем господин Кардонне уже прибыл в Шатобрен и теперь беседовал с Жильбертой, ее отцом и Жаниллой.
— Господин де Шатобрен, — сказал фабрикант, непринужденно усаживаясь на стул, тогда как хозяева дома сидели с унылым видом, не ожидая от его визита ничего доброго, — вы, без сомнения, знаете, что произошло между мной и моим сыном из-за мадемуазель Жильберты. Он назвал ее своей избранницей, что делает честь его вкусу и здравому смыслу. Вы, сударыня, и вы, сударь, снизошли к его притязаниям, не справившись о моем согласии.
При этих словах Жанилла возмущенно пожала плечами. Жильберта, побледнев, опустила глаза, а господин Антуан побагровел и уже открыл было рот, желая прервать господина Кардонне, но последний, не дав ему произнести ни слова, продолжал:
— Должен признать, сначала я не одобрял этого союза, но, приехав сюда и увидев мадемуазель Жильберту, я сдался. Условия мои нельзя назвать тягостными или невыполнимыми. Эмиль — крайний демократ, а я — умеренный консерватор. Я предвижу, что фанатические убеждения пагубно повлияют на ум Эмиля и подорвут доверие к нему. Я настаиваю на том, чтобы он отказался от них и жил в соответствии с требованиями разума и благопристойности. Я заранее радовался, уверенный, что он легко пойдет на эту жертву, о чем, не колеблясь, и сообщил в письме к мадемуазель Жильберте. Но, к великому моему удивлению, Эмиль упорствует в своих взглядах и, как видите, пожертвовал своею любовью, которую я считал более глубокой и прочной. Поэтому я вынужден сообщить вам, что сегодня утром он бесповоротно отказался от руки мадемуазель де Шатобрен, и я счел своим долгом предупредить вас об этом незамедлительно, дабы вы, зная его и мои намерения, не могли обвинить меня в нерешительности и неблагоразумии. Если вы все же и теперь найдете возможным не отвергать его чувства и терпеть его домогательства — ваше дело, я умываю руки.
— Господин Кардонне, — ответил Антуан вставая, — мне все это известно, я знаю также, что вы весьма красноречивы и для вас не составит труда посмеяться над нами. Но я… я вам скажу, что если вы так хорошо осведомлены, то лишь потому, что засылали в наш дом шпионов и лакеев, желая оскорбить нас возмутительными притязаниями низкого человека на руку моей дочери. Ваша дипломатия уже заставила нас достаточно страдать, и мы без всяких околичностей просим оставить нас в покое. Мы не так уж просты и понимаем, что ни при каких условиях вы, богач, не захотите союза с нашей бедностью. Ваши уловки ни на минуту не ввели нас в заблуждение. Вы придумали весьма постыдный ход: предложили сыну или нравственно покориться вам, что несовместимо с его убеждениями, или отказаться от брака, на который вы все равно не дали бы согласия, если бы даже Эмиль унизил себя ложью, — вот почему мы поклялись со своей стороны сделать все, чтобы никакой обман, никакое лицемерие не могло коснуться ни нас, ни господина Эмиля. Надеюсь, теперь вы видите, что мы знаем, как нам поступить, что я сумею оградить честь и достоинство моей дочери не хуже, чем вы ограждаете капиталы вашего сына, и что я не нуждаюсь в ваших советах и уроках.
Все это было сказано с такой твердостью, какой господин Кардонне никак не ожидал со стороны «старого забулдыги» Шатобрена, после чего господин Антуан снова сел и взглянул прямо в лицо фабриканту. Жильберта замерла от ужаса, но она считала своим долгом поддержать отца: пусть фабрикант знает, что Жильберта так же горда, как по праву горделив ее отец. Она тоже подняла глаза на господина Кардонне, и ее взгляд ясно подтверждал правоту слов господина Антуана.
Жанилла, потеряв терпение, решила, что пора вмешаться ей.
— Будьте спокойны, сударь, — сказала она, — мы как-нибудь проживем без вашего имени. Имя де Шатобрен не менее почетно. А о деньгах говорить не будем. Мы потеряли состояние, которое имели, но потеряли честно, а еще неизвестно, как вы нажили свои капиталы, которых у вас раньше как будто не было.
— Я знаю, мадемуазель Жанилла, — ответил господин Кардонне с видимым спокойствием, скрывавшим глубокое презрение, — как вы кичитесь именем, которое господин де Шатобрен дал вашей уважаемой дочери. Что касается меня, то я уж не такой гордец и закрыл бы глаза на некоторые изъяны происхождения невесты, но я понимаю, что такой особе, как вы, родившейся в сладкой праздности, состояние человека незнатного кажется достойным презрения. Мне остается только пожелать всем вам счастья и попросить извинения у мадемуазель Жильберты за доставленное ей небольшое огорчение. Вина моя невольная, но я надеюсь искупить ее, посоветовав мадемуазель де Шатобрен сделать из всего происшедшего полезный вывод: когда молодые люди заверяют девушку, будто располагают согласием своих родителей, они действуют скорее под влиянием мимолетной прихоти, чем подлинной страсти. Поведение Эмиля по отношению к мадемуазель Жильберте как раз является тому доказательством, и, поверьте, мне стыдно за него.
— Довольно, господин Кардонне, довольно! Слышите?! — вскричал господин Антуан, разгневавшись впервые в жизни. — Да я стыдился бы своего ума, если б мой ум служил столь низкой цели: как можно ‘ оскорбить молодую девушку и в ее присутствии вести себя столь вызывающе с ее отцом! Я надеюсь, вы меня понимаете и…
— Господин Антуан! Матушка Жанилла! — вскричал Сильвен Шарассон, вихрем врываясь в комнату. — Господин де Буагильбо приехал! Умереть мне на этом месте, если я вру! Сам господин де Буагильбо! Я сразу его признал! И лошадь его белую, и очки блестящие!
Услышав эту неожиданную новость, господин де Шатобрен пришел в такое волнение, что позабыл весь свой гнев и, охваченный детской радостью и испугом, поспешил навстречу бывшему своему другу.
Он уже готов был броситься в объятия маркиза, но вдруг замер на месте от страха, увидев ледяное выражение лица господина Буагильбо, который склонился в печальном вежливом поклоне. Огорченный до глубины души, весь дрожа, господин Антуан судорожно схватил руку Жильберты, не зная, подвести ли ее к гостю в знак примирения или же, наоборот, удалить ту, которая была неопровержимой уликой его вины.
Растерявшаяся Жанилла низко приседала перед маркизом, а он, окинув ее рассеянным взглядом, ответил на ее приветствие еле заметным кивком.
— Господин Кардонне, — произнес маркиз, заметив фабриканта, который, распростившись с хозяевами, выходил из флигеля, — вы, очевидно, уходите, я же явился сюда, именно желая увидеться с вами. Я собирался поговорить еще у вас дома, но вы ушли, и я поспешил за вами сюда. Поэтому прошу вас задержаться еще немного и уделить мне несколько минут?
— Мы побеседуем в другом месте, если вам будет угодно, маркиз, — ответил Кардонне, — я не могу больше оставаться здесь. Но если вы не откажетесь пройтись со мной…
— Нет, сударь, нет, позвольте мне быть настойчивым!
Я должен сообщить вам нечто очень важное и хотел бы, чтобы все присутствующие услышали мои слова. Я вижу, что опоздал и не мог предотвратить неприятное объяснение; но вы деловой человек, господин Кардонне, и знаете, что важные для жизни вопросы следует обсуждать не в одиночестве и прибегая при этом к холодному рассудку, даже если за ним скрываются страсти. Граф де Шатобрен, прошу вас уговорить господина Кардонне остаться, его присутствие здесь крайне необходимо. Я стар, болен — кто знает, достанет ли у меня сил снова приехать сюда, совершить столь длинный путь. В сравнении со мной все вы еще молоды, и я прошу у вас лишь немного спокойствия и терпения, чтобы избавить меня от лишних усилий. Неужели вы мне откажете?
На сей раз маркиз говорил изящно и непринужденно, он ничем не походил на того господина Буагильбо, которого господин Кардонне видел час тому назад, и теперь фабрикант глядел на старика не только с любопытством, но с живым интересом и даже с уважением. Господин де Шатобрен исполнил просьбу маркиза, и все присутствующие вернулись во флигель, за исключением Жаниллы: по знаку господина Антуана она вышла, но остановилась у кухонной двери, чтобы подслушать разговор.
Жильберта колебалась, не зная, войти ей или удалиться, но господин де Буагильбо весьма учтиво предложил ей руку и, подведя к креслу, сел рядом, на некотором расстоянии от ее отца и от господина Кардонне.
— Как требует обычай и уважение к дамам, — начал он, — я обращусь прежде всего к мадемуазель де Шатобрен. Сударыня, этой ночью я составил завещание и пришел сюда, чтобы ознакомить вас с его пунктами и различными статьями, но я ни в коем случае не хотел бы получить отказ и осмелюсь прочесть вам мои каракули, если вы заранее пообещаете не гневаться. У меня с собой ваше письмо, причинившее мне столько огорчений, — в нем вы ставите мне свои условия. Я нахожу их справедливыми и понимаю, что вы не хотели принять даже незначительный дар от человека, которого считаете врагом вашего отца… Итак, для того, чтобы умилостивить вас, необходимо прекратить эту распрю. Пусть же ваш батюшка простит мне все обиды, которые я нанес ему. Господин де Шатобрен, — продолжал он с героической решимостью, вставая с места, — когда-то вы оскорбили меня, я ответил на оскорбление тем, что без всяких объяснений лишил вас своей дружбы. Нам надо было драться или простить друг друга. Мы не дрались, но в течение двадцати лет оставались чужими людьми, что очень тягостно для двух друзей, которых когда-то связывала горячая любовь. Сегодня я отпускаю вам ваши грехи. Прощаете ли вы мне мои?
— О маркиз! — вскричал господин Антуан и, бросившись к нему, преклонил колено. — Вы никогда не были виноваты передо мной, вы были моим лучшим другом, вы были для меня родным отцом, а я смертельно оскорбил вас. Если бы вы потребовали поединка, я подставил бы обнаженную грудь под удар вашей шпаги, но никогда не поднял бы на вас руку. Вы не пожелали взять мою жизнь, но наказали меня более жестоко — лишили своей дружбы! Теперь вы дарите мне прощение. Я принимаю его, стоя на коленях, в присутствии друзей и недругов, ибо это унижение — единственное удовлетворение, какое я могу вам предложить. А вы, господин Кардонне, — промолвил он, вставая и меряя фабриканта взглядом с ног до головы, — вы вольны смеяться над тем, чего не можете понять. Но не всем я согласен подставить обнаженную грудь и протянуть безоружную руку. И вы скоро узнаете об этом!
Фабрикант также поднялся, бросая на господина Антуана угрожающие взгляды. Господин де Буагильбо встал между ними и обратился к Антуану:
— Не знаю, граф, что произошло между господином Кардонне и вами, но вы только что предложили мне удовлетворение, которое я отвергаю. Полагаю, что наши обиды были взаимны, и я хочу видеть вас не на коленях передо мной, а в моих объятиях. Но раз вы считаете, что должны изъявить мне покорность, на которую имеют право мои седины, то, прежде чем вас обнять, я требую, чтобы вы примирились с господином Кардонне и первый протянули ему руку.
— Это невозможно! — вскричал Антуан, судорожно сжимая руку маркиза и переходя от радости к гневу. — Этот господин только что позволил себе оскорбительно разговаривать с моей дочерью.
— Нет, этого не может быть, — возразил маркиз. — Это недоразумение. Мне известны чувства господина Кардонне. Низость несовместима с его нравом. Уверен, господин Кардонне, что вы не хуже любого дворянина разбираетесь в вопросах чести. Только что на ваших глазах состоялось примирение двух людей, которые когда-то жестоко оскорбили друг друга, — они не стыдятся взаимных уступок. Будьте же великодушны и докажите нам, что не имя делает человека благородным. Я приношу вам слова мира и, что еще важнее, средства примирения. Обещайте же мне пожать руку господину де Шатобрен. Нет, нет, вы не откажете старику, стоящему на краю могилы. Мадемуазель Жильберта, придите мне на помощь, скажите что-нибудь вашему отцу.
«Средства примирения» прозвучали как благовест в ушах господина Кардонне. Его изощренный ум уже почти угадал истину. Он решил, что лучше уступить и получить военные почести, нежели пережить тяготы безоговорочной капитуляции.
— Мои намерения были далеки от предположений господина де Шатобрен, — сказал он, — я всегда был преисполнен почтительности и уважения к его дочери и готов, не колеблясь, взять обратно свои слова, если они могут быть ложно истолкованы. Умоляю мадемуазель Жильберту верить мне, и вот моя рука, господин де Шатобрен, в подтверждение моей клятвы!
— Хорошо, сударь, не будем больше говорить об этом, — сказал господин Антуан, пожимая руку фабриканта. — Забудем наши обиды. Антуан де Шатобрен никогда не умел лгать.
«Это правда! — подумал господин де Буагильбо. — Если бы он умел притворяться, он скрыл бы от меня истину, и я был бы счастлив, как многие другие…»
— Благодарю тебя, Антуан! — сказал он дрогнувшим голосом. — А теперь обними меня!
Господин Шатобрен страстно и восторженно обнял своего старого друга, который ответил ему натянуто и несколько принужденно. Принятая маркизом на себя роль оказалась ему не по силам. Он побледнел, задрожал и тяжело опустился на стул. Антуан сел рядом с ним, едва сдерживая рыдания. Жильберта опустилась на колени перед маркизом и, плача от счастья и благодарности, покрывала его руки поцелуями.
Эта чувствительная сцена вывела из терпения фабриканта, который созерцал ее с холодным и высокомерным видом, ожидая обещанных «средств примирения».
Наконец господин де Буагильбо вытащил бумаги из кармана и прочел их медленно и отчетливо.
В немногих кратких и точных словах он определял наличное свое состояние в четыре миллиона пятьсот тысяч ливров, из коих он передавал по завещанию два миллиона в полную собственность мадемуазель Жильберте де Шатобрен, при условии, что она выйдет замуж за господина Эмиля Кардонне, а два миллиона — господину Эмилю Кардонне, при условии, что он женится на Жильберте де Шатобрен. В случае, если эти условия будут приняты, брак должен совершиться не позднее чем через полгода. Себе же господин де Буагильбо оставлял в пожизненное пользование доходы со своих владений. Немедленно после венчания он передавал также молодым в полную собственность и непосредственное пользование пятьсот тысяч ливров, каковая сумма переходила, впрочем, в собственность и пользование мадемуазель де Шатобрен, даже если бы она и не вышла замуж за Эмиля Кардонне.
За дверью раздался слабый крик: Жанилле от радости стало дурно, и она упала на руки Сильвену Шарассону.
XXXVI Примирение
Жильберта не отдавала себе отчета, что означает эта перемена в ее жизни: она не могла представить себе, каково быть обладательницей четырехмиллионного состояния, — не слишком ли это тяжелое бремя для нее, чья жизнь была такой простой и счастливой? И чувствовала она скорее страх, чем радость. Но она поняла, что ее союз с Эмилем вновь становится возможным, и, не находя слов, судорожно сжимала руку господина де Буагильбо. Господин Антуан был совершенно ошеломлен богатством, свалившимся на его дочь. Так же, как и Жильберта, он не испытывал от этого чрезмерной радости, но видел в поступке маркиза неопровержимое доказательство его великодушия; все происходившее казалось господину ! Антуану сном, и он тоже не мог произнести ни слова.
Кардонне был единственным из присутствующих, кто понимал, что значат четыре с половиной миллиона, плодами которых воспользуются его будущие внуки. Но тем не менее он не потерял головы, дослушал чтение завещания с бесстрастным видом, как человек, которого не смиришь могуществом золота, и холодно произнес:
— Я вижу, что господин де Буагильбо непременно желает заставить отцовскую волю отступить перед чувством дружбы. Но не бедность мадемуазель де Шатобрен казалась мне главным препятствием к этому браку.
Имеется другое препятствие, оно-то и отвращает меня; ведь мадемуазель Жильберта незаконная дочь, и есть основания полагать, что ее мать — я не назову ее имени — занимает в обществе слишком низкое положение.
— Вы заблуждаетесь, господин Кардонне, — ответил маркиз твердо. — Мадемуазель Жанилла всегда отличалась безупречной нравственностью, и, я полагаю, вы не вправе относиться с презрением к особе, столь верной и преданной тем, к кому она привязана. Истина требует, однако, чтобы я исправил и это ваше заблуждение. Свидетельствую, сударь, если это может доставить вам удовольствие, что в жилах мадемуазель де Шатобрен течет только благородная кровь. Скажу даже, что я прекрасно знал ее матушку и что она была такого же хорошего рода, как я сам. Ну, а теперь, господин Кардонне, остались ли у вас еще какие-нибудь возражения? Надеюсь, вы не думаете, что характер мадемуазель де Шатобрен может оттолкнуть кого-либо или внушить недоверие?
— Конечно, нет, маркиз, — ответил господин Кардонне, — но все же я в нерешительности. Мне думается, что отцовский авторитет и достоинство оскорблены подобным договором и мое согласие как будто куплено ценою денег; все мои честолюбивые замыслы в отношении сына заключались в том, чтобы он нажил состояние собственным трудом и талантом, а теперь его осыпают золотом и тем уготовляют для него жизнь бездеятельную и праздную.
— Надеюсь, что этого не случится, — возразил господин Буагильбо. — Если я избрал Эмиля своим наследником, то лишь потому, что он ни в чем не будет, как я твердо уверен, походить на меня и сумеет с большей пользой, нежели я, употребить мое состояние.
Фабрикант и не думал сопротивляться. Он понимал, что если будет упорствовать, то навсегда потеряет любовь сына, и, напротив, согласившись, вновь подчинит его своему влиянию, а главное — научит смотреть на богатство так, как смотрит он, Кардонне. Иными словами, фабрикант подсчитал, что четыре миллиона можно превратить в сорок, и не сомневался, что любой человек, будь он даже святой, став вдруг обладателем миллионного состояния, обязательно приобретет вкус к деньгам.
«Сначала Эмиль будет безумствовать, — рассуждал господин Кардонне, — и потеряет часть капитала. Увидев же, что сокровище тает, он испугается и захочет восполнить убыль, а, как известно, аппетит приходит во время еды, и он будет стремиться удвоить свое богатство, удесятерить, увеличить во сто крат… и в один прекрасный день, с моей помощью, он станет настоящим магнатом».
— Я не имею права, — сказал он наконец, — отвергнуть состояние, предложенное моему сыну. Я лично отказался бы от него, так как эта сделка противоречит моим взглядам и убеждениям, но собственность — высшее благо, а получив подобный дар, мой сын становится собственником. Отказаться от ваших условий значило бы ограбить Эмиля. Поэтому я должен молча принять эту странную сделку, в которой многое оскорбляет мои убеждения; а коль скоро я вынужден уступить, я предпочитаю сделать это с легкой душой… тем более что красота, ум и благородство мадемуазель Жильберты льстят моему эгоизму и сулят счастье нашему дому.
— Раз все решено, — сказал господин де Буагильбо, вставая и делая кому-то знак через окно, — я попрошу мадемуазель Жильберту, которая, подобно мне, любит цветы, принять букет к помолвке.
В комнату вошел слуга маркиза и поставил на стол небольшую коробку, из которой господин де Буагильбо вынул великолепный букет редчайших благоуханных цветов. Старый Мартен трудился целый час, искусно подбирая цветок к цветку. Вместо ленты букет был перевязан бриллиантовым ожерельем, которое вернула Жильберта, а взамен кашемировой шали, о которой маркиз счел за благо не напоминать лишний раз, к ожерелью был прибавлен еще ряд бриллиантов.
«Итак, еще двести или триста тысяч франков в добавление к договору», — подумал господин Кардонне, делая вид, что равнодушно рассматривает драгоценности.
— Теперь, — обратился господин де Буагильбо к Жильберте, — вы не можете больше ни в чем мне отказать, ибо ваша воля выполнена. Мне хотелось бы, чтобы вы вместе с батюшкой сели в вашу знаменитую таратайку, которая сослужила мне такую службу и дала счастье с вами познакомиться. Мы поедем в Гаржилес. Я думаю, что господин Кардонне пожелает представить супруге ее будущую невестку, я же, в свою очередь, надеюсь, что госпожа Кардонне будет рада видеть мою наследницу.
Господин Кардонне принял это предложение с полной готовностью, и они уже собрались в путь, когда вдруг показался Эмиль. Узнав, что отец отправился в Шатобрен, он побоялся какого-нибудь нового заговора против своего счастья и покоя Жильберты. Позабыв о недавнем кровопускании, лихорадке и обещаниях, данных маркизу, он вскочил на Вороного и помчался, трепеща и задыхаясь, во власти самых мрачных предчувствий.
— Посмотри, Эмиль, твоя невеста уже нарядилась к венцу, — сказал господин Кардонне, тотчас угадав причину опрометчивого поступка сына.
И он указал ему на Жильберту, всю в цветах и бриллиантах, державшую под руку господина де Буагильбо.
Эмиль, нервы которого были чудовищно напряжены, почувствовал, что не в силах выдержать всех этих чудес, лавиной обрушившихся на него. Он хотел что-то сказать, пошатнулся и упал без сознания на руки господина Антуана.
Счастье убивает редко. Эмиль скоро ожил; он был как в опьянении. Жанилла растирала ему виски уксусом, Жильберта держала за руку и, — словно для того, чтобы счастье его было уж совсем полным, — открыв глаза, он увидел свою мать. Прислушиваясь к бреду больного сына, она только теперь узнала о его страсти к Жильберте и заставила Галюше все ей рассказать. Как только ей сообщили, что господин Кардонне отправился в Шатобрен, а сын ее, забыв о болезни, ускакал вслед за ним, госпожа Кардонне, опасаясь неизбежной бури, приказала запрячь карету и примчалась в Шатобрен. Впервые в жизни она, казалось, совершенно позабыла о крутом нраве своего супруга, и ее не могли остановить ни его гнев, ни плохие дороги.
Она с первого взгляда полюбила Жильберту, а молодая девушка, которая не без страха готовилась войти в семью, где главой был господин Кардонне, поняла, что нежное сердце и доброта его супруги будут ей надежным прибежищем.
— Раз уж мы все собрались, — сказал господин де Буагильбо с веселой улыбкой, которая удивила многих, знавших его угрюмость, — давайте проведем вместе остаток дня и где-нибудь пообедаем всем обществом. Нас слишком много, мы, несомненно, доставим излишние хлопоты мадемуазель Жанилле, а если вернемся в Гаржилес — застанем врасплох дворецкого господина Кардонне. Не пожелаете ли вы все посетить Буагильбо, благо замок так близко? Надеюсь, мы не останемся голодными. Быть может, господину Кардонне будет небезынтересно ознакомиться с владениями его детей: мы составим, кстати, брачный договор и назначим день свадьбы.
Все присутствующие с восторгом встретили это новое подтверждение того, что в душе маркиза произошел полный переворот. Жанилла тут же сказала, что ради такого торжественного случая ей необходимо приодеть барышню, для чего понадобится не более пяти минут. Но Жильберта, расцеловав в ответ свою матушку, отвергла ее «ухищрения», как она их назвала.
Тем временем семья Кардонне бродила среди развалин, а господин де Буагильбо с Антуаном скрылись во флигеле. Никто не слышал их беседы, они унесли в могилу эту тайну. Быть может, они говорили о прошлом? Но едва ли они могли коснуться столь деликатного и щекотливого предмета. Или, быть может, они условились никогда, ни единым намеком не вспоминать о былой распре, как будто никогда и не прерывалась их старая дружба? Только с этого дня они вспоминали о прошлом без горечи и рассказывали о минувших годах не только с удовольствием, но даже с нежностью и улыбкой. Нетрудно было заметить, что, обращаясь к прошлому, они не шли дальше того времени, когда господин де Буагильбо вступил в брак, и имя его супруги никогда не произносилось, как будто ее и не существовало.
Но вот появилась Жильберта, принарядившаяся, как только позволяли ей скромные возможности и любовь к простоте, и Эмиль, к своему великому восторгу, увидел, что она надела лиловое платьице, — впрочем, теперь оно стало почти розовым после последней стирки, но зато было вполне свежим — одно из чудес бережливости и аккуратности Жаниллы. Девушка заплела волосы в косы, спускавшиеся до самой земли, и их роскошная небрежность напомнила счастливому жениху знойный день в Крозане. Из подарков господина Буагильбо Жильберта взяла только букет и сердоликовое колечко, на которое и обратила внимание маркиза, нежно при этом улыбнувшись. Она кокетничала с ним, кокетничала простодушно, если можно так выразиться; по отношению же к господину Кардонне выказывала несколько принужденное уважение и внимание, — с маркизом она чувствовала себя совсем просто, и ее манеры и речи свидетельствовали о том, что в нем она видит настоящего отца Эмиля.
Когда пришло время трогаться в путь, господин де Буагильбо подал Жанилле руку и с такой учтивостью пригласил ее отобедать у него, как будто она и в самом деле была матерью Жильберты. Его слух отнюдь не оскорбляло то, что они называют друг друга «матушка» и «дочка», — напротив, эта близость рождала в нем чувство уважения. Как он был благодарен в душе старой деве, которая предпочла снести любые сплетни и насмешки, но не открыла никому тайну рождения Жильберты, даже своему другу Жапплу, а ведь маркиз долго считал его наперсником и посланцем Антуана.
Услышав это приглашение, фабрикант не мог удержаться от презрительной усмешки.
— Господин Кардонне, — сказал вполголоса маркиз, от которого не ускользнула пренебрежительная гримаса фабриканта, — вы еще узнаете и оцените эту женщину, когда она будет нянчить ваших внуков.
С тех пор как существовал парк Буагильбо, он впервые принимал под свою сень посторонних, которых гостеприимно ввел сам хозяин. Двери швейцарского домика были также открыты, за исключением кабинета, который благодаря искусству Жапплу был на крепком запоре.
Величавая грусть замка, красота редкостной обстановки, пышность парка, атмосфера «хорошего дома» вызвали досаду господина Кардонне. Он прилагал все усилия, чтобы ничто в убранстве его гаржилесского дома не выдавало выскочку, он чувствовал свой вес также и среди развалин Шатобрена и поэтому держался почти без стеснения. Но здесь, посреди этого величественного смешения роскоши и строгости, характерного для владений Буагильбо, он ощущал свою ничтожность. Фабрикант боялся, как бы маркиз не подумал, что гость ослеплен старинным великолепием замка, и пустился в весьма либеральные рассуждения. Господин де Буагильбо, под внешней неловкостью которого скрывалось немало лукавства, только и ждал этой минуты, чтобы преподать господину Кардонне свой самый суровый урок, и отвечал спокойно, пространно излагая свои либеральные воззрения. Кардонне был немало поражен, ибо, как многие, он полагал, что маркиз полон аристократического высокомерия и сохранил самые нелепые предрассудки времен Реставрации. Не удержавшись, он выразил свое удивление, на что господин де Буагильбо с мягкостью заметил:
— Вы еще не знаете меня, господин Кардонне, я такой же враг различий и сословных преимуществ, как вы сами. Я считаю людей равными в правах и достоинствах, если только они честные и хорошие люди.
В это время доложили, что обед подан; и когда все встали со своих мест, появился Жан, чисто выбритый, в своем праздничном наряде. Шутливо оттолкнув Эмиля, он подал Жильберте руку, чтобы повести ее к столу.
— Я свои права знаю, — сказал он. — Помните, Эмиль, я обещал быть свидетелем и дружкой у вас на свадьбе!
Плотника восторженно встретило все общество, за исключением господина Кардонне; однако и он не хотел уступить маркизу в свободомыслии. Он промолчал и слегка улыбнулся, когда Жан занял место за семейной трапезой. Он смирился до поры до времени, но в глубине души решил, что уж отыграется после бракосочетания.
Стол, накрытый в парке в тени деревьев, пестрел чудесными цветами, блюда были самые изысканные, и старый Мартен, предупрежденный еще с утра, ревностно прислуживал гостям. Сильвену Шарассону выпала честь состоять в этот день под началом Мартена, о чем он вспоминал потом всю свою жизнь.
Первые минуты прошли довольно натянуто. Но так как за столом число счастливых превышало число недовольных (в сущности, к последним принадлежал один только господин Кардонне, да и то лишь отчасти), вскоре все развеселились, а за десертом фабрикант обратился к Эмилю: «Итак, ваше сиятельство…»
Говорить ли о счастье Эмиля и Жильберты? Счастье нельзя описать, и самим влюбленным недостает слов, чтобы изобразить его во всей полноте… Когда наступил вечер, супруги Кардонне уехали и любезно разрешили Эмилю отвезти невесту в Шатобрен, сказав, что пришлют за ним карету, и взяв с него обещание не садиться на Вороного. Господин Антуан, погрузившись в увлекательную беседу со своим другом Жаном, заблудился в парке, а непоседливая Жанилла, которой надоело изображать даму, не удержалась и стала деятельно помогать Мартену. Тогда господин де Буагильбо взял Эмиля и Жильберту за руки и, подведя влюбленных к скале, где он впервые открылся юному своему другу, сказал:
— Дети мои, я сделал вас богатыми, ибо необходимо было преодолеть препятствия, разделявшие вас, и не было иного средства устроить ваше счастье. Завещание я написал уже давно, но сегодня ночью внес в него новые пункты. Мои намерения не изменились. Полагаю, что Эмилю они известны, а Жильберта не откажется их признать. По моей воле в будущем в этих обширных владениях должна быть основана коммуна, план и принципы которой я попытался набросать в первом варианте завещания. Вероятно, этот план не лишен недостатков, а принципы его не совсем исполнимы, вот почему я о нем не жалею, — я всегда понимал, сколь он несовершенен и сколь я сам мало способен что-нибудь организовать и осуществить. Провидение пришло мне на помощь, послав Эмиля. Я решил, что он воплотит мои замыслы, и назначил его моим единственным наследником, а следовательно, и душеприказчиком. Но господин Кардонне никогда бы не согласился на это, и я уничтожил это завещание, решив сначала сочетать вас браком. Ценность официальных актов обычно преувеличивают, а гражданские законы еще никогда не связывали чьей-либо совести. Вот почему, изъявляя свою волю и получив ваше обещание, я чувствую себя гораздо спокойнее, чем если бы наложил на вас хрупкие цепи, называемые статьями завещания.
Не отвечайте ничего, дети мои, я читаю в ваших мыслях и знаю чистоту ваших сердец. Вас подвергли самому тяжелому из испытаний, принуждая либо отказаться соединить свои жизни, либо отречься от своих убеждений. Вы вышли из этого испытания победителями. Отныне я во всем полагаюсь на вас, вы хозяева будущего! Вы, Эмиль, предполагаете посвятить себя практической деятельности — я предоставляю вам все возможности; но это еще не значит, что вы уже созрели для этой цели.
Вам нужно знание общественных законов, и вы приобретете его долгим, упорным трудом, опираясь на силы вашего века (это уже ваш, а не мой век); развитие этих сил пойдет быстрее или медленнее, с большим или меньшим успехом, согласно воле божьей. Быть может не вы, дети мои, а дети ваших детей увидят плоды моих замыслов, я же завещаю вам богатство и отдаю вам мою душу и мою веру. Если же вам предстоит жить в такую пору развития человечества, когда еще нельзя будет с пользой претворить в жизнь задуманное нами, другие доведут до конца наше дело. Эмиль как-то высказал мысль, поразившую меня. Однажды я спросил его, как бы он распорядился такими владениями, как мои, если б они у него были, и он ответил: «Я бы дерзнул!» Ну что ж, пусть дерзнет! Пусть попытается найти с помощью длительных размышлений и глубокого изучения действительности, вдохновляясь своей мечтой о спасении человечества, организуя и развивая земледельческую науку, такие способы перехода от прошлого к будущему, которые помогут избежать прискорбного разрыва между ними.
Я верю в твой ум, Эмиль, потому что он питается соками твоего сердца. Пусть бог осенит тебя, дитя, и пусть он осенит всех людей твоего времени! Ибо один человек — это почти ничто. А я — я тихо упокоюсь в могиле. Если же мне дано будет прожить еще немного с вами обоими, — ну что ж, значит моя подлинная жизнь начнется лишь накануне смерти. Да, я бывал ленив, не приносил никому пользы, впадал в отчаяние. И все же не напрасно прожил долгую жизнь: я нашел человека, который сумеет и обязан сменить меня.
Сохраните в тайне мои идеалы и наши начинания, пока не совершится ваш брак или даже — пока Эмиль не приобретет новых и обширных знаний, что должно стать его целью. Я умру спокойно, видя вас свободными и мужественными.
Но что бы ни было, дети мои, что бы вы ни решили, каковы бы ни были ваши ошибки, увенчает или нет успех ваши усилия, — знайте: во мне нет тревоги за будущее мира. Пусть любые бури промчатся над головами нынешних и грядущих поколений, пусть заблуждение и ложь изощряются в своем стремлении увековечить тот ужасный беспорядок, который ныне — видимо, в насмешку — называют общественным порядком; пусть несправедливость еще подымает голову в нашем мире — вечная истина все равно восторжествует на земле! Пройдут столетия, и если тени моей суждено посетить эти владения, она увидит, как разрослись деревья, посаженные моей рукой, она увидит здесь людей свободных, счастливых, равноправных, объединенных между собой, а это значит — справедливых и мудрых. Под сенью этих деревьев, где я скрывал свою скорбь и горести, куда бежал я от своих современников, когда-нибудь найдет себе приют, как под сенью величественного храма, многочисленная семья людей; она с благоговением преклонит колени перед созданием природы и отцом людей! То будет сад коммуны, ее гинекей и ее зал для празднеств и торжеств, ее театр, ее храм! Ибо я не хочу слышать о душных склепах, в которых камнем и цементом замуровывают людей и мысль… Не говорите мне о богатых колоннах и мраморных ступенях — что все это в сравнении с природой, вышедшей из рук великого зодчего? В деревья и цветы, в шепот ручейков, в эти скалы и луга я вложил всю поэзию моих мыслей. Не отнимайте же у старого садовника его мечты — если это только мечта. Он верит еще, что бог — во всем и что природа — это храм!
1845
Примечания
1
Игра слов: Мальжюше — нетвердо стоящий на ногах.
(обратно)

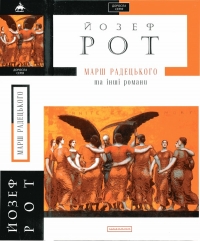

Комментарии к книге «Грех господина Антуана», Жорж Санд
Всего 0 комментариев