Мария Пуйманова ИГРА С ОГНЕМ
ПАНИ РО ХОЙЗЛЕРОВА
Когда Гамзы продали деревянный дом и выехали из Нехлеб, новые владельцы отремонтировали виллу. Устецкий строитель пан Мразек, чью кожаную куртку и красный мотоцикл знает вся округа, немало на них сетовал за то, что перестройку виллы доверили не ему, а архитектору из Праги. День, в который мотоцикл Мразека встречался с паккардом Хойзлера, был для устецкого строителя испорчен. Когда покойнице, старой пани Витовой, было что-нибудь нужно, она всегда приглашала Мразека; даже в замке ему доверяли ремонт; нехлебский же замок — старое дворянское гнездо, его хозяйка — урожденная Коловратова. А эти? Бывшая маникюрша! Да еще из мужского зала. И нехлебский отель Хойзлеры не посещали — он был для них недостаточно хорош; обедать ездили в «Гранд-отель» в Градец.
Пани Ро Хойзлерова вся измаялась из-за устройства виллы. Целыми днями висела на телефоне и подгоняла поставщиков. Ох, эти люди! Попробуйте-ка сварить кашу с нашим чешским народом! Ничего-то у них не готово вовремя. Всегда превышают смету. А чего стоят сюрпризы, когда они подают счет! Густава едва не хватил удар. За обедом только и разговоров что о счетах; это оскорбляло Ружену; не думала она, что Густав такой сквалыга, когда дело идет о том, чтобы доставить ей радость. С его-то практикой! Адвокат улецкого комбината! Ты забываешь, девочка, об одной мелочи: сейчас кризис. Ладно, пусть кризис; а этот архитектор, чем бога благодарить за работу, еще дерзит. Стычки с архитектором Голым больше всего нервировали новоиспеченную пани Хойзлерову. Густав знаком с ним еще по клубу художников — вот и выдумали на свою голову! С художниками вообще трудно. Всякий желает все делать по-своему. Этот Голый взялся за устройство виллы с таким энтузиазмом, будто она — его собственность. А владелица — пустое место, что ли? Хорошенькое дело! В виллу, видите ли, будут приносить пыль, грязь, и Голый настоятельно рекомендует цветной линолеум для пола: протрете его влажной тряпкой, и пол опять совершенно чист. Пани Хойзлеровой не понравилось упоминание о половых тряпках. Не намекает ли он на то, что хозяйка когда-то скребла полы в кухне своей матери? Паркет гораздо элегантнее. В замке тоже паркет. Архитектор предложил для первой комнаты плетеную мебель, обитую кретоном. Но пани Ро желает что-нибудь стильное, она ведь уже говорила! Например, гарнитур рококо (какой был у Хорста, где она служила манекенщицей), знаете, небольшое канапе и кресла с гнутыми ножками, обитые атласом мильфлер и кое-где позолоченные, — луикенз[1] такой милый и уютный. Архитектор отшвырнул карандаш: конечно, он проектировал не салон в баре, а комнату семейной загородной виллы; если же мадам лучше в этом разбирается, то, без сомнения, справится со всем сама; он, как видно, здесь лишний. Свернул чертежи и хотел откланяться. Еще умасливай его! И счет потом тоже подал совершенно бессовестный. (А обеды и ужины в «Гранд-отеле», которые мы за тебя оплачивали, а сигары, которыми тебя угощал Густав, а поездки в паккарде — это ничего?)
Ах, если б только Нехлебы не были у черта на куличках! Добираться сюда — целая вечность. Не могла, что ли, старая Витова выбрать для своей лачуги место получше, поближе к Праге? И вообще, доберутся ли до нас гости? А то для кого же мы стараемся? Смешно! Для одной-то Ружены незачем поднимать блюда из кухни в столовую в специальном подъемнике. Комнаты огромные, даже жутко и холодно в них дождливыми вечерами в конце августа, когда не стоит еще пускать центральное отопление. Хорошо, хоть в кухне тепло! Вот там бы и устроиться; Ружа с малых лет привыкла к кухне. Сколько раз, когда Густав в Праге, ее охватывало желание сойти после ужина вниз, поболтать с кухаркой и горничной, сыграть с ними в дурачка. Но нельзя. Абсолютно нельзя. Тут надо быть крайне осторожной. Пани Хойзлерова знает, к чему обязывает ее положение. В Нехлебах никто не может сказать, что она когда-нибудь себя скомпрометировала. Много лет назад, когда Ружа была всего-навсего дочерью привратницы, пани Гамзова как-то привезла ее сюда с братом Ондржеем на своем допотопном фордике, и они провели в Нехлебах рождество вместе с хозяйскими детьми. И сегодня пани Хойзлерова без зазрения совести может сказать, что со стороны пани Гамзовой это был страшный фопа.[2] Если бы у Ружи были дети (но их не будет; они устроили бы кошмарный беспорядок в вилле!), она не потерпела бы подобных знакомств. Пани Ро не в силах с этим согласиться — надо понимать свое социальное положение, а то получится то же, что и с Гамзами, — вон до чего докатились!
Вилла, которую они так преступно запустили, стала теперь по-настоящему модерн: с холлом (карманное издание холла в отеле «Риц», в котором до сих пор находится парикмахерская Сирупа) и с террасой на плоской крыше — такую террасу Ружена видела на туристской станции, где она провела свою первую ночь с Карелом Выкоукалом, — ах, лучше и не вспоминать! Вилла смахивает на первоклассный отель. И если бы дýхи деревянного дома — старая пани Витова и садовница Поланская — поднялись из могил, разве узнали бы они свое гнездо? Новая владелица велела выкорчевать березы, закрывавшие проезжую дорогу: они заслоняли новую альпийскую лужайку от солнца. Теперь в сад можно смотреть, как на сцену. Это не стесняет Ружену, наоборот! Каждый прохожий заметит красивую даму в пляжной пижаме, раскинувшуюся в шезлонге на солнышке: вот она под огромным полосатым тентом завтракает прозрачным джемом; вот она в дачном туалете стоит у розовых кустов и срезает бутоны — очень декоративное занятие. Всегда она безупречна, как на плакате: кадры из жизни дамы — прямо для фотообъектива. Вот бы случай забросил сюда Карела Выкоукала — разве Нехлебы не на пути из Праги в Улы? Что, если Густав ненароком привезет его сюда? А почему бы и нет? Он ведь так хорошо знаком с отцом Карела. Ах, какие гости! Входите, пожалуйста, пан инженер. Пунтик, даун![3] Рождественский подарок мужа, пан инженер. Да, песик с родословной, скромно подтвердит Ружа. Он прилетел из Шотландии на самолете, правда, Пунтик? Ах, как у нас колотилось сердечко, правда? И мы уже получили приз на выставке, пан инженер. Пунтик, да похвались же! Господи, как мы тогда жалобно скулили без хозяйки! Собака меня просто обожает. Они остановятся около рододендронов — Карел Выкоукал и женщина, которую когда-то звали Ружена Урбанова. Искусственный дождь орошает подстриженный газон, на котором нет ни стебелька сорной травы. Ро со скочтерьером на руках, Карел Выкоукал с трубочкой, — Ро помнит еще ее приятный запах. Он, конечно, будет в гольфах, они ему всегда шли, и этот косокроеный воротничок — ах, Карел, Карел! Садитесь, пожалуйста, пан инженер. Совесть Ро может быть спокойна: дверные ручки и паркет блестят, как зеркала, прислуга вышколена на славу. Теперь уж не то, что во времена пани Поланской, которая вечно торчала у обеденного стола и болтала. Мадам — настоящая мучительница, ей ничем не угодишь; то и дело поднимает крик: почему горничная подала блюдо справа, а не слева, почему садовник не расчистил тропинку к беседке. Ни садовник, ни горничная и понятия не имеют, ради какого невидимого гостя гоняет их мадам. Жизнь в вилле похожа на генеральную репетицию приема Карела Выкоукала. Разрешите предложить вам чашку чая? Сандвичи, крохотные, как конфеты, — такие подавали в немецком посольстве, — тминные палочки (сколько муки, столько же масла и сырого тертого картофеля, мужчинам больше нравится соленое), и запить все это крепким ликером. Карел увидит, какая Ро замечательная хозяйка. Карел еще пожалеет. Да что это ему пришло в голову? Домогаться ее после всего, что между ними произошло, — ах, бесстыдник! Извините, сударь, я замужем. Да, я люблю своего мужа. Муж ко мне идеально относится — как отец к дочери, но вы этого никогда не поймете, вы всегда были материалист… Ружа ежедневно с головы до пят натирается ароматной жидкостью марки «Герлен», в спальне для гостей в любую минуту будет постелено белье с ручной вышивкой мадера, — почему же не едет Карел? Старичок Густав каждый раз вылезает из паккарда один, сияя от предвкушения того удовольствия, которое он доставит своей молодой жене. И Ружена улыбалась ему уже с порога — жаль, что нельзя убивать улыбкой. «Кип смайлинг»,[4] девушка, держись, шофер смотрит. Что ж вы хотите, — мы живем не для себя, а для людей. Никто не видит, что делается за спущенными жалюзи, — а при свете каждый может убедиться в том, какой счастливый брак заключила Ружа. Об этом говорили не только в магазине Хорста и парикмахерской Сирупа. Свадьба Ро наделала шуму по всей Праге. Неужели же не дошло до Ул, к Карелу! Теперь он, конечно, мучается. А что, интересно, сказала о свадьбе Елена Гамзова? Так-так, значит, у Елены с Карелом все-таки ничего не вышло, это приятно, ну и довольно об этом, а все-таки в Нехлебах очень мило, хоть это и не курорт всемирной известности. Конечно, теперь Ружена скучает по Густаву — каникулы в суде закончились, и он может приезжать только с субботы на воскресенье. Но надо уметь превозмогать себя, и Ружена сама уговаривает мужа быть умником и не забрасывать практику — ведь нет другого такого замечательного юриста, как Густав. А не хочет ли Ружена вернуться с ним в Прагу? Ах, нет! С нехлебской виллой еще столько возни! И потом пани Ро обожает природу. Эти восхитительные краски, эти ландшафты… Ружена в первый же год осталась в Нехлебах на сентябрь. Аристократы ведь тоже живут в деревне до глубокой осени.
А разве не мило было бы обмениваться визитами с графиней в эти томительно долгие вечера? Однажды супруги Хойзлер были приглашены в замок — лесная контора графини судилась с общиной из-за луга, и Густав защищал господ в этом процессе. Во время посещения Ружена кое-что намотала себе на ус. Она пригласила графиню с ответным визитом; но та, к величайшему своему сожалению, должна была в тот день уехать в Прагу и вместо себя послала компаньонку. От этого уважение Ружены к графине еще более возросло. Пани Ро ничего не могла с собой поделать, такова уж была ее натура: выше всего ценила она тех людей, которые ею пренебрегали.
НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ
Господи, вот было хлопот с прабабушкой, когда Нелле пришлось перевозить ее из Нехлеб в пражскую квартиру! Сговорившись со Станиславом, который особенно нежно относился к прабабке, Нелла сказала ей, что деревянный дом будут перестраивать и, как только все наладится, прабабушка вернется обратно. Ни в коем случае она не должна была узнать, что деревянный дом купила Ружа, дочь их привратницы. Это нанесло бы старухе смертельный удар. Мир до неузнаваемости изменялся вокруг прабабушки, но зрение ее слабело, слух притуплялся, и кое-что, к счастью, ускользнуло от ее внимания. Старушка забаррикадировалась за привезенными с собой перинами; к полудню она с трудом выбиралась из них, надевала очки, брала клюку и выползала из своей норы, куда никто не допускался, чтобы у нее ничего не пропало. Заперев дверь, трижды проверив, надежно ли, старуха, позванивая ключами, шаркала в туфлях по квартире и давала Барборке добрые советы. Барборка была зла как черт. Двадцать лет живет здесь, двадцать лет ведет хозяйство — и вдруг кто-то собирается ее учить!
Барборка и не подозревала, с кем имеет честь спорить. Тут, в Праге, никто даже не догадывается, что за персона была прабабушка в своем родном городке. В молодости ее иначе и не называли, как «госпожа министерша», ни одна сколько-нибудь приличная свадьба не обходилась без нее. Прабабушка славилась как искусная повариха: раз как-то о ней даже писали в газетах. Эта бумажка у нее спрятана: Станичка, перечти-ка это место! Что ж удивительного, если она запирает свои сокровища! И внучка делает большую ошибку, что не следует ее примеру. Как, разве Нелла не держит сахар под замком? А вдруг Бара положит в кофе лишний кусок? Прабабушка только крестилась, глядя на такое возмутительное хозяйствование. Все за столом улыбались. Пусть кладет, сколько ей надо, ведь она много трудится, сказала однажды медичка Елена, человеческому организму нужен сахар. Видали — человеческий организм! Это же прислуга! Она и так целыми днями лодырничает. Глупые вы! Поэтому у вас никогда ничего не будет. Трудно было с прабабушкой, очень трудно. Ее родители помнили еще барщину, и это сказывалось до сих пор.
Много лет назад, когда прабабка сама была хозяйкой, она все с начала и до конца делала своими собственными руками, ей не нужно было никаких помощников. Но теперь ей не хотелось, чтобы Барборка догадалась об этом, и старушка разыгрывала барыню. Она ни о чем не просила, ни за что не благодарила, ничего не хвалила — только бранилась, отдавала приказания и всячески заносилась перед Барборкой. А той — хоть бы что! У нее-то больше прав на пражскую квартиру. Она знала одну только хозяйку — пани Гамзову — и не слушала приказов каких-то там приезжих. Она не послушалась, когда прабабушка велела ей просеивать сухарную крошку. Ах так, ну хорошо! Разговаривать с подобными людьми прабабушка, конечно, не станет, но наблюдать за Барборкой будет.
Прабабушка была скрытной и хитрой, она подвергала Барборку всевозможным испытаниям. Ради этого она не пожалела пятикроновой бумажки — это ведь деньги для таких людей! Она умышленно подкладывала ее то на буфет, то на подставку к безобразной скульптуре с расплющенным носом и толстыми губами (непонятно, что это Гамзы в ней нашли?) и ждала, что будет дальше. Если деньги исчезнут — ей будет жаль. Ей будет очень жаль, но она готова пойти на это ради своего триумфа. Она докажет доверчивой Нелле, что Барборка — воровка. А если они не исчезнут — тоже хорошо. В руках бабушки будет доказательство, что Барборка неряха и не стирает пыль.
Однако на следующий день за обедом бумажка как ни в чем не бывало оказалась около прабабушкиной тарелки. Чтобы Барборка да не поняла, откуда ветер дует! Она только усмехнулась, заметив захватанную бумажку. Да если бы вместо нее лежала тысячная банкнота — все равно, Барборка сроду копейки не взяла. Как раз наоборот. Знаешь ли ты, старуха, кто одолжил хозяйке деньги, когда настали для нас плохие времена и пришли описывать имущество? Но Барборка не станет об этом распространяться, — она не заикнулась об этом ни молочнице, ни торговцу, когда те пытались из нее что-нибудь выудить. Да где старухе понять все это! Она знает только самое себя. Жила в тепле у старой пани Витовой, а теперь у нас как сыр в масле катается. И еще волком смотрит. А ведь старая пани Витова, скажу я вам, не слишком-то ее любила. Барборка все насквозь видит, — уж ей-то очки втереть не удастся. Старая пани Витова — вот была барыня! Это была настоящая барыня — идет, так земля дрожит, за всем следит строго, как жандарм. Зато была с понятием, умела разговаривать с людьми. И всегда «спасибо» да «пожалуйста», всегда пошутит… Молодая-то хозяйка, пани Гамзова, была бы хороша, да что поделаешь, не умеет она ничего в руках держать и позволяет себе на шею садиться. Что, если б не было Барборки! Она ревниво охраняет выгоды Неллы. Вы ровно блаженная, внушает Бара хозяйке, все лучшее подсовываете старухе. Чего вы от нее ждете?
Однако Нелла умеет пропускать мимо ушей то, чего не желает слышать, и только смотрит в окно. И Барборка — словно ее окатили холодной водой — снова замыкается в себе. Все же они не такие подруги, как обеим хотелось бы думать.
Уже столько времени Барборка с Неллой ведут совместную борьбу против пыли и грязи, против холода и голода, против детских выходок и против мужчин с их фокусами. То Гамза придет к обеду в три часа, то буди его в пять утра на поезд. То вдруг взбредет ему в голову привести с собой ночью приятеля, и они перепачкают целый воз посуды и надымят, как в кабаке. А дети! Те рады превратить квартиру в сарай, пуговицы с них так и летят, одежда так и горит. Каждый божий день мы разбираем весь тот ералаш, который вы устроили. Когда к обеду вы возвращаетесь с работы, квартира снова похожа на человеческое жилье. Дома тепло и чисто, обед стоит на столе — разве это пустяки? Думаете, это сделалось само собой: «Столик, накройся!» Приходят на готовенькое, и никто этого даже не замечает. Но чуть что не так — сразу увидят, и тогда — не приведи господь! Сколько раз ворчали мужчины за то, что после генеральной уборки ничего не найдешь! И всегда в самый разгар доктор вдруг спохватывается: пусть Барборка сбегает туда-то и туда-то и принесет то-то и то-то, и обязательно подождет ответа — и подобные глупости, а Нелла его еще поддерживает. Пани Гамзова — недостаточно надежный союзник: она охотно идет на переговоры, когда кто-либо из стана противника домогается ее протекции перед Барборкой. Хорошо вам говорить! У Барборки только две руки. Домашняя барщина вечна, ей нет конца, она постоянно начинается сначала. Хоть бы уж не отрывали! Барборка завела свой порядок, одно идет за другим, и больше всего ее раздражает все непредвиденное. Прабабку, например, она никак не ждала. Молодая хозяйка тоже хороша! Привозит старуху, даже не спросив Барборку. Хотя бы посоветовалась! Барборка отговорила бы ее. А если бы и не отговорила — все равно, Барборке очень по сердцу, когда с ней советуются. Разве не живет она двадцать лет в этом доме? С какой стати будет она позволять старухе такое? Брошу все и сбегу!
Вот был крест с Барборкой! А с прабабушкой и того пуще. Она забывала, куда что положила, а то, что она не может найти, конечно, украла Бара. Бара утащила у прабабушки футляр от очков, забрала ее палку, — эта женщина способна на все. Это — прожженная воровка. Прабабка не в состоянии удержать нить рассуждений и что-то бормочет себе под нос: она плохо слышит и, совершая обходы вокруг кухни, разговаривает сама с собой. И зачем только вы ее слушаете, Барборка? Не обращайте внимания, разве вы не видите, какая она, бедняжка, старенькая? А вы вот лучше старуху вразумите, строптиво отвечает Барборка.
Господи, если бы это было возможно! Самой прабабке было бы, вероятно, легче, если бы кто-нибудь снял с нее бремя подозрений. Барборка даже знать не знает, какой черной властью она пользуется над прабабушкой. У старухи отекают ноги — виновата Бара, зачем проветривает. У старухи пропал аппетит — злодейка сыплет ей какой-нибудь порошок в молоко. Бабушка! Ну как ты можешь говорить такие вещи? Всегда вы ее защищаете, раздражается бабка, потом печально кивает головой:
— Значит, и ты, Неллинька, с ней сговорилась?
Еще год назад в Нехлебах прабабка не знала, где у нее сердце, а теперь? Что с ним творится! Как будто всхлипывает, сжимается — так, как только может сжиматься у людей в молодые годы от жалости. Этому уж не помогут даже Еленкины капли. А все Бара, мстительная женщина. Все наслала на меня эта колдунья. За столом все замолкают и смотрят в тарелки. Ни у кого не находится печальной смелости поднять глаза и предположить: «Бабушка, а не возраст ли это?»
Прабабка живет среди самых близких людей, но она одинока. Только она начнет говорить о своей распре с Барборкой, все потихоньку выходят, даже Станичек, хотя он самый преданный. Зато и прабабушка, обычно скупая, время от времени подсовывает ему деньги. Если б она только догадывалась, кому Станислав на эти деньги покупает цветы! Счастье, что она этого не знает. И куда это молодежь все спешит? Какой там театр, какая библиотека, клиника, контора — на дворе мороз, простудитесь! Сырым могильным холодом несет от окон — прабабка ощущает его во всех костях. И она затыкает старыми газетами какие-то щели, считает Неллино приданое и никак не может досчитаться. Хорошенькие здесь творились бы дела, если бы не доглядывала прабабушка! Но никто ее не слушает, не снисходит до ответа — всем некогда. Ну и ладно.
Не добившись справедливости словами, прабабка обратилась к бумаге. В тетради для второго класса начальной школы, оставшейся у нее после покойного сына, сохранилось несколько чистых листов — вот видите, и сгодились, хорошо все-таки припрятывать добришко про черный день. Прабабушка взяла карандаш, забытый почтальоном, который ежемесячно вручает ей пенсию, надела очки и на одном из неровно оторванных, запыленных и пожелтевших листков с выцветшими линейками принялась записывать Неллино приданое и то, чего, по ее мнению, недоставало. В конце с новой строки она приписала: «И это все взяла Барборка». Для верности она изготовила несколько копий и разбросала эти листовки по квартире. Нелла не успела их уничтожить. Гамза поднял одну из них. Вообще он не вмешивался в женские дела, но тут, к удивлению прабабушки, рассердился.
— Брось ты эти штучки, бабушка, — припугнул он старуху. — Барборка подаст на тебя жалобу за клевету. Как ты докажешь это? Вот подожди, вызовут тебя в суд, тогда будешь знать.
— Ты сможешь меня защитить, — лукаво промолвила бабка.
— Я не стал бы защищать тебя, я стал бы защищать Барборку. В нашем доме никто не будет незаслуженно оскорблять людей. Слышишь, бабушка?
— Ну и пусть, — ответила бабка. Это — вроде заклинания. Скажет: «Ну и пусть», — и дело с концом. В ней много самоуверенности избалованного ребенка: что бы она ни натворила, Неллинька за нее все уладит.
Иногда, чтобы вывести душу бабки из заколдованного круга домашних забот, Нелла подсаживалась к ней и расспрашивала о давно минувших событиях, которые старушка хорошо помнила. Из этих разговоров Нелла узнала, что однажды, когда бабушка маленькой девочкой играла днем в саду, неожиданно в деревню прибежал какой-то человек и во всю мочь закричал: «Спасайтесь, добрые люди, пруссаки идут!»
Но ревнивая Барборка вторгалась в комнату и под каким-нибудь неотложным предлогом уводила хозяйку. Куда опять подевались все наши тарелки? Скоро есть не на чем будет!
Прабабка обедала вместе со всеми (осуждая вслух каждое блюдо, приготовленное Барборкой), а ужин уносила к себе в комнату. Но к вечеру аппетит у нее пропадал, и она прятала все, что не в силах была съесть. Сохрани бог убрать спрятанную еду! Прабабушка ни за что не отдаст. Это ее еда. А вдруг она ночью проголодается? Прабабушкина крепость хорошо снабжена продовольствием. Куда бы вы ни поглядели: на стол, на тумбочку, на подоконник, на комод — всюду тарелки с едой. Они множатся с лихорадочной быстротой. Хлеб черствеет и плесневеет, масло горкнет, ветчина покрывается металлически-зелеными пятнами, яблоки гниют, на все садятся мухи. Вы всегда что-нибудь выдумаете. Какие мухи? Прабабушка не видит никаких мух. Главное, здесь нет моли: одежда бабушки хорошо предохранена от порчи. Нафталинное облако висит над испарениями постели и тела старуха — воздух такой, что хоть топор вешай. Э, нет, нет, — не проветривайте! Зачем выпускать тепло на улицу! Прабабушка хорошо знает, почему она даже Нелле очень редко и неохотно доверяет ключ от своей комнаты. А Барборы и ноги там не будет. (Барборка и не напрашивается, пусть сами этот хлев убирают.) А то еще прислуга что-нибудь унесет. И так прабабка не может досчитаться своих перин: не спит ли под недостающей периной Барбора?
Как-то в воскресенье старуха проникла в комнатку прислуги и все там перевернула вверх дном. Нелле пришлось силой увести старуху. Долго еще после этого старуха разговаривала сама с собой; весь бесконечный воскресный вечер бормотала проклятья. Осужденная на бездеятельность слабеющим зрением и немеющими конечностями, она дни и ночи напролет ведет мысленный процесс с Барборой, с каждым днем возводя на прислугу все более тяжкие обвинения. Однажды старуха упала, усаживаясь в качалку: это Бара ее толкнула. Как ты можешь так говорить, бабушка? Ведь в это время Бара была на кухне! Пусть Нелла не заступается за эту негодницу. Только и знает, что выгораживает ее. Разве Нелле не известно, что Барбора бросила ножницами в бабушку? Хотела ей выколоть глаза!
— Это бред, мама, — сказала Еленка. — Склероз мозга. Надо бы определить ее в приют для престарелых.
Ни за что на свете! Прабабушка неотделима от нас, испокон веков она с нами. Может ли Еленка представить себе сочельник без нее? Станислав, например, не может. Даже если прабабушка будет только сидеть и молчать и даже если снова затеет скандал из-за того, что Бара, подав ей вместо ухи гороховый суп, не пожелала выслушать за это выговор. Ну и что же? Станислав не даст прабабушку в обиду.
Он видел ее ежедневно и привык к ее странностям. Но Еленка, вернувшись с Татр, пришла в ужас от домашних неурядиц. Хорошо Стане говорить! Уйдет в библиотеку или в театр, только его и видели, дома ему не о чем заботиться. Он не завяз по уши в этой войне мышей и лягушек, как мать, на него не давит кошмар прабабушкиной комнаты. И вообще Елена не понимает, чего ради они позволяют бестолковому человеку непрерывно обижать Барборку и портить ей жизнь?
Не успела Елена приехать из санатория, как принялась наводить порядок в семье, и отец живо ее поддержал. Он не хотел начинать первым, поскольку речь шла о родственнице его жены. Однако и ему претит это царство неразумия в доме. Муж и дочь правы, допускала Нелла, но жалость к бабке и страх перед Еленкой, в котором она сама себе не признавалась, разрывали ее душу. Человек, называющий вещи своими именами, даже если речь идет о его близких, кажется нам бессердечным. Разве это не безбожно — выжить старуху из дому?
— Да нет у нее никакого дома. Зачем ты себя обманываешь, мама? Она одинока здесь как перст. Ни с кем из нас она уже не находит общего языка. А там старички и старушки, им хорошо вместе. Кроме того, медицинское обслуживание там лучше. Вот увидишь, как ей понравится.
Пани Гамзова сомневалась в этом. Она и Станислав, эмоциональная и инертная половина семьи, колебались. Ну, как хотите. И Еленка по уши погрузилась в подготовку к выпускным экзаменам, проходила практику в клиниках, начала дружить с Тоником и выкинула домашние дела из головы. Все шло по-старому.
Однажды вечером — прабабушка уже удалилась в свою комнату и заперлась там — Нелла почувствовала запах паленой шерсти. Осмотрела квартиру — в кухне все было в порядке; пошла по запаху — он привел ее к запертым дверям старухи. Слышно было, как бабка ходит, покашливает. Нелла постучала — никакого ответа. Тогда она застучала сильнее, настойчивей. Старуха помедлила и потом, осторожно приоткрыв дверь, недоверчиво выглянула в коридор. Из дверей повалил дым. Нелла вошла. Вся комната, беспорядочная комната — с кучками объедков, валявшихся повсюду, это жилище человека с бедным больным мозгом — была полна дыма. И как это прабабка не заметила! Бедняжка могла задохнуться. На столе среди всякого хлама, среди кульков с конфетами и коробочек из-под пилюль, стояла спиртовка. Пускай Нелла сама убедится: заварив целебный чай, приготовление которого она никому не доверяла, бабушка хорошо прикрутила фитилек. Уж не думает ли Нелла, что бабушка впервые держит спиртовку в руках? Но куда же она бросила горящую спичку? Спичка, наверное, вылетела у бабушки из руки, и она забыла о ней. Из-под бабушкиного пледа, который соскользнул с ее плеч на пол, валил дым. Густой дым. По запаху паленой овчины можно было понять, что плед — хороший, из настоящей шерсти. В нем выгорела дыра размером с крупную монету — это сердило прабабушку больше всего. Она даже не испугалась, что мог возникнуть пожар. Страх какой, подумаешь! Неллинька сейчас же затоптала огонь. Только не открывай окна! Не выпускай тепло. Все равно, это подожгла Бара, чтобы отомстить.
Через неделю после этого, выполнив необходимые формальности, Нелла с Еленкой отвезли прабабку в Крч.
ДВА МИРА
Еленка закапчивала практику в ортопедическом отделении, когда в ее палату положили молодого человека с переломом бедренной кости. Обычный fractura femoris[5] — вовсе не интересный случай. В клинике не уважают таких больных, стараются поскорее от них избавиться, но это не так-то скоро получается. Зато молодого человека интересовало все, что проделывали с его ногой; с деловитым любопытством он следил, как его ногу подняли и закрепили в аппарате, как в ходе лечения меняли груз. Больные с ногой «в люльке» бывают обычно угрюмы, но этот проявлял какое-то дружеское отношение к аппарату. Это был молодой мужчина со вдумчивым ребячьим лицом и веселыми глазами, и как только он несколько пришел в себя, попросил принести свой перочинный ножик и сразу начал что-то мастерить. Другие больные дремали, тоскливо мечтали, апатично предавались отдыху, в лучшем случае читали газеты. А этот без устали что-то ковырял своим ножичком. У одного больного остановились часы; молодой человек открыл крышку и до тех пор играл колесиками, тоненькими, как нервы, волосками, спиральками и пружинками, до тех пор наблюдал, трогал и слушал, пока часики снова не стали тикать. Он починил фонарик дежурной сестре, замок на сумочке — жене своего соседа, а его сыну, когда тот пришел в воскресенье навестить отца, смастерил карету из спичечного коробка; он не мог спокойно видеть ни спички, ни зубочистки; сейчас же этот материал превращался в игрушечное весло или в лапку игрушечной зверюшки. Если ему совсем нечего было делать, он довольствовался тем, что рисовал на полях газеты узоры, раз как-то свернул из бумажной салфеточки розу и в шутку преподнес сестре — в награду за хлопоты, которые он доставлял ей своим бритьем: каждый день она должна была подавать ему бритву и мыло. Видимо, ему так же необходимо было занимать руки работой, как другим курить или читать. Что стал бы он делать, если б у него была сломана рука, а не нога?
— Как это случилось? — спросила его Еленка.
— Да это я изображал карандаш.
Он говорил по-чешски со странным акцептом, и Еленка решила, что не поняла его.
— Карандаш?
— Живая реклама. Неудобный костюм, чувствуешь себя очень неуверенно — мало что видно через прорези для глаз. Мы должны были прохаживаться по обеим сторонам Национального проспекта. Когда я хотел перейти его возле театра, неожиданно появился фордик, и то ли я не слышал сигнала, то ли еще что — только я испугался машины, споткнулся во всем этом шутовском наряде и грохнулся со своих ходуль, — засмеялся больной. — И будто нарочно — фордик. Вот не повезло! Дело в том, что я служил у Форда.
— В Америке? (Так вот откуда у него этот смешной акцент!)
— Да, в Детройте. Но последнее время я работал на сборке машин в пражском филиале. К сожалению, у фордовских машин хорошие тормоза: меня даже не зацепило — компенсации не будет.
— Вы без работы?
— Да, но теперь-то мне уж будет хорошо, — поспешно проговорил он. — Я подал заявление, что хочу поехать в Советский Союз как специалист, — знаете, туда едут американские инженеры. Только все это не так скоро делается.
— Я тоже с удовольствием съездила бы туда.
Молодой человек поднял на нее веселые глаза.
— Поедемте вместе, доктор!
Еленка воображала, что у нее нет никаких предрассудков. Но все же она была внучкой надворного советника, и это, помимо ее сознания, временами сказывалось.
— Пока что я не доктор, а просто Гамзова, — ответила девушка холодно и отошла к соседней койке.
На другой день Еленка продолжала практику уже в родильном отделении и, что было дальше с «Карандашом», не знала.
Через некоторое время у дверей квартиры Гамзы позвонил невысокий плечистый молодой человек, этакий крепыш с детски серьезным лицом, выражающим живую заинтересованность. Он слегка хромал и опирался на палку.
— Что вам угодно? — спросила его Нелла.
Молодой человек глянул на нее веселыми глазами.
— Видеть вашу сестру, — ответил он, — ведь у вас есть сестра, медичка? Вы очень похожи друг на друга.
— Вы имеете в виду мою дочь? — догадалась Нелла и улыбнулась нечаянной лести. — Ее нет дома, — сказала она ласково. — Что ей передать?
— Я хотел бы на ней жениться, — спокойно произнес незнакомец, — и мне надо с ней об этом переговорить.
Этот эпизод вошел в семейную хронику. И когда Тоника давно уже перестали называть «Карандашом» и он превратился в хорошо известного всем просто Тоника, Нелла любила рассказывать этот случай; при этом она с юмором изображала, как ей тогда показалось, что у парня не хватает шариков в голове. Но сам Тоник никогда не находил тут чего-либо ненормального. Почему нельзя говорить с людьми прямо? Правда, здесь была одна загвоздка: Тоник тоже был не таким уж искренним, каким притворялся; но в тайну он посвятил одну только Еленку, взяв с нее обещание молчать. Еленка со смехом обещала. Ведь Тоник сразу сообразил, что перед ним была мать Еленки; однако, чтобы польстить ей, он сделал вид, будто считает их сестрами. Тоник тоже был не лыком шит! Он разбирался в людях, как все, кому с малых лет надо было пробиваться в жизни.
Ему приходилось то мыть окна на головокружительной высоте, то ползать по земле, смазывая машины; днем он работал простым рабочим у Форда, вечером учился в детройтском политехникуме. Антонин Скршиванек был одинок в этом мире. Отец у него погиб в результате несчастного случая на пивоваренном заводе, мать умерла, когда Тоник ходил еще в начальную школу. После того как он ее закончил, оба брата Скршиванеки переселились из моравской деревни в Соединенные Штаты. Но старший брат в первый же год жизни в Чикаго умер от менингита. Это был большой удар для Тоника. Конечно, были у него товарищи всех цветов и национальностей и, конечно, случайные женщины мелькали в его жизни — Тоник вовсе не был святым. Но все же брат — это брат, и Тоник остался один как перст. Его послали на работу в пражский филиал фордовских заводов, и он, возвращаясь на пароходе в старую Европу, выходил ночью на палубу и смотрел на звезды и на простирающийся вокруг него во тьме бескрайний океан; тогда ему приходила б голову мысль: если ты сейчас исчезнешь — никто по тебе не заплачет, вернешься в Чехию — никто тебе не обрадуется. На родине его снова поджидали тяжелые времена: во время кризиса филиал Форда в Праге закрылся, и молодой человек совершенно не знал, куда броситься и что делать. Однако он не отчаивался. Зубами и ногтями держался за жизнь.
— Я рад, что родился, — совсем по-детски заявил он однажды на своем исковерканном чешском языке. — Умри я — меня бы это здорово раздосадовало.
— Положим, это могло бы раздосадовать уже только одну меня, — смеялась ему в ответ Еленка.
Они заехали в Крч проститься с прабабушкой: завтра, после свадьбы, они отправляются в Советский Союз. Обоим пришлось порядком побегать по различным учреждениям. Но теперь у них, слава богу, уже все на месте — паспорта, визы, свидетельства, справки и как там еще называются все эти неизбежные бумаги, и деньги они уже обменяли, и потертый чемодан Тоника стоит в квартире Гамзы рядом с новеньким чемоданом Еленки, — и оба так и рвутся в путь, скорее в путь. Неделю назад Еленка получила диплом и сияет. Влюбленные всюду ходят вместе, и этот семейный визит имеет прелесть новизны. Они — воплощение смеха и при всем желании не в состоянии подумать о том, как грустно будет Нелле, когда они уедут.
Молодые люди застали прабабушку в саду: она беседовала со старушками. Старая дева из пятого номера, бывшая учительница, уверила прабабку, что лифт еще ни разу не обрывался, и теперь старушка уже не возражает, когда за ней заходит сестра, чтобы свезти вниз, на солнышко. Когда она жила у Гамзы, ей так трудно было подниматься по лестнице, что она предпочитала сидеть дома и, крутя от безделья пальцами, плести черную нить интриг против Барборки. Все это уже забыто, у прабабушки есть теперь развлечение получше. Через столько лет вернулись к ней былые времена. Снова, как прежде, когда она жила в местечке и была еще «госпожой министершей», старушка могла в любое время поболтать с соседками. А у Гамзы разве поговоришь? Что ни скажешь — в одно ухо у них входило, в другое выходило, отвечали еле-еле. И дом-то у них как проходной двор.
В солнечном приютском саду старушкам спешить некуда. Нацепив очки, они осторожно усаживаются на лавочки со своими клюками. Они важничают и величают друг друга, как во времена императора. Когда прабабушка открывает рот и начинает говорить, синклит старушек внимательно выслушивает ее и кивает головами в знак одобрения. Здесь слово прабабушки имеет вес. Иногда от группы стариков отделяется услужливый пан официал[6] в отставке, подходит к кружку старых дам и предлагает им газету «Народный страж». Чтение газеты утомительно для прабабушки, однако внимание старого пана ей приятно.
Сейчас она сидит в шезлонге — седая голова под черной шалью из синельки, — сзади нее зеленые кусты, напротив на лавочке три старушки. Одна сморщенная, как сушеное яблоко, другая расплылась сырым тестом в квашне, третья согнулась так, что походит на слегка раздвинутый складной нож. Когда-то и они прямо несли свое тело, шаги их звенели желанием жизни, и молодые люди, вроде Тоника, с восторгом любовались ими. Прабабушка когда-то тоже была невестой, тогда ей было шестнадцать лет, но с тех пор прошло столько времени, что все это уже и не похоже на правду. Еленке впервые в жизни пришла в голову мысль, что в молодости прабабушка, вероятно, была красавицей. Никогда еще не любила она старуху так, как в этом тихом саду среди старых людей, накануне своего отъезда. «Я вижу ее сегодня в последний раз, — подумала вдруг Еленка. — Едва ли она будет жива, когда мы вернемся». Но Еленка не принадлежала к людям, которые сразу же раскисают. Она подавила волнение и весело воскликнула:
— Прабабушка, да ты поправилась! Это тебе идет!
Лесть не удивила старуху.
— Еще бы, — ответила она. — Все в палате удивляются тому, как молодо я выгляжу. Никто не дает мне больше семидесяти.
Влюбленные обменялись улыбкой.
— Это Тоник, — сообщила Еленка.
Старуха посмотрела на нее с вопросительным недоумением: она видела молодого человека, еще когда жила у Гамзы, но успела о нем забыть.
— Это мой жених, — перевела Еленка на язык прабабушки.
Влюбленным показалось забавным такое парадное слово. Но старушки на лавочке, услышав его, повернули прояснившиеся лица и заулыбались беззубыми ртами: неистребимый интерес к свадьбам, крестинам и похоронам оживил их, и они приветливо оглядели молодую пару.
Тоник сумел найти путь к сердцу прабабушки. Отроду он не целовал женщинам руки. Однако тут он сразу понял, что в присутствии других старух прабабушка ждет этого, и церемонно склонился к ее руке.
— Ах, оставьте, — сказала она, зарумянившись от удовольствия.
Помолвленные принесли ей сладостей, и старушка, которая дома, надо признаться, была скуповата, теперь так и таяла от щедрости. Она хотела показать себя и усиленно потчевала пани советницу, вдову податного инспектора и старую деву учительницу. Конечно, ей приятно было похвастаться перед старушками — вот, мол, как ухаживают за ней молодые люди. Старухи жеманились и заставляли себя просить — во времена императора это считалось признаком хорошего тона. Но в конце концов они уступили, чопорно взяли по пирожному, поблагодарили, заявив, что съедят его позднее, уложили сладости в свои ридикюли и потихоньку удалились, чтобы дать возможность родственникам поговорить наедине.
— Когда будет свадьба? — выспрашивала прабабушка. — Много ли у тебя будет подружек, Еленка?
И когда старуха услышала, что подружек не будет совсем, что это будет скромное гражданское бракосочетание, ей стало грустно за правнучку.
— Ты же молодая, Еленка! Зачем прячешься от света? — И осведомилась, где состоится свадебный пир.
Но пира тоже не будет, и прабабка совсем опечалилась. Чем радует жизнь нынешних молодых людей?
— Послушай, подойди-ка сюда, — недовольно подозвала она девушку. Приблизив большое желтое лицо к жарко-румяной щеке Еленки и воображая, что говорит тихо, старуха спросила:
— А как, у него денег много? — и кивнула в сторону Тоника с не поддающимся описанию деревенским выражением. — Богатый?
Тоник, подавив улыбку, отвернулся и принялся рассматривать цветы на кустах.
— Его богатство вот где, — весело ответила Еленка, указав себе на лоб.
— Да он худой какой, — озабоченно проговорила прабабка. — Скажи ему, чтоб побольше ел.
— Тоничек, — повторила озорница, — ты должен много есть, слышишь? Чтобы был толстый!
— А какая у тебя будет кухня, Еленка? Белая, да?
Еленка созналась, что у нее нет даже солонки, не то что кухни. И вообще у нее пока ничего нет, потому что они с Тоником уезжают работать в Россию. Прабабушка перекрестилась.
— Господи! В Россию! Что за причуды? Вы же там замерзнете! Не смейся, девочка, там холодно. Возьми с собой бумазейную нижнюю юбку, чтобы не простудиться.
Шалунья совершенно серьезно пообещала ей это; потом, заметив, что прабабка забеспокоилась, все посматривает на пирожные и, видимо, стесняется брать их при Тонике, дала ему знак, и они встали.
— Да смотрите, чтобы большевики с вами чего не сделали, — вспомнила старуха. — Будьте осторожны!
Влюбленные рассмеялись. Они смеялись не над старухой, а просто так, оттого, что жизнь била в них через край. Еленка успокоила прабабку:
— Папа ведь тоже большевик!
— Ну? — удивилась прабабка. — А я и не знала. Никто мне ничего не говорит, — рассеянно добавила она. Пристально, будто взор ее притягивала некая высшая сила, старуха смотрела на трубочку со взбитыми сливками, и как только помолвленные повернулись к ней спиной, она украдкой, как ребенок, делающий то, чего ему не велят, с быстротой, какой никто не мог подозревать у этой медлительной старухи, протянула большую темную руку к трубочке и с наслаждением принялась за еду.
— Бедняжка прабабушка, — говорили между собой влюбленные, выходя из ворот богадельни. — Не угодили мы ей.
Но прабабушка не позволила испортить себе радость. Она скрыла от старушек все, что ей не нравилось в жизни Гамзов, и хвасталась, что муж Еленки — богатый фабрикант. Уже бог весть какой по счету автомобиль собирал с механиками Тоник на нижегородском заводе, уж бог весть какого по счету татарчонка выстукивала в заводской поликлинике Еленка, а старушки в Крчи все еще слушали рассказы о богатом приданом правнучки — о настоящем полотне и серебре, о дорогой обстановке на четыре комнаты, о перинах для шести постелей из лучшего пуха — и одобрительно кивали головами.
ЗНАКОМСТВО
Станислав Гамза работал в каталоге периодики университетской библиотеки с двумя коллегами. Каждый раз, когда в «Утренней газете» печаталась его критическая статья о театре (уже пятая по счету), он от переполнявшего его внутреннего счастья бывал особенно ласков и внимателен к сослуживцам. Долгое время ему все еще не верилось, что он, Станя, которого Еленка называла «недотепой» и которому повязывали на шею унизительный турецкий платок, когда он болел ангиной, что этот Станя теперь действительно взрослый, что он, как и все другие настоящие рецензенты, ходит в театр на места, отведенные для журналистов, на первом балконе, что его печатают и принимают всерьез. Правда, сам он был уверен, что заслуживает этого. Разбирая спектакль, он, как говорится, танцевал от печки. Чтобы дать оценку пьесе, прежде всего следует указать те законы драмы, по которым вы ее судите; эти законы Станя излагал в двух-трех хорошо продуманных фразах, а все остальное место, отведенное для статьи, принадлежало актерам. Актеров он стремился изображать наглядно: в их движениях, мимике и речи, старался показать, как они живут — или просто торчат — на сцене. Театр возносится и гибнет с артистом. Недостаточно подарить артисту пустую фразу признания где-нибудь в конце литературной статьи, как это делают в большинстве случаев театральные рецензенты. Критик — не учитель начальной школы, чтобы проставлять отметки. Он должен помогать артисту. Объяснять ему, в чем он ошибается, показывать, какими средствами он создает жизненно правдивый образ. Артист — это альфа и омега драматического искусства. И почему только вместо «омега» набрали «онега»! Ох, эти опечатки, с ума можно сойти! Так и хочется оправдаться при встрече со знакомыми: не такой уж я осел, чтобы писать подобную чепуху.
— Пан доктор Гамза, к телефону! — значительно пропел пан Гачек, душа Клементинума.[7] Станислав оставил свой картотечный ящик с буквами «Л — Лб» и побежал к аппарату. Он был настолько юн, и все ему было так внове, что его развлекали даже телефонные разговоры.
Я не испорчу его образ, если замечу, что он задерживался у телефона дольше, чем это необходимо, чтобы назначить свидание, и что игривые диалоги он сопровождал мимикой и улыбками. Однако на этот раз разговор был непривычно короткий.
— Говорит Власта Тихая, — произнес черный, черный голос, и Станя испугался: нет, не может быть. Этот голос он слышал со сцены, аппарат преувеличивал его патетические глубины.
— Пан Гамза, я знаю вас по вашим критическим статьям, — сказала актриса с несколько угрожающей любезностью, — но мне хотелось бы познакомиться с вами лично. Будьте так добры, приезжайте сейчас ко мне! Мне с вами необходимо срочно поговорить. — Она назвала свой адрес на Смиховской набережной и повесила трубку.
Разве библиотека — голубятня, чтобы вылетать из нее без причин в рабочее время? Станя слишком поздно вспомнил, что за весь разговор он сумел лишь несколько раз вставить «пожалуйста». Актриса не давала ему слова сказать, а приказ ее звучал так категорически, что Стане ничего не оставалось, как попросить коллегу заменить его ненадолго — ему-де надо отлучиться по делам редакции — и убежать. Что ей от меня надо? Ясно, хочет поблагодарить за сегодняшнюю статью «Цецилия Барнет». Этот панегирик заслужен, она гениальная женщина. Но, видно, сумасбродная, как большинство артистов. Господи, могла поблагодарить просто по телефону, раз уж ей так приспичило. К чему эта горячка? Но Станя не сердился. С тех пор как он начал писать о театре, вокруг него совершались только очень интересные вещи.
Еле переводя дух, он позвонил у дверей актрисы. Долго никто не открывал. Потом раздалось ленивое шарканье; недоверчивый глаз смотрел на него через круглый глазок. Пожилая горничная приоткрыла дверь; она не хотела впустить его даже в прихожую и вела переговоры на пороге.
— Пойду посмотрю, дома ли пани Тихая, — недружелюбно сказала она. — Кажется, ушла.
— Она только что пригласила меня по телефону, — заявил Станя.
Горничная впустила его в прихожую, продолжая ту же игру:
— Не думаю, чтобы пани Тихая могла вас сейчас принять. У нее страшная невралгия.
Она очень хорошо выговорила трудное слово. Видно, привыкла к нему.
— Моя фамилия — Гамза, театральный рецензент из «Утренней газеты», — произнес Станя с достоинством человека, который написал уже пять критических статей. — Вы только доложите обо мне.
Горничная ушла, потом вернулась и нехотя открыла перед ним дверь в комнату, выходящую окнами на реку.
— Присядьте, пожалуйста, — произнесла она тоном пифии.
Денег на такси по гамзовским традициям у Стани не было, тем более что близился конец месяца, а ждать трамвая — на это он не нашел в себе достаточно старческого терпения. Всю дорогу от Клементинума до Смиховской набережной он мчался во весь дух. После такого забега на длинную дистанцию ему приятно было собраться с мыслями и дать своему пульсу успокоиться в прохладном одиночестве этой комнаты. Приятные впечатления переплетались здесь с неприятными. Приятными были влтавский воздух, деревья на острове, заглядывающие в открытые окна комнаты, полной стекла и цветов. Пестрые ленты с золотыми надписями, выставленные в витрине, нравились Стане уже меньше. «Будто с собственных похорон, — подумал он с озорством. — И чего она их не сожжет, эти тряпки!» Да где уж там! Это трофеи, скальпы. Осеннее влтавское солнце поблескивало то на листке лаврового венка из альпака, то на застекленной лысине какого-нибудь драматурга. На стенке висела целая галерея этих голов — голых или в париках — с автографами, надписанными наискось: «Единственной в своем роде Пампелюз», «Принцессе Недотроге, которая воплотила мою мечту», «Незабываемой Мэй», «à Mme Vlasta Ticha — artiste géniale, avec l’expression de mon admiration profonde».[8] Последний автограф принадлежал мужчине с носатой романской физиономией — как видно, одному из тех иностранцев, что приезжали в Прагу на премьеры своих переведенных пьес; висел тут и пышный диплом, написанный кириллицей. Но ни одной фотографии самой актрисы. Что ж, это говорит в ее пользу. Только оригинал известной карикатуры, подчеркивающей несоответствие между тяжелым трагическим лицом актрисы и ее хрупкой фигурой. И как в ней уживается юмор с привязанностью к этим безвкусным безделушкам, купленным во время гастролей «на память»? Станя привык дома к простой обстановке, и все эти венецианские мозаики, истрийские раковины и дамасские ткани на стенах раздражали его. Ожидание затягивалось, и Стане все противнее становилась голенастая тряпичная кукла, усаженная на тахту, по которой были разбросаны подушки всевозможнейших цветов, форм и величины. Он терпеть не мог эти претенциозные игрушки, которые теперь часто покачиваются в окнах автомобилей и украшают дамские будуары. Единственно разумным предметом тут был домашний бар. Неплохо, если бы Тихая приготовила хороший коктейль. Но что она, собственно, думает? Позвала меня, чтобы шутки надо мной шутить? Меня ждут в библиотеке! Не умнее ли встать да уйти?
В эту минуту в комнату вошла артистка — в блузке и юбке, подпоясанной ремешком. Она была не так стара, как того опасался Станислав. Перед ним была Тихая почти такая, какою он видел ее на сцене, только погасшая и без грима.
— Извините, — бросила она, садясь, — нет ли у вас сигарет? Мои кончились. Не знаю, что только Марженка делает.
Будто в ответ послышался стук захлопнувшейся входной двери и топот Марженки, побежавшей за сигаретами.
Артистка сделала несколько порывистых затяжек, сбила пепел узенькой рукой, серьезно, грустно и нежно посмотрела на Станю и спросила голосом мученицы:
— Пан Гамза, за что вы хотите выжить меня из Большого театра?
Станя выпучил глаза.
— Я… вас… из Большого театра? Да если бы я даже захотел — но я не хочу, мне это и во сне не снилось, — все равно у меня нет такой власти…
— У вас есть полная власть, — возразила актриса, повышая голос и поднимая брови. — Мы — в руках критики. И с вашей стороны, пан Гамза, неблагородно так поступать со мной. Вы мужчина, а я женщина.
«Один из нас спятил, — подумал Станислав, — надеюсь, не я!» Все время, пока он бежал сюда и ждал ее, он всем своим существом готовился к тому скромному тону, с каким будет отвергать признательные слова артистки, и теперь был совершенно сбит с толку.
— Простите, — сказал он, — но что я вам сделал?
Артистка как-то мстительно заискрилась.
— Что вы мне сделали! И вы еще спрашиваете! Пишете обо мне, что я старая гвардия, ненужная ветошь, что мне пора на свалку…
— Я этого не писал! — ужаснулся Станя.
— Нет, но почти! Вспомните только! Я принесла бы вам, да порвала газету, так она меня разозлила. Я наизусть запомнила. Что моя способность перевоплощаться гениальна, — начала она иронически, и Станя показался себе последним дураком. — Что я так умею преображать свою душу… («существо», — мысленно поправил ее Станя), что это формирует весь образ в целом…
— …лепит, — не выдержал Станя.
— Все равно. Что зритель совершенно забывает о моем возрасте и вместе со мной верит, будто мне двадцать лет со всеми радостями и печалями юности…
— Я думал, в этом-то и есть заслуга, — буркнул Станя.
— Ну да, заслуга. Еще одна такая статья, и на меня навалят роли старух. Я избегаю их не из тщеславия, пан Гамза, у меня есть совесть художника. Боюсь, я не сыграю старуху…
— Вы сыграете все, что захотите! — воскликнул Станислав и сейчас же испугался нового промаха. Она сидела перед ним — такая сиротливая, хрупкая, драгоценная, брошенная на произвол судьбы… Что за жестокость — бить женщину!
— Запомните, у актера нет возраста. Я говорю это вам в ваших же интересах, — тон актрисы был материнским. — Вы молоды и одарены, очень одарены, к чему же вам с самого начала заводить врагов в театре?
— Ну, тут уж приходится рисковать, — сказал Станя.
— Я говорю не о себе, — отвечала на это артистка. — Я, как видите, спокойно принимаю такие вещи. Но не всякий так рассудителен, как я. Я говорю о моих коллегах.
«Ну, это уж, пожалуй, чересчур», — подумал Станя.
— Пан Гамза, относитесь к ним хорошо, — попросила артистка и, поглаживая длинноногую куклу, которую притянула к себе на колени, подняла на него нежные южные очи Миньоны. — Будьте к ним снисходительны, им трудно живется. Хотя Ковальской иногда и не вредно дать по рукам — она ужасная пошлячка, но критика могла бы и ей помочь углубить ее творчество — что делать, страдание возвышает художника. У вас такое влияние…
— Ничего подобного, — упрямо боролся Станя.
— …и вы им не злоупотребляете, я знаю, — договорила артистка. — Я хотела вас просить лишь об одном: прежде чем писать о нас, взвесьте хорошенько каждое слово! Что написано пером, не вырубишь топором! Любой может прочитать, и тогда стоишь перед всеми такой пристыженной, такой обнаженной, такой…
Какая-то чувствительная точка, присущая актерам, дрогнула у нее между бровями, и Станя испугался, что она расплачется.
— Знаю, знаю! Понимаю, — говорил он, хмурясь в мучительном замешательстве. — Вы показываете себя всю, а наш брат после спектакля прячется за своим столом и пишет все, что в голову взбредет…
— Ах, нет! — перебила его Тихая и строго подняла голову. — Не говорите так о себе, я этого не допущу. Может быть, другие и пишут, что им угодно, но вы — нет. Вы настоящий человек. Тем больнее мне. Но я счастлива, когда кто-нибудь указывает мне на ошибки.
«С нами бог! — с ужасом подумал Станя. — У нее есть ко мне еще один счетец, и если она начнет об этом…»
— Я хотела только обратить ваше внимание, — проговорила артистка ангельским голосом, — что я подлинная чешка. Из старинного рода. Южная чешка. Бабушка моя по матери была из Воднян…
«…и, без сомнения, делала ударения на предлогах, — жаль, что ты не унаследовала этой особенности», — подумал Станя.
— Вот если бы вы о Ковальской написали, что она не умеет говорить по-чешски, — я бы не удивилась. Она русская, дочь эмигранта. Произношение отвратительное. — И Власта так удачно передразнила ее, что Станя рассмеялся. Но актриса не развеселилась и осталась хмурой.
— Пан Гамза, — проникновенно промолвила она и уставилась на него своими совиными глазами. — Я пробилась собственными силами! И не стыжусь этого. Я этим горжусь. Я играю с шестнадцати лет, и это — лучшая школа. Не верьте, что в театральном училище можно чему-нибудь научиться. Кому от природы не дано, тот не купит таланта в аптеке. Я не умею говорить неестественно.
«О господи!» — только и подумал Станислав.
Он сидел напротив актрисы, высокий, молодой, такой чистенький, со своим чуточку насмешливым лицом и девичьим носом, — сидел, поблескивая светлыми волосами, и молчал. И странно, артистка, как только ей перестали противоречить, будто начала терять почву под ногами.
— Мне так трудно, — загрустила она и вдруг превратилась в покинутую всеми сиротку. — Ах, эти ручки! Никто о нас не заботится, никто нам ничего не говорит, никто нас не учит, — жаловалась Власта Тихая, известная своими скандалами с режиссерами. — Пан Гамза, вы и не знаете, как я вам благодарна. Я считаюсь с мнением молодых. Они такие искренние! Вы недовольны моим произношением, — что же мне делать, посоветуйте! — Она не спускала с него невинных, просящих глаз.
Станя запылал, как румяное яблочко.
— Ну, это ведь дело театра, — неуверенно начал он. — Разве в Большом нет консультанта по орфоэпии? — спросил он, хотя хорошо знал, что такого нет.
Актриса, которая только догадывалась о значении иностранного слова, растерянно покачала головой.
— Пан Гамза, не согласитесь ли вы меня учить?
— Я? — всполошился Станя. — Для этого я слишком плохой специалист. Но я могу, если вы пожелаете, найти в университете какого-нибудь специалиста. Например, доцента Зика…
— Я это представляла себе так, — перебила Власта, — я бы учила роли, а потом приглашала бы вас к себе.
— Мне было бы интересно. Очень интересно, — откровенно признался Станя и весь заснял.
— Ну, вот видите. И вы говорили бы мне, что вам кажется хорошим, а чтó плохим. Но — никому больше! Только мне! («Не Ковальской», — мысленно добавил Станислав.) Так я вам позвоню.
Станислав встал.
«Не позвонишь, ты только хотела умаслить критика, — подумал юноша — он тоже был не дурак. — Но это тебе не поможет». И все же ему льстило, что она придает такое значение его статьям.
— Ах, какая я ужасная женщина, — воскликнула артистка уже в дверях и рассмеялась. — Позвала вас, чтобы отругать. Вы на меня не сердитесь? — спрашивала она, как маленькая девочка. — Я была страшно несчастна, совершенно уничтожена. Мне сразу же пришли в голову мысли о самоубийстве. Но все-таки я вас не так уж сильно отчитала, не правда ли?
Оба засмеялись, и в этом смехе таяли стыд и неловкость первого знакомства. «Трагедийные артистки тоже люди», — весело смеялись они, и смех этот как бы слегка отдавал бряцанием оружия: «кто кого» и «посмотрим»; несмотря на это, простились они лучшими друзьями.
Станя вернулся в библиотеку победителем. О своем визите он не заикнулся ни одной живой душе. Это, по его мнению, было бы подлостью по отношению к пани Тихой.
ПОСЛАНЕЦ
Говорите что хотите, но Стршешовице — самый красивый пражский район. Тут уж Нелла не отступится, хотя мужчины, муж и сын, с которыми ей сейчас так славно живется, слегка и подтрунивают над ней за этот местный патриотизм.
— Знавал я, Нелла, одну старую даму, и она вот так же была влюблена в клочок земли, к которому приросла всем сердцем, и не слушала никаких доводов. Знавал я и молодую женщину. Та все посмеивалась, что это, мол, нашла бедняжка мамочка в нехлебской идиллии? А теперь что? Там Нехлебы, тут Стршешовице — не наследственное ли это, Нелла?
Но ведь здесь так хорошо! Есть места, которые рождают добрые идеи, места, где происходят только приятные события, и паши Стршешовице именно такое место. Как славно здесь отдыхать после конторы на Жижкове! Каждый раз, когда Нелла возвращается из закопченной Праги и двадцатый номер трамвая въезжает в зелень, огибая шоссе, приветный ветер с холмов овевает ее лицо, в душу забирается чувство человека, живущего на границе, и кажется ей, что здесь, за трамвайным парком, совсем особая страна. Отсюда рукой подать до храма святого Вита, который пражане с набережной видят только на открытках, и до леса от нас один шаг. Нелла, опомнись! До жалкой велеславинской рощицы! А скверики вместо площадей, разве это не очаровательно? Ходишь за покупками в городской сад и возвращаешься в виллу с садом. Что из того, что мы не имеем права сорвать хотя бы листочек с деревьев, гнущихся под тяжестью спелых слив? Сын пани Гамзовой уже большой, и в голове у него, вероятно, совсем иное, а не хозяйские сливы. Сын большой, красивый, никогда он не был так красив, он сияет отражением неведомого света и возвращается домой поздними ночами. Без сомнения, он влюблен, но Нелла не выспрашивает, уже зная тщетность подобных материнских расследований. Когда Станя был маленький, Нелла, держа его на руках, показала ему как-то из окна полную луну в небе — ребенок загляделся на нее как зачарованный. «Месяц ясный, боюсь», — прошептал мальчик и спрятал головку на плече у матери. Сегодня уже не спрячешь, сегодня не убережешь его, и Нелла в волнении молчит. Что ей остается, кроме как тщательно заботиться о белье и платье Стани? На этот счет сын теперь очень строг; он таскает ее одеколон и чуть ли не переселился в ванную. И подумайте только — Гамза, который никогда не бывал святошей, теперь сердится на мальчика за поздние возвращения! Больше всего ему хотелось бы, чтобы Станя сидел с ними вечерами на балконе и довольствовался терпким ароматом, который, когда утихнет ветер, доносится сюда откуда-то из самого садоводства Стрнада на Велеславине. Петр, Петр, разве мы с тобой не были молодыми? Бог знает, почему отцы так быстро об этом забывают!
Вот когда приедет Еленка с малышом, ого! За ним-то уж придется последить, чтобы он не вытоптал хозяйский газон; если с годами у внука разовьется и буйство, с каким он выкручивался из пеленок, парень будет как огонь. Елена пишет, что сын растет, уже бегает и разговаривает. Прошлым летом, когда Нелла Гамзова ездила в Горький, она вдоволь натешилась внуком.
Но не думайте, что Стршешовице казались бы такими прекрасными, если бы на них не покоился отсвет лучших времен семьи Гамзы. Они переехали сюда давно, чтобы Елена, с ее больными легкими, могла дышать чистым воздухом. Правда, для выздоровления этого оказалось недостаточно, пришлось отправить ее в горы. Слава богу, санаторий в Татрах уже прочитанная глава; воспоминания о нем сохранились только в виде давно оплаченных счетов, положенных под соответствующей буквой в картотечный ящик старой пани Витовой. Бедняжка, сколько она пилила Неллу за ее богемную небрежность! Если бы сегодня она встала из могилы — не узнала бы дочери и удивилась бы тому, как по-нехлебски распоряжается Нелла в своем карманном стршешовицком мирке! Да, под солнцем действует закон сохранения энергии, и качества умерших путем таинственной индукции переходят на живых. И на эту женщину снизошла запоздалая страсть к порядку. «Ах, это все возраст», — смеется Нелла. Тс-с-с! О возрасте у нас не говорят. Мужчины балуют Неллу, уверяя ее, что она выглядит, как старшая сестра Стани, и говорят ей прочие глупости, от которых приходит в хорошее настроение даже самая благоразумная женщина, а ведь Нелла никогда не была благоразумной. Где те времена, когда Гамзу будто черти носили, а Нелла не отставала от него, не желая быть сброшенной со счетов? Господи, как это было утомительно! На другой день бродишь, как привидение, и уж не решаешься заикнуться мужу о деньгах, выброшенных на ветер. Теперь седовласый Гамза возвращается по вечерам домой, закуривает с женой «сигарету мира», а Нелла в свои годы, когда сын с дочерью уже перестали нуждаться в ее поддержке, чувствует себя — я не лгу — более свежей, чем в тридцать пять лет. Она сохранила девичью талию и взбегает на второй этаж так же стремительно, как ее сын. Возраст сказывается только в том, что в молодости Нелла этого не замечала, а теперь гордится этим. Что там рассказывают друг другу эти мучительно важные женщины о головокружениях и всякого рода недомоганиях? Нелла их не слушает, не хочет слушать. Полная луна плывет по стршешовицкому небу, как в старые времена, когда семья Гамзы жила еще на Жижкове, а Нелла лишь чуть дальше от глаз держит газету (очками она ни за что не станет себя уродовать), полную тревожных сообщений о пожаре рейхстага в Берлине. Кто он, этот голландец, якобы коммунист, которого полиция схватила на месте преступления? Он действовал не нашими методами! Гамза был сильно взволнован. Коммунисты принципиально против таких террористических выходок. И зачем, для чего немецким товарищам поджигать рейхстаг именно сейчас, когда осталось меньше недели до выборов, подготовленных с такой тщательностью? Теперь полиция Геринга рыщет по Берлину и хватает всех коммунистов. Гамзу это выводило из равновесия — как и Неллу, которая была отражением мужа, пока он рядом. Но сегодня утром, как и каждую субботу, Нелла свободна — в контору идти не надо, — и она выкинула все из головы. Она живет не в Берлине, а в своей светлой, аккуратной пражской квартире, и имя этого депутата, чей арест так взволновал Гамзу, — как его? Орглер? Борглер?[9] — для нее пустой звук, заглушенный гудением пылесоса. Насвистывай, пылесос-люкс, свою песенку! Нелла с удовольствием послушает ее после недельного стука ундервуда, над которым она сидит, сгорбившись, со скрюченными пальцами, и записывает одни неутешительные события. Так приятно вытянуть руку, не думая ни о чем, и только перетаскивать гибкий шланг по квартире, по этому крохотному миру; Нелла Гамзова водит пылесосом с такой энергией, будто управляет судьбами семьи. С наслаждением видит она, как восстанавливается потускневший кармин и глубокое индиго ковра. Краски усиливаются, проступают яснее, вот они существуют уже будто сами по себе — не слишком ли они прекрасны, эти краски? Не растворился ли в них кристаллик ужаса? Окно открыто, пахнет морозцем, посвистывает пылесос-люкс. «У меня нет забот, нет желаний. Что это? Ведь я счастлива», — несколько вызывающе поет люкс. Резкое движение: сорвался шланг. Нелла подбежала и выключила угрожающе гудящий пылесос. Тихо. За раскрытым окном бывает такая вот тишина стылых деревьев, миг тишины между двукратным воробьиным чириканьем — подземный путь тишины, тихий-тихий, настолько тихий, что можно откуда-то из дали времен услышать рокот мотоцикла пана Мразека… Нет, ничего. Только шаги под окном по дорожке. Нелла прикрепила шланг, повернула выключатель, и снова аппарат дребезжит и звенит, заглушая мысли. Нелла не слышала, как появилась Барборка, пока та не подошла вплотную. «Там какой-то человек чего-то хочет от вас», — Барборка его не понимает.
Это был молодой парень, еврей, в одном костюме, хотя на дворе подмораживало. Не удивительно, что он дрожал всем телом; он, видимо, пытался, но не мог силой воли преодолеть дрожь. Это придавало ему вид странной торопливости. Жена доктора Гамзы? Он говорит только по-немецки. С той же неестественной поспешностью он открыл портфель, засунул в него трясущиеся пальцы, и Нелле почудилось, будто сейчас он передаст ей какое-то послание. Слава богу, — он вынул картинку. Ученически раскрашенный рисунок — танцующие чертики — безделка, какие продают в кафе. Он поднял голову, и в полутьме передней косые тени легли на его стремительное лицо. Его послала редакция «Красного пламени», сказал он и нахмурился, превозмогая дрожь.
Нелла пригласила его в комнату, взяла у него картинку, похвалила ее, потому что не умела быть невежливой, и спросила, сколько она стоит.
— Что дадите за такой шедевр, — произнес он иронически. — Я не художник. Я медик. Бежал из Берлина.
Будто застигнутая врасплох, Нелла устыдилась. И как это я могла забыть!
— Там очень плохо? — спросила она виновато, указывая гостю на стул.
Молодой человек посмотрел на Неллу тяжелым загадочным взглядом. Словно удивлялся — как еще можно об этом спрашивать.
— Эсэс производит облавы, — сказал он (Нелла не знала, что такое «эсэс», это звучало для нее как «дум-дум»). — Всю ночь они стаскивали с постелей наших товарищей и угоняли их в полицейские участки. Весь Берлин облеплен плакатами, угрожающими нашей партии, а на улицах орет Геринг, — он сказал это, поднимая руки к ушам, — орет из всех репродукторов…
— Да ведь, говорят, нацисты сами подожгли, — бросила Нелла.
Она не сказала ничего особенного. Повторила лишь то, о чем открыто говорили в Праге. И они ведь были в ее доме.
Молодой человек оглянулся — скорее глазами, не повернув головы. Движение это было почти незаметно, но многозначительно: оно предостерегало, предупреждало, упрекало за произнесенные вслух слова и создавало видимость, что он их не расслышал. Все это невыразимо удивило Неллу. У нас так никто не оглядывается! Она никогда не представляла себе, сколько настороженности может быть скрыто в одном движении глаз. Едва заметный поворот головы больше говорил о стране, из которой бежал чужестранец, чем если бы он стал описывать террор с красноречием Иоанна Златоуста. Нет, он ничего не сказал. Он отвык говорить. Саркастически поднял брови, пожал плечами и промолчал.
В натопленной комнате посетитель немного успокоился. Но его поспешность и дрожь передались Нелле, предрасположенной заражаться эмоциональным состоянием других. Мужское платье выскальзывало у нее из рук, срывалось с вешалок и громоздилось на дне шкафа, когда она подыскивала в гардеробе что-либо из поношенных вещей. Ведь парень бежал из Берлина в чем был. Об этом можно судить по его виду, заметил молодой человек, показывая на свой воротничок. Вот только найдет работу…
У нас — работу! Нелле вспомнилась колония безработных в бржевновской каменоломне, хмурые тени, которые бродили вокруг своих жилищ, будто ожидая, скоро ли осыплется песок и завалит отслуживший вагон, в котором они поселились, эти комедиантские фургоны, фантастические лачуги без окон! У нас — работу! Но вслух она этого, конечно, не сказала, чтобы не лишать парня мужества.
Она спросила, один ли он в Праге.
— Да. Мне повезло, — с горечью ответил он, глядя перед собой. — Мать с братом остались там…
Он сказал это со сдержанностью людей, которые пережили такое, чему нет слов. И человек, даже менее чуткий, чем Нелла, не решился бы продолжать расспросы.
Во время еды он держался как хорошо воспитанный человек, а когда встал и начал благодарить, Нелла поспешно перебила его, подавая ему на прощанье руку:
— Не стоит говорить об этом. Теперь такие странные времена, — это может случиться с каждым из нас.
Она сказала первую попавшуюся фразу, пришедшую ей в голову, сказала исключительно из замешательства, в которое нас повергают изъявления благодарности — пустую фразу, она и сама-то ей не верила. Молодой медик поклонился и вышел. Давно уже захлопнулась за ним входная дверь, и все же он не покидал прихожей. Этот человек, будто сошедший с газетных страниц, явился к Нелле в дом и принес ей картинку с танцующими чертиками. Он все стоял перед ней, она видела, как он открывает портфель и, будто передавая ей роковое послание, беспокойно при этом озирается.
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИЦА
— Что с вами, не больны ли вы? — спросила Станю его соседка по первому балкону, рецензентка газеты «Дамские новости», и предложила ему эвкалиптовые конфетки. Станя приходил от них в ужас.
— Вы очень любезны, сударыня, но я вполне здоров. Мне не на что жаловаться, — ответил он.
— Тихая сегодня потрясающая, — начала журналистка с другого конца. — В последнее время она растет. Вы не находите?
Станя и глазом не моргнул.
— Ну, я бы не сказал, рост ее никак не изменился.
И почему только эта дама набивается ему в друзья? Почему она вечно берет его под защиту? Ох-ох, Станя не любит пишущих дам…
— Вы, вероятно, слышали о Тихой от родителей. (Никогда в жизни!) Мы тогда вместе кутили. Я еще писала в «Сигнале» о модах. (Видно, поэтому твои театральные рецензии очень похожи на прежние; правда, я их отроду не читал, но живо себе представляю…) Ах да, с вашими милыми родителями и с пани Тихой, которая тогда была еще Хойзлерова, знаете, ее муж был тот доктор Хойзлер, что потом развелся с ней и женился на какой-то лавочнице. Ну, не жестоко ли с его стороны? Такая актриса!
Станя грозно поглядел на рецензентку. Чего ради она все это рассказывает?
— Но вы этого, должно быть, не помните, — добавила та с невинным видом, — вы слишком молоды.
На каждом шагу его теперь упрекали в молодости, и всегда в тщательно маскируемой связи с именем Власты Тихой. Станя переживал за актрису. Есть разве рецепт, который мешал бы двум людям различного возраста в совершенстве понимать друг друга? Черт побери сплетницу Прагу! Повернемся к ней спиной.
Когда Тихая разучивала роль Марии Кальдерон, она в самом деле позвала Станю. Он не ждал от нее такой последовательности. Артистка прочитала ему стихи с истинным трепетом.
— Так хорошо? — спрашивала она каждую минуту, и Станя очень извинялся, когда шипящие казались ему все же недостаточно чистыми.
— Ну, значит, у меня язык совсем не поворачивался, — крестилась актриса. — И почему мне этого не говорили те бездельники? А ведь у меня, слава богу, все зубы целы.
Станя ждал, что она вот-вот обидится; но, к его удивлению, Тихая, известная своими стычками с режиссерами, вела себя тише воды, ниже травы.
— Iktus, iktus…[10] Подождите, что это такое?.. Ах, вы такой ученый, а я просто неграмотная, — польстила она с чуть заметной иронией. — Ну, не важно, вам вот как хочется. — И Тихая читала стихи так, что любо-дорого слушать.
— А если Арбес захочет, чтобы я читала по-другому, брошу все и уйду, — заявила она.
Станя был так возвеличен, что ему стало не по себе. А вдруг она ему когда-нибудь бухнет, что он еще недавно был маленьким, что дома его звали «недотепой»? А вдруг она разглядит своими совиными глазами, что Станя еще не имел дела с женщинами, и намекнет об этом, как его коллеги по библиотеке? Но когда человек на службе, он становится благоразумным. Станя был очень строг к Тихой и ничего ей не прощал: ни безударных предлогов, ни растянутого «е». Она не сводила глаз с его губ, что очень его связывало, наматывала на ус все его замечания и сразу же с чисто женским талантом подражания претворяла их в жизнь. Это были примерные учитель и ученица. Всем известны свободные манеры в театральном мире, где актеры и актрисы не стесняются физических прикосновений. Но здесь — ничего подобного. Если, наливая Стане чай с таким нежным вниманием, будто юноша тяжко болен, Власта задевала его рукав, она тотчас же извинялась: «Простите». Станя весь сжимался. «Пардон», — шептал он. Они очень следили за собой, что правда, то правда; очень боялись один другого и казались друг другу неуязвимыми. Были церемонны, как древние китайцы; даже чересчур.
После нескольких занятий Станя объявил, что произношение пани Тихой безупречно; он только убеждал ее каждый день упражняться хотя бы по десять минут — скрипач ведь тоже должен ежедневно упражняться — и распростился, подчеркивая, что больше не придет. Это излишне. Время пани Тихой дорого, а Станя ей уже не нужен.
— Как не нужен? — испугалась артистка. — Приходите обязательно на генеральную репетицию, я скажу, чтобы вас пригласили. А после премьеры поедем кутить.
— Ну, это будет уже не то, — возразил Станя. — Прямо беда с вами, вы такая знаменитая…
— Скажите лучше «старая»! — взорвалась Власта. И юноша страшно обрадовался.
— Вы никогда не должны так говорить, — в смятении перебил он ее. — Потому что… ни одна девушка…
Актриса смотрела на него.
— Ни одна девушка в мире, — запинался Станя и умоляюще схватил ее руку. — Вы это хорошо знаете…
Артистка освободила руку и погладила его волосы.
— Это вам кажется, это вам только кажется…
— Нет, не кажется! — упрямо возразил Станя, отбросил ее играющую руку, прижал к себе хрупкую женщину так, что чуть душу из нее не выдавил, и стал целовать ее как сумасшедший. Даже слепой увидел бы, что ни с одной женщиной он еще не был близок. Тут уж страшно обрадовалась Власта, но головы не потеряла.
— Нет, нет! Не сейчас, — испуганно зашептала она, — я должна быть пай-девочкой. У меня такая примета… Перед премьерой — нет. Иначе плохо сыграю.
Станя озирался как обезумевший и собирал разбегавшиеся мысли. Потом его охватила мальчишеская забота о прическе, и он пригладил волосы.
— Вы бесчеловечны, — хрипло произнес он, метнувшись к двери.
Артистка схватила за плечо убегающую молодость.
— Но после мы увидимся?
Станя обернул к ней молодое, серьезное лицо.
— Что же мне делать, — сказал он беспомощно, развел руками и вышел.
Наступило время, когда Станя сделался ужасно таинственным, — лучшему другу он ни за что на свете не поведал бы, почему ему не хочется идти вместе со всеми в кафе, и куда он исчезает после спектакля, и чьи ключи позвякивают у него в кармане. Одного он не умел: подавить трепет, когда Тихая появлялась на сцене. Он дышал за нее, замирал, когда она делала «накладку», и сиял, как молодой бог, когда ей удавалась роль. Нет, он не умел погасить свое лицо, и вся Прага подмечала это. За столиками кафе считали годы актрисы, злые языки трещали, кумушки крестились, люди перемывали косточки любовникам, а те только пренебрежительно посмеивались. Что вы знаете! Любовь открыли мы!
— Власта, а ты с самого начала знала, что эти уроки так кончатся?
— Ничего подобного, — обиделась Власта. — Я думала по-честному. Я только хотела тебя умаслить, как критика.
— Ты ужасна, — сказал Станя. — Ужасна! Я никогда и не думал…
— И я не думала, — со вздохом произнесла Власта.
Ах, сколько горячих ласк родила любовь! Засыпали смертельно бледные, но утром румянец возвращался к ним, и они становились веселее детей. Они играли в «семейную жизнь», и артистка, как добрая хозяйка, всячески угождала Стане. У нее был столик на колесах, и, накрыв его, Власта передвигала его по комнате, останавливаясь каждый раз в новом месте — то перед тахтой, то в оконной нише, то у камина.
— Власта, не затевай ничего! — ходил за ней Станислав. — Посидим немного.
Где там! Власта вдруг замечала, что вон та картина висит криво, и тотчас вскакивала на стул. Станя снимал ее со стула, но, очутившись на полу, она выскальзывала из его рук и шла поливать цветы. Артистка двигалась со своей лейкой так грациозно, будто танцуя под музыку Моцарта; возможно, она это знала. Вечно она в движении, как эльф, как Пук, говаривал ей Станя. Все, что касалось ее, она выслушивала с жадностью. Зато «идеек» избегала, как черт ладана. Станя привык к дебатам со студентками, но такое развлечение было не для артистки. Она не нуждалась в рассуждениях, ей нужны были происшествия. Сама она сыпала ими, как из рога изобилия. Поджаривая гренки на своей маленькой комнатной печке, она не без остроумия передавала театральные сплетни.
Вот Власта мелет кофе в тугой турецкой мельнице. При каждом обороте мельница поскрипывает, идет тяжело (зато как она мелет зерна!), и Станя отбирает ее, чтобы Власта не утомлялась; но при этом он так неловок, что получает по пальцам. Ему вообще не везет. Однажды он разбил какую-то дешевую тарелочку, и артистка расплакалась. Станя почувствовал себя просто убийцей.
— Не плачь, — утешал он ее, — не плачь. Посуда бьется к счастью. Успокойся, я куплю тебе другую. Получишь их целую дюжину.
— Да, но это все равно будет не та, — хныкала Власта. — В Софии, где я играла Нору,[11] я купила эту тарелку у одного старика, а у него было семь носов, один краснее другого, — смеялась она.
Смех и слезы были у нее всегда рядом, как у детей. Хозяйничала она тоже с детской серьезностью. Станя восхищался. Ей-богу, Геда Габлер действительно верит, что она по-настоящему хозяйничает. Это его трогало. Сколько раз на сцене ее закалывали и душили! Сколько раз она кончала самоубийством! Наумиралась она за свою жизнь предостаточно! Теперь Власта идиллически отдыхает и с внимательностью алхимика готовит французский салат. Каплей масла, щепоткой соли, зернышком перца больше или меньше — все это очень важно. Зато это будет салат! Кудрявый, какого вы не увидите на обычном семейном столе, свежий, как апрель, в нем тысяча и один вкус. Блесточка масла, наперсток водки — все у Власты по-особому, отлично от других; у нее подают розовый сахар, который достал ей чиновник какого-то посольства. Но сама она не возьмет ни кусочка: как и все артистки, она смертельно боится потолстеть. Она питается апельсинами и грызет орешки. И чем ты только жива, голубушка! Ну и дисциплина! Ну и каторжная работа! Утром ее будит массажистка, потом — репетиции; после обеда — занятия и портнихи, вечером — спектакль. И это — не считая гастролей. Рабочий хоть в воскресенье свободен. А Власта когда?
В кои-то веки это, однако, случилось, Власта собрала свою волшебную сумку, в которую можно упрятать все хозяйство, побросала туда необходимые вещи — от купального костюма до неократина, — задернула «молнию», сунула Стане в руку патефон в чемоданчике («Ты выглядишь с ним как знатный путешественник»), они сели в «малютку» артистки и выехали за город.
Если бы Власта была девушкой из парикмахерской, выданной замуж за богатого, она, вероятно, воротила бы нос от такого пригорода, как Розтоки. Но артистка Большого театра не так аристократична, и, посасывая кокосовые конфетки, она пускается в разговоры с любой бабкой, торгующей в пригородном киоске. Ведь у каждого человека свои особые песенки; такая бабка вам чудесно расскажет: с какой стороны налетает гроза, и чей это замок на том холме, и что за несчастье случилось тут много лет назад, в память чего у дороги стоит этот крест. Власта смотрит на просительную позу жены шарманщика, на легкомысленных барышень, чопорных жен мелких буржуа в воскресных платьях, на женщин, битых пьяными мужьями, измученных заботами о куче чумазых детей, на матерей-мучениц; смотрит твердым и ясным взглядом, и что-то в ней, помимо ее сознания, фиксирует виденное — она никогда не выключается целиком. Ярмарка жизни обостряет в ней вкус к своей профессии, пробуждает неодолимое желание работать. Жаль, что жизнь так коротка. Сколько б ни было женщин на свете, всех бы сыграла.
— Да ты и так их играешь, — говорит на это Станя. — Ведь Шекспир — это полная коллекция женских типов.
Станя против жанровых сцен и против реализма фотографии, Власта уже знает это. Теория нисколько не интересует актрису, но то, что сказал Станя, — свято. Когда любишь мужчину, — его ум властвует над тобой. А потом, он такой красивый и ненасытный мальчик! Власта помолодела, и они наслаждались весной от полного сердца — как студент и швея.
Потом Власта вдруг спохватилась, оставила машину на берегу, и они погрузились на один из влтавских «океанских» кораблей.
Оба влюбились в смешной пароходик, который наклоняет трубу, проходя под мостом. Когда пароход встречался с другим, капитаны здоровались со своих мостиков, и это было чудесное зрелище. Капитан следит в бинокль за далеким горизонтом; рулевой не спускает глаз с компаса и с метеорологических приборов — не близится ли тайфун, и при первой же капле дождя вся команда облекается в непромокаемые костюмы. Мы плывем со скоростью сорока пяти узлов. Смотри, вон уже и подольская каменоломня, красивая каменоломня, куда ходили писать первые чешские кубисты. Отец с сыном, жители колонии безработных, ловят над каменоломнею голубей, прямо над обрывом — они свалятся, вот посмотришь, они свалятся! Власта закрывает глаза, у нее кружится голова: она не может видеть ни трубочиста, ни кошки на крыше, она изумляется кровельщикам. Что только ей пришлось испытать в подъемнике, когда она играла Ариэля![12] Но ради театра она пойдет на все.
Пароходик въехал в ворота шлюза, Власта затихла, как котенок. Не очень-то уютно наблюдать, как вода все прибывает, все прибывает, будто в кошмарном сне. Один из пассажиров сказал: «Господи, стоит стенке лопнуть, и всем нам каюк», — и Власта схватила Станю за руку. Та самая Власта, которая объездила полмира. Что она — действительно боится или ей нравится разыгрывать испуг? Не разберешь. Видно, и то и другое. Но она действительно тряслась всем телом.
— Граммофон, Станя, — шепнула она, закрывая глаза, — скорей граммофон, или я с ума сойду.
Станя поставил пластинку с джазом, и Власта ожила.
— Правильно, — успокоилась она, — при гибели «Титаника» должна играть музыка.
Станя немножко стыдился людей, все на нее смотрели, ее безусловно узнали. Он не любил привлекать внимание — ему казалось, что он греется в лучах чужой славы. Иногда ему становилось неловко на службе у Власты, переменчивой, как апрель; но как он мог раньше жить без нее? Такой пустоты он уже не в состоянии был себе представить.
В БЕРЛИНЕ
Кружился снежок в ту роковую ночь, когда пылал рейхстаг, когда люди в коричневом разъезжали по Берлину, колотили высокими сапогами в двери, стаскивали сонных с постелей, хватали всех, кто когда-либо нашивал красную гвоздику на майских демонстрациях; так они осуществляли «ночь длинных ножей», предсказанную в книгах приверженцев свастики. Тогда кружился снежок, теперь дозревают летние яблоки. Несчетное количество возлюбленных встретилось за это время, несчетное количество их разошлось; фирма «Яфета» сменила в своих витринах шубки на дождевые плащи, а дождевые плащи — на купальные костюмы; луга, пройдя три периода — желтый, розовый, белый, — были скошены и теперь издавали крепкий радужный аромат, доносившийся до самого города, — прежде чем берлинский советник Фогт с дружиной своих судей допросил пятерых подозреваемых в поджоге — голландца, немца и троих болгар; прежде чем он пригласил свидетелей, принял у них присягу, выслушал от них все, что ему было нужно, чтобы распутать клубок международного заговора; прежде чем велел запротоколировать показания и дать их допрошенным на подпись, — словом, прежде чем он закончил следствие и передал дело государственному прокурору. Обвинение в поджоге и государственной измене — преступления, за которые расплачиваются головой, — будет предъявлено этим пятерым. Они предстанут перед верховным судом в Лейпциге, в старинном городе юристов и книг. А пока они сидят в берлинской тюрьме Моабит и ждут начала процесса. Правительству Геринга что-то долго не хотелось начинать его. Но теперь слушание назначено на середину сентября. Было бы куда проще дать делу забыться, а скованных политических заключенных потихоньку умертвить. Но столько наглых иностранных юристов вмешалось в это дело, столько выродков-интеллигентов — и среди них, конечно, еврей Эйнштейн и пораженец Барбюс![13] — поставили свои подписи под дурацкими протестами против этого чисто внутриимперского дела, столько зловредных языков в Париже, Лондоне и даже в Америке начали болтать о пожаре рейхстага, что остается только заткнуть злобные глотки и дать по рукам слишком нахальным людям, которые контрабандой доставляют в Третью империю запрещенную печать, полную сенсационной лжи.
В тот день, когда Гамза собирался выехать ночным экспрессом в Берлин, Станислав, как каждый вечер, готовился уйти из дому; зайдя в ванную, он наткнулся на отца и, к своему удивлению, увидел, как тот засовывает в свой ботинок сложенную бумажку.
— Что ты делаешь, папа? Ботинки велики?
Гамза поднял голову и засмеялся сыну прямо в глаза:
— Да.
Берлин сверкал, как заново наточенный клинок, когда Гамза приехал туда. Стоял конец августа. Главный город империи больше чем когда-либо подчеркивал свой мужской род. Париж — город женщин, Берлин — мужчин. Оба города соревновались, очаровывали друг друга. Нося военную форму с большим изяществом, чем их любовницы — модные наряды, берлинцы наполняли улицы пульсирующей деятельностью, как это бывает после государственных переворотов, тем более здесь, где действие — это программа; берлинцы ходили, будто ими двигала сила сознания их новой миссии, скользили по безукоризненно вымытому асфальту в темно-синих или кремовых автомобилях обтекаемой формы, вознесенные над человеческими отношениями. Стекла витрин, сверкая хирургической чистотой, отражали движение столицы, и, как наплыв на экране, проходили тени по лицу Гитлера, который повсюду смотрел из рамок — в глубине разложенных книг, среди оптического товара, окруженный мужскими перчатками и ульстерами, и со стен оружейных заводов, — смотрел своим глубокомысленно-хмурым взглядом из-под почти наполеоновского клока волос на лбу. Берлин всегда чист, но теперь он был демонстративно идеален, без пятнышка. Будто каждую кляксу на его репутации тщательно стерли резинкой, каждое пятно вывели бензином: в вихрящемся воздухе города носился запах резины и бензина, мешаясь с первыми ароматами осени. Давно развеялся дым сгоревшего рейхстага. Не осталось и пепла от костра из книг, торжественно сожженных в мае этого года преподавателями и студентами университета.
Весенние политические бури улеглись, в Берлине — покой и образцовый порядок, в чем может убедиться любой иностранец, и Гамзе действительно не на что было пожаловаться. Поднявшись утром на оживленную улицу со станции подземки, он спросил дорогу у двух юношей в ловко пригнанных черных формах (подобный покрой можно встретить на лифтерах в модных отелях). Оба молодых человека с кинжалами на боку и черепами на петлицах, новенькие с головы до пят, не только охотно и точно объяснили иностранцу, куда ему свернуть, но и проводили его до угла, чтобы он ни в коем случае не спутал дороги; они распростились с Гамзой, широко улыбнувшись, как бы говоря: «Мы, молодежь Третьей империи, превосходим в вежливости даже французов».
Господин сенатор был, конечно, сдержаннее. Но даже тень досады или нетерпения не нарушила того спокойствия воспитанного человека и уверенности хозяина дома, присущей всем начальникам отделов, с какими он принял Гамзу и выслушал его предложение защищать на лейпцигском процессе четырех обвиняемых.
— Любопытно, — произнес сенатор с тонкой улыбкой, указывая Гамзе кресло перед письменным столом и садясь сам, — любопытно, какое внимание уделяет иностранная общественность нашему процессу, который даже еще не начался. Безусловно, нет нужды уверять господина коллегу в том, что, согласно славной традиции немецкой правовой науки, на этом процессе восторжествует справедливость.
Гамза поклонился.
Сенатору очень жаль, что в отношении болгар нельзя дать господину коллеге положительный ответ. Димитров, Танев и Попов жили в Германии нелегально, без прописки. У них нет гражданских документов, которые по имперским законам надо приложить к прошению о защитнике. Следовательно, этот вопрос отпадает ео ipso.[14] Что же касается Торглера, то пусть господин коллега не сочтет за труд обратиться к его адвокату, доктору Заку, и договориться с ним. Доктор Зак — прекрасный юрист, очень добросовестный человек, и он, несомненно, не упустит ничего, что может быть на пользу его клиенту.
Плавная речь сенатора, привыкшего ораторствовать, зазвучала при последних словах слащаво, с той слащавостью, к какой прибегает в трогательных местах своих выступлений молодой министр пропаганды доктор Геббельс.
Гамза слушал изысканную немецкую речь, видел узкую аристократическую руку, спокойно лежащую на темном сукне стола; он поднял глаза от этой руки к человеку, с которым, как он надеялся, ему придется столкнуться лицом к лицу на заседаниях верховного суда в Лейпциге.
— Могу я навестить Торглера и переговорить с ним об этом?
Взгляды их скрестились и высекли боевую искру. Сенатор загасил ее холодным тоном.
— Пусть господин коллега подаст письменное прошение имперскому суду, — безлично ответил он, — и он получит письменный же ответ как по вопросу о посещении заключенного, так и по вопросу его защиты.
Проговорив это, сенатор оперся обеими ладонями о монументальный письменный стол и приподнялся в своем кресле с достоинством представителя власти. Это был знак, что аудиенция закончена.
Гамза не сразу пошел к доктору Заку. Сначала он сел в пригородный автобус и отправился за черту Берлина, в район загородных домиков. Стояла жара, сады источали пряный аромат.
Школьница с головкой, похожей на луковицу, с лентой в косичке, поставила на землю корзину, в которую собирала фасоль, и подбежала с окрыленной легкостью девочки-подростка. Остановилась у калитки, вымытая до блеска, в фартучке цветочками — Несомненно, это был баловень семьи. Пытливыми глазами девочка оглядела незнакомца. Он спросил, где ее мама. Девочка оставила Гамзу за оградой и побежала к матери с важным видом всех детей, несущих новости.
Мать, темноглазая женщина с туповатым лицом, на котором судьба уже поставила свою печать, подошла медленно и неохотно. Она спросила незнакомца через ограду, что ему угодно. Нельзя ли переговорить обо всем в доме? Он задержит ее всего лишь минут на десять. Женщина нехотя отперла калитку; она шагала впереди, как заведенная машина, и ввела Гамзу в очень аккуратную комнату, душную от застоявшегося воздуха и плюшевых кресел с ромбовидными вязаными салфеточками на спинках, над которыми висел увеличенный портрет жениха и невесты: она преданно глядела на своего суженого, застывшего в напряженной позе. Ладно. Пусть. Но, боже, почему же и здесь смотрит со стены фюрер с его пробором, с его щеточкой усов над горькими губами старой девы? Гамза покосился на цветную репродукцию.
Кровь бросилась в лицо хозяйке. Даже голая шея вспыхнула, хозяйка вся загорелась. За что ей стыдно? За портрет фюрера или за то, что ее муж арестован?
— Беги играть, — сказала она дочери.
У девочки разочарованно вытянулось лицо. Ясными глазами взглянула она на гостя, будто ожидая, что он вступится за нее. Не дождавшись, девчурка недовольная вышла из комнаты со своим фартучком цветочками и с лентой в косичке.
Гамза представился хозяйке — так и так, приехал из Праги по делу вашего мужа. Вот удостоверение, которое не рекомендуется теперь показывать в Берлине; фрау Торглер, вероятно, уже не раз его видала. Оно подтверждает, что Гамза — член юридической секции Международной организации помощи жертвам гитлеровского фашизма. А здесь, товарищ, у меня к вам письмо от депутата Кенена.
Письмо было смято — Гамза перевез его вчера через границу в своем башмаке.
Женщина отшатнулась. Руками сделала движение, будто заклиная кого-то.
— Я не знаю этого человека, — хрипло произнесла она.
— Но ведь это Кенен, Кенен! Лучший друг товарища Торглера! Он был с ним в рейхстаге, а потом в ресторане Ашингера, в тот… злополучный вечер.
— А потом скрылся, — с горечью перебила жена Торглера. — И Эрнсту пришлось расплачиваться одному. Вот уж верно — везет некоторым людям…
— Он хорошо сделал, что скрылся, — возразил Гамза. — Теперь он прилагает все силы, чтобы помочь вашему мужу. Именно поэтому…
— Ему легко помогать, когда он в безопасности! Верю… Нет, нет! Оставьте это у себя. — И она упрямо спрятала обе руки под фартук. — Никогда в жизни я с этим господином не разговаривала, и мне не нужны его письма.
Так вот оно как в империи страха! Она приняла Гамзу за провокатора. Он высказал эту мысль и тем несколько успокоил ее. Пусть она хоть прочитает письмо, Гамза его тотчас снова заберет.
— Да уж, попрошу! — резко сказала Торглер.
Она быстро пробежала глазами по строчкам, так, как делают артистки на сцене, от волнения едва улавливая смысл, и тут же вернула письмо. Кенен рекомендовал Гамзу как надежного товарища и хорошего юриста. Но какой в этом прок, если она враждебно относится к Кенену? Гамза зашел с другого конца.
— Доктор Зак, адвокат вашего мужа, — национал-социалист, не так ли?
— Никто другой из берлинских адвокатов не хотел защищать моего мужа, — жестко ответила женщина. — Все до одного отказались. Они готовы защищать любого взломщика или убийцу, а тут отказались. Это был мой крестный путь! Доктора Зака мне рекомендовал верховный суд.
— Я не знаю доктора Зака лично, — подчеркнул Гамза, — я еще с ним не разговаривал. Но как национал-социалист он вряд ли будет в достаточной мере заинтересован в том, чтобы доказать, как промахнулось правительство Геринга, обвинив в поджоге людей, которые подожгли рейхстаг примерно так же, как вы или я.
— Да, — вырвалось у Торглер с горечью. — Да, — повторила она, устремив взор в одну точку, как делают все убитые горем люди. — Вот что получил Эрнст за все. За то, что он жертвовал собой ради других, за то, что никогда не думал о себе. Но я это знала. Я всегда говорила. Проклятая политика! Как мы могли быть счастливы… Мой Эрнст!.. — Она разразилась плачем. — Он невинен, как ребенок, — говорила она в слезах. — Как только я себе все это представлю… Я до сих пор не понимаю…
— Зато мы, за границей, ясно видим все, — сказал Гамза. — Здесь, в империи, вам рассказывают сказки, как малым детям. Вам приходится делать вид, что вы им верите, я знаю. Фюрер смотрит со стены и следит внимательно…
Торглер обернулась одновременно с гостем и снова густо покраснела.
— Я была вынуждена купить этот портрет, — злобно произнесла она. — Этот человек мог меня выдать. Что ж вы, хотите, чтоб еще арестовали меня и ребенка? Сына мне удалось переправить через границу, а дочь…
Гамза принялся ее успокаивать. Он вовсе не хотел ее задеть. Он знает, как тяжело ей живется. А Торглеру — тем более. Не согласна ли фрау Торглер с тем, что ее мужа должен защищать человек, ни от кого не зависящий, такой, кому важно одно — доказать невиновность Торглера?
Женщина сразу насторожилась. Смерила Гамзу глазами, уже сухими.
— Вы хотите защищать моего мужа? — спросила она с нажимом, и в голосе ее прозвучала легкая угроза.
Гамза подтвердил. Конечно — для этого он и приехал к ней. Он хочет предложить ей свою помощь.
Торглер посмотрела на него сверху вниз.
— Нет, нет, — язвительно бросила она. — Из этого ничего не выйдет. У меня нет денег, дорогой господин доктор. Ни гроша. Я больше не буду такой дурой, какой была прежде.
«Из провокатора я уже стал мошенником», — подумал Гамза.
— Что ж, верно, нашлись такие мерзавцы, которые отняли у вас даже способность доверять людям, — сказал он вслух. — Жаль. Я рад был бы помочь, как умею. К счастью, я не один. За дело вашего мужа и болгарских товарищей берутся более известные юристы, чем я: например, Моро-Джаффери, или Брэнтинг, или Притт… Да что это я вам рассказываю, вы ведь и сами знаете. Видели вы Коричневую книгу?[15]
Торглер побелела как полотно.
— Тише!
Ей показалось, будто кто-то остановился под окнами. Беспокойство охватило ее, она встала и пошла посмотреть. Она открыла даже дверь, выглянула в коридор и снова осторожно притворила ее.
— Сразу видно, вы не здесь живете, — проговорила она со слабой улыбкой облегчения, возвращаясь к плюшевому креслу. — Легко вам говорить! Легко вам говорить… Не знаю… чем больше людей будет вмешиваться в это дело, тем более это раздражит их. Я их знаю! Как бы это еще сильнее не повредило Эрнсту… — Она подняла на юриста уже кроткие глаза. Ее недоверие заметно таяло.
— Он должен знать, что мы его не отдадим! — горячо сказал Гамза. — Господи, должен же он иметь хоть какую-нибудь надежду! Вы имеете право навещать его?
— Один раз меня к нему пустили по поводу денег, оставшихся от дедушки. С этим они скорее всего считаются. Если бы вы его видели! Кости да кожа…
— Выдумайте опять какой-нибудь денежный предлог, — перебил ее Гамза и встал. — Вам что-нибудь да придет в голову. Вы такая умная женщина. Я знаю, вы мужественный человек. Третий Интернационал — большая сила, и он стоит за четырьмя обвиняемыми. На стороне вашего мужа вся мировая общественность, все справедливые люди, а это — не пустяк. Видите, как нацисты испугались этого. Уже то, что нам удалось добиться процесса, — успех.
— Я не знаю, — безнадежно ответила она.
— Постарайтесь к нему попасть. Как можно скорее. Для чего существует доктор Зак? Пусть добьется для вас свидания. И когда вы будете подавать вашему мужу руку — вам ведь разрешат, — передайте ему это.
Он пожал правую руку женщине в знак прощанья, и в ее ладони очутилась бумажка. Огонек любопытства промелькнул в ее глазах. Она быстро развернула записку.
Там было написано карандашом: «Когда иностранные юристы предложат свои услуги, дайте им все четверо полномочия. Настаивайте на том, чтобы они вас защищали. Дело в верных руках».
Торглер задумалась, колеблясь между врожденной склонностью женщин к секретам и страхом перед незаконным поступком.
— А это не будет опасно для Эрнста?
— Не будет, если вы сделаете это ловко. А это уж вы сумеете сделать, если вы его любите. А здесь вот — от Антифашистской помощи, — добавил он, — если будет необходимость где-нибудь подмазать…
Он оставил на столе банковый билет и, невыносимо стыдясь, вышел из комнаты через темные сени на яркий дневной свет.
Девочка в саду явно ждала, когда появится гость. (Гамза совершенно забыл о ней.) Но девчушка, увидев его, тотчас оставила свою фасоль, схватила скакалку и принялась прыгать с отчаянным усердием, делая вид, что полностью занята своим делом.
Мать с ключом вышла вслед за Гамзой.
— Соседским детям запрещают с ней играть, — с болью заметила она.
Девочка, покачивая головой и шевеля губами, — она, видно, считала свои прыжки, — подскакивала так, что ее косичка взлетала все быстрей и быстрей, подгоняемая смущением и желанием похвалиться. Фартучек ее развевался, крепкие загорелые ноги с непостижимой быстротой, как у балерины, мелькали над полукругом скакалки.
— Эрнст боится за нее, — таинственно шепнула женщина. — Говорит — следи за ней хорошенько. Понятно, он не мог сказать всего при надзирателях. Но я его поняла. Сколько уж было случаев, когда они похищали детей.
— Сто! — победно воскликнула девочка и остановилась.
— А ты здорово умеешь прыгать, — похвалил ее Гамза.
Она подбежала, щеки ее горели, жаркие губы улыбались счастливой усталостью, худенькая детская грудь поднималась и опускалась и снова поднималась, вдыхая свежий воздух. Каждый цветочек на фартуке этой дочери заключенного дышал радостью движения под просторным небом.
— Попрощайся же, — сказала ей мать.
Гамза взял вспотевшую детскую руку.
— Я ведь твой дядя, правда? — сказал он.
Она посмотрела на него с веселой смелостью:
— Да!
УЛЫБКА
У Неллы был пузатый кофейник, доставшийся ей по наследству от прабабки — жены мясника. Посудина напоминала дамочку в пышных юбках, с узкими плечами и розочкой на шляпе (за эту розочку открывают крышку). Да, кофейник как две капли воды походил на буржуазку тех времен, когда он был еще новым и украшал собой стол. Но, несмотря на все усилия, серебро темнеет, кое-где на кофейнике впадины и неровные выпуклости — всесильная рука времени помяла его. Он стоит на трех ножках, прихрамывая на одну из них. Я согласна с Гамзой — это неуклюжая вещь, незачем ее ставить на стол. Гамза каждый раз проливает кофе и злится, что у кофейника слишком высоко приделан носик. Если б он умел с ним обращаться! Почему не подождет Неллу? Мужчины пьют много черного кофе, а прабабкин кофейник объемист. Потому-то и ставят на стол это яблоко раздора.
Но сегодня Гамза не злился. Сегодня он был примерным. Он сам встал, чтобы взять старую салфеточку, и, не говоря ни слова, принялся тщательно вытирать облитый поднос.
— Постой, это делается вот так, — сказала Нелла тоном всех жен, забрав из его рук салфетку. Одним движением она сделала то, над чем так старательно трудился муж.
Почему он сегодня такой хороший? Здесь что-то не чисто. Нелла не любит, когда кто-нибудь из ее мальчиков слишком уж хорошо себя ведет. Значит, он либо собирается выкинуть какую-то новую штуку, либо заболевает.
Вещи Гамзы, уезжающего в Лейпциг, уложены, но он хочет сказать несколько слов своему взрослому сыну. Нелла заглянула в комнату к Стане — юноша уже ушел. Он, верно, в редакции. Ах, знаем мы эти редакции! Может быть, Нелла передаст Стане слова отца? Гамза вкладывал сигареты в портсигар и не отвечал. Нелла стояла над ним.
— Когда ты думаешь вернуться?
— Да скоро, — весело бросил он и ласково поглядел на жену. — Раз уж Зак не дал мне взяться за дело, я буду там только платонически…
— Чудо, что вам позволили присутствовать. Я этого не ожидала.
— Да ведь был бы скандал на весь мир, если бы они не пустили туда никого из иностранцев. Они-то чуют, каково мировое общественное мнение. Еще бы, параллельный Лондонский процесс[16] задал им жару!
Гамза положил руки на плечи жены.
— Нелла, ты будешь ходить в контору?
Она кивнула, удивленная ненужным вопросом. Ведь по утрам в конторе некому будет оставаться, Клацелу, помощнику Гамзы, одному придется теперь ходить по судам.
— Завтра у нас «казмаровский день», а тебя не будет. Этого, пожалуй, еще не случалось.
— Только раз, когда я застрял в Остраве, — засмеялся Гамза. — Клацел — хороший парень. Если тебе что-нибудь понадобится, скажи ему — он все устроит.
Такая речь чем-то не понравилась Нелле.
— А что мне может понадобиться, ведь ты скоро вернешься? — упрямо повторила она слова мужа, наблюдая за ним широко открытыми глазами.
— Ну, может, мне там придется задержаться для каких-нибудь выступлений. Никогда ведь заранее не знаешь. — Гамза сунул руку в карман. — Вот ключи от моего письменного стола.
Нелла мельком взглянула на них.
— От твоего письменного стола? — удивилась она. — Да оставь их у себя! На что они мне?
— Нелла, в третьем ящике справа все наши документы…
Нелла вздрогнула.
— Зачем ты мне это говоришь?
— …и еще конверт с моей последней волей, — как-то невыносимо конфузясь, быстро договорил Гамза. — Нечто вроде наставления Стане и прочее. Не сердись, что я тебя этим затрудняю. Но раз нету Стани…
Нелла помертвела.
— Но они ничего не могут тебе сделать! — От испуга голос у Неллы пропал, и слова прозвучали очень тихо. — Они не посмеют! У тебя паспорт. Немецкая виза. Все на месте, — лихорадочно перечисляла она. — Я сама все это доставала. По какому праву…
— Нелла! Постой. Не волнуйся. Кто говорит, что что-нибудь случится? Это я только так, для порядка.
Нелла не спускала с него глаз.
— С каких это пор ты стал любителем порядка? — взорвалась она.
Гамза улыбнулся. Посмотрел на часы, захлопнул чемодан и подошел к жене.
Она страстно желала вырвать из его рук проклятый чемодан, швырнуть на пол, схватить за плечи одного из своих непутевых мальчиков и приказать ему, как это делают рассерженные матери: «Никуда ты не поедешь! Сиди дома. Я твоих фокусов не потерплю!»
Вместо этого она подала ему руку.
— Будь здоров, Петр, и возвращайся счастливо.
И улыбнулась ему.
Бог знает через какую щель старых времен она вытащила ее, эту улыбку. И улыбка вышла помятая, кривая. Нелла и сама уж не помнила, куда она тогда ее запрятала, забытую, ненужную, она была не нужна. И теперь, долгие годы спустя, Нелла нашла и по судороге вокруг губ безусловно узнала ее, ту самую улыбку, какой она провожала Гамзу на фронт, когда он уезжал в Сербию. Поезд тронулся, а женщина, идущая рядом с вагоном, улыбалась, улыбалась изо всех сил, пока муж мог видеть ее через окно. И кто бы сказал, что ей придется еще раз откапывать ее, эту давно забытую улыбку!
Сейчас она снова пригодилась, и Нелла надевала ее, появляясь на людях, не снимала даже перед взрослым сыном. Тогда Станислав был маленьким червячком — сейчас парень высок, как ель. Зачем портить ему юность? Лицо его обращено в другую сторону, об отце и не вздохнет. Помощник Клацел, добрый товарищ Гамзы, что-то, верно, знал. Но даже и ему Нелла Гамзова не поверяла своей тревоги. Она не признавалась в своих опасениях и не высказывала их, зная, что страх притягивает несчастья.
Но вечерами, когда Барборка ложилась, а Станислава не было дома, Нелла Гамзова снимала улыбку, как в старые времена дамы распускали корсет, и мускулы вокруг ее губ расслаблялись. Нелла сидела с одинокой сигаретой — как не хватало ей второго огонька — и портила глаза готическим шрифтом газет, тех, что широко описывали Лейпцигский процесс, а через окно в комнату вместе с ароматом гвоздик, доносящимся откуда-то из велеславинского садоводства, проникал запах гари, древний чад тлеющих костров, на которых сжигали еретиков и ведьм.
Последний трамвай скрывался в депо; она была одна, и рассказы еврейских изгнанников и других беглецов из Третьей империи, которые целыми днями толпились в их конторе, возвращались теперь к ней по воздушному мосту вздохов. Далеко слышно в такую прекрасную сентябрьскую ночь. Повеял легкий ветерок, встрепенулись листья в соседнем саду, и тот, у кого слух напряжен до такой степени, что различает звуки за рубежами страны, улавливает далекие стоны пытаемых и сопение мучителей, словно при чудовищном соитии. Все тихо, лишь в Дейвицах[17] маневрирует состав; все тихо, лишь часы отбивают время на храмах Лореты, в Страговском монастыре, на соборе святого Вита, на Ангальтском вокзале. В берлинских часах не хватает колесика, их стрелки взбесились и пошли крутиться в обратную сторону. Возможно, припадки бешенства случаются не только у несчастных с дурной наследственностью. Безумие охватывает иногда целые нации, и Германия, помешавшаяся на свастике, страдает манией величия, садизмом и пироманией. Она окончательно спятила. Где те времена, когда мы смотрели на танец смерти в имперских картинных галереях, а старичок сторож дремал при этом в холодке? Конь костлявой понес, его безносая госпожа сбежала из музея к живым людям и хозяйничает вовсю. Ландскнехты в рощице забили насмерть ясновидца за то, что ему было видение — «большой дом в пламени»; политик, написавший мемуары о пожаре рейхстага, раскачивается на крюке; не спрашивай, чьими руками он задушен, ни о чем не спрашивай, сегодняшняя Германия полна баллад.
«И как я пустила туда Гамзу! Так вот почему он был такой ласковый! Вот почему он был такой ласковый, вот почему», — твердит себе Нелла и видит мужа, как он старательно и неуклюже, будто застигнутый врасплох школьник, вытирает облитый подносик.
ГЕРОСТРАТ ИЗ ЛЕЙДЕНА
Суд — это драма, суд — спектакль. В старинном лейпцигском зале ждала публика, оцепленная полицией. Гамза сидел в группе иностранных юристов, напряженный, как никогда в жизни. Места судей были еще пусты. Кайзер Вильгельм, воинственно-красочный, как живые жандармы в первом ряду, выступил из рамы на стене и увел Гамзу, старого солдата мировой войны, ко временам конопиштских[18] роз в парке наследника. Время в Германии идет вспять. Там до сих пор не подписали Версальский мирный договор. Фельдмаршал Гинденбург, танненбергский победитель, — президент империи. Недавно нацисты передали ему два королевских замка — почетный дар в память прославленной битвы. Немцы ведь не проиграли мировой войны. Так утверждает фюрер, а то, что говорит фюрер, — свято. Ломаные крючья свастики, сцепившиеся друг с другом, какой-то бредовый орнамент, бессмысленная квадратура круга, двойной крест, вписанный в круг, зловеще выделялся рядом с геральдически неумолимым имперским орлом.
A-а, вот входит доктор Зак, который так нелюбезно спровадил Гамзу. По бокам его — два защитника в черных мантиях; они садятся на трибуне слева. (Как завидует им Гамза! Завидует, как мальчишка. Мы изучили имперские законы, материал следственной комиссии знаем как свои пять пальцев, мы сгораем от желания защитить, выручить товарищей, а эти ex officio[19] делают вид, что скучают!) Доктор Зак, с двусмысленной улыбкой на своих тонких губах, насмешливым взглядом рассматривает сквозь пенсне публику, переговаривающуюся на нескольких языках мира. Но оружия нет ни у кого. Не бойтесь! Всех нас дважды обыскали.
Но, боже, кого это ведут? На ногах кандалы, согнутая спина, голова склонилась на грудь — он вваливается, скорее похожий на медведя, вставшего на задние лапы, на балаганного медведя, чем на человека. По фотографиям в газетах и в Коричневой книге Гамза, конечно, знал первого из обвиняемых, Маринуса ван дер Люббе, молодого голландца, схваченного на месте преступления. Уже тогда его поразили покатый лоб и тупое выражение лица, уже тогда приплюснутый нос и незакрывающийся рот обвиняемого произвели на Гамзу впечатление слабоумия, а глубоко сидящие раскосые глаза, казалось, поблескивали из-под низкого лба с коварной строптивостью, свойственной преступникам. Но что молодой человек уродлив до такой степени, — адвокат все же не думал! Голландец ужаснул его настолько, что в первый момент Гамза почти не заметил остальных, ничем не выделяющихся людей, которых стража подвела к скамье подсудимых.
Старший из них — ему могло быть около пятидесяти — держится молодцом. У него высоко поднята голова; горделивая осанка; в стиснутых челюстях чувствуется энергия. С нескрываемым пренебрежением смотрит он выпуклыми глазами прямо в публику. Это Димитров — защитник болгарского народа, сын страны, где люди доживают до ста лет, если не гибнут насильственной смертью. Не похоже на то, чтобы он ее боялся, — широкоплечий, с упрямым чубом, сидит он между двух своих земляков, исхудавших после полугода тюремной жизни. А тот тщедушный человек с гладко зачесанными волосами, тонкий, как мальчик, не по возрасту моложавый, как выглядят все сильно исхудавшие люди, — это Торглер. Он кажется своей собственной тенью. «Ах, как он изменился, — говорили вокруг Гамзы. — А какой был оратор!» Гамза лично не знал этого депутата от компартии, его до сих пор не допускали к Торглеру. Но теперь он видит, что прозрачный человек, с опущенными уголками губ, вяло уронивший слабые руки, смертельно испуган. Судя по тому, как испуганно он избегает взглядов, создается впечатление, что он воспринимает процесс как позор. Он страдал, когда его слепили юпитеры кинорепортеров, вздрагивал, когда пулеметами трещали киносъемочные аппараты. Вся эта постыдная комедия для него — пытка.
Но вот в пурпурных мантиях входят судьи. Задвигались стулья, зашаркали ноги — публика встала; будто вихрь пронесся по залу — все вскинули правую руку, и Гамза впервые в жизни увидел массовое арийское приветствие.
Председатель суда взял слово.
— За рубежом, — сказал он, — с недоверием следят за процессом поджигателей. Были даже высказаны опасения, что здесь могут несправедливо осудить обвиняемых. Но сторонники обвиняемых могут быть спокойны. Наш ответ на это недостойное подозрение ясен. Мы разрешили доступ иностранным юристам для того, чтобы эти господа сами проследили за ходом процесса. Объективность имперского суда, так же как и его авторитет, — вне дискуссий. Силу закона будет иметь только то решение, которое вынесем мы, здесь, в Германии, где преступление имело место и где оно разбирается в судебном порядке, но ни в коем случае не то, которое, вероятно, уже вынесли за границей некомпетентные любители.
Верховный имперский суд открывает процесс тем, что оправдывается, будто его обвиняют! Вы слышите это, товарищи юристы? Еще бы, они все превратились в слух. По умному лицу Марселя Вийяра, похожему на мордочку ящерицы, легкой волной пробежала насмешка; блестят темные глаза болгарских адвокатов — Дечева и Григорова. Артур Гарфилд Хэйс, старый борец против всех судебных расправ, морщит свое чуть-чуть негритянское, чуть-чуть еврейское, доброе и мудрое человеческое лицо. Только не сдаваться! Не сдаваться! Сакко и Ванцетти, безвинных итальянцев, казнили в Америке, несмотря на его защиту, но Энди и Роя, этих негритянских юношей, он выцарапал. Только не падать духом! Будем надеяться, что недаром решился он на путешествие в старую Европу. Хороший фитиль мы вставили нацистам в зале Ваграм, куда сошлось на митинг около двадцати тысяч человек! Поддали мы им жару Лондонским процессом!
Пока Гамза слушал чтение обвинительного акта, предъявленного Маринусу ван дер Люббе, каменщику, двадцати четырех лет, Эрнсту Торглеру, бывшему депутату, сорока лет, Георгию Димитрову, литератору, пятидесяти одного года, Блаже Попову, студенту, тридцати одного года, и Константину Таневу, обувщику, тридцати шести лет, в поджоге имперского рейхстага, в заговоре против империи и в государственной измене; пока открывался Лейпцигский процесс, заседания в Лондоне закончились. Международная следственная комиссия пункт за пунктом уже обсудила то, о чем в Германии сейчас только начнут говорить. Правда, в Лондоне не было обвиняемых, зато там было достаточно свидетелей. И эти свидетели не боялись раскрыть рот и сказать правду.
— Обвиняемый ван дер Люббе, признаете вы себя виновным?
Маринус ван дер Люббе, упершись подбородком в грудь, раскрыв рот, глазеет в пустоту. В течение всего времени, пока читали обвинительный акт, он сидел вот так, с идиотским выражением лица, между напряженным до предела Торглером и хмурым Димитровым. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять: эти люди не имеют между собой ничего общего.
— Маринус ван дер Люббе, признаете вы себя виновным?
Если бы конвойный не подтолкнул его, чтобы он встал, голландец и не заметил бы, что к нему обращаются. Он не видит одним глазом. Может быть, он и не слышал? По старинному залу гуляет эхо. Может быть, он не понимает по-немецки? Ведь он голландец.
Председатель суда, подавляя нетерпение, медленно и громко повторяет вопрос.
Обвиняемый забормотал, как спросонья. Это — «да» или «нет». Даже переводчик не разбирает его слов.
Тогда еще не применяли радионаушников. Голландца подвели к столу судей, чтобы суд и допрашиваемый могли договориться. Почему он отвечает так тихо? Почему он так безучастен, когда дело идет о его жизни? Он измучен и вял. Не пытали ли его в тюрьме? Перед самым процессом-то?! Не может быть, чтоб решились на такой позор! Или ему дали какой-нибудь наркотик? Из группы иностранных журналистов поползли слухи о загадочных инъекциях. Голландский адвокат, присланный семьей Люббе, утверждает, что Маринус объявил голодовку. Подсудимый передал своему земляку, что не хочет никакого защитника. Он страдает меланхолией.
— Обвиняемый, признаете ли вы, что вы подожгли рейхстаг?
Зал суда, набитый до отказа, затаил дыхание. Тихо. Так тихо, что Гамза слышит, как у него на руке тикают часы.
— Да, — слабым голосом ответил Люббе.
Люди в зале задвигались, сели поудобнее.
— Зачем вы это сделали?
Люббе стоит, по бокам — конвойные, голова его клонится, как подгнивший бутон. Он не отвечает. Молчит. Будто это его не касается. Стоит и молчит. Молчит, как бессловесное существо.
— Обвиняемый, вы поняли вопрос? Господин переводчик, прошу вас. Я спрашиваю, с какой целью вы подожгли рейхстаг? Какие были у вас к этому побуждения? Может быть, политические?
Все приготовились к новому томительному молчанию.
— Я хотел попасть в газеты, — неожиданно отвечает Люббе.
Это производит невыразимо тягостное впечатление — будто икнул человек, и ненароком выскочила правда.
— Во время следствия вы заявили, что хотели показать революционный пример, — напомнил ему председатель, заглядывая в дело. — Разговаривая с кучкой безработных в Нейкельне[20] за два дня до пожара, вы высказались в том духе, что дальше так нельзя, что это дело надо поломать. Вы коммунист? — спросил он с утвердительной интонацией.
— Нет, — отозвался Люббе.
Ветерок изумления пробежал по залу. Как же так? Ведь рейхстаг подожгли большевики — в империи это знает каждый ребенок.
— Но вы были коммунистом?
Люббе впервые поднял голову.
— Я был самостоятельным коммунистом, — самодовольно произнес он. — Москва мне не указ. Я руководствовался собственными идеями.
Жалкий Герострат из Лейдена! Это в самом деле твои идеи, Маринус? Тебе их никто не подсказывал? Например, тот добрый господин, который в Потсдаме посадил тебя к себе в автомобиль, когда ты, бедный странник, тащился по дороге? Он подарил тебе пару ботинок и познакомил тебя со столькими замечательными людьми в форме и с такими яркими значками, что у тебя закружилась голова, твоя бедная голова? Вот она снова упала на грудь… Не внушены ли эти идеи кем-либо из твоих немецких друзей, которые позвали тебя на январь в Берлин, обещая работу? Почему ты так тщательно прятал от своих голландских товарищей их письма, хотя обычно похвалялся каждой запиской? Это действительно были твои идеи?
— Не изложите ли вы их нам, обвиняемый?
Люббе молчит.
— Расскажите о вашей поездке в Советский Союз.
Люббе там никогда не был. Как ни старался следователь — пресловутый Фогт, — факт оставался фактом: Люббе так никогда и не добрался до Советского Союза. Напрасно он сфотографировался на открытке, парень, мечтавший попасть в газеты, напрасно намалевал звездочку над головой и увековечил свое имя в хвастливой подписи — не успел он открыть торговлю своим изображением, как в Вестфалии его забрали и с позором вернули домой: у него не было разрешения на продажу почтовых открыток. Он узнает ее, эту старую бумажку, которую председатель вытащил из судебного дела, — этот образчик мальчишеского тщеславия, которому судьи со свастикой придают исключительное политическое значение; он узнает себя в зеркале своих неудач и, повесив голову, молчит. Будто три фразы, которые он только что произнес, были для него непосильным бременем, под тяжестью которого у него согнулся хребет и склонилась голова: он снова впадает в свое животное онемение.
Лейпцигский процесс — драма, Лейпцигский процесс — спектакль, а поджигатель, застигнутый на месте преступления, не знает роли. Он не отвечает на вопросы; он оставил в дураках председателя суда, и искушенный юрист, перебирая листы обвинительного акта, бормочет какой-то монолог в сумрак понурого зала. Председатель напоминает Люббе его попытки выступить в политике. «Вы ведь считали себя прирожденным народным трибуном, как тут написано; год назад вы произнесли мятежную речь на митинге бастующих шоферов в Гааге». Только — фашистскую, господин председатель, направленную против местных коммунистов: у Гамзы в руках — нотариально заверенная фотокопия с их письменного протеста. Умышленная небрежность, с какой нацисты смешивают в одну кучу последователей Ленина и таких вот опустившихся индивидуумов, его бесит; он сидит как на иголках, его так и подмывает вмешаться в ход процесса, язык так и чешется. Разве это дело адвоката — молчать, как рыба, и слушать, как репортер?
Это все одна и та же песенка, — жалкая жизнь Маринуса ван дер Люббе, поджигателя. Пусть он перепробовал свои силы в девяти профессиях, пусть обошел в своих странствиях порядочную часть Европы — это все та же песенка, старая песня о человеке с маленькой душой, который хотел большой славы, ярмарочная песенка о сыне перекупщика. Отец его бросил, мать умерла, позаботилась о нем сестренка. Кем же ты будешь, брат? Проповедником: он — первый человек в деревне. Но бедность материальная и бедность духа помешали этому. Пошел он в каменщики, но известь брызнула ему в лицо — теперь он смотрит на жизнь подслеповатыми глазами. Отец пил, а сына преследуют призраки; может быть, поэтому он нигде не осел, что-то гнало его с места на место. Одни ищут в мире счастье, другие — любовь. Люббе искал славу. Спорт вошел в моду: Кале — Дувр, переплывем большую воду между Францией и Англией! Маринус ван дер Люббе, на тебя смотрит Европа! Но он не переплыл — у него было слабое сердце, и товарищи посмеялись над ним. Никогда они не признавали, что Маринусу ван дер Люббе принадлежит первое место, что он — прирожденный вожак. Он вступил в партию и ушел из нее, почувствовав, что его недостаточно уважают; нет, ни разу не удалось переступить границу молодой страны рабочих этому человеку с душой мелкого лавочника. Зато в нем приняли участие немецкие господа в автомобиле, господа в высоких сапогах, с роскошными значками, — об этих господах не говорит председатель лейпцигского суда, — господа, с шумной бодростью похлопывающие по плечу, господа, обожающие простой народ; они-то сразу поняли, что Маринус ван дер Люббе способен на великие дела. Отец пил, а сына преследуют призраки. Он боится женщин и подчиняется мужчинам, которые умеют приказывать так, что от наслаждения мурашки пробегают по спине, мужчинам, которые не стыдятся разделить с бедным малым стол и ложе. Об этом не говорит председатель лейпцигского суда, нет, об этом не упоминается. Но это — все та же песенка, жалкая жизнь Маринуса ван дер Люббе, поджигателя, старая песня о человеке с маленькой душой, который хотел большой славы. Судьба-калека наигрывает на визгливой гармошке эту всем надоевшую уличную песенку, эту балладу о парне, который хотел попасть в газеты и действительно попал в них, эту ярмарочную песнь о Герострате из Лейдена.
Вот он стоит здесь и клонит лицо с низким лбом, с упрямыми глазами, с незакрывающимся ртом. Челюсть отвисла, и замороченная голова падает на грудь. Уж не спит ли он стоя? Молчит и не дает ответа, когда председатель пространно расспрашивает его — откуда появились в его фамилии две точечки над «и», где им, собственно, не положено быть, как выяснилось в голландском посольстве. Один из следователей стал отвечать вместо допрашиваемого. Пока он информировал суд о расследовании, предпринятом для выяснения тайны этих незаконных точек, быстро вошел судебный служитель и положил на зеленый стол перед трибуналом телеграмму. Председатель вскрыл ее и счел нужным огласить ее содержание. Обер-лейтенант штурмовых отрядов Карл Гейнес, начальник полиции в Бреслау, с великим огорчением узнавший, что иностранная пресса упоминает его имя в постыдной связи с пожаром рейхстага, категорически отвергает эти гнусные и бессмысленные подозрения. С двадцать первого февраля до первого марта он жил в Глейвитце, в Верхнесилезском доме, и множество людей могут подтвердить, что видели его там в эти дни.
Немецкой публике явно не по себе. Начальник полиции, разумеется, прав. Начальство всегда право. Но какие же мы переживаем тяжелые времена в империи, если даже начальник полиции вынужден собирать свидетельства своего алиби и доказательства, что он не поджигатель. Нет, тут видна рука евреев!
И вдруг раздается смех, срывающийся, громкий, неуместный смех. Это смеется ван дер Люббе. Он не считается ни с какими условностями, хохочет, и смех его словно скачет обнаженный среди одетых людей.
— Над чем вы смеетесь, обвиняемый? — с угрозой спрашивает председатель.
— Над процессом! — выдавливает из себя Люббе.
Голова его подпрыгивает, как у куклы, сотрясаясь от смеха. Но вопреки общеизвестному факту о заразительности смеха ни один человек в переполненном зале суда не присоединяется к нему.
— Это уже слишком! — кричит выведенный из себя председатель. — Где доктор?!
БОГАТЫРЬ
Сегодня по делу о поджоге рейхстага отвечает Георгий Димитров, один из восьми детей македонского рабочего, по профессии печатник, бывший депутат болгарского парламента, политический эмигрант, доживающий в изгнании десятый год. Документы у него не в порядке, и на родине он оставил много несведенных счетов. Как говорится, подозрительная фигура.
Председатель суда поднял блестящую лысую голову, похожую на чашу, из каких пили вино бурши.
— Димитров, в Болгарии был выдан ордер на ваш арест. Вы были приговорены к пожизненной каторге, а затем, дополнительно, к смертной казни. Хотите вы что-нибудь сказать по этому поводу?
— Нет, — небрежно ответил Димитров. — Меня это не интересует.
В порядке вещей — стоять прямо, когда с вами разговаривает начальство, особенно в Германии, и Димитров держался прямо. Но это раздражало председателя верховного суда доктора Бюнгера. Не вина председателя, что он лыс, и нет никакой заслуги обвиняемого в том, что его голова обросла львиной гривой. Но это раздражало председателя верховного суда. Все в этом молодце с Балкан раздражало доктора Бюнгера: неуместный рост, недозволенный размах плеч, отнюдь не дрожащий голос. Тучи собираются над гривастой головой обвиняемого, а он нарочно держится прямо, словно вызывая молнию, чтобы принять ее на себя.
— Расскажите нам, Димитров, как было дело со взрывом софийского собора.
— Этот взрыв организовало болгарское фашистское правительство, чтобы получить возможность преследовать коммунистов, — отчетливо, на весь зал, отвечает Димитров. — В других местах это тоже практикуется.
Какая дерзость! Немецкая публика онемела.
— Обвиняемый! — взревел председатель. — Известно ли вам вообще, для чего вы здесь?
— Для того, чтобы защищать коммунизм и самого себя, — просто ответил Димитров.
Его уверенность приводила в бешенство. Несчастный Бюнгер! Вчера — блуждать в густом люббевском тумане, сегодня — пробивать лбом стену убеждений болгарина…
— Когда горел софийский собор, я был в Москве, — объяснил Димитров. — К тому времени я уже полтора года жил за границей как политический эмигрант. Я был осужден за восстание в 1923 году,[21] а никак не за взрыв в софийском соборе, происшедший в 1925 году. Даже болгарское фашистское правительство не подозревало меня в этом преступлении, а уж оно-то очень меня не любит. Только следователь по моему делу, господин советник Фогт, просто-напросто пришил мне и берлинский рейхстаг и софийский собор.
— Я вам запрещаю, обвиняемый, оскорблять наших судебных чиновников.
— Это он меня оскорбил, — неожиданно вскричал Димитров так, что задребезжали оконные стекла и на столе подскочил крест, на котором приносили присягу свидетели. Обвиняемый стоит, указывая пальцем на одного из господ за зеленым столом, — Не выслушав ни единого моего слова, — отчитывает он следователя, тыча пальцем в воздух, — вы в первый же день опубликовали в газетах официальное сообщение, что я поджег рейхстаг. Опубликовали вы это или нет? Говорите!
— Это неслыханно!
Роли переменились, и обвиняемый допрашивает следователя. Вы слышите его, товарищи юристы? По нему видно, что его отец бился с турками за свободу. Это род, трижды закаленный: жестокой землей, жестокой историей, жестокой бедностью, род, который не запугаешь. Марсель Вийяр, французский адвокат, вспомнил, как накануне митинга в парижском зале Ваграм он хотел обратить внимание матери Димитрова, отправившейся в путь, чтобы будить совесть людей, на особо важные пункты ее речи. Но старушка в платочке зажала руками уши перед переводчиком: «Нет, оставьте меня. Я сама знаю». Она отроду не стояла на трибуне, но спокойно вышла навстречу двадцати тысячам французов, на языке которых не знала ни слова, и рассказала им правду о своем сыне, — и рабочие себя не помнили от энтузиазма. Да, и логичный француз, и искушенный американец, многое повидавший на своем веку, и Гамза, поседевший в судебных сечах, — все они горят восхищением перед Димитровым Бесстрашным.
— Я требую, чтобы советник Фогт так же публично опроверг в газетах то, в чем он меня тогда безосновательно обвинил, — бушует он.
— Возьмите себя в руки, обвиняемый, или я лишу вас слова.
— Вы тоже не смогли бы держать себя в руках, господин председатель, если бы были так же невиновны, как я, и прожили бы в камере пять месяцев в кандалах. Это немного нарушает кровообращение. Не удивляйтесь, что у меня нет терпения. Я вынужден защищаться сам, раз вы не допустили к защите ни одного из адвокатов, которым я предоставил все полномочия.
— Мы не могли вам этого разрешить потому, что ваши документы не в порядке, — ответил председатель нудно, как человек, которому уже надоело повторять одно и то же.
— Хорошо, и судите меня за то, что не в порядке мои документы, а не за пустой вымысел. Я так же разложил костер в рейхстаге, как и вы, господин председатель.
— Я прикажу вас вывести, обвиняемый!
— Рейхстаг могли поджечь только политические безумцы или провокаторы. Меня не было в Берлине, когда он горел. Об этом пожаре я узнал из утренних газет в поезде, шедшем из Мюнхена в Берлин. Отдавая себе полный отчет в своих словах, я публично заявляю, ссылаясь на свою честь коммуниста, что не имею ничего общего с этим бессмысленным преступлением. Я не авантюрист, а коммунист по убеждениям и по дисциплине, а террор как метод борьбы осуждает вся моя партия. Более полугода безо всяких оснований мы сидим в тюрьме — мои болгарские товарищи и я, — из них пять месяцев в кандалах! Так вы не содержите даже самых подлых грабителей и убийц. Это — нарушение тюремных правил, — кричал Димитров, размахивая какой-то бумагой. — Господин председатель, мы жалуемся на плохое обращение!
Следователь Фогт презрительно улыбнулся.
— Когда я спрашивал обвиняемого о женщинах, которые его навещали, он кинулся на меня с кулаками, — бросил он.
— Что вы на это скажете, обвиняемый?
Димитров повернул голову, и следом за ним повернулась стража. Это — опасный человек. Здесь стерегут каждое его движение. Гамза увидел упрямый профиль под непокорной гривой, выпуклый глаз, сверкающий гневом, лицо, налившееся кровью. Он силач, и его боятся.
— По какому праву, — загремел он так, что у публики зазвенело в ушах, — советник Фогт копается в моих личных делах! Какое ему до них дело? С какой стати я должен это сносить?
— Послушайте, Димитров, — недовольно сказал председатель. — Не разыгрывайте перед нами комедию. У вас достаточно судебной практики еще по Болгарии. Пора бы вам знать, что перед следователем не может быть ничего личного. Вы это сами понимаете.
Димитров поглядел в глаза председателю.
— В моем деле следователь был не нужен, — выговорил он громко, чтобы все слышали. — Господин председатель, мы с вами оба знаем, в чем моя вина. Я признаю учение Ленина, Советский Союз и Сталина, а этого в Германии сегодня не прощают.
— Уведите его, — сухо сказал председатель.
В дверях Димитров остановился.
— Если будете зачитывать вместо моих ответов протоколы следователя — они недействительны! — бросил он в зал. — Ни одного из них я не подписал, господин председатель. Предупреждаю вас!
И увели Димитрова, защитника горных пастухов, защитника черноморских грузчиков, горняков Перника, табачниц, батрачек на розовых плантациях, рабочих в каменоломнях и на виноградниках. Говорите после этого, что нет больше богатырских песен! Пойдите навстречу солнцу, в утреннюю страну, в славянские земли, — там они звучат до сих пор. Всякий, у кого были легкие, дышал полной грудью — так после этой бури освежился воздух в душном зале суда.
— Этот не нуждается в адвокате, — сказали в один голос американец и француз.
Гамза молчал. «Когда человек прав и не знает страха, как все тогда просто, — подумалось ему. — Он победит или падет, но это уже не имеет отношения к делу. Идею нельзя убить». Странная восторженность охватила Гамзу, и он был очень счастлив, хотя лично не имел для этого никакого повода.
ШИЛЛЕРОВСКИЙ ГЕРОЙ
Злосчастный Лейпцигский процесс! Откуда он только свалился на голову председателя верховного суда! Вся торжественность заседаний пошла насмарку. Голландец бастует, болгарин мечет громы; из Люббе председатель клещами вытаскивает каждое слово, Димитров не дает слова сказать председателю; Люббе низводит судебную драму до фарса, Димитров превращает скамью подсудимых в трибуну для пропаганды пагубных марксистских идей; голландец — мучителен, болгарин — опасен; только при допросе Эрнста Торглера свободно вздохнул председатель вместе со всеми судьями. Какое спокойствие, какая благопристойность после несдержанности балканца! С немцем, принадлежащим к культурной нации, приятно иметь дело.
До того как Эрнста Торглера выбрали депутатом рейхстага, он стоял за прилавком, и оба эти занятия благоприятно сказываются на его манерах. Он вежлив, обходит острые углы, знает, что и как следует сказать. И он умеет говорить, умеет растрогать своей речью.
— Я невиновен, — заявил он. — Я — жертва рокового недоразумения, которое безусловно будет выяснено. Я твердо в это верю, и моя вера придает мне силы. Именно возмущение этим неслыханным преступлением привело меня на другой день после пожара в берлинское полицейское управление. Меня никто не приглашал, я отправился туда сам, чтобы оградить себя от подозрений, которые промелькнули в печати, — будто пожар рейхстага каким-то образом связан со мной. Эта ложь невыразимо болезненно задела меня. Я пролил кровь за Германию, я был солдатом во время мировой войны, господин председатель, и получил тяжелое ранение в битве на Сомме.
Судебный служитель вызвал в коридор адвоката Торглера. Вернувшись, доктор Зак объяснил: приехала мать Торглера. Разрешит ли ей председатель присутствовать при разборе дела? Председатель разрешил, в публике произошло тихое движение — люди уступали дорогу скромной старой женщине. Пулеметы кинооператоров нацелились на нее, а чувствительный Торглер отвернулся, чтобы смахнуть слезу. Публика заметила это — такие вещи ей нравятся.
— Моя мать, — продолжал Торглер, — с молодости признавала социалистическое учение и воспитала меня в его благородных принципах. Я вышел из бедной семьи, я сын стекольщика и горжусь своим пролетарским происхождением. Почти двадцать лет я бескорыстно защищал интересы немецкого народа, и ничего я так страстно не желаю, как того, чтобы мне и в дальнейшем было дозволено защищать их в рамках закона, которого я никогда не преступал. Закон для меня священен.
— Прямо по Шиллеру, — шепнул язвительный Марсель Вийяр.
— Он полон предрассудков легальных социалистов. На немцев это хорошо действует, — ответил Гамза тем же тоном.
— Только это ему не поможет, — заметил Хэйс.
Да, обвиняемый полагается на справедливость имперского суда и верит, что в конце концов истина восторжествует, даже если в полицейском управлении ему не удалось разъяснить недоразумение и он был арестован.
— Куда бежал Кенен, не знаете? — внезапно спросил государственный обвинитель.
— К сожалению, не имею представления, господин прокурор, — вежливо ответил Торглер.
Суд ценит его изысканную, хотя и несколько растянутую манеру речи. Благодаря Торглеру допрос протекает действительно достойно, так, как это и подобает в верховном суде. Работать с таким обвиняемым одно удовольствие, и он, без сомнения, будет осужден без особого труда.
Дела Торглера плохи. Они с депутатом Кененом в день пожара последними выходили из рейхстага, засидевшись в комнате коммунистической фракции до вечера.
— Что вы там так долго делали?
У них была пропасть работы перед выборами. Торглер ждал телефонного звонка писателя Биркенхауэра, с которым ему надо было договориться о встрече, а Кенен ждал Торглера; Кенен ворчал, что ждать пришлось долго, и рассказывал анекдоты.
Все это хорошо, но председателю суда хотелось бы узнать, зачем обвиняемый Торглер пришел в тот понедельник в рейхстаг с двумя портфелями и что в них было? По дороге его встретила соседка и подивилась, как туго набиты портфели. Он прошел вплотную мимо нее, но был так чем-то поглощен, что даже не поздоровался.
Слабенькая, зимняя улыбка засветилась на истощенном лице Торглера. Отблеск старых времен, которые ушли безвозвратно. Всегда по субботам и понедельникам, объясняет бывший депутат, он ходил в рейхстаг с двумя портфелями: в одном были материалы коммунистической фракции, а в другом — газеты. Он покупал все, сколько их выходило, и не успокаивался, пока не прочитывал от корки до корки. Действительно, они занимали довольно много места и сильно оттягивали портфели. Однако он выдумал особый способ, как их располагать, и ему удавалось вместить в портфель все берлинские газеты. С удовольствием педанта Торглер показывает прозрачными руками, как он это делал. И улыбается своей слабой улыбкой, тоскливой, как северные зори.
Так; но не может ли обвиняемый теперь рассказать нам, по какой причине они с Кененом велели принести свои шубы из гардероба рейхстага к себе в комнату? Конечно, он может это сделать. Это совсем просто. Гардероб закрывается в восемь часов. Когда он, Торглер, задерживался в рейхстаге позже восьми, — а это случалось часто, — он брал свое пальто наверх, чтобы не задерживать служителей. Он поступил как обычно и совсем не думал, что один из тех ничтожных поступков, какие мы совершаем в день бесконечное множество, будет когда-нибудь рассматриваться под увеличительным стеклом. Как только замедленная съемка судебного разбирательства начинает разлагать повседневную жизнь на отдельные движения, они приобретают чудовищное значение и свидетельствуют против допрашиваемого.
— Следовательно, вы признаете, что задержались в рейхстаге дольше восьми часов?
Да, задержался. Торглер этого не отрицает, это случалось и раньше, когда у него бывало много работы; а в тот вечер он ждал звонка Биркенхауэра.
— В котором часу он позвонил? Сколько было минут девятого и через какие ворота вы прошли, когда покидали рейхстаг?
Если бы Торглер мог знать, какое значение приобретет каждая секунда в его состязании со следователем! Он засекал бы время, как легкоатлет на стадионе. Часовой заметил огонь в четверть десятого. Но ведь несчастный Торглер уже за добрый час до этого унес ноги от рокового места! Он считает, что ушел приблизительно в десять минут девятого. Точно он этого не может сказать. Обычно человек не отмечает по минутам каждый свой шаг.
— Но вы спешили, как на экспресс! Один свидетель видел, как вы выскользнули из рейхстага с подозрительной поспешностью.
Это было ошибочное впечатление. Господин свидетель ошибается. Наоборот. Обвиняемый помнит это, как сегодня. Фрейлейн Рем, его секретарша, довольно объемистая и неповоротливая особа, которая выходила из рейхстага вместе с ним и с депутатом Кененом, страдает закупоркой вен в ногах, и из-за нее они вынуждены были идти очень медленно. Они проводили ее к станции подземки и только после этого прибавили шагу и направились в ресторан Ашингера, у станции «Фридрихсштрассе», и сели там за стол немногим позже половины девятого.
Прекрасно. Иностранные юристы обменялись оживленными взглядами. Торглер не знает, куда девался Кенен. А он уехал в Париж, затем в Лондон, дружище. И рассказал международной следственной комиссии слово в слово то же самое, что и ты. Вот в руках Гамзы копия протокольной записи его показаний. Такие копии получили все иностранные адвокаты, Брэнтинг добросовестно разослал материалы в адреса всех членов международной следственной комиссии. И немецкое подполье тоже действует с поразительной четкостью. Каждый день Гамза получает в отеле с утренней почтой листовки, прокламации, программу судебного разбирательства на этот день. Безыменные товарищи, доставлявшие эту контрабанду, рисковали жизнью.
Торглер, сидевший в тюрьме в Германии, и Кенен, находящийся за границей на свободе, показывают до мелочей одно и то же, не имея возможности сговориться. Это совпадение свидетельствует в пользу Торглера, подтверждая правдивость его слов, и может сослужить ему хорошую службу на суде. Надо ковать железо, пока горячо! В перерыве Гамза с американским юристом встали и пошли к доктору Заку.
Однако добраться до защитника Торглера было не так-то легко. Нацисты, видимо, встревоженные отвагой, с какой вел себя Димитров, усилили и без того большие строгости. Юристам пришлось несколько раз удостоверять свою личность, много раз объяснять, чего они хотят, и предъявлять пропуска, прежде чем их ввели в комнату адвокатов, такую же хмурую от старинных деревянных панелей и цветных витражей, как и зал суда.
Когда наши друзья вошли в эту комнату, группа куривших и шумно разговаривавших мужчин расступилась и открыла Торглера, сидящего у стены. Он обратил на вошедших тоскующие глаза и, будто стыдясь, снова отвел их в сторону. Вероятно, он принял пришедших за назойливых журналистов. Он сидел и отдыхал. Отдыхал, как человек, измученный непосильным трудом. Его вялость и изжелта-бледное лицо, характерные для людей, мало бывающих на воздухе, с первого же взгляда отличали его от остальных мужчин, брызжущих полнокровным здоровьем. Недалеко от Торглера томился красочный, как бубновый король, конвойный. Его взгляд, свойственный всем сторожам, как бы говорил: «Все это мне уже знакомо. Э-эх, скука!» Болгар здесь не было. С Торглером, с немцем, обращались, видимо, несколько приличнее, чем с болгарскими «керосинщиками».
Доктор Зак принял обоих друзей с выражением оскорбленного самолюбия. Ценные доказательства? Но мы в них не нуждаемся! Дело Торглера в голове доктора Зака, оно ему совершенно ясно, и он хорошо знает, на чем основывать защиту. Материал, который ему предлагают оба адвоката, может разве лишь повредить. Гамза знал уже, каково вести переговоры с доктором Заком.
Но не лучше ли все же узнать суждение клиента об этом?
— Торглер, — громко произнес Зак, будто обращаясь к тупице школьнику или к человеку, пораженному глухотой, — вот господа из международной комиссии беспокоятся, что я недостаточно добросовестно буду вас защищать. — В веселом тоне, каким были сказаны эти слова, трепетала угроза.
Торглер посмотрел на своего адвоката с боязливой улыбкой. Гамза долго ее не забудет. Не так смотрит клиент на своего адвоката, если верит ему. Так разбитая параличом старуха покорно улыбается злой невестке, в руках которой она целиком находится: только бы не рассердить.
— Вы располагаете всеми полномочиями, господин доктор, а следовательно, и полным моим доверием, — ответил заключенный в своей изысканной манере, так, чтобы никого не задеть, и в то же время его острые глаза будто ощупывали пришельцев. «Ты — провокатор? Или друг?» — спрашивали эти глаза. Ах, эти глаза людей, рот которых замкнут, вопрошающие глаза заключенных! Выразительные взгляды той поры, когда фильм был еще немым, но все же понятным!
— Господа коллеги предлагают мне материал из Лондона, — продолжал Зак, не давая кому-либо из друзей вставить слово, — и я, без сомнения, выразил вашу мысль, Торглер, отказавшись от него. Господа, я не столь равнодушен к своим обязанностям, как вы этого опасаетесь. Я был по этому делу в Лондоне и имел сомнительное удовольствие ужинать с доктором Брэнтингом. Ну-с, я выслушал от него столько sottises[22] в духе Коричневой книги, что возможность использования для защиты каких-либо из так называемых лондонских документов для меня совершенно исключается.
— Мы можем их сами огласить, — отозвались оба иностранных адвоката.
На лбу Зака вздулись жилы.
— Пожалуйста. Но в этом случае я откажусь от защиты, — взъярился он.
Торглер ужаснулся, кинулся умасливать Зака: он сердечно благодарит обоих господ за добрые намерения, но он знает, что его дело в самых лучших руках, и просит доктора Зака действовать от его имени, как тот сочтет нужным.
— Сожалею, что мы зря вас потревожили, — сказал ему Гамза на прощание. — Впрочем, вы прекрасно держитесь.
— Вы производите на суд весьма благоприятное впечатление, — добавил Хэйс.
Торглер скорбно улыбнулся своей зимней улыбкой, едва тронувшей его исхудавшее лицо, и вдруг решительно поднял к ним глаза.
— Если б только меня не угнетала забота о дочери… Она больна, — многозначительно произнес он, пристально глядя в глаза обоих юристов. — Лучше всего было бы отправить ребенка куда-нибудь в деревню, к родным, тогда, по крайней мере, жена могла бы сюда приехать, — добавил он как бы между прочим, косясь на доктора Зака.
Страшна та страна, где защитник — одновременно тюремщик подзащитного. Страшна такая страна.
— Да мы вскоре перенесем процесс в Берлин, — бодро бросил Торглеру доктор Зак и с нескрываемым удовлетворением выпроводил нежеланных гостей.
После заседания Гамза подождал мать Торглера и о чем-то с ней поговорил.
ОЧКИ
Кабинет глазного врача помещался в первом этаже, чтобы больным, передвигающимся ощупью, легче было добираться. Окно выходило в сад. Нам нужна надежда — нам, в глазах которых меркнет свет. Дай нам, боже, чистое сердце, чтобы смыть серо-желтые блестки, пляшущие то по кучам снежно-белого белья, о котором так заботятся старушки, то по сверкающей белизне бумажного листа, на котором дедушка собирается писать письмо внуку ко дню рождения. Дай нам, о господи, душу спокойную и терпеливую, чтобы не смутили нас набатный колокол пульса и молнии, сверкающие перед нашими глазами, не возвещая ничего хорошего. Глазной врач — властитель тьмы и света, и не диво, что ожидание его принимает библейский характер и напоминает рождественский пост. В приемной глазного врача не читают. Здесь тоскливо смотрят на зелень сада, здесь верят в скальпель врача, который снимет бельмо, когда оно созреет, верят в очки; здесь не хотят примириться с судьбой, может быть, темной до самой смерти. Сколько старых людей, сколько их! Пенсионеры с Виноград встречаются здесь с малостранскими бабушками.
И эта изящная быстрая дама, которая сейчас прошла через раздвинутый занавес врачебной тайны, немолода. Но от нее приятно пахнет духами, лицо не броско подкрашено, ее одежда и манера речи — светские и резко отличаются от старушечьего характера приемной.
— Господин доктор, я слепну, — сказала она. — Глаза мои съел готический петит. Это страшный шрифт.
— Вы читаете его с детства?
— Неделю, — быстро возразила дама. — Этого вполне достаточно.
Врач усмехнулся:
— Ну, посмотрим!
Он ввел даму в темную каморку, сел перед ней, взял волшебное зеркальце и стал читать в ее глазах. Он прибавил свету и направил маленький рефлектор — или как это называется? — будто на самое дно зрачка.
— Почему вы дергаетесь? Это же не больно! — И доктор молча и внимательно исследовал глазное дно.
Потом они снова вышли на свет божий, в белый кабинет. Врач поставил даму перед таблицей с рядами уменьшающихся букв и попросил ее читать.
Ах, если бы таблица могла помнить все опасения и надежды людей, читавших ее буковки! Удивительно, как еще не погнулись рожки всех этих «У» и «Г»! Если б человеческие чувства могли стать зримыми в кабинете глазного врача, если бы возникли они в образе бабочек — стало бы видно, как бьется о таблицу неповоротливый «бражник»-раздумье, а прекрасный «адмирал»-радость кружится вокруг него, поднимаясь все выше и выше, как реет множество забот-«монашек», веселые голубые мотыльки-улыбки порхают повсюду.
Но что я говорю — в чистом воздухе пахнет дезинфекцией, и буквы вырисовываются твердыми и ясными линиями. Чем дальше отступает дама, тем легче ей разбирать буквы, даже самые маленькие в нижнем ряду.
— Глаза здоровы, — объявил врач, — только рука коротка. Если держать газеты вот так, — он отодвинул газету на значительное расстояние, — ведь прочли бы тогда, правда?
Конечно. С легкостью.
Врач заверил пациентку, что это — простая дальнозоркость, появляющаяся обычно после сорока пяти лет, написал рецепт для очков и отдал ей с улыбкой.
— Шрифт здесь ни при чем. Не вините его.
Дряхленький оптик, витрина которого — само сверкание дневного света, сдул пыль со шлифованного стекла, дохнул на очки в костяной оправе кремового цвета, протер их кусочком замши и с веселой вежливостью подал даме эмблему старости — бабушкины очки. Нелла закинула волосы за уши, оседлала очками нос и превратилась в маленькую озабоченную совушку. Пусть там врач толкует что хочет — не будь Лейпцигского процесса, она, по меньшей мере, еще год читала бы без очков! Но очки очень к лицу даме. И дряхленький оптик грациозным движением, как бы танцуя менуэт, вручил ей вдобавок к приятному сюрпризу из Иены еще и красный кожаный футляр с крышкой. Крышка пружинила, как хлопушка, которой Неллин прадед, в халате и феске, бил на стене мух. Как состарилась она за четырнадцать дней отсутствия Гамзы! Она буквально высохла от тревоги. Ночью арестовали советских журналистов — скоро ли доберутся до чешских? Дело в том, что Гамза, не имея возможности защищать на суде обвиняемых, начал писать в «Красное пламя» судебные отчеты из Лейпцига. Нелла хорошо об этом знала, все его материалы проходили через ее руки. Недавно из зала суда удалили одного из юристов за то, что он писал в газеты; дойдет ли черед до Гамзы? Что с ним будет? И как это она его отпустила! Она просматривала все имперские газеты, какие только могла достать, и на душе у нее становилось скверно от этого гангстерского камуфляжа в виде готического шрифта пивнушек — она заболевала от этого куриной слепотой.
Но читать в очках — одно удовольствие. Буквы перестали подозрительно подмигивать, теперь они смотрят прямо в глаза; слова, страдавшие размягчением позвоночника, выпрямили спину, предложения теперь не шатаются по распутице бумажного листа, а стройными рядами двигаются по выровнявшейся странице. Все чисто и четко. Хаос исчез, снова все заняло свои места. Я не говорю, что Нелла находит в газетах утешение, но, по крайней мере, новости можно воспринимать с ясной головой, а это уже немало. Кто додумался до того, как шлифовать оптическое стекло? Кому первому пришла в голову мысль соединить дужкой стекла-двойняшки и зацепить их проволокой за уши? Благословен тот, кто снабдил нас вторыми глазами и не допустил, чтобы нас прежде времени оттеснили от жизни и выбросили на свалку. Хвала изобретателю бабушкиных очков! Нелла не знает о нем ничего, — а как прекрасно было бы учиться сейчас, на старости лет, когда детям она уже не нужна! Каким восхитительным был бы божий мир, если бы только не эти ландскнехты…
С улицы позвонили, и Нелла в сумерках пошла отворять.
О господи! Вот радость!
— Слава богу, ты! — воскликнула она. — Но что это за девочка? — Гамза легонько подтолкнул ее к двери.
— Нелла, я привез тебе гостью. Иди сюда, Берточка, я покажу тебе, где можно вымыть руки. Пальтишко повесим сюда, вот так, а рюкзак отнесем в бабушкину комнату. Как следует прополощи горло, в поезде можно подхватить заразу. (Нелла не могла прийти в себя от удивления. Оказывается, муж хорошо запомнил, как обращаться с детьми! Но разве он когда-нибудь заботился так о Еленке или о Стане?) Придется тебе, Нелла, дать нам основательно поужинать, — продолжал по-немецки Гамза, — мы очень голодны, мы сегодня прошли порядочный путь. Берта шагает, как взрослая. Это — наша племянница Берта, помнишь? А это твоя тетя!
— Здравствуй, Берта, будь здесь как дома, — произнесла пани Гамзова с такой сердечностью, на какую только была способна, и взяла девочку за руку, не выказав ни тени удивления — за долгие годы она привыкла ко многому.
Девочка в платье цветочками согнула коленку и сделала трогательный детский книксен — с таким усердием, что ее косичка подскочила кверху.
— Здравствуйте, тетя, — гортанно поздоровалась она по-немецки.
Это была красивая, здоровая девчушка, за которой дома, видимо, хорошо ухаживали, а Нелла любила детей. Но я не отрицаю — после стольких страхов ей было бы приятнее провести первый вечер с мужем наедине. Гамза обращался к маленькой гостье с бережной ласковостью и старался ее развеселить. Видимо, какое-то несчастье случилось с семьей незнакомого ребенка. Хотя Гамза тщательно обходил в разговоре эту тему, Нелла все тотчас почувствовала и настроила свою душу так, как это было нужно любимому мужу. Подавив первый прилив неприязни, какую возбуждают нежданные гости у хозяек, она постаралась превзойти Гамзу в ласковом отношении к ребенку.
— Не было печали, — сказала за дверью Барборка. — Поглядите!
Она показывала глазами на пол.
— Вон как исцарапала пол! У ней, видите ли, ботинки с шипами. Уж и разуться не могла!
— Барборка, вы всегда что-нибудь выдумаете!
— Мне все равно, — брюзгливо отвечала та, пожимая плечами. — Не мое добро.
Нелла и Барборка вместе застилали постель для Берты в комнате прабабушки.
— Я и говорю, — снова завела Барборка, взбивая подушку. — Везет этой комнате на гордых людей.
Нелла не ответила. Только чуть быстрее задвигались ее тонкие пальцы, застегивавшие пуговицы пододеяльника.
— Говорю это я девчонке — не пускай, мол, воду сильной струей, перекрутишь кран в ванной. А она стоит, как бревно, и ни гугу в ответ. Вишь, от горшка два вершка, а воображает!
— Она не могла вам ответить, она не понимает по-чешски.
— Так зачем же ее сюда привезли? Пану доктору тоже такое может взбрести в голову, что…
Нелла покраснела.
— Это племянница мужа, — с усилием произнесла Нелла, зная, что говорит ложь, и чувствуя, что только раззадорит этим Барборку.
Так и есть!
— Вон как, — язвительно проговорила служанка. — Стало быть, у вас есть немецкая родня? Вот здорово! Двадцать семь лет живу в доме и ничего такого не знала!
— Ну, кажется, все готово, Барборка. — И Нелла встала.
— Готово-то готово. — Барборка заняла боевую позицию. — Но я вам прямо скажу, перед немкой я плясать не стану. Тут уж много перебывало, даже негритянка у нас жила, и для негритянки я делала все. А для немки и пальцем не шевельну. Когда мы с покойницей старой пани, с вашей матушкой, жили в Карловых Варах, немецкие мальчишки швыряли в нас камнями. Вот взгляните, — она откинула волосы, — до сих пор метка осталась.
— Не все немцы такие, — возразила Нелла. — Несправедливо так говорить, Барборка.
— Это вы так думаете. А изменники в Брно? Делают вид, что съехались на слет «Сокола», а сами хотели от нас отложиться.
Барборка, видимо, имела в виду процесс «Фольксшпорта».
— Вы и об этом знаете, Барборка? — поразилась Нелла.
— Я знаю все! — победно заявила Барборка. — Я читаю всю судебную рубрику. Смотрите, как бы ваша немка не сорвала жалюзи, вот эту, на роликах. Спокойной ночи.
Да, Берте надо пораньше лечь спать, она устала после прогулки. Мы посидим возле тебя, девочка, пока ты не уснешь.
Гамза был до глубины души благородный человек. Нелла знала, каков он. Но разве сидел он когда-нибудь так у постели собственных детей? Ему всегда было некогда…
Хорошо, когда в доме твоем спит ребенок. На волнах его легкого дыхания мысль твоя улетает к древним воспоминаниям, ко временам Вифлеема. Родной дом становится вдвойне родным, когда в нем спокойно дышит ребенок, и Нелла размечталась о внуке Мите, в сон которого вплетаются гудки каспийских пароходов с Волги. Как запутанна жизнь! Внук играет с татарскими детишками, а в комнате прабабушки спит чужая немецкая девочка. Она розовая и дышит, как цветок. Гамза и Нелла на цыпочках выбрались из комнаты.
Теперь они остались вдвоем, и Гамза поверил Нелле, взяв с нее строгое обещание молчать, чья это дочь и почему он перевел ее через германскую границу. — Законным путем? — Гамза расхохотался, как мальчишка. Он выглядел молодо — приключение его освежило. По тебе, Нелла, до сих пор видно, что твой отец был надворным советником. Всякая нелояльность тебя коробит. Долго бы пришлось бедняжке Берте ждать паспорта! Нет, не следовало привлекать их внимание именно к семье Берты. Если б ты только видела его, Нелла, этого несчастного человека, измученного заключением, человека, которому грозит смерть, — как он дрожал за своего ребенка, как просил глазами, как старался намекнуть за спиной собственного адвоката! Гамза уже не добьется права защищать четырех товарищей, это ясно. Зак и суд решили не подпускать к процессу никого из иностранных юристов. И Гамза рад, что мог хотя бы таким образом немного помочь одному из ложно обвиненных. Такой пустяк… Как он это сделал? А очень просто. Они с Бертой вышли из берлинского экспресса, он купил билеты на почтовый, потом несколько станций протащились в пригородном поезде, а недалеко от границы живет один мельник, немецкий коммунист, тот уже на этом деле собаку съел, он и провел нас лесом в Чехию — Нелла знает эту местность по лыжным экскурсиям. Берта попросту совершила прогулку со своим дядей, она гордилась тем, что уже такая большая, и все ей очень понравилось. Завтра Гамза отведет девочку к ее настоящим родственникам, которые живут в Праге.
— Но в вас могли стрелять! — ужаснулась Нелла.
— Там не было ни одной живой души. Только стайка бабочек-капустниц пролетела над пограничным камнем — им-то все равно, в республике они или в «рейхе». Нелла, как там красиво, в горах! Солнце, и вереск, и такой прозрачный воздух, видно далеко-далеко… Нам надо вместе съездить куда-нибудь, — сердечно промолвил Гамза, и у Неллы, бог весть отчего, глаза наполнились слезами. Что это ей напоминало? Что же это напоминало? Какую последнюю прогулку?
— Ты взволнована, — сказал Гамза. — Мне стыдно. Так глупо встревожил тебя этим завещанием. С моей стороны это было идиотством. В Германии мы были в полной безопасности.
— Я знаю, — начала Нелла, незаметно пряча новые очки под газету. — Я знаю. А как же арест советских журналистов?
Гамза поднял глаза к ней.
— Нелла, — перебил он, и голос его был горяч, как в молодости. — Я должен тебе кое в чем признаться. В Лейпциге я влюбился, как мальчишка.
У Неллы Гамзовой взрослый сын, у которого роман с артисткой; где-то далеко живет ее замужняя дочь и внучонок, Нелла уже старая, ей скоро пятьдесят лет. Она старая, но возраст не спасает от безумств, и газеты, отодвинутые ею, зашелестели — так дрожали ее руки.
— Я без памяти влюбился в Димитрова! — воскликнул Гамза и встал. — Если бы ты слыхала его, Нелла! Какое мужество! Герой. Это не фраза. В первый раз в жизни я собственными глазами увидел настоящего героя, — с энтузиазмом говорил он, быстро шагая по комнате. — Мало где найдется такой темперамент и вместе с тем такая трезвость. Умен, как черт, и, конечно, борется за жизнь. Но не в этом дело, — вслух размышлял Гамза, остановившись перед женой. — Знаешь, абсолютная убежденность в том, что человек живет для правды, — вот что придает невиданную отвагу.
Нелла смотрела, как пылает Гамза, и слова, которыми она хотела осторожно убедить его теперь-то уж никуда не ездить, сгорели на ее губах.
«У меня изумительный муж, — подумала она. — Покоя с ним нет, но я не променяю его ни на кого на свете. Я сделаю все, все…»
Что ты сделаешь, бедная Нелла? Только окажешь тысячу мелких женских услуг…
Берта пообедала, и мы ждем Гамзу — с чем-то он явится от родственников девочки? Нелла старается, чтобы Берте не было скучно, а так как в доме уже нет игрушек, она вытащила откуда-то открытки с видами разных мест, где она когда-то побывала, и подает их девочке одну за другой. Берте понравилось голубое озеро с зеленым островом, на котором стоит церковка.
— Возьми себе эту картинку, если она тебе правится, — сказала Нелла. — Это Блед. В той церковке есть колокол, и кто в тот колокол позвонит и при этом загадает желание, у того это желание исполнится.
— Ах! — мечтательно воскликнула Берта. — Ах, я знаю, что бы я загадала!
Бедняжка! Наверное, она загадала бы, чтобы выпустили на свободу ее папу…
Берта обняла Неллу за шею и сообщила ей на ухо с детски таинственным видом:
— Тетя, знаешь, что я пожелаю, когда зазвоню в колокол? Угадай! Чтоб меня приняли в «гитлеровскую молодежь»!
Нелла высвободила голову.
— Нет, не может быть!
— Все, все девочки в «гитлеровской молодежи», — жалобно протянула Берта, ее свежий ротик скривился, и впервые за все время, что она гостила у Гамзы, она готовилась заплакать. — И у всех одинаковые блузки, и юбочки, и ленты, и все они ходят в походы со знаменем. Но меня тоже туда возьмут! Вот спорим, тетя, — я позвоню в колокол, и меня возьмут!
В эту минуту вошла Барборка с подносом, на котором грудой лежали ножи и вилки, хмурая, как туча, она с демонстративным пренебрежением принялась сбрасывать приборы в ящик, подняв адский грохот. Барборка будто хотела сказать: «Я делаю только свою работу, и больше ничего». Счастье, что Барборка не понимает по-немецки! Счастье! Если б она поняла, — о господи, уж тут-то она бы наговорила Нелле много неприятного.
«ЭТО МОЙ ПРОЦЕСС»
Скорей, скорей, поторопим процесс, не то главный обвиняемый, чего доброго, умрет с голоду. Но в этом не будет вины тюремной администрации. Пусть иностранные журналисты сами в этом убедятся. Пусть они отведают золотисто-поджаристый тюремный шницель — у нас у самих при виде его текут слюнки. Но капризный Люббе даже не дотронулся до него. Он не пригубил шоколада, а мог бы, право, быть благодарен за него после обычной бурды. Он не сорвал ни одной ягодинки с грозди винограда, а ведь во фруктах витамины! Они освежили бы человека, который будет приговорен к смерти. Не стыдно ли вам, Люббе, а еще — молодой. У меня в ваши годы постоянно был волчий аппетит. Господин медицинский советник вчера осмотрел больного, простукал и прослушал его и предложил сделать то же самое английскому коллеге. Правда, от заключенного из-за его добровольных постов остались только кожа да кости, но на иссохшем теле вы не увидите ни одного синяка, который свидетельствовал бы о плохом обращении, ни следа уколов, о которых распускают страшные басни. Апатия Маринуса — только результат его упрямой голодовки. Судебный эксперт, украшенный свастикой, объявляет, что обвиняемый в здравом уме и полностью может отвечать за свои действия. Не поддается на уговоры — ничего не поделаешь! Попробуем искусственное питание. Наша безусловная человеческая обязанность — до тех пор поддерживать в нем жизнь, пока его можно будет наконец казнить.
Раз он уже признался, этот человек, схваченный с поличным, к чему он тогда тянет и портит кровь председателю суда, который и так чувствует себя очень неважно? Упорное давление сверху и дерзкие, косые взгляды из-за границы — верховный суд постоянно между двух огней. Путь государственного прокурора тоже не усыпан розами. В поте лица состряпал он обвинение, впряг в одну повозку голландца, сыновей древнего балканского народа и, как записано в протоколе, большевика Торглера; и вот теперь, когда ее выпустили на манеж суда, эта международная упряжка разбегается в разные стороны. Ну ладно, болгарин — тертый калач, он прошел огонь и воду. Святоша Торглер тоже не сегодня родился. Но этот болван Люббе! Что ему стоит показать пальцем хотя бы на одного из четырех бледных людей, сидящих на скамье подсудимых, и заявить: «Вот он!» Что ему стоит это сделать, ведь его-то песенка уже спета, он и так пойдет под топор. Так нет — уперся, как осел, и ни с места. Торглера, говорит, и в глаза не видел, сроду ничего о нем не слыхал, а о болгарах тем более.
— Люббе, кто же вам тогда помогал?
— Никто, — гордо отвечает Герострат из Лейдена своим слабым голосом. — Я сам.
Позади зеленого стола, под свастикой, стоит раскрашенная доска. Она огромна, как все в вызывающем великолепии гитлеровской Германии. На доске зеленой краской изображен план рейхстага, а красной — путь поджигателя по лабиринтам коридоров, залов и кабинетов. Председатель суда берет слово, а судебный чиновник — указку, немного длиннее тех, которыми пользуются на уроках географии, и публика вспомнила школьные годы. Довольно напрягали мы слух при допросах. У нас есть глаза, и мы, сыновья и дочери киновека, хотим смотреть. Правда, указку, скользящую по пестрому плану, не сравнишь с образами на экране. И все же возможность видеть освежает.
Вот главная лестница, а вот решетка, через которую якобы перелез Люббе, здесь он продавил двойную раму, и вот мы с поджигателем уже в продолговатом четырехугольнике ресторана. Первый красный кружок — остановка.
Сколько насмешек выслушал Гамза, сколько намучился он, когда приходила его очередь растапливать печь в студенческой комнатушке, где они жили втроем во времена скудной юности! Не так-то просто развести огонь; «Народный страж» — да, он горел ярким пламенем, но ни одна лучинка от него не загоралась, как бы страстно ни желал человек покончить со всем этим и снова сесть за книги. Это были огнеупорные поленья. Под ледяным дыханием обуглившаяся бумага рассыпалась, печка чихала, в ее зияющей пасти вновь наставала тьма, и приходилось начинать все сначала. Ну конечно, что можно ждать от интеллигента! Гамза с детства был неловок, и Станислав унаследовал от него эту черту. Но даже Барборка — разве она не проявляет временами ярой враждебности ко всем членам семьи за то, что американские печи не желают растапливаться? Нет, развести огонь вовсе не так просто! Но, конечно, патентованные зажигалки для немецких хозяек, которыми вооружился Люббе, без сомнения, первого сорта, как и все изделия в империи фюрера, а сорвать, смять и поджечь суконную портьеру в депутатской столовой было, видимо, делом секунды. Жаркая искра упала на портьеру — и вон, смотри, огонек уже дразнится языком, ого! Взлетело целое пламя, и Люббе бежит сломя голову, будто у него земля горит под ногами. Красная нить — путь поджигателя — тянется в зал, вьется запутанными коридорами, указка докладчика ползет за ней. Никто из зрителей не может постичь молниеносной быстроты находчивого поджигателя, который сидит тут на скамье подсудимых с таким видом, будто он и до пяти сосчитать не умеет. Для чего существуют скатерти в ресторане? Для чего войлок и пакля, которыми подбиты телефонные будки? Все годится, все мгновенно вспыхивает и жарко горит в огнеопасной атмосфере рейхстага. Просто интересно — до этого Люббе никогда так не везло. Робкие огоньки, которые он пытался раздуть в Нейкельне и в старой берлинской ратуше, сейчас же угасали, как в годы молодости угасали лучинки в печке Гамзы. Ах этот Люббе, этот Люббе! Кто бы мог ожидать такой прыти от бедняги, который сидит тут мокрой курицей! Огненный клубок скачет по лестнице в депутатский гардероб, катится по всем помещениям первого этажа, и за ним гонится вездесущий Люббе, ни дать ни взять — Люцифер революции. На что ни посмотрит — все занимается огнем, за что ни заденет — все разгорается ярче, на что ни дунет — все вспыхивает пламенем. Прямо как в песне любимого учителя фюрера о сверхчеловеке: «Пламень — что схватывает моя рука, пепел — все то, что она бросает». Но не будем кощунствовать. Красная гидра поднимает голову даже под куполом рейхстага — пять, десять, бессчетное количество хищных голов облизывают огненными языками потолок и пышут искрами, смрадным дымом, грозя мерзостью запустения мирному немецкому народу. (Герру Гемппу, начальнику берлинских пожарных, плохо будет в роли святого Георгия. Трудно ему будет подавить большевистского змия. Пожарные машины приехали поздно. Почему штурмовики не дали знать вовремя? Не спрашивай, не спрашивай, это опасно. Герр Гемпп тоже был слишком любопытен, и теперь он за решеткой.) Огненный шар долетел до большого зала заседаний и поразил рейхстаг в самое сердце. Взвейся выше, мое пламя, взвейся выше! Герострат из Лейдена сорвал с себя одежду и бросил на растопку свой единственный пиджак, так что теперь уже никогда никто из судей не сможет установить, как был одет подозрительный человек, которого свидетели-«очевидцы» видели за несколько часов до пожара то с Торглером, то с болгарами. Платье его сгорело, и охрана схватила его возле главного зала полунагим. Только «чудом» сохранились его документы.
Указка докладчика закончила свою погоню за красным клубком по лабиринту рейхстага. Такое огромное каменное здание, а горело, как стог соломы! Огромное каменное здание — и такое ничтожество. Возможно ли это? Люббе, вам никто не помогал?
Во время доклада голова ван дер Люббе, тяжелая, как подгнивший бутон, свешивалась на грудь. Теперь он ее поднимает.
— Никто. Я сам.
Поверьте, председатель суда желал бы этого от всего сердца. Он не злой человек, примерный супруг и отец, он мудро управляет своим имуществом и до смерти боится большевиков — они ведь пожирают маленьких детей и живут в грехе с бестиями, у которых атрофировалось всякое чувство женственности и которые всех встречных пристреливают из револьвера, направленного в рот. Председатель суда — добрый немец и ненавидит варварскую страну, откуда родом Димитров, этот славянский горлопан. Димитров подставлял председателю суда подножки, пока тот плясал на канате, и Бюнгер не видит никаких причин церемониться с Димитровым и его шайкой. Однако здесь есть загвоздка, господа. Да и не одна, а много; в обвинении — солидные трещины. Каким бы там ни был председатель суда Бюнгер, но он знает параграфы и не потерпит в своей работе накладок. Судебная ошибка, конечно, может случиться, отчего же. Только она должна быть как следует подкреплена доказательствами и обоснована. А здесь? Что делать с этим скудным материалом? Ведь тут дыра на дыре. Все разваливается в руках. Димитров легко докажет свое алиби. В ту роковую ночь его не было в Берлине. Он ехал в спальном вагоне мюнхенского экспресса, и дама, с которой он разговаривал в коридоре вагона, подтвердит это. Торглер ссылается на свидетельские показания двух официантов Ашингеровского ресторана, которые могут подтвердить, что он был в ресторане за час до пожара. Попов даже предъявил использованный билет в кино, означенный днем и часом пожара.
Ох, если б добрый немецкий господь бог помог доказать, будто голландец поджег один! Были бы волки сыты и овцы целы, а профессиональная репутация председателя суда — без пятнышка. Красный ручеек — путь поджигателя — так славно протекает по геометрическому ландшафту плана. Не портьте, пожалуйста, мои идеальные построения, я добрый немец. Не трогайте мои схемы! Но где там! Судебные эксперты никак не могут успокоиться. Непоседы несчастные!
Один из очевидцев пожара, молодой лейтенант жандармерии, показал, что над горевшим председательским креслом в главном зале заседаний он увидел пламя, принявшее форму органа. Да, да, множество огненных язычков, похожих на органные трубки. Лейтенанта никак нельзя было заставить отклониться от этой версии.
Директор берлинского научного центра по изучению средств борьбы с пожарами, кичившийся докторским званием, произвел опыт. Он велел своим сотрудникам поджечь кресло в главном зале заседаний испытанной уже зажигалкой, которой пользовался Люббе. В течение двадцати минут люди с примерной терпеливостью пытались это сделать. Дубовое сооружение не загоралось. Тогда под него положили кинопленку и подожгли. Она, конечно, сгорела дотла, но кресло и на этот раз не занялось. Только искусственная кожа, которой оно было обтянуто, начала тлеть; понадобился бы, однако, добрый час, чтобы от нее загорелся твердый дуб спинки и сиденья.
Деревянные панели и мебель большого зала заседаний, объявляет эксперт, обладают, правда, горючими свойствами, но сделаны из трудновоспламеняющихся сортов дерева. Чтобы все это запылало таким пламенем, какое увидел свидетель в зале заседаний, нужны были хорошо рассчитанная и систематическая подготовка, на какую вряд ли был способен Люббе, больше времени, чем он имел в своем распоряжении, находясь в охраняемом здании, и, совершенно очевидно, больше людей.
Другой специалист, наиболее компетентный в этом деле, тайный советник и профессор термодинамики в Высшей технической школе, согласен с господином директором противопожарного центра в том, что пожар в пленарном зале по своему характеру был искусственного происхождения. Профессор высказал мнение, что для разжигания огня такой интенсивности и таких размеров надо было использовать не менее двадцати килограммов бензина, бензола или керосина. Но просто разлить горючее было бы недостаточно. Надо было еще обложить место пожара хлопчатой бумагой, смоченной в упомянутом горючем. Но в таком случае преступник издавал бы сильный запах.
Государственный обвинитель насторожился.
— Господин привратник, когда вы открывали Торглеру ворота рейхстага номер пять, не обратили ли вы внимания на какой-нибудь странный запах, шедший от него?
Старик привратник страдальчески улыбается в замешательстве. Стыдно ему даже мысленно обнюхивать господина, которого он хорошо знал и всегда учтиво приветствовал. Все господа депутаты были его, безразлично, от имени какой партии они выступали; речи их так прекрасно звучали под величественным сводом купола. Все они были его и приумножали достоинство и славу его рейхстага. Когда-то он отряхивал пыль с кресла самого кайзера Вильгельма, а тут такое несчастье! Сколько слез пролила его жена! Проклятые чужестранцы! Немец никогда такого не сделает. Нет, привратник ничего не заметил, когда господин депутат Торглер выходил из рейхстага в начале девятого часа. Ни бензином, ни керосином от него не пахло.
— А от Люббе, господин старший сторож?
— Тоже нет.
— И даже осколка какой-либо посуды из-под горючего не нашлось? — добавляет председатель суда.
— Да, кроме того, — заметил директор противопожарного центра, — если бы большой зал был пропитан таким количеством бензина, в нем вскоре скопились бы пары, взрыв которых нанес бы тяжелое увечье поджигателю, как только тот зажег бы огонь.
— Господа, не стоит ломать над этим голову. Дело тут не в бензине и не в керосине. Это — устаревшие средства, — с легким пренебрежением заговорил третий специалист, химик из Галле. — У меня есть формула, — победно продолжал он. — Однако мне не хочется публично оглашать ее. Поймите меня. Я анализировал остатки сгоревшего всеми возможными способами, пока не нашел, мне кажется, правильный путь. Я обнаружил следы жидкости, которая через определенное время вспыхивает сама собой, если она перед этим соприкасалась с каким-нибудь воспламеняющимся веществом. Тут только что господин лейтенант рассказывал нам о языках пламени, похожих на трубки органа. Он подметил верно. Горящие частички долго еще носятся в воздухе над огнем, возникшим от самовоспламеняющейся жидкости, и обрисовывают в своеобразном обманчивом зареве очертания предмета, который уже, собственно, сгорел. Если господин председатель велит освободить зал, — молодой химик так и рвется в бой, — я позволю себе показать суду небольшой опыт на месте.
Оставим это на другой раз. Председателя суда больше интересует, какое количество упомянутой жидкости требуется для поджога большого зала.
— Примерно четыре литра.
— Можно ли, — ухватился за это государственный прокурор, — пронести такое количество в двух портфелях?
— Безусловно, — ответил эксперт, не подумав, в какой ужас поверг он Торглера. Что ему до судьбы какого-то отдельного человека! Он весь пылает, возбужденный своим открытием. Жидкость без цвета и без запаха, и ее сравнительно легко добыть. Портьеры, мебель, панели, ковер в большом зале — все без исключения было обработано самовоспламеняющейся жидкостью. На всех остатках сгоревшей мебели эксперт нашел химические следы этого горючего. По его мнению, исключено, чтобы такую систематическую и тщательную подготовку мог провести один человек.
— Разрешите задать вопрос, — раздался голос Димитрова. Весь зал обратился к нему. Как только он открывает рот, публика ждет чего-то интересного.
— Возможно ли, — спрашивает он, — эффективно обработать материал жидкостью, о которой сейчас идет речь, за двадцать четыре часа до пожара?
Смелый вопрос! Гамза затаил дыхание.
— Исключено, — ответил химик. — Исключено.
Димитров и бровью не повел. Но лица иностранных юристов прояснились, а сердце Гамзы забилось в безумной радости. Молодец Димитров! Публике не измерить той драматической крутизны, с которой он мог сорваться. Он перепрыгнул через пропасть и выиграл в этот момент жизнь. Молодец Димитров! Ни в день, предшествующий пожару, ни в роковую ночь его не было в Берлине. И он не мог подготовить пожар, как это только что подтвердил специалист.
Однако все три эксперта сходятся на том, что голландец поджег не один, что огонь разжигало больше людей, и это раздражает Люббе. Он так заботливо выбирал в лавке свои зажигалки! Он не позволит посягать на свои заслуги.
— Чего они болтают, — обиженно протестует он. — Их-то при этом не было, а я был. Только я могу все знать.
— Так говорите же, раз знаете, — вдруг взорвался Димитров. — Кто вас подговорил? Что вы молчите, как бессловесное животное? Почему вы их покрываете, этих негодяев?
— Димитров, я велю вас вывести! — взвыл председатель, будто его прижгли раскаленным железом. Боже, сжалься над ним, неужели придется искать других виновных! Ведь уже и его голова неуверенно держится на плечах! Боже, сжалься над ним!
Люббе склонил свою низколобую голову, и его незакрывающиеся губы жалобно скривились.
— Это мой процесс! — вскрикнул он и расплакался. — Что вы все время у меня его отнимаете?
И это лицо меланхолика, покрытое тенью голодовки, это уродливое лицо стало вдвойне страшно под шутовским колпаком, нахлобученным на него неизвестными преступниками.
ИГРА С ОГНЕМ
Да, Гамза не исполнил невысказанного желания жены и не остался дома. Передав привезенную девочку ее родным, а практику — Клацелу, он снова выехал в Берлин, город сгоревшего рейхстага, куда временно перенесли процесс, чтоб можно было на месте допросить кое-кого. Не может Гамза пропустить допрос такого редкого свидетеля, как премьер-министр Геринг!
Диктатор Германии стоит спиной к Гамзе, широко расставив ноги в сапогах, блеск которых гипнотизирует: каждая нога — будто столб, будто два столба видит публика, орущая в воинственном опьянении свое «хайль». Огромных размеров галифе вздуваются. Пояс — это экватор на шаре живота. Короткие толстые руки Геринг упер в бока жестом бойкой торговки. Он отвечает высокому, строгому, как мысль, человеку, которого стерегут два солдата. Господи, как же это получилось? Димитров со скамьи подсудимых допрашивает премьера Геринга! И вот, слово за слово, Димитров позволил себе вопрос: по какой причине полицейские чиновники вообще не расследовали, у кого Люббе жил и с кем он встречался за последние два дня до пожара. Этот вопрос, бог знает почему, так возмутил всемогущего свидетеля, что он, вспыхнув, раскричался. Поджигателей надо искать только среди коммунистов! Среди этих врожденных преступников, этой садистской сволочи, у них всегда было растленное мировоззрение!
Димитров, охраняемый с обеих сторон, подал голос:
— Известно ли господину премьер-министру, что партия, имеющая, по вашему утверждению, растленное мировоззрение, правит одной шестой частью мира?
— К сожалению, — хмуро бросил Геринг.
— А знает ли господин премьер-министр, что та экономическая система, какую осуществляет эта партия в Советском Союзе, вывела бы весь мир из нынешней нищеты и безработицы?
Геринг и немецкая публика рассмеялись от всего сердца.
— Отдает ли себе отчет господин премьер-министр в том, что заказы Советского Союза обеспечивают работу сотням тысяч немецких рабочих?
— Русские платят векселями, — перебил Геринг и захохотал. — Я, поверьте, предпочитаю наличные. Потому что с этими русаками никогда не знаешь…
— Советский Союз, — спокойно возразил Димитров, — находится в дипломатических отношениях с Германией. Известно ли это господину премьеру?
Геринг так и взвился.
— Ах вы мерзавец! Бродяга! Горлопан! Этот наглый иностранный сброд околачивается тут, поджигает наш рейхстаг и еще имеет дерзость меня поучать! Вы негодяй, и ваше место — на виселице!
Председатель суда несчастен. Господин премьер-министр не отдает себе отчета в собственных словах. Конечно, он солдат, он несдержан в выражениях, но на суде так не говорят. За нашим процессом следит весь мир!
— Димитров, я запретил вам проводить коммунистическую пропаганду. Не удивляйтесь теперь, что господин свидетель так ослеплен негодованием.
— Наоборот, я очень доволен ответами господина премьер-министра, — весело бросает Димитров. — Однако, господин премьер, вы как будто побаиваетесь моих вопросов?
Геринг откачнулся всей своей тушей, но сейчас же, как бык, нагнул голову и угрожающе двинулся вперед.
— Я боюсь? — прохрипел он. — Мне вас бояться? Что вы себе разрешаете? Вон! Увести этого паршивого коммуниста! — рычал он в припадке ярости, и конвойные обступили обвиняемого.
— Свидетель не имеет права удалять меня! — крикнул Димитров.
— А ну-ка, выведите его, в самом деле! — не помня себя, гаркнул председатель суда.
Какая дерзость! Какой срам!
Премьер-министр погрозил кулаком вслед обвиняемому.
— Подождите, выйдете из-под охраны суда, тогда поговорим!
Тишина спустилась, как занавес, на переполненный зал, — неловкая тишина, какая бывает, когда человек в стремительном порыве обнажит перед всеми свои сокровенные мысли. Ein prächtiger Kerl dieser Goering,[23] да вот беда — не следит за своим языком. К сожалению, премьер-министр компрометирует себя. Это чувствовали даже самые страстные поклонники свастики, из тех, кто рукоплескал Герингу, когда тот поносил коммунистов и смеялся над Димитровым, прославляющим Советский Союз.
Гамза был свидетелем, как грудь с грудью схватились эти двое — пламенный и трезвый Димитров с бешеным и спесивым Герингом. Он видел человека ясной мысли, который силой своего духа, не сломленного арестантскими кандалами, загоняет в тупик распоясавшегося Калибана.[24] Было бы истинным удовольствием следить за борьбой Давида и Голиафа, если бы Гамзу не гипнотизировали эти безупречно начищенные сапоги. Там, где прошли они, не растет трава. Дикие слухи ходили о грубости и распущенности прусского премьера. Гамза им не верил. Сплетни всегда преувеличивают. Как бы не так! На этот раз сплетни бледнели перед действительностью. Геринг превосходил все слухи. Гамза, старый вояка, обстрелянный в судебных битвах, таращил глаза на господина премьера с изумлением ребенка, впервые оказавшегося в зоопарке. Что сейчас сделает медведь? Куда обернется? Больно ли ему оттого, что его ужалила в нос пчела? Конечно, больно. Вот он крутится волчком, молотит лапами, не помня себя от ярости. А что, если медведь вдруг вылезет за ров? Разорвет нас? «Подождите, выйдете из-под охраны суда». Слышали, товарищи адвокаты, как он проговорился? Значит, и Геринг думает, что Димитров выиграет процесс? Да что вы, Геринг ведь не думает. Геринг действует по приливам крови к голове — совершенно в духе учения фюрера об инстинктах.
Только до господина премьера не дошла неловкость этого момента. Он отбушевал, ему стало легче, и теперь, с выражением какой-то людоедской бодрости, со всем превосходством старого солдафона над инфантильными штафирками, он говорит:
— До чего бы мы докатились, господа, если б нянчились с такими фруктами, как это делаете вы? Если бы не я и не мои смелые меры, мы б тут сегодня не сидели. Давно уж обо всех нас не было бы ни слуху ни духу.
И он в стандартных высокопарных выражениях принялся рассказывать, как еще до пожара в его руки попала убедительная улика исключительного значения — план коммунистического вооруженного восстания, согласно которому коммунисты собирались переодеться национал-социалистами и в таком-де виде совершать насилия, жечь дома, схватывать и пытать первых встречных, брать женщин и детей заложниками — словом, коммунисты, видите ли, собирались хозяйничать в точности так, как впоследствии это сделали подлинные эсэсовцы и штурмовики, которым он, Геринг, выносит сейчас публичную благодарность за то, что они спасли Германию.
Жаль, нет здесь Димитрова! Он, без сомнения, захотел бы, чтобы Геринг предъявил этот разоблачающий документ. Никто из судей не решается потребовать этого, адвокат Торглера даже рта не раскрыл, а красноречивый свидетель продолжает пылить и сыпать песком в глаза судей. Гамзе знакома была эта порода людей по его практике. Чтобы сохранить правдоподобие, эти люди излагают события так, как они в действительности происходили, но ответственность за них приписывают кому-нибудь другому, а сами, как говорится на воровском жаргоне, «смываются».
Затем Геринг принялся пространно рассказывать, как он узнал о пожаре. Сначала премьер-министр предположил, что виной всему была простая неосторожность, и только миновав Бранденбургские ворота, спеша на место происшествия, он услышал, как кто-то крикнул: «Подожгли!» У него прояснилось в голове: глас народа — глас божий; с глаз его будто пелена спала, и он в одно мгновение понял (приближенные фюрера вообще судят по наитию), что это преступление совершила коммунистическая партия. Слава богу, что в тот вечер, по прихоти судьбы, все были в Берлине — фюрер, Геббельс, Геринг, короче, весь тот узкий круг лиц, которые работают с предусмотрительностью провидения. Ведь легко могло случиться и так, что их не было бы на месте: шла последняя неделя перед выборами.
В то время Гитлер с энергией, достойной усерднейшего ученика Бенито Муссолини, кружил над Германией в своем самолете. Он летал из Франкфурта в Мюнхен, из Лейпцига в Бреслау, из Гамбурга в Кенигсберг; каждый вечер он был на новом месте и всюду говорил, говорил, говорил. Но у Гамзы дома есть копия плана предвыборной кампании Гитлера. В нем можно по порядку прочитать даты и названия городов, и из расписания поездок явствует, что фюрер оставил себе свободные дни от 25 до 27 января (день пожара рейхстага). Немцы поистине основательный народ, и под чертой в плане было замечено, что, возможно, 25 и 26 января тоже будут выступления. Теперь нам ясно видно, что к чему. 27 января выпало. В этот день ни фюрер, ни его приближенные не двигались из Берлина, и, хотя обычно они на части разрывались, в этот вечер у них, всем на удивление, не было ни одного митинга.
Зато и на месте происшествия они очутились первыми. Что бы делал без них растревоженный Берлин? Только они сошлись на месте преступления, рассказывает Геринг, как сразу по гигантским размерам пожара поняли, что здесь замешана целая толпа поджигателей.
— И не просто поджигателей, а лиц, прекрасно ориентирующихся в здании, — повышенным голосом объявляет премьер-министр и председатель рейхстага Герман Геринг, и его водянистые глаза на отекшем лице, устремившиеся на бывшего депутата Торглера, наводят ужас.
— Этот голландский болван, — добавил премьер-министр в своей оригинальной манере, — носился по лабиринту рейхстага, как вспугнутый заяц, и попал нам прямо в руки. А остальные умники, которые знают рейхстаг, как собственный дом, смотали удочки. И нам известно, каким путем, — разгорячился он, увлеченный собственным красноречием. — Они могли скрыться только подземным ходом, который соединяет рейхстаг с моим дворцом. Ход ведет в общую котельную центрального отопления, а там перелезть через стену и добраться до Шпрее — один пустяк.
И почему здесь нет Димитрова? Он выразил бы удивление по поводу той небрежности, с какой охранялся дворец самого министра внутренних дел, верховного властителя всей имперской полиции. И как только эти злодеи сумели обмануть пресловутую бдительность штурмовых отрядов господина министра, охраняющих днем и ночью его резиденцию? Все это загадка и, верно, останется загадкой в царстве сказок Гофмана.
А может быть, загадку эту объяснит другой высокопоставленный свидетель, молодой человек с мечтательным взглядом, который в эту минуту при свете двух свечей приносит на черном распятии присягу — не говорить ничего, кроме чистой правды? Девять судей в тогах цвета крови, перед которыми он стоит, и цепь откормленных, лоснящихся полицейских, похожих друг на друга, как фабричные куклы, и отделяющих свидетеля от публики, чтоб никто его не обидел, подчеркивают драгоценную хрупкость этого человека, одетого в простой штатский костюм. Как только он вошел, иностранные журналисты тотчас подметили, что он хромает. Чего только не заметят газетные писаки! Однако прихрамывающая походка у этого денди — лишь дополнительный штрих в его обаянии. Она придает ему горделивую небрежность. Что ж, хромал ведь и Байрон!
— Чтобы предупредить какое-либо недоразумение, — учтиво промолвил председатель суда, — я разрешу себе напомнить вам, господин министр, что нам вовсе не нужно, чтобы вы оправдывались в обвинениях, предъявленных вам Коричневой книгой. Мы все знаем, что следует думать об этом пасквиле, состряпанном продажными политическими подонками. Нам нужно только ваше свидетельское показание, которое поможет нам разобрать сложный случай, а свидетельское показание из уст, столь компетентных, как ваши, господин министр, будет для нас особенно ценным, тем более что вы сами являетесь членом рейхстага и в совершенстве разбираетесь как в политических и психологических взаимоотношениях, царивших в рейхстаге, так и в его топографии. Мы будем вам искренне благодарны, господин министр, за ваше показание.
Ах, этот Геббельс! Он похож на пай-мальчика: зачесанные волосы, галстук бабочкой и сияющие невинные глаза. Где это Гамза видел такой же выразительный взгляд? Сейчас он принял выражение меланхолической скорби — его оскорбляет низость клеветников.
Руководящие работники партии съехались в Берлин для участия в политическом совещании, какое бывает подчас необходимым, чтобы все национал-социалисты придерживались единой линии в выборной кампании, и, право, не могли предполагать, что условленный понедельник станет днем подобного национального несчастья.
Геббельс обращает проникновенный взгляд своих прекрасных глаз на судей, и хотя председатель и предупредил его весьма настоятельно, чтобы он не касался Коричневой книги, защищается от ее обвинений спокойным, уравновешенным, несколько снисходительным тоном человека, который может только усмехнуться в ответ на жалкую глупость — будто это он измыслил план, как поджечь рейхстаг. Никто не был так поражен вестью о пожаре, как Геббельс. У него в это время ужинал фюрер, и разговор за столом, как обычно, был живой и сердечный. Вдруг хозяина вызвали к телефону. Звонил доктор Ханфштенгель, руководитель отдела иностранной печати, и сообщил, что горит рейхстаг. «Бросьте, пожалуйста, — оборвал его Геббельс, — оставьте ваши плоские шутки», — и повесил трубку. Он ни на минуту не поверил этому известию. Министр пропаганды был уверен, что это — утка. Дело в том, что совесть его была нечиста, рассказывает о себе Геббельс, и глаза его так и играют. Но не потому, конечно, что он глубокой ночью состряпал тайный план поджога рейхстага (немецкая публика смеется), нет, такого удовольствия он не доставит Коричневой книге. Но недавно он сам подшутил над любезным Ханфштенгелем, распустив сенсационные слухи об одной кинозвезде. (Господа ведь тоже иногда шутят, и кто упрекнет их за это — при такой-то напряженной государственной деятельности?) Поэтому он принял звонок за отместку и вернулся к столу, не сказав о разговоре фюреру.
Свидетель разрешит себе сделать примечание. Коричневой книге не нравится даже посещение фюрером доктора Геббельса, оно кажется ей подозрительным, а между тем все объясняется чрезвычайно просто. У фюрера в то время не было в Берлине частной квартиры. Наезжая ненадолго в столицу, он останавливался в отеле, где происходили и политические совещания, а после работы отдыхал у домашнего очага доктора Геббельса.
Однако вскоре снова позвонил телефон, руководитель отдела иностранной печати уверял, что он сидит в доме напротив рейхстага и видит в окно рейхстаг, объятый пламенем. Ханфштенгель и в самом деле жил у премьер-министра Геринга, чей дворец стоит напротив рейхстага. У свидетеля пропало желание смеяться; на него свалилась тяжкая обязанность осведомить фюрера об этом несчастье. Адольф Гитлер тоже сначала не поверил вести. Они сели в машину и с бешеной скоростью помчались к рейхстагу. У вторых ворот к ним подошел Геринг и в страшном волнении сообщил, что это — политическая диверсия и что один из преступников, какой-то голландский коммунист, уже арестован.
Гибким, убеждающим баритоном, способным на всевозможные модуляции — от мягкой иронии до юношеского энтузиазма и священного гнева, — говорил Геббельс о Хорсте Бесселе, герое и мученике, которого якобы застрелили коммунисты, из чего он с логичностью, эластичной, как стальная пружина, выводит, что они же подожгли и рейхстаг!
Он выражается изысканным немецким языком с патетическим придыханием на букве «t», с глубокими оттенками звуков «ä», «ö», «ü» — сразу узнаешь бывшего литератора. Некогда он пописывал романы, не нашедшие сбыта. Тогда он бросил беллетристику и взялся за политику, которая столь полно компенсировала его за первую жизненную неудачу. Ах, оставьте, здесь тоже замешано провидение. Если бы еврейские критики хвалили романы Геббельса, если бы рисунки Гитлера увидели свет — что сталось бы с Германией? Кто взял бы ее под защиту? И как выглядела бы теперь история? Сам добрый немецкий господь бог устроил так, что сохранил обоих художников для империи.
Геббельс и Геринг — небо и земля. Геринг завораживал блеском сапог, Геббельс завораживает взглядом. Но почему они так знакомы Гамзе, эти сияющие черные глаза? Никак не вспомнить. Геринг — бочка с порохом — взрывался по первому же поводу. Он весь как на ладони. Геббельс — гладкий, как угорь, и неуязвимый.
К неудовольствию многих, на это заседание пришлось допустить Димитрова. Он опять начал задавать свои неуместные вопросы, например, совершенно излишне спросил, кто мог убить Розу Люксембург и Карла Либкнехта, на что Геббельс, усмехаясь, бросил: «Не начать ли нам лучше с Адама и Евы? В то время фюрер был еще солдатом. Ослепнув после контузии, он лежал в военном госпитале». Пораженный таким странным сопоставлением фактов, доктор Бюнгер предоставил слишком любезному свидетелю право решать, не лучше ли вообще воздержаться от ответов на подобные вопросы, которые ни в малейшей степени не связаны с пожаром рейхстага, а преследуют совершенно иную цель — протаскивать красную пропаганду.
— Ах, оставьте его, господин председатель, — пренебрежительно ответил министр, — мне доводилось давать отпор и не таким противникам, как этот провинциальный коммунистический агитаторишка. Прошу вас, — обернулся он с улыбкой к Димитрову; и в этот момент Гамза вспомнил: многоженец-аферист крупного масштаба, чей процесс наделал столько шума в Праге, — вот у кого были такие же чарующие глаза. Только глаза Геббельса еще прекраснее.
Вот они снова горят священным гневом, когда он вторично обращается к скамье подсудимых и называет Торглера, этого волка в овечьей шкуре, одним из главных поджигателей. Нет, он, Геббельс, никогда с Торглером не разговаривал, но он много лет весьма внимательно слушал выступления Торглера в рейхстаге и осмеливается утверждать, что примиряющие речи, на которые Торглер теперь ссылается, при помощи которых он якобы пытался разрешить спор с национал-социалистами добром, считая, что можно спокойно дискутировать о политических убеждениях, — эти благородные речи, говорит Геббельс, и глаза его пылают, не что иное, как только ширма, призванная замаскировать те насилия, которые коммунисты всегда допускали и допускают. По мнению его, Геббельса, этот человек способен на все.
Министр пропаганды, почти незаметно припадая на укороченную ногу, обутую в ортопедический башмак, ушел как победитель, провожаемый нацистским приветствием восторженной публики и застывшими шеренгами полицейских, а процесс, ползущий, как улитка, не сдвинулся ни на пядь.
Действие этой книги пойдет дальше событий, связанных с пожаром немецкого рейхстага, и у меня нет времени демонстрировать перед читателем процессию свидетелей, которые проходили через судебный зал по вызову неутомимого государственного прокурора. Шествуя за хоругвью со свастикой, они распевали псалмы, каким их обучал суфлер, пресловутый следственный судья Фогт. Свидетели хорошо спелись, а то, что несколько раз прозвучали фальшивые ноты, ничего не меняет в общем благочестивом их хоре.
Все наемники этого крестового похода были людьми, одаренными буйной фантазией. Некоторые из них отличались даже способностью видеть на сверхдальнем расстоянии. Так, один официант, по фамилии Хельмер, обслуживал Димитрова накануне пожара в берлинском ресторане «Баварский двор», то есть как раз тогда, когда злоумышленник, будто нарочно, находился в настоящей Баварии, в Мюнхене; тот же сверхзоркий факир видел, как в его подвальчике Люббе распивал пиво с болгарами прошлым летом, в то самое время, когда голландец в действительности был у себя на родине: разбив стекла в лейденской ратуше, он отсиживал свой срок в гаагской тюрьме. Отличился и другой берлинский свидетель: вместе с женой и служанкой они якобы наблюдали в бинокль, прямо из окна в окно, за Поповым, явившимся на сборище каких-то заговорщиков. У этих людей был, видимо, волшебный бинокль, потому что свидетели ухитрились разглядеть болгарского студента на огромном расстоянии: Попов в ту пору жил в Советском Союзе.
Происходили странные и таинственные вещи. За несколько дней до пожара во дворце премьер-министра появилось привидение. В подземном ходе слышны были шаги. Боязливый привратник налепил на двери тоненькие полоски бумаги, желая убедиться в том, что слух его не обманывает, и — смотри-ка! — на другое утро полоски были порваны. Привратник доложил об этом случае коменданту дворца Скранновитцу, спрашивая, что ему делать. «То же самое, что и делали, — буркнул Скранновитц, — продолжайте наблюдение». И что бы вы думали? Почти каждое утро полоски на дверях были порваны. Как объяснить такое явление в охраняемом дворце? Странные творились вещи… Другой участник крестового похода, пруссак, носящий фамилию славянского происхождения, Карване, видел собственными глазами и слышал собственными ушами, как оживленно беседовали болгарский сапожник, не знающий немецкого языка, с немецким депутатом, не умеющим слова сказать по-болгарски. На них, без сомнения, снизошел дух святой во образе языков пламени, и они вели беседу на латыни поджигателей. Ведьма, с которой не поздоровался в скверике Эрнст Торглер, прожгла своим глазом бабы-яги бычью кожу двух портфелей, которые он нес под мышкой, и обнаружила в них банку с горючим: оно вспыхнуло перед глазами колдуньи. Грабитель, напавший на человека из-за двадцати пяти серебряных монет, с глубоким моральным возмущением отверг тысячу двести марок, предложенных ему депутатом за поджог рейхстага. Да, да, вот какие творились чудеса! Этого проходимца привезли из острога для того, чтобы он возложил правую руку на Евангелие, чтобы поднял к присяге два перста — так же, как Герман Геринг, как Иозеф Геббельс, — и дал свидетельское показание против обвиняемого. Именно в том и заключается восхитительная стихийность нацизма, что энтузиазм к «священному» делу вовлекает в единый крестовый поход членов правительства вместе с карманником, фальшивомонетчиком и контрабандистом; они идут рядышком, нога в ногу. Говорите после этого, что нацизм не народен!
Однако на суде были и другие люди: их привезли из мест, обнесенных колючей проволокой, по которой проходит смертоносный ток. Привезли их, связанных чуть ли не в узел. Люди из-за колючей проволоки выглядели как мученики. Им сулили золотые горы, обещали свободу в награду за то, что они пропоют перед судом песни, сложенные теми, кто насыщал их вздохами и поил слезами. Но эти свидетели заупрямились — у них не было слуха, они не стали петь. И хотя они едва держались на ногах, но галлюцинациями, подобно рыцарям крестового похода, они все же не страдали. Их речи — да, да, нет, нет — были те же, что и речи богатыря Димитрова и героя Тельмана. То были немцы, свидетельствовавшие в пользу истины, они вернулись за колючую проволоку, по которой бежит смертоносный ток, и сегодня их, вероятно, уже нет в живых.
ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
Веселого рождества, счастливого Нового года! Молодцеватый почтальон и проказник-трубочист желают вам всего наилучшего.[25] Не удивляйтесь, что они спешат представиться, прежде чем хозяйки начнут тратить деньги, отложенные на праздник.
Лимоны лунного цвета и апельсины цвета заходящего солнца — каждое солнышко уложено на отдельную постельку из опилок, чтобы оно не пролежало бока, — отправились на север с полуострова в форме сапога, где топает Муссолини, и с полуострова в виде летящего дракона, из Испании, где народ выгнал короля и сам взялся управлять своими делами. Корабли, нагруженные богатством пяти частей света, доплыли до пристани, и вот гигантские краны подхватывают клювами тюки кофе, от которого проясняется в голове, и ящики с чаем, спрессованным желтыми руками, — чаем, от которого золотым цветом расцветают мысли; солнце Мельника,[26] искрящиеся фонтаны шампанского, опьянение, спрятанное в бутылке персиковой настойки, — все это безумие, закупоренное пробкой, ждет не дождется конца старого года; самолет привез с Лазурного берега цветы для артистки, завернутые в вату, чтобы не простудились; крабы карабкаются из моря под стекла гастрономических магазинов; рыбы толпами нагрянули из садков в рыночные аквариумы, и вода в них так и журчит, так и журчит, как речи женщин с базарными сетками в руках; репродукторы разносят мелодии коляд, и маленькая близорукая барышня Казмарова, учительница чешского языка в пражской женской гимназии, прибавляет шагу. Целый год она копалась в книгах, оставив все на последний день! Что купить в подарок отцу? Хозяин не пьет, не курит, не читает того, что ему не нужно, картины не интересуют его, хороший костюм ему безразличен — весь год ходит в одном и том же галстуке, — вот был бы хороший клиент для фирмы «Яфета»! Все у него есть, и ничего ему не нужно.
За последним поворотом уже сверкает «Вифлеем» — барышня Казмарова подъезжает к Улам; фирма «Яфета» одела манекены в витринах в норвежские спортивные костюмы. Ро Хойзлерова с мужем проводит сочельник в горах. «Девочка, а не поехать ли нам в Нехлебы, раз уж мы купили эту виллу?» В Нехлебы? И не подумаем. Там такая глушь. У графини тоже замок в Нехлебах, а она все же уехала на Энгадин — почему же Ро не поехать на Шпиндл?[27] Хойзлер только вздохнул. Когда тебе пошел шестой десяток, ты уже не решишься встать на лыжи. Молодые люди будут учить Руженку делать христианин), вечером она будет танцевать с прусскими офицерами, а когда они останутся наедине в своей спальне, она мгновенно заснет. Счастливое супружество — пижамы от «Яфеты». Лида Горынкова прошивала правый борт рождественского комплекта и заработала на этом порядочно сверхурочных. Но не бойтесь! Хозяин их вернет. Куда еще отправиться улецким невестам выбирать приданое, как не на базар «Яфеты»? Ах, эти миленькие алюминиевые сковородочки! Будто из серебра. Вот попробуй, какая она легонькая. Жених, чтоб доставить Лидке удовольствие, берет сковородку. С женщиной надо иметь терпение. Сильный и высокий, он стоит с этой игрушкой в руке и неопределенно улыбается. При выборе приданого мужчине отводится второстепенная роль. Гаек — хороший человек. У него приличный оклад слесаря-механика и честные синие глаза. Он добряк, будет возить детскую колясочку. Но в эту розовую кружку с ландышами Лида по-настоящему влюблена. «Будешь из нее пить кофе», — сказала она. И отложила кружку в сторону — натюрморт из кухонных принадлежностей пополняется новыми деталями. «Уж лучше пиво», — отозвался жених, и продавщица засмеялась. Но невеста даже не оглянулась. С маленькой морщинкой сосредоточенности на лбу стоит она и колеблется — какую же выбрать ступку: глиняную или медную? Ведь это на всю жизнь! То перец, то ваниль, пестик отбивает барабанную дробь, — в Лиде столько еще нерастраченной силы! — а блестящая ступка звенит, как свадебные колокола. Два парня покинули ее, — они были сорвиголовы, а этот — настоящий барашек. Помолвка уже объявлена в церкви, слава богу, теперь-то дело прочно. У Лиды будет кухонька — как птичья клетка, занавесочки — как сахар, комнатка — как игрушка. На фабрику она ходит по необходимости, но только для семейного уюта сотворены ее руки. Она провела ладонью по шершавой терке, посмотрела на свет через дырочки дуршлага, попробовала веничек для сбивания белка — господи, а мясорубка? Жених с невестой обменялись взглядами. Жизнь дорога. Потянем ли? «Бери», — спокойным басом сказал жених. Как раз мясорубка — инструмент посложнее, это почти мужское дело, и невеста покраснела от радости. Вот какой у нее парень — действительно ее любит! Она уложила покупки в бельевую корзинку, скрипящую новизной, помолвленные взялись по обе стороны за ручки. Знакомые бросают влюбленным шуточки. Лида бойко им отвечает, голову — кверху, красивую грудь — вперед, навстречу ветру, от губ их подымается жаркое дыхание — так шагают они по ароматному морозцу вдвоем в будущее. Веселого рождества, счастливого Нового года! В календаре на чумазом трубочисте — белоснежный колпак. Молодцеватый почтальон на журнальной обложке приносит вам в сумке одни только крупные выигрыши. Ах, это было бы очень кстати! Станя, ты опять за авансом? Хоть бы написал трогательный святочный рассказ! Сколько беготни, пока составишь рождественский номер! Еленка с Тоником и Митей будут, конечно, в Горьком, — вспомнят ли они вообще, что наступил сочельник? Знала бы это старая пани Витова! В гробу перевернулась бы. И когда вернется Гамза из Лейпцига? Есть на свете другие интересы, кроме блюда съедобных улиток, сверточка под елкой да ветки омелы на лампе, — Нелла это знает, Нелла ничего не говорит, Нелла кивнула с улыбкой, когда Станислав объявил, что в сочельник он придет немного позднее. И все же ее охватывает тоска по старым обычаям и стремление влиться в толпу закутанных людей, которые вот уже столько дней по всем тропкам направляются к «Вифлеему», нагруженные покупками и связанными елочками. Пани Гамзова оставила Барборку следить за тестом, поднимающимся под белой тряпочкой, скрыла от нее по понятным причинам, куда идет, и отправилась в Крч к прабабушке, чтобы привезти ее на праздник домой.
Старушка погрузилась в нескончаемое раздумье. Приглашение невыразимо озаботило ее. Что-то должно измениться. И чего только они опять хотят? Каждая перемена — сверхчеловеческое усилие. И она сидела, устремив взгляд в пустоту; долго молчала и, прежде чем ответить, несколько раз откашлялась. Пани советнице и учительнице будет очень жаль, если прабабушка не останется на праздник! Предполагается общий ужин. Пан контролер обещал что-нибудь сыграть, и он тоже обидится, если «госпожа министерша» уедет. У прабабушки нет даже приличной шляпы. Не поедет же она в платке, как какая-нибудь!
— Знаешь что, Неллинька, привези мне булку сюда, — прабабушка отроду не называла рождественский пирог иначе как булкой. Нелла помнит, как еще ребенком она очень этому удивлялась. — Рыбы я не хочу, в ней кости, ешьте сами, — враждебно продолжала старуха. — Вот какое-нибудь там яблочко мне можешь привезти, — тон ее стал нежным, — и апельсины, только, знаешь, те, сладкие, мессинские, и фунтик конфет, и торт — какой у вас будет торт, финиковый? Да смотри, чтобы Бара опять не передержала его, как прошлый раз, — злобно оборвала себя старуха и насупилась. — Паштет делаете? — строго добавила она.
Нелла начала ей что-то рассказывать о Стане, но прабабка перебила:
— А крем?
Тут вдруг на Неллу напала такая растроганность, что слезы выступили у нее на глазах.
— Бабушка, поедем со мной, мне будет грустно…
Старуха не слушала.
— Привези паштет и крем сюда, — распорядилась она, — а я останусь здесь. Я уж отъездилась.
Что было Нелле делать? Она обещала все привезти, простилась и направилась к выходу.
Прабабка окликнула ее в дверях:
— Послушай-ка, поди сюда. Привезешь паштет — не разворачивай его при учительнице и советнице. Подожди, пока уберутся из комнаты. Поняла?
Слава в вышних богу, на земле мир и в человецех благоволение! Немецкие хозяйки довязали последнюю пару белых чулок, кампания зимней помощи закончилась с огромным успехом. Особенно отличалась «гитлеровская молодежь». Гамзе пришлось немало приложить труда, чтобы спастись от жестяных кружек, которыми потрясали перед его носом здоровенные парни с внушительным кинжалом на боку или чистенькие девочки с косичками, в курточках, которые так очаровали маленькую Берту. Слава в вышних богу, на земле мир и в человецех благоволение! В лейпцигских садоводствах вызванивают колокола, сделанные целиком из белых гиацинтов; портреты фюрера увиты еловой хвоей, о которой поется в народной песне, особо близкой сердцам его соплеменников; а правительство Геринга, учитывая присущую немцам поэтическую приверженность к семейным праздникам, приложило все усилия, чтобы закончилось неуютное дело, чтобы верховный суд вынес по Лейпцигскому процессу приговор накануне сочельника.
Государственный обвинитель уже составил проект приговора, в котором он требовал смерти голландца и голову Торглера, когда доктор Зак, крестоносный адвокат коммуниста, засучил рукава и принялся омывать в одной и той же воде и своего клиента, и трех нацистских депутатов, свидетельствовавших против него. У них были добрые намерения. Они просто ошиблись. Один видел Торглера с Люббе, другой — с Поповым, третий с Таневым. А на самом деле это был коммунист Кайзер, заключенный ныне в концлагерь: это он беседовал с Торглером в комнате отдыха рейхстага. Психологическая ошибка. Это бывает. Пусть никто не удивляется нацистским депутатам: они были взволнованы и полны желания сделать все, чтобы объяснить этот случай. Что же касается свидетелей — заведомых преступников, то их показания, ложь которых била в нос, доктор Зак с возмущением отвел и горячо вступился за своего невинного подзащитного. Торглер — человек, прямо болезненно чувствительный в вопросах чести.
— Этот глупец, — буквально сказал его защитник, — бежит прямиком в полицию, хотя он невинен, как ягненок, или, вернее, именно поэтому. Он торопится реабилитировать себя, он слишком добросовестен, он не выносит и тени подозрений — и вот своим педантизмом он вызывает страшную путаницу, за которую сейчас горько расплачивается. Господа, судите строго, но судите справедливо. Торглер — порядочный человек, за что я руку даю на отсечение. У него не было ни фальшивого паспорта, ни нелегальной квартиры, что вообще стало похвальной привычкой господ из его партии, и, как видите, он не собирался бежать. Я осмеливаюсь утверждать, — Зак риторически возвысил голос, — что Эрнст Торглер стал коммунистом по недосмотру.
Гамза случайно взглянул на Димитрова. Тот неподвижно сидел, скрестив руки, и мерил Зака взглядом, от которого становится жарко.
— Если бы не чинуша-головотяп, отказавший в свое время Торглеру в стипендии, — продолжал адвокат, — благодаря чему одаренный юноша вынужден был подрабатывать продажей красных газет, — если бы не это прискорбное обстоятельство, господа, я ручаюсь, что сегодня Торглер был бы убежденным национал-социалистом. Всеми склонностями своей души он бессознательно тяготеет к нашему благородному учению.
Да он просто позорит Торглера! Слышал бы это товарищ Вийяр! Его здесь уже нет, как нет здесь Дечева и Григорова, — нацисты выслали их за границу за то, что они слишком энергично протестовали против лжесвидетелей. Но, ради бога, что ответит на все это Торглер? Ничего. Ровно ничего. С тех пор как государственный обвинитель потребовал его смерти, несчастный сидит ни жив ни мертв.
Доктор Зак действовал как истый немец. Он представил суду наглядно составленную таблицу, на которой рассчитал и изобразил каждую минуту действий и местонахождения своего подзащитного в час преступления.
— Я не принял, — победоносно объявляет доктор Зак, — доказательств, якобы свидетельствующих в пользу Торглера, которые мне навязывали господа из лондонского лжесуда. Торглеру нет нужды связываться с бежавшими изменниками, чтобы доказать свою невиновность. За это меня обстреливали позорящими телеграммами. Будто я предаю своего клиента. И все же им не удалось омрачить идеальных отношений, установившихся между мной и моим подзащитным. Я защищаю не Торглера-коммуниста, я защищаю Торглера-человека, который является белой вороной среди красных воронов. — Адвокат с энтузиазмом вылил бочку грязи, в которой полоскал своего клиента, на его политическую партию. — Он невиновен, — торжественно возвысил голос Зак, — и только потому, что я в это свято верю, я взял на себя его защиту. Он невиновен, и вы, господа судьи, несомненно, распознаете и справедливо отделите зерно от плевел, а порядочного человека от коммунистических индивидуумов.
Есть ли что сказать Торглеру? Человеку, который поднимал в рейхстаге голос от имени Коммунистической партии Германии? Депутату Торглеру, оплеванному собственным защитником с головы до ног? Он бледен, как полотно. Губы и голос его дрожат. Он благодарит господина председателя. Он скажет позднее.
И встал Димитров, чтобы защищать самого себя, и в старинном зале воцарилась тишина, как в церкви.
— Чем быть обязанным жизнью такой защите, как Зака, — сказал он, — я предпочел бы смертный приговор. Мой высший закон — Коминтерн; мне важно быть чистым перед ним. Но этим я никоим образом не умаляю значения имперского суда. Он воплощает общественный строй сегодняшней Германии, и я говорил перед ним правду. В ходе процесса меня часто упрекали в том, что я вел коммунистическую пропаганду. Да, вел, не отрицаю. Вы обвинили меня в преступлении, которого я не совершал, и вашими стараниями мне была предоставлена трибуна, какая мне никогда и не снилась. Я получил возможность говорить, обращаясь ко всему миру. За границей давно известно, что мы невиновны. Даже мои политические противники в Болгарии не сомневаются в нашей невиновности, как они вам и отписали черным по белому, когда вы их запросили. Но мне важно, чтобы и каждый немецкий рабочий, каждый крестьянин и мелкий служащий знали то, что давно уже ясно их товарищам за рубежом: мы четверо невиновны. И — что еще более важно — коммунистическая партия пальцем не шевельнула для свершения бессмысленного и разнузданного преступления, которое принесло уже столько зла и несчастья. Она строго осуждает его.
— Это к делу не относится, — сказал председатель.
— Вы оскорбляли в нашем лице идею коммунизма. В моем лице вы оскорбляли и болгарский народ. Господин государственный обвинитель, немецкие государственные деятели и нацистские журналисты поносили меня, называя темным балканцем и болгарским варваром. Да, моя родина отстала в материальной цивилизации. Но я думаю, что народ, который сквозь пять веков порабощения пронес свое духовное богатство, язык, письменность, национальные песни, национальные обычаи и национальную гордость, — не темный. Что же касается варварства… Да, болгарский фашизм — варварство, но ведь варварство и всякий фашизм.
Нацисты в зале онемели.
— Прошу без оскорблений! — перебил его председатель. — Говорите по существу.
— Господа судьи, мы — Торглер, Димитров, Танев и Попов, очутившиеся перед вами на скамье подсудимых, — мы не должники, а кредиторы. Я прошу, чтобы верховный имперский суд принял это к сведению. Нас унизили неслыханными подозрениями; мы были брошены в тюрьму и закованы; с нами обращались, как с уголовными преступниками, а не как с политическими заключенными. Нас лишили года жизни, и не в человеческой власти вернуть нам его. Даже оправдательный приговор не вернет нам вычеркнутого года жизни. Если бы вы дали нам столько золота, сколько весим мы сами, — а я знаю, вы этого не сделаете (смех среди немецкой публики), — то все равно не вознаградили бы за наши страдания. Не шутка, когда дело идет о жизни невинного человека! Уже от одной этой мысли можно голову потерять. К счастью, я не из робких, и я не отчаивался. Это потому, что даже в одиночке я не чувствовал себя покинутым и одиноким. Товарищи во всем мире были убеждены в справедливости нашего дела. Это поддерживает, придает силы и укрепляет мужество. Они не дали мне пасть духом, и я благодарю их.
— Обращайтесь к суду, а не к публике, — прервал Димитрова председатель.
— Нам был нанесен ущерб, господа судьи, и мы предъявляем свои требования. Во-первых, обвиняемые Торглер, Димитров, Танев и Попов должны быть оправданы потому, что доказана их невиновность, а никоим образом не из-за недостатка улик. Во-вторых, все вы заметили, — тут Димитров указал на Люббе, голова которого свесилась на грудь, как у сломанной куклы, — как вел себя этот несчастный слабоумный, когда государственный обвинитель потребовал его казни. Он продолжал клевать носом, как делает это и сейчас. Слова обвинителя ничуть не взволновали его. Может быть, он даже не сообразил, о чем идет речь. Я требую, чтобы было ясно сказано, что ван дер Люббе был орудием в руках неизвестных преступников. В-третьих…
— Нет нужды нумеровать все это, — нервно кинул председатель.
— Мы требуем, чтобы начались наконец розыски преступников там, где они могут найтись, а не там, где их нет. И в заключение мы требуем самым настоятельным образом, чтобы люди, которые умышленно запутывали дело и указывали на ложный след, были привлечены к ответственности и понесли примерное наказание, ибо это — в интересах справедливости.
Здорово он им все высказал! Юнак Димитров! Где те времена, когда Гамза хотел его защищать? Как будто Димитрову это было нужно! Алиби у него давно в кармане — другой вел бы себя тише воды ниже травы, чтобы в последнюю минуту не поссориться с сильными мира сего. Но Димитров об этом и не помышляет и бьет направо и налево, — он-то знает, хорошо знает, за что! Богатырь Димитров! Когда Гамза был гимназистиком, он очень жалел, что не жил во времена гуситских бурь. Молчи, вот они, вековые тучи, заряженные отрицательной и положительной идеей; вот они собираются друг против друга на фиолетовом небосклоне — скоро ли блеснет молния? В воздухе пахло озоном, и Гамза был снова молод; раствориться в душе героя — это подобно самой возвышенной любви. Прекрасна неустрашимость! Идейная непримиримость чиста, как стерильный скальпель хирурга.
В одном ряду, тихо, как в храме, сидят пять женщин. Не важно, в одежду какого века они одеты. Их род стар, их род древен — так и все дела людские гораздо старше, чем это думают торопливые современники. Быть может, это — Ниобея, а может быть — Мать, стоявшая под распятием. Кедровое дерево креста оковали скобами — вышел рогатый крест, свастика, и она нагоняет ужас на двух матерей. Если бы они заговорили — они не поняли бы друг друга. Но обе пели своим сыновьям колыбельную на родном языке, когда те были маленькие, и тоска этих сестер по несчастью одна и та же. Не важно, что на одной из них — помятая шляпка, какие носят старые женщины из предместья столицы империи, а другая покрыта платком пилигримок, пришедших издалека. Горняки Перника, грузчики Черноморья, рабочие каменоломен, работницы табачных фабрик и розовых плантаций собрали между собой дань, которую надо было положить к ногам царя, чтобы он выпустил из болгарской страны Парашкеву Димитрову; тремя крестиками она подписала много бумаг, необходимых для отъезда, в семьдесят два года впервые села в поезд и отправилась в путь — убеждать людей доброй воли, что сын ее невиновен. (Помнишь, Гамза, мать Энди и Роя, мадонну негритянского народа? Один и тот же гнет во всех пяти частях света!) Мать Димитрова приехала из Софии, сестра — из Москвы. Обе дали свидетельские показания перед лондонским судом справедливых, советовались с известными юристами, обращались с речами к международному рабочему классу, будоражили совесть мира. Они сделали все, что было в человеческих силах. Теперь им остается только сложить руки на коленях и ждать, сосредоточившись на своей любви. С тех пор как люди начали судиться, — а люди судятся уже века, — вот так ждут приговора матери, жены и сестры обвиняемых, и сердца их замирают в тревоге. Тянутся минуты, а женщины старятся на годы. Черноокая подруга Танева готова вскочить, подвинуть вперед стрелку на циферблате! Но госпожа Торглер задержала бы ее руку: кто знает, не лучше ли, чтобы часы остановились; кто знает, какая злая весть войдет через раздвинутый занавес…
Суд — драма, суд — спектакль, и все явления идут но порядку. Только кинооператоры не считаются с порядком, всюду они лезут со своими лентами и «пулеметами». Они расставили свои аппараты в засаде, перед самой скамьей подсудимых, будто собрались всех их расстрелять на месте, как только их снова введут в зал после перерыва, в течение которого совещался суд.
Именем империи!
Девять судей в пурпурных тогах, трое защитников в черных мантиях, полицейские, гости-дипломаты, журналистская братия — встал весь зал; и встали подсудимые: тщедушный человек с гладко прилизанными волосами, исхудавший до неузнаваемости, смертельно перепуганный; богатырь с хмурым выражением лица и его темноокие соотечественники. Как следует рассмотрите их напоследок, этих невольных действующих лиц стольких сенсаций. Вы привыкли к ним, как к кинозвездам, вы — дети необузданного века, может быть, вы их не увидите до смерти. Даже кайзер Вильгельм, воинственно-красочный, стоит и разглядывает их со стены. Только голландца, поломанную куклу, конвойным пришлось держать под мышки.
Именем империи!
Бывший депутат рейхстага от коммунистической партии Эрнст Торглер оправдан.
Болгарский подданный Георгий Димитров оправдан.
Болгарский подданный Блаже Попов оправдан.
Болгарский подданный Константин Танев оправдан.
Голландский подданный Маринус ван дер Люббе виновен в государственной измене, связанной с поджогом, совершенным с целью провокации мятежа, и приговаривается к смертной казни и к вечному лишению чести.
Фотоаппараты защелкали, затрещали кинопулеметы, и несчастный Герострат из Лейдена, который так жаждал славы, был увековечен в последний раз. Но никому уже не удалось поймать в объектив его уродливое лицо. Виден был только клок спутанных волос — голова его снова упала на грудь.
— Бедняга, — жалела его Нелла. — Его смерть — у них на совести.
Она разрезала рождественское яблоко. И кто бы мог подумать — такое красивое яблоко, а внутри червивое. Нелла незаметно отложила его к кучке ореховой скорлупы. К счастью, она не была суеверной, как покойница мамочка.
— Это Димитров отвоевал всем свободу, — рассказывал Гамза, хмуро отхлебывая из бокала традиционный пунш. (Он не совсем доволен, — подумала Нелла. — Наверное, его все же сердит, что ему не пришлось защищать товарищей.) — Ведь процесс направлял он! — засмеялся Гамза. — Слышала бы ты, как он допрашивал лжесвидетелей! Карване врал так, что пыль столбом стояла, — будто он видел, как Торглер разговаривал в рейхстаге с Поповым. «На каком языке?» — только и спросил Димитров, и с коронным свидетелем было покончено. Но именно для таких классических, само собой разумеющихся деталей требуется больше всего смекалки, Димитров всегда попадал не в бровь, а в глаз. А особенно Геннпнгсдорф! Как они там ни крутились, Димитров все же заставил их наконец расследовать, у кого жил Люббе последние два дня до пожара.
— Bei den Nazi,[28] я знаю, — вмешалась Нелла. — Удивительно, что от Люббе добились этого признания. Ну, зато сегодня у Димитровых и у Торглеров замечательный сочельник. Трудно себе даже представить, что это такое — отвоевать жизнь и снова быть на свободе.
— Ошибаешься, — укоризненно отозвался Гамза. На лице у него проступили жесткие черточки. — Они под охранным арестом. Доктор Зак сам потребовал его для своего клиента.
— Как под арестом, когда они освобождены?
— Да нет же! — вскипел Гамза, будто Нелла была в этом повинна. — Говорю тебе — все четверо по-прежнему сидят.
Корнелия Гамзова, урожденная Витова, дочь юриста и жена юриста, всплеснула руками. Как же это возможно?
— А чего тут невозможного? В Третьей империи все возможно. Даром, что ли, их фюрер — сверхчеловек?
Нелла опечалилась. Она обладала живой фантазией и так горячо переживала за этих четырех, как только можно переживать за людей, которых ты никогда в жизни не видел. И еще ей было жаль, что сочельник для Гамзы испорчен. Но что поделаешь, своя рубашка все-таки ближе к телу. «Слава богу, ты уже дома», — подумала она про себя с тем инстинктивным, уютным чувством человека, который, свернувшись клубочком в постели, слушает, как за спущенной занавеской во тьме шумит дождь и хозяйничает непогода. Мы — дома, у себя в республике, а здесь с нами не может случиться ничего подобного.
ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
На фоне синего неба рдели малиновые яблочки, в воздухе пахло сладостью успокоения; стоял сентябрь, и в прозрачной дали было видно, как извилистой тропкой спускается с горы человек, как кружит в вышине ястреб; из улецких садов ясно различимы даже вершины елей на зеленых склонах.
Лида сидела под желтой, струящей свет березой и вязала Штепанеку на зиму красный свитерок. Ребенок играл у ее ног. Это время дня она любила больше всего. Повесит, бывало, на место блестящий половник и вычищенный дуршлаг, покроет ящик с углем и начищенную плиту газетой «Улецкий вестник», дважды повернет ключ, запирая на замок все хозяйственные заботы дня, — и поехали с колясочкой встречать папу! Оборки покрывальца трепещут, а Лида толкает колясочку; покрывальце — голубое, и каждый понимает, что мама везет мальчика. Что там папа! Он ей не так уж и нужен, главное — у нее есть мальчик, и она может им похвастаться. Колясочка быстро спускается с холма Заторжанки, проезжает домики, похожие на кубики, и подкатывается к асфальтированной площади около фабричных зданий — ишь как постукивают колеса! На пути Штепанека садовники подстригают голые деревья, и, пока он спит, кусты роняют цветы ему на одеяльце. Вдруг с ветки падает яблочко-гнилушка, шлепается в коляску — ребенок просыпается и, смеясь, протягивает к нему ручонки. Как бежит время! Как оно летит! Патентованная колясочка Штепанека, купленная на базаре «Яфета», уже проехала четыре времени года, и из подвижной колыбельки стала спортивным возком с сиденьем. Но и этого парнишке мало, и он выкручивается из-под ремня, привязывающего его к коляске, — гулять, гулять! Вот он уже на ножках, уже бегает, как большой, папа купил ему полосатый мяч, и мальчик переваливается вдогонку за игрушкой, как маленький медвежонок. Смотри не убеги от мамочки! А то нашлепаю. Отец на парня не надышится. Лиде приходится его удерживать, чтобы он не выбрасывал деньги на игрушки. Положим, это лучше, чем оставлять их в пивной. Еще бы! В солнечном саду, ожидая фабричной сирены, беседуют молодые матери певучим говором колыбельных песен, порой то одна, то другая качнет колясочку, окрикнет ребенка; вагонетки подвесной дороги, нагруженные шпулями и гигантскими веретенами, медленно проползают над головами; Штепанек слышит, как подвесная дорога говорит: «Хэхх, хэхх, хэхх». Теперь вырабатывают один палаточный брезент и лямки из грубого холста — знаете, их столько наткали, что ими можно обернуть земной шар, — это, говорят, для походных коек. А вы слышали — шестнадцатый цех переходит на противогазы? Мало ли что говорят! Наговорить можно что угодно, думает Лида, и сурово, по-крестьянски поджимает губы. Когда не было работы — люди роптали, теперь работа есть, а им опять неладно, выдумывают всякое. Ну вас совсем! Главное — есть работа. Главное — дело идет. Даже в саду слышно, как вздрагивает и дышит фабрика в горном воздухе, пахнущем орехом и свежей аппретурой.
— Ах ты безобразник! — воскликнула Лида и бросилась за Штенанеком. Что ж, раз мать заговорилась, — молодой человек отправился в поход. Почувствовав мать за спиной, малыш прибавил шагу и посыпал что есть силы. Перед ним, прямо к мостовой, катился полосатый мяч. Какой-то человек расставил руки и поймал беглеца.
— Стой, ты, футболист, — проговорил он. — Как бы не было худа.
Он нагнулся за мячом и передал игрушку и ребенка матери.
Она так испугалась, что даже забыла поблагодарить, схватила парнишку, шлепнула его как следует, посадила на руку и быстро, с гневной решимостью матерей, пустилась было обратно. Штепанек громко расплакался.
— Не плачь, молодец,[29] — пробасил незнакомец. — Я бы на твоем месте постыдился, мужчины не ревут.
Штепанек выкатил на него глазенки и замолчал.
Это был высокий загорелый мужчина с обнаженной шеей, в пиджаке и майке, с бритой, иссиня-черной, как мак, головой. Не видно было, чтобы он спешил; свобода движений и что-то неуловимо-экзотическое в его облике сообщали ему огромное превосходство над услужливыми казмаровцами, спешащими по делам с портфелями по улецкому асфальту. Он был нездешний, это сразу бросалось в глаза. «Моряк», — пришло Лиде в голову. Она остановилась, не спуская ребенка с рук, и только теперь поблагодарила.
Он махнул рукой — пустяки, мол, — и показал на мальчика:
— То-то тебе радость от такого сынишки, Лидушка, — сказал он неожиданно.
И когда лицо чужеземца дрогнуло в улыбке, в нем проглянуло что-то знакомое, давно забытое; времена молодости, Первое мая, и Лида вскрикнула:
— Францек! Господи, Францек, откуда? Говорили, ты в России!
— Еще в воскресенье я разгуливал по Невскому. И знаешь, Лидка, что самое забавное, — он засмеялся так непринужденно, будто бы только вчера они пожелали друг другу доброй ночи у заторжанской калитки. — Если бы Казмар знал, что я прилетел сюда на его самолете!
— На казмаровском самолете?
— Ну да, на самолете фирмы «Яфета»; разве ты не знаешь, от вас недавно отправлялась экскурсия в Советский Союз. Так вот, один из экскурсантов заболел тифом и остался в ленинградской больнице. Место в самолете освободилось, они меня и захватили, как земляка. Бумаги мои были в порядке, потому что я как раз ждал самолета на Або.
— А где это, Францек?
— В Финляндии. Но эта оказия меня больше устраивала. А что, думаю, не заглянуть ли на денек в Улы, посмотреть, такая ли все еще Лидушка красавица? — пошутил он, как принято шутить с девушками, насмешливо косясь на нее.
— Ты по-прежнему насмехаешься над людьми? — вспыхнув, отрезала Лидка.
— Конечно, я не стал хвастать перед казмаровцами, что я здесь когда-то работал и что меня тогда выперли. К счастью, Улы — проходной двор, здесь люди быстро меняются. Ни одна душа меня не узнала. Они и не подозревали, какую паршивую овцу везут.
— Это удачно вышло, — немного неуверенно сказала Лида, поправив волосы свободной рукой. Как назло, она надела сегодня самые плохие туфли.
А это был Францек Антенна, это был он, герой того давнего Первого мая. От него исходило молодое беспокойство, от которого за годы семейной жизни Лида уже отвыкла. Но теперь, когда Францек стоял рядом, ее вновь охватила жаркая тревога. Она чувствовала себя почему-то пристыженной: просидела-де за печкой, а Францек тем временем повидал свет.
— Скажи мне вот что, — обратилась она к Францеку, — разве тебе не поправилось в России, почему ты вернулся?
— Поправилось, очень понравилось. Баку — чудесный город, шумный такой, я такие люблю. Нефтяники и моряки. Представляешь, как там весело! Я работал на одном нефтеочистительном заводе, они там называют нефть «черное золото». И женщины там красивые, вот такие, — Францек с видом понимающего человека поднял руки высоко перед грудью. — Только теперь меня ждет дело в другом месте.
Лида минуту колебалась. Но потом все же не выдержала.
— Об Ондржее ничего не слыхал? — спросила она будто ненароком.
Францек покачал головой.
— Я звал его тогда в Ташкент, там было хорошо, там мы отъелись после здешней нищеты, и он писал, что приедет, но вот приехал ли он… — Францек пожал плечами. — Я потом уехал, с человеком ведь легко разминуться. А что, старая любовь не ржавеет, Лидушка? — поддразнил он ее.
— У меня хороший муж, — просто сказала Лида. — Он не пьет, не курит, в карты не играет, последний грош приносит домой. Он такой добряк, такой добряк! Я не могу жаловаться, — она посмотрела на горы, посиневшие на фоне блекнувшего неба, и слезы наполнили ее глаза. — А ты? — спросила она с легким усилием. — Женат?
Он громко, басовито рассмеялся.
— Я! И не думал. Это не про меня — слушаться жены и нянчить детей. «Захочу — полюблю, захочу — разлюблю». Мы не признаем никакой команды, кроме военной, — правильно, молодец? — сказал он, обращаясь к Штепанеку, который, обхватив обеими руками свой полосатый мяч, сидел в колясочке, похожий на святого младенца с земным шаром.
— Я вот все смотрю на тебя, — оглядела его Лида, — в чем же ты переменился? Да, где твой чуб? Ты, бывало, так головой вскидывал — чисто вороной; тебе это шло.
— Девочка, в армии бывают вши.
— Ты был в армии?
— Только иду, девушка. В Интербригаду. — Молодцевато повернувшись на каблуке, он пошел рядом с нею. Лида медленно везла колясочку. — Поэтому я еду в Париж и потом дальше. Мы отправляемся в поход на одного парня, зовут его, почти как меня, — Франко, вот мне везет, а? Как утопленнику. Франко — это бандит из Африки, хочет украсть у испанцев республику.
Лиде представилась жгучая брюнетка с высоким гребнем, с красным маком за ухом — вот она отвязывает у пояса желтый цветастый платок с бахромой… И хотя у Лиды не было ни малейших прав на Францека, она все же почувствовала ревность.
— И охота тебе? В такую даль… И что это вы, мужчины, никак покоя не найдете?
Он показал подбородком на мальчика в коляске:
— Ты, Лидушка, любишь его?
Лида удивленно посмотрела на Францека.
— А то как же? Ведь он мой!
— Ну, вот видишь, а мы идем на войну как раз ради твоего парнишки.
— Не дури мне голову…
— И не думаю. Тут уж не до шуток. Если мы сегодня сложим руки и будем сидеть, извиняюсь за выражение, на заднице да спокойно смотреть на эту заваруху, смотреть, как Франко сбрасывает бомбы на испанских детишек, тогда завтра эти бомбы полетят на твоего Штепанека, за это я ручаюсь.
Лида судорожно сжала ручку коляски.
— Ты думаешь, будет война? — голос ее упал. — Мой недавно тоже об этом говорил.
— Да ведь она уже идет, — ответил Францек. — В прошлом году в Африке… Беднягп абиссинцы — духовые ружья против юнкерсов! А в этом году она пришла уже в Европу.
— К счастью, она далеко, — не удержалась Лида.
Францек взорвался.
— Черта с два! Земля — шар. Не знаю, как ты этого не поймешь. В Советском Союзе это соображает любая татарка, а там есть старухи, которые только сейчас учатся читать и писать.
Он взял из коляски мяч и, не замедляя шага, принялся беспокойно перебрасывать его из руки в руку.
— Смотри-ка, Лида, — он остановился перед ней. — Вот видишь, зеленая полоска бежит здесь сверху вниз? И с каждой стороны у нее есть соседка: одна — красная, другая — желтая, а рядом с этой — синяя, и так далее; но наверху и внизу все они сходятся в одной точке. Все связано друг с другом на этом пестром земном шаре. Сколько бы красок тут ни было — это все тот же шар. И не будет покоя, покуда рабочие всего мира не объединятся, попомни мои слова — не будет!
Штепанек крутился под ремнями и протягивал ручонки, требуя свой мяч, и Францеку пришлось вернуть его владельцу.
Черные птицы всполошились, рассеялись по небосклону, с придорожных деревьев посыпались желтые листья: завыла улецкая сирена. Сначала она издала хриплый свист, потом подняла свой визгливый голос над стеклянными кубами корпусов, внутри которых стало видно, как задвигались черные кучки людей; визг сирены подымался над казмаровским небоскребом, над казмаровской каменоломней, над горами и долами, сирена воем рвала воздух. Она плакала, причитала, грозила, выла, предупреждала, заполняя все небо до самого леса, дышащего предвечерней сыростью.
— Давненько я тебя не слышал, — обратился Францек к улецкой сирене. — Вот она, волшебная дудочка «Незмара», под которую все пляшут в Улах. — Он принялся вспоминать о красивых белых пароходах Каспия, груженных хлопком и нефтью, как они дают гудки перед причалом.
Штепанек схватился рукой за свою шейку: «Бедная илена хлипит», — и разразился плачем.
— Он боится ее крика, бедняжечка, он еще стольких вещей боится! Он еще не понимает, почему отец рад, когда возвращается с завода.
— А как, работы здесь хватает?
— Теперь опять стало хватать. Сам видишь, сколько народу валит. А почему ты спрашиваешь, Францек?
И Лида подумала: может, он взялся за ум и попробует устроиться здесь?
— Что ж, попробовать всегда стоит, — отвечает Францек. — Может, кто-нибудь и завербуется в Испанию.
— Только не мой! — вскрикнула Лида, будто Францек ударил ее по больному месту. — За это я ручаюсь! Куда ему, нашему папке! Вот глупости-то! Женатый человек…
— Не бойся, Лидушка, я его у тебя не забираю, — с горькой улыбкой бросил Францек и распрощался.
— Заходи к нам! — крикнула она ему вслед. — Гаеки в Заторжанке, не забудь!
Но Францек только махнул рукой в ту сторону, где солнышко закатывается за горы, и толпа людей, валивших с фабрики, разделила их. Шли рабочие в кепках, закуривая на ходу, шли девчата, само здоровье и веселье, — теперь они уже матери, — шла казмаровская молодежь, уже другая, не та, что прежде, а любовь на свете все такая же, неизменная; люди текли, как полая вода, и унесли Францека с его смелым лицом, опаленным солнцем, более горячим, чем то, которое светит в Улах. Он исчез, и осталась за ним только бороздка в толпе, только узенькая стежка в девичьи годы. Ах, Францек, Францек! Если бы только он тогда захотел! Но Лиде с коляской надо лавировать в толпе и хорошенько смотреть, чтобы не проворонить папку. Что делать, для нас уже миновали годы безумств… Францек отроду был горячая голова — стоит ли принимать всерьез его страшные речи?
Маленькая семья шагает в тишине садов. В Заторжанке ко многим фруктовым деревьям приставлена лесенка, под ней — корзинка, трепещут ветки, склонившиеся от тяжести плодов. Папа помог Лиде втащить коляску в гору; ах, он такой добряк! Но почему никогда не достается нам тот, настоящий, самый желанный?
Только солнце закатилось за горы — и вот уже чувствуется, как лето целуется с зимой, недаром все сливы запотели. Как бы Штепанек не простыл! Кухня у Лиды в порядке, как и совесть. Огонь сейчас же будет разведен.
— Да, слушай, папа, — говорит она, озабоченно наморщив лоб, — завтра не забудь снять сливы. У соседей уже снимали.
Настают холода, и приятно будет гнать сливовицу и варить рябиновку. Обе так хорошо согревают молчаливыми зимними вечерами.
АЛИНА
Алина — женщина многих фамилий, и потому умнее будет не называть ни одной из них — переменила девять профессий: играла на провинциальной сцене, снималась в фильмах в качестве статистки, была натурщицей, а начав толстеть, обнаружила в себе художественную жилку и занялась шитьем голенастых кукол (их ненавидел Станя), смешных зверюшек и разных талисманчиков на счастье; предприимчивая Алина торговала косметическими средствами, привезенными из Америки, куда она уехала от своего второго супруга, директора Кунеша, со своим третьим мужем, инженером (они вместе строили там железную дорогу); в свободное время Алина флиртовала с индейцами и писала об этом занятные репортажи в чешские газеты, чтобы в Праге о ней не забыли; эта пресловутая Алина теперь — владелица фотоателье, где встречаются все самые знаменитые кунштыри[30] (ее выражение). Алина выдохнула дым, отложила папиросу и, опираясь полной холеной рукой с модным браслетом на мраморный столик кафе, проводила насмешливым взглядом Станю и Тихую, которые поздоровались с компанией и, уклонившись от приглашения, вместе вышли из кафе.
— Прямо голубочки, — сказала она, подражая простонародной манере речи, — ей-богу, как два голубка! Только дудки — никто не выдержит такого бега на длинную дистанцию.
— А ну-ка, вмешайся, Алина, — поддразнили ее за столом. — Тебе это — раз плюнуть. Покажи свое искусство.
Алина наморщила нос.
— Они еще не созрели, — отозвалась Алина тоном знатока и задумалась. Она следила за любовными делишками всей артистической Праги: кто кем интересуется, кто за кем начинает ухаживать, кто с кем дружит, кто кому надоел. Она сделала призванием своей жизни — разводить старые и сводить новые пары. Чем чаще в последнее время ей не удавались собственные интрижки, тем успешнее она занималась чужими; как и все мастера, она облекает свое искусство покровом непроницаемой таинственности.
— И вообще, — продолжает она, — этот случай меня не интересует. Кельнер, еще виски!
Вскоре после этого Станя, придя к Власте, застал у нее не более и не менее, как самое Алину с фотоаппаратом. Она явилась, чтобы заснять кадры из личной жизни актрисы для иллюстрированного журнала. «Элегантная и простая, пани Власта Тихая встретила нас в своей уютной квартире». (Круглый столик, торшер.) «Наша знаменитая драматическая актриса нежно ухаживает за своими цветами». (Власта с лейкой, грациозный наклон головы, скромный воротничок.) «Трагедийные актрисы тоже бывают веселыми». (Власта в профиль, дразнит прутиком рассерженного попугая, тоже в профиль.) Короче, тот, кто просматривает иллюстрированные журналы, живо представит себе эти снимки.
— А раз уж вы, к счастью, здесь, доктор, — решила Алина, — подсаживайтесь-ка вот сюда к пани Тихой, я вас щелкну вдвоем. Вы ведь тоже принадлежите ей.
«Как попугай и фуксии — благодарю», — подумал Станя.
— Да что же вы важничаете, — наседала на него Алина. — Это нехорошо с вашей стороны по отношению к Власте. Если хотите знать, я вас уже поймала, отдельно. Слушайте, вы страшно фотогеничны.
— Иди сниматься в кино вместо меня, — улыбнулась Власта. Про себя она знала, что не подходит для съемок, и это было ее больное место. Ах, это несчастное «Свадебное путешествие»!
Визит расстроил обоих любовников, но Алине это было в высшей степени безразлично, и со свойственной ей непринужденностью она угощала Станю Властиными конфетами («Подсластите-ка себе жизнь, дорогуша!») и Властиной можжевеловой настойкой («Пейте, доктор, пейте, чтоб настроение поднялось. Скажите, вы всегда такой серьезный?»).
Все в этой женщине было противно Станиславу: ее огромный бюст, ее жадные, знающие губы, то, что она называет его «доктор», что она разыгрывает хозяйку в квартире Власты. Куда она ни вотрется, сейчас же начинает кому-нибудь покровительствовать! И что это Власте в голову пришло — пообещать Алине от имени обоих (даже не спросила Станю!) прийти после спектакля в «Розовую шляпку», куда та их горячо приглашала; там будет вся ее компания. Когда Алина наконец поднялась, Станислав опрометью бросился за шубой почтенной дамы и еще в комнате с нескрываемым удовольствием помог ей одеться.
Алина была не дура.
— Ух, как он спешит, — ехидно улыбнулась она, — спешит скорей меня спровадить. Ну, не буду мешать доктору. Счастливо оставаться, будьте здоровы.
После ее ухода в комнате остался запах духов, такой же назойливый, как и эта женщина. Станя подошел к окну и открыл его.
— Перестань, — тянула его за рукав актриса, хохоча за спиной Стани, как уличный мальчишка. — Она увидит тебя с набережной! Станя! Не дури. Ты ужасен!
— И буду ужасным, — заявил Станя, с глубоким убеждением. — Власта, ради самого создателя, где ты с ней познакомилась?
— Ну, эту все знают, — смеялась Власта. — Что ты хочешь — реклама. Но ты обошелся с ней жестоко. Этого нельзя делать. Алина сильна.
— Такая дура-то?
— Где бы и с кем бы она ни была знакома — во все лезет, а язык! От меня мокрого места не останется, — сказала Власта. И добавила уже серьезно: — Зачем наживать себе врагов?
Станя уже знал эти Властины «премудрости» и, где мог, искоренял их. Они пробуждали в нем неясные опасения.
— Прости, но это значит, что любая сплетница может держать тебя в руках.
Артистка обиделась:
— И держит! Думай обо мне что хочешь. Я бы хотела, чтобы ты провел хоть одну неделю в театре, увидел бы тогда, что это за качели и как надо смотреть в оба, чтоб тебя с них не сбросили! Ты — ребенок. Ни о чем понятия не имеешь. Я ведь тоже не касаюсь твоей библиотеки. А если не хочешь идти в «Розовую шляпку», скажи прямо, я отправлюсь одна, и дело с концом.
— Тебе со мной уже скучно, да? — с несчастным видом проговорил Станя.
Артистка прижала ладони к вискам.
— Не говори так! Нельзя же так говорить! — повторяла она, шагая по комнате и морщась, как от физической боли. — Боже мой, Станя, что мне с тобой делать! Ты был бы чудесный парень, если бы не был такой нелепый. Нет, нет, не сейчас, мне уже пора идти, смотри, сколько времени, — уже половина, а сегодня первый выход мой. В театр приходишь взвинченной…
«А все эта проклятая баба», — подумал Станя.
В «Розовой шляпке» за Алининым столом сошлось обывательское общество. Исключение составляли два живописца, которые в общем мало обращали внимания на всю компанию, интересуясь главным образом танцами с местными барышнями, как, впрочем, и присутствовавший здесь редактор Влах, коллега Стани по «Утренней газете». Молодые щеголи робели в присутствии актрисы. Ученически правильным чешским языком, в котором им было тесно, как в неразношенных ботинках, они спрашивали, что хорошего репетирует сейчас пани Тихая и в какой новой роли они будут иметь счастье ее увидеть. Алина вмешалась в этот разговор.
— Женщины отдельно, мужчины отдельно — не годится, не годится, — хлопотала она. — Сидим, как в деревенской церкви. Ну, такова уж похвальная привычка чехов. Франта, ты же большой поклонник Власты Тихой.
Рослый мужчина в расцвете лет, полный, но не обрюзгший, в хорошо сшитом костюме, с самоуверенными манерами, медленно улыбаясь, показал великолепные зубы и, спросив разрешения, пересел к актрисе. Как у всех полных людей, у него были ленивые, под тяжелыми веками, глаза; от некоторых шуток актрисы они вспыхивали, как две сигары во время затяжки. Он сидел чуть-чуть позади Тихой, и актриса, разговаривая, поворачивала к нему свою очаровательную головку. Рядом с этим человеком, походившим на глыбу, Власта выглядела как изящная статуэтка.
Фамилия Кунеш ничего не говорила Стане, и он спросил коллегу из «Утренней газеты», кто это.
— Да бывший муж Алины. Спиртозаводчик. Заседает также в правлении Большого театра, разве вы не знаете? А вон та дама в черном, — Алина как раз дает ей прикурить, — это его теперешняя жена.
— И они часто так встречаются? — по-детски спросил Станя.
— Конечно, — ответил редактор Влах, удивленный невинностью вопроса, и добавил с улыбкой: — Алина давно простила ему свою собственную измену.
«И надо мне было сюда соваться», — подумал Станя. Этот снобизм был ему противен. Расходиться — так уж навсегда: в открытой враждебности есть, по крайней мере, хирургическая чистота. Впрочем, ее, конечно, нечего искать в барах. Вокруг залитого вином столика Алины лепятся все эти затасканные, перепутанные отношения; кто захочет их распутать — испачкает руки.
И отчего все принуждают себя делать вещи, не доставляющие им никакого удовольствия! Будто бы наперед уговорились: сегодня будем веселиться, — а веселья-то, несмотря на выпитое, нет как нет. Власта смеется с директором Кунешем — никогда, даже на сцене, Станя не слыхал, чтоб она так искусственно смеялась. Пани Кунешова восторженно заявляет, что не тронется отсюда до утра, — а сама, подавляя зевоту, украдкой следит за своим мужем и артисткой. Не бойтесь, пани Кунешова! Что может быть общего у Власты с этим старым хрычом! Алина, видимо, от разочарования пьет, как губка. Говорят, она была красивой (трудно поверить!), пока не отправилась в Америку, а вернулась развалиной, но наглой развалиной! Что это Власте в голову пришло — пить на брудершафт с этой особой! Станислав не мог смотреть, как целуются две женщины: это зрелище как-то физически оскорбляло его. Но ничего не поделаешь, Станя, угроза нависла и над тобой! Алина уже стоит над ним с рюмкой в руке, безобразно пьяная, предлагая ему брудершафт. Станя еще не успел ничего сказать, как в тот же момент она влепляет ему поцелуй, вызвав взрыв шумного веселья у всей компании и мучительное замешательство молодого человека. Кто еще немного соображает, тот чувствует себя неловко рядом с теми, кому вино уже бросилось в голову!
— Станя, мальчик ты хорошенький! — орет на весь зал Алина. — Ты не хочешь иметь со мной дела, потому что я наклюкалась? Плюнь, это случается и в лучших семьях. Ах, бросьте его! Он же настоящий пай-мальчик! У него чудная детская комната, а мы тут все — грубияны! Я знаю, твоя маменька воспитывала вас по-барски, в таких семьях нельзя говорить: «У меня гусиная кожа», в таких семьях надо говорить: «У меня лебединая кожа»!
Станя невольно засмеялся.
— Видишь, как тебе это идет, — ликовала Алина, — у тебя такие хищные зубы! (Артистка каталась со смеху.) Станя, мальчик ты прехорошенький, попробуй-ка со мной, я тебя позабавлю. Не пожалеешь!
А ведь она, видимо, вовсе и не была такой развратной, как притворялась; и это было отвратительнее всего.
— Сударыня, не сердитесь, — сказал ей Станя прямо в лицо, так как она повисла у него на шее, — но вы мне совершенно не нравитесь.
Алина ко многому привыкла; чтобы не портить настроения, она первая присоединялась к тем, кто высмеивал ее. Но это было уж слишком. Погоди, ты у меня еще попляшешь!
ПОЛОСА НЕУДАЧ
Влах, редактор культурного отдела «Утренней газеты», просил Станю зайти, когда тот понесет свою статью в набор. Станислав, как внештатный сотрудник, обязан был сдавать свои рукописи в редакцию. Но с театральными рецензиями в газетах всегда спешка, Станя сдавал статьи в последнюю минуту, Влаха в редакции никогда не было — такова уж особенность всех редакторов культурных отделов, — и потому Станислав всегда проходил прямо в помещение, где было душно от запаха свинца, и там, среди наборщиков, пробегающих с набранными полосами, под гул и сотрясения невидимых машин, отдавал рукопись прямо метранпажу Клусачеку. Метранпаж Клусачек, в своем фаустовском халате, с шилом для литер в руке постоянно сердился на всю редакцию, не исключая и внештатных сотрудников. Каждый из этих господ пишет, что вздумается, им-то что, а вот как Клусачеку втиснуть все это в одну полосу? Но все же это чудо ему каждый раз удавалось, и Влах читал критические статьи Стани уже сверстанными — если он их вообще читал. В редакции Стане давно доверяли. Но если вас вызывают для разговора, — вряд ли это означает, что вам хотят сообщить о повышении гонорара, что Станя, надо признаться, искренне приветствовал бы. В последнее время у него было много хлопот, и он, напряженный и ожидающий, вошел в редакторский кабинет, украшенный фотографиями приятелей Влаха по кутежам. В кресле, около письменного стола, сидела незваная молодая посетительница — явление, характерное для всех редакций. Влах довольно холодно попросил ее на время перейти в соседнее помещение (то есть в коридор), так как у них с коллегой будет совещание. Молодая дама послушалась, хотя и неохотно.
Влах с любезностью хозяина дома (совершенно не тот Влах, что в кафе) предложил Стане кресло и сигарету, закурил сам и сделал долгую, хорошо рассчитанную затяжку. Гамза, конечно, располагает свободой критики в своей театральной рубрике. Влах далек от того, чтобы вмешиваться. Он только хочет по-дружески предупредить коллегу. Он особо подчеркивает, что то, о чем пойдет речь, не является его, Влаха, личным мнением, ему было только поручено передать мнение пана главного редактора.
То, что «старик» превратился вдруг в «пана главного редактора», не предвещало ничего хорошего. Станя с напряжением, несколько скрашенным злорадством — как это Влах выкрутится из своего запутанного предисловия, — ожидал, что из всего этого наконец получится.
Пан главный редактор также весьма ценит критическую деятельность доктора Гамзы и уважает ее. Однако он все же вынужден попросить Гамзу хорошо взвесить то, на что уже многие читатели обращали внимание в своих письмах в редакцию: не слишком ли часто появляется в театральных статьях «Утренней газеты» имя Власты Тихой?
— Ну, это уж слишком, — вскочил Станислав. — Что ж мне, молчать о ней, если она играет?
— Но когда она не играет, — тонко заметил Влах, — критик нашей газеты постоянно спрашивает, почему ей не дали такой-то и такой-то роли, и правление театра уже задумывается над этим. Недавно мне позвонил их секретарь…
— Правление театра! Сказали бы лучше — депутат Мацоун, — вспылил Станислав. — Давайте говорить начистоту. Вы намекаете на «Женщину с моря»,[31] правда ведь? Эту роль дали Ковальской, потому что вмешался Мацоун. Ладно. Такие вещи в театре случаются. Это грустно, но мы не дети. Если бы Ковальская была стоящей актрисой, если бы ее игра что-то дала искусству, я первый признал бы это, невзирая на неприятную подоплеку и на прочие… товарищеские отношения. Но ведь она провалила пьесу! И это в унисон твердят газеты. За исключением «Зеленого листка», конечно. Читали вы все эти статьи? Видели вы Ковальскую?
— Я не хожу на такие пьесы, — улыбнулся Влах. — Послушайте, друг мой. Вы напрасно волнуетесь. От вас ведь ничего другого не хотят, только чтоб вы немножко умерили свои симпатии — вы знаете к кому…
Станислав усмехнулся про себя. Не упрекала ли его еще позавчера Власта в том, что каждый на его месте пропагандировал бы ее, а Станя, когда ему в ней что-нибудь не нравится, пишет и об этом, будто она ему чужая?
— …и, короче, сохранили бы декорум, — договорил Влах.
— Какой там декорум, — разозлился Станя, — критик говорит открыто то, что думает.
— Ну, и иногда перебарщивает, — улыбнулся Влах. — Сами понимаете, для нашей газеты этого не требуется.
— Пожалуйста, — ответил Станя, — я немедленно отказываюсь от сотрудничества.
— Ну, ну, зачем же так, с бухты-барахты! Перед тем как есть, кашу остужают, — успокаивал его Влах. — Подумайте об этом. У вас обязательство до конца месяца, и заявление об отказе вам надо подать письменно.
— И подам письменно, — возразил Станя. — Счастливо оставаться.
Он собрался и ушел. Дома без рассуждения написал письмо главному редактору и сейчас же отправил его по почте. Сделав это, он почувствовал облегчение, как после бури. Ничего, пусть что-то и разбилось. Зато воздух стал чистый.
В тот вечер он не нашел в себе мужества рассказать Власте о своем уходе из редакции. Какой-то странный стыд мешал ему сделать это. «Из-за тебя меня выкинули» — так, что ли, должен был он сказать? Она достаточно быстро узнает об этом! Он рыцарски молчал; но в каждом человеке остается зернышко ребячества, и Станя очень нуждался в том, чтобы Власта его приласкала и побаловала за то, о чем она и знать-то не могла, а у Власты, как нарочно, в тот раз снова был неласковый день. (В последнее время таких дней стало больше, она не позволяла Стане дотрагиваться до себя даже тогда, когда не было никаких премьер.) Артистка приняла Станю за баррикадой цветов, искрясь злым весельем.
— Как она красива, — произнес Станя, чтоб начать разговор, и коснулся расцветшей ветки азалии.
— Это — от Кунеша, — вызывающе бросила Власта. — Надеюсь, тебя это не задевает. — Последнюю фразу она сказала с таким раздражением, что Станя удивленно взглянул на нее.
— Если б меня это задевало, я давно бы сошел с ума с твоим театром.
— Ты не ревнив, — едко возразила Власта. — Тем лучше, я тоже не ревнива. Только, пожалуйста, оставь мою руку. Я этого не выношу.
Она была такая странная и чужая, что Станя спросил:
— Что-нибудь случилось?
Власта вперила в него свои совиные глаза.
— Дело в том, что я знаю все, — сказала она.
— От кого? — удивился Станя. — Ты разговаривала с Влахом?
— С Влахом? — обиженно повторила Власта. — Нет, дорогой мой, я знаю все из первоисточника. К твоему сведению, у меня была Алина. Вот почему ты не хотел, чтобы я с ней встречалась!
— При чем тут Алина? — удивился Станислав.
— Ты еще спрашиваешь? — крикнула вне себя актриса. — То, что ты любишь показать характер, это я знаю давно…
— Власта!
— Но что ты такой лицемер, я все же не предполагала. И главное — что у тебя такой жалкий вкус. Если б еще это была молоденькая девчонка, — я поняла бы, но такая старая безобразная баба!..
— А ну, ну, выкладывай! — подстегивал ее Станя, который начал соображать, в чем дело. — Что она тебе наговорила?
— Сегодня утром прилетела ко мне вся сияющая, — дескать, все же «затащила его к себе в постель» — это ее слова — и надеется, что меня это не заденет, и я, конечно, сказала ей, что ни капельки не заденет, — одним духом проговорила Власта и вдруг разразилась безутешными слезами.
Ах, эти женщины! Эти женщины! Посмеяться бы только — да какой смех, когда тебя охватывает бешенство!
— Да я на нее в суд подам! — вскипел Станислав.
Власта подскочила как ужаленная.
— Ты с ума сошел! Вот он, весь ты. Ради бога, прошу тебя, не будь смешным.
— Так чего же ты хочешь? — спросил Станислав.
Власта не выносила прямых вопросов и вместо ответа обхватила Станю за шею; но тут, к несчастью, вспомнила:
— Постой, постой, а что это ты сначала сказал о Влахе?
Делать нечего, пришлось выложить все, что произошло в редакции. Актриса была убита решением Стани.
— Но ты не должен был этого делать! Ты дал себя спровоцировать! Все это, без сомнения, можно было как-нибудь уладить. Это же совершенная глупость! Что теперь будет? Теперь там засядет какая-нибудь креатура Ковальской, — упрекала она Станю.
— Ну вот! Ко всему прочему меня же и ругают! — вздохнул Станя. — Милая Власта! Царская служба — тяжкая служба.
— Но ты ни к чему не относишься серьезно, — сетовала актриса.
— Ты думаешь? — ответил Станислав.
МИТЯ ПУТЕШЕСТВУЕТ
— Я не поеду из Горького, — объявил Митя, и губы его задрожали. — Я должен сторожить нефтехранилище.
И он упорно смотрел матери в глаза, ожидая ответа, как делал всегда, когда что-нибудь выдумывал. Конечно, такого утверждения он не сделал бы в детском саду! Вася и Таня посмеялись бы над ним.
Электростанция автозавода, где служил Тоник, работала на нефти, которую привозили из Астрахани водой; нефть перекачивали из танкера по трубам в хранилище. Около этого гигантского белого резервуара недвижимо, как памятник, стоял красноармеец с винтовкой. Его темный силуэт на фоне солнечного неба был хорошо виден издалека. Это был славный воин, и Митя не знал более благородного занятия, чем стоять на страже с оружием в руках и охранять нефтехранилище, куда ребят даже не подпускают.
А обычно Митя был капитаном самого большого парохода на Волге и одновременно гудком. Он так гудел, что мама зажимала уши, когда вечером вела его домой из детского сада.
Теперь Митя — машинист. Он сидит у окна вагона, держит ремень, с помощью которого опускают стекло, и, управляя паровозом, везет папу с мамой в Прагу. Что-то поделывают без Мити кролики в живом уголке! Один серебристый кролик, бывало, как завидит Митю, так прядет ушами. Зверек уже знал его, знал, что Митя ему приносит капустку, и бегал за ним, как собачка. Хоть бы этого серебристенького взяли с собой.
На память о детском саде Митя получил красивую яхту с флажком. Ему ее подарили товарищи, с которыми он лепил львов и верблюдов из цветного пластилина, ухаживал за живыми зверьками, поливал горошек, пел и танцевал в хороводе под баян. Вася выдолбил остов из кусочка дерева, из которого делают плоты, Петя морил это дерево, чтобы оно не пропускало воды, а Сережа смолил киль и борта; Николенька красил готовое судно, а Таня кроила паруса под руководством своего папы — рабочего на автозаводе, который служил матросом во время мировой войны; нитки она продела в петли, прикрепила паруса, и их можно было по-настоящему убирать. В довершение всего у корабля был самый настоящий руль. Отец с Митей испытывали яхту в последний день перед отъездом, и она прекрасно плавала. Мама осторожно уложила подарок рядом с папиной готовальней в чемодан, облепленный круглыми и треугольными картинками, которые не позволяют отдирать — даже если уголок сам отлепляется, — а то нашлепают по рукам! Скршиванеки влезли в огромный, как для великанов, вагон, в котором было душно и темно от решетчатых ставен на окнах, — и поехали. Митю очень забавляло, что из сиденья на ночь делают постели. Папа вспрыгнул на второй этаж, протянул руки, мама подала ему Митю, и Митя оказался высоко-высоко, как на нефтехранилище. Но скоро ему пришлось опять слезать вниз к маме, а то ночью, во сне, он мог свалиться.
И они ехали и ехали по необъятной русской земле: зеленели всходы, была весна, и березки стояли такие светленькие… Они видели, как дымят заводы, как маршируют красноармейцы, видели плотников на стройках и детей, идущих в школу, и мальчиков в косоворотках, пасущих пестрых коров, и комсомолку за трактором, а иногда по проселочной дороге, прямой, как черта под папиной линейкой, тащилась телега — у лошадки над шеей была дуга, и лошадь тащила телегу прямо в небо. А Митя был машинистом и вел паровоз. Ехали да ехали и наконец приехали к таким воротам с серпом и молотом, на которых было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Митя не умел еще читать, но эту надпись узнавал сразу, как знакомую картинку. Здесь Скршиванекам предстояло пересесть в другой поезд. Папа сказал: «Елена, граница», — и мама надела Мите пальто, хотя Митя брыкался и кричал, что ему будет жарко. Папа ничего не сказал, он пропустил маму вперед, она сошла, и он подал ей из вагона сначала Митю, потом чемодан, облепленный картинками, которые не разрешают соскребывать ноготком, даже если у них отлепляется уголок, и еще один чемодан. К большой радости Мити, мама не смотрела в его сторону, и он побежал по шпалам за веселым ветерком. Красный флаг трепетал, на границе было хорошо, как в деревне, светлые березы махали ветками, каждый листочек тоже хотел убежать, но тут папа поймал сынишку, и не спрашивайте, пожалуйста, как досталось проказнику! Но Митя не плакал, он боролся с папой, только папа победил.
Когда новый поезд тронулся, Елена и Тоник стали рядом у окна, держа в руках ребенка, чтобы и он видел, и смотрели назад — на деревянный домик у леса, на красный флаг над светлой березовой рощей. Они оглядывались на свой медовый месяц, на отвагу и трепет молодых начинаний, когда Тоник с циркулем, а Еленка со стетоскопом отправились в новый мир, помогать перестраивать старинное купеческое гнездо в соцгород. Спасибо, спасибо! Хорошо там было. Правда, товарищ! И они пожали руки за Митиной спиной, будто снова клялись в верности. Поезд медленно проехал воротами, через которые они проезжали когда-то вдвоем, а теперь везут с собой сына, и пограничная станция скрылась из виду.
— Митенька, — сказала тогда мама, — никогда не забывай, где ты родился. В самой отважной стране на свете. И сам всегда будь отважным, ладно?
Она держала его у окна и, разговаривая, дышала ему на затылок. Мите было немножко щекотно, и он повернулся, посмотрел маме в лицо — не смеется ли она, ведь она так любила смеяться. Но мама смотрела на него сверху серьезными глазами. Мите это понравилось. Он задумчиво вздохнул, потянулся от смущения и сказал:
— Ага.
По поезду ходил военный, но уже не красноармеец, а польский солдат, он копался в чемоданах пассажиров. К удивлению Мити, мама сама заранее открыла чемодан, облепленный картинками, которые нельзя соскребывать. Солдат отвернул мамин докторский халат, открыл папину готовальню — сердечко Мити так и екнуло: что, если он заберет корабль? Но солдат налепил на чемодан новую бумажку, между круглой картинкой и треугольной, которые нельзя соскребывать, отдал честь и ушел. Когда опять остались в купе, мама высунула уголок какой-то книжки из глубокого кармана своего дождевика, глазами показала отцу на книгу, опять ее спрятала и улыбнулась. Что здесь было смешного? Большие иногда такие чудаки!
Папа посмотрел на часы, завел их и переставил стрелки на два часа назад. Когда на автозаводе в Горьком гудок гудит полдень — у бабушки в Праге еще только десять часов утра, и дети в школе вынимают бутерброды на завтрак. Но это еще что, а вот когда у нас ночь и Митя должен ложиться спать, — тогда в Австралии утро, и дети как раз идут в школу. Все потому, что земля крутится вокруг солнышка; но этого Митя как следует не понимал.
А поезд ехал и ехал и выговаривал вместе с Еленкой: прерия-пампа-пустошь-степь. Прерия-пампа-пустошь-степь. Стаи птиц снимались с места и взлетали в воздух, табуны коней разбегались при виде поезда, кое-где в одиночестве размышлял аист. Он и в самом деле стоял на одной ноге, как в Митиной книжке с картинками. Как будто потерял одну калошу. Недавно прошли весенние ливни, польская река выступила из берегов и затопила луга по обеим сторонам насыпи; верхушки ольх и верб, как кустики, возвышались над гладью воды. Мама рассказывала Мите о всемирном потопе, о зверях, спасшихся в Ноевом ковчеге, а папа — о том, как инженеры и рабочие укрощают большую воду, чтобы она не вредила людям, а работала бы, раз уж в ней такая сила.
— А большая вода не сердится? — спрашивал Митя.
— Не сердится, — сказал отец, — воде это не трудно.
Он оглянулся с жестом, хорошо уже знакомым Еленке, нашел картонную коробку из-под печенья и вытащил нож, свой чудотворный нож, при помощи которого он уже столько раз вскрывал скорлупу познания для своего маленького сына, и вырезал, согнул из толстого картона турбину с лопастями. Он надел ее на палец и дал повертеть Мите. Тоник так любил играть! Он не выносил безделья, беспрерывно что-то мастерил, что-то изображал. И удивительно, где бы он ни был, везде он тотчас находил материал для своих моделей. Однажды он соорудил Мите парашют из шелкового платка Еленки. Обоих бы наказать по заслугам. Только оставь вас одних… Еленка сердилась лишь для видимости, а сама-то гордилась обоими своими мальчишками, и они, бездельники, хорошо это знали. Она никак не могла дождаться, когда приедет домой и «представит» родителям Митю. «Я все ожидаю чего-то радостного», — говаривала она Тонику. Он любил ее за это, за ее ясные глаза, которыми она смотрела на мир. «Это — божий дар», — сказал он ей как-то. «Ну, нет — всего лишь правильный обмен веществ», — отвечала Елена. Она любила кощунствовать; несмотря на материнство и диплом врача, в ней осталось что-то от школьницы-выпускницы. Нет, она не страдала сентиментальностью и сама была удивлена тем, как тронул ее первый чешский проводник, который прошел по вагону со своим свистком и фонариком и по-чешски спросил у них билеты.
Позади остались города, Горький из белого камня, Москва со своими церковными маковками, с Лениным в стеклянном гробу; позади — путь Наполеонова бегства, позади — Брест-Литовск конца мировой войны, позади — день, полный травы, болот, разливов, позади — галантная Варшава. Ночью переехали две богатырские реки, экспресс прогрохотал во тьме над Вислой и Одрой, мостовые конструкции прогудели над спящими пассажирами, утром их разбудила заря катовицких домен. За ночь земля уменьшилась, простор сжался, горизонт сомкнулся теснее, оброс горами, все измельчилось, всюду даль стала ближе, и — вот, Митя, мы и дома, в Чехословацкой республике.
Мальчик, прижав к стеклу нос, смотрел в пасмурное утро.
— Зачем у них здесь эти виселицы, зачем? — спрашивал он.
Родители улыбнулись.
— Да это не виселицы, это подъемные башни. — И отец стал ему рассказывать, как горняки в клетках спускаются в шахты и рубают уголь. Митя прервал его:
— Этот барашек пасется в Чехословакии?
Мать кивнула, и Митя обрадовался — барашек ему понравился, и он немедленно забеспокоился о нем:
— А что, если барашек забежит в Польшу? Как бы его в Катовицах не обидели!
Это название почему-то пугало Митю. И всю дорогу у него был полон рот хлопот с границами. Как узнают, что мы уже в другой стране, если вокруг нее нет забора? И если не видно ни солдат, ни флагов? Всюду трава зеленая, небо, голубое или серое, коровки пестрые, везде на домиках — крыши, а у людей нос между глаз, и везде маленьким мальчикам скучно в поезде. И Митя начинал потягиваться и вертеться, убегал в коридор, заглядывал в чужие купе — особенно когда пассажиры ели, будто он был голоден, — обязательно желал съесть кусок шоколаду, упавший на грязный пол, мешал разговаривать родителям и добросовестно старался где-нибудь прищемить себе пальцы, — словом, действовал в точности так, как и все порядочные маленькие мальчики в поездах. Мать пыталась привлечь его внимание к окну. «Митя, аэроплан!» Отец показывал ему на фюзеляже самолета государственные цвета.
— Он летит над Чехословакией? — снова заволновался Митя.
— Да, — весело сказала мама. — Знаешь, Митя, когда мы здесь проезжали в последний раз, ты еще прятался в капустке.
— И вам без меня было скучно? — спросил Митя и удивился, почему папа с мамой смеются.
К полудню погода разгулялась, Чехия цвела, была весна, Еленка не могла от окна глаз оторвать. Боже, какое здесь все кроткое и милое! Вот речка — курица вброд перейдет, вот долинка с леском, ее всю заполнили несколько скаутских палаток, вот маленькие синие горы на горизонте — они никого не давят, и как близок путь от станции к станции по мягко-волнистой земле! Где они, астрономические дали русской равнины? Крестьяне, будто сошедшие с картин Алеша,[32] ходят пешком друг к другу в гости из деревни в деревню. Сколько извилистых дорог и тропинок пересекают слегка изрезанную местность — здесь, у подножия древних замков, густо жили и люди и деревья. Еленка увидела то, чего не видела никогда раньше, пока жила здесь, — увидела край, издавна обрабатываемый и культивируемый, любимую землю Отца родины, утеху Манеса.[33] Россия — земля-мать, Чехия — девушка. Черешни стояли в девичьей фате и смотрели из-за заборов миллионами цветочков, пчелы святого Прокопа летели к ним, яблони чешских братьев-садовников путешествовали вдоль дорог, по всей Чехии, как процессия подружек на свадьбе, тянулись цветущие сливы, а поезд напевал одну за другой все весенние школьные песенки. Интернационал был для Еленки святыней; но когда возвращаешься на родину, тебя хватает за душу. Ян Амос Коменский[34] в шапочке, напоминающей букву «о», смотрел с первых спичечных коробок, купленных на родине, и зачарованный экспресс будто мчался по Бабушкиной долине,[35] хотя мы и знаем, что туда не проложена железная дорога.
— Вот! Вот! — вскрикнула Еленка. — Митя, видишь ту красную крышу? — Она показала из окна мчащегося поезда на нехлебский деревянный дом, выглянувший из-за деревьев. — Там жила мама, когда была маленькой, — сказала она с трепетом, которого и сама не ожидала.
Прежде чем Митя сообразил, в чем дело, Нехлебы скрылись.
— Вон в этом маленьком красивом кремле? — с интересом спросил он, показывая раскрашенный игрушечный деревянный замок в саду начальника станции, выстроенный будто для лилипутов. Митя сам был мал, и ему нравилось все маленькое. Но прежде чем он договорил, и замок пропал из виду.
Митя задумчиво вздохнул и вдруг ни с того ни с сего браво спросил:
— Папа! А если бы на рельсах был кит, а против него ехал бы паровоз, — как ты думаешь, кто бы победил, кит или паровоз?
— Никто, — ответил отец, к большому разочарованию Мити. — Паровоз переехал бы кита, но и сам бы сошел с рельсов.
— И глупым был бы кит, если б полез на рельсы, — заметила мать, а таких обидных намеков Митя не любил.
— Постой! Не трогай меня, — сказал он, откидывая головку, хотя мать и не думала его трогать. — Папа, а вот если бы кто-нибудь из них мог победить — кит или паровоз, — то ты за кого бы был?
Перед самой Прагой Еленка умыла Мите лицо и руки, хотя он и упирался и, подобно всем порядочным маленьким мальчикам, отстаивал свое право быть грязным. Она пристегнула ему чистый воротничок, чтобы он был красивый, когда в первый раз в жизни покажется дедушке, пригладила щеткой ему хохолок так, как, по ее мнению, ему больше было к лицу, — короче, произвела ряд безрассудных действий, свойственных всем тщеславным маменькам, над которыми она так смеялась, когда была еще дерзкой молодой девчонкой. Ну что ж, времена меняются, а с ними — и люди. Митя в самом деле стал как кукла.
— И ты думаешь, что довезешь его в таком виде до вокзала? — бросил Тоник, оглядев сына, чистого, как стеклышко. — Вот это я называю оптимизмом.
— А ты погоди, — лукаво ответила Еленка. И принялась рассказывать сыну старинную легенду о том, как Хрудош возмутился против власти женщин. Это очень понравилось Мите. К общему Удивлению, он не захотел ни пить (и облиться), ни есть (и накрошить на пальтишко), ни кататься на ногах по вагону (и измазаться, как трубочист). Он сидел, как прикованный, и слушал не шевелясь. Зато у Еленки пол так и горел под ногами. Последние полчаса невыносимы. Мысленно вы уже обнимаетесь с дорогими вам людьми, — сколько лет не виделись! — говорите им взволнованные слова, какие в действительности никогда бы не произнесли. Вас охватывает глупое опасение, что, пока вы едете, они уйдут с вокзала, где тщетно ждут вас и куда вы, видно, никогда не доберетесь, и вообще, как бы все куда-нибудь не исчезло. Все становится вдруг таким ненастоящим. Душой вы уже в Праге, а телом — в предместье, перед Высочанами. Что этот поезд делает? Могучий Бивой давно уже связал кабана, Горимир[36] на своем коне Шемике соскочил с вышеградской скалы и переплыл Влтаву, только поезд — ни с места, стоит и не трогается! Тут уж нестерпимо хочется открыть двери, выскочить наружу и побежать подталкивать паровоз. Но поезд, с ехидством, свойственным всем поездам, которые непременно уезжают из-под носа, когда опоздаешь на одну минуту, но зато совершенно не торопятся, когда ты сидишь как на иголках, все никак не раскачается, никак не тронется. У Еленки уже иссякает запас легенд, а у Мити — терпение. Наконец! Слава богу! Звоните во все колокола! Поезд дернулся, двинулся и пошел. Он проехал мимо строек, труб, лесов, балконов, неприглядной изнанки города, проехал мимо пожарной стены доходного дома. На этой стене были нарисованы двое детей сверхчеловеческого роста: синий полосатый мальчик и розовая полосатая девочка, совершенно счастливые, идут купаться в купальных костюмах фирмы «Казмар — «Яфета» — Готовое платье».
— Ой, какие хорошенькие! — вскрикнул Митя, высунулся из открытого окна, и — пожалуйста — в глаз влетел уголек. Митя, конечно, в рев.
Мало есть вещей, более мучительных для врача, чем необходимость лечить членов собственной семьи. Митя шумел, кричал: «Мама, я ослепну!» — и не давал дотронуться до себя, Еленка покрикивала на него гораздо нетерпеливее, чем на своих маленьких пациентов в заводской горьковской больнице. Сын плакал, и у нее слегка дрожала рука, пока она не овладела собой. Ну, вывернула нижнее веко проворным движением и выловила уголек. Роговица — хорошая, ничего не будет, в худшем случае — воспаление слизистой. Но когда они выходили из вагона, вместо мальчика-ку-колки Елена тащила за руку заплаканное, чумазое и обезображенное дитя с опухшим, кроваво-красным глазом. Оправдались слова Тоника! Как бы ребеночек не опозорил родителей! Еленка уже смотрела на это юмористически.
— Главное — вы уже здесь! — И Нелла стиснула в объятиях дочь с такой же горячностью, с какой встречала ее самое в Нехлебах старая пани Витова.
ВТОРЖЕНИЕ СКРШИВАНЕКОВ
Скршиванеки с ребенком и чемоданами вторглись в стршешовицкую квартиру Гамзы, нарушив издавна установившиеся порядки, заполонили ее, привели в негодование Барборку, а Станислава окончательно лишили душевного спокойствия. Что ж, приехавшие с чужбины — такие знаменитости! Где они только не побывали! Чего только не видели и не пережили! Новости, одна удивительнее другой, сыплются, как из мешка; в открытые двери, вместе с приехавшими, к стыду того, кто все эти годы неподвижно сидел за печкой, ворвался свежий ветер нового времени. Они все понимали лучше нашего и с такой уверенностью высказывали свое мнение! Да иначе и быть не могло. Позади у них осталась огромная, необозримая страна, которой бедняга Станислав и в глаза не видал; это она придавала им чувство невероятного превосходства и собственного достоинства. Можно было подумать, что Скршиванеки арендовали ее. Вот они и важничали.
Пестрая узбекская тюбетейка валяется на письменном столе Стани — как она попала сюда? В столовой он хотел сесть на стул — и чуть не сломал Митину яхту. Осторожней! То-то наделал бы шуму!
— Да оставь ты его в покое, — говорит Нелла своей дочери, с извинениями убирающей игрушки, и гладит внука по головке. — Я его и разглядеть не успела как следует. Правда, Митенька?
Приехавшие столько лет жили, не заботясь о собственном гнезде, вот мы и даем им место здесь — они нам дороже всего на свете. Барборка разводит огонь в плите обрывками русских газет, которые, словно письмо в зеркале, никто не может прочесть, а Митя спрашивает у Неллы:
— Бабушка, ты умеешь читать?
Ведь у Али бабушка не умела. Она только еще училась грамоте. Днем она ходила к папе на завод, а вечером — в татарскую школу в кремль. Дома мальчики помогали ей учить уроки.
Нелла засмеялась в ответ на слова внука:
— Конечно, умею, плутишка.
— Ну так прочитай вот это, — строго сказал Митя, открыл свою книжку с картинками и стишками и сунул ее Нелле в руки точь-в-точь так, как это делали братья Али, когда они проверяли свою бабушку.
Русский алфавит — вот оно что! Нелла понапрасну надела очки. Она еле читала по складам.
— Вот видишь, и не умеешь, — торжествующе объявил Митя и вызвал всеобщий восторг. Молодец! Он хорош уж тем, что существует на свете. Гамза взял из рук жены книгу и начал вслух плавно читать по-русски детские стишки. И бабушка и дед наперебой старались завоевать расположение внука. Станислав никогда бы не поверил, что отец так любит детей.
— Дядя, — спросил Митя, — а ты ходишь в тир?
— Что это такое — тир?
— Ну, стрелять. — Митя удивлен, что в Праге такие непонятливые люди.
— Нет, братец. Хватит с меня и того, что я отбывал воинскую повинность.
— А у папы на автозаводе в обеденный перерыв рабочие ходили в тир.
Сестра угощает Станю икрой — подарком заводской больницы, но Станя даже не глядит. Зять наливает ему водки, — к сожалению, Станя не пьет. Ну, папироской, быть может, не погнушаешься? Непривычный сухой дым, отравивший квартиру, вызывает у Стани кашель. По правде говоря, не нравятся ему сигареты с мундштуком. А знаешь, почему они такие длинные? Морозы. Русские морозы. Чтобы удобнее было держать рукой в перчатке. Зятю что! Советский Союз он знает как пять своих пальцев. О чем бы ни спросил Гамза — он обо всем осведомлен, этот герой пятилетки. Очевидно, она не была бы выполнена без супругов Скршиванеков. Куда там Стане до таких знаменитостей! Он сидел за печкой, держась за Властины юбки. Зятю при жизни поставили памятник в московском сквере — это старая история, Елена писала об этом давным-давно, — и чего мать снова радуется? Станислава эти похвалы приводят в мучительное замешательство. Раньше ему как воздух нужно было согласие в семье, он заботился о нем больше других, но сейчас Станя не мог радоваться вместе со всеми. Как он ни старался, их радость его не трогала, сердце его застыло. Станислав, нежно относившийся к прабабушке, когда она уже всем стала в тягость, сейчас был настроен против сестры, потому что Скршиванеки, как нарочно, приехали в трудную для него минуту. Во всякой семье, даже самой дружной, родные братья и сестры всегда соперничают друг с другом. Может, тут сказываются воспоминания детских лет, когда Еленка и Станя устраивали нечто подобное олимпийским состязаниям и бегали наперегонки. Счастье переменчиво у детей Гамзы. Вот сейчас «лидирует» Еленка. А это всегда чувствует только «побежденный».
Одна из прелестей жизни — рассказывать внимательным слушателям о пережитом, и Еленка предалась этому удовольствию от всей души. Кто лучше матери умеет слушать своих детей, кто лучше стариков выслушает молодежь, когда она, постранствовав по свету, возвращается в покинутое гнездо? У Еленки не возникало ощущения, что она хвастается; она понимала, что мать отождествляет себя, с ней так же, как она себя с Митей, а отец жадно поглощает вести из Советского Союза. Еленка не знала, с чего начать. Она рассказывала отцу о том, как уверены в себе советские рабочие. Они очень скромны, не рисуются, и у них непоколебимое чувство собственного достоинства. («Счастливые люди, — с горечью подумал Станислав. — А если парень не нравится девушке? Разве это не оскорбляет его достоинства? Человек ведь гораздо сложнее, чем думает Еленка, уж слишком она все упрощает».) Рабочий, изготовляющий там самый ничтожный винтик, знает, что это совершенно необходимо и что он создает историю вместе со всеми, в этом все дело. Господи, что она несет! («Елена! Мне ни к чему твои прописные истины!») Ну-ка, попробуй позаимствовать у нее эту невинную радость: она сейчас рассказывает матери о киргизках и о том, как в соцгороде их приучали к чистоплотности. Сделали такой опыт. Дали киргизкам коммунальный домик. Киргизки переехали, перепачкали все, что было возможно, бросили дом в таком виде, как будто там черт воевал, и ушли к Тонику на работу. Вечером вернулись — домик, как игрушечка, все на своем месте. И киргизки все это опять в одну минуту перемазали и расшвыряли, не дай бог. Но им нарочно никто ничего не говорил, не сердился, не напоминал. И никаких лекций по гигиене, ни-ни. Это было бы преждевременно. Только и дела было, что убирать за ними. Тянулось это довольно долго, примерно около месяца. А в один прекрасный день вернулись эти милые киргизки с завода, а дома у них тот же хлев, какой был перед уходом. Они были совершенно озадачены. Сначала они ругались, потом принялись советоваться. И вдруг — это надо было видеть! — все собрались — и в кооператив за мылом, и к соседкам за щетками. С тех пор…
Боже, какое дело Стане до Елениных киргизок? Его интересовала только одна женщина — Власта, из-за нее одной у него было столько забот. Ему все время кажется, что Власта нисколько не огорчилась, когда он отказался прийти сегодня к ней, так как должен был по настоянию матери провести вечер со Скршиванеками. А что получилось? Скука и мученье.
Тоник заметил, что Станислав упорно молчит, в то время как Елена упивается обществом родных, и постарался перевести разговор на другую тему:
— Ну, а что нового в театре? Я слыхал, что вы теперь лучший театральный критик.
— Вы слышали, вероятно, от мамы, — ответил Станислав со страдальческой улыбкой, — для нее мы все — знаменитости. Да, да, серьезно. Не будем об этом говорить. Я уже бросил рецензии. Бессмысленное занятие.
«Милостыня!» — подумал он, как мальчик, и почувствовал себя еще более чужим среди этих людей, разгоряченных водкой. Он физически ощущал, что весь похолодел. Теперь уже нельзя подняться и сказать: «Извините, мне нужно быть в театре». Больше уже было не нужно.
Нелла выручила сына, спросив, не болит ли у него голова. Сейчас она, по-видимому, сожалела, что удержала его дома. Воспользовавшись предлогом, он взял у Елены порошок, простился со всеми и вскоре после Мити ушел к себе в комнату. Елена проводила его взглядом.
— Что со Станей? — спросила она, когда за ним захлопнулась дверь. — Мы его чем-нибудь обидели?
Гамза только рукой махнул.
— Это целая история, — шепнула мать. — Не говори при отце. Его это сердит.
И пока Тоник рассказывал Гамзе, с каким пытливым интересом советские рабочие изучают технику — рабочий класс в Советском Союзе моложе нашего, — да, они ведут себя как чудесные дети, но скоро нас перегонят, — Нелла поверяла Еленке все, о чем она догадывалась и что слышала о Стане и Тихой. Станислав об этом не упоминал никогда. Он очень удивился бы, узнав, что матери все известно.
— Разумеется, она для него стара, — закончила Нелла.
— Кто из нас не заблуждался! — весело бросила Еленка, вспомнив свою глупую улецкую историю с Карелом Выкоукалом. — Это пройдет.
Ей было особенно приятно, что мать разговаривала с ней, как с равной. Во времена девичества этого не было, о нет! Даже после того как Елена стала врачом, действительно знающим все житейские тайны. Мать признала ее по-настоящему взрослой только с тех пор, как родился Митя. Теперь они как сестры, у обеих есть дети. И о ком им беседовать, как не о сыновьях? О Стане, о Мите, о новом доме. Еленка только теперь вьет гнездо. Какое счастье, что Нелле удалось найти квартиру в том же доме, через коридор. Высмотрела все-таки! Старик доктор — почтенный, пожилой человек, живший напротив, — получив пенсию, благоразумно перебрался в деревню. Еленка пришла в восторг оттого, как красиво мать обставила квартиру мебелью и картинами, взятыми из Нехлеб. Картина, изображающая охотника и лисицу, висела в приемной — ружейный ствол на ней и до сих пор дымится, а на снегу по-прежнему истекает кровью лиса. Дочь хвалила, а Нелла краснела от ее похвал. Девочка смягчилась, сделавшись матерью. Она стала душевнее. Еленка торопится как можно скорее начать прием в кабинете старого врача: она будет лечить детей из поселка безработных и маленьких пациентов с бржевновских крутых ступенчатых улочек. Она любила свою профессию врача и чувствовала в себе столько сил! Особенно ей хотелось помочь профилактикой. Она многому научилась в Советском Союзе, и у нее уже есть план, который она предложит отделу социального обеспечения. А Нелла будет с Митей, — если бы она могла таким путем избавиться от конторы! Целые дни проводила бы с Митей. Ведь дом мало-помалу теряет свой уют, если в нем нет ребенка.
Елена насмешливо посмотрела на нее.
— Ты еще пожалеешь, мама. Митя — сущий бесенок!
— Ты ужасно напоминаешь нехлебскую бабушку, — перебила ее Нелла.
Они давно не видались, а после долгой разлуки в человеке бросается в глаза то главное, чего раньше ты не замечал из-за чрезмерной близости и что становится опять неуловимым, когда вновь к нему привыкнешь. Как странно: если Нелла начинала разбирать Еленку так, как это любят делать женщины, — черточку за черточкой: нос, глаза, рот, — то ничего напоминающего старую пани Витову в лице дочери не было. Но сходство обнаруживалось в манере смеяться, в выражении лица, в интонации и быстрой походке, в проворстве, в энергичной хватке, с какой Еленка бралась за всякое дело, ну, словом, в том огоньке, который горит в человеке. Ну, вылитая покойница! И Барборка это приметила, она уже примирилась с приехавшими. Чем старше становится Барборка, тем упорнее она сопротивляется всяким новшествам и год от году все строже командует Неллой. Но это золотой человек. А прабабушка! Еленка засмеялась. Когда они прощались перед отъездом, Еленке пришлось сдерживаться, чтобы не распустить нюни. Эта разлука казалась ей похоронами. А прабабушка-то! Я простилась с ней навеки, а она живет себе да живет. Она способна поспорить с самой смертью. Еленке это нравилось. Интересно, что она скажет, когда я приведу к ней Митю?
Жизнь шла вперед, открываясь во всем своем многообразии. Это было такое приятное ощущение! Они говорили о самых обыденных вещах, стряпали и шили за этими разговорами. Гамза называл эти разговоры где-то пойманным словом штуковка, значение которого для него осталось навсегда темным. Но то, о чем они говорили, было не так уж важно. Все эти разговоры питались живыми соками, их окружал майский воздух, и они распускались соцветиями слов. Пускай рассуждали о том, где достать в Стршешовицах овощи для Мити, но как у песенки есть мелодия, так и в этих простых словах заключался еще и другой смысл. Для дочери это значило: «Я наконец дома», для матери: «Слава богу, вы опять здесь. Слава богу, вы все со мной». Гамза в шутку назвал это «системой наседки».
— А я не говорила тебе, Еленка, сколько хлопот доставил мне отец с этим Лейпцигским процессом? Натерпелась я за него страху.
— Ну, Димитров у нас, в Советском Союзе, — ответила Елена, вставая, и перешла из женского уголка к отцу и Тонику. — Это дело дало осечку, не так ли, папа?
Мужчины были поглощены своей беседой.
— …то, что ты получил место на «Аэровке»,[37] это очень показательно, — услышала Еленка слова отца. — Как только что-нибудь готовится, безработицы как не бывало. Ты что, девочка?
Стоило только Гамзе заговорить с Еленкой, как голос у него смягчился. Да, дочка у него удалась! И для Еленки отец был настоящим героем. Правда, папа приходил в ярость, когда у него не ладилось дело с запонкой от воротничка или когда он засовывал куда-нибудь книгу. Горячность отца всегда немного смешила Еленку, немного мучила, и она старалась не думать об этом. Но зато как спокоен и чуть насмешлив был он, когда однажды под вечер к ним пришли жандармы с сыщиком и, к досаде и испугу мамы, стали рыться в ящиках стола Гамзы. Это спокойствие очень нравилось Еленке еще в детстве. Однажды — она тогда ходила в школу — папа должен был уехать, как говорили, в Остраву, но не смог проститься с детьми. Когда она пришла в класс, девочки пристали к ней: «Твоего папу посадили? У нас об этом говорили дома». Еленка вышла из себя: «Неправда! Мой папа не может сделать ничего плохого!» — и рассорилась с подругами. Дралась она всегда отлично. Случайно обе стороны были правы: Гамзу присудили тогда к тюремному заключению за агитацию во время остравской стачки. Сейчас он должен был подробно рассказать дочери о Лейпцигском процессе и о безвинных подсудимых. С медицинской точки зрения ее интересовал и ван дер Люббе. Судя по тому, что она тогда читала о нем — о его апатии, односложных ответах, и судя по его характерно опущенной голове на фотографиях, которые ей пришлось видеть, — у него, очевидно, был хронический энцефалит. Таких хроников на свете больше, чем полагают. Известно также, что больные энцефалитом обладают преступными наклонностями. Но это ведь заочный диагноз. Только догадка. Во всяком случае, на снимках он производил впечатление тяжело больного.
— Это дело давнее, — сказал Гамза. — Нацистские судебные эксперты признали его вполне вменяемым… Но и у нас сторонники Гитлера тоже начинают нагло поднимать головы. Немец Конрад Петушок[38] отлично оперился. И прекрасно подходит для чешских колбасников. Что ты хочешь — борьба с большевизмом.
Последний вагон пражского трамвая со свойственным ему настойчивым звоном ушел в стршешовицкое депо — это звук, к которому Еленка еще только привыкает, как к одному из голосов родины; в тишине майской ночи было отчетливо слышно, как часы в Градчанах пробили два; родители и дети встали, желая друг другу доброй ночи. Отец и дочь стояли рядом; Нелла, прибирая какие-то мелочи, на миг увидела профиль Гамзы с седой гривой волос и Еленку в расцвете молодости и женственности, и снова ее поразило сходство дочери с отцом. Будто две капли воды! И Нелле было хорошо в этом круговороте любви, который не позволяет состариться живым и исчезнуть умершим.
Гамза снова повторил Еленке, что она очень его порадовала книжкой, которую благополучно провезла через бековскую Польшу, такую придирчивую к печатному слову. Это была Коричневая книга в карманном издании, переплетенная в безобидную обложку «Германа и Доротеи» и во времена Лейпцигского процесса контрабандой перевезенная через границу. Еленка получила ее от одного пациента, немецкого эмигранта, которому удалось бежать в Советский Союз; он слышал о Гамзе.
— Еленка, ты, конечно, видишь, как я рад вам, — добавил отец, — но жаль, что вы не смогли остаться в Союзе. Неладно у нас. Становится жарко.
— Тише, мама услышит, — вполголоса предупредила Еленка. — Зачем ее тревожить?
ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ
Трудное время наступило для Стани. Куда он ни сунется — всюду как пятое колесо у телеги. К театру, как и к вину, можно пристраститься, и жизнь без него кажется пустой. Станя тосковал без торжественной атмосферы премьер, но ни за что не пошел бы в театр, не желая встречаться с бывшими коллегами по первому балкону. Недоставало ему и воркотни Клусачека, и запаха свинцовых литер. Тот, кого печатали и больше уже не печатают, чувствует себя вычеркнутым из жизни. «Но мне все нипочем, если у меня есть Власта!» Почему же ему казалось, что он потерял право бывать у нее в это отчаянное время, когда ему внезапно зажали рот? Когда новости о театре он с плохо скрываемой завистью человека, оставшегося за бортом жизни, узнавал лишь от актрисы?! Ну что за глупости! Разве не бренчали у него в кармане ключи от квартиры Власты? Власта осталась и принадлежала ему, он мог делать с ней все что захочет. Он мог припасть к ней искаженным мукой лицом, открыть перед ней свою боль и избавиться от этой муки, ведь Власта до смерти любила всякие излияния. Да, а после этого в ней снова воскресала хитрая, расчетливая женщина, которая ни за что не упустит своих самых ничтожных интересов. Власта — это Власта, и она целиком принадлежала ему. Но Стане было необходимо убеждаться в этом постоянно, чаще, чем это ее устраивало. Она устала, жаловалась Власта, когда он поджидал ее у театра перед артистическим входом, и отсылала его домой. Измучилась, как собака, объявила Власта и на этот раз в субботу вечером, она способна свалиться и заснуть как убитая и проспать все воскресное утро. Какая там загородная прогулка! Встанет, запрется дома одна со своей Электрой. Когда Марженка уходит, в квартире такая райская тишина. Кто это поймет лучше Стани? Так она, значит, получила все-таки роль Электры! И вскоре после Антигоны! В последнее время она не могла жаловаться на театр.
В один из по-настоящему хороших воскресных дней все, у кого были здоровые ноги, выбрались из Праги. Город превратился в убежище для инвалидов, старух и изломанных жизнью существ. Огромный, притихший проспект Белькреди внушал мысли о самоубийстве. Стоял душный, жаркий день — когда горничная соскребает головки у спичек и пьет отраву, потому что ее солдат пошел танцевать с другой; можно поручиться, что в такой ужасный день во Влтаве тонет не одна восторженная учительница, осмелившаяся на большее, чем ей позволяет служебное положение. Станя бросился бы спасать их последним, так ему все опостылело. Он собирался было остаться днем дома, быть прилежным, как Власта, и писать свою работу о Пиранделло. Но живость Елениного сына, достойная всяческого восхищения, выжила Станислава из дома в кафе, а удушающая скука — из кафе в кино. Подвальный полумрак приятно освежил Станю. Шел американский детективный фильм, один из тех, которые показывают в мертвом сезоне; но возможность перенестись хотя бы часа на два к чужим людям, в другую часть света, все-таки разгоняет тоску. Ничего не поделаешь. Властичка, на экране все получается складно, не то, что на подмостках, именуемых жизнью! Власта Тихая судила о кинофильмах строго; она не любила считать, сколько молодых актрис из Большого театра снимается в кино. Власта была на ножах с кино, а у Стани был зуб на Власту. Из-за чего, спрашивается? Из-за того, что и в воскресенье она трудится, не покладая рук? Добавим, что это некрасиво со стороны Стани, он и сам это сознавал.
Когда он вышел из маленького кинотеатра, он оказался как будто на другом конце Сен-Готардского туннеля, в новом климате. Под небесным сводом, окрашенным в неестественный синий цвет дуговыми лампами, Прага приняла феерический вид. От Влтавы и парков на белые и лиловые улицы тянуло сыростью; лучи заходящего солнца, смешиваясь с голубоватыми лучами восходящего месяца, залили город волшебным, нереальным светом. Казалось, что вы идете не по Праге, а по улицам на какой-то картине. В зеленоватом сумраке под тропической листвой каштанов, вторично зацветших в электрическом сиянии, стаканы с пивом на розовых столиках в кафе отсвечивали магическим янтарем. Красив, слишком красив был этот вечерний отдыхающий город. Станислав решил, что хватит Власте работать. Его не смутило, что она не ответила на телефонный звонок; она всегда выключает телефон, когда репетирует, — это нам известно; и он поехал к ней, с намерением пригласить поужинать на свежем воздухе. Вереница запыленных автомобилей возвращалась в Прагу по Уезду. Из окна трамвая Станя заметил в одной из машин Алину в спортивном костюме. Поскорее отвернуться. Куда черт не может попасть сам, он посылает бабу! Власты не будет дома! Алина всегда приносила ему несчастье.
Так нет же, Власта была дома! За шторами горел свет, он видел это с набережной. Власта его не обманывает, только пусть он ей не мешает. Она ни с кем не уехала гулять тайком от Стани. (Эта мысль, хотя он сам себе не признается, отравила ему все воскресенье.) Он поднялся на второй этаж и сперва вежливо позвонил. Совсем как гимназистка, которая идет за автографом. Не напрасно ли он сделал это? Власта боялась таких мужчин, которые всовывают ногу в щель, стоит только приоткрыть двери. Она была глубоко убеждена, что ее когда-нибудь убьют. Только этот страх и заставил ее выйти замуж за Хойзлера, и она никогда не открывала двери сама. Бог весть почему, Станя вспомнил свое первое посещение и испытующий взгляд Марженки через глазок в двери, улыбнулся и позвонил, как условлено. Даже и этому Власта не верит? В квартире словно шевелится кто-то, прислушивается, затаив дыхание. Могильная тишина. Настороженно, лукаво смотрела на него закрытая равнодушная дверь. Кнопка звонка была вся в бесчисленных прикосновениях невидимых пальцев; почтовый ящик как будто еще хранил в себе шорох брошенных в него писем и сейчас постукивал ими на полутемной лестнице. «Не делай этого! — предостерег Станю какой-то внутренний голос, желающий ему добра, — не делай!» Но Станя не послушался и попробовал открыть дверь своим ключом, как он делал это столько раз. В замке что-то мешало. «Брось! — предупреждал все тот же голос. — Брось, пока не поздно!» Но кому охота уйти ни с чем? Человек всегда стремится закончить начатое. Станя в ярости нажал… дзинь! В передней до глупости легко упал на пол ключ. Станя вошел, и ему стало стыдно, как мальчишке. «Беги, спасайся со всех ног, — снова зашептал ему тот же голос, — все еще можно спасти».
Вдруг в переднюю проскользнула Власта.
— Кто там? — спросила она удивительно тихо для перепуганной женщины.
Как будто она не знала!
— Я, — глупо выдохнул Станя — черт его знает почему! — тоже шепотом. Это заразительно. Почему он смутился при виде белья, выглядывающего из-под халатика? Как будто он никогда не видал ее полуодетой!
— Ты репетировала, извини, — остановился он, смешавшись, и наклонился за упавшим ключом. И вдруг выпрямился во весь рост. — Поедем со мной ужинать на остров, — пригласил он ее умышленно громко. Но приглашение звучало недружелюбно.
— Отлично… вот это идея… Превосходно, — заикалась Власта. И хотя она стояла в полумраке передней, Стане показалось, что она мечется из стороны в сторону. — Чудесно. Знаешь что? Подожди меня в кафе художников. Я буду там через десять минут.
Станя посмотрел на нее. Почему не здесь? Он глядел на нее в упор, и огонек смертельной вражды перескочил от него к актрисе.
— Оденься, а я подожду, — предложил он ей с адским спокойствием — бог весть откуда оно берется — и как ни в чем не бывало сделал шаг к двери комнаты. Власта преградила ему дорогу.
— Послушай, — попробовала она обезоружить его своим ангельским голоском и при этом ужалила взглядом. — На самом деле, разумнее…
Станя отстранил ее с недоброй усмешкой, постучал, да, вежливо постучал в дверь и вошел в комнату, в которой был в свое первое посещение, — в комнату трофеев и скальпов. От лент, венков, портретов драматургов и от сувениров, памяток о путешествиях на него повеяло сгустком всех любовных свиданий, которые заканчивались в соседней комнате. Там, рядом, в комнате Стани перед зеркалом стоял человек; он отнял руки от галстука и обернулся. Надолго, как символ ужаса, останется в памяти Стани человек перед зеркалом.
— А, старый знакомый, старый знакомый, — доброжелательно бросил Кунеш Стане, медленно идя ему навстречу, — Как поживаете, дружище?
— А как вы, пан директор? Что поделывает ваша супруга? Как детки?
Удар попал в цель: и без того румяное лицо Кунеша побагровело. Актриса прошла через комнату, чтобы переодеться для ужина втроем.
Кунеш закурил солидную сигару, Станя задорную сигарету. Каждый — соответственно своему положению в обществе и возрасту. Атмосфера сгущалась; дышать становилось трудно. Стряхивать пепел в одну пепельницу с этим человеком! Станислав бросил окурок и, глядя на Кунеша с той же недоброй усмешкой, стискивая край столика, решительно сказал:
— Знаете что, пан директор, будет лучше, если вы отсюда сейчас же уйдете. Нам с Властой нужно переговорить с глазу на глаз.
Кунеш удивленно поднял брови.
— Н-да… довольно странная идея, — с трудом выдавил он, медленно наливаясь яростью, преодолевающей вежливость, которая вросла в плоть и кровь. — На каком основании…
— А вот на таком, — бросил Станя. — Мы двое — вольные люди, а вы — отец семейства.
Последние слова он произнес неподражаемым тоном, как могут говорить только молодые люди. Как будто вас не может постигнуть большая неприятность, чем быть отцом семейства!
— Как вы смеете! — загремел Кунеш классическими словами ссоры. — Это… это хулиганство!
Власта, притаившаяся, как мышонок, навострив уши, вовремя вмешалась.
— Ты пошляк, Станя, — сказала она. — Пан директор, я в отчаянии.
Вместо страха перед общественным мнением, вместо вечной боязни Власты поссориться с нужным человеком в ней сверкало обычно подавляемое торжество самки, за которую дерутся два соперника.
— Уходите, — повторил Станя, перебив Власту, — и живо! Или я за себя не отвечаю!
Власта бросила на Кунеша молящий, заклинающий взгляд. «Мы понимаем друг друга, — говорил этот взгляд. — Не обращайте внимания на этого безумца. Потолкуем после. Оставьте его, это ниже вашего достоинства». Многозначительно глядя на Кунеша, она молча протянула ему руку. Кунеш поклонился Власте, как в старинных салонных пьесах, где герой говорит: «Ваша воля для меня закон», — и, не глядя на Станю, вышел из комнаты. Власта хотела выскользнуть вслед за ним в переднюю, но Станя не пустил ее.
— Оставайся здесь! — Он грубо рванул ее за руку и посадил в кресло.
Власта молча сжалась. Глаза у нее сделались грустными, удивленными, как у Миньоны, она сразу сделалась маленькой и хрупкой, как те индианки, которых в цирке втискивают в корзину. Оба слышали, как за Кунешем захлопнулась входная дверь. Станислав ждал, когда актриса расплачется или начнет торопливо упрекать его. Но Власта взвизгнула и начала хохотать: правда, хохот ее звучал вначале несколько истерично, но он быстро перешел в невинный шаловливый смех.
— Итак, мы с этим как будто благополучно покончили, — произнесла она, захлебываясь от смеха. — Ты, Станя, проделал это гениально. А помнишь, как в прошлый раз ты выгнал Алину?
Смех этот трусливо забегал вперед, юлил, льнул к нему, в нем звучал страх. И не без оснований: Станя даже не улыбнулся.
— Власта, — спросил он, как судья, — с ним ты тоже смеялась надо мной?
— Ах, ты ничего не понимаешь, — набросилась на него Власта. — Это вообще не то, что ты думаешь. Он совсем не так ко мне относится. За минуту до твоего прихода он говорил со мной, как отец…
— Власта, если бы мне не было стыдно, я бы тебя ударил.
— Какой ты ребенок! Что мне с тобой делать? Ты вообще не понимаешь…
— Все понимаю. Протекция и «презренный металл». Но я, Власта, так не играю.
Он встал и, не обращая внимания на то, что актриса продолжала усмехаться, вышел, и его юное лицо было серьезно, как перед смертью.
ОСЛИК ТЫ ЭТАКИЙ!
Утром в совершенном смятении от Гамзы прибежали за Еленкой: иди скорей, никак не можем разбудить Станю. Счастье еще, что она не ушла в больницу страховой кассы.
Станислав лежал навзничь, запрокинув голову, бледный, и глубоко дышал. Дышал так, что шевелилось одеяло. Мать, которая обычно будила детей постукиванием по лбу, на этот раз никак не могла добудиться взрослого сына.
— Станя, Станя, — повторяла она, беспомощно дергая его за руку, — не глупи, Станя, слышишь? Это я.
Но рука безжизненно падала. Какое дело Станиславу до матери?
Как будто повернули выключатель и осветился забытый уголок жизни, куда не заглядывали много лет, и Еленка увидела, как она будит мертвую нехлебскую бабушку. Хуже ничего нет — лечить в собственной семье.
Грудное дыхание, слабый пульс, ноги посинели.
— Он вчера принимал что-нибудь? Не знаешь?
Гамза опередил жену и, нахмурившись, как туча, молча подал дочери пустой пузырек из-под лекарства. Снотворное. Ну конечно! Елена сама написала Станиславу рецепт, когда он пожаловался на бессонницу. Пятнадцать капель перед сном. И так этим злоупотребить!
— Ярослав, — ни с того ни с сего произнесла Нелла имя брата, когда-то застрелившегося из-за девушки. Раньше она никогда не упоминала о нем при детях, боясь, как бы они не вздумали последовать его примеру. Теперь она могла назвать его!
— Я так и знала, — всхлипывала она в полном отчаянии, — что у нас стрясется что-нибудь такое… всегда этого боялась…
— Что теперь рассуждать! — твердо возразила Еленка. — Засучи-ка ему рукав.
Затянув ремешок вокруг этой незнакомой руки, которая тотчас же вздулась, и нагнетая баллончиком воздух, Еленка измеряла кровяное давление. Мать внимательно следила то за ней, то за шкалой жизни: девяносто… девяносто… — что это означает? Но Еленка, ничего не сказав, высвободила руку Стани, которому было все равно, что с ним делают, и пошла прокипятить шприц для укола.
— Вызови «скорую помощь», — попросила она отца, — дома его нельзя оставить. Нужно в клинику. Придется спускать мочу, дать стрихнин, а у меня его здесь нет. Митя, беги к Барборке, не вертись под ногами. Что, Тоник уже ушел на завод?
Мать на некоторое время осталась одна с сыном. Он был жив и дышал, глубоко и медленно дышал. Одеяло приподнималось на груди, как будто дышала женщина. Девичий нос и обнаженная шея делали его совсем юным. Мать заботливо прикрыла Станю до подбородка. Она брала то одну, то другую холодную руку сына в свои пылающие ладони, старалась передать ему хоть частицу своего тепла. Но сыну это было глубоко-глубоко безразлично. Душа матери обливалась кровью. «Что же ты со мной сделал, Станя, — смотрела она на него. — Как ты мог так предать меня?»
Но Станислав был выше всех горестей и суеты, он был безжалостен к людям, которые хлопотали и сокрушались возле него, неумолим в своей сосредоточенности под сомкнутыми веками.
«Я знаю больше тебя, — уверяло молодое презрительное лицо. — И мне ничего, ничего не нужно».
«Скажи, что я упустила из виду? Разве я не носила тебя на руках? Не берегла пуще глаза? Я ни разу тебя не ударила. Я сидела у твоей кроватки, чтобы тебе не приснился дурной сон, и ты засыпал после этого, как в раю. Месяц ясный, боюсь. Ах, боже, боже!»
«Видишь, как я беззащитен, — уверяло спящее лицо. — Беззащитен и наг. У ежика есть иголки, у осы — жало, у змеи — ядовитые зубы. А у плюща — присоски. Но есть человеческие души, которым нечем защищаться. Почему ты, мамочка, не дала мне более твердой души! Молчи, ты сама такая же».
«Только один-единственный раз, — защищалась Нелла, — я тебя предала. Но это было так давно… И я не ушла от отца из-за той случайной девушки. Ведь у тебя был хороший домашний очаг, достаточно чистый воздух над головой, и если несколько раз…»
«Любовь, — отвечало юное, смертельно серьезное лицо. — Но ведь мне уже ничего, ничего не нужно».
«Я должна была окружить тебя вниманием в последнее время. Ты рано возвращался домой и сидел один у себя в комнате. Но как я могла проникнуть в твои тайны, если ты не заговаривал о них сам? А Митя такой славненький! Я так давно его не видала! Да, я забыла, что надо подумать и о тебе».
«Не в том дело, — пренебрежительно говорило погруженное в себя строгое, юное лицо. — Зачем придумывать оправдания, которые ничего не значат? Загадка в другом».
И тут мать с содроганием поняла выражение его лица. Это был взрослый сын Неллы; когда-то он появился на свет, как и все. Но новорожденный, которому так радовались, был вовсе не так доволен. Зачем вы меня звали, казалось, укоряли его глаза, сосредоточенные на чем-то своем. Оставьте меня в покое, не будите меня…
А затем в квартиру вошли санитары с носилками, здоровенные парни, привыкшие ко всему; они без стеснения топали и шаркали ногами, громко произносили будничные слова. «Возьми его так», — говорили они о Стане, как о мертвеце, ловко положили его на носилки, пристегнули ремнями, прикрыли; Барборка распахнула настежь обе половинки входных дверей, и Станю пронесли, как покойника, мимо стоявших стеной любопытных, которые уже столпились вокруг автомобиля с красным крестом и занавесками. Хроника происшествий. Покушение на самоубийство. Позор. Гамза, как всякий порядочный человек, от души ненавидел такие сенсации. Ну и задал бы он этому мальчишке, если бы не страх за него!
Еленка, проходя за носилками через переднюю мимо отца, впервые после своего приезда заметила, что он уже старик. Такой скорбный, убитый вид. Почему-то его даже больше жаль, чем мать.
— Заприте же двери, — сказал он Барборке и ушел в дальнюю комнату.
Станислава засунули, словно неодушевленный предмет, в автомобиль, мать и сестра сели в машину рядом с ним, захлопнули дверцы и уехали. И как это ни было жестоко, установленный порядок жизни коснулся интимного горя и удивительно успокоил. Мы сделали все, что могли. Гамза взял свой потертый портфель и ушел на заседание суда.
— Вы что-то осунулись, — заметил ему коллега, — вы здоровы?
— Здоров, — упрямо ответил Гамза.
Всю жизнь он заботился о множестве людей, о собственных детях заботиться ему было некогда. Покушение на самоубийство бросает упрек всем близким, заставляет их уйти в себя, и они испытывают угрызения совести, доводящие почти до сумасшествия. Гамза, скажи, положа руку на сердце, разве ты в молодости не увлекался? «Если вы разойдетесь, я убью себя», — помнишь, Гамза? Несчастный Станя! Тогда он был ребенком. Но даже став взрослым, он сохранил эту детскую искренность… Такую штуку выкинуть из-за женщины!
Когда Гамза днем зашел в клинику, на парня страшно было смотреть. Теперь уже вечер, а он все еще без сознания.
— Но сердце у него хорошее, — уверяла Елена. — Дело не делается так быстро, как хотелось бы. Надо потерпеть.
Легко ей говорить! Она не склонялась над постелью Стани, как плакучая ива над могилой, не ходила перед дверью его палаты — четыре шага сюда, четыре обратно, — как старый лев, тоскующий в клетке. Она на самом деле могла помочь брату — родители завидовали ей. Она хлопотала о кислороде и инъекциях стрихнина, отмеривала лекарства, глядя на часы; совещалась со своими коллегами в белых халатах. В атмосфере, пропитанной запахом лекарств, неприятной для непривычных людей и означающей для них одни только болезни, Елена чувствовала себя как рыба в воде. А мы, Нелла, здесь лишние. Станя, маленький Станя, которому так необходимы были согласие и мир в семье, который когда-то тянул к себе за пальцы двух неразумных, рассорившихся людей, сейчас, когда они в полном единодушии склонялись над ним, отвернулся от них, не желая иметь с ними дело. Спал и спал.
Мать и сестра останутся у него на ночь. Отец в конце концов ушел, чувствуя себя самым бесполезным человеком на свете.
Но у клиники Гамзу ждал Тоник, который проводил его до дому, пригласил к себе, позаботился о нем по-своему, неназойливо. С Тоником никогда не было тяжело; он чувствовал, когда можно заговорить, когда остановиться, о чем следует промолчать. Он осиротел в детстве и, как большинство людей, выросших без родителей, питал слабость к родственному участию и был очень привязан к семье Гамзы. Особенно он полюбил Неллу, еще в Горьком. Она казалась ему такой нежной, чуткой, осмотрительной, полной противоположностью тому, что болтают в анекдотах о тещах. И старого льва Гамзу он уважал и сейчас очень его жалел, не показывая, однако, своих чувств.
Где бы ни жил Тоник, он немедленно превращал любую комнату в мастерскую. И здесь случилось то же самое. В комнате стоял самый обыкновенный канцелярский письменный стол, оставшийся после старой нехлебской владелицы, и только модель самолета указывала на то, что это стол инженера. (Карандаши Тоник запирал от сына.) Но когда он выдвинул ящики, чтобы достать собственного изделия консервный нож и открыть банку, средний ящик письменного стола, где прежняя его хозяйка хранила свои зеленые и черные разлинованные бухгалтерские книги, поддался с трудом: внутри что-то загромыхало — ящик был полон винтов, напильников, французских ключей и бог весть какого инструмента и металлических деталей, в которых адвокат ничего не понимал. Тоник, не удовлетворяясь своей конструкторской работой на заводе, мастерил дома собственными руками всевозможные забавные вещички. Он отдыхал за этим, как другой отдыхает за веселой книгой. В эти дни он щеголял чеканными монограммами. Еленка уже получила одну, Нелла тоже, третья готовилась для Барборки.
— Она тебя любит за то, что ты ей все чинишь.
— Я ее тоже. Хорошая женщина. Особенно я ценю, что она приняла меня в семью как родного. Я ведь знаю, что для нее это было не так-то просто.
Они разговаривали, чтобы не молчать, а между тем оба думали только об одном. Елена пообещала, что, если что-нибудь изменится — к лучшему или худшему, — она позвонит по телефону до полуночи. Аппарат был у нее в приемной, и они не могли пропустить звонок.
— Как Митя? — вспомнил Гамза.
— Спит, как сурок. Барборка легла с ним в комнате вместо Елены.
— Мы разогнали всю твою семью, — горько заметил Гамза.
Это ничего. Тоник погасил яркий свет, зажег маленькую лампочку. Он положил перед ней белый лоскуточек, и на столике сразу стало светлее. Он открыл консервы, вынул печенье и сварил в комнате черный кофе. Все это, разумеется, пустяки, но они создавали иллюзию домашнего уюта. Как, вероятно, страшно было в пустой квартире напротив — у Гамзы! Тоник всю свою юность провел у чужих людей, а бездомные особенно любят уют. Где бы Тоник ни жил — а он изъездил, по крайней мере, полмира, — он всюду устраивал у себя мастерскую, всюду импровизировал домашний уют, хотя бы с помощью любимых открыток, приколотых кнопками к шкафу или спинке кровати в меблированной комнате, и всевозможных, собственноручно сделанных безделушек. Он столярничал и слесарничал, не чурался ремесла электромонтера, умел истопить печь, постелить постель, сварить обед, выстирать белье — все, как студенты в общежитии или художники в ателье.
— Скажи, — спросил Гамза в полумраке, — ты когда-нибудь думал о самоубийстве?
— Я? — удивился Тоник. Здоровяк с бритой головой вдруг стал удивительно похож на растерявшегося школьника. — Нет, что-то не припомню. Никогда времени на это не было. И кроме того, я недостаточно подкован в философии, — добавил он, словно в оправдание.
— Какая там философия — своеволие! — заволновался Гамза и принялся беспокойно ходить по комнате. — Когда травится женщина — еще понятно. На то она и глупая женщина. Но мужчина!
— Почему же вы думаете, что он сделал это умышленно? — возразил Тоник (хотя тоже был убежден в этом). — Это, скорее, произошло по неосторожности.
— А, — отозвался Гамза, с презрением отвергая все утешения, и махнул рукой, словно перечеркивая этот разговор. Он остановился перед моделью самолета.
— Вооружаемся?
— Вооружаемся, — подтвердил Тоник. — Акции заводов Шкоды повышаются. Казмар переходит на противогазы и парашютный шелк, слыхал? Как ты на это смотришь? По-твоему, война будет?
— Если Франция и Англия по-прежнему будут галантны с этими гангстерами… — сказал Гамза, пожимая плечами. — Политика уступок — самый неудачный способ! Более мудрый уступает, а нахал все прибирает к рукам. Ну, а Лига наций, этот труп, палец о палец не ударит. Разумеется, ось — это защита от большевизма, и под этой вывеской можно позволить себе любую выходку. Пожалуйста, вот тебе Абиссиния, Рейнская область, Испания…
— Республиканцы сражаются блестяще, — замечает Тоник.
— Сражаются. Люди там за идею гибнут, — с горечью произносит Гамза, возвращаясь в круг своих мучительных мыслей, — а здесь здоровый молодой человек ни с того ни с сего…
Послышался телефонный звонок, Гамза бросился к аппарату. Он слушал, его мрачное лицо разгладилось и помолодело. И если бы он даже не сказал ни слова, Тоник понял бы — пришли добрые вести. Дыхание, говорят, стало чаще и уже не такое глубокое. Это хороший признак. Оно возвращается к нормальному ритму. Разве раньше поверил бы Гамза, что его наэлектризует радостью новость, что его взрослый сын зевает и откашливается? Станислав даже бормочет что-то. Его пока еще нельзя понять, но Елена надеется, что он очень скоро придет в полное сознание. Ну, слава богу! И от радости они забыли в эту минуту о грядущей войне.
— Не волнуйся, Тоник, и спасибо тебе. Спи как следует, доброй ночи.
Как подобная хроника происшествий разносится по городу — неизвестно.
Ведь никто из Скршиванеков или из семьи Гамзы не обмолвился ни единым словом об истории со Станей, да и на самом деле хвалиться нечем. И Барборка, всегда готовая сложить голову за честь семьи, твердила любопытным кумушкам в лавке то же самое, что сказали Мите и что Гамза написал в письме в библиотеку: Станислав заболел плевритом. Уважают ли доктора врачебную тайну и не осмеливаются ли болтать лишнее сестры Красного Креста? Как бы то ни было, но у Алины оказалась разветвленная осведомительная агентура. На следующее же утро, вся в слезах, она прилетела в больницу с букетом роз и непременно хотела попасть к больному, уверяя, что хорошо с ним знакома.
Но Еленка встала перед дверью, и надо было видеть, как она гнала Алину вместе с ее розами! Больной не переносит их аромата, а разговоры его утомляют. Пусть пани извинит. И верно. Станя говорит еще очень медленно, язык у него заплетается, как у пьяного, он упорно спотыкается на первом слоге, а мы будем показывать его женщинам.
— Да и вообще вредно, — заметила Еленка матери, — чествовать его цветами как героя за глупость, которую он выкинул. Я не стала бы зря подслащивать ему болезнь, чтобы неповадно было повторить эту штуку.
Мать смотрела на это совсем, совсем по-другому. Сердце ее болело о Стане, о том, что он лежит, безучастный ко всему, и глядит в окно потухшими глазами. Спасибо науке за стрихнин, он спас Станю. Но выздоравливающий человек жив не одними инъекциями. Впрочем, их отменили, больной поправлялся на глазах. Еленка вернулась к своим пациентам и забегала к брату только мимоходом.
Пока он лежал в клинике, дома на его имя приходили счета, зеленые жироприказы и напоминания. Кажется, что и поставщица тонкого женского белья, и цветочница, и парфюмер, и торговец галантереей имели тайных агентов и боялись, что их должник умрет и они потеряют свои денежки. Это, конечно, были не бог весть какие суммы из «Блеска и нищеты куртизанок»! В Праге у нас все гораздо скромнее. Но они были, безусловно, не по карману библиотечному служащему, и, кто знает, не надломился ли Станя под их бременем, прежде чем окончательно упасть, — рассуждала Нелла, в отчаянии подсчитывала, как все это оплатить до возвращения сына домой. Она, конечно, не заикнулась ему об этом ни единым словом. У нее были для него более серьезные новости. Она долго колебалась, выбирая, подходящую минуту, и однажды, в сумерки, когда Станислав отдыхал и, по-видимому, находился в хорошем настроении, она отважилась заговорить.
— Станя, когда тебе было еще плохо, — начала как бы между дрочим, не сводя глаз с вязанья, чтобы не смущать сына своим взглядом, — к тебе сюда несколько раз звонила пани Тихая.
Хотя Станислав молчал до сих пор, теперь он словно умышленно отмалчивался.
— К чему она старается, — сказал он наконец неприятно деланным тоном. — Ведь я больше не театральный критик.
— Она о тебе очень беспокоилась, — робко заметила Нелла, — Она была в полном отчаянии.
— Это она умеет, — произнес Станя с напускным спокойствием. — Это ее профессия. Не утруждай себя этим, мама.
— Она спрашивала, нельзя ли повидаться с тобой.
Матери казалось, что она слышит, как стучит сердце в исхудавшей груди сына.
— Нет, благодарю, — ответил он, тяжело дыша. — Я не люблю драматических сцен.
— Если она опять позвонит, что ей сказать?
— Ничего, — сказал Станислав ледяным тоном. — Не говори с ней. Повесь трубку, и все.
Станя отвернулся к стене и закрыл глаза.
«Пока он в клинике, еще ничего, — с тоской подумала мать, — но что будет потом?»
Она хотела, чтобы он взял отпуск по болезни и уехал в деревню. Станислав, к ее удивлению, не стал спорить.
После болезни он сильно переменился. Казалось, розовый свет, освещавший изнутри лицо Стани, погасили и заменили более тусклым и мрачным. В манерах юноши исчезло все девичье, он стал довольно вялым молодым человеком, с задумчивой складкой на переносице.
Перед отъездом Станислав зашел к Еленке проститься, поблагодарить ее и извиниться за свою выходку и за доставленные сестре хлопоты.
— Ты обратился не по адресу, — холодно ответила Еленка. — Дело не во мне. Да понимаешь ли ты, безумец, что ты сделал с отцом и матерью? Посмотри на них! За эти несколько дней они превратились в стариков.
Станислав был огорошен ее нападением. Он ждал, что она ответит: «Об этом не стоит говорить, я рада, что все хорошо кончилось», — и тому подобное.
А сестра напала на него, засучив рукава, напоминая бабушку из Нехлеб.
— В такую минуту, — заметил упавшим голосом Станя, — человек не думает ни о ком. Ему решительно все равно.
— Я бы родить тебя заставила, — запальчиво вырвалось у Еленки, и Станислав невольно рассмеялся. Она засмеялась вместе с ним, но не сдалась. — Ты бы посмотрел, какое это трудное дело — произвести на свет новое существо. А сколько у матери забот, пока она этого ребенка вынянчит! Нет, и не думай, что я тебя так просто отпущу. Я должна отчитать тебя за маму, она тебе этого никогда не скажет. Всю жизнь она на тебя надышаться не могла, а что получилось? Тебе двадцать пятый год, ты уже старик, смею тебе заметить. Ты на самом деле стар для таких выходок. Покушаться очертя голову на свою жизнь, — добавила она, и недобрый огонек зажегся в ее глазах, — это привилегия детей из «лучших семейств».
Станислав поморщился, как от фальшивого звука.
— Ну ладно, перестань. И не подгоняй личные дела под социалистическую мерку. Не превращайся в наставницу, это мне противно.
— Третьего дня, — продолжала Еленка, — меня вызвали в Бржевнов к одному человеку. Кельнер повесился. Знаешь почему? У него была саркома, рак кишечника. Это ужасные болезни. И вообще подобные заболевания брюшной полости… Это сложные, затяжные болезни, и лечить их мы еще не умеем. В безнадежных случаях таких больных выписывают из больницы, даже монахини не берутся за ними ухаживать. Он умирал в течение полугода, в одной комнате с женой и пятью детьми. Он отравил всем жизнь. Потому что рак кишечника — это последнее дело… это страшная болезнь. Когда дети были в школе, а жена ушла за покупками, он повесился на бельевой веревке, оставив записку: «Прощайте, освобождаю место для детей». Это, конечно, совсем другое дело! Когда я вспомнила о тебе, Станя, мне стало очень стыдно!
Станислав упрямо молчал. Они сидели у окна, из сада на них веяло ароматом цветов. Чайные розы и красные гвоздики, золотой дождь, акации и ночные фиалки приносили свой запах откуда-то из Стрнадовского садоводства. Благоухание цветов, которые освежает садовник, слегка опрыскивая водой, лилось в комнату, изгоняя больничные запахи приемной, волнуя выздоравливающего, напоминая ему театр и любовь. Еленка белела в сумраке, такая суровая в своем накрахмаленном халате. Она походила на статую справедливости. Куда девалась гибкая, тонкая девушка?
— Послушай, — напомнил ей брат, — ты ведь не всегда была такая… не смотрела сверху вниз. У тебя тоже были разные передряги… скажем, с любовью. У меня, по крайней мере, было такое впечатление… тогда, когда ты должна была уехать в Татры.
— Ну, боже мой, — спокойно усмехнулась она, как усмехаются при воспоминании о давно забытой шутке. — И все-таки умирать мне не хотелось никогда, нет, нет! Я цеплялась за жизнь изо всех сил. Зачем спешить, Станя? Нас всех это ждет.
— Ты будешь жить сто лет, как прабабушка, — поддразнил ее Станя.
— Рада бы! Но такого позора, как с этим снотворным, ты мне больше не устраивай… Обещаешь? — потребовала Еленка, заглядывая ему в глаза. — Здоровый человек так чудесно создан, — произнесла она почти просительно. — Грешно его ломать, как игрушку. Ты знаешь, что я не католичка, — договорила она совсем тихо, — но когда самоубийц не хотят погребать в освященной земле, в этом есть какой-то смысл!
— Даже таких, как тот, больной раком?
— Тот имел право.
— Ну, будем надеяться, что нас обоих схоронят в освященной земле, — закончил Станислав и простился с Еленой. И еще добавил, уходя: — Так ты полагаешь, что мне не нужно стыдиться того, что я не умер? Я все время чувствую себя совершенно опозоренным.
— Ослик ты этакий!
ПРАГА СТАНИ
Она никогда не показывала своего истинного лица. На сцене — там она раскрывала душу, а ты держал в объятиях только оболочку. Она меняла свои личины у тебя на глазах и лгала, лгала, — боже, как она умела лгать! Может быть, потому ты никогда и не насыщался игрой, что она постоянно от тебя ускользала. Не станем говорить о разнице в годах (по правде говоря, разница эта была больше, чем предполагал Станя), не станем говорить, что она стара, если это была любовь… но кто сумеет объяснить все это сплетникам в кафе?
Возвратившись из отпуска в Прагу, Станислав избегал, как чумы, всех своих вечерних знакомых. Дома никто даже отдаленным намеком не напоминал ему о недавней прогулке в вечность. Он вычеркнул актрису из жизни, ходил в библиотеку и был здоров.
Если бы только в Клементинуме не было такого множества ниш и закоулков, где могут притаиться призраки! Она поминутно выбегала к нему откуда-то из-за книжных полок, играла с ним в прятки. Она подходила к нему и провожала его в тишине библиотеки, шла с ним по коридору мимо застекленных читален, где за столиками сидели чинные, безукоризненно причесанные молодые люди, как будто никому из них никогда не взъерошивали волос в любовной игре. Здесь он бегал к телефону по вызову Власты, когда за ним приходил пан Гачек. Но теперь Станислав оставался глух к звонкам жизни и, не оборачиваясь, говорил: «Скажите, что я ушел». Записки, написанные крупным размашистым почерком актрис, привыкших подписывать наискось фотографии, он возвращал нераспечатанными. Как видите, Станя ни в чем не уступал, упрямый, как все Гамзы. В театр он не ходил, газет не читал и, отводя глаза от афиш, с которых кричало на углах обжигающее имя, шел скорее домой.
Сколько он исходил в это терпкое, ясное время года! Хорошо бродить по городу ранней осенью, и каждый день после обеда Станислав отправлялся в новый конец Праги, боясь встретиться со своей собственной тоской на улицах, по которым он проходил вчера. И, как склеротик, ощущающий больным местом сквозняк через три двери, он мгновенно по боли в сердце узнавал места, даже не помня их: вот здесь, у этой витрины с кораллами, мы, должно быть, когда-то стояли вместе, — отчего бы иначе мне было так больно? А вот там высятся ряды нусельских домов среди незастроенных пустырей — это адская мука вспоминать, — но когда же, когда я их видел? Может быть, из автомобиля, когда мы отправлялись в один из редких уикэндов. Как безумный, Станя разъезжал по Праге, от одной конечной остановки трамвая до другой, от Кобылис до Грдлоржез, от Стршешовиц до Высочан, от Глубочеп до Глоубетина. Ему была необходима перемена мест, как иному — водка. Из-за одной грешной, ничтожной женщины, груди которой ты прятал в своей ладони! Боже, если бы выскочить из своей оскверненной оболочки, стать вон тем старичком в одежде, отвердевшей, как латы, от грязи, который копошится в отбросах на Манинах! Стать одним из этих мальчишек, которые, взобравшись на укрепления за Карловом, с криком бегают взад и вперед и искренне верят, что они индейцы, — так же, как их матери уверены в своей правоте, когда они спорят где-нибудь на галерее! Это было самое странное в людях: они всерьез верили всему, что говорили и делали, словно никогда на свете не существовало Власты Тихой. В этом заключалось невыразимое облегчение; и Станислав, приходя в себя от неудачной любви, начинал прислушиваться к горю и радостям незаметных, простых жителей Праги. Он садился где-нибудь в Бранике на скамейку у водохранилища, люди шли с автобусов, до Стани долетали обрывки разговоров, мимо него поднимались по лестнице люди всех поколений.
— …и проторчали мы там целый час, — смеялись школьники. — Ребята, вот это была штука…
— …ты разве его не заметила? Жгучий брюнет, красный галстук, — с благоговейной серьезностью уверяла одна швея другую.
— Теперь он играет за Браник. Левый инсайд. Его переквалифицировали, — сообщал звучным басом молодой человек другому в кожаной куртке.
Некоторые шагали сразу через две ступеньки и говорили о какой-то лотерее.
— Может, тебе выпадет…
— Выпадет, да только дождичек…
Потом прошли двое рабочих с холодильников или пивоварни, споря о чем-то.
— Так ведь ты мог устроить, чтобы фура была, — упрекал один.
— Я не люблю допросов, — отвечал второй.
— Я говорю: «Какой вы интеллигент?» — объяснял трамвайный кондуктор полицейскому. — Скрипка, очки, а норовит зайцем проехать…
— Нас было девять…
— Нас — одиннадцать, но теперь трудно иметь столько детей, — заметила женщина, сопровождавшая мать с ребенком. — Кветушка, покажи, как делают часики! Ах, какая умница девочка…
Наконец к лестнице подковыляли старичок и старушка с чемоданчиком.
— Но ей там лучше, — решила бабка и поставила чемодан на землю. — Замучилась она здесь…
— А похороны ей устроили как полагается, — похвалился дед. — Ничего не скажешь. Что это у вас, пани, упало?..
— А это чешуйка от карпа, ношу ее в кошельке, чтобы деньги водились, да вот не водятся что-то, — рассмеялась женщина в бумажном свитере, поднимая растрепанную голову.
Нет, они не были красивы, со своими неудачными носами, довольно низменными интересами. Но они решительно ничего не знали о Власте Тихой. И за это Станя их любил.
В каждом пражском квартале своя атмосфера, свой особый запах, своя выразительность, и каждый связан с особыми ощущениями. В Бранике на свежем воздухе от лесопилки на реке пахнет шумавским лесом, от рыбаков — смолой и влтавской водой, от баб-огородниц — ботвой и сельдереем. Предприимчивые и жадные до жизни, они встают в четыре часа утра, багровыми руками накладывают в тележки кирпичную морковь, смуглый лук, кочаны красной капусты, кудрявую савойскую капусту, голубоватую, как жесть, покрытую сизым налетом инея в этот ранний час, и в десятке юбок, в шерстяном платке, напульсниках и в вязаном шарфе из синельки с победоносным грохотом едут будить Большую Прагу и завоевывать Угольный рынок. Мужчины, обветренные и охрипшие от переклички с перевозчиком на том берегу и с плотовщиками, закалены здесь рубкой льда и охотой на выдр. Нищенские жилища — наполовину фургоны странствующих комедиантов, наполовину вытащенные из воды корабли, с камнями на крыше, чтобы ее не снесло ветром; в бржевновских песках воплощена ненависть; в Михле, у газового завода, эти жилища говорят о покорности, а тут, у Влтавы, еще теплится кое-какая надежда. Здесь у каждого есть свой садик величиною с ладонь, где растут подсолнечники, поворачивающие свои головы вслед за дневным светилом. Все это делает солнце; здесь, над рекой, благоухает озон.
Но как только поезд проходит через вышеградский туннель, прощайте, ультрафиолетовые лучи! Горное солнце превращается в канцелярскую лампу. Сутулые ученые мужи и писцы в очках, преданные всей душою документам, актам и столбцам цифр, толпами ходят в центре города. Дым стелется в котловине, не имея силы подняться вверх под гнетом тумана, и пражские акации запорошены сажей.
Повсюду: в садах у крепостных стен, карабкаясь вверх на вышеградскую скалу, на летненский склон, на Богдалец, Жижков и по злиховским холмам — всего не перечесть! — Прага хватает тебя мозолистыми руками рабочих районов. Уличек со ступеньками в Праге, как лагун в Венеции. Она сбегает с холмов и через реку любуется сама на себя.
Станислав воспринимал Прагу как чудесное живое существо с позвоночником — рекой, сердцем — Староместской площадью, головой — Градом; Прага смотрит зелеными глазами обсерватории, слегка опьяненная опием маковок в стиле барокко, которые усыпляют ее болезни, вздымает к сероватому небу пальцы башен, башенок и труб, взволнованно дышит хрупкой готической грудной клеткой центра города, а люди, как капельки крови, текут по артериям улиц и капиллярам переулков, добегая до мускулистых конечностей. В предместьях Прага выбросила на свалку свое средневековое одеяние, набрала в легкие деревенского воздуха, схватила вместо жезла кирку и в развевающейся юбке, сметая перед собой в кучу отбросы, бежит по полю в клубах пыли мимо кладбищ, через футбольные площадки и склоны — приюты убогой любви. Она поглотила поселки, лесочки и деревушки и бог весть где остановится. Трамвайный кондуктор называет остановки на Пштроске, на Пальмовке, на Фолиманке, а ведь и сам не понимает, что говорит. Кудрявые виноградники, задумчивые романтические сады, постоялые дворы для вымерших почтальонов сократились до названия улиц на блестящих табличках.
Город — загадочная картинка. Деревня пашет, боронит и сеет, косит и жнет, окучивает, полет и убирает богатый урожай прямо у вас на глазах. Год за годом она повторяет на вращающейся сцене горизонта четыре действия своей великолепной драмы труда. А в городе все делается тайком. Сапожника, забивавшего с самого раннего утра перед своей мастерской гвозди в подметки, кожевника, дубившего кожи на улице своего цеха, колесника, почти задушенного удавом пневматических шин, ремесленников и их цехи город посадил за вибрирующие фабричные стены, а ты, бездельник, прогуливающийся вдоль заборов, получишь у растущей промышленности разве только отбросы, вроде химических запахов да фабричного дыма. Ты видишь только синие, серые, коричнево-фиолетовые страусовые перья султанов, вьющихся над трубами, как военные знамена, в сигналы которых ты не посвящен. Город — это тайна.
Странствуя, Станя очутился на узких крутых улицах в приходе святого Аполлинария. На первый взгляд — это идиллический уголок. Его коренные обитатели с пивными кружками, с ключами и молитвенниками в руках сходятся на углу и стоят, разговаривая, как добрые соседи. Но если бы метрики забытого прихода обрели голос и начали рассказывать, романам не было бы конца, жалобы невенчанных матерей и плач маленьких пражан разносились бы над холмом и долетали бы вниз к Альбертову, неуместно нарушая священную тишину ученых учреждений. Станя шел мимо красного дома, о котором поют в пражских песенках (ужасно уродливая постройка, похожая не то на вокзал, не то на подделку под английский замок); потом мимо Катержинок, вдоль высокой стены, которая ограждает больные души от нескромных взоров; от родильного дома мимо дома умалишенных к анатомичке — с пригорка только один шаг, только шаг от колыбели до анатомического стола. («Я почти лежал на нем», — приходит в голову Станиславу.) Это небольшой участок Праги, а сколько драм разыгрывается здесь! Что о них знают? Ничего. Город сохраняет тайну за стенами клиник. Подвальное окно замазано голубоватыми белилами, чтобы нельзя было увидеть холодильник, как цинично называет морг медичка Елена. Едва ощутимый запах дезинфекции в воздухе, обласканном заходящим солнцем, а на мостовой чирикают пражские воробьи: «Пиши! Пиши! Пиши!»
Из боковых дверей судебного морга вышел небрежно одетый толстяк, с пивной кружкой в руке, мрачный и солидный. Он напоминал пана Гачека из Клементинума.
— Вы кого-нибудь ищете? — многозначительно осведомился он у Стани как местный житель, имеющий на это право, и забренчал мелочью в кармане. — Что вам здесь надо?
— Ничего, — сказал Станя, как мальчик, и, набравшись духу, поспешил удрать подальше отсюда. Умирать ему уже не хотелось. Нет, нет! У него другие заботы. В голове у него засела Прага, она гнала его с места на место, не давая покоя.
Прага звучала у него в ушах всеми своими плотинами, всеми колоколами, рассерженными шмелями моторов, плеском шагов, гулом голосов, тем самым отдаленным гулом, который шумит в раковине «морское эхо», и островками тишины (вдруг одиноко зазвенит смех, высокий, обжигающий девичий смех); в ушах Стани шуршала серая лента мостовых, и город, подгоняемый жаждой наживы и зрелищ, убыстрял свой бег и нетерпеливо переступал с ноги на ногу, ожидая свидания; в ушах Стани били пражские часы, начиная от лоретанских колокольчиков до Вышеграда и святой Людмилы и дальше, дозванивая кукареканьем петуха на староместских башенных часах; для Стани играли в церквах трехрегистровые органы; перед ним проходили пражские фабрики, Прага металась в нем виттовой пляской машин, грохотала стройками, варила асфальт, гасила известь, месила бетон, просеивала влтавский песок, Прага пела в нем светлым сопрано над рекой, звенела детским колокольчиком красного трамвая, разносилась в нем пронзительными голосами мальчишек на Жижкове. «Пиши, Станя», — покрикивала команда маленьких Станиславов, гоняющихся за круглым мячом, который никак не остановить. «Пиши, дружище!»
«А если я не справлюсь? — возражал Станя. — Я боюсь».
«Пустяки! — топотали в Карлине ломовые лошади гирями подкованных копыт, — не беда, только тронься с места!» И эти кони были сверхъестественной величины. Быть может, один убежал с крыши Национального театра, а другой с памятника святому Вацлаву. Они топали, как ожившие статуи, но Станя понимал каждый удар их копыт. «Разве ты не слышишь, — говорили они, — как чудесно пахнет солодом, соломенной сечкой и аммиаком? Так когда-то пахло по всей Праге. Пойди в Крч, спроси у бабушки, та еще помнит нашу славу. И твоя мать, милый юноша, еще маленькой девочкой ездила на конке и горько плакала в тот день, когда разукрашенные лентами лошадки, запряженные в зеленые, увитые цветами вагоны, проехали на прощанье в последний раз по городу. Это было во времена императора! Вся знать — господа в цилиндрах и дамы с траурным крепом на шляпах — ездила в фиакрах на резиновых шинах в свете газовых бабочек до появления пана Кршижика[39] с его дуговыми фонарями, которые слепят глаза. Газ был здоровей для зрения, что бы там ни говорили, молодой человек, что бы там ни делали».
Так доведите меня, копи, до пристани в Карлине!
Ломовые кони, кивая головами, продолжали усердно топать, но их уже нельзя было понять. Грузовой бьюик, воплощенное землетрясение, заглушил их топот, и кони остановились перед кузницей на пустынной набережной. В глубине кузницы, мрачной, как мастерская самого Вулкана, пылал горн. Два огненных языка, золотых, как петушиные перья, пламенели в глубине пещеры, заостряясь и извиваясь, и слышались звонкие удары железа о железо. Ломовой извозчик, крохотный, как фигурка в «вертепе», выпряг этих сверхъестественно огромных коней, один из которых, возможно, носил в седле святого Вацлава, а другой, быть может, вез когда-то либушиных послов в Стадице.[40] Станислав рассматривал все, удивляясь району, где еще живы старые времена Праги. Где же река? Ее засыпали. Где пароходы? Время их взяло. Где пристань? Она передвинулась к вокзалу на другой конец моста. Бывшее ложе реки было завалено железным ломом, старыми ящиками, привокзальные пакгаузы на одном берегу и дома на другом отвернулись от холодной ложбины, где паровозный дым перемешался с запахами болот. Это был забытый богом угол. Станя шел и в конце концов только чутьем набрел на воду. В глубине под лысыми берегами стояла отвратительная вода, затянутая ряской, зеленая, как старая медь.
«Я не та парадная река с картинки, как там, дальше, — шептала стоячая вода и зеленела от зависти. — Я не играю симфоний Сметаны[41] у каждой плотины, но я — тоже Влтава, незаконная Влтава. Меня отстранили. Меня называют мертвым рукавом. Но я жива и дышу мириадами своих бактерий и насылаю их на город, который хочет и меня засыпать. Какие там русалки и водяные! У меня живут тиф и паралич — смотри, не случайно здесь помещается контора пражского крематория. И ты разве не видишь, что здесь бывают убийства?»
Станя окинул взглядом этот обездоленный уголок Праги. Ни одна девушка не прошла этим путем, здесь, как ни странно, не играли мальчишки, хотя в школе уже кончились уроки, — улица была словно бездетна. Упаковщики транспортных фирм заколачивали ящики с товарами, зашивали их в джутовую мешковину и отправляли в железнодорожные склады по ту сторону речного ложа. Когда пробьет шесть, они остановят тачки, воткнут иглы в мешковину, отложат молотки и гвозди и уйдут с работы; когда кузнец зальет свой горн и на пустынной набережной станет совсем темно, убийца стукнет по голове ограбленного и сбросит его в сточную трубу; затем он пройдет с пустынной набережной через какой-нибудь проходной двор к оживленному Королевскому проспекту и затеряется в городе. А если ворота на Прибрежной улице заперты, убийца пройдет по мосту под виадуком на Манины и исчезнет среди свалок, куда сползаются старые проститутки, окончившие свою карьеру.
Районы, по которым Станя ходил днем, являлись ему во сне как живые, только в более таинственном свете. Хмурые становились более призрачными, привлекательные — еще более очаровательными, как в волшебном фонаре. Фигуры, как в лупе, четко выступали на фоне каменных стен, как голуби и кошки на пражских крышах, каждый квартал находил и посылал за Станей своего genium loci.[42] Он узнавал их с закрытыми глазами, этих пражан, которые подходили к изголовью его постели и запрещали Власте провести с ним хоть один вечер наедине. Он узнавал просто по запаху, чьи они посланцы и откуда приходят.
Он чувствовал тоскливый на солнце, осенний запах орешника, которым и весной благоухает Королевский заповедник, и вот по каштановой аллее, усыпанной пятнами света, медленно приближаются две дамы. Одна высокая, другая пониже ростом, у обеих белокурые с проседью волосы, светлые, как пар на солнце, — две дамы, которые следят за собой, настоящие дамы под вуалью с мушками и в нитяных перчатках. Их юбки доходят до зашнурованных, старательно начищенных ботинок. Сухие листья шуршат под ногами. Сколько им может быть лет? Помни, у дам нет возраста. Когда-то, во времена экипажей, обе дамы прогуливались по Королевскому заповеднику у радужного фонтана, одна под розовым, другая под голубым, цвета лаванды, зонтиком. Сейчас их заменил дождевой зонт, хотя светит солнце, и дамы встречаются у клумбы с гортензиями подле серебряного пруда, обсаженного плакучими ивами. Лебеди, шеи которых изогнуты знаком вопроса, бронзово-зеленые и синие утки плывут по гладкому зеркалу вод, и за ними веером разбегаются две волны.
— Поздно, — сказала старшая, вынимая из-за пояса холодно блеснувшие часики на черном шнурке. Младшая открывает твердый кожаный ридикюль со старомодным замочком и тщетно ищет в нем пакетик с хлебными крошками для уток.
— Совершенно о них позабыла, — вздохнула она. Она все больше колеблется. Ей трудно решиться на что-нибудь.
— Леонтина, — робко обращается она к старшей сестре, — ты не могла бы купить для них крендель?
— Тебе лишь бы сорить деньгами!
Утки шлепают крыльями по воде и выходят на берег к перилам из березы, к перильцам из альбома для стихов.
— Придется вам потерпеть, — обращается к уткам младшая, как к детям. — До завтра.
— Завтра! — презрительно бросила ей высокая, и Станислав видит, что и дамы под вуалью способны сердиться. — Ты так капризна! Завтра ты, наверное, сюда не придешь. Завтра воскресенье, любая торговка может пойти в Стромовку.
Запах свежего сельдерея врывается в нежное благоухание орешника, локоть в бумажном свитере и багровая рука с четырехугольными обломанными ногтями, запачканными землей, заслоняют даму в боа.
— Поглядите-ка на нее, на эту чиновную спесь. Худы как щепка, ущипнуть не за что, а тоже важничают, — подбоченясь, говорит густым басом неестественно толстая в своих десяти юбках огородница, и оба призрака Королевского заповедника исчезают в аллее, желтеющей веерами листьев и разбросанными пятнами солнечного света. Баба с рынка прочно заняла их место. Она села у корзинки под зонтом и взялась за ножичек.
— Хотите кое-что узнать, молодой человек? — спросила она таинственно. — Скажу вам по секрету, мое золотое дитятко, что они — голь перекатная… Вы знаете, у меня два домишки в Нуслях, и не какие-нибудь, а четырехэтажные. И дочка вышла за доктора.
Вдруг здесь же оказывается служитель из судебного морга с пивной кружкой в руке и презрительно качает головой над Станиславом.
— Охота вам разговаривать с этакими бабами! Неужели не нашлось помоложе? Сейчас, кажись, вы побаиваетесь женщин? А? Вы просто спятили — да можно ли так относиться к этому? Надули бы вы ее сами, вам было бы легче, и с ней бы поквитались. Все мы там будем, так что ж из этого? Надо пользоваться тем, что нам дано. Все мы живем только раз. Нельзя быть таким привередой. Вот я, к примеру, обслуживаю холодильник — лед, уксус и все прочее, — а я не теряю вкуса к пивцу и свиной грудинке. У меня старуха, дети, кролики — мы чудесно живем рядом с мертвецами. Привычка.
— Вставьте меня в роман, проказник вы этакий! Не пожалеете, — подмигнул Стане вршовицкий железнодорожник в шапке набекрень, из квартала Эдем. — Пивных у нас, что грибов после дождя. Приходите, перебросимся в картишки. Наш брат никогда никого не огорчает, мы живем для людей, умеем с ними ладить. Приходите-ка поплясать на Марьянку, я закружу там всех красивых девчат с Вальдески. Господи! Мы тоже кое-что значим, нас ожидает пенсия. Казенный уголь и скидка на проезд. А если старуха моя ворчит, найдем себе получше.
— Боже, — сказал Станя, совершенно сбитый с толку, — королевский город, а сколько в нем швейков. — Но ведь Прага не только номера по порядку и численность населения. Что же такое Прага?
— Это ты узнаешь по звездам, — пробормотал, проходя мимо Станислава, странный человек с бородкой, слегка сутулый от пышно накрахмаленных брыжей вокруг шеи; следовавший за ним юноша нес какой-то неуклюжий металлический сектор на подставке. Под темно-синим небом, какое бывает под вечер, среди розового сада, стояло здание с тремя куполами, похожее на мечеть. Они собирались расположиться в нем с этим неудобным хламом. Человек с бородкой поднял голову, на лице у него заблестел золотой нос, и Станя понял: ах, вот это кто! Тихо Браге[43] пришел со своим секстантом наблюдать за небесным сводом из Штефаниковой обсерватории. Станислав совсем не удивился этому, околдованный июньским вечером. В сырой, свежескошенной траве благоухали розы, на небе цвета индиго стояла звезда. Двое влюбленных, прижавшись друг к другу так крепко, что у Стани занялся дух, шли спиной к нему вниз к вышке. Он не видел лица женщины, но по боли в сердце узнал Власту и хотел догнать ее. Тут у него над головой повернулся купол обсерватории, и в щель, напоминающую бойницу, на Прагу, как пушечное жерло, нацелился объектив телескопа, установленного на петршинской скале. Человек с золотым носом поднялся по приставной лестнице, Станя следом за ним приложился к окуляру: луч месяца, ударившись о шпиль Тынского храма, зазвенел металлом, и сердце Иржи Подебрадского,[44] погребенное под главным алтарем, начало биться — Станислав так хорошо все это видел издали. Чернели Град и собор; по небу плыла луна, ребенок в бледно-фиолетовом челноке засмеялся и протянул ручки к апельсинам. По небу плыла луна, на Страговском стадионе атлет метал диск, несметные толпы пражских юношей с восторгом смотрели на него. Вдруг между ними протиснулся продавец воздушных шаров и протянул палец вверх, показывая, что улетел шарик. Кондитерша в чепце взвешивала муку, медная чаша выскользнула у нее из рук, и Прага вздрогнула во сне. Полная лупа спряталась в облако, домовладелец сел на постели, черная рука тянулась к его часам на ночном столике. Поперек луны раскинулось прозрачное облако, молодая девушка примеряла миртовый венок перед бледно-зеленым, как вода, зеркалом, луна таяла, по синей Влтаве плыла пасхальная льдина, причастие в отроческой церквушке святого Георгия засветилось, и его окружило сияние, сияние… «А главное — сияние», — сказал Тихо Браге голосом Стани, и Станислав проснулся в неизъяснимом блаженстве.
После этой ночи он начал писать свои «Пражские новеллы» и, хотя делал вид, будто интересуется тем, что говорят о нем в библиотеке и дома, думал только о своих новеллах. Он отдался им с таким же увлечением и такой же скрытностью, как некогда отдавался своей любви к Власте.
Ничего не поделаешь, Станя отроду был немного ушиблен.
ЖУЧОК
Барышня Казмарова привычным движением хотела остановить звонок будильника, но, к ее удивлению, оказалось, что она не может повернуть голову влево. Болезнь была не опасная, но причинявшая неудобства. Она мешала причесываться, но больше всего барышня Казмарова боялась насмешить своих учениц, появившись в классе со свернутой на сторону шеей. Из-за неестественного положения головы она почувствовала давно побежденную внутреннюю дрожь, как в то время, когда она еще не стала любимицей класса, которую задаривают букетиками подснежников, и походила на необстрелянную дебютантку, оступающуюся на сцене от ужаса, что ее освищут. Учениц за партами было так много, а на кафедре, как у позорного столба, отданная на растерзание своре юных насмешливых глаз, — одинокая учительница. Прическа, кожа на лице, где, как назло, выскочил противный прыщик, бантик под подбородком, повязанный несколько криво, — ничто от них не скроется. Мальчики не так внимательны. Когда Ева Казмарова преподавала в Костелецком реальном училище, ей не приходилось так следить за собой, как в Пражской женской гимназии. Но зато как приходилось ей смотреть за мальчишками! Она тряслась от страха, что они изуродуют друг друга. Ева смертельно боялась распущенности учеников. Однажды, когда она дежурила, во время перемены передрались третьеклассники. Фачек и Медулан — оба ужасные забияки. Они так вцепились друг в друга, что не слышали, как она к ним подошла. Маленькая учительница кричала, грозила, даже удивительно, как она не заплакала, — в конце концов она была вынуждена обратиться за помощью в инспекторскую; до сих пор ей мерещится эта драка. Смотреть за мальчиками все-таки должен мужчина. С девочками справиться легче. Слава богу, она теперь преподает в гимназии имени Божены Немцовой. А главное — это в Праге, в столице, где так приятно затеряться. У Евы Казмаровой, дочери улецкого короля, не было никаких данных для наследной принцессы, которые как-то сами собой подразумеваются, — ни роста, ни изысканных нарядов, ни склонности к беспечной жизни. Нет, она спряталась за свои очки, покинув Улы, где каждый камень напоминал ей несчастную любовь к Розенштаму, она отказала всем женихам, которые готовы были жениться на ней лишь ради злосчастных отцовских денег, — от отца ей ничего не нужно. Она живет одна, маленькая учительница не от мира сего, в дождевом плаще и беретике, добросовестно работающая в школе. У каждого живого существа — собственная судьба, и дело только в том, чтобы найти свое место в жизни. Беспощадная быстрота, с которой отец в Улах пропускает людей через фабрику и выбрасывает вон, погубила бы ее. Она на своем месте в размеренной правильности расписания, за книгой, погруженная в родную литературу, в ласковом мире чешских «будителей»,[45] среди молодежи. Казмарова — человек доброжелательный и живет в мире со всеми. Только бы к ней не обратились с одним. Только бы у нее не спросила новая сослуживица: «А вы не родственница улецкому Казмару?» Она каждым нервом уже заранее ждет: вот сейчас спросят; она готова провалиться сквозь землю от такого вопроса. Ева хотела что-то значить сама по себе, а не быть тенью своего отца, который угнетал ее всю жизнь.
Маленькой Казмаровой, в очках и клеенчатом дождевом плаще, девочки дали прозвище «Жучок». Ученицы ее любили. Ну хотя бы за интересный предмет — чешский язык; кроме того, молодежь сразу чувствует, кто из педагогов только зря показывает свою власть, а кто желает ученицам добра. Жучок стояла горой за свой четвертый класс. Если иногда у какой-нибудь ученицы случались недоразумения с кем-либо из преподавателей, классная руководительница Казмарова всегда старалась покончить дело миром.
Например, история с этой Бартошовой. Бартошова — бедовая, способная, но непоседливая девочка. Она усваивала урок быстрее других учениц, на лету схватывала суть, первая подавала классные работы, а потом всем мешала. Дня не проходило без замечаний. В классном журнале красовались записи: «Смеялась неизвестно чему. Отпускала во время урока неуместные замечания. Послала Аусобской перевод латинского текста. Пускала по классу солнечных зайчиков. По собственному признанию, спрятала в кафедру котенка служителя». Она — зачинщица истории с майскими жуками, когда четвертый класс выпустил в комнате для рисования тридцать два живых майских жука, и один из них упал в тушь, испачкав рисунок Новаковой Милославы и блузку учительницы, исправлявшей его в это время; зачинщицей этой глупой шалости была тоже Бартошова. Она получила за это нагоняй от директора. Коллеги Евы Казмаровой жаловались, что Бартошова вредно действует на класс. На этот раз Жучок попробовала подойти к ней по-другому: «Бросьте шалости, Бартошова. Разве вы, такая способная девочка, не можете заняться чем-нибудь поумнее? Перестаньте шалить! Это плохо кончится. Подтянитесь! Я желаю вам добра».
Учительница рисования не могла забыть историю с жуками и поэтому снизила Бартошовой отличную отметку. Чем незначительнее предмет, тем важнее считает его учитель и тем усерднее старается выставить его с выгодной стороны — это старая истина. Но черт дернул именно учительницу рисования найти у Бартошовой коммунистическую листовку. Она помчалась с ней прямо к директору и категорически потребовала созвать экстренное собрание педагогического совета, чтобы он утвердил ее предложение об исключении ученицы, которая позорит репутацию учебного заведения и за которую преподавательница рисования не может и не хочет нести ответственность. На заседании педагогического совета она еще раз повторила свои доводы.
Тут вмешалась Жучок. Маленькая Ева Казмарова попросила сослуживицу потерпеть до конца учебного года. На следующий год той не придется брать на себя ответственность за Бартошову; с пятого класса уроки рисования не обязательны, и ученица бросит их посещать, так как она не способна к этому предмету.
Ответственность за девочку берет на себя она, Казмарова, ее классная руководительница. Она не хочет потерять лучшую ученицу; коллеги — преподавательницы латинского языка и математики — конечно, согласятся с ней. Казмарова считает неразумным удалять из учебного заведения самых одаренных учениц, с которыми в переходном возрасте часто бывает немало трудностей, это известно любому педагогу. Бартошова — незаурядная девочка. Она поступила по-детски неблагоразумно. С нее хватит строгого напоминания, что ученикам, по существующим правилам, не разрешается приносить в школу политическую литературу.
Маленькая Казмарова, взяв на себя это дело, выиграла его. Она обошла перед заседанием отдельных членов педагогического совета и уговаривала их до тех пор, пока те не пообещали голосовать против исключения.
Это была победа, и грустная когда-то «принцесса» готова была запеть. Ей стало весело, как в то время, когда она сама училась в средней школе и приносила домой хорошие отметки, а отец говорил ей: «Умница, жаль, что ты не мальчишка!»
Когда на следующий день она вошла в четвертый класс, ученицы встретили ее аплодисментами. Жучок переполошилась. Боже, откуда они все узнали? Как они смеют! Она им ни словечка не проронила. Бартошова не могла узнать от нее ни о том, что ей грозит, ни о том, кто ее спас. Но в школе, как в театре, всегда все известно, бог весть откуда, но известно.
— Садитесь, — с напускной холодностью сказала барышня Казмарова и невольно радостно покраснела. Она разрумянилась, начав урок срывающимся голосом, как запыхавшийся человек, прибежавший с добрыми вестями. Такая атмосфера симпатии воодушевит хоть кого! С тех пор к «Казмарке» в классе стали относиться но-особенному, как относятся только в женских школах. Девочки начали «бегать» за ней. Узнали, где она живет, с кем она ходит, какой цвет любит, ссорились, кому нести тетрадки с сочинениями к ней на квартиру; в каждом слове, произнесенном не по учебнику, старались найти другой, тайный смысл. Без очков она была бы красавицей, уверяли они друг друга; некоторые даже утверждали, что очки ей идут. Барышня Казмарова находила на кафедре то пучки пасхальной вербы в словацком кувшине, то простодушные подснежники или весенние первоцветы. Эти цветы в плоских корзинках ей преподносили действительно ради нее самой, а не как улецкой «наследной принцессе», которая получает их только из-за своего высокого сана. С благодарностью в сердце она приносила их домой и, конечно, относилась к ним заботливее, чем Власта Тихая к цветам, полученным после премьеры. Всякому человеку нужна ласка. Маленькая Ева Казмарова расцветала в атмосфере дружеских чувств, которые питал к ней четвертый класс.
Но сегодня, когда она пришла в школу с неприятной мышечной болью в шее и повернулась к доске, чтобы написать примеры женского рода, в классе за ее спиной послышался подозрительный шум. «Наверно, у меня стоптаны каблуки», — подумала Ева, чувствуя мучительную боль. Только с трудом она смогла повернуть голову влево; разумеется, на партах у окна уже шумели. Пока она была хозяйкой положения — она играла классом, как ей нравилось. Но стоит классу на миг почувствовать неуверенность педагога, как он сразу выходит из повиновения. И тогда класс не знает жалости. Еве это было известно. Выходить из себя и кричать — бесполезно, наоборот, это сейчас же вызовет отпор. По опыту своей многолетней работы она знала, что лучше принять другие меры. Лучше всего сделать вид, что ты в отличном настроении, постараться проникнуться им на самом деле, успокоить класс чем-нибудь занятным. И барышня Казмарова перешла от грамматического примера из повести «Бабушка» к легенде о страданиях ее автора — Божены Немцовой.
Некоторые люди, преувеличивая свою нужду и болезни, беспокоятся и хнычут, а поэтесса заговаривала свои страдания скромным гусиным пером. Из безотрадного пражского жилья она перенеслась в волшебную Бабушкину долину, — кто из девочек там был? Три? Мало, мы должны устроить туда экскурсию всем классом…
— Да, да, — закричали девочки.
…а вы обратили внимание, Калоусова, как на этом красивом памятнике зрячая Барунка ведет остальных детей? Там есть и обе собаки — как их звали? Султан и Тирл, хорошо, Новотная. В жизни люди были жестоки с Боженой Немцовой, австрийское правительство преследовало ее мужа, ее отвергли дамы из общества, друзья покинули. Но она населила Бабушкину долину одними светлыми существами.
А что вы знаете о черном солдате Викторки?[46] Девочки замолчали и слушали, навострив уши в ожидании, когда же она заговорит о возлюбленных Божены Немцовой. Это было бы для них самым интересным. Но это не для школьных уроков и к легенде не относится. Ева с бóльшей охотой рисовала перед своими девочками мужественную женщину, возлагающую терновый венец на гроб Гавличка,[47] с просветленным сердцем едущую в облаках пыли на телеге за словацкими сказками. Поэтесса во времена почтовых карет знала эту волшебно-прекрасную страну гораздо основательнее, чем современные пражане, которые едут туда на лето в «стреле» или в «татре». Дело не в темпах жизни, не в современных сумасшедших скоростях, а в сосредоточенной любви, с какой любящие всматриваются в глубину любимых глаз. Маленькая Казмарова в своем педагогическом рвении повышает голос и поднимает больную голову; сведенная шея, как от электрического тепла, выпрямляется в лучах, идущих от благородного образа Божены Немцовой. Ева неохотно смотрится в зеркало. Но она с удовольствием слушает то, что говорит, — есть у нее такая слабость! — и упивается звуком собственного голоса. Она победила себя и четвертый класс. Он слушает ее, затаив дыхание.
Раздался звонок, она вышла из класса, девочки с обычным шумом тотчас же высыпали в коридор. Она направилась в учительскую и вдруг услыхала за собой громкий голос, Ева его сразу узнала:
— Вот так здорово! Казмарка заболталась и провела время попусту!
Барышня Казмарова невольно быстро обернулась, и у нее вдруг страшно заболела сведенная шея.
Конечно, это Бартошова. Да, Бартошова, которую Ева выручила, когда началась история с листовкой, и спасла от исключения, сообщала какой-то посторонней девочке из другого класса, где Ева не преподает, что Казмарка заболталась и провела время попусту! У маленькой барышни Казмаровой на миг перехватило дух, и она остановилась, точно перед ней разверзся пол в коридоре между учительской и четвертым классом, куда она с чистым сердцем ходит каждый день, — она чуть не провалилась в эту пустоту — в извечную пропасть между учителем и учеником. Она как-то испугалась за Бартошову, сразу заторопилась прочь от нее, такая крохотная, среди долговязых горластых девчонок. Лишь бы Бартошова не заметила, что ее подслушала учительница! В протокол я не занесу, конечно! Не запишу же в классном журнале, что я выжила из ума, что я заболталась и провела время попусту! Мы такими же были в молодости, так же радовались, когда педагог, заговорившись, забывал задать урок к следующему разу. Чем мы были лучше? С каким учителем этого не случается! Но Бартошова сказала это именно о ней! Всякая другая девочка о всякой другой учительнице, пожалуйста, но не о ней! Обычное дело, если речь идет о нас… Ох, как болит эта шея! И все пережитое Евой прежде, ее несчастная любовь, то, что она никогда не выйдет замуж и у нее не будет детей, то, что она непривлекательная старая дева, которую знаменитый отец угнетает всю жизнь, — все предстало перед ней в эту горькую минуту, и она почувствовала себя одинокой на белом свете. У Бартошовой, у этой бойкой на язык девочки, не было, конечно, злого умысла — все дело в том, что сиротливая барышня Казмарова требовала от своих учениц гораздо больше, чем они от нее.
ЭТО ЖЕ РАДИ РЕСПУБЛИКИ!
Казмар, улецкий Хозяин, вернулся из африканской экспедиции на своем юнкерсе, на своей знаменитой «Стрекозе». На аэродроме он выслушал множество приветственных речей и теперь проезжает вместе с сияющей супругой по разукрашенному городу. За ним едут господа из штаба и оба его биографа: Кашпар, долгие годы с успехом ведающий отделением рекламы после недоброй памяти Колушека, и франтоватый кинооператор Антош в берете и пестром полосатом шарфе. Летчик Аморт, как ни устал он от полета, остался еще на аэродроме со своей молодой женой. Он хочет дождаться осмотра самолета. «Стрекоза» — серьезная соперница пани Амортовой. Она то и дело уносит летчика от жены, даже дома не идет она у него из головы. Но сейчас, честное слово, они оба заслуживают отдыха — и Аморт и «Стрекоза». Достаточно они налетались по свету.
Первоначально возвращение предполагалось на Первое мая. Так хорошо было бы объединить оба торжества — праздник труда и приезд Хозяина. Но экспедицию постигла неудача. Над Бенгази лопнул шатун, и мотор вышел из строя. Аморт спланировал и сделал вынужденную посадку. Если бы не присутствие духа у летчика, улечане сегодня вряд ли могли бы приветствовать текстильного короля. Казмар был вне себя из-за этой задержки. Долгонько им пришлось ждать, пока достали новый мотор! Вот и вышло так, что пунктуальный Хозяин опоздал почти на три недели и застал свои любимые Улы во всей их майской красе.
Директор Выкоукал отпустил рабочих на целый день. На улицы высыпали все цехи со своими эмблемами в виде шпулек, челноков, веретен, наперстков и ножниц — весь город был поднят на ноги. И когда Хозяин подъехал к площади, поднялось такое ликование, что он был вынужден встать в своем лимузине, чтобы его видели в самых отдаленных рядах, и проехал, выпрямившись, без шляпы, сквозь ветер флагов и метель цветов, — такую устроили ему овацию. Бабушки поднимали над головой грудных ребят, чтобы показать им улецкого короля.
— Друзья, — произнес он с трибуны, — я объездил мир и снова убедился, что миллионы людей еще ходят раздетыми. Одевать нагих — одна из семи заповедей милосердия. Перед нами стоят огромные задачи. Я полагаюсь на вас. Никто не заботился о несчастных абиссинцах при черном короле. Потом за этих бедняг вступился Муссолини — шапки долой перед этим просвещенным человеком! — он принес в Абиссинию свет цивилизации. Он строит дороги, шоссе, заставляет делать прививки против эпидемий, а мы, друзья улечане, оденем абиссинцев. Платье делает человека, а абиссинцы такие же люди, как мы. Было бы весьма прискорбно, — гремел Хозяин, — если бы мы не имели права прикрыть их наготу одеждой «Яфеты».
Оратор внушительно умолк, и в наступившей тишине послышался задумчивый детский голосок:
— Дедушка, а у абиссинцев тоже есть колени?
— Ну конечно! Сейчас ты должен вести себя тихо, — прошептал старый Горынек и, протянув руку из своей коляски, погладил внука по щечке. Потом снова приставил ладонь к уху и стал внимательно смотреть на Казмара.
С тех пор как горел тринадцатый цех и Горынек пострадал от ожогов, поврежденная нога у него так и не зажила. Старик не мог ходить; но Лидке приходилось довозить его, по крайней мере, до первого двора, где инвалида ждал радушный прием. Ну и старик этот Горынек! Настоящая живая история! Чего он только не насмотрелся на своем веку! Он помнил Улы в ту пору, когда ночной сторож обходил деревню и трубил в рог каждые четверть часа — в те времена, голубчик, радио еще не давало сигналов. Он помнил деда Казмара и как тот ходил к еврею с куском материи за спиной, тратя полдня на дорогу до Драхова, помнил и бабушку Казмара и как та ела терн, чтобы было больше слюны смачивать пряжу, которую она пряла веретеном. Да, и он видел собственными глазами, как Хозяин вскочил на велосипед и догонял венский скорый поезд, когда была объявлена мобилизация и началась мировая война. Горынек помнил начинающего Казмара и ни за что не пропускал ни одного торжества. Как-никак, а его сын Штепка заведует магазином Казмара в Каире, у него там тоже есть свой пай!
— На Дальнем Востоке для военных нужд, а также в Испании, где идет гражданская война, — продолжал между тем Хозяин, — требуется огромное количество текстильных товаров. В любой части земного шара люди явно нуждаются в обновлении этого рода ценностей. Следовательно, друзья, нужно работать не покладая рук.
«Что же стало с Францеком? — размышляла Лидка, опираясь на тележку отца и держа за руку сынишку. — Жив ли еще он?»
— Миру требуется сукно — мы его наткем, — говорил Хозяин, — рубашки — мы их сошьем, носки — мы их свяжем, марля и бинты — мы их тоже дадим…
— Франко? Фашистам? — откликается чей-то простодушный голос, и голова соседа Палека быстро прячется среди других. Такой вопрос может стоить места. Казмар на лету подхватывает:
— Кто заказывает, тот и получает, — улыбнулся он энергично прищуренными глазами. — Заказчик — вот наш хозяин. Нам в Улах политикой заниматься некогда. У нас не болтают языком, а работают, и этим мы гораздо больше помогаем нашему миролюбивому государству, чем господа провокаторы, которые понапрасну только портят нам репутацию за границей. Да здравствует наша любимая Чехословацкая республика! Да здравствует труд! Да здравствует мир! Через экспорт к благосостоянию! Ура!
Взрыв криков взлетел к синему небу. Штепанек размахивал трехцветным флажком, а Лидка сосредоточенно думала: «Но я не хотела бы шить рубашки для врагов Францека Антенны». И сурово, по-крестьянски, поджимала губы. Когда люди начали расходиться с площади, она схватила ручки коляски, чтобы везти отца, но вдруг вспыхнула и застыла на месте. Казмар сошел с трибуны, словно портрет из рамы, и направился прямо к колясочке Горынека.
— Сердечный привет от вашего сына, — сказал он, наклоняясь к старику, и пожал ему руку. — Я разговаривал с ним в Каире. Ему там недурно живется. Дело в магазине идет. Он делает честь и вам и нам. Побольше бы таких, как он, пионеров экспорта. Это ваш внук?
— Славный мальчуган, — заметила улецкая королева, приласкав ребенка.
— В мать, — улыбнулся Кашпар, биограф Хозяина и заведующий отделом рекламы.
«Он смеется, как покойный Колушек», — приходит в голову Лидке.
— Что за хулиган кричал там сзади, вы не знаете? — спрашивает как бы между прочим Кашпар у Лидки.
Лидка еще суровее поджала губы.
— Не знаю. Откуда мне теперь знать, — ответила она. (Ишь ты, так я и побегу тебе докладывать, что это был сосед Палек.) — Я ведь не хожу больше на фабрику.
— И хорошо делаете, — одобрил Казмар. — Когда муж работает, долг жены — заниматься детьми.
Королевская чета улыбнулась семейству и отошла, обращаясь то и дело к знакомым рабочим и мастерам.
После торжества Хозяин обедал в вилле с участниками экспедиции и с господами из штаба. Приехал нисколько не изменившийся с возрастом главный директор Выкоукал, правая рука Казмара, все такой же загорелый, только на голом черепе у него теперь торчат белые волосики вместо белокурых. Приехал и его сын Карел, располневший красавец. Старику все же удалось образумить сына, женить на богатой и устроить заведующим красильным цехом в Улах. Пришел и старший врач Розенштам, постаревший за один мартовский день, когда он, настроив радио на Вену, чтобы послушать симфонию Малера,[48] услыхал вместо нее фашистскую песню «Хорст Бессель». Небольшим ростом, своим выразительным треугольным лицом, нервной жестикуляцией он резко выделялся за столом среди остальных гостей, угловато-самоуверенных и по-казмаровски хладнокровных. Из дам присутствовала одна хозяйка дома, как всегда томная и любезная, сегодня более, чем обычно, оживленная радостью свидания с мужем. Она все-таки немного напугалась за него после той аварии в Бенгази. Но «двужильный» только улыбался энергично прищуренными глазами: мороз крапиве не страшен. А что же учительница Ева, не приедет повидать отца?
— Она ведь преподает, — объяснила мачеха, — а при ее добросовестности… Бедная Ева — такая педантка! Никогда в жизни я не понимала этого.
Во всем был Хозяин счастлив, только с детьми ему не повезло.
К обеду, само собой разумеется, был приглашен и летчик Аморт, но он отвертелся. Хочет отдохнуть от старика, сказал он своей молодой жене. Это не человек, а машина какая-то!
За обедом Казмар был в приподнятом настроении. В Италии он очень выгодно приобрел по клирингу партию искусственного хлопка, значительно более дешевого, чем натуральный. Кроме того, он подписал два выгодных договора на военные поставки с итальянским командованием в Абиссинии и с губернатором Ливии. Хозяин вернулся загорелый, обветренный и помолодевший, полный новых планов, начинаний, воодушевленный тем, как в Италии строят новую империю. Дуче приказал вывесить во всех гимнастических залах карты старой римской империи, чтобы у мальчиков из фашистской организации «Валила» великая цель была перед глазами.
— Как у «гитлеровской молодежи», — говорил Карел Выкоукал. — Недавно я был в Дрездене…
— Вот дерьмо! — в Казмаре сказался человек из народа. Хозяин не любил Карела, а не только «гитлеровскую молодежь». — Видеть не могу этих мальчишек в белых чулках! — воскликнул он. — Зато там, в Италии, превосходные ребята, настоящие древние римляне.
— Всякая сила — зло, — устало произнес Розенштам.
— Зло? Благословение божие, если она в руках хорошего человека! Если бы у нас, в наших цивилизованных странах, были такие превосходные шоссе, какие построили итальянцы в Африке вдоль моря, вплоть до египетской границы!
Автострады, которым Хозяин завидует. С величайшим любопытством осматривал он итальянские ирригационные работы в Ливии и работы по осушению понтийских болот в метрополии. Он стоял в Риме на Форо Муссолини, на этом лучшем стадионе мира. Это их Голодная стена[49] из каррарского мрамора. Этим, по словам Хозяина, думают разрешить кризис!
— Боюсь, — простодушно заметил Розенштам, — что значительно радикальнее кризис разрешили на итальянских военных заводах.
— Вы не любите Италии. А сами похожи на итальянца, — шутя заметила хозяйка дома, пытаясь перевести разговор на более безобидные темы. — Не угодно ли мороженого?
— Не скрою, что, когда всю жизнь имеешь дело с искалеченными людьми, — говорит хирург, не ответив на ее улыбку улыбкой, — без особого удовольствия смотришь на итальянские самолеты в испанском небе.
— Там и русские есть, — резко заметил на это Хозяин. — О них вы ничего не говорите.
— У нас здесь вербуют в Интернациональную бригаду, собирают деньги на красную Испанию, и подкупленные социалисты натравливают нас на Франко, я только удивляюсь, как правительство все это терпит, — недовольно сказал главный директор Выкоукал. — Мы когда-нибудь жестоко поплатимся за это кокетство с большевизмом. Выкрик рабочего сегодня утром очень характерен. И кто его только подучил?
Главный директор в упор посмотрел на врача злыми синими глазами.
«А ведь он меня ненавидит», — пришло в голову Розенштаму.
— Горсточка безответственных людей, которые совсем не любят нашу страну, — вырвалось у Выкоукала. И Розенштам понимает: евреи. — Ничего удивительного, если Гитлер раздражен.
— Из вас никто не был в Праге, когда там вспыхнули антинемецкие беспорядки? — спросил Хозяин.
Когда? Какие беспорядки? Улечане переглянулись. Ничего ведь не было. Они, конечно, знали бы о беспорядках. И если бы даже в газетах о них не писали, так сотни людей ежедневно ездят в Прагу из Ул, — они-то молчать не стали бы. Это утка. В Чехословакии, пока Хозяин путешествовал, все было спокойно.
— Мы прочли об этом в итальянских газетах, — припомнил Кашпар, — примерно в середине апреля.
— Великогерманская пропаганда, — бросил молодой Выкоукал.
— Теперь вы видите, как позорят нас эти болтуны, — горячился Хозяин. — Я говорил с уполномоченным «И. Г. Фарбениндустри» в Милане. Он сказал, что ему следовало бы съездить в Прагу, но что он не решается. Будто бы на пражских улицах нельзя заговорить по-немецки без того, чтобы не получить затрещину. Мы несем из-за этих небылиц огромные убытки.
— И все же мы всегда находим общий язык в Союзе крупных предпринимателей, — веско сказал директор Выкоукал. — Эти немцы в личных отношениях очень порядочные люди, как, например, Фрауенберг, Мадер, Линдт. Кризис их задел так же, как и нас.
— Нет, они всегда были мне противны, — вмешался Хозяин. — Я еще помню, как в Вене, когда я был бедным странствующим подмастерьем, на всех углах были наклеены оскорбительные для нас надписи. Они делали из чехов дураков. Впрочем, это сейчас не важно, мы все на одном корабле, и волей-неволей с ними надо ладить.
— Во что бы то ни стало, — с готовностью подтвердил старый Выкоукал.
Розенштам поднял голову.
— А если они не захотят? — бросил он с вызовом.
— Ну, мы проявим к ним искреннюю благожелательность, — резко ответил директор Выкоукал. — Для этого, разумеется, нам не нужны злорадные скептики, которым доставляет особое удовольствие все портить. — И он посмотрел на Розенштама. — Сегодня, отбросив предрассудки, мы должны вести разумную позитивную политику. Нам следовало вести ее уже давно. Соседа себе искать, соседа, как подсказывает здравый смысл. Ах, эта наша несчастная внешняя политика! Принципиально заключать пакты с теми государствами, которые не граничат с нами непосредственно. Франция и Англия далеко, а теперь эта самоубийственная идея насчет России! Упаси нас боже от помощи большевиков! Что бы тут началось!
Хозяйка дома побледнела.
— Что бы они тут натворили! — с тоской в голосе воскликнул Карел Выкоукал, как человек, который, очевидно, не в первый раз слышит эти разговоры.
Но старый Выкоукал разошелся.
— Если бы я выбирал из двух зол меньшее, — он решительно посмотрел на сидящих за столом, — то мне был бы милее Гитлер.
— Мне тоже, — сказала хозяйка дома.
Розенштам взглянул на нее с удивлением. Директор Выкоукал перехватил этот взгляд.
— Чего нам его бояться? — добавил он вызывающе.
«А ты, еврей, боишься», — подумал о себе Розенштам. И действительно он боится. Он чувствует его у себя за спиной. Далеко ли австрийская граница от наших Ул? Розенштама преследует картина, которую он видел в марте, когда в ветер и слякоть возвращался из Драхова от пациента, заболевшего острым аппендицитом: молчаливая армия людей украдкой, ночью, при искусственном освещении, бесшумно возводила военные укрепления. Врач становился все более одиноким среди старых друзей из улецкого штаба. Это началось с того самого вечера, когда венское радио вместо симфонии Малера передало песню «Хорст Бессель». Что я им сделал? Ведь они всегда знали, что я еврей, и прежде не придавали этому значения. Но, может быть, сегодняшняя мнительность — всего-навсего припадок ипохондрии? Может быть, все это ему только показалось?
— Ни Гитлера, ни большевиков! — горячо воскликнул Хозяин. — Мы здесь сумеем сами навести порядок. Не понимаю, господа, отчего вы все так раскисли?
— Потому что вас так долго не было дома, Хозяин, — юлил перед ним биограф.
Казмар сидел со своими гостями перед огромным окном во всю стену. В окно заглядывали неровные уступы предгорья, тот край, где не родится хлеб и берут свое начало реки. Вилла стояла на пригорке у леса, и Хозяин видел кирпичный завод и лесопилку, вагонетки канатной дороги, повисшие в воздухе, кучки красных кубиков среди кудрявых деревьев, вдали белела усадьба образцово-показательной фермы. Куда ни взглянешь — парки, железнодорожный путь, новый вокзал, — все принадлежало ему до самого гребня леса, где, как пасть с выбитыми зубами, зияла каменоломня. На месте крохотной ткацкой, с которой Казмар начинал дело, стоит торговая академия, и река Улечка — сколько бед она натворила своими весенними паводками! — давно усмирена. Улечанам уже нет надобности уходить в Австрию на копку свеклы или запрягать клячу в тележку и ездить с мутовками по ярмаркам. Они больше не записываются у заморских агентов и не эмигрируют в трюме за океан. Им хорошо живется и дома — Хозяин всех прокормит. В годы Кризиса у нас, в Улах, мой милый, было несколько получше, чем в Америке, где безработные торговали яблоками перед нью-йоркской биржей. И какие бы козни ни строили нам немцы, мы, в Улах, все опять одолеем! Несомненной беззаботностью дышал край, где Казмар родился, вырос, пробил себе дорогу, край, который он любил и который он преобразил своей счастливой идеей и настойчивой волей. Свою связь с Улами он особенно сильно ощущал каждый раз, когда возвращался домой из своих путешествий. Казмар не ломал себе головы над карлсбадскими требованиями[50] Генлейна, как те, кто оставался в удушливой атмосфере республики. Он проветрился в полетах над облаками и переполнен всевозможными планами.
— Посмотрите, господа, что тут у меня есть для вас, — сказал он за черным кофе. Он вынул свой знаменитый блокнот и провел рукой по упруго шелестящим краям, как картежник по колоде карт. — Калькуляция автострады. Я ошалел от нее в Риме. Мы построим магистраль от Хеб до Большого Бочкова. Года через два она будет готова, если за дело возьмемся мы, а не эти копуши из Праги. Одновременно мы создадим акционерную компанию, получим ссуду, а проценты выплатит государство. Пойдемте обсудим это сейчас же, — поднял Казмар гостей, надел пасторские очки и повел штаб в свой рабочий кабинет.
— Не угодно ли! Вот он всегда так, — пожаловалась хозяйка дома врачу и биографу, когда они с ней попрощались. — Не заглянет и домой, опять за работу.
Но муж возвращается к пани Казмаровой вечером, они рано ложатся, и жена, после стольких недель беспокойства, засыпает в его объятиях, очень усталая. Теперь, слава богу, он принадлежит ей. С ним решительно ничего не случилось. Он рядом, и даже большевики не могут ее обидеть, пока с ней Казмар. С ним она чувствует себя в полной безопасности.
На ночном столике со стороны Казмара стоял телефон, к которому ничего не стоило протянуть руку. Нерв телефонного провода и ночью связывает Хозяина с цехами. Пани Казмарова ненавидела маленький черный аппарат, как надоедливого человека. Иногда она тайком от мужа выключала телефон, сделала так и сегодня. Хоть на одну ночь пусть его оставят в покое! Она потушила свет, и они заснули. Среди ночи ей показалось, что за оградой скрипят чьи-то шаги и что кто-то открывает калитку. «Вероятно, это подвыпивший шофер пришел из пивной», — подумала она недовольно и опять погрузилась в сон, убаюканная мелким горным дождем.
Шофер Казмара должен был подать машину в шесть часов утра. Но в туманном горном утре об автомобиле ни слуху ни духу. Все неподвижно. Казмар ругается последними словами. Сам он был очень точен, и ничто так не сердило его, как опоздание.
Тут в холл вбежала заплаканная жена шофера.
— Он призван! — кричала она. — Мобилизация! Милостивый пан, разве вы не знаете? В полночь старый Лаймр принес ему повестку, и он тотчас же собрал свой ранец. Война будет, война! — И снова заплакала.
Сначала Казмар почувствовал себя неслыханно оскорбленным. Узнать такую новость от жены шофера!
— Не могли мне ночью сообщить об этом, мерзавцы!
Пани Казмарова, конечно, пришла в ужас оттого, что будет война. Но еще больше в эту минуту она страшилась гнева мужа и побежала в спальню включить телефон, чтобы Казмар ни в чем ее не обвинил. Когда она вернулась вниз, Казмар уже сидел за рулем студебеккера, и машина выезжала со двора на дорогу.
Он растолкал пилота. Люди еле успевали отскочить в сторону с дороги, когда они вдвоем мчались к аэродрому.
Аморт, похудевший, мрачный, не завтракавший, молчал в углу автомобиля. В нем точно все оборвалось. Казмар буквально оттащил его от жены; и к тому же эта весть о мобилизации. Тени тополей в клубах тумана мелькали, как дурной сон. Крестьяне вели в Улы зарегистрированных лошадей, и они тянулись караваном по шоссе, как тени. Мобилизация! Мобилизация!
— Пока доберемся до аэродрома, туман рассеется, — заметил Казмар.
Пилот промолчал.
А кони шли и шли. Будет, будет война… Маленькие лохматые венгерские лошадки и битюги, грохочущие тяжелыми подковами, усердно шагали по дороге и сердили Казмара своей медлительностью. Иногда какая-нибудь лошадь останавливалась и срывала листочек, другой с дерева; порядок нарушался, и погонщик с проклятиями гнал ее на место, лошадь становилась на дыбы и танцевала перед автомобилем. Человек за рулем и перегревшийся мотор нетерпеливо дрожали. В Прагу! В Прагу! Мобилизация! Будет объявлен мораториум! Банки задержат вклады. Казмар расстрелял бы эту скотину и людей, которые бестолково топтались перед ним посреди дороги в тумане. Мобилизация! Мобилизация! Военные поставки. Когда-то он догонял венский скорый поезд на велосипеде. Времена меняются. Сегодня он сделает это на самолете.
На аэродроме все еще горел маяк. Такой туман. Свет от вращающегося прожектора расплывался в нем, как клякса на промокательной бумаге.
Оба вышли из машины — Казмар торопливо, Аморт неохотно — и захлопнули за собой дверцы.
Дежурный, приложив руку к шапке с галуном, отрапортовал Хозяину, что пять летчиков с грузовых самолетов призваны на военную службу и уже уехали.
«Скорей, пока у меня не забрали Аморта вместе с «юнкерсом», — подумал Казмар.
Но пилот тоже был смущен:
— А если я тем временем получу повестку о мобилизации?
— Вы бы уже получили ее! В полдень будем обратно. Ну так живей, живей, темпы!
Где веселый, ветреный аэродром? Обычно он похож на огромное футбольное поле. Равнина, радующая простором, прозрачный воздух над ней, ветер и солнце. Конус и флаг на контрольной вышке почти беспрерывно полощутся под напором ветра. Ветер словно приносит самолеты из-за гор, через которые перелетает, и с морей, у которых он побывал. Тогда аэродром благоухает озоном далеких стран, все вокруг дышит предприимчивостью. Но сегодня поле лежало в тумане, как спущенный пруд. Слегка попахивало бензином, немного болотом. Пилот остановился. Три человека, такие крохотные на этом гигантском аэродроме, почти терялись в тумане.
— Пар как из корыта, — говорит Аморт. — Я еще не спятил. Я не пойду на это.
Казмар, не слушая его, мерным шагом направился к ангарам. Испарения бензина — это благоухание самолетных стай — сгущались. Аморт всегда их любил. Они всегда тянули его к себе, всегда возбуждали, но сегодня были противны. «Опять, — подумал пилот, — опять!» Вчера утром он стартовал в Венеции.
Самолеты на шасси наставили носы к выходу, и казалось, что они, как орудия, нацеливаются на подошедших. Здесь стоял «юнкере» Аморта «Стрекоза». Пилот перелетел на «Стрекозе» через Альпы, Мессинский и Сицилийский проливы, через синее Средиземное море в Африку, они пролетели вместе над североафриканским побережьем, и все это без радиста, по карте и компасу, этакому старому горшку, и вместе благополучно вернулись обратно. «Стрекоза» слушается его, как живая. Он вел ее быстрым взглядом, ясной головой, чуткими руками, энергичной ногой. Он ощущал ее положение всем своим существом, всегда знал, удачно ли сядет машина. Он сросся со «Стрекозой», как душа с телом. Они жили вместе над облаками, заряженными электричеством; они вместе искали просвета в небе, если им случалось заблудиться в горных туманах; однажды они чуть не погибли. К счастью, раненая «Стрекоза» в последний миг дала об этом знать и спланировала. Они видывали виды и доверяли друг другу. Но сегодня «Стрекоза» была словно чужая. Она казалась огромной и отталкивающе-безобразной, похожей на саранчу с выпученными глазами. Казмар подошел к дверцам. И в профиль «Стрекоза» походила скорее на хищную щуку, чем на стрекозу, которая взлетит и будет своим серебряным трепетным блеском в воздухе манить мальчиков стать пилотами, как когда-то другие самолеты завлекали маленького Аморта. Да, он стал летчиком, его желание исполнилось! Но все можно испортить! Он провел со «Стрекозой» в странствиях три месяца, и пока с него хватит. Ему нужно как следует отоспаться, отдохнуть и прийти в себя, и тогда ему опять захочется взлететь в воздух на «Стрекозе». Он не в силах ни видеть ее, ни обонять запах бензина.
— Машина заправлена?
Да, все сделано, такой он добросовестный болван.
— Не разрешается этого, — вырвалось у Аморта угрюмо. — А кто считает, что в этакой американской прачечной, — показывает он рукой на мглу, — я соглашусь стартовать, тот пусть и летит.
Жаль, что Казмар не научился сам управлять самолетом, как Муссолини, перед которым он преклоняется. Не пришлось бы слушать эти дерзости. Он очень рассердился, но подавил свою ярость.
— Пока выводят машину из ангара, — сказал он сдавленным голосом, — туман рассеется.
— Кому, как не мне, знать эту живописную котловину, — ответил пилот и не тронулся с места.
Зато у Казмара, улецкого короля, чесались руки, и, хотя он был уже не молод, он помог рабочим толкать машину.
Помощь, быть может, и невелика. Но людям это приятно.
— Будь я на вашем месте, Хозяин, — шепчет ему один опытный механик, — я бы сегодня не полетел. Мы-то знаем, что творит туман в Улах. Вы скорей попали бы в Прагу на машине.
— Вот будет у нас автострада, — оборвал его Казмар. — Аморт, что я вам говорил? Солнышко.
— Кто его видит, тот пусть и стартует, — отрезал летчик, — а я что-то ничего не вижу. Почему всегда я? Да и вообще пилот имеет право отказаться от полета, если неважно себя чувствует.
У Казмара надулись жилы на лбу.
— Мобилизация, — рявкнул он, — не понимаете вы, что ли?
Аморт нервно вздрогнул от его окрика и был готов заплакать, но ему тотчас же стало стыдно.
— После двенадцати тысяч километров, которые я налетал, любой пилот одуреет, — заметил он подавленно.
Казмар мгновенно спохватился.
— Любой, но не вы, — возразил он с признательностью и выпятил грудь, точно гордясь пилотом. — Я же знаю, кто такой Аморт.
Казмар дружески обнял его за плечи и, не обращая внимания на то, как летчик упирается всем телом, незаметно подвел к «Стрекозе».
— Сто крон за километр, и едем! — с жаром воскликнул он и подтолкнул пилота к лесенке. Но Аморт остановился на первой ступеньке.
— Мне очень жаль, — сказал он холодно, — но вы сначала заказали бы погоду получше.
У Казмара снова вздулись жилы на лбу.
— А родина! — прогремел он так, что зазвенело в ушах у рабочих. — Для вас она ничего не значит? Дело идет о высших интересах, я не обязан вам рассказывать о своих военных обязательствах. Над Альпами пролететь в тумане вам ничего не стоило, а тут такой кусочек — до Праги! Это же ради республики!
Аморт окинул его юным, робким, серьезным взглядом, взбежал по лесенке и молча сел в свою кабину.
Мотор оглушительно взревел, лопасти винта начали вращаться, и все присутствующие на аэродроме увидели в расплывающемся свете прожекторов, как «Стрекоза» катится и отрывается от земли.
КУДА ЗАКАТИЛОСЬ ЯБЛОКО ОТ ЯБЛОНИ
Сегодня у барышни Казмаровой в пятом классе в десять утра был урок чешского языка.
На учительской лестнице она встретила сторожиху. Та смущенно остановилась, уступила дорогу, посмотрела барышне Казмаровой вслед, словно удивляясь, что она тут. Но ведь школы не закрыты? Люди в смятении от мобилизации. В трамвае только об этом и говорили. Женщины везли сумки, набитые всякими продуктами, рассказывали, что торговцы уже придерживают товары. Конечно, через месяц станут продавать втридорога. Мужчины называли призывные возрасты, говорили, что мы занимаем границу, потому что немец хочет вторгнуться в нашу страну. Но все это только слухи, разговоры втихомолку; объявлений о мобилизации нигде не было расклеено.
Большая перемена, шумная как всегда, разливалась журчащими потоками по всем этажам, наполняя школу гомоном святочной ярмарки, в этом звонком гуле высоко взлетали отдельные смеющиеся голоса — все, все, как всегда. Счастливая молодость! Барышня Казмарова торопливо пробежала по коридору к учительской; как и все преподаватели, она старалась избегать приветствий учениц, в ответ торопливо кивая головой. Бартошова, заметив ее, изменилась в лице и явно испугалась. Все пятиклассницы уступали дорогу своей классной руководительнице. Как будто у них нечиста совесть. Что там они опять натворили? Ева проскользнула в учительскую, и как только вошла, все сразу замолкли. Барышню Казмарову встретила мертвая тишина. Коллеги смотрели на нее, как ей показалось, с испуганным недоумением, точно они даже и не ждали ее сегодня. «Фашистка я, что ли, какая, в чем дело? — думает Ева. — Или вы все с ума сошли из-за этой мобилизации?» Законоучитель встал и, внимательно глядя на Еву, решительно пошел ей навстречу. Тут из кабинета директора открылась дверь, и секретарь пригласил доктора Казмарову войти.
Директор указал ей на кресло и подождал, пока она сядет.
— Коллега, я знаю, как вы добросовестны. Но то, что вы пришли даже сегодня…
— Ну, само собой разумеется, — ответила Ева удивленно. — Все педагоги пришли, пока их не призвали. Занятия ведь продолжаются? — стала допытываться она.
— У вас дома нет радио?
— Нет, — сказала Ева, немного пристыженная тем, что опять запоздала. — Было какое-нибудь распоряжение? Все ведь здесь?
— Вы не получали телеграммы из дому?
— Получила, господин директор, еще вчера. Отец благополучно вернулся.
Директор озабоченно посмотрел на нее.
— Вас вызывали по телефону из Ул…
— Приглашение? — перебила Ева нетерпеливо. Все, что связано с отцом, ее раздражает. Даже и в школе ее преследует его имя. — И зачем они вас, пан директор, утруждают? Ведь я написала матери, что до воскресенья не могу. А сейчас такое время…
Раздался звонок, и директор медленно, как-то неохотно встал.
— Коллега, я даю вам отпуск на неделю. Ваш отец… авиационная катастрофа. Примите выражение моего искреннего…
Но Ева вздрогнула и не притронулась к его руке.
— Где? — произнесла она слабым голосом, словно ей не хватало воздуха от ужаса. — Не может быть! Где папа?
— В Улах, — ответил директор.
Да, теперь он лежит перед ней здесь, в улецкой часовне, — никогда уж он не пройдет, прямой, без шапки, по висячему мостику между застекленными кубами зданий, никогда. Сколько угодно можно разыскивать его автоматическим сигналом во всех пятидесяти пяти фабричных корпусах, Хозяин не откликнется больше. Хозяин недвижим. Какое ему дело до распри между народами и государствами, из-за которых столько забот у людей, он предстал перед божьим судом. И на что будет он осужден? Он оставил после себя большое дело. Его трудолюбие было образцовым, а его жестокость беспримерна. Тише, тише, мертвых поминают только добром! Он уже не узнает, что немцы нас испугались, что мобилизация отменена. Вот видишь, ты слишком поторопился. Поторопился — и не построишь уже автострады от Хеб до Бочкова. Но как будто все еще что-то высматривают глаза с энергичными морщинками на осунувшемся лице, которое Розенштам так заботливо подправил именитому покойнику. Шрам, как молния, наискосок рассекает лицо сверху донизу. Глаза необыкновенно жуткие, выпученные от ужаса при падении, они как будто хотели осветить свой собственный конец, эти неумолимые глаза. Они так и остались полуоткрытыми. Он и спал так же. Это знала его вдова. Даже врачу не удалось до конца сомкнуть его веки. И благочестивые пожилые женщины в своих монашеских платках, напоминающие деву Марию и святую Людмилу, объясняли в Улах, почему не могут закрыться глаза Казмара. Это знамение, что не будет покоя его душе и после смерти. На совести у него молодой Аморт.
Да, еще одно мертвое тело лежит в часовне, но Ева забыла о нем в эту минуту, она не в силах отвести глаза от отцовского лица. Это ее отец, и никогда он ей не скажет больше своим глуховатым, сдавленным голосом: «Умница, жаль, что ты не мальчишка!» И дочь поникла в слезах. Никогда больше не дрогнут искривленные губы, и он не упрекнет ее в дезертирстве, — если ушла с фабрики, так почему, по крайней мере, не преподает в его школах! Папочка, прости, я не верила в твои теории. Но тебя я любила, любила. А он лежит, вытянувшись во всю длину, что-то высматривая своими настороженными глазами и разоблачая ее половинчатую правду. «Умница, признайся по чистой совести: я был слишком значительным человеком. И потому ты ушла с моего пути». Мертвые, они заглядывают нам в душу. Великан со дня рождения угнетал крошку Еву своим именем. А она хотела чего-нибудь стоить и сама по себе. Этим она гордилась, да, гордилась. Поставила на своем и гордилась. Мертвые умеют перевернуть пашу душу. Зависть и гордость. Она не упрекала отца, не раскаивалась. Теперь все уже поздно. Больше никогда…
По каменному полу прозвучали чьи-то шаги, цветы зашелестели рядом с Евой. Оглянулась, не мачеха ли это? Но шаги направляются в сторону. Рядом с гробом Казмара стоял другой, Ева не думала о нем. К тому гробу подошла женщина. Молодая, в черном платье, с непокрытой головой, в руках у нее корзина цветов. Она поставила ее на пол, преклонила колена, перекрестила мертвого летчика, постояла с убитым видом, потом начала устилать гроб цветами. Она делала это с такой осторожностью, точно прикасаясь к больному, с такой заботливостью, точно верила, что принесет ему пользу.
— Еще несколько розочек в изголовье, — рассуждает она вполголоса, — вот так… чтобы тебе лучше спалось. Мы не думали об этом, когда вместе рыхлили для них землю, правда, Еничек?
Вся скорбь, которая, словно камень, угнетала молчанием дочь Казмара, выливалась из уст женщины певучими словами колыбельной песни. Она думала вслух, как делают женщины из простонародья.
— Еничек, — говорила она, — я знала, я так просила тебя. Злосчастный туман… — И она заплакала. — Не надо было слушать его, не надо. Что ему! Ведь он жил достаточно. А ты, Енда…
Ева Казмарова ужаснулась. Она шевельнулась, чтобы подойти к вдове летчика, но в эту минуту между ними пролез Кашпар. Он осматривал погруженную в полумрак часовню, прежде чем у гроба станет первый почетный караул из молодежи Казмара и к покойникам откроется публичный доступ. Он поспешно зашептал что-то молодой женщине, охваченной горем, указывая глазами на барышню Казмарову… «Его дочь», — слышит та. Но вдову это не тронуло.
— А я жена Аморта, — ответила она.
— Уходите, уходите, пани, вы ему не поможете. Не плачьте, мы о вас позаботимся.
Он попробовал ее увести.
Молодая женщина вырвалась и действительно перестала плакать. Она выпрямилась с пустой корзинкой в руках, глаза ее злобно сверкнули.
— На это мне наплевать, на ваши деньги, слышите? — закричала она, как будто они были не в часовне, и снова залилась слезами. — Верните мне Енду! Мы так любили друг друга…
Страшно было услышать такие слова, а дочери Казмара тем более. Когда она слышала те же слова? Откуда она знала это? Жилистые мужские ноги, кровавые полосы вдоль ободранных голеней, это живое мясо, дергающееся в чудовищной судороге, — обгоревший Горынек. Отец запер его в пылающей прядильне, чтобы спасти склад с хлопком, он опустил за ним противопожарный занавес. Наверное, он не знал, что там кто-то остался. Он же не думал, что они оба погибнут, не стал бы, конечно, уговаривать пилота, если бы тот наотрез отказался лететь?
О том, что летчик отказывался, в один голос говорили по всем Улам. Это засвидетельствовали в протоколе все до единого: дежурный по аэродрому и механик, все рабочие, кончая самым младшим, помогавшим выводить машину из ангара. И что Хозяин уговаривал Аморта, как мог, — и ласково, и кричал, и льстил ему, обещал и грозил; и это говорили о Казмаре — теперь его больше не боялись. Аморт все время возражал, указывая на туман. Но не поддался Хозяину, даже когда тот предложил ему большие деньги за полет до Праги. Аморт уступил только тогда, когда Казмар сказал, что это нужно республике, и беспрекословно сел за руль.
У «юнкерсов» нет прибора, показывающего положение самолета по отношению к земле, так что в тумане пилот не знает, на какой высоте он летит. Аморт боялся тумана. За поездку в Африку он столько времени провел в воздухе, что нервы у него сдали. Не рассчитав, он взял слишком большой угол подъема, чтобы поскорей подняться над туманом, машина начала запрокидываться. Она потеряла скорость, мотор отказал, и самолет разбился. Знатоки восстановили всю картину катастрофы, и летчики, которые учатся на каждом несчастном случае, разнесли о ней весть по свету. Разве «юнкере» — машина?! Кто летает на трехмоторном «Дугласе», тот и слушать не станет об этом «гробе». Напрасно в нем искать кабину радиста — они летали не по радиопеленгу, а по компасу, этакому старому горшку. У «юнкерсов» нет автоматического пилота, этого нерва самолета, отсутствует пульт управления, где так удобно делать вычисления. Этот гроб имел одинарное управление, разве так летают за море? И после этого удивляются, что у пилота сдали нервы. Аморт облетел все североафриканское побережье один. Он благополучно вернулся из Африки и разбился у места своего рождения. Ему, конечно, нужно было как следует отдохнуть. Пилот имеет право отменить полет, если плохо себя чувствует. Прочитайте-ка коллективный договор. Но какие там в Улах коллективные договоры! Торговые — это верно, здесь их уважают!
Тяжело было барышне Казмаровой, когда она добралась до истины. Всего полностью, как вам рассказываю я, Еве не говорили. Розенштам щадил в ней дочь Казмара, директор Выкоукал — наследницу «Яфеты». Но ей достаточно было увидеть и услышать вдову Аморта. Даже смерть не кончила счетов Евы с отцом.
Двойные похороны были страшны и торжественны. Люди с хуторов, запасшиеся съестным, целыми семьями начали сходиться уже с вечера и, переночевав у родственников, на рассвете, хотя похороны были назначены только на полдень, расположились табором по сторонам улецкого шоссе, по которому должна была следовать процессия на лесное кладбище. Люди держались за места, не желая пропустить зрелища, пришли оплакать Хозяина. Это был жестокий человек, но у женщин с гор в то время были покорные сердца. Каков бы он ни был, он давал их мужьям хлеб, преобразил край своим предприятием и сделался легендарным героем. Ему не удалось смежить веки, но глаза его больше ничего не высматривают. Над ним заколотили крышку, на черный гроб положили тяжелый венок — вдвоем не унести, на венке радуют взгляд трехцветные ленты нашего флага. Не говорил ли Кашпар по улецкому радио, что великий покойник стал первой жертвой пашей мобилизации, то есть тех самых великолепных маневров, которые возбудили уважение к нам у нашего соседа? Пусть говорят как угодно, мы не настолько глупы. Лишь бы немец испугался, а мужчины вернулись домой. Но посмотрите туда, на этот венок из белых роз и сиреневых лент, как это красиво! Это гроб Аморта. Еве его не забыть. Целые товарные поезда с венками прибывают в Улы; автомобильные парки вырастают на всех улицах и площадях. Я не знаю господ министров торговли и промышленности, ни членов дипломатического корпуса, которые сидят на трибуне во дворе заводоуправления, где совершается траурный обряд, ни этих представителей от учреждений и корпораций. Дама с блокнотом, еще достаточно бойкая для своих лет, бывшая обозревательница мод, а теперь театральная рецензентка, расскажет вам все это вместо меня. Ее специальность — спектакли, и она, наверное, трогательнее, чем я, опишет вам траурное сукно и флер улечан, оплакивающих Казмара, и скорбный желтый свет фонарей средь бела дня. Она с глубоким волнением выслушает все эти утомительные нескончаемые речи, чтобы поместить их затем в газете «Народный страж», и умудрится заметить слезы даже на тех глазах, которые остались сухими. А я ручаюсь за старого Горынека. Он сидел в своей коляске и плакал от всего сердца. Лидка стояла над ним, как туча, и сурово, по-крестьянски, поджимала губы. Если бы здесь был Францек Антенна, он кощунственно насмехался бы над торжественными похоронами человека, который отнял мужа у жены.
В последнюю минуту на трибуну с гостями поднялась красивая дама, обратившая на себя всеобщее внимание. Многие перестали смотреть на трех женщин в глубоком трауре и перевели взгляд на высокую красавицу. Черный цвет выгодно подчеркивает совершенство ее талии в превосходно сшитом и превосходно облегающем ее костюме, под которым скрывается небольшая красивая грудь в замечательном бюстгальтере; нежная белая кожа соблазнительно просвечивает из-под черной ажурной блузки; ожерелье из крупных камней вокруг шеи — просто и вместе с тем оригинально; волосы цвета платины красиво оттеняет пикантная шляпка с вуалеткой, тень от которой придает загадочное выражение глазам с жесткими веерами ресниц. С виноватой улыбкой дама усаживается возле надутого старикашки, похожего на лягушачьего короля. Он, очевидно, ожидал ее и, судя по недовольному выражению лица, сердился, что она явилась так поздно. Но ее нежное, искусно подкрашенное личико, окруженное длинными локонами, само объяснило, почему она опоздала. Дамам из дипломатического корпуса, поскольку они вообще обратили на нее внимание, показалось, что ее завивка чересчур свежа, костюм слишком нов и что она некстати для печального обряда надушилась. Но мужчины так испорчены, что с явным удовольствием смотрят на красивую женщину даже в такие минуты, и Ро это прекрасно понимает. Наконец-то справедливость восторжествовала! Ро на трибуне, на которую когда-то в день Первого мая искоса поглядывала снизу бедная отвергнутая девушка. Теперь она сидит здесь в своем скромном трауре от Хорста, где она некогда была манекеншей, и присутствует.
Но где Карел, чтобы показаться ему? Ради него только и затеяла она всю эту скучную историю: кому охота ехать на похороны постороннего человека, который тебе глубоко безразличен? Инженер Карел Выкоукал, заведующий улецким красильным цехом, должен ведь быть на погребении Казмара? Спрашивать она не хотела. И тщетно искала его глазами.
Обряд погребения затянулся до самого вечера, потом, пока гости разъезжались, им разносили прохладительные напитки. Наследники попросили извинения, и гостей вместо них в здании клуба принимал главный директор Выкоукал с супругой. Ну, нельзя сказать, чтобы это было очень шикарно: Ружена видывала и не такие буфеты; да и общество очень смешанное. Дипломатический корпус уехал сейчас же после печального обряда, и на Ружену напало беспокойство, что опять знатные люди там, где ее нет. Это беспокойство преследовало Ро всю жизнь; все получается, как назло, не так. А тут коллега мужа, дожевывая бутерброды, представил ей большого толстого человека средних лет, с равнодушным выражением лица и водянистыми глазами: инженер Выкоукал. Неужели это Карел? Рассказывайте! Карел таинственный, как актер на экране, с лицом, искаженным страстью, владыка ее дней и ночей, любовник, из-за которого она хотела спрыгнуть на ходу с поезда? Вот дуреха-то! А может быть, она уже видела его на похоронах? Ни за что бы не узнала! Где его обветренная, загорелая худоба спортсмена и любовника, блестящие, как у скакуна, глаза, крепко сжатые губы с соответствующей дозой благородной суровости, которая покоряет женщин? Все добродушно округлилось и заплыло жирком, как и подобает хорошо упитанному женатому человеку. На юном когда-то Кареле скроенный по косой воротник увеличился номеров на пять — это она угадывает с первого взгляда. И то, что Карел опустился, придает Ружене уверенности.
— Вы меня не узнаете? — спрашивает она с улыбкой.
— Ай-ай-ай, Руженка, — говорит он с лукавым добродушием (будто не мог вспомнить ее фамилию), — откуда вы взялись? Не угодно ли рюмочку ликеру?
— Я ведь теперь Хойзлерова, — говорит Ружа с достоинством маркизы из Нуслей, — жена Хойзлера, пражского адвоката «Яфеты», — напоминает она ему.
— Серьезно? — спрашивает Карел с добродушным безразличием, — Представьте, я этого даже не подозревал. Не угодно ли вам чего-нибудь сладкого?
— Рюмочку горького, будьте так любезны.
И на это она положила жизнь! Назло этому дуралею выйти за старика, сделать партию! Думала этим бог весть как ослепить Карела, а он ничего и не подозревал. Карел нередко врал, отрекаясь при ней от Еленки Гамзовой. Но сейчас этот безразличный тон был вполне искренним. Его нисколько не интересовало, что стало с девушкой, которую он бросил, как старую перчатку. Ружа посмотрела на его руку, когда он протягивал ей рюмку с ликером. Частенько наливала ей вино худощавая смуглая мужская рука с длинными пальцами, которая сводила с ума маникюршу Ружу. Рука располнела, побелела, стала пухлой, как у женщины. Такие руки бывают у пасторов.
— А вы пополнели, — уронила Ружа с женской мстительностью. — Я бы вас не узнала. Настоящая дынька, настоящая дынька…
Ничего более обидного не могла сказать женщина женщине, которая следит за своей фигурой. Но не мужчине! Для Карела это, очевидно, было не важно.
— Это от спокойной жизни, — рассмеялся он. — Разрешите познакомить вас с моей женой.
Скромная, приветливая дама не так красива и не так изысканно одета, как Ружа, но она обладает спокойной непринужденностью человека, который всюду чувствует себя дома, и ему не приходится думать о том, что надо сейчас сказать и сделать. Спокойно улыбаясь, она говорила с Руженой об обычных вещах. Но Ро вдруг почувствовала, что ее волосы слишком светлы, завивка слишком свежа, шляпка, пожалуй, действительно чересчур оригинальна, и когда Хойзлер подошел к их группе, она ухватилась за него, как утопающий за соломинку.
— Густичек, — сказала она демонстративно, — ты не устал? Ты должен поберечься! Завтра у тебя здесь еще очень много работы.
«Что-то опять натворила, — подумал он, — уж очень ласкова».
Ружа выпила горькую настойку и добавила:
— Ведь мы познакомились с моим мужем в Улах. Не так ли, Густик? Целый роман…
— Карел, — проговорила осторожно молодая пани Выкоукалова и покосилась на часы, — мне пора домой.
— Пойдем, — очень охотно согласился Карел. — Вы нас извините? Принц дома уже кричит.
И они бросают Ружу с этой старой жабой, не впускают ее в свою жизнь. И она осталась одна, такая униженная, готовая на все — даже на месть.
— Ты же мог подняться, когда я тебе давала знать, — зашипела она на Хойзлера почти с ненавистью. — На что это похоже? Мы опять останемся последними.
Барышня Казмарова хотела уехать тотчас же после похорон, но мачеха со слезами удержала ее.
— У тебя нет сердца, Ева! Тебе все равно, что я осталась после него совсем одна. В эти тяжкие минуты вся семья должна быть вместе. А нас так мало, к сожалению.
«Я не виновата, что вы не родили сына», — с горечью подумала Ева. Она не очень любила мачеху. Но и не чувствовала к ней вражды. Ей всегда казалось, что эта женщина на самом деле любит отца.
— И потом, — несколько робко добавила пани Казмарова, она знает свою падчерицу, — нужно же выяснить с наследством.
Маленькая барышня Казмарова сдвинула очки на лоб и с упреком посмотрела на мачеху.
— Как ты можешь говорить об этом через четыре дня после его смерти, — упрекнула она ее.
— Не я, а директор Выкоукал.
— Какое мне дело до него! Оставьте меня в покое, — объявила Ева. — Я ничего не хочу.
Мачеха пристально посмотрела на нее.
— Не рассуждай, как ребенок, — напомнила она. — Представь себе эти огромные предприятия. Несем мы ответственность за людей или нет?
— Это верно, — горячо согласилась Ева.
Все собрались в первом корпусе — небоскребе главной дирекции — в зале заседаний совета правления. (Что это такое, собственно говоря, совет правления? Ева слыхала это выражение еще в детстве, но никогда, даже став взрослой, не пыталась раскрыть его смысл. Настолько противны и далеки ей эти дела. Совет правления заседал всегда по средам вечером, а мачеха каждый раз волновалась, что отец опять не поужинает, и оставляла ему в американском холодильнике вкусно приготовленный салат, а наутро находила его нетронутым. Вот все, что доктор философии Ева Казмарова знала о совете правления, а сейчас она дрожит перед господами с вечными перьями и блокнотами в верхних карманах пиджаков, точно им предстоит ее экзаменовать, а она к этому не приготовилась.) Обе женщины вошли в этот зал впервые в жизни. Все еще красивая вдова Казмара («Она, конечно, выйдет замуж, и из-за этого начнутся недоразумения», — подумал главный директор Выкоукал) уселась за зеленым столом, но правую руку от Выкоукала, а наследная принцесса, эта оборванная учительница, — слева от него. Кругом на стенах висели карты пяти частей света. Магазины «Яфеты» были обозначены на них красными кружочками. Со стены проницательно и смело смотрел энергичными, слегка прищуренными глазами покойный улецкий король. Литография с его изображением точь-в-точь такой же величины, как портрет президента республики, висевший напротив.
Главный директор Выкоукал учтиво и сердечно приветствовал обеих дам и высказал им свое глубокое сожаление по поводу того, что только причина столь горестная, как несчастье, постигшее Улы и даже всю республику, впервые привела их сюда. «Но вместе с тем, — добавил он, — нас утешает сознание, что люди, самые дорогие сердцу Хозяина, конечно, будут первыми в его бессмертном завещании и продолжат традиции Казмара, священные для всех нас». Следуя им, по примеру Хозяина, директор Выкоукал экономит дорогое время всех присутствующих и просит доктора Хойзлера взять слово и разъяснить юридические основы наследования. Хорошо, если дамы ознакомятся с ними до опубликования соответствующего нотариального документа. Если бы они обратились к нотариусу сами, по своему почину, они понесли бы лишние расходы. («Лучше уж положить эти денежки в карман Хойзлера», — подумал Розенштам. Он видел, что эта парочка в сговоре.)
Вместо ответа адвокат Хойзлер начал с вопроса, не знает ли кто-нибудь из присутствующих о каком-либо последнем распоряжении умершего. Пусть это будет просто последняя воля, письменно выраженная, или завещание, заверенное у нотариуса.
— Не знаю, — немедленно отзывается Ева, — отец никогда не думал о смерти. И мы тоже, — добавила она, сдерживая слезы.
— Мы просмотрели в правлении переписку покойного, — заявил старый Выкоукал, — и при том идеальном порядке, в котором он ее содержал, невозможно пропустить что бы то ни было.
— На руках у меня ничего нет, — сказала пани Казмарова рассудительно. — Но муж несколько раз говорил о том, что ему хотелось бы оставить виллу мне — это было его пожелание.
Ева удивленно посмотрела на мачеху. Она предполагала, что та, удрученная отцовской смертью, даже и не вспомнит о материальных интересах. А она вон как деятельна…
— Ну, это разумеется, — вмешалась Ева, точно стыдясь за мачеху. — Само собой, вилла твоя. Зачем она мне? В Улах я не живу. А если вздумаю сюда приехать повидаться, так ты же меня не прогонишь, — добавила она, нервно засмеявшись.
Медное лицо директора Выкоукала смотрело неодобрительно. На кой черт ему знать какие-то интимные женские дрязги из-за дома. Интересно, что будет с предприятием.
Адвокат Хойзлер тоже недовольно смотрел жабьими глазами на барышню Казмарову, которая с самого начала внесла беспорядок в юридические понятия; и он попытался объяснить ей, что согласно параграфу такому-то и такому-то закона о наследовании ей как единственному ребенку завещателя причитается три четверти наследства, а мачехе — одна четверть.
Ева едва слушала его.
— Ну так мы с мамочкой разделим все поровну, — заметила она между прочим. — Обо мне не беспокойтесь. Я после отца не хочу получить ни гроша.
Все посмотрели на нее.
— Я пришла сюда только для того, чтобы заявить об этом, — добавила она, вспыхнув до ушей.
— А тебе как бы хотелось? — отчужденно начала пани Казмарова, которой кое-что в этом деле не нравилось. Но доктор Хойзлер перебил ее.
— То есть денег в собственном смысле слова, — произнес он с деликатной усмешкой, — даже и не существует. Разве какая-нибудь сотня тысяч на текущие расходы, так они ничего не значат. Речь идет о недвижимом имуществе и об акциях. Ведь вам, надеюсь, известно, доктор, что «Яфета» — акционерная компания.
— Да, — нерешительно, как школьница, ответила Ева. Она и понятия об этом не имела. Никогда в жизни ее это не интересовало. — Деньги или акции, — рассуждала она вслух, — не все ли равно в конце концов. Отдайте мои акции рабочим, вот и все.
Выкоукалы, отец и сын, переглянулись. Старик прикинулся рассерженным, молодой сочувственно улыбнулся. Доктор Хойзлер подпер подбородок рукой, поставил локоть на колено и наклонился к барышне Казмаровой.
— Каким рабочим? — спросил он с той заботливостью, какую мы проявляем в разговоре с тупыми людьми. — Это — вы извините меня — понятие туманное. Будьте так любезны, объясните нам поточнее.
Ева вспыхнула. Она почувствовала, что кажется им очень глупой, и это ее рассердило.
— Тем, кто здесь работает, — ответила она немного раздраженно. — По-моему, это ясно. Я здесь не работаю и никогда не работала, так почему же я должна что-то получить отсюда?
Дело принимало опасный оборот.
— Но позволь, — вмешалась мачеха, — если ты так думаешь…
— Да, именно так, — подтвердила маленькая барышня Казмарова в очках. — Я давно все обдумала. Не сочтите это каким-то минутным капризом. Доктор Розенштам, помните, как я вам однажды сказала — это было как раз Первого мая, — что я знаю, как поступить, если отец вдруг умрет? Я думала именно об этом.
Врач уже не помнил. Наследная принцесса всегда помнила лучше то, что они говорили друг другу. Но он подтвердил ее слова — хотя бы из вежливости.
— Вы коммунистка? — спросил ее главный директор Выкоукал таким тоном, в котором уже заранее звучало «да», и глаза у него потемнели от злости.
— Я не состою ни в какой политической партии, — ответила она. — У меня нет к этому склонности. Понимаете, бывать на собраниях, и прочее… я, наверное, не стала бы их посещать. Но такое решение мне подсказывает здравый смысл. Не понимаю, чему вы так удивляетесь. Если рабочие работают здесь, почему им не могут принадлежать и акции?
— Мы здесь тоже работаем, — произнес Выкоукал почти скорбно. — И, вероятно, больше, чем они. После гудка рабочий останавливает мотор, и поминай как звали. А у нас голова полна забот круглые сутки. Мы сидим здесь до ночи, наши семьи нас вообще не видят.
Его сын Карел равнодушно смотрел перед собой.
— Это и я скажу, — вмешалась пани Казмарова. — Папочка надрывался здесь в тысячу раз больше, чем самый последний рабочий, это правда. — И она расплакалась. — Вот бы ты его обрадовала, нечего сказать.
Барышня Казмарова холодно посмотрела на нее.
— Но я его и не упрекаю ни одним словом, — сказала она только.
Она не станет вспоминать ни о Горынеке, которого дочь возит в коляске, ни об убитом Аморте. Все равно никто не признает его вины. Казмар — ее отец, а мертвых поминают только добром. К чему разбираться в чужих грехах и брать на душу то, чего мы не делали?
— Знаете, дамы, мы, конечно, столкуемся, — миролюбиво произнес директор Выкоукал. — Вы, доктор, в будущем не захотите возиться с заводами, у вас другие интересы, я понимаю. Решить все это ровным счетом ничего не стоит. Доктор Хойзлер как юрист поддержит меня. Мы покупаем у вас эти акции — пани Казмарова, доктор Розенштам, вы ведь ему доверяете…
Розенштам иронически поднял брови на треугольном лице.
— Я предпочел бы наличные деньги, а не бумаги, — бросил он.
— …доктор Хойзлер, мой сын, я, безусловно, любой из акционеров, а вы с этими деньгами можете сделать все, что вам угодно. Это уж ваше дело. Убытка вы не потерпите, мы, разумеется, уплатим за бумаги не по нарицательной стоимости, а по курсу дня.
Хойзлер дружески наклонил к ней голову.
— Если вы опасаетесь пошлин на наследство, у меня есть знакомый советник в налоговом управлении. Мы подадим просьбу в Министерство финансов — нам разрешат уплатить пошлины в рассрочку.
Ева пришла в смятение. До сих пор она никогда не слышала ни о каких пошлинах на наследство и «нарицательные» знает только в грамматике. Она видела, что ее втягивают в какие-то сложные дела, в которых она ничего не смыслит и которые ей неприятны, и она волей-неволей все больше в них запутывается.
Совершенно убитая, она продолжала говорить:
— Зачем я стану продавать акции, если я хочу их подарить? И почему я не имею права дарить их кому захочу, если вы сами говорите, что они мои?
— Да потому, милая барышня, — произнес доктор Хойзлер с тонкой победоносной улыбкой, точно восхищаясь ловкостью, с которой состряпано дельце, — что бумаги именные. Вам понятно, что это значит?
— Нет, — упрямо твердила Ева. Она вообще больше не стыдится своего невежества.
— В данном случае это означает, — стал объяснять ей адвокат, — что акции не могут свободно переходить из рук в руки, как прочие ценные бумаги, продаваемые и покупаемые на бирже. Акции записаны на фамилии семейств, основавших «Яфету», и только с согласия общего собрания всех акционеров они могут быть переписаны на лиц с другой фамилией. Сам покойник выбрал такую юридическую форму, и надо сказать, поступил очень остроумно.
— В противном случае, к нам проникли бы ненадежные элементы, — добавил директор Выкоукал, глаза которого все больше и больше темнели, — надо быть сумасшедшим, чтобы допустить это. Все сейчас же пойдет прахом! Хозяин в гробу перевернется.
— Так вот как обстоит дело, — вздохнула Ева. — Благодарю вас, господа. Я все обдумаю и завтра скажу вам.
Она пригласила Розенштама, старого друга, посоветоваться. Врач за те годы, что они знакомы, доставил барышне Казмаровой немало горьких минут своей иронией. Несмотря на это, он — единственный человек, которому она доверяла в улецком штабе.
— Итак, Донья Кихота, — обратился он к ней, — вы бились отважно, с открытым забралом. Никто так не смеет нападать на этих старых лицемеров! Вы сразу опрокинули все их расчеты. Почему же вы раньше не посоветовались со мной?
— Я знаю, что я очень бестолкова!..
— Вы очень хорошо выглядите, — сказал Розенштам, переменив тему разговора, чтобы ободрить Еву. Мучительная рана ее несчастной любви за годы жизни в Праге зажила, и он смело может говорить с барышней Казмаровой. — Вам идет черный цвет. Я вовсе не хочу сказать этим, что мне приятно видеть вас в трауре. Хозяин не имел права устраивать нам такие сюрпризы. Я, как мальчишка, рыдал над ним. Но он был не из тех, кто умирает на своей постели, не правда ли?
— Если бы не было Аморта, — прошептала Ева. — Если бы разбился только отец, это, по крайней мере, было бы горе, ничем не омраченное.
— Понимаю. Но в этом разбираться не стоит. Этим никому не поможешь. Большинство летчиков умирает тоже не своей смертью. Знаете, мне кажется, — задумчиво произнес Розенштам (он сидел лицом к свету, и Еве при взгляде на него пришло в голову: «А ведь он старик!»), — мне кажется, что с Хозяином кончилась целая эра.
— Нет, не кончилась, — перебила его Ева, — вы сегодня могли видеть, что ее продолжают.
— Ну, они просто лишь грубы, а он был силен.
— Так что же вы посоветуете?
— Чтобы вы никак не следовали моим советам, — повернул он разговор чисто по-розенштамовски. — То есть я постараюсь как можно скорее продать свои акции.
— А почему?
— Так. Я когда-нибудь это вам скажу, — вскользь заметил Розенштам и принялся горячо уговаривать барышню Казмарову ни за что не выпускать акций из своих рук. Не сдавать позиций. Ведь барышня Казмарова как владелица стольких акций может иметь большое влияние на управление предприятиями. И если Розенштам не уверен, что ей удастся провести какие-нибудь потрясающие мир реформы, то она может хотя бы помешать кое-чему плохому.
— Ни за что на свете, — заупрямилась Ева, — как можно дальше от всего этого. Мне противно, я ничего не понимаю в делах и не хочу ими заниматься.
— Это очень удобная точка зрения, — заметил Розенштам.
— Все равно в совете они меня перекричат. И надуют. Я это понимаю.
— Не бойтесь, — успокоил ее Розенштам. — Если вы им продадите все свои акции, они тоже вас надуют. Вы разве не обратили внимания, как подыгрывают друг другу Выкоукал и Хойзлер?
— Кое-чего я все-таки добьюсь, — говорит Ева. — Я уже все разделила: треть Горынеку, треть жене Аморта (надеюсь, что она примет) и треть на ясли.
— Так, — заметил Розенштам. — А если вы решили все это заранее, зачем вы советуетесь?
Ева впервые после смерти отца засмеялась.
— Девочка, — сердечно повторил Розенштам, — повторяю вам: помните о себе. Не будьте блаженной. Жалованье у учителей тощее. Помните о черном дне! Нас ждут тяжелые времена, деньги вам пригодятся. Положитесь на меня, у меня хорошее еврейское чутье.
— Слышать не могу, когда вы так противно говорите о себе, — запротестовала барышня Казмарова. — У вас, в Улах, что-нибудь случилось? Почему вы мне ничего не скажете?
— Пока ничего.
— А война, — неуверенно старается убедить себя Ева Казмарова, — войны, вероятно, не будет?
— На этой неделе не будет наверняка, — серьезно ответил Розенштам и погладил Еву по голове. — Евочка, завидую вам и вашим детским мыслям, — сказал он.
СТОЯЛО УДИВИТЕЛЬНОЕ ЛЕТО
— Что ты там поешь, Митя? — спросила Нелла Гамзова из соседней комнаты.
Стоял жаркий день, какие бывают в начале июня, все окна были открыты настежь. У Еленки в приемной сидели пациенты, и Митя остался на попечении Неллы.
Он прибежал к бабушке, стал перед ней и запел:
Стоят часовые На чешской границе, И Адольфу Гитлеру К нам не пробиться…Он пел во все горло задорным детским голоском, и Нелла засмеялась:
— Откуда ты это взял, Митя?
— У старичка на углу. Сколько денег ему давали! А потом пришел полицейский и увел его. Это мы с мальчиками так поем, — одним духом выпалил Митя и, налегая еще задорней на уличный мотив, продолжал бросать бесстрашные вызовы Адольфу Гитлеру, пока не завершил их словами:
Мы тебя ударим в лоб, Поскорей загоним в гроб, Сочиняй там свой приказ, Не достанешь ты до нас!..Тут произошло нечто ужасное, неописуемое. В коридор между обеими квартирами из Еленкиной приемной выскочил пациент и поднял крик. Нелла Гамзова сначала подумала, что это какой-то помешанный.
— Это провокация! — кричал тот по-немецки. — Так вот чему вы учите своих детей! Я никому не позволю поносить Адольфа Гитлера!
Митя мигом оказался в коридоре, — что там такое? За ним прибежала перепуганная Нелла; отстранив мальчика, она загородила его своим телом, чтобы этот человек не обидел ее внука. На шум вышла Елена в белом докторском халате.
— Для нас он не фюрер, — спокойно возразила она, — мы живем в Чехословацкой республике. Пожалуйста, — Еленка показала взбешенному пациенту на приемную, откуда уже выглядывали любопытные лица. — Погуляй с Митей, мама, — шепнула она тихонько матери, проходя мимо нее. Но Митя стоял как вкопанный. Не желал тронуться с места и разъяренный пациент.
— Не позволю! — вопил он. — Безобразие! Полиция запретила эту песню!
Вышел из своего кабинета и Гамза. Он взял большой рукой Митю за ручку, и мальчуган вцепился в нее, как клещами. Все-таки он только ребенок, и ему стало страшно. Но он ни за что не хотел уступить поля боя, показать себя трусливым, как заяц.
— Мой внук в моей квартире будет петь, что ему вздумается, — решительно произнес Гамза. — Он дома. Какое вы имеете право распоряжаться здесь? Откуда вы взялись?
— Вам-то какое дело! Вы меня еще попомните! — завопил человек вне себя от ярости, вернулся в приемную за шляпой и ушел.
— Иди, иди, жалуйся, — неласково проводила его вся приемная. — Тебя никто не держит. Убирайся в свой хайм![51]
Митя не выпускал руку Гамзы. Молодчина дедушка! Пришел на подмогу. Митя был в восторге.
— Дедушка, — воскликнул он задорно, — если будет война, мы победим?
Но на этот раз дед не улыбнулся, как всегда, своему любимцу. Он серьезно посмотрел на него.
— Мы победим, — сказал он, — потому что мы правы. Мы не хотим ничего чужого, но и своего никому не отдадим. Но одними песенками, Митя, ничего не добьешься. Победа дается с большим трудом. Мы должны быть, Митя, очень стойкими и преданными.
Митя, — ведь он еще был маленький, — смотрит снизу вверх на подбородок высокого дедушки и все мотает себе на ус.
— А у немцев жестяные танки, — отзывается он через минуту.
— Нет, — безжалостно возражает Митин папа. Он только что вернулся с завода и моет руки. — У них все из настоящего материала. Они вооружены до зубов. Я не понимаю, — обращается он к взрослым, — откуда берутся такие дурацкие слухи? Запомни, Митя: хороший солдат никогда не преуменьшает силы своего врага. Ты понимаешь меня, надеюсь?
— Да оставь ты его в покое, — тихо, но неприязненно заметила Нелла. Ее удивляло, как это молодые родители могут разрушать тот сказочный мир, в котором живет ребенок.
— Да, — кивает Митя разочарованно. Половины он не понял, но отлично почувствовал, что взрослые всегда портят всякое удовольствие. Чехословакия — Германия — это как «Спартак» — «Славия», спортивные клубы, а Митя болел за Чехословакию. Он нисколько не боялся, что ее обидят немцы. Но он очень опасался позорного поражения. Он тяжело вздыхал от всех этих забот. И сейчас же утешился.
— А у нас танки еще лучше, чем у немцев, и нам на помощь придут красноармейцы, и французы, и англичане, — объявил он громогласно и помчался куда-то, только пятки засверкали.
Он носится повсюду что есть духу, вытаращив глазенки, чтобы ничего не упустить из того, что должен видеть каждый порядочный мальчик: как гонят коней во время майской мобилизации, как проходят солдаты и едет тяжелая артиллерия, пулеметы и танки. Митя разбирается в оружии куда лучше, чем бабушка. Он спрашивает у нее, какая разница между автоматом и пулеметом, а она всегда все путает. Из-за этого Митя стал так непочтителен к бабушке, что мама должна была даже однажды прикрикнуть на него. Потом маршировали «сокольские» отряды и «братья славяне». Смотреть на них Митя отправился с Барборкой. Он вернулся совершенно осипший от приветственных возгласов.
В конце учебного года, который нынче несколько сокращен по случаю всеобщего слета «соколов», секретарь сообщил барышне Казмаровой, что ее спрашивает какой-то господин. Он ждет ее в приемной. Родители гимназисток недостаточно внимательны. Классная воспитательница Казмарова принимает посетителей по пятницам с девяти до десяти. Они могут прочесть это в расписании, вывешенном около учительской, а в перемены она просила бы оставить ее в покое. Покой ей и в самом деле необходим. Смерть отца подействовала на нее удручающе. И гнетущая политическая обстановка также не прибавляет желания жить. Отложив завтрак, Ева взяла записную книжку и вышла к посетителю.
Мнимый отец какой-то пятиклассницы поспешил ей навстречу и, улыбнувшись, превратился из седого незнакомца в Розенштама. Ей снова пришло в голову, что он постарел. Но он, как всегда, подтянут. Его подвижное смуглое лицо, строгий английский костюм резко отличаются от торжественно спокойного Яна Амоса Коменского в шапочке, портрет которого висит на выбеленной стене приемной. Как это не похоже на Розенштама — прийти к Еве в школу! За все годы, что она преподает, он никогда этого не делал.
— Как вы здесь очутились?
— Не мог удержаться, чтобы не прийти проститься с барышней Казмаровой перед отъездом из Европы, — ответил он, и морщинки в углах глаз заиграли от сдержанной улыбки. Он направляется в Сидней.
Ева была поражена.
— Что это вам вздумалось? С Выкоукалом не поладили?
Упаси боже! Расстались самыми лучшими друзьями. Выкоукал доволен, что избавился в совете правления от Розенштама, и купил у него все акции.
— Каким чудом вы вспомнили обо мне?
Розенштам посмотрел в противоположный угол, где математичка Грубая терзала какую-то и без того опечаленную мамашу, и вместо ответа обратился к Еве с просьбой. Днем у него много всяких дел перед отъездом. Но не пойдет ли Ева вечером послушать вместе с ним «Мою родину» на прощанье? Это доставит ему истинное удовольствие. Билеты уже есть. У Розенштама всегда на все были билеты.
Немного взволнованная, Ева села рядом с Розенштамом, и пока собиралась публика, пока люди развертывали программы и настраивались скрипки, в предконцертном шелесте и шуме ей представился другой зал, не так ярко освещенный, как этот, не так роскошно отделанный — переполненное помещение Городского клуба, женщины в беретах, натянутых на уши, и мужчины, которые едят бутерброды с колбасой прямо с бумажки.
— Розенштам, вы помните, где мы сидели в последний раз вот так же вместе?
У Розенштама память насчет совместных похождений короче, чем у Евы Казмаровой. Но на этот раз он вспомнил.
— В драховском Городском клубе. Выступал Гамза. Идиллические времена!
Ева наклонила к нему голову и хотела о чем-то спросить; но дирижер поднял свою палочку, и они умолкли — стали слушать, как арфы возводят замок. Бесшумно растут и тянутся ввысь его стены, но это не реальность, а видение. Они слушали, и им казалось, что эта музыка существует испокон века, она звучала раньше, чем появился на свет композитор; он только первый услышал и открыл ее нам; все плотины на Влтаве играют мелодии Сметаны. Не убегай, прекрасная река! Розенштам не стремится к морю. Ему так полюбились пресные воды приветливой Чехии! Еще немного, и она станет для него потерянным раем. Они слушали оба — барышня Казмарова, которой не повезло в любви, и бывший насмешник Розенштам. К чему пустые слова? Музыка лучше расскажет обо всем. О том, как тоскует околдованная душа в человеческом теле — душа эта — чудесная свирель Шарки![52] Плененная дева, ведь у тебя разорвется сердце! Разве важно, под каким именем мы значимся в полицейской повестке? Зачем рассматривать друг друга в профиль? Музыка сломала преграды жалкого «я» — застенчивость Евы и иронию Розенштама; все мелкие свойства личности, все малодушное уносит музыка, и они вновь стали невинными и цельными, как в первый день творения. Скромная барышня Казмарова подняла голову и набрала в легкие воздух для глубокого вздоха. Как распрямляет человека музыка, та музыка, под которую мы шагаем, как божьи воины Жижки.[53] У насмешника в глазах стояли слезы.
— Тяжело, — глухо сказал он, когда они вышли, еще разгоряченные музыкой, в прохладную темноту, — тяжело мне будет расстаться с этой прекрасной страной.
— Почему же вы уезжаете? — тихо начала Ева. — Впрочем, если вам неприятно, не будем говорить об этом.
— Ева, и вы еще спрашиваете? Я — еврей.
— Ну так что же? — воскликнула барышня Казмарова. — Разве мы в Германии?
— Пока нет, — ответил Розенштам, — пока нет…
У барышни Казмаровой захватило дух. Но только на миг. Когда она вдумалась в его ответ, ей все стало ясно. И так грустно, так ужасающе грустно было жалеть Розенштама, на суд которого она отдала себя когда-то.
«Бедняга, — подумала она с состраданием, — у страха глаза велики».
Станислав и Нелла сидели на трибуне страговского стадиона с двумя юными каталонцами, гостями Гамзы, и смотрели на вольные движения «соколов».
Вопреки всему Станислав был счастлив. Он отослал вчера издателю гранки своих «Пражских новелл». Книга выйдет осенью, в самое лучшее время года, когда день становится короче и люди от солнца возвращаются к абажурам и книгам. Боже, Станя не мог поверить этому счастью! Скорей бы уж осень. Еще только конец июля. Станя не дождется! Когда он после некоторого перерыва перечитал новеллы в наборе как работу постороннего человека, они показались ему лучше, чем в исчерканной рукописи, которую он слишком уж много правил. Цикл открывался новеллой, рисующей раннее утро, когда на улице видны расклейщик афиш и разносчица газет, затем шли новеллы о жизни Праги в дневные часы; Станя показывал характерные фигуры, в которых воплощается дух различных пражских кварталов.
В пространство, опоясанное живым кольцом зрителей, влились несчетные тысячи людей; они разошлись по полю и заполнили весь стадион. Разница в общественном положении осталась в раздевалках, все стояли в классических костюмах гимнастов, солнце освещало обнаженные руки и головы. Спортсмены одинаковы — один точь-в-точь как другой, словно две капли воды, все равны меж собою. В рядах пылающих восторгом зрителей сидят и стоят их отцы и матери, жены, дети, братья, родственники, земляки. Каждый ищет глазами своих. Но тщетно! Их не найти. Они неразличимы, как колосья в поле пшеницы. Расстояние уничтожило индивидуальные черты, частные заботы, хлопоты, любовь, честолюбие, печали — все тонет в массе. Тут нет ни Вацлава Бечки, подмастерья столяра из Кралуп, ни доктора Нейвирта из министерства иностранных дел, ни Иожки Невыела, крестьянина с Ганы, ни шахтера Штепана Голодовка из Орловой — есть только гигантское тело, точное, как машина, подвижное, как рысь, сильное, как античное божество. От взмаха рук по стадиону шелестит ветер; гимнасты делают поворот — и ярче сверкает солнце, отраженное белыми трико; они раскинули руки — через их барьер никто не пройдет. «Войско мира, — пришло в голову Станиславу, — идеальная нация». Как чудесно стоять в этой громаде рядов! И как все истинно прекрасное, зрелище встает перед вашими глазами с такой убедительностью, что никто не помнит ни о напряжении мышц, которое понадобилось употребить каждой светло-голубой черточке живой схемы, ни о труде, затраченном на выучку, ни о том, как сложно было собрать всех сюда, ни о головоломной трудности выступлений на стадионе. Гимнасты и зрители — те и другие на своем месте и гипнотизируют друг друга. И без того обстановка на празднике Гуса в этом году приподнятая, но массы людей еще больше наэлектризовываются. Мы едины в своем сопротивлении. Мы не сдались и не сдадимся. И поэтому мы все-таки собрались на наш слет.
Теперь выступают женщины: линии мягче, движения, наклоны и повороты напоминают танец. Они выполняют упражнения с булавами и платочками; а потом бесчисленные колонны мужчин и женщин начинают ритмично наступать друг на друга, ряды их переплетаются, они будто ткут ковер жизни. Нелле казалось, — она, пожалуй, постыдилась бы об этом сказать вслух так вычурно, — что это похоже на богослужение. Она сидит рядом с любимым сыном, который едва не погиб (но теперь все в порядке, мать это знает), и, сложив руки на коленях, смотрит восторженно, и бог весть почему при виде этой массы людей на глазах у нее навертываются слезы. На слете играет музыка, яркое голубое небо встает над трехцветными развевающимися знаменами и над стадионом, увенчанным кольцом зрителей. От такой красоты бросало в жар. Зрители хорошо чувствовали, что наступает наивысший миг, что все, пожалуй, даже слишком красиво… и вдруг где-то вдали будто затрещал мотоцикл. О нет, это застрекотал самолет в ясном небе над головой у Неллы. Она подняла глаза — эскадрилья самолетов блестела высоко в воздухе; они кружились над стадионом. Неллу охватило глупое блаженство — она почувствовала себя легкой, готовой взлететь ввысь. Кто-то притронулся к ее рукаву.
— Это ничего? — спросила юная каталонка, с робкой улыбкой показывая вверх на самолеты. Она схватила дорожную сумку и хотела встать.
Нелла удержала ее за руку.
— Это наши, — успокоил девушку Станислав. — Опасности нет.
Но девушка все еще беспокойно оглядывалась на окружающих, точно друзья казались ей слишком легкомысленными.
— И мы в самом деле можем остаться здесь? — допытывалась она.
Только после того как ее спутник на родном языке ласково поговорил с ней, она успокоилась и села.
Мать и сын пришли в себя от наваждения, и слет их уже не радовал. Красота, за которой кроется угроза. Подаренная минута. Они оба хорошо это знали.
Стане вздумалось посмотреть на зрителей на противоположной стороне стадиона. Их насыпано там, как маку. Они похожи на пестрые крупинки на шоколадных плитках, которые ему дарили в детстве. Все слилось в серо-коричневую ткань с разноцветными узелками — так малы люди. Если бы кто-нибудь начал стрелять по ним из пулемета, пришло в голову Стане, то он даже не увидел бы, кого убивает. Уже отсюда почти нельзя различить, что это люди. Так о какой жалости может быть речь! А с самолета мир кажется пустым, без единой живой души. Современная война ведется издалека. Человек не пачкает руки в крови. Он убивает по расчетам, на далеком расстоянии. Но стрелять в чучела, проходя военное обучение в армии, было мучительно. Стане от этого делалось жутко. Чучело из папье-маше до ужаса походило на настоящего человека.
«Если я погибну, выполнив свою работу, — вдруг подумал Станя с удивительным спокойствием и облегчением человека, закончившего свои дела, — после меня кое-что останется. Счастье, что я дописал «Пражские новеллы». Буду я жив или нет, они выйдут осенью (и Власта увидит, что я тоже кое на что способен)».
На следующий день пани Гамзова с молодой каталонкой отправились в один из пражских магазинов Казмара заказать походные постели, марлю и гигроскопическую вату. Республиканцы так нуждаются в перевязочном материале! «Яфета», как обычно, сообщала миру изображениями и словами соответствующие моменту указания и советы.
Над стеклянным домом бежали светящиеся буквы:
Осторожность — мать мудрости. Вы хотите заснуть вечером спокойно?
Купите противогаз «Яфета».
Всем безукоризненно впору противогаз «Яфета».
Имеет совершенный фильтр — противогаз «Яфета».
Легко дышать — в противогазе «Яфета».
Осторожность — мать мудрости! Никто не едет в отпуск без противогаза «Яфета». С рыболовными снастями покупайте противогазовую маску «Яфета». Помните о своих возлюбленных! На складе маски всех размеров.
Мамочка, купи мне ко дню получения аттестата противогаз «Яфета»!
Абсолютная безопасность! Простое обращение! «Казмар — Маски — «Яфета»!
Даже Лидка Гаекова не устояла против рекламы: она одела Штепанека и, так же как когда-то покупала ему беретик, пошла в улецкий универмаг купить ему противогаз. Они долго выбирали, пока напали на то, что нужно, — у Штепанека была еще маленькая головка. Воинственным жестом мальчик перекинул сумку с маской через плечо, очень гордый тем, что он — как большие. Вернувшись с мамой домой, он ничего не сказал и на минуту исчез.
Лидка сидела за шитьем. Штепанек подкрался к ней на цыпочках: он любил пугать мамочку. Она, как всегда, сделала вид, что не слышит. Только когда скрипнула половица у самого стола, Лидка подняла голову и вскрикнула. Это была не игра, на этот раз она непритворно перепугалась. Перед ней вместо ребенка стоял небольшой слоненок с чудовищным хоботом и квадратными глазами, как у отвратительного насекомого; только башмачки у него были, как у Штепанека.
«Если мы позволим Франко сбрасывать бомбы на испанских детей, — завтра бомбы посыплются на твоего Штепанека», — прозвучал у нее в ушах молодой басок, и от страха она набросилась на ребенка:
— Сними сейчас же! Слышишь? Видеть тебя не хочу в этой штуке. Еще сломаешь что-нибудь.
Стояло удивительное лето, боже, какое это было удивительное лето! Люди узнавали из газет и по радио все что угодно, только не то, что их интересовало. Они могли услыхать, что Ганди опять объявил голодовку, что Пикар вылетел в стратосферу, что японцы изобрели «живую торпеду» — человека, который взрывается и взлетает на воздух вместе с пароходом, и тому подобные новости. Но о единственно важном — будет ли война, о своей судьбе — они не знали решительно ничего и только гадали. Немец хоть и испугался нас, но дело все-таки неладно.[54] Ни Лидка Гаекова в Улах, ни Барборка у Гамзы в Праге не занимались международной политикой. Но они хорошо ее чувствовали.
О том, что нечто готовится, можно было догадаться хотя бы по тому, что Барборка, Нелла, Митя, Лидка, Штепанек сделались населением. Пока ничего не происходило, они были просто жильцы в разных квартирах, у каждого на чердаке валялось что попало, и никакие пожарные не стали бы преследовать Лидку Гаекову за то, что она посмела бросить на чердак волосяной матрасик из старой колясочки Штепанека, никто не предписывал бы Барборке класть перед дверью мешочек с песком и тому подобные глупости. Это нас не спасет! Барборка выказывала полнейшее неуважение к этим приказам и раздражала Неллу своим упрямством, зажигая газ и включая свет именно во время пробных затемнений. Точно летом день недостаточно долог, точно она не может разогреть суп пораньше! В конце концов наверх пришел полицейский и пригрозил штрафом. Следили бы лучше за немцами, — дело было бы вернее! Вон в Хебе генлейновцы хотели взорвать школу, принадлежащую Чешской матице.[55] Барборка знает об этом от зятя, который сообщил ей, что там нашли адскую машину. Зять торговал в табачной лавчонке в Хебе, и немцы выбили у него все стекла. Вы думаете, им за это попало? Ничуть! Так-таки ничего и не было. Когда мальчишки в белых чулках, с этими свистульками, безобразничали в Хебе, плевали на наших жандармов, те и пальцем не шевельнули, будто так и надо. Как же это возможно? Скажите, как же это возможно? Нет чтобы Генлейну по рукам дать, они еще его и под свою охрану взяли, когда тот перед выборами ездил агитировать. Впереди — машина с жандармами, позади — машина с жандармами, между ними — его ординарцы, то-то он покатался! Лает на республику, а люди только руками разводят: что случилось, почему полиция и не думает заткнуть ему глотку, а преследует население? Да, дело что-то неладно.
На протяжении лета — никто не знает даже, когда и как это случилось, — мы вдруг оказались виноватыми во всем. Точно республика была классом недорослей, нас наставляли все, кому не лень. Адольф Гитлер, пугало класса, взбесившийся учитель, от воплей которого дребезжали оконные стекла и трепетали ученики, давал нам уроки истории и географии и ставил отметки за поведение. Глинковские гардисты[56] получали пятерку, а Чехия и Моравия — по единице, и наше поведение то и дело обсуждалось на конференциях. Профессор французского языка не знал, что с нами делать. Он нерешительно потирал руки жестом Пилата и твердил одно и то же: «Soyez sages, voyons! Soyez sages!» — «Ведите себя прилично и благоразумно!» Инспектор Ренсимен,[57] лорд-наблюдатель, тоже был недоволен результатами. Нас усадили на последнюю скамейку, политиканы издевались над нашим самолюбием, и мы никогда не знали — а вдруг мы опять в чем-нибудь проштрафимся! Как ужасно было чувствовать себя виноватым неизвестно в чем, напрасно ломать голову в догадках о своем преступлении. Гитлер утверждал, что на нашей территории — советские аэродромы, хотя никогда у нас не было ни единого. Гитлер вопил, что мы притесняем немцев — а ведь в парламенте у них были свои депутаты, как и у нас; если они не ходили туда, то опять же виноватыми оказывались мы. В каждом местечке на территории со смешанным населением у них были свои школы, в чешской Праге — немецкий университет и немецкий театр, и все-таки мы их якобы притесняли. Мы должны были отвечать за все. Мы были виноваты в том, что не проявили достаточной благодарности, когда в мае фюрер хотел осчастливить Чехословакию своей оккупацией — чехи испокон веку были неотесанны — и выслали навстречу ему не депутацию с цветами, а солдат с пулеметами. Весной англичане нас поддерживали, летом они уже сожалели об этом! У Гитлера был сильный воздушный флот; его ненависть к Советскому Союзу показалась им все же каким ни на есть ручательством за доброе старое время. Все банки уведомляли, что они предпочитают видеть на небе Европы свастику, а не восходящую с востока звезду. Конрад Генлейн, дескать, симпатичный малый, и если мы возьмемся за ум, мы с ним безусловно поладим, заявил председатель разъевшейся аграрной партии,[58] а главный директор «Яфеты» Выкоукал, как известно, немедленно ему стал подтягивать. Чем богаче человек, тем терпимее он к Гитлеру.
Главное дело — не раздражать его. Ходите на цыпочках, авось он посмотрит сквозь пальцы на наше житье-бытье. Авось простит, что мы появились на свет. Только чтобы никаких инцидентов, слышите? Только никаких инцидентов! Тревожное время всегда называется каким-нибудь иностранным словом. Время, когда у нас не было работы и мы ничего не могли купить, называлось кризисом. Теперь, когда мы ежеминутно ждем, что нас призовут к оружию, нам угрожают инцидентами. Говоря попросту, это означает драку с немцами. Однако слово инцидент пахнет высокой политикой, и в этом-то заключается его ужас. Это слово шло из кругов, где обмениваются потами на французском языке и где решают вопросы войны и мира. Фюрер объявил, что он не потерпит, если хоть один волосок упадет с головы судетского немца, — значит, осторожность, или дело кончится плохо. Если ты схватишь за руку немца, который поджигает крышу над твоей головой, — это инцидент, и помни, Вашек, на твоей совести мировая война. В радиоприемнике спрятался буйный помешанный: он не говорит, а орет во всю глотку, даже удивительно, как аппарат выдерживает, он так кипятится и брызжет слюной, что волшебный ящичек моргает светящимся глазом; этот сумасшедший страдает манией величия; он ежеминутно совещается с любимым немецким господом богом, и только попробуйте ему возразить, он немедленно снимет телефонную трубку и отдаст приказ стереть Прагу с лица земли. Однако о нависшей угрозе нельзя говорить вслух, пусть население сохраняет спокойствие и порядок.
Но давать такие советы могут те, кто сам не сталкивался с немцами. Лидка Гаекова ездила в воскресенье к своей тетке за салом — она запасалась, как и все. Сын тетки, письмоносец в соседнем полунемецком городке, лежал в постели. Он вывихнул ногу, когда выскакивал из почты через окно, спасаясь от немцев. Генлейновцы ворвались на почту, сбили у него с головы форменную фуражку, схватили заведующего и принялись его раздевать, даже собирались выжечь сигаретой свастику у него на спине. Лидкин двоюродный брат оставил у них в руках свою куртку и выпрыгнул из окна, а потом кое-как доковылял до казарм. Теперь почта уже освобождена, ее охраняют солдаты, завтра он пойдет на работу. «Не ходи, — уговаривала его Лидка, — убьют». Но письмоносец сказал, что это его долг, он давал присягу. Мужчины хотя и приготовились к самому ужасному, но все же вполне уверены, что Чехословакия выиграет дело. Если дойдет до столкновения, за нас и французы — у нас с ними договор, и русские, и англичане. Нам поможет Красная Армия, но, понятно, сперва мы сами должны не ударить в грязь лицом! Молчите, ведь пока ничего не случилось! Очень печально, если в конце концов не сумеют договориться. Все, кто имел дело с литомержицкими немцами и видел, как они ухаживают за своими садиками, считали их такими порядочными, трудолюбивыми людьми! Или взять этих шумавских дядюшек с трубками, — мы ведь с ними столько раз сплавляли лес! А теперь в них точно бес вселился.
Боже, какое это было удивительное лето! Свидетели прежних войн высматривали, скоро ли на небе появится комета. Показалась же перед первой мировой войной комета Галлея! Старики толковали об этом между собой, Ева Казмарова сама не раз слышала. (Отпуск она проводила в деревне, где жители подрабатывали низкой бус, — и не захотела ехать в Улы.) И как-то, возвращаясь домой затемно, она вдруг увидела, как небо прочертил яркий зеленый метеор. Если задумать желание, когда падает звезда, оно исполнится. «Чтоб не было войны!» — загадала Ева. А метеор остановился в воздухе, повернул и поплыл Крошечной зеленой звездочкой по направлению к столице. Он летел так высоко, что не было слышно гудения мотора. «Совсем с ума сошла! — подумала Ева. — Не узнала самолета».
Ро Хойзлерова вернулась с моря, чтобы провести конец лета в нехлебской вилле, и иногда с мужем ездила на паккарде в горы; там, на крутых поворотах шоссе, им то и дело попадались навстречу военные грузовики. Дозревала рябина; в горах было полно солдат. Они что-то вымеривали с помощью веревок и реек; Ро видела, как они поят лошадей, моются до пояса сами, что-то варят в котелках, спят, подложив руки под голову. Они кричали вслед автомобилю что-то насмешливо-веселое; красивая дама высовывалась из машины и махала им перчаткой: «Хорошенько нас охраняйте, солдатики! Нас и паши виллы!» Она выискивала глазами офицеров помоложе. Армия создает такую волнительную для женщины атмосферу. В Нехлебах у Ро нынче было веселее, чем в прошлом году.
Однажды в конце каникул, когда день стал короче и Еленка, у которой кончался отпуск, уже собиралась отвезти Митю в Прагу к папе, в поздний августовский вечер Барборка с таинственным видом вызвала Неллу из-за стола. «Пойдите посмотрите, что там такое».
Нелла пошла.
Они жили в Южной Чехии — снимали небольшой домик. Кухня выходила на север.
— Хотела бы я знать, что это такое? — сказала Барборка, указывая из окна на небо.
Обе женщины высунулись в темень звездной ночи. Пахло соломой, коровами, ботвой — сельскими запахами Чехии. От орешника уже веяло осенним тоскливым запахом. Под сливой, как заведенный, трещал сверчок.
— Видите? Опять, — отозвалась Барборка.
Небо на горизонте осветилось каким-то лихорадочным отблеском, затрепетало и угасло.
— Там ведь Прага, — вполголоса сказала Нелла так, как говорят впотьмах.
— Ну да, — поддакнула Барборка так же тихо.
Они обе смотрели в августовскую ночь, точно ждали ответа от звезд. «Что нас ожидает? — думали обе. — Что принесет нам осень?» Все было неподвижно, только сверчок без устали вел свою песню. И вдруг, вместо ответа, небо опять трескуче затрепетало и осветилось так ярко, что стал виден черный силуэт одинокого дерева на горизонте, раздался грохот, и вокруг все задрожало.
— Прагу бомбят! — воскликнули обе женщины в один голос.
Кто-то позади них засмеялся.
— Барборка, вы-то ведь из деревни? — насмешливо сказала Еленка, подошла к ним и обняла обеих за талию, точно желая рассеять наваждение. — Это же молния!
Обе слегка смутились.
— Все на этом просто помешались, — заметила Барборка.
— Рановато, Барборка. Пока еще не началось.
— Так, значит, ты тоже смотрела? — съязвила Нелла по адресу дочери.
Еленка редко теряла голову, сдерживая всех. Нелла очень полагалась на нее. Но бывают минуты, когда именно спокойствие дочери раздражало впечатлительную мать. Хотя Нелла Гамзова никому ничего не говорила, все эти политические тревоги заставляли ее мучиться страхом за Станю. Она цепенела при мысли, что вот-вот на углах расклеят объявления о мобилизации его года. Она знала женственную натуру сына. Какой из него солдат, если он так похож на Неллу; он писал кровью сердца — как жила всю жизнь Нелла. С покушением на самоубийство обошлось благополучно, он образумился, нашел радость в работе, — неужели ему придется теперь убивать людей и самому подставлять лоб под пули? Нет, это невозможно себе представить. Когда Станя ходил в школу и она утюжила ему праздничную курточку и белоснежный воротничок ко дню 28 октября, сколько раз она говорила себе: «Слава богу, вам лучше живется, чем нам. Вам уже не нужно лицемерить, как нам в школе во время праздников в честь императора, вы растете в более счастливые времена». Более счастливые времена! Какая насмешка! И я могла жить с таким легким сердцем. Теперь ей казалось даже, что она накликала войну тем, что так долго в нее не верила.
РОДИНА
Встречаясь в семье, никогда не говорят: «Я тебя люблю. Ты мне дороже всего на свете. Я не могу без тебя жить», — и тому подобные фразы из романов. Каждый занимается своим делом, все сходятся за столом, говорят об обычных вещах или просто спорят о пустяках. Но если в семье кто-нибудь заболеет, если кому-нибудь плохо, даже самый шумливый и тот ходит на цыпочках и еще в дверях, не успев повесить шапку на гвоздь, спрашивает с замирающим сердцем: «Ну как? Что? Какая температура?» И у него щемит сердце от страха и любви.
Еленка, Тоник, Станислав, Гамза должны были думать о работе — у Гамзы именно сейчас было особенно много дела, помимо адвокатской практики. Но Нелла, если она не была нужна в конторе, сидела дома, не отходя от приемника, который заменял ей пресловутый старинный очаг. Она как бы измеряла температуру тяжело больной родины, считала пульс. Он бился то с лихорадочной быстротой, то еле-еле, нитевидно.
Нас еще не бомбили, а мы чувствовали себя как в осажденном городе, под барабанный бой нюрнбергского радио. Адольф Гитлер запугивал Чехию. Но самое тяжелое было не это. Гораздо страшнее был тон, каким он говорил о республике, словно об уличном сброде, неслыханно нагло отзывался о главе государства. Старушки в Крчи не верили собственным ушам, а ведь любая из них девочкой ходила в немецкую школу и до сих пор не забыла этого «единственно надежного языка». И старушкам в Крчи хотелось узнать, почему люди, встречаясь, спрашивают друг у друга, будет ли война. Они слушали и качали головой. В старой Австрии это было бы невозможно. Конечно, и при императоре люди убивали друг друга, но хоть какие-то приличия соблюдались.
— Он говорит о нас, словно мы не люди, — разрыдалась Лидка Гаекова. Как не расплакаться от такого унижения!
— Не хнычь, — рассердился на нее муж. — Не доставляй ему этого удовольствия. Он только того и добивается.
Муж Лидки был прав, муж всегда прав, на то он и глава семьи. Лидка смотрела на него глазами, полными слез, и сурово, по-деревенски, поджимала губы. Она стискивала кулаки и грозила радиоприемнику, точно человеку.
— Погоди же ты, — твердила она, — это тебе даром не пройдет.
Лидка уже поняла, что Гаеку придется идти в армию. Она выстирала ему белье и напекла пирожков из самой лучшей муки. Но сделала все это незаметно, не говоря ему ни слова, чтобы зря не бередить рану.
Конраду Генлейну, гражданину Чехословацкой республики, собиравшемуся отторгнуть от нее своих соплеменников заодно с территорией, устроили торжественную встречу на съезде нацистов в Нюрнберге. Множество обывателей толпилось перед гостиницей, где он остановился, и приглашало его подойти к окну такими «милыми» стишками:
Lieber Konrad, sei so nett, Zeige dich am Fensterbrett.[59]— Кто его туда пустил? — возмущался Станислав. — Как этого прохвоста до сих пор не арестовали?
— Я бы его к стенке поставил, — говорил Тоник. — В Советском Союзе этакую мразь сумели бы вовремя обезвредить.
— За решетку его надо посадить, — вторила ему Нелла Гамзова. — Но только не смертная казнь… — она закрыла лицо руками, — это ужасно…
— Мы погибнем от собственной гуманности, — иронически заметила Еленка.
Станислав приходил в смятение от всего этого. Родина, конечно, гуманна, но всему есть предел. Что у нас творится? До каких пор мы будем терпеть у себя эту дрянь? Где у правительства глаза? В этом таилась какая-то закавыка, какое-то недомыслие, роковая ошибка. Те, кто никогда не думал о политике, бились теперь над этой мучительной загадкой, как муха о стекло. Почему мы так снисходительны к этим изменникам?
— Министр внутренних дел — аграрник, — коротко уронил Гамза. — Он куда охотнее арестует Готвальда, чем Генлейна.
— Все правые боятся прихода Красной Армии, — сказала Еленка, — а поэтому — «Нация превыше всего» и — давайте онемечиваться.
— Знаешь, как о них говорят у нас на заводе? — вспомнил Тоник. — «Деньги превыше всего».
По Аэровке ходит анекдот. Собралось руководство партии «Нация превыше всего» обсудить — к кому присоединиться. Директор Выкоукал из Ул, крупнейший капиталист, вынул из кармана тысячную бумажку и показал всем присутствующим. «Смотрите, господа, — сказал он. — Если придет Сталин, ее у нас отберут. Если придет Гитлер, она останется у нас. Так за кого же мы?» И все единогласно решили стать на сторону Гитлера.
Но Станислав не очень-то верил в такие низменные побуждения. У отца и Тоника, которые о них говорили, по мнению Стани, сказывалась партийная ограниченность.
— Вы все сводите к экономике, — возражал он. — Разве ты не допускаешь, папа, что и среди правых есть порядочные люди, которые не думают о своем личном обогащении и которым действительно дорога республика, и они стараются ее спасти, как умеют? Не одни же это негодяи. Ведь могут быть также и люди, которые политически ошибаются.
— А сегодня ошибаться нельзя, — взъелся на него Гамза. — Сейчас не время для такой роскоши. — Он встал и сердито заходил по комнате. — Уже на Лейпцигском процессе, — остановился он перед Станей, — нацисты раскрыли свои карты. (Станя беспокойно пересел на другой стул. Отец слишком часто упоминает о Лейпцигском процессе, и Станиславу при этом всегда как-то не по себе, как вообще детям, когда родители повторяют одно и то же.) Еще тогда весь мир убедился, что они обманщики. И консервативные английские газеты писали тогда об этом совершенно открыто. Сегодня же этот старый дурень (он имел в виду Чемберлена) идет у них на поводу. Дай черту ноготок, он потребует с локоток! Это же известные шантажисты.
— Да, — согласился Станя, — но я ведь не утверждаю…
Гамза не стал слушать его дальше, взял шляпу и ушел. Станя — хороший мальчик, жаждет справедливости, но в такое ответственное время до таких ли тонкостей? Простые люди понимали Гамзу куда лучше. В них была цельность. Они верили: случись что — и Красная Армия поможет. Гамзе было легче среди рабочих Колбенки, чем дома. Партийные агитаторы все время были наготове. Приходилось объяснять события, следить, чтобы люди не вешали носа, и раздувать искру сопротивления.
«Папе легко говорить! — думал Станислав. — Когда начнется война, его не заберут в армию. Но все это пусть решают другие, а мне лучше позаботиться о корректуре, пока меня не призвали».
Бог весть в который раз он садился за верстку «Пражских новелл». Сегодня он и глядеть не хотел на то, что писал год назад с таким вдохновением и что так понравилось ему в гранках. Все это милые пустячки, просто срам. Они совершенно бессмысленны. Одна из первых новелл называлась «Освещенные окна». Ну и что ж, что в Праге когда-то освещали окна за белыми занавесками в уютном гнездышке молодоженов, что из того, что влюбленные переживали медовый месяц; разве в спальне у них кричал и хрипел Гитлер из волшебного ящичка? Между двумя поцелуями слышали ли они призывы на помощь, доносившиеся из пограничных районов Чехии? Теперь личной жизни не существовало. Изменились и пражские виды. Днем и ночью над Прагой висит мучительная фата-моргана пограничных гор. Прекрасная Чехия, моя Чехия! Карта детских лет оживала перед глазами: зеленая внутри и темная в гористой части по краям — такова страна, имеющая вид дракона, в которой пастушки с картин Алеша в школьной хрестоматии разводили костры. Выступы Ашский, Фридландский, Шлюкновский… Станя бросал корректуру и шел к матери, сидящей у радио.
— Что? Как?
Дело было плохо.
Наши союзники — Англия и Франция — сами нам советуют уступить соседу пограничные районы, горы, свои естественные рубежи. Уступить Судеты вместе с укреплениями, защищающими нас от вражеского нашествия, с дорогами и шоссе, разорвать транспортную связь и разрушить стратегическую сеть дорог, уступить немцам истоки чешских рек, богатства водной энергии, чудодейственные целебные горячие источники, радий и железную руду, мировые курорты и цветущие города, крупную текстильную и стекольную промышленность. А если кому-нибудь из чехов не понравится в Третьей империи, они могут выселиться.
Рабочие, которым Гамза сообщил это, оцепенели.
И это нам советуют наши союзники?
Да. Английский и французский премьер-министры — Чемберлен и Даладье. Но коммунисты обеих стран за нас. И Советский Союз смотрит на дело совсем иначе, чем французские и английские реакционные круги. В СССР считают, что это было бы самоубийством. Надеются, что мы не согласимся.
Да здравствует Сталин! Да здравствует Советский Союз!
— Районы, на которые зарится Гитлер, — продолжал Гамза, — испокон веков были связаны с нашей страной, как конечности с телом. Но Франция и Англия не считаются с такими пустяками. Они, видите ли, пекутся о мире во всем мире и считают, что значительно укрепят его, если еще больше усилят милитаристскую Германию. (Среди собравшихся рабочих послышался злобный смех.) И поэтому союзники рекомендуют нам добровольно согласиться на ампутацию ног, на которых мы стоим, и рук, которыми мы обороняемся, а после этого-де все успокоится.
— Пусть фюрер пришлет к нам из Третьей империи колясочку для инвалидов, — крикнул кто-то, — у них в Германии есть патент!
Но эта шутка висельника никого не рассмешила.
— Иисусе Христе, да ведь мы изойдем кровью, — запричитал чей-то женский голос.
— Он нас с шерстью проглотит, — послышался мужской бас.
— Уж не сошли ли все с ума?
— Войны не было, мы пока ее не проигрывали!
— Правительство все равно не согласится, — произнес кто-то более рассудительный. — И прежде всего президент.
— Не может!
— Не посмеет!
— То-то к нам лорд Ренсимен рыбку приехал ловить!
— Он к этому способен, как осел к музыке.
— Вот это я понимаю — чужое раздавать!
Возбуждение было невероятное. Бунтовало естественное человеческое чувство справедливости. Чехословакия маленькая, а Третья империя — после присоединения Австрии — огромная; что, если ей захочется стать еще больше? Почему они зарятся именно на паши земли? И почему за нас должны решать господин Чемберлен и господин Даладье, люди, которых мы отродясь не видали, которые у нас не были и которых мы о том не просили? Мы ни в чем не виноваты, не мы подняли этот шум с генлейновцами. Почему же именно мы должны испить эту чашу?
— Ну, на кого господь бог глянет, тому и все святые помогут, — произнес какой-то старик.
— Вот тебе и вся высшая политика, — сказал шутник, состривший перед этим насчет колясочки для инвалидов, и горько усмехнулся.
— Это знаменитое британское равновесие, — заметил кто-то более сведущий.
— Не хотят отдать колонии немцам, вот и продают нас.
— Своя рубашка ближе к телу.
— Но мы не позволим собой торговать!
— Не позволим обкорнать республику!
Однако правительство тоже не согласилось на эти условия, и народ облегченно вздохнул — в той мере, в какой это возможно для народа, в стране которого угнездился дракон. Переговоры продолжались. Но все мы знаем из сказок, каково разговаривать с драконом, задумавшим получить королевскую дочь.
На следующее утро из кооператива прибежала перепуганная насмерть Барборка и шепотом, как рассказывают страшные истории, сообщила Нелле о таинственном ночном визите в Град. (Град расположен по соседству со Стршешовицами, и здесь его жизнью интересуются запросто, как жизнью соседа.) В изложении Барборки это ни дать ни взять нападение Черной Руки. В самую темь, далеко за полночь, перед Градом остановились две черные машины, а в них сидело по черному господину. Им, мол, нужно поговорить с господином президентом, и немедленно. «Что вы выдумали, — ответил им часовой, — сейчас ночь, и президент спит». Но господа стояли на своем, вынь да положь им президента, а не то Прагу в эту же ночь будут бомбить; назвались эти гости французским и английским послами. Даже документы им доставать не пришлось — часовой признал их в лицо. Что же оставалось делать? Разбудили президента — и теперь, говорят, все отдают немцам.
— Полно глупости болтать, — накинулся на Барборку Станислав, — кто поверит бабьим сплетням?
Не помня себя, он выскочил из дому, но, когда приехал в библиотеку, его коллеги сообщили ему то же самое не в романтическом, а в более реальном изложении.
Гамза и Тоник так и не вернулись с утра домой — это был дурной признак. Уже темнело. В старину, когда наступали тяжелые времена, бабушки вязали чулки и рассказывали внучатам сказки. Нелла Гамзова сидела у радио.
Зеленый кошачий глазок волшебного ящичка светился в сумраке; внутри что-то потрескивало; и она с сердцем, сжимающимся от горя, измеряла температуру и считала пульс смертельно больной родины.
Наконец это случилось. Беда пришла. Не нужно было и сидеть у радиоприемника. О ней на весь квартал кричал громкоговоритель.
Чехословацкое правительство согласилось на все условия, предложенные союзниками — Францией и Англией, — отдало Третьей империи горы. Мы капитулируем. Иного выхода мы не видим. Ведь Франция, наш первый союзник, обязанная по договору оказать нам помощь в случае нападения, предупредила: если вы не подчинитесь требованию вашего соседа и если из-за этого вспыхнет война, мы будем считать вас нарушителями мира и не поможем вам. Вы останетесь одни.
Нелла, как все неврастеники, сначала подумала, что она, быть может, ослышалась. Как, мы нарушители мира? Ну, это уж слишком! Ведь это же предательство?!
— Нас уже продали! — громко, на всю комнату вырвалось у Барборки.
Еленка осматривала последнего пациента. Часы приема у дочери были для Неллы святы — матери вообще набожно чтут работу своих взрослых детей. Когда Еленка принимала больных, Нелла никогда не позволяла себе даже постучать в дверь, не то что войти. Но сейчас она ворвалась к Еленке вместе с Митей, в этот ужасный миг не посчиталась ни с чем. Впрочем, пациент, забыв о своей болезни, надел пиджак, Еленка тем временем сбросила с себя медицинский халат. Все заторопились, сами не зная куда.
Вошел Станислав, бледный как смерть.
— Это вторая Белая гора,[60] — вздохнул он.
— А кто дал им право? — раскричалась Еленка. — Это же дело парламента, правда?
Нелла опустилась на первый попавшийся стул.
— Я рада, — проговорила она с ледяной улыбкой, так странно, что сын и дочь посмотрели на нее удивленно, — я рада, что мамочка умерла. Какая она счастливая, что не дождалась этого.
Нелла — человек мягкий. Но если она ожесточилась, с ней происходило что-то ужасное. Еленка склонилась над ней.
— Ты что же, хочешь нас покинуть, мама? Это не годится. В такое время ты будешь нужна нам, как никогда, — сказала она, и эти слова подействовали, словно волшебная палочка, воскресили мать.
— Бабушка, что с тобой? — допытывался Митя. — Уже началась война?
И Нелла Гамзова, мать, которая все это время трепетала за сына, ответила внуку:
— Золотой мой мальчик! Есть вещи гораздо хуже войны.
И снова мама разговаривала с дядей, а бабушка с Барборкой, и никто не замечал Мити. И он пришел в полное недоумение.
— Что хуже войны? — допытывался он и дергал бабушку за юбку. — Что хуже?
— Рабство, хорошенько это запомни, детка, — ответила ему Барборка, — но только я немцам служить не стану, наперед вам говорю.
И, заплакав от гнева, выбежала вон.
— Но мы ведь не проиграли? — волновался Митя.
— Не проиграли, — подтвердила мама, — а кто не проиграл, не может и сдаться; Митя, побереги здесь бабушку, — лукаво приказала она ребенку. — Мне нужно сходить к папе.
И Еленка быстро исчезла. Станислав тоже пропал.
Из всех домов, как по команде, выскакивали люди, словно над их головой загорелась крыша или разверзлась земля под потами, присоединялись друг к другу, потому что всех постигло одно бедствие, и, гневно жестикулируя, стремительно неслись куда-то — спасать республику. Как именно — никто не знал; но спокойно усидеть в одиночестве было невозможно, всех гнала вон из дому неудержимая потребность двигаться, ходить, протестовать против того, что случилось, требовать ответа.
Катастрофа разбила в щепы моральные основы, на которых мы строили нашу жизнь: святость обязательств и доверие к данному слову. Договор о союзе, как только он оказался неподходящим для их лавочки, выбросили в мусорную яму. О Франция, любовь наших поэтов! А мы-то восторгались ею, распевая «Марсельезу», — безумцы! — мы верили ей, были ей верны, все принимали за чистую монету. И вот все пошло прахом, все осмеяно. Елисейские поля стали джунглями — от этого повеяло таким ужасом, словно земной шар соскочил со своей оси. Правым признали шантажиста, а виновником объявлена жертва.
Боже милосердный, чем мы перед тобой провинились?
Когда-то у Лидки Горынковой милый отправился странствовать по свету, и это привело ее в отчаяние. Старого Горынека заперли в горящей прядильне — кто опишет этот ужас, эти муки? Нелла Гамзова собиралась на увеселительную прогулку с матерью и нашла ее мертвой. У барышни Казмаровой отец погиб при авиационной катастрофе, вдобавок на его совести была молодая жизнь. Станислав задумал умереть, когда узнал, что любимая женщина его обманывает. Какое ребячество в сравнении с этим предательством! Что значит и несчастная любовь, и муки отдельного человека, и неожиданная смерть в семье, и превратности суровой жизни по сравнению с этой бездной отчаяния! Они тонут в ней, как капли в морской пучине. Будто плотина прорвалась за нашей границей и вода хлынула с гор, грозя затопить республику.
Людей поразил общий удар, их объединило общее негодование. Они сбивались в гневные толпы и рвались к восстанию, требуя ответа! Все нуждались в свежем воздухе, все задыхались дома. И Нелла с внуком тоже вышла, сначала в садик, перед домом, а потом за ворота; она взяла мальчика за руку, и они отправились, как все, к Граду.
— Народ точно взбесился, — заметил Хойзлер жене и рассказал ей о беспорядках на Вацлавской площади.
Он кое-как добрался до дому окольным путем. Радоваться бы должны, что все кончилось миром.
— Не начали бы грабить, — ужаснулась Ро и пошла искать ключи. — Где опять эта Фанча?
Фанча исчезла.
А Даша?
И ее не было. Супруги Хойзлер остались в бубенечской вилле одни. И шофер, и семья садовника — все разбежались.
В Град! В Град!
Народ валил вверх по Нерудовой улице к Градчанской площади. Шли по Лоретанской, шли со стороны Опыша и от Прашного моста; подходили все новые и новые люди — толпа перед Градом становилась все гуще. Народный гнев накалял воздух; над воротами в стиле барокко боролись два гиганта; в темноте у подножия Града окаменевшим прибоем молчала Прага. Люди кричали: «Позор!», «Измена!» — старались прорваться в Град. Но ворота были на запоре. Это озлобило толпу. Ворота трясли с таким же упорством, с каким горняцкие жены рвутся к шахте, где случился обвал и где остались засыпанными их мужья и дети. Взламывая ворота, люди рвались к сердцу республики, постигнутой катастрофой.
«Град наш!» — слышались крики.
Через поломанные решетки народ, как полая вода, устремился во все четыре двора. Охрана покинула их. У кого подымется рука стрелять в народ, когда у самого от этого несчастья кровью обливается сердце!
Барборка тоже помогала брать приступом Град. К тому времени, когда туда добралась Нелла с Митей, вход с Градчанской площади уже открыли настежь, решетки сломали, люди кишели во дворах замка, как в универмаге.
Главный поток устремился через ворота в третий двор.
Гудящая толпа напоминала осиное гнездо. Самая большая сутолока была перед канцелярией президента. В полумраке, словно асфальт в черном котле, двигалась и бурлила толпа отчаявшихся людей. Глухой ропот шел из ее глубины. Время от времени, как сигнальная ракета, над ней взлетал выкрик:
— А-зо-о-ор е-ра-а-ану-у!
Митя вздрагивал, как от ударов, прибавлял шагу, продирался вперед и тащил за собой бабушку. Она волей-неволей следовала за ним, боясь отпустить его от себя.
— Позор Берану![61] — кричали люди.
Митя думал, что там, впереди, за всеми этими воротниками, рукавами и спинами, на дворе стоит настоящий живой баран, которого он вот-вот увидит. Он не понимал, зачем там оказался баран, ему очень хотелось узнать, что же с ним сделают, и он проталкивался вперед изо всех сил. Нелла боялась, что Митя потеряется или его затопчут. А что, если сейчас нечаянно опрокинут высоченный обелиск, который так бессмысленно и грозно торчит здесь, и он повалится и задавит Митю?
Волнения за доверенного ей внука, с которым она так неосмотрительно выбежала вечером на улицу, — иначе она не могла поступить, — на время отвлекли ее от измены Франции. Именно в этом разгадка, почему люди не сходят с ума, когда на них обрушивается такое безграничное несчастье; несмотря ни на что, обычная жизнь продолжается, ежеминутно требует чего-нибудь от человека и спасает его от неизбежного заболевания. Наконец Нелла вместе с Митей пристроилась на ступеньках собора святого Вита и прислонилась к стене. Ей удалось уговорить мальчика, что оттуда им будет лучше видно. И вдруг сверху ей бросился в глаза огромный чехословацкий флаг, который какие-то люди принесли с собой и держали очень странно — горизонтально, как балдахин. Может быть, они боялись, что его порвут в этой толчее?
— Да здравствует генерал Сыровы![62] — кричали люди. — Мы… хотим… генерала Сыровы! Мы хотим… военное правительство!
Народу, который не хотел сдаваться, такое правительство казалось единственным спасением.
Генерал Сыровы, герой Зборова (так, по крайней мере, утверждали), с черной повязкой на одном глазу, напоминал Жижку с картины Брожика,[63] и народ в дни своего крестного пути воспылал великой верой в него. Год назад генерал Сыровы ехал верхом перед гробом Масарика; теперь все верили, что он так же храбро поведет и войну. Это уважаемый старец, он не обманет. Ну, Сыровы, он — наш!
На балкон вышел этакий толстый дядюшка, лицо которого было плохо видно, и стал уговаривать людей разойтись по домам, он их призовет, когда понадобится.
Но кто мог думать о сне?
Маленький сухощавый человек, стоявший впереди Мити, поднял кулак.
— Оружия! — закричал он, и несколько мужчин крикнули вслед за ним:
— Оружия, мы за него платили!
Митя понял это по-своему. Вырвав свою руку из рук бабушки, он закричал во все горло:
— Оружия, мы за него колотили!
Нелла схватила его сзади за курточку.
— Где правительство? — роптали люди и напирали на замок. Толпа гудела, как вешние воды; в ней пробуждались старинные воспоминания о дефенестрации.[64]
— Где они? Куда попрятались? — взвизгнул пронзительный женский голос; к нему грозно присоединился мужской:
— Долой капитулянтов! Выкидывайте их вон!
Поток всколыхнулся и забурлил, вот-вот полая вода хлынет в здание. Тут несколько человек громко запели «Где родина моя».[65] Толпа замерла, как околдованная. Даже те, кто кричал яростней других, обнажили головы, повернулись лицом в ту сторону, откуда послышалось пение, и застыли. Боже, сколько раз мы справляли годовщину 28 октября! Никто не смел шевельнуть даже рукой, чтобы достать платок. Так и стояли и пели в полумраке, и кое у кого в фантастическом освещении текли по лицу слезы.
На дворе Града оцепенели толпы людей; с двух сторон их теснили стены храма святого Вита, над ними висел небесный свод с бесчисленными звездами; и мужчины, так чудно державшие знамя, как балдахин, слегка раскачивали его из стороны в сторону, точно творили заклинание. Все было как в театре или во сне, почти нереально. Но гимн отзвучал, и люди пришли в себя. Нет, народ не позволил себя усыпить.
— Военное правительство! Хотим бороться!
Нелла весь сентябрь трепетала за своего сына-солдата.
— Бороться — кричала она теперь со всеми, сжимая Митину ручонку. — Бороться!
Мите вздумалось посмотреть на бабушку снизу, и ему странно было видеть, как открывает рот и кричит бабушка из его обыкновенной жизни, бабушка, посылавшая его вымыть руки или сделать что-нибудь подобное.
На балконе замка появился высокий стройный человек в штатском. Нелла его не знала. Может быть, это председатель Совета министров Годжа? Он перегнулся через перила и заговорил так сердечно и непринужденно, как человек, привыкший выступать перед публикой.
— Добрые люди, вы меня знаете. Вы ведь знаете, что я не желаю вам зла.
— Это Гашлер,[66] — зашептали вокруг Неллы.
Действительно, его все знают, вся республика распевает его градчанские и старопражские песенки. Но как попал эстрадный певец на балкон президентской канцелярии? Все смешалось. Никто ничему не удивлялся. Вон там, у статуи святого Георгия, стояла заплаканная Власта Тихая, из-за которой Нелла чуть не потеряла сына, теперь она — пани Кунешова. Зажженная спичка на мгновение озарила лицо Власты, и Нелла увидела, как та нервно закурила сигарету; но как только погас огонек, она тотчас забыла об актрисе. Здесь собрались продавцы, продавщицы и швеи, малозаметные в городе люди, мелкие торговцы и служащие; они позакрывали магазины, опустили железные шторы и, переполненные роковой новостью, выбежали на улицы. Интеллигенция — студенты, учительницы — терялась в этой толпе. Это та самая Большая Прага, у которой такие разные интересы днем. Люди, конечно, мало что знали об античной трагедии. Гашлер, любимый поэт пражских улиц, певец и патриот, военные песни которого когда-то помогали бороться с Австрией, попытался говорить искренне взволнованным голосом с публикой, которая его любила и которая шла за ним.
— Война при таких обстоятельствах была бы самоубийством! — бросил он в толпу.
А рты открылись и закричали в один голос:
— Самоубийства! Хотим самоубийства! — загремело между Градом и храмом святого Вита. Это шоферы и поварята, официанты, модистки и учителя; это нация, готовая на самопожертвование, давала обет погибнуть. Ведь они любили свободу. Мурашки пробегали по спинам.
— А где президент? — раздался чей-то сердитый голос. — Почему он не показывается?
— Вы его не звали, — ответил генерал Сыровы, которого опять вытребовали на балкон, и ушел в таинственное нутро Града.
Кто там был в эту страшную ночь? Направо от балкона, в освещенном окне этажом выше, за занавеской появился чей-то силуэт. Человек, нервно потирая руки, точно убеждаясь в своей твердости и требуя ее от остальных, поклонился. Некоторые громко с ним поздоровались; но тут же начали свистеть и кричать. Легкая тень человека отошла от окна. Он исчез.
Митя, спотыкаясь, плелся совсем сонный. Нелла то ли донесла, то ли доволокла его до дому, сама падая от усталости.
Митю раздевали в постели, мама сняла с него один башмачок, папа — другой. Большие мальчики разуваются сами, но у него не хватило воли поднять голову. «Я не сплю», — протестовал он. И вдруг, точно кто его пощекотал, он тихонько засмеялся. Перед глазами у него возникло гигантское белое нефтехранилище, и около него темным силуэтом на солнце — часовой с винтовкой. Митя отлично видел его, как в волшебном фонаре.
— Знаешь, папа, — сказал он с закрытыми глазами и протянул руку, — нам на помощь придут красноармейцы!
И Митя блаженно заснул.
НАРОД С ЗАВОДОВ И ФАБРИК
На следующее утро рабочие Колбенки прекратили работу. Она просто валилась из рук. Люди, стоявшие у фрезера, у гидравлического пресса или револьверного станка, не находили себе места. У печей сказали: «На Гитлера работать не станем»; у станков собралась сходка, а там пошло и пошло. Начали, конечно, литейщики — тот, кто имеет дело с огнем и металлом, шутить не любит. Забастовала сернистая сталь, а следом и кузница; оттуда стачка перекатилась в токарную; стоило остановиться одному цеху, как к нему тотчас же присоединялись остальные. Вышли из цехов и кузнецы, и конструкторы, и шлифовальщики, и столяры, и механики. У модельной перед ними заперли дверь. Сначала там ничего и слышать не хотели. Но потом пошла и модельная. Пришли все к центральному поворотному кругу, а председатель заводского комитета не согласился с рабочими.
— Куда полетели? — сказал он. — С ума вы, что ли, сошли?
Начальник смены не хотел выдать ключи от главных ворот.
— Плюньте вы на политику, — уговаривал он, — все равно вы ничего не знаете.
— Ключ будет здесь, — ответили ему, — или мы взломаем ворота. Да и ночные смены на работу не выйдут, ручаемся. Пускай мартены гаснут, нам теперь все равно.
Ключ сразу нашелся, все тронулись дальше. Если металлисты задумали что, их никакое начальство не остановит.
Привратник выглянул из своего окошечка.
— Не ходите, — закричал он вслед им, — не валяйте дурака! На Балабенке вас жандармы ждут.
Он покривил душой. Их хотели вернуть. Но не так-то легко провести рабочих. Аэровка, где в конструкторском отделе работал Тоник, вышла вместе с Колбенкой, присоединился и завод Сименса; рабочие выровняли шаг и отправились по Королевскому проспекту — обычным путем своих первомайских демонстраций, по огромной артерии, которая проходит по трем рабочим районам и связывает Высочаны, Либень и Карлин, эти руки Большой Праги, с ее историческим сердцем — Старым Местом.
Поредел дым на Арфе; там тоже бросили работу. Кочегарка столицы и лакокрасочные заводы, выдыхающие резкие химические запахи и разноцветный дым, — Тебеска и Шмолковна — оставили работу, выключили станки и стали. На ноги поднялась вся Арфа, а за ней следом Глоубетин, Филипка — ухо мира, Тунгсрамка — глаза Праги, Сана — миллионы кубиков мыла — все вышли на улицу. Чешско-моравский машиностроительный завод в Либени, этот гигантский, как мамонт, родильный дом машин, как и братская Колбенка, перестал метаться в судорогах и кричать; там наступила тишина. Мужчины высыпали из цехов, женщины — из домов, фабрики и рабочие кварталы отправились в поход к сердцу республики — к парламенту. По пути к ним присоединились более мелкие предприятия; и все это текло к классическому месту сражений, на Балабенку. Трамваи давно перестали ходить. Королевский проспект был переполнен. Люди останавливались и смотрели вслед шествию.
Хочешь республику отстоять — нечего на тротуаре стоять![67]Мелкие торговцы опускали шторы, запирали лавочки и тоже присоединялись к рабочим. И старая бабка, вышедшая с мелочью в лавочку за дрожжами, тоже присоединилась к ним. Учащиеся из общежития порывались было пойти со всеми. Но двери заперли на замок. Все ученики торчали у окон — голова к голове.
Рабочие шли. Они все думали одинаково и знали, чего хотят. Свергнуть правительство, которое сдалось без боя, и защитить республику, если на нее нападет Гитлер. Родная страна не была для них ласковой матерью. Она была для них скорее вроде мачехи из сказок о Золотой прялке или о Золушке. Она прятала куски получше для своих любимчиков, сынков крупных землевладельцев, и отталкивала безземельных. Во времена безработицы у многих не было крова над головой. Они жили в каменоломнях, в заброшенных речных судах, в старых вагонах. Отец родины[68] когда-то дал своим беднякам построить Голодную стену. А мать-республика не слишком ломала себе голову над тем, как им помочь. Вместо работы она отделывалась нищенской подачкой. На нее нельзя было ни жить, ни умереть. До сих пор в память об этих тощих годах существуют поселки «Нужда» и «На крейцер». Но как бы то ни было, кровь — не вода, мать — это мать, это была их родина, и сейчас ей угрожала опасность. Владельцы шахт и металлургических комбинатов, сахарных и винокуренных заводов испугались и отступили. Обездоленные же, гнувшие на них спину, осмелились защищать родную страну.
Дайте оружие! Наше оно! Мы платим сполна за него давно!У Дома инвалидов встретился военный грузовик, солдаты, сидевшие в нем, приветственно махали: «Мы с вами! С народом!»
И поселки «Нужда» и «На крейцер» тянулись на помощь республике, которая когда-то стреляла по ним, когда они объявили, что не хотят умирать с голоду.
Годжу долой! Власть капитулянтов долой! Не отдадим страну Немецкому пачкуну! Ура — генералу Сыровы! Ура — Союзу Советов!Один из организаторов демонстрации быстро шел вдоль процессии.
— Товарищи, не призывайте генерала Сыровы — он же фашист!
Но одноглазый герой воплощал всякое военное правительство, и люди не хотели ничего слушать.
Они шли. Их были десятки тысяч, ими двигала единая воля: не сдадимся! Они — это Готвальдово войско труда — не требовали себе формы, как «соколы». Шли и, несмотря на измену Франции, верили: когда мы будем обороняться, то не останемся одни — Россия поможет. У коммунистов это было политическим убеждением, у остальных — традиционной верой в великого брата, в Россию. Шли мимо редакции «Руде право» — там их приветствовали из окон; и пока одни еще только подходили к карлинскому виадуку, другие уже достигли Староместской площади.
Там есть доска в память двадцати одного казненного чешского дворянина.[69] А сколько их навеки покинуло страну после белогорского несчастья! Эмигрировали целые роды; их имущество досталось чужеземцам; те, кто остался, перешли на сторону врага; мы оказались народом без аристократии. Может быть, потому в Чехии рабочие и интеллигенты ближе друг к другу, что у всех у нас прадеды были малоземельными крестьянами, а прабабушки — знахарками. Барин не барин, — а чехи, сопротивляясь врагу, сумеют договориться.
Существует закон: когда заседает парламент, люди не смеют собираться в толпу на расстоянии километра в окружности. Так, по крайней мере, говорится. Но что делать охране, если вся кровь с окраин прихлынула к сердцу города? Берега шли навстречу друг другу, дымный северо-восток спускался с холмов, а Смихов, старый черный Смихов угля, локомотивов, стекла, пива и спирта, перешел через Влтаву и валил по набережным вместе со злиховской Шкодовкой и иноницкой Вальтровкой. Мужчины, которые выделывают оружие и моторы, рельсы и мосты, вагоны и самолеты, прорвали полицейский кордон, как нитку, смели часовых и осадили площадь Смèтаны. С рабочими из Подскалья тоже шутки были плохи. Подольские обжигальщики извести, браницкие пивовары, водопроводчики, холодильщики и панкрацкая Зброевка стояли от площади Кршижовников до самого Национального театра. Всех и не перечесть, многих я не назвала. Это был бы длинный список заводов. Без этой армии труда, которая явилась к парламенту исполнить свой воинский долг, Прага не ездила бы, не летала, не отапливалась, не освещалась бы и вскоре осталась бы без пищи.
— Вот видите, — сказал Гамза умеренному социалисту, одному из тех справедливых, с кем коммунисты встретились в роковые дни сентября на совещании, чтобы решить, как спасти государство. — А вы не верили, что мы за ночь организуем всеобщую забастовку. Из-за каких-нибудь пустяков они бы не стали бастовать. Но сейчас, когда дело касается жизни и смерти республики, идут все.
И это были рабочие из четырех различных политических партий.
Дайте оружие! Наше оно! Мы платим сполна за него давно! Лучше стоя примем смерть, чем на коленях жить и терпеть! Годжу долой! Власть капитулянтов долой!Жаль, что Тоник не слышал Готвальда, когда тот вышел на балкон парламента и первый объявил, что правительство подало в отставку. По воле народа создается новое правительство, опирающееся на армию. Советский Союз с нами. Стойте на своем, не сдавайтесь! Жаль, что Тоник не видел, как обнимаются былые политические противники! В первый раз за все эти годы коммунисты, хотя и находятся в оппозиции, объединились со всеми людьми доброй воли из коалиционных партий. Все благородные силы страны стали единым фронтом, откинув прочь политические разногласия.
Из Высочан Тонику было дальше идти до парламента, чем Станиславу из Клементинума. Тоник еще шел мимо редакции «Руде право», когда на балкон парламента вышел второй человек с взволнованным лицом.
— Вы знаете, кто я! — воскликнул он. — Я — Рашин,[70] когда-то на моего отца покушался коммунист. Но я говорю вам: сегодня было бы грешно вспоминать о том, что нас разделяет. Мы должны оберегать то, чтó нас объединяет. Это любовь к республике и общий враг. Через единство — к победе!
У Стани от восторга забегали мурашки по спине. «Res publica» — «общее дело». Она, республика, жила вокруг него, в этих сотнях тысяч людей на площади, готовых отдать свою жизнь, лишь бы спасти свое государство. Живая, мечущаяся, кричащая республика могла задавить Станю; а на небе вырисовывалось старое чешское королевство. За рекой на холме стояли Град и собор святого Вита. «А ведь я вижу идею государства», — подумал Станислав, словно в бреду; мановением чьей-то руки перед ним открылась с детства знакомая величественная панорама Градчан, которую он видел ежедневно, но сейчас она ошеломила его, как будто он увидел Градчаны впервые, в новой для него связи, с этими толпами мужчин и женщин перед парламентом. «А ведь я до сих пор вообще не знал Праги», — сказал он себе. И вдруг заторопился домой.
Люди вынесли на руках генерала Сыровы, символ обороноспособности, представители десяти политических партий под руководством Готвальда уехали в Град, и торжествующее ликование было так велико, что можно было какое-то время почти не думать о том, что опасность не только не миновала, а, наоборот, увеличилась.
Родина, которую пинками гнали из Нюрнберга в Берхтесгаден, а из Берхтесгадена в Лондон, теперь очутилась в Готесберге, во вражеском гнезде, где мы отродясь не были, но унылое название которого — Божья гора — точно намекало на гору Елеонскую. Там из-за нас торговались два человека, которых мы и в глаза не видели: человек со свастикой на рукаве и старый министр Чемберлен с дождевым зонтиком. Дай черту с ноготок, он потребует с локоток! Шантажист, почуяв английскую уступчивость, не преминул стать еще нахальнее и, угрожающе глядя из-под пряди на лбу, потребовал еще больше. Барышники не договорились, и британец улетел ни с чем.[71]
В этот вечер в Праге только и разговору было, что ночью начнется бомбардировка.
Ро, приехавшая за покупками (она достала себе мягкий драп на пальто, сукно на костюмчик, крепдешин на комбине и еще кое-что — она вовсе не хочет остаться голой, когда начнется война и станет туго с мануфактурой), снова отправилась, на этот раз с Хойзлером, в нехлебскую виллу. Нелла сожалела теперь, что виллу продали. Будь она у них, можно было бы отправить туда Митю с Барборкой. Гамза не пришел еще в себя после утренних событий. У нас военное правительство, которого требовал народ, и знаете, к чему это привело? В Карлин[72] пришла утром полиция и приостановила печатание «Руде право». Пришлось полдня потратить на телефонные звонки и беготню, пока сняли запрещение.
Станя сидел у себя в комнате, дымил, как фабричная труба, наливал себе черный кофе из хромого прабабушкиного кофейника и, стараясь изо всех сил сосредоточиться, писал. Какой смысл сидеть сложа руки у радио, слушать гнетущие сообщения и бесконечно спорить о них, как Тоник с Еленкой? Мать следит, мать знает, когда его вызвать. А его назначение в том, чтобы писать. Он должен облечь в какую-то форму раскаленную человеческую лаву, пока она еще не остыла в его памяти, рассказать, как она сбегала с пригорков и берегов к парламенту. Он должен написать об этой живой республике между парламентом и Градом. Что за «Пражские новеллы» без народа с фабрик! Он постоянно возвращался в мыслях к Готесбергу, хотя и запрещал себе думать об этом; но чаще, чем обычно, по улице, сотрясая окна, проезжали грузовики. Потом Станя разошелся и стал писать наперегонки со временем.
По радио раздались позывные — аккорды арфы, которые подает Вышеград. Они давно пропитали сентябрь тоской.
«Слушайте, слушайте!»
Всякий чех, слушавший в эту минуту радио, а слушали его все — до смерти будет помнить эту вступительную фразу. Она ничего не говорила, решительно ничего. Но она как бы пропускала через вас ток высокого напряжения.
«Слушайте, слушайте! Важное сообщение».
И снова военные марши.
Если Гитлер играет на наших нервах, то зачем делать это нашему радио? К черту музыку, мы хотим слышать точные слова! Никто в эти дни не выносил музыки. Нелла хорошо знала, что значит, когда играют военные марши.
Всем своим существом Нелла была сторонницей мира. Она не говорила об этом, не писала, но жила этим. У нее был любимый муж, дети, внук. Ее удел был уделом женщины на земле, и она не тосковала о другом. Всем своим существом она чувствовала, как прекрасна человеческая жизнь, окруженная любовью, несмотря на все тревоги, с которыми мы подчас встречаемся. Ее лоно породило новую жизнь, ее рукам были доверены маленькие дети, вот тут у нее на глазах произошло незаметное чудо, превращающее невинное дитя, пасущее барашков, в цветущего взрослого человека. В сына-солдата! И теперь он будет шагать под эту музыку, музыку… хоть бы уж скорее что-нибудь сказали!
«Слушайте, слушайте!»
Она была уже не так молода и знала, что такое война. Три года был Гамза на фронте. Эта мясорубка, эта тоска, клещами стискивающая сердце, когда нет писем полевой почты, — неужели она должна пережить это снова из-за сына?
«Президент республики как верховный главнокомандующий вооруженных сил Чехословакии объявляет всеобщую мобилизацию».[73]
— Дай-то, боже, — тихо произнесла Нелла и тотчас ужаснулась своим словам. Этим она как будто сама отдавала Станю в объятия опасности. Родители встали и пошли к сыну.
— Станя, — начала мать осторожно, таким тоном, каким будила его, бывало, по утрам в библиотеку, — Станя…
— Мобилизация? Хорошо. Сейчас иду, — словно пробуждаясь от сна, ответил Станя и оторвался от работы.
Он отложил перо и сигарету, положил на свою рукопись пестрый камень из Нехлеб, который служил ему с детских лет вместо пресс-папье, и бросился к дверям.
Гамза мягко напомнил ему адрес призывного пункта, Нелла холодными, дрожащими руками перебирала вещи сына. Тоник, подданный Соединенных Штатов Америки, не подлежал призыву и как будто стыдился этого. Он во что бы то ни стало хотел помочь Нелле. Станислав остановил обоих.
— Ничего не надо! — сказал он победоносно, как маленький мальчик, который козыряет свой сметливостью перед большими. — У меня уже все запаковано. Вот, пожалуйста.
Он открыл шкаф, извлек оттуда набитый рюкзак и водрузил его на стол.
В соседней комнате радио еще передавало по-словацки сообщение о мобилизации.
— Когда это ты успел, Станя? Так быстро!
— Еще вчера, — признался Станислав. — Меня все время беспокоила мысль, что в случае чего я не сумею быстро собраться. Так я сделал это заранее, а потом, по крайней мере, мог писать.
Он стал спиной к столу и надел на себя один ремень.
А семья?
Подожди, надо захватить что-нибудь из еды. Будь благоразумен, об этом же объявили. Возьми этот свитер, он будет тебе впору. Гигроскопическую вату! Сейчас принесу из приемной. Тоник совал ему сигареты в нагрудный карман. Они готовы были отдать ему последнее. И эти обыденные мелочи снимали патетику расставания. Ни у кого не было времени подумать о том, что Станя, быть может, никогда не вернется.
— Папа, прошу тебя, — сказал он скороговоркой, когда они на минуту остались одни, скороговоркой, потому что стыдился. — Прости мне… эту глупость со снотворным.
До сих пор ни отец, ни сын ни разу об этом не заикнулись.
Гамза на миг крепко прижал его к себе.
— Молчи. Ты мой мальчик. — И ласково и неловко взъерошил ему волосы.
Впервые в жизни Станислав, к своему удивлению, заметил, что у отца в глазах стоят слезы.
Тоник помог ему надеть мешок на спину, и Станя, со своим девичьим носом и светлыми волосами, стал перед матерью. Она не плакала, улыбалась, улыбалась, чтобы у него не было тяжело на душе, — страшно было видеть эту улыбку. Неллину военную улыбку. Станя ее не знал, он был еще мал тогда — во время мировой войны. А когда Гамза был в Лейпциге, Станислав опять-таки не обращал внимания ни на кого из домашних.
Еленка нахмурилась, как всегда, когда сдерживала волнение. Одна только Барборка расплакалась, но постаралась поскорей скрыть эти слезы.
— У тебя пальцы в чернилах, — крикнула она на прощанье Станиславу, когда он торопливо жал ей руку, — смотри, как бы тебе за это в армии не влетело!
Барборка тоже помнила старую Австрию.
Станю это насмешило. Он рассмеялся молодым смехом и так и вышел из дому.
Отец и мать проводили его по садику, до ворот, прошли немного по улице. Но они не могли быть ему полезны, и сын исчез в темноте.
По радио еще не кончили сообщения о мобилизации по-украински, а в ночной тишине уже было слышно, как, лязгая металлом, поворачиваются в замках ключи и через слабо освещенные ворота на улицу выходят торопливым шагом мужчины.
— Папа, — в слезах говорила Лидка своим певучим, убаюкивающим улецким говором. — Я помогу тебе донести чемоданчик на станцию.
Она не называла своего мужа иначе, как «папа», и сейчас вложила всю свою нежность в слово «чемоданчик».
— Останься дома, — погладил ее по щеке муж, — Штепанек может испугаться, если тебя не будет рядом.
Станиславу повезло. Перед стоянкой такси ему удалось поймать машину, он вскочил в нее, назвал вокзал, и они поехали. У Прашного моста им подал знак мужчина с чемоданчиком. Едва он прикоснулся к подножке, как тотчас же, будто оттого, что он стал на нее, всюду в городе погас свет. У Стани возникло ощущение, как в детстве под Новый год, что время надело другой костюм. Точно он прыгал с мостков в воду, из одной стихии в другую… Они поехали. Прошлое в интимном кругу настольной лампы, когда Станя мог сам решать свою судьбу, кончилось, а в том необозримом и неясном будущем, которое еще только предстоит ему и которое надвигается, он уже не принадлежал себе. Встречный военный грузовик мчался из города по Хотковскому шоссе; никто не знал, что в нем везут: пушки или людей. Солдаты в темноте не кричали, не пели, металл и человеческая масса составляли единый сплав. Казалось, надвигается война. Не станут ли немцы бомбардировать Прагу, чтобы помешать мобилизации? Знает ли об этом население? Но не это заботило Станю, его дело — добраться до Вильсонова вокзала… и они ехали. Он, вероятно, боялся бы, но мысль, что он уже не принадлежит себе, приносила ему необыкновенное облегчение.
И все воспринималось, как будто он нырнул в воду; те, кто шли и ехали, совсем не разговаривали, точно вся их энергия была направлена на то, чтобы не опоздать. Пока Станислав добирался до центра, пешеходы с чемоданчиками и с мешками за спиной множились на улицах, как во сне. Темные громады домов и лохматые деревья парков, экзотические в потемках, точно порождали одних мужчин с чемоданчиками. Когда такси подъехало к вокзалу, они двигались уже сплошным потоком, и вместо одного Станислава из автомобиля вышли трое новобранцев.
От Стршешовиц до вокзала немалый конец.
— Сколько с меня?
Шофер махнул рукой.
— Ничего. Сегодня бесплатно.
И повернул, чтобы подвезти новых.
Перед Станиславом в набитый людьми вокзал вошли два парня в дождевиках поверх замасленных комбинезонов: они ушли прямо с ночной смены.
«Как же не победить с таким замечательным народом! — подумал Станя. — Мы никогда не любили военных парадов. Нет, мы не играли в солдатики. Зато, когда становится туго…»
КАЛЕКА
Не успел Гамза войти в комнату, где все сидели у радиоприемника, как Митя осыпал его упреками:
— Вот видишь, дедушка! Они уже взяли Снежку! А ты говорил…
Еленка дернула Митю за рукав.
— Оставь дедушку в покое! — прикрикнула она.
Мальчик удивленно посмотрел на мать. Такой он маму не видел никогда.
— Ведь это же правда, — продолжал он настаивать. — Дедушка говорил, что мы не хотим ничего брать у немцев, но и своего добровольно не отдадим!
И в самом деле, что ответить детям на вопрос, как же мы все-таки это допустили?
— Митя, если ты не замолчишь, — вмешался отец, — то выйдешь из комнаты!
Митя смотрел на папу, на маму и не мог понять, в чем он провинился.
Нет, в дни после Мюнхена измученные взрослые были неласковы с детьми и несправедливы к ним. Всех переполняла ненависть; и так как теперь ничего нельзя было поделать с главной бедой, они взрывались от любого пустяка.[74]
— Мы, конечно, возьмем Снежку обратно, — ответил Мите дедушка.
Но Митя опустил подбородок на грудь, заложил руки за спину, остановился и задумался.
— Знаю я! — произнес он, словно умудренный горьким опытом человек. — Это детям так говорят.
Даже Митя больше никому не верил.
— Ну зачем вы это слушаете? — рассердился Гамза и стремительно выключил радио. — Только себя терзать. Бессмыслица.
Но повсюду целыми семьями люди сидели у приемников, не отходя ни на минуту, словно в коридоре перед операционной, куда не смеет войти никто из близких, и слушали, как коновалы ампутировали республику. Это было общее горе, но у каждого находился еще особенно любимый край, о котором он горевал лично.
Мите, как вы уже слышали, больше всего забот причиняла Снежка, потому что это самая высокая гора в Чехии, а мальчики обожают всякие рекорды.
А старый Горынек, Лидкин отец, огорчался больше всего из-за Карловых Вар. Вода, бьющая из земли, там такая горячая, что в ней яйцо сваривается вкрутую, — это ему всегда чрезвычайно нравилось. И то, как гончая собака обожглась в ней, когда королевская дружина преследовала оленя, — у Выкоукалов в передней висела такая зеленая олеография, изображавшая историю возникновения Карловых Вар. Горынек ни разу не бывал в Карловых Варах. Где там, это такой дорогой курорт, только для магараджи или еще для английского короля. Но теперь старик, сидя у радио и положив больную ногу на скамеечку, плакал: «Так, значит, у нас отняли Карловы Вары!»
Ева Казмарова горше всего оплакивала истоки Сметановой Влтавы и Ештед Каролины Светлой![75] Махово озеро![76] Немцы отторгли много мест, связанных с культурной историей Чехии.
Нелле Гамзовой представлялся край ее юных лет, горы в снегу, Гавелская сторожка, прогулка на лыжах, когда Еленка, маленькая девочка, спасла ее, замерзающую. Отчего я не погибла тогда! Счастливая мамочка, она умерла!.. Да, Нехлебы теперь у самой границы.
Гамзе все время представлялся осенний день, равнина, поросшая вереском, и вьющаяся над ней стайка белых бабочек, день, когда он переходил границу с маленькой Бертой Торглер.
— Знаешь ли ты, — угрюмо спросил Гамза (тяжело ему это говорить), — что Торглер теперь в гитлеровской партии? Заправским нацистом стал, конечно. Как мы тогда боялись защиты Зака… И вот, изволь, я оказался прав. Кое-кому концентрационный лагерь все-таки вправил мозги. А мы, безумцы, мы-то надеялись на левую Германию!
Уж если Гамза пал духом, — дело действительно дрянь. Но когда люди по-настоящему любят друг друга, стоит одному заблудиться в потемках, как другой тотчас зажигает карманный фонарик.
— А что с Тельманом? — напомнила Нелла. — Не думай о Торглере, думай о Димитрове. — Это имя всегда действует на Гамзу как возбуждающее средство. — Знаешь что, — посоветовала она мужу с глазу на глаз. — Поехал бы ты, Петр, в Советский Союз — здесь тебе делать нечего.
Она посмотрела на него с нежностью и тревогой, о которой предпочитала молчать.
— Если пошлет партия, — сказал Гамза, — поеду. А так — останусь. Люди здесь еще понадобятся.
Митя вбежал в комнату, — он искал свой мяч и не мог его найти.
— Опять этот проклятый Гитлер утащил мое барахлишко, — бормотал он про себя.
Правда, невесело было на душе у Неллы и Гамзы. Но, глядя на Митю, они не могли удержаться от улыбки.
— Гитлер все заберет, разве ты не знаешь? — горячился Митя. — Пани Гоушкова сказала, что он нам ничего не оставит.
Пани Гоушкова — это сестра Барборки, бежавшая с мужем и сыном из Хеб. Они живут пока у Гамзы, им некуда деться, и Митя с ними очень подружился. Он всегда радовался новым людям. Счастье, что сын пани Гоушковой умел управлять автомобилем и вывез своих родителей в этакой старой таратайке. Немцы побили бы ее камнями. О том, чтобы в этой панике сесть в поезд, нечего было и думать. Люди уезжали на ступеньках, на крышах, на буферах — железнодорожное начальство не дало достаточно составов. Но пусть население сохраняет спокойствие и порядок! Эвакуация будет проведена организованно. Если бы вы только знали, что вытворяли владельцы автомобилей! Драли, сколько вздумается. Семья отдавала последнее за машину, а потом не получала ее — более богатый заплатил больше. Где ночь мобилизации, когда такси возили людей бесплатно? Где эта ночь?
Вместо героических подвигов, к которым готовился Станислав, он играл с солдатами, днем — в футбол, вечером — в карты. В городке, где стояла их часть, жил старый легионер, когда-то служивший во Франции. Услыхав о Мюнхене, он взял топор, положил на чурбан все свои ордена и медали и разбил их вдребезги. Люди плакали, люди приходили в ярость, творилось что-то ужасное.
Представьте себе народ, который напряг нервы, как струны, в решимости защищать свои права, а Европа открывает окно и опрокидывает на него ведро с мусором мирных договоров. Чешский лев отряхнулся и, опозоренный, заполз к себе в берлогу. Как это случилось, как же это могло случиться? Почему не созвали парламент? Почему Лига наций не шевельнула пальцем, когда к ней обратился в Женеве наш защитник Литвинов? Для чего тогда существует Лига наций? Почему англичане и французы не пригласили в Мюнхен третьего союзника Чехословакии — Советский Союз?[77] А при чем тут Муссолини? Почему — объясните, ради бога, — в Мюнхене фигурировали вместо наших представителей какие-то нули? Почему? Так знайте же, нас туда вообще не позвали!
Впервые с сотворения мира войну выиграли, попросту говоря, глоткой. Адольф-разбойник свистнул — и пограничные столбы закачались; Адольф-крысолов заиграл — и Франция с Англией заплясали под его дудочку и пали перед ним ниц. Европа сошла с ума. Во всех французских и британских богатых домах после мюнхенских похорон облегченно вздохнули от радости по поводу наступившего вечного мира. А француз и англичанин, нарушившие свое слово, с триумфом возвратились к себе домой, овеянные славой, гордые тем, что не потеряли ничего, ни единой пяди. Они поставили крест на нашей республике; но после этого у англичан все-таки заговорило христианское «человеколюбие»! Маленькая, никому не известная страна, название которой так трудно произнести, образцово, точно в хрестоматии, пожертвовала собой ради блага человечества. Англичане должны что-нибудь предпринять для этого достойного уважения, несчастного трудолюбивого народа, который так живописен в костюмах из «Проданной невесты».[78] Англичане организовали благотворительный сбор в нашу пользу и, нужно сказать, не поскупились. Одна леди пожертвовала даже серебряный чайный прибор. Это не шутка, об этом сообщало наше радио.
— Я, — сказала Лидка, — я бы этой бабе ее чайником голову проломила. (Это лучше всего показывает, как примитивны славяне.)
Гаек уже вернулся, только разговора с ним никакого не получилось. Его поезд пришел утром, но он весь день болтался где-то по трактирам в Зтрацене, стыдясь идти домой. Он ждал, пока стемнеет, чтобы не видали соседи.
— Демобилизовали нас, значит, — сказал он и тяжело опустил на землю черный солдатский чемоданчик. — Вот у тебя, мама, и радость, верно?
Лидка обняла его и заплакала. Так в Чехии на этот раз встречали мужчин.
Чемодан стоял в комнате, как гроб.
От Гаека разило водкой.
— Пусть столяр станет к своему верстаку, а крестьянин — к плугу, — бормотал он угрюмо, — и наши новые границы хорошо будут защищены. Хотя у нас только что отобрали Бржецлав, немцы, мол, туда ни ногой, но только до тех пор, пока население соблюдает спокойствие и порядок. Разве для того мы требовали генерала Сыровы? — крикнул он вдруг и стукнул кулаком по столу так, что подскочила посуда. Лидка вздрогнула и расплакалась навзрыд.
— Тихо! — грозно приказал муж и поднял тяжелый кулак. — Спокойствие и порядок, говорят тебе, и не перечь мне!
Лидка окаменела. Разве это папа? Они ведь всегда жили, как две горлинки! Она отроду не видала его пьяным и испугалась за него. А он вдруг ни с того ни с сего начал смеяться.
— Чертов танкист! — захохотал он, точно видел кого-то перед собой. — Прихожу я, смотрю — парень с этаким длиннющим шестом в руках, на шест нацеплена корзина, а из нее конь ест. Это он коня так кормил издали — боялся к нему подойти. Парня отправили не в ту часть, к которой он был приписан, попал он в кавалерию, а к лошади-то и подойти не умеет. Ну, такая война — это одно шутовство. Проклятая баба, что же ты не смеешься? Что нос повесила и грустишь, как ольшанский пруд?
— Не шуми, Штепанек спит.
— Провались ты вместе с мальчишкой, — проворчал муж и как был — в грязных сапогах — повалился на постель (папа — всегда такой аккуратный!). — Мне весь свет не мил, — простонал он, зарылся головой в подушки и отвернулся к стене.
Боже, какой кошмар — эта вторая республика![79]
«Бедняга, — подумала Лидка, чувствуя себя ужасно сиротливо. — А каково мне? И мальчик за что страдать должен?»
Нужно было на ком-нибудь сорвать злость! Никогда люди так не оскорбляли друг друга, как в начале второй республики, когда побежденные солдаты возвращались с войны, которой они не проигрывали и тем не менее проиграли. У нас стряслось неслыханное, беспримерное в истории несчастье, второго такого не найдешь в прошлом. Люди потеряли голову, пали духом. Во время мобилизации мы хорошо относились друг к другу, во время второй республики — озлобились. Мы жалили друг друга в отчаянии, что нас все бросили, что все нами пренебрегают. Мы стыдились, что верили Франции, стыдились перед Советским Союзом, что не дали отпора врагу, стыдились смотреть друг другу в глаза. У народа, который пережил такую несправедливость и которому Европа нанесла такой удар в спину, точно сломался позвоночник, и он согнулся. Эпидемия ненависти отравила ослабевшую страну. Имя настоящего виновника — этого антихриста, которому нас продали, — уже не смели произносить вслух. И люди сваливали вину друг на друга и указывали пальцем на соседа. Кто-нибудь должен был за все ответить.
— Во всем виноваты коммунисты, — намеренно громко сказала в магазине при Нелле одна дама. — Если бы они не дразнили беспрестанно Москвой, мы бы в нынешнем году поехали в Шпиндл, как всегда. Немцы бы нам все разрешили.
Она не обращалась прямо к Нелле, но говорила очень громко, глядя ей в лицо. Жена Гамзы поняла. Но спросить было нельзя.
— Вы думаете? — заметила она только и подняла голову. — Ну, когда-нибудь все выяснится.
Ко дню поминовения усопших вернулся Станислав Гамза, разочарованный солдат. Он не узнал любимого города. В тусклом свете пасмурного ноябрьского дня Прага показалась ему убогой, некрасивой, запущенной, как брошенная женщина, которая забыла умыться и причесаться, охваченная апатией. Ветер гнал пыль и облетевшие листья, и люди брели по улицам как-то бесцельно. Торопиться было больше незачем. Площадь перед парламентом, где Станя пережил такое волнение, была пустынна. По ней медленно и важно плыли две фигуры отставных чиновников, но на их строгих лицах не было заметно следов отчаяния.
— Я всегда говорил, что именно так вот и будет, — довольным тоном сказал один.
Станислав не слышал, о чем они говорили. Но он мог бы побиться об заклад, что о конце республики. Отставные авторитеты запоздало злорадствовали по поводу того, что дело, в котором они не участвовали, провалилось. Вся слизь, труха, гниль в дни политического ненастья выползала на свет божий дождевиками, паразитическими лишайниками и плесенью. Отставные майоры австрийской армии и бывшие имперские советники снова попали в почет благодаря своим похвалам старому времени и знанию немецкого языка.
Какая счастливица госпожа майорша: она знает немецкий язык с детства! Ро Хойзлеровой приходится теперь наверстывать то, что она упустила в свое время. Чтобы не отставать от века, она брала уроки немецкого языка у майорши. И пани майорша очень полюбила «ihr junges Frauerl, immer frisch und munter».[80] Ружа и вправду ожила. Впервые за этот омерзительный год она по-настоящему оценила жизнь. Ро была счастлива, что ее так благополучно миновала опасность смерти от бомбы или ядовитого газа. Пани Хойзлерова велела снять с окон темные шторы, которые так уродовали квартиру, и поспешно отдала сшить из военных запасов миленький синий демисезонный костюмчик и вечерний туалет. Она говорила о Судетах, как все приличные люди. Но она была не настолько глупа, чтобы ломать себе голову насчет такой дыры, как Либерец, если сама она живет в Праге. Нехлебы у нее не отобрали — это самое главное. Чего ради ей жалеть республику своих девичьих лет? Ничего хорошего Ро от нее не видела — одно горе из-за несчастной любви и неудачного замужества. У Ро Хойзлеровой только теперь открылись глаза, и она поняла, что во всех ее злоключениях виноваты большевики и жидо-масоны. Из-за них ее бросил Карел Выкоукал. Наконец-то они разоблачены, так им и надо!
Когда Станя перечитал свою последнюю новеллу, написанную в ночь мобилизации, перед тем как уйти с перепачканными в чернилах пальцами прямо в армию, ему показалось, что рукопись сохранила жар патриотизма тех дней, такой юношеской решимостью веяло от ее страниц. Можно было прийти в ужас от того, с чем мы за это время примирились, как мы постарели, зачахли, приспособились. Насколько мы были счастливее тогда, в дни опасности! Где наша драгоценная энергия? Она вся ушла на войну мышей и лягушек! У нас остались только горы, железнодорожные узлы да еще характер — это уже хуже.
Станя взял новеллу и помчался в издательство.
— Книга уже в печати?
— Нет, сверстана…
— Вот и прекрасно. — И Станя подал издателю свою последнюю пражскую новеллу. — Я охотно добавил бы ее к остальным, — сказал он. — Надеюсь, что она подойдет. Совсем коротенькая.
Издатель просмотрел рукопись новеллы о всеобщей забастовке, погладил подбородок, скептически усмехнулся:
— Это трудно, книга уже сверстана.
— Пан издатель, сделайте это для меня. Мне это крайне важно. Знаете почему? Надо показать людям, какими мы были… еще шесть недель назад. Влить в них хоть немного бодрости. Пусть очнутся от этой депрессии.
— Этого не пропустят. — И издатель назвал ему книги и фильмы, запрещенные за последнее время. — А если книгу конфискуют, тогда что? Какой в этом смысл? — добавил он недовольно.
Станислав побагровел от бешенства.
— Ну так я забираю рукопись. Или она выйдет полностью, или вообще не выйдет.
— Не забудьте, что вы подписали с нами договор.
— У меня отец — адвокат. Я посоветуюсь с ним. Всего хорошего!
Так погибла первая книга Стани, которой он жил целый год, выходу которой он заранее, как ребенок, радовался и твердо верил, что она появится в свет к двадцатой годовщине республики.
— Если бы вы только видели, — рассказывал Тоник дома, — как у нас мертво на заводе. Все военные заказы приостановлены. Пусть мне не говорят, что правительство собирается защищать нынешние границы.
Они сморщились, как шагреневая кожа! Искалеченная страна лежит под сапогом Гитлера, не в силах подняться, и Геринг хохочет над ней, держась за брюхо. Со своим марионеточным правительством она пыталась разыгрывать государство, тогда как все куклы зажаты в кулак фигляра Гулливера. Да разве только один Гитлер — и польский Бек, и венгерский Хорти получили все, что потребовали, стоило только моргнуть глазом.[81]
Потоки беженцев стекались со всех сторон от границ в центр страны, а как их прокормить? И где им найти работу? В экономических трудностях повинны одни только работающие женщины. Скажите им спасибо за свои несчастья, земляки из Карвина, Моста и Кошиц. Кормиться за счет своих мужей эти бесстыдницы, видите ли, не могут, а вырывать последний кусок хлеба изо рта у беженцев — на это у них совести хватает. Вон всех замужних с работы! Как не стыдно дочери Казмара, этой богачке, объедать республику! Хотя барышня Казмарова не замужем и уже отказалась от наследства, кто станет вникать в такие подробности, когда над Чехией нависли тучи? Еву опозорили в газетах; земский школьный совет приходит в изумление от ее имени. Долой этих амазонок, лишенных женской чуткости! Это они довели республику до продажи с молотка! Дайте в руки врачихам почтенный кухонный нож вместо скальпеля, гоните конторщиц и учительниц к плите, а Гонзу за печь, и в землях святого Вацлава опять воцарится благоденствие. Восстановим старинные обычаи. Спите со своими женами и ешьте свинину с капустой, поручает передать нам через Берана Третья империя, никто не покушается на ваши национальные обычаи, ведь вы наш бодрый, старательный народ. Трудитесь, ходите в церковь, если это вас развлекает, несите вклады в наши Кампелички,[82] — но только, пожалуйста, не лезьте в политику. Видите, до чего она вас довела?
— Но ведь с этим нельзя мириться. Нужно что-то предпринять, — стремительно говорит Власта Тихая Станиславу своим низким грудным голосом (Станислав уже давно не слыхал его) и пристально смотрит на него своими глазищами. Не важно, что Станю когда-то пугал в закоулках Клементинума призрак актрисы. А теперь как ни в чем не бывало она наяву пришла к нему в библиотеку и сидела на стуле возле письменного стола, как всякая другая посетительница, и весь трагизм любви куда-то исчез. Мы пережили столько исторических потрясений! Естественно, что в трудное время старые друзья, когда им становилось не по себе, отыскивали друг друга.
— Как же тебя не уволили, ведь ты теперь замужем? — спросил Станислав.
— Уволили, — ответила Власта, — но опять пригласили. Руки коротки. Как они, скажи на милость, составят репертуар без меня! Хоть театр закрывай.
После мюнхенских дней чувство собственного достоинства у чехов несколько пошатнулось. Но Станислав убедился, что у Власты оно живо по-прежнему.
— Подумай, какую пакость мы теперь будем ставить! — пожаловалась она. — Сейчас репетируем одну комедию на современную тему — подумай только, как скоро! — чехи в ней умнеют и устраивают торжественную встречу королю, а женщины — все до одной круглые дуры. Но я заболею перед генеральной репетицией. В такой пьесе ни за что не буду выступать.
«Дай бог, чтобы она сдержала слово», — подумал Станя.
— А ты читал, как некий набожный писатель пришел в полный восторг от того, что нас постигло; в этом-де перст божий, нас-де давно следовало наказать за наши грехи, в будущем нас ждут еще худшие кары, мы прокляты, — и за все это благодарение богу.
— Ну, он — исключение, — ответил Станя, — писатели-то как раз держатся.
— Да это видно хотя бы по тому, как им достается в газетах, — согласилась Власта. — Вот поэтому-то я к тебе и пришла. У меня были рабочие и студенты и просили, чтобы я устроила вечер декламации — вернее, вечер сопротивления. Показать, что мы не примирились. И если кое-кто сдался, то мы не сдались. Словом, мы должны пустить струю свежего воздуха, чтобы люди заживо не задохлись. Ты ведь, Станя, тоже кое-что написал… дай мне.
Станя покраснел, как девчонка.
— Откуда ты знаешь? — удивился он.
— В театре все знают. Когда можно прислать?
Вступительное слово на вечере произнес адвокат Гамза.
Политические собрания были запрещены, но тем не менее Гамза публично выступил с речью на этой «вечеринке», которая для отвода глаз властям, чтобы те не прислали своего наблюдателя, именуется встречей любителей чешской словесности. Блюстителя закона здесь и посадить было бы некуда. Все переполнено, яблоку упасть негде.
— Прежде всего, друзья, — начал Гамза, — не верьте, что весь мир от нас отвернулся. Это ложь, и нам твердят ее намеренно, чтобы мы, отчаявшись, бросились в объятия своему соседу. Но с тех пор как стоит мир, еще не бывало, чтобы голубок полюбил удава, а барашек — мясника (неистовые рукоплескания), и снами этого тоже не случится. Кто был и остается противником Мюнхена? Все коммунистические партии мира с Советским Союзом во главе, — право, это не так уж мало. Все истинные демократы в Европе и в Америке. Против Мюнхена голосовали английские рабочие, британский народ в защиту Чехословакии устраивал демонстрации протеста.
Не верьте тому, что Мюнхен — наша вторая Белая гора. И это нам твердят умышленно, чтобы мы опустили головы и сидели сложа руки: наша пассивность и отказ от борьбы были бы, конечно, на руку врагу. К чему не переставая оплакивать Судеты? Этим мы себе не поможем. У нас есть Бескиды, есть Карпаты, у нас есть где обороняться, нам не следует демобилизовываться. Речь идет еще об одном фронте — о твердости духа, о том, чтобы бороться с пораженчеством. Никакой Белой горы нет, не бойтесь, ждать еще триста лет нам не придется. Сегодня у истории иные темпы, сегодня она летит. Это не конец, а начало. Война придет, и в ней столкнутся два мира, два мировоззрения, которые делят человечество на два лагеря, две точки зрения, взаимно исключающие друг друга; вера в насилие и неравенство рас — и вера в равноправие и братство народов. Европа вторично очутилась на распутье и снова идет по ложному пути. Она снова оказалась в тупике половинчатых реформ и отсрочек. Проблему безработицы решали то выдачей пособий, то — стрельбой по толпам голодных, вместо того чтобы вырвать зло с корнем и изменить самые основы экономики. Теперь поджигатели рейхстага раздувают пожар мировой войны, а остальные государства не тушат его общими силами, а подбрасывают в огонь полено за поленом, — правда, из чужого сарая, — и пожар все разгорается. Только когда искра попадет на их собственную крышу, у них откроются глаза, они откажутся от этой страусовой политики и прозреют. Враг сам откроет им глаза и наставит их на путь истинный. Жаль, что так поздно! Жаль усилий. В один прекрасный день многие поймут, что заблуждались, и повернут в другую сторону. Не вечно будет Даладье во Франции и Чемберлен в Англии! Правительства уходят — народы остаются. И французы с их славными революционными традициями, и англичане, кичливые своими гражданскими свободами, откажутся прислуживать надутому самозванцу, который кичится перед самим господом богом. Не бойтесь его временной силы. Ни одно дерево не дорастет до неба. Вспомните Наполеона! Я не убежден, что в ближайшие дни путь наш будет устлан розами. Нет. Наоборот. Мы должны закалиться. Нас ждут трудные времена. Но мы переживем их, если будем едины. Не допустите, чтобы на чешских лугах и в чешских лесах зеленела зависть, эта сорная трава в нашем народе. Не слушайте клеветы и не клевещите сами! Храните свой святой гнев про себя — вы сами знаете, для чего! Не давайте народу расколоться, это только на руку нацистам, которые держатся старого правила: «Разделяй и властвуй». Обещайте остаться верными родине.
Зал разразился рукоплесканиями.
— Нужно ясно сказать: мы, коммунисты, готвальдовцы, как и весь чешский народ, всегда и при всех условиях стояли за сопротивление. Мы полагались на нашу армию, на наши военные укрепления, на тридцать советских дивизий, которые стояли на румынской границе, готовые прийти нам на помощь. Мы все заодно в своей любви к республике и в вере в нее. Как это говаривал старый Коллар?[83]«Пути могут быть различны, но воля у всех у нас едина».
— Как меняются времена, — шепнула Еленка Стане. — Наш папа и «будители».
Станислав не слышал ее, взволнованный тем, что Власта Тихая будет читать его прозу.
— Надо напрячь волю и продержаться до зари. Надвигается гроза, еще немного — и грянет гром, от которого рухнет старый мир. Вот почему старый мир собственников и капитала так сопротивляется. Он не хочет умирать. Сейчас наступил не конец, а начало. И из этого всемирного потопа республика воспрянет прекраснее, чем была, омытая живой водой, юная, как в первый день творения. Я это вижу, друзья, я это ясно вижу. Какая это будет радость!..
«Что с ним творится! — думала Нелла, глядя на мужа и вслушиваясь в звуки его голоса. — Его точно подменили. Мы все озлобились от этого несчастья. А он нашел в себе больше любви и доброты, чем раньше».
Да, как цветок нуждается в свете, так и человеку нужна надежда. И все люди, собравшиеся в зале, трезвые, полные горечи, скептические чехи, с трудом выдержавшие испытания последнего времени, столько раз разочарованные, ожесточенные горем и изверившиеся, оттаивали, смягчались и оживали. И не только впечатлительная молодежь. Пожилые медлительные рабочие с суровыми лицами и их озабоченные жены вдруг убедились, что они никогда не переставали верить в лучшие времена. Пускай Тихая вела себя как ей угодно в личной жизни, но стоило актрисе взойти на подмостки — и она оказалась другим человеком, сильным и чистым. Она читала стихи так, ну точно так, как читали бы их вы, если бы ваш язык повиновался вашему чувству. За нее но приходилось краснеть, на сцене она никогда не ломалась. И когда она читала стихи, они были видны со всех сторон, как скульптура. Они пели, как мелодичный поток, бегущий с оплакиваемых гор, которые снова вернутся к нам. Она читала стихи боли, веры и мужества и рассказывала правдивую новеллу Стани о том, как живая вода народа стояла перед парламентом. Станислав и много других молодых поэтов были счастливы в этот вечер. Среди публики была и Ева Казмарова; принимая во всем живое участие, она то плакала, то рукоплескала или делала то и другое вместе. Домой она вернулась совершенно измученная, но готовая мужественно встретить то, что ждет ее завтра.
Доктор Ева Казмарова была на дурном счету в земском школьном совете. Когда-то она помогла в трудную минуту ученице, у которой нашли коммунистическую листовку, и коллега, учительница рисования, не преминула в надлежащее время донести об этом. Хотя увольнения и отставки касались только замужних преподавательниц, Ева получила неоплаченный отпуск. Ее место займет беженец из Судет; и вот наступил последний урок. Бартошова от имени всего класса поднесла ей на прощанье букет красных гвоздик.
Жучок едва сдержала слезы при виде цветов.
— Дети, — сказала она, — я думала довести вас до выпускных экзаменов. Мне очень тяжело прощаться с вами. Вам даже трудно себе это представить. Вы молоды, вся жизнь у вас впереди. А у меня не было никого, кроме вас.
«И зачем мы ее злили?» — казнились девочки.
— Вы опять вернетесь, — закричали они наперебой.
— Я тоже на это надеюсь, — просто сказала барышня Казмарова и добавила несколько наставительно: — Мы не были бы женщинами, если бы не надеялись. Как хорошо говорится о матери, ожидающей ребенка: она в надежде…
Что? Что? Девочки навострили уши. Такие дела их, естественно, занимали. «Я испугалась, подумала, что Жук ждет ребенка», — рассказывала потом одна озорница. Но в этот момент все расчувствовались.
— Женщина — носительница жизни, она обращена к будущему, самый удел ее на земле учит ее верить в лучшее будущее. Когда в Чехии было очень плохо, женщины всегда питали надежды, думая о народе. Мы никогда об этом не забудем. Ни вы, ни я. Прощайте, девочки, до свидания.
— До свидания в лучшие времена, — закричал класс.
Они подошли к кафедре попрощаться еще и лично. Когда к Еве приблизилась Бартошова, Жучок погладила ее по голове и не удержалась, чтобы не заметить:
— Ну так как? «Казмарка опять заболталась и провела время попусту?»
Бартошова покраснела до ушей.
— Молчи, — сказала барышня Казмарова, — я тебя любила. Приходи же ко мне, если тебе что-нибудь понадобится.
Она держалась геройски, хотя сама еще не знала, что с ней будет. «Милая девочка, — говорил ей Розенштам после смерти отца, — нас ждут тяжкие времена, помните о черных днях!»
Но Ева не помнила.
ЧТО ТЕПЕРЬ?
В первой половине марта пани Ро Хойзлерова уехала с горничной на несколько дней в Нехлебы. В этой вилле все делается будто назло. То вода замерзнет, то мотор испортится, то кипятильник не работает, а паркет и мебель в парадных комнатах, если звать к себе гостей на пасху, тоже придется ремонтировать. Панн Ро осталась недовольна всем. Не лежит у нее сердце к этому забытому богом медвежьему углу. Но что же делать? Ро хотела было на святках, как обычно, поехать в Шпиндл, — Хойзлеры не получили пропуска. Она даже поверить не хотела, что немцы не соглашаются пропустить через новую границу двух таких смиренных чехов, как супруги Хойзлер, и ругала за это Густава. Ни за что не умеет взяться. Утешилась тем, что в феврале они поедут на Ривьеру, так им не выдали паспортов. И все Густав виноват. Он такой разиня. Ему хорошо, ходит себе преспокойно в Праге в суд и в контору, а она торчи тут одна в эту мартовскую слякоть с девчонкой и шофером. Ну, днем она наблюдает за мастерами. Люди растащат у вас крышу над головой, если за ними не следить. А вечером что? Вязанье джемперов, кроссворды и патефон ей уже осточертели.
Нелла Гамзова сортировала утром в конторе почту и записывала в реестр содержание писем, даты и день судебного заседания. Шестнадцатого у Гамзы «казмаровский день» — она подчеркнула число и часы красным карандашом. «Казмаровским днем» в суде называются процессы между работающими у Казмара и дирекцией «Яфеты»; дела подбирают и слушают сразу в одно какое-нибудь утро — Гамза всегда ходит сам защищать рабочих. Когда Нелла закончила с деловой перепиской, ей попался небольшой светло-голубой конверт, надписанный ученическим почерком и адресованный ей. Желтоватые судебные документы кажутся старыми и брюзгливыми, и письмецо среди них выглядит нелепо. Она разрезала конверт, развернула письмо и прочитала:
Всемогущий боже, благослови и спаси нас от всякого зла!
Эта молитва должна быть разослана по всему свету. На десятый день после отсылки молитвы в доме случится радость. Эта цепь начата два года тому назад и должна обойти по всему свету в течение четырех лет. Не рви ее, если не хочешь несчастья. В этом пророчестве — правда. Перепиши ее за девять дней, все исполнится. Шахта Сенсиера обвалилась потому, что ее хозяин не отнесся серьезно к молитве. Раус потерял сына оттого, что порвал цепь.
Не забудь и пошли ее девяти лицам до девятого дня, потому что, если разорвешь ее, у Вас случится несчастье.
Нелла не была суеверна, как покойница мамочка. Она разорвала письмо пополам и еще раз пополам и с давним отвращением ко всему анонимному бросила клочки в корзину. Глупцы! Как будто и без того несчастий мало! Глупцы и негодяи! Еще и угрожать! Ей казалось это каким-то моральным вымогательством. Кто теперь станет думать о таких пустяках? Говорить об этой глупости не стоило, но у Неллы уже столько дней нервы были натянуты как струна. Люди переносили мюнхенское горе, как хроническую болезнь, временами она резко обострялась, заботы постепенно переходили в тревогу. Что, например, произошло третьего дня, в воскресенье? Нелла поднимала утром штору, но именно в этот раз болезнь так дала себя знать, что Нелла резко дернула за шнурок, и штора с грохотом рухнула сначала на подоконник, а потом на пол, — Нелла едва успела отскочить в сторону. Что ты делаешь, Нелла? Тебя не ушибло? Какое там ушибло — ты только взгляни! В нескольких шагах, через дорогу напротив, в слуховом окне виллы колыхался огромный красный флаг с высматривающим глазом в центре. Флаг злобно глядел в окна зигзагообразным зрачком, упрямым черным крестом с загнутыми концами. Почему? Что происходит? Да это у немцев праздник фронтовиков. Неужели, Нелла, ты действительно никогда не видела наяву флага со свастикой? Серьезно? Серьезно: в Лейпциге я с тобой не была и мимо немецкого посольства не хожу. Ладно. Флаги в понедельник сняли. Но тут с таинственным видом пришла Барборка и заявила, что ей очень хотелось бы знать, почему немка напротив устроила генеральную уборку и выколачивает волосяные матрацы и тюфяк совсем не вовремя, до пасхи вроде еще далеко. В немецкой гимназии тоже уборка, — Барборка узнала об этом от Петров — они живут напротив, — там ночью из классов вытащили на двор все парты, и их засыпало снегом. Лучше бы Барборка не беспокоилась и прекратила эту слежку за немцами. Немка покупает к обеду говядину и морковь, а Барборка тотчас же видит в этом бог весть какой признак. Лучше бы не пугала! Вся Прага говорит о том, что будто бы немцы избили в Брно чешскую полицию — вот это куда хуже. Но из Брно приехал какой-то человек и уверял, что там все спокойно. По Праге опять шныряют «влайкары»,[84] проникают в квартиры левых, и пока мужья на работе, а дома только жены, они взламывают замки и уносят подозрительные книги, а заодно и кое-что из вещей. Воруют. Но к Гамзам никто не приходил. Должно быть, просто болтовня. Наговорят с три короба! Станя, впрочем, сам был свидетелем, как на Вацлавской площади толпа молодежи, очевидно подкупленной, выкрикивала антисемитские лозунги и требовала нюрнбергских законов. Но мало кто поддался на эту провокацию, и затея с треском провалилась. У нас-то еще что! Но вот в Словакии! Людацкая Словакия[85] причиняет нам много хлопот. Гаха[86] сместил эту спевшуюся троицу: Тисо, Дурчанского и Маху.[87] Это чудо из чудес!
— Такой энергии я от него не ожидала, — заявила Еленка.
— Интересно, почему Гитлер сам его предупредил о них, — сказал Тоник. — В этом опять-таки есть какая-то закавыка.
— Они всегда сперва разыгрывают благородную комедию, — сказал Гамза. — Фюрер еще спровоцирует Гаху, подождите.
И действительно. В тот вторник, когда Неллу так расстроило пустяковое бледно-голубое письмо, Словакия отделилась от нас и провозгласила себя самостоятельным государством.
— Скорее всего, все это делается и готовится с ведома нашего же правительства, — горько замечают рабочие Колбенки, — а там, смотришь, и отделились. Каждый дурак такое бы сумел сделать.
В этот же день в советском посольстве праздновался юбилей Шевченко. Но Нелла так горевала о Словакии, что не чувствовала в себе сил переодеваться, причесываться и заплаканной идти на люди. Маленькая республика распалась надвое, и сердце Неллы разрывалось от боли. В час смертельной опасности на нас напал брат-поляк и содрал с нас кожу живьем. А теперь словаки. Немчура обступает со всех сторон, как стены склепа, осталось только глаза закрыть. И словак бросается за гвоздями для нашего гроба, едва только Гитлер мигнет. Немецкие фашисты, те сумели объединиться от Балтики до Рейна. Как они теперь, должно быть, смеются над нами! Как потирает руки их фюрер, радуясь, что посеял между нами раздор. Они уже похоронили нас. И как презирают. В самое тяжелое время брат идет на брата и предает его. Мир охвачен эпидемией предательства. Когда же придет конец этим черным вестям? Нелла чувствовала себя древней, как Сивилла, которая все помнит. Оставьте меня с Митей, мне не до общества.
Но хитрая Еленка знала, как на нее подействовать.
— Мама, ты просто боишься, что тебя увидят шпики Берана, когда ты будешь входить в советское посольство.
Это замечание решило дело. Нелла позволила себя уговорить, оделась и пошла.
На границе Виноград и Шижкова стоит вилла «Тереза» в стиле ампир — гостеприимное советское посольство.
Гамзы помнили ее с первого дня, и то, как они в ней веселились по-студенчески, чувствуя себя там как рыба в воде. Они бывали в вилле «Тереза» задолго до того, как первая республика юридически признала Советский Союз. За это «Народный страж» и другие газеты напали на Гамзу, а он смеялся над их бранью. Все деятели чешской культуры, кто был молод духом и неподкупен — группа левых поэтов, архитекторы-пуристы, «дикие» художники и радикальные политические деятели, — весь авангард пражской интеллигенции собирался на чай в виллу «Тереза» и проводил там веселые дружеские вечера. Когда сегодня супруги Гамза прошли через мокрый садик мимо двух ампирных статуй и вступили в переднюю, куда доносился горьковатый аромат чая и оживленный гул голосов, когда сдали пальто знакомому гардеробщику в русской рубашке, который беспрестанно улыбался своими монгольскими глазами (послы меняются — «домовые» остаются), и, пожав руку хозяину и хозяйке, вошли в соседнюю комнату, где уже сидели старые друзья, казалось, что жизнь повернула вспять, как турникет, и они вступили в беззаботные дни молодости. Как будто не было Гитлера с наполеоновским клоком волос на лбу, ни лживого лица Берана, а только Ленин с головой мудреца и Сталин с лукавой усмешкой и живым решительным взглядом смотрели со стены на шумное общество. Потом все стихло, дамы уселись; плавно полились украинские стихи, целуясь в рифмах и обнимаясь с мелодией песни; Тоник с Еленкой, послушав их, опять повторяли словечки своего медового месяца. В России зима? Север? Сибирские морозы? Кто это сказал? Таким полным человечности теплом веяло от русских в вилле «Тереза», и люди, окоченевшие от забот, оттаивали здесь и молодели. Тут были гостеприимны, просты, равны, полны достоинства и веселья; здесь никто никого не предавал — счастливые люди. В мозгу, чуть затуманенном водкой, в золотистом свете чая, Мюнхен и отторженная Словакия уплывали куда-то далеко-далеко и не так угнетали. Знаете, как бывает, когда дети пришли в гости и хотят остаться в гостях навсегда? «Боже, если бы не нужно было идти домой», — подумала, как старуха, Нелла Гамзова. Они сидели в угловой комнате с несколькими друзьями Гамзы и вспоминали тех, кто когда-то сюда ходил и кого теперь здесь не хватает. Сколько товарищей уехало после Мюнхена за границу! И, конечно, один за другим в эти годы отпадали пражские немцы. Один из писателей, когда-то левый, расстался со своей женой, дочерью раввина (какая это была любовь! — они поженились против воли обеих семей), а сегодня он стал советником нацистского посольства. Нелла сидела против двери в большую гостиную, где гости, стоявшие группами, болтали и смеялись в облаках дыма. Никто не спешил домой. Из виллы «Тереза» никому не хотелось уходить, особенно теперь. Здесь, как в освещенной каюте парохода, уверенно плывущего во мраке политических бурь, вам на короткое время становилось хорошо. А вот и редактор Худоба, Нелла его сегодня еще не видела. Правда, он только что с работы. Но едва он подходил к спокойно разговаривающим группам людей, как разговор обрывался, смех замолкал, точно заткнутый пробкой, навстречу ему поднимались вопросительные и серьезные лица. Точно фонарщик шел по улице и гасил фонарь за фонарем.
Худоба принес вечерние телефонные сообщения.
— Вы знаете, что немцы занимают Моравскую Остраву? Гитлеровская армия.
— А как наш гарнизон, держится?
— Боже мой! Опять новый район. Который же по счету?
— Десятый, по крайней мере.
— У Фридека, говорят, идут бои.
— Гаха будто бы уехал в Берлин.
— Как и Тисо.
— Утка!
— Все это, безусловно, связано одно с другим.
— Становится опасно. Ты бы попробовал скрыться, — сказал Худоба Гамзе.
Все забеспокоились, гости начали прощаться. Нелле пришло в голову: вилла «Тереза» — несколько десятков квадратных метров в центре Праги — это ведь советская территория. Она слыхала, что территория посольства неприкосновенна. Никто бы не мог здесь напасть на Гамзу. Ей хотелось попросить: «Оставьте его здесь! Он такой упрямый! Наверняка устроит что-нибудь. Прошу вас, оставьте его здесь».
Но мысль эта показалась ей фантастической, детской — Нелла побоялась, что ей достанется за это от Гамзы, и она не посмела утруждать просьбой, побоялась высказать вслух свое желание. Странно, что даже в минуты большой опасности продолжают действовать общественные условности. Нелла попрощалась с хозяевами, как все, пожала руки, как все, даже улыбнулась своей страдальческой улыбкой первой мировой войны. Они прошли по садику мимо двух чугунных статуй, которые влажно блестели в потемках, и райские врата захлопнулись. Через забор склонялись голые ветви плакучей ивы, растущей на неприкосновенной советской земле. Они снова оказались среди негостеприимной жизни. Боже, какой стоял холод! Люди шли, инстинктивно тесней прижимаясь друг к другу, чтобы согреться. Тоник взял Еленку под руку, Нелла — Гамзу и крепко вцепилась в него. Он был тут, жив и здоров. Худоба шел вместе с ними и уговаривал адвоката уехать в деревню.
— Пойдем куда-нибудь, выпьем черного кофе, там обсудим, — оттягивал разговор Гамза. — Что ты делаешь, Нелла, куда ты? — удивился он, заметив, что она свернула по направлению к Жижкову.
— В контору, — произнесла она недружелюбно. — Там нужно навести порядок.
Еленка всегда противодействовала тревогам матери. На этот раз она сказала:
— Мама права. Я тем временем займусь квартирой.
Итак, желание Неллы Гамзовой не возвращаться домой подольше осуществилось самым странным образом.
Ночью закрытая контора имела призрачный вид. Стулья стояли, тупо растопырив ножки; слабо светила лампочка под потолком, и все-таки можно было пересчитать каждую шишечку и каждую складочку на старых, ободранных кожаных креслах; пепельницы с окурками вызывали отвращение и грусть, как в харчевне; на столе актовые книги с загнутыми углами, из корзины для бумаги торчал обрывок противного бледно-голубого письма — разорванная цепь счастья. На корешках энциклопедии Отто, унаследованной Неллой после отца, неподвижные крылатые фигуры, которых она так боялась в детстве, снова походили на ангелов смерти. («Напрасно я пила водку, я ведь ее не переношу, — говорила она себе, — вот и лезет в голову всякая чушь».)
Без клиентов в приемной, без помощника Клацела, который то и дело подходит с актами к письменному столу Гамзы, без трескотни ундервуда, а также без тряпки и метелки пани Гашковой, которая придет сюда рано утром проветривать и убирать, в конторе было жутко. Как только люди уходят отсюда, духи бумаг, насквозь пропитанные застарелым табачным дымом, наполняют воздух безутешным отчаянием; полки ревматически потрескивают; в потухших печах что-то стучит. Полная противоположность блестящему обществу, откуда супруги только что вернулись. Но Нелла Гамзова даже не пикнула. Она подобрала вечернее платье, стала на колени перед печкой и встряхнула коробку спичек, готовясь поджечь бумаги.
— Ну так, подавай, — только и сказала она.
Она произнесла это так недружелюбно, как будто Гамза был виноват, что немцы в Остраве. Но это происходило оттого, что она принуждала себя к деловитости, чтобы зря не говорить и не расплакаться. Они оба знали это. Да и как не знать после стольких лет.
Господи! Бумаги, бумаги-то сколько! Куда ни поглядишь, за что ни хватишься, что ни копнешь — всюду бумага, и пыль с нее летит тучами, хотя ежедневно здесь наводит чистоту пани Гашкова. Процессы рабочих, политические процессы, тяжбы с Казмаром, процессы партийной печати. Что вы хотите? Гамза — адвокат-коммунист.
Петр мог ворчать из-за мелочей. Но едва приближалась опасность, как на него находил азарт. С бесшабашным выражением уличного мальчишки он окинул взглядом контору, посмотрел на жену.
— Тебе, пожалуй, будет тяжело, — заметил он. — Если жечь все, к чему могут придраться, чего доброго, получится второй пожар рейхстага.
Нелла Гамзова, стоявшая в своем вечернем платье на коленях у печки, поспешно поднялась.
— Да… вот именно, — сказала она и ткнула пальцем в Гамзу. — Материалы Лейпцигского процесса. Это хуже всего, верно? Подожди, я знаю, где они лежат.
Она бросилась в библиотеку, но Гамза притащил ей охапку старых антифашистских листовок и карикатуры на Гитлера.
— Посмотри, девочка. Это вот сожги, а то мы спрячем. Это такой ценный исторический материал — у меня там весь Лондонский процесс, все… лишиться их мне не хотелось бы.
Нелла вышла из себя от его неблагоразумия.
— Когда ты уезжал в Лейпциг, — сказала она твердо, — ты оставил завещание. А теперь вдруг… такое легкомыслие.
— Хорошо, я напишу еще одно завещание, если тебе так хочется, — рассердился на нее Гамза, и Нелла пришла в отчаяние.
— Ну что мне с тобой делать?
Она предложила спрятать ценный материал в чуланчик, где лежит пылесос и всякий хлам. Бумаги она засунула бы за шкаф.
— Да ты в своем уме? Там станут рыться прежде всего. Никаких тайников. Детективные романы учат прятать на видном месте. Никому и в голову не придет их тут искать.
Материал Лондонского процесса пока спокойно полежит в одной куче с макулатурой, а завтра Гамза перевезет его в какое-нибудь укромное местечко, вне подозрений, лучше всего к какой-нибудь пожилой женщине, там никто не станет его искать. Это уж он устроит. С этим материалом время терпит, а вот адресную книгу следует уничтожить, чтобы никого не провалить. И список телефонов — тоже.
Гамза перепачкался, как трубочист, белая грива волос упала ему на глаза, он усердно передавал жене, стоящей на коленях у печки, пачки бумаг «к исполнению». Нелла подбрасывала, смотрела, как пылает, чернеет, свертывается, рассыпается в огне бумага. Мелькнуло в голове: «Наверно, это мне только снится». Возможно ли, чтобы два взрослых человека играли в прятки в своем собственном доме? Кто сошел с ума: мы или весь мир? Но чем больше она сжигала, тем спокойнее становилось у нее на душе, работа действует умиротворяюще. Вот так они и хозяйничали вместе.
— Нелла, помнишь, как меня выбросили из земского комитета и мы с тобой устраивали контору? Ведь мы тогда тоже были здесь ночью, — вспомнил Гамза.
Нет, этого лучше было бы не припоминать. Нелла сдерживалась, чтобы не заплакать, а теперь начала всхлипывать.
— Погоди, — нежно упрашивал ее Гамза. — Тут у тебя сажа. Молчи, не плачь, все опять будет хорошо. И даже гораздо лучше. Только терпение. Главное — не бояться. Ты не боишься, не правда ли?
— Вообще-то нет, — ответила Нелла и подняла на него глаза, полные слез. — А то еще беду накличешь, — проговорила она. — Вот ни капельки не боюсь.
— Ты у меня золотая девочка. — Гамза привлек к себе жену и, хотя они были не молоды, долго не отпускал ее от себя.
— Ты негодный, — сказала ему Нелла чисто по-женски и поправила волосы. — Вот увидит нас пани Гашкова.
Они вернулись домой только во втором часу, но Станислав, который уже знал от Еленки о Моравской Остраве, до сих пор не погасил света и ждал их.
— Ты бы уехал, папа, — сразу начал он, увидев отца.
Гамза улыбнулся.
— Очень вам благодарен, что все вы меня выпроваживаете. Но сначала мы выспимся, а утром посмотрим. Спокойной ночи.
Станислав долго не мог уснуть и ворочался на кушетке. Ему снилось, что он попал в какую-то шахту, выложенную белыми изразцами; собственно, это не шахта, а подземная железная дорога. Станю даже не удивляет, что в Праге метро и по этой железной дороге проезжают переполненные вагоны. Станиславу надо их считать, он следит за ними с таким мучительным вниманием, что не может заснуть. Каждый раз, когда проезжает вагон, раздается звонок; звонок звонит настойчиво, и Станя вдруг понимает, что это дребезжит телефон. Почему так рано? Скупой рассвет, самый грустный час для неврастеников. Он встал, стуча зубами; в коридорчике, не умолкая, дребезжал телефон, так что мороз подирал по коже. Когда Станя поднял трубку, он заметил, что у немцев, живущих напротив, все окна освещены, как на рождество.
— Говорит Алина, — произнес торопливый женский голос. — Немецкая армия идет на Прагу, через час она будет здесь. Защищаться нельзя, иначе придется плохо. Не сердитесь на меня, — к сожалению, это правда.
В телефоне икнуло, вероятно, женщина всхлипнула, и, прежде чем Станя спросонок успел спросить, откуда это она взяла, та повесила трубку.
У Станислава так тряслись неуверенные, окоченевшие пальцы, что он никак не мог повесить трубку.
«Дай бог, чтобы это была неправда», — подумал он, сердясь, как всякий человек, на вестницу несчастья. Во всем, что было рокового в жизни Стани, участвовала эта баба, эта сводня. Может быть, она подшучивает надо мной? Но он хорошо знал, что это не так. Такими вещами не шутят даже Алины. Оставалась жалкая надежда, что эта взбалмошная женщина, как всегда, услышала где-нибудь нечто подобное и, не долго думая… Но Острава! Будить отца? Дать ему еще несколько минут поспать? Теперь это все равно. Нет. Станя всю жизнь будет упрекать себя, если отец замешкается.
В то время как Станя стучал в дверь к родителям, опять раздался телефонный звонок. Теперь телефон звонил не умолкая. В одну минуту вся семья была на ногах. Известие подтверждалось и по радио: оно все время призывало солдат уступить превосходящим силам немцев и спокойно позволить разоружить себя, потому что президент Гаха отдал нас под покровительство райха и о нас уже позаботились. Сдать винтовки, револьверы, автоматы… казалось, было слышно, как звякает оружие, когда его бросают в кучу, а перед глазами стояли батареи орудий и ряды танков…
— Говорят, сегодня ночью исчезли какие-то военные самолеты, — принесла Барборка с улицы.
Стояла ненастная погода. Город, где столько обнаженных садов под низким небесным сводом, в часы своего падения походил на костлявого седого старика с косматыми бровями, которые угрожающе нахмурены. Но на улицах пока не происходило решительно ничего особенного. И в это утро шли женщины с бидончиками для молока и несли из булочной рогалики, вставали ученики, чтобы пойти в школу. Дети даже не подозревали, как они помогают взрослым в это призрачное утро тем, что те должны заботиться о них. Из-за плохой погоды Еленка закутала Митю до ушей и проводила его до самых ворот детского сада, хотя раньше он ходил туда один. Он был оскорблен и всячески старался отделаться от провожающей его матери. То, что его отвели в детский сад, как маленького, ему неприятно не меньше, чем то, что немцы занимают Прагу. Ведь если никакой войны не было, значит, мы ее и не проиграли?
Люди не поддавались панике, как в тот раз, когда ждали бомбардировки Праги. И это не была тоска о горах после Мюнхена. Каждый наносимый нам удар вызывал другой оттенок в чувствах, которыми отвечал на него народ. Он не бушевал, как после Берхтесгадена. Нет. Это… было как удар грома. Все окаменели. Уснули в республике, пробудились — ее больше нет. За ночь нашу страну под наркозом оскопили — вот какое было ощущение.
Ах, Нелла знала, почему от звука проезжающего мотоцикла, с этими частыми очередями выхлопов, у нее издавна тоскливо замирало сердце в предчувствии несчастья. Так вот почему! То был не безобидный пан Мразек на красной «индиане», а три мотоциклиста в холодных, гладких резиновых плащах; ветер гнал перед ними снег наискосок через дорогу. К нам шла новая зима. По шоссе от Белой горы, мимо окон Гамзы, на Прагу надвигалась беда. Три мотоциклиста не походили на тех гордых победителей, какими они представлялись. Всю ночь с ними бежала непогода; они ехали медленно, трусливо озираясь, ежеминутно ожидая, что их вот-вот пристукнут из-за угла. В чешских землях готовится большевистское восстание, они пришли подавить его и спасти народ, который обратился к ним за помощью через президента Гаху. Начальники им это все точно растолковали в приказе, а что скажет начальник, то для немца свято.
Но никто не стрелял по напуганным мотоциклистам, никто из чехов их не приветствовал, никто не проявлял благодарности, никто о них не заботился. Люди шли по своим делам и не замечали их. За мотоциклистами вползли танки на своих гусеницах-удавах, и эту колонну движущихся крепостей уже действительно трудно было бы не заметить, тем более что они ехали по правой стороне, а мы привыкли ездить по левой, и на Хотковском шоссе то и дело возникала сутолока и образовывались пробки; полицейским — регулировщикам уличного движения, беднягам, волей-неволей пришлось иметь с ними дело, но прохожие, толкущиеся на тротуарах, эти известные ротозеи, крестники Влтавы, без которых не обойдется ни одно уличное происшествие — будь то павшая почтовая лошадь или чайка, прилетевшая на реку, — попросту их не замечали; не знаю, как это случилось, но когда немцы вошли в Прагу, пражане проходили мимо немецких танков, как мимо пустого места. К Граду ехала немецкая артиллерия, каждый, конечно, знает, как такие пушки грохочут по мостовой и как от этого дребезжат оконные стекла. Но ни одна живая душа их не видела. Пражане, очевидно, оглохли, никто из них не оглядывался на немецкие орудия. Разумеется, так Барборка и доставит вам эту радость — остановится и будет глазеть вслед, разинув рот, — дожидайтесь… Маленькая барышня Казмарова, в запотевших очках спешила на Винограды на частный урок и столкнулась с марширующими флейтистами. Она свернула в боковую улицу и переждала, когда они пройдут. Три франтоватых прусских офицера, громко разговаривая, остановились перед театром, как раз когда Власта шла в полдень на репетицию. Она и бровью не повела. С отсутствующим лицом, глядя перед собой своими совиными глазищами, она шла навстречу им, как будто лейтенанты были из воздуха. «Молчим и презираем, молчим и презираем», — звучали в ее душе стихи любимого поэта. Но плакать? Нет, такой радости вы от нас не дождетесь. Никто не сказал народу, как держаться, когда немцы придут в Прагу. Право, на это не было времени. Но рабочие с Колбенки, и Станислав Гамза, и бабы на рынке вели себя совершенно одинаково: не видим, не слышим, не знаем. Президент Гаха отдал нас под покровительство Третьей империи, даже не спросившись у нас, как и фюрер у него не спрашивал. Премного ему благодарны. Народ отвернулся от него, и он остался в дураках. «Народный страж» мог сколько угодно писать о государственной прозорливости Гахи и о нашей сватовацлавской традиции[88] — на Вацлаваке, назову по-простецки, не было и ноги чехов, когда армия райха шла по городу церемониальным маршем. Пражские уличные мальчишки не торчали на тротуарах главных проспектов, а армия, любая армия для мальчишек — это искушение! Если, быть может, кто-нибудь из них и порывался посмотреть, мама дергала его за рукав, а папа показывал палку, и у мальчика пропадала всякая охота глазеть. И когда красивые пражские девушки высыпали толпой с фабрик и из продуктовых магазинов на улицы, которые стали похожи на военный лагерь — столько было немецкой солдатни, — то они не желали и глядеть на немцев. Чехи — пренеприятный народ. Взглянешь на чеха, а он свертывается, как ежик в клубок; стоит к нему обратиться с чем-нибудь, как сейчас же он спрячется в свою раковину, как улитка, и никогда ты не узнаешь, что он, собственно, думает. Вот и изволь с ними поладить после этого.
Но будем справедливы. Правда, по большей части это были немки, которые сберегли честь старой германской области «Чехия и Моравия»; все эти дамочки (как, например, соседка Гамзы) сейчас же нацепили свастику на пальто и, безумно вытаращив глаза над огромными букетами, изнемогали от желания приветствовать героев и предлагали им в своих квартирах образцово убранные комнаты, предпочитая, однако, поручиков из авиационных частей. Но и среди чешек кое-где находилась черная овца или белая ворона (смотря по тому, с какой стороны на это глядеть), короче говоря, симпатичная особа, мгновенно почуявшая тонким женским инстинктом, как должна вести себя с покровителями хозяйка, у которой любвеобильное сердце.
В живописном пограничном местечке Унброт (Нехлебы) к вилле, которая в этом захолустье выглядела вполне прилично, свернуло авто с немецкими офицерами. Маленькая горничная, заикаясь, прибежала к хозяйке:
— Царица небесная, что нам делать, милостивая пани, к нам на постой идут швабы с нашивками!
Ро ответила:
— Дурочка, что ж ты их не пустила? — и вышла, такая стройная, на крыльцо, где покойница старая пани Витова встречала когда-то детей в семейном фордике.
«Ein Prachtstück!»[89] — подумал офицер и бегло окинул взглядом, от высокой груди до стройных лодыжек, фигуру этой женщины, обтянутую спортивным джемпером. У офицера были ясные холодные глаза, прямой нос, один из тех заносчивых носов, которые их владельцы любят показывать в профиль, вздернутая верхняя губа, властная осанка. Этот высокий вояка был одет в зимнюю форму стального защитного цвета, сшитую точно по модели, великолепно напечатанной на роскошном титуле «Рейхсвера». У него внушительный вид, и он это знал. Он произвел на Ружену именно то впечатление, какое хотел произвести. Он весьма учтиво на безукоризненном чешском языке объяснил ей, что в гарнизонном городке нельзя получить приличной квартиры и что для нескольких офицеров из высшего командного состава требуется ночлег.
Ро не сводила с него глаз.
— О, bitte, bitte,[90] — произнесла она высоким приятным голосом «для клиентов», каким она уже давно не говорила после замужества. — Сделайте одолжение, войдите. Какое счастливое совпадение. Мы как раз отремонтировали дом, и für die Herrschaften[91] у нас места достаточно. Мой муж, как нарочно, в Праге.
— Das nenne ich Gastfreundlich zu sein,[92] — одобрительно сказал офицер и вошел в дом. — Вы курите, сударыня?
Чины высшего командного состава оказались действительно очаровательными. Без разговоров они оставили владелице дома «ее бывшую девичью комнатку», и вечером за вином, сидя во главе стола с шестью мужчинами в мундирах германской армии, повеселевшая Ро Хойзлерова почувствовала наконец, что великосветские люди там, где она. (Вот как она вознаграждена за то, что не поленилась переписать девять раз цепь счастья!)
Ненастье не проходило. Вечером начались такой ураган и метелица, что просто ужас, как будто окоченевшие немцы привезли с собой в Прагу новую зиму. Нелла всячески отгораживалась от безрадостной жизни. Митю уложили спать; но взрослым ложиться не хотелось, хотя все после бессонной ночи слонялись как привидения. Они сидели вокруг волшебного ящичка с зеленым глазом и ловили то, что говорил мир об их несчастье. Нового было пока мало; короткие сообщения, к тому же неясные из-за атмосферных помех: безразличие Франции, досада Москвы. Бесконечно курили, разгоняли сон черным кофе из пузатого хромоногого кофейника Неллиной прабабушки; временами кто-нибудь вставал и, нервно зевая, становился спиной к печке. Всех пробирала внутренняя дрожь; Станя с Неллой — более чуткая половина семьи — упорно кашляли, точно они ночью наглотались дыма, когда жгли бумаги.
— Вечера у семейной лампы, — иронически бросила Еленка. — Нам не остается больше ничего другого, как страшные рассказы у семейного очага.
Едва она успела это произнести, как раздался звонок.
По телу Неллы пробежал электрический ток: гестапо. Пришли за Гамзой. Кто же еще может быть? В первый вечер никто не смел выйти из дому.
— Это я, Барборка! — Она пошла к соседям в нижний этаж и, выбитая из колеи сегодняшними событиями, забыла ключ от квартиры. — Значит, он у нас уже здесь, — сообщила она.
— Да кто?
— Ну этот разбойник. Он уже в Граде.
Гамза свистнул.
— Черт возьми, как ему не терпится! Хозяин ведь еще и вернуться не успел…
— Гаха и в Берлин не поспел, когда немцы занимали Остраву.
— Говорят, на Нерудовой улице машину-то у Гитлера занесло, — рассказывала Барборка с некоторым оттенком ужаса. — В гору въехать не могла по этим сугробам. Знамение это, Град его принять не хочет.
— Жаль, что не разбился! — пылко воскликнула Нелла. — Представьте себе такое счастье! Ах, в каких зверей нас превратили! Раньше я никому никогда не желала смерти.
— Наломать себе здесь бока в первый же вечер, — говорит Еленка, употребляя крепкие выражения нехлебской бабушки. — Честное слово, я посовестилась бы все-таки. Приехала бы… ну хоть через недельку.
Они шутили с юмором висельников; а вьюга завывала в печной трубе, как на любительском спектакле. У Станислава все еще сохранялось ощущение чего-то нереального, как будто он все воспринимал под наркозом, от которого оцепенели все чувства. Ради бога, скажите, возможно ли сегодня, в двадцатом веке, чтобы какому-то злобному фантазеру с нашивками на рукаве ради какой-то свастики в кружочке взбрело в голову сделать несчастным целый народ?
— Знаете, что будет ужасно, — пришло в голову Тонику, и он беспокойно встал, — если он вдруг возьмется за ум и удовлетворится нами. Потом, конечно…
— Что ты выдумываешь? — рассердился Гамза. — Это не конец, это начало.
— Не беспокойся, — добавила Еленка. — Это психопат, описанный в учебнике.
Но и на самом деле было что-то пугающее в мысли, что мы отданы на милость бандиту, который теперь хозяйничает в пяти минутах от нас, в Граде.
— А по-моему, вам бы перебраться подальше куда от дома, — посоветовала Гамзе Барборка, которая считала близость Гитлера в местных масштабах опасным соседством, словно из цирка на Летне сбежал тигр и бродил теперь по Стршешовицам.
— Ну, — сказал Гамза, — я не Рем, чтобы Гитлер соизволил меня застрелить собственноручно.
— Мне такие шуточки совсем не по душе, — заметила Нелла.
— Вот что, папа, можно подумать, что ты в жизни никогда не сидел, — напрямик сказала Еленка, — Сажали тебя при первой республике, к тому дело идет и сейчас. Признавайся, что это было бы ни к чему.
— Я не хотел бы, — ответил Гамза, — пока у меня не закончены кое-какие дела. Да, представьте себе! Теперь поговорим серьезно. За мною наверняка придут, на этот счет у меня нет никаких иллюзий. Правда, не сейчас, не в первую очередь. Не такая уж я важная птица. А тем временем я скроюсь… не говорю, за границу.
— Ночевал бы ты где-нибудь в другом месте с завтрашнего дня, — посоветовала ему Нелла.
— Это можно. А что ты им скажешь? — спросил он чуть насмешливо.
— Что ты старый гуляка и я не знаю, где ты шляешься. И в контору лучше пока не показывайся. Там, как на пражском мосту. Там всякий может…
— Так или иначе, завтра с утра меня там не будет, у меня «казмаровский день».
— Ты думаешь, суд состоится?
— Ну конечно, ведь все идет своим чередом.
На следующее утро в жижковской конторе, где вечно хлопали двери, воцарилась необычная тишина, и помощник Гамзы Клацел с Неллой говорили, что у чехов перед лицом общего врага пропала всякая охота заводить кляузы. Несчастная женщина! Вошла и сразу заплакала. Вчера, когда немцы начали ездить по правой стороне улицы, они сбили ее мужа, фабричного сторожа, возвращавшегося на велосипеде домой после ночного дежурства. Переехали ему обе ноги. Пришлось отправить прямо на операционный стол. В больнице врач сказал ей, что он останется калекой. У них четверо детей. Что делать? Кто выплатит им вспомоществование за увечье? «Знаете, жаловаться на рейхсвер — дело трудное». Но Клацел пообещал сделать все возможное, а пока женщине оказали денежную помощь.
Нелла достукивала на своем ундервуде заявление пострадавшего сторожа, когда в канцелярию вошел человек в потертом, но тщательно вычищенном черном зимнем пальто, галантно снял шляпу, низко поклонился и спросил доктора Гамзу.
— Он на заседании суда, — ответил Клацел. — Что вам угодно? Я его замещаю.
Господин со сморщенным лицом и с мягким пушком вместо волос на голом шишковатом черепе учтиво подошел к письменному столу. Он держал шляпу обеими руками, точно в церкви. Нелле показалось, что он смотрит через плечо Клацела в реестровую книгу.
— Мне нужно поговорить с доктором лично, — ответил он сдержанно. — Он будет здесь после полудня? В четыре? Хорошо. Я зайду, с вашего разрешения. Премного благодарен. Нижайшее почтение.
Он говорил по-чешски, по-видимому, это был настоящий чех, по произношению ведь сразу видно. Но почему, когда он проходил мимо груды макулатуры, где до сих пор лежал материал заседаний международной следственной комиссии, у Неллы возникло такое чувство, будто посетитель идет около мины, и если он ее зацепит, то взорвется вся контора? К счастью, он спокойно прошел мимо кучи старой бумаги и с низким поклоном вышел из комнаты.
— Н-да, — буркнул Клацел, когда за посетителем захлопнулась дверь на лестницу. — Мы ждем Гамзу ровно в четыре, так-то так. Но, Нелла, мне что-то не нравится этот тип… Хотя… такой, конечно, мог спросить Гамзу, чтобы выкачать из него деньги.
— Нет, нет, — перебила Нелла и схватилась за шляпу. — Когда у нас в прошлый раз в доме был обыск, шпик был так же галантен, разговаривая со мной в передней. Съезжу-ка я к Петру в суд.
— Погоди минутку, чтобы не встретиться с этим субъектом внизу, — посоветовал ей Клацел.
«Больше Петр в конторе не появится, — подумала Нелла, пылая решимостью, и сбежала по лестнице. — Отпуск по болезни — и в деревню. Например, в Черновице, откуда Барборка родом».
Такси не было, в них ездили господа с нашивками.
Площадка трамвая была переполнена немецкими солдатами. Они громко разговаривали — чего им стесняться. Сегодня они больше не были озабочены и ничего уже не боялись. Никто их и пальцем не тронул, они нажрались и напились до отвала, им так понравилось в этой богатой стране. Они хохотали гортанным смехом — где бы ни заговорил немец, его сразу можно узнать по смеху. Все солдаты были подпоясаны ремнем с выбитым на пряжке лозунгом: «С нами бог». Немка с завитыми волосами (откуда они только взялись, эти женщины?) объясняла серьезным голосом своему сынку (у всех мальчишки — это ужасно!), что означает солдатский лозунг «Gott mit uns».[93] Нелла всегда любила детей, всех детей. Но теперь, когда немецкий карапуз открыл ротик и сказал «Mutti», ей стало тошно, она с удивлением почувствовала, боясь признаться самой себе, что она его ненавидит. Ребенок не был виноват в том, кто его родители, она не позволила бы себе обидеть его, но она ненавидела его от души. Что вы с нами сделали? И как, почему мы не выходим толпой на улицу, не кричим, сжав кулаки, не протестуем против всего этого? Уж лучше бы нас расстреляли…
Однако она не теряла самообладания ни на минуту, отлично понимая, что происходит. Она стояла молча в вагоне пражского трамвая, приличная, хорошо одетая, в вагоне, гудящем от немецкого говора, держалась рукой в перчатке за кожаную петлю, чтобы не упасть, и ехала из Жижкова на Карлову площадь в суд по рабочим делам предупредить Гамзу.
Только когда она проходила мимо какого-то авто в знакомое здание суда, привычно пахнущее табаком, печами и пылью, стертой мокрой тряпкой, когда она увидела ожидающих, которые, как всегда, сидели на скамейках или прохаживались по широкому коридору, ее вдруг охватили сомнения. «Что же я ему скажу? Тебя спрашивал в конторе какой-то тип, который нам не понравился». И это все? Ей придется вызвать Гамзу с заседания, чтобы сказать: «Я за тебя боюсь, я ужасно за тебя боюсь». Ведь ей достанется от него — и поделом. Страх всегда накликает несчастье. Она растерянно плелась по сводчатому коридору, где отдавался каждый ее шаг, мимо людей на скамейках, которые на нее смотрели, к залу заседаний, номер которого ей был известен, раздумывая, не послать ли за Гамзой служителя или подождать перерыва, — и вдруг двери отворились, и Гамза вышел, будто по вызову. Впрочем, он был не один. Возле него шагал тот самый учтивый человек в потертом, но тщательно вычищенном черном зимнем пальто и прикидывался деликатным.
Гамза, как всегда, когда волновался, казался веселым.
— Я должен кое-что объяснить в полиции, — сказал он торопливо. — Я скоро вернусь.
Нелла кивнула, взяла его за руку и улыбнулась ему, улыбнулась той же улыбкой, какой она провожала его в Лейпциг.
Учтивый человек подвел Гамзу к авто, в котором ожидали двое, все сели и уехали по направлению к Спаленой улице.
Нелла твердила про себя, как безумная:
«Это, может быть, не гестапо. Может быть, все-таки не гестапо».
Представлялись удары ногой в дверь, взломанные замки и потом мертвая тишина… Что теперь? За кем придут раньше? За Еленкой? За Клацелом? За Станей?
Когда она свернула у Новоместской башни, она увидела, что на доске в память молодых патриотов наклеено какое-то объявление, около которого толпился народ. Два молодых парня в спецовках только что отделились от группы людей и пошли рядом.
— Ну, так знаешь, что теперь у нас здесь? — произнес один певучим пражским говором. — Протекторат.
— Так-то так, — медленно процедил второй. — А тем, кто рад, недолго радоваться.
Они широко шагали по пражской мостовой, спокойные и уверенные в себе, ничем не замечательные парни, и взволнованная худощавая дама, обгоняя их, почувствовала, несмотря на всю свою тоску, что какая-то сила поднимает ее голову и распрямляет ей плечи…
Примечания
Роман «Игра с огнем» («Hra s ohnĕm») вышел в 1948 году в издательстве «Книговна Свободных новин». Удостоен Государственной премии за этот год.
Судя по концовке «Людей на перепутье», Пуйманова предполагала продолжить повествование о своих героях. В 1938 году она намеревалась совершить вторую поездку в СССР. Видимо, писательница хотела собрать материал для того, чтобы проследить за судьбой своего героя в Советском Союзе. Она предполагала посетить Кавказ и Ташкент, где разыгрывается действие глав, посвященных Ондржею в третьей части трилогии. Однако в беспокойной обстановке того времени, когда над Чехословакией нависла смертельная опасность, писательнице не удалось осуществить свои планы. Она вернулась к работе над романом сразу же после Освобождения, в 1945 году. Пуйманова утверждала, что она понимает заглавие романа и в буквальном (пожар рейхстага) и в переносном смысле. «Поджигатели рейхстага так долго играли с огнем, пока не подожгли мировую войну… А консервативная Европа молча терпела это…»[94] Пуйманова замечает, что мотив опасной игры с огнем повторяется и в изображении личной жизни героев — например, в любви Стани к Власте Тихой или в поведении Казмара накануне гибели. Пуйманова столь же тщательно собирала материал для своего второго романа, как и для первого. Она проштудировала материалы Лейпцигского процесса, с большой точностью использовала их в романе, повидалась с Георгием Димитровым, совершив для этой цели поездку в Болгарию, которая описана в книге «Славянский дневник» (1947). В романе отразились и многие личные впечатления писательницы.
1
Стиль мебели — «Людовик Пятнадцатый» (от франц. Louis Quinze).
(обратно)2
Ложный шаг, оплошность (от франц. faux pas).
(обратно)3
Ложись! (от англ. down!)
(обратно)4
Сохраняй улыбку (англ.).
(обратно)5
Перелом (лат.).
(обратно)6
Мелкий канцелярский чиновник (от чешск. oficial).
(обратно)7
Клементинум — комплекс зданий Пражского университета, где находится библиотека.
(обратно)8
«Мадам Власте Тихой, гениальной актрисе, с выражением моего глубокого восхищения» (франц.).
(обратно)9
Орглер, Борглер?.. — Имеется в виду Торглер, один из обвиняемых по делу о поджоге рейхстага.
(обратно)10
Такт, размер, ударение (лат.).
(обратно)11
Нора — героиня одноименной пьесы Г. Ибсена.
(обратно)12
Ариэль — добрый дух, сказочный персонаж из комедии Шекспира «Буря».
(обратно)13
Анри Барбюс — выдающийся французский писатель (1873–1935), автор антивоенного романа «Огонь» (1916), выступавший против милитаризма и фашизма.
(обратно)14
Сам собой (лат.).
(обратно)15
Коричневая книга — сборник материалов, разоблачающих истинных виновников поджога рейхстага — немецких фашистов.
(обратно)16
Лондонский процесс — заседания прогрессивных юристов, происходившие с 14 по 18 сентября 1933 г. в Лондоне и закончившиеся 4 октября в Париже. В ходе этих заседаний, на которых рассматривались материалы о поджоге рейхстага, были разоблачены действительные виновники поджога — германские нацисты.
(обратно)17
Дейвице — предместье Праги.
(обратно)18
Конопиште — деревня и замок в Чехии, принадлежавшие австрийскому эрцгерцогу Францу-Фердинанду, убийство которого в Сараево послужило поводом для развязывания первой мировой войны.
(обратно)19
В данном случае — назначенные адвокаты (лат.).
(обратно)20
Нейкельн — рабочий пригород Берлина.
(обратно)21
Восстание 1923 года. — Народно-революционное восстание в Болгарии в сентябре 1923 г. было жестоко подавлено фашистским правительством Цанкова, пришедшим к власти в результате коалиции реакционных партий. Г. Димитров и В. Коларов были в числе руководителей этого восстания.
(обратно)22
Глупостей (франц.).
(обратно)23
Замечательный парень этот Геринг (нем.).
(обратно)24
Калибан — свирепый дикарь, персонаж из пьесы Шекспира «Буря».
(обратно)25
По чешской примете, трубочисты приносят счастье.
(обратно)26
Мельник — город в Чехословакии, известный производимыми там сортами вин.
(обратно)27
Энгадин, Шпиндл — зимние курорты в Судетских горах.
(обратно)28
У нацистов (нем.).
(обратно)29
Слова, выделенные в тексте книги жирностью, даны в оригинале по-русски. — Ред.
(обратно)30
Художники (искаж. нем. «Künstler»).
(обратно)31
«Женщина с моря» — драма Г. Ибсена.
(обратно)32
Алеш Микулаш (1852–1913) — выдающийся чешский художник.
(обратно)33
Манес Иозеф (1820–1871) — выдающийся чешский художник-реалист.
(обратно)34
Ян Амос Коменский (1592–1670) — знаменитый чешский философ, писатель и педагог.
(обратно)35
Бабушкина долина — местность, описанная выдающейся чешской писательницей Боженой Немцовой (1820–1862) в известной повести «Бабушка» (1855).
(обратно)36
Бивой и Горимир — герои чешских легенд; здесь упоминаются места в пригородах Праги, связанные с их именами.
(обратно)37
«Аэровка» — авиационный завод в Праге.
(обратно)38
Конрад Петушок. — Имеется в виду Конрад Генлейн (по-немецки Hennlein — цыпленок), вождь так называемой судето-немецкой партии, которая, опираясь на финансовую и политическую поддержку из Берлина, помогла фашистской Германии расчленить и потом оккупировать Чехословакию.
(обратно)39
Кршижик Франтишек (1847–1941) — чешский физик, известный своим изобретением автоматических регуляторов дуговых ламп.
(обратно)40
Стадице. — Согласно древней легенде, царица Либуше избрала мужем пахаря из деревни Стадице — Пршемысла, дав начало династии чешских королей Пршемысловичей.
(обратно)41
Сметана Бедржих (1824–1884) — великий чешский композитор; одно из наиболее известных его произведений — симфоническая поэма «Влтава».
(обратно)42
Духа местности (лат.).
(обратно)43
Тихо Браге (1546–1601) — знаменитый датский астроном. Долгое время жил в Праге, где и похоронен.
(обратно)44
Иржи Подебрадский (1420–1471) — чешский король (1458–1471), добившийся легализации некоторых результатов гуситской революции.
(обратно)45
«Будители» — деятели чешского национального возрождения конца XVIII — начала XIX в.
(обратно)46
Барунка, Викторка — персонажи из повести Б. Немцовой «Бабушка».
(обратно)47
Карел Гавличек-Боровский (1821–1856) — известный чешский писатель и публицист, подвергавшийся преследованиям со стороны австрийского правительства за свою национально-освободительную деятельность.
(обратно)48
Малер Густав(1860–1911) — известный австрийский композитор.
(обратно)49
Голодная стена — построена в Праге в 1360 г. по приказу короля Карла IV, надеявшегося таким образом обеспечить работой неимущих.
(обратно)50
Карлсбадские требования — требования, принятые на съезде фашистской генлейновской партии в Карловых Варах (по-немецки Карлсбад) 24 апреля 1938 г. Главными пунктами этих требований было: предоставление территориальной и административной автономии Судетской области и пересмотр чехославацкой внешней политики по отношению к гитлеровской Германии.
(обратно)51
Дом (от нем. Heim); здесь: Германию.
(обратно)52
Шарка — персонаж из древних чешских сказаний.
(обратно)53
Жижка Ян из Троцнова (1360–1424) — выдающийся гуситский полководец.
(обратно)54
…дело все-таки неладно. — В ответ на непрекращающиеся угрозы и провокации со стороны фашистской Германии чехословацкое правительство объявило 20 мая 1938 г. частичную мобилизацию, которая была вскоре отменена и под давлением англо-французских союзников, и в силу того, что гитлеровская Германия, не желавшая в тот момент вооруженного столкновения, дала заверения о своем желании мирно разрешить судетский конфликт.
(обратно)55
Чешская матица — организации, ставящие своей целью пропаганду национальной культуры.
(обратно)56
Глинковские гардисты — фашистская организация в Словакии.
(обратно)57
Инспектор Ренсимен. — Имеется в виду миссия во главе с лордом Ренсименом, направленная Великобританией в Чехословакию в августе 1938 г. с целью уговорить чехословацкое правительство удовлетворить требования генлейновцев.
(обратно)58
…председатель… аграрной партии… — Имеется в виду Беран, лидер одной из наиболее реакционных буржуазных партий в Чехословакии — партии аграриев, добивавшихся капитуляции Чехословакии.
(обратно)59
Дорогой Конрад, будь так мил, покажись нам в окошко (нем.).
(обратно)60
…вторая Белая гора. — 8 ноября 1620 г. протестантские силы Чехии потерпели решительный разгром в битве у Белой горы, после чего наступила католическая реакция и страна надолго потеряла свою независимость.
(обратно)61
Беран. — Игра слов: фамилия Берана, лидера аграрной партии, переводится как «баран».
(обратно)62
Генерал Сыровы — командующий чехословацким корпусом в России; подписал мюнхенскую капитуляцию 30 сентября 1938 г., по которой Судетская область отходила к гитлеровской Германии.
(обратно)63
Брожик Вацлав (1851–1901) — чешский художник, мастер исторической живописи.
(обратно)64
Дефенестрация — «выбрасывание из окон», способ расправы с предателями народных интересов, применявшийся в Чехии в гуситскую эпоху.
(обратно)65
«Где родина моя»… — название чешской части гимна Чехословакии.
(обратно)66
Гашлер Карел (1877–1941) — чешский эстрадный певец и сочинитель песен.
(обратно)67
Перевод стихов на этой и следующих страницах Н. Бялосинской. — Ред.
(обратно)68
Отец родины. — Так называли короля Карла IV, при котором феодальная Чехия переживала подъем и стала центром Священной Римской империи, а сам Карл под именем Карла IV был избран ее императором (1346–1378).
(обратно)69
…доска в память двадцати одного казненного чешского дворянина. — Патриоты, казненные после поражения чехов в 1620 г. в битве у Белой горы.
(обратно)70
Рашин Алисо (1867–1923) — первый министр финансов Чехословацкой республики; погиб от выстрела анархиста; буржуазная пропаганда утверждала, что убийство совершено коммунистами.
(обратно)71
В Нюрнберге в сентябре 1938 г. состоялся съезд национал-социалистической партии Германии, на котором Гитлер выступил с грубыми оскорблениями и угрозами по адресу Чехословакии. В Берхтесгадене произошла встреча Чемберлена с Гитлером (15 сентября 1938 г.), в ходе которой Гитлер потребовал присоединения к Германии областей Чехословакии с немецким населением. 18–19 сентября в Лондоне состоялось совещание английских и французских представителей по вопросу о Чехословакии, на котором было принято решение добиваться принятия Чехословакией немецких требований. В Готесберге 21–23 сентября снова состоялась встреча Чемберлена и Гитлера, когда Гитлер выступил с новыми территориальными претензиями к Чехословакии.
(обратно)72
Карлин — промышленный район Праги.
(обратно)73
Чехословацкое правительство, отвергнув готесбергские требования Гитлера, объявило мобилизацию.
(обратно)74
29—30 сентября 1938 г. в Мюнхене состоялась встреча представителей Великобритании, Франции, Италии и Германии, на которой и были приняты все требования Гитлера относительно расчленения Чехословакии.
(обратно)75
Светлая Каролина (1830–1899) — чешская писательница, ее произведения посвящены изображению жизни крестьян Ештедского края на севере Чехии.
(обратно)76
Маха Карел Гинек (1810–1836) — выдающийся чешский поэт-романтик. Доксанское озеро, описанное в лучшем его произведении, поэме «Май», было названо «Маховым».
(обратно)77
21 сентября 1938 г. советский представитель в Лиге наций заявил о готовности Советского Союза выступить совместно с Францией в защиту Чехословакии.
(обратно)78
«Проданная невеста» — опера Б. Сметаны.
(обратно)79
Вторая республика. — Так называли Чехословакию после мюнхенского предательства. «Вторая республика» просуществовала до начала оккупации страны немецко-фашистскими войсками 15 марта 1939 г.
(обратно)80
Молодую дамочку, всегда свежую, всегда бодрую (диалект. нем.).
(обратно)81
Согласно предательскому мюнхенскому соглашению, панская Польша получила Тешпнскую область Чехословакии, а хортистская Венгрия — Западную Украину и часть Словакии.
(обратно)82
Кампеличка — сельскохозяйственное кредитное товарищество, находившееся под влиянием аграрной партии.
(обратно)83
Ян Коллар (1793–1852) — один из крупнейших деятелей национального возрождения в чешской и словацкой культуре, поэт, философ, публицист.
(обратно)84
«Влайкары». — Имеются в виду члены чешской фашистской организации «Влайка» («Флаг»).
(обратно)85
Людацкая Словакия. — Имеется в виду фашистская «народная» партия в Словакии.
(обратно)86
Гаха Эмиль — марионеточный президент «Второй республики».
(обратно)87
Тисо, Дурчанский, Маха — словацкие фашистские политики, способствовали отколу Словакии и созданию «независимого Словацкого государства» под эгидой Гитлера.
(обратно)88
Сватовацлавская традиция — традиция святого Вацлава, чешского князя (X в.), которого реакционные историки превозносили за будто бы установленные им «реалистические отношения» с германской империей, вассалом которой он стал. О «сватовацлавской традиции» охотно распространялись чешские коллаборационисты.
(обратно)89
Хороша штучка! (нем.)
(обратно)90
О, пожалуйста, пожалуйста (нем.).
(обратно)91
Для господ (нем.).
(обратно)92
Вот это называется гостеприимство (нем.).
(обратно)93
«С нами бог» (нем.).
(обратно)94
М. Pujmanová. Vyznání a úvahy, Praha, 1959, s. 103.
(обратно)

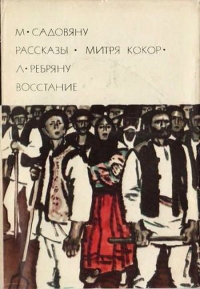
Комментарии к книге «Игра с огнем», Мария Пуйманова
Всего 0 комментариев