Альфред Андерш Беспредельное раскаяние
Он уже отчитал «Confiteor»[1] и «Introitus»[2] Евангелие и «Gloria»[3] теперь он подошел к основной части мессы. Он склонился к алтарю, чтобы облобызать камень, после чего отвернулся и, слегка воздев руки, начал.
Он увидел, как они рассаживаются. «Dominus vobiscum»[4]. Хотя он уже десять лет как служил литургию, ему до сих пор не удавалось выделять из толпы отдельные лица: люди расплывались перед его глазами. «Почему я не могу различать людей, — думал он, — хотя они стали привычными для меня?» Привычными - это хорошо.
«А им тоже нужно было привыкать ко мне? К моей уверенной, гладкой, затверженной манере, которая помогает мне держать их на расстоянии. Так или иначе, я все еще не умею различать людей. Вероятно, у меня до сих пор боязнь рампы». Он услышал, как служка произносит: «Et cum spirito tuo…»[5] — и торопливо заключил: «Oremus»[6]. Церковь, единственная полностью уцелевшая церковь города, подхватила это слово и приняла под свои величественные барочные своды. Яйцевидная, жемчужно-серая, исчерченная золотым плетением алтаря и черной сеткой теней, она обволокла его призыв к молитве. «Мне надлежало бы произнести это на улице, — думал он, — на улице, среди развалин. Со вчерашнего дня мне ненавистна эта церковь. И вообще она давно уже действует мне на нервы. Я буду хлопотать о переводе в один из бедных приходов епархии. Наверху меня едва ли поймут. Но смею ли я принадлежать к соборному капитулу, после того как этот человек поколебал мою уверенность? Не веру мою, но совесть мою?»
Он надеялся, что, снимая покров с чаши и вознося дикое со священной остией, сумеет душой отдаться молитве. Но привычка и здесь сделала свое дело — его лицо не изменило выражения. «Я по меньшей мере две тысячи раз служил литургию, — размышлял он. — Поистине удивительно, что сегодня я не могу думать о том же, о чем думал еще вчера, совершая священный обряд. Сегодня я думаю лишь о нем, об этом человеке. Вчера, — мельком отметил он, — вчера в это время я еще вспоминал о статье, которую патер Евгений хочет получить от иезуитов для своего сборника, о ненаписанном отчете ученого совета для господина кардинала, о политиканах, которые осаждают меня в надежде выведать какие - либо тайны архиепископской кафедры, под конец даже о превосходном обеде у прелата Майера, куда я бываю зван каждую субботу. Вчера была суббота. Сегодня же я думаю только о нем, о том, кто был у меня вчера после обеда».
Он перешел на правую сторону алтаря и налил вино в чашу, которую держал перед ним служка. Губы его привычно пробормотали формулу: «О господь, чудесно сотворивший достоинство человеческой природы и еще чудеснее обновляющий ее», — между тем как сам он разбавлял вино толикой воды. Потом, выскользнув из-под защиты парадного облачения, он вернулся на середину алтаря, чашей сотворил в воздухе крест и поставил ее на плат.
Неподалеку от церкви, среди развалин рухнувшего дома, играла девочка. Она не видела по-воскресному тихих улиц, потому что вскарабкалась на гору кирпичей и каменной россыпи и сидела посреди ровной площадки, которую сама для себя расчистила несколько дней назад. «Здесь хорошо играть, — думала она, — здесь мне никто не помешает. Я возьму свою тележку и буду играть в загородную прогулку. В Бунцлау мы часто ездили на загородные прогулки. Но только с мамой. Папа был солдатом и не жил дома. А теперь я поеду на прогулку с папой. Придется запрячь в тележку лошадь. Я возьму кирпич, вот и будет лошадь, толстая такая. Хорошо, что Улли не видит, как я играю, не то она задразнила бы меня. «Кирпич — это кирпич, а вовсе не лошадь!» Вот кусок известки, он похож на человека, он будет папа. Я поставлю его в тележку. Так, а теперь поехали! Н-но, н-но, пошла! Кирпич слишком большой, мне его не поднять, поищу другой, поменьше. Этот, наверно, подойдет. Запрягу его в тележку. А ну, лошадь, вези меня и папу! Куда мы поедем сперва? Вон туда, к той каменной горке, это у нас будут Исполиновы горы. Папа все время вспоминает Исполиновы горы. В тех горах живет Рюбецаль. А вдруг там окажется Рюбецаль! Тогда папа за меня заступится. А с маленьким кирпичиком лучше получается. Надо бы взять с собой веревочку и привязать кирпич к дышлу. Одно колесо плохо крутится. Жалко, мамы здесь нет, не то она могла бы поехать с нами. Ой, как шелестит то дерево! А вдруг из него вылезет призрак!»
«Я побил свою маленькую дочку, — сказал ему этот человек, этот отец со смятенными глазами. — Я очень сильно ударил ее в лицо. Я пришел к вам исповедаться, но я понимаю, что этому нет прощения». «Поначалу я принял его за одного из тех кротких безумцев, которых порой влечет к нам», — думал священник, держа над тазом сомкнутые ладони, покуда служка поливал их водой из графина.
— Омываю в невинности руки мои, — прошептали все еще лишенные выражения губы, но глаза заблестели, ибо видели перед собой то, другое лицо, явившееся ему вчера. Он слышал, как тот отец говорит: «Ах, если бы вы видели ее искаженное лицо. Она даже не заплакала. Надобно вам сказать, что до вчерашнего дня я ни разу ее не бил».
Вдруг он осознал, что произносит слова «о людях, на которых вина крови», предшествующие жертвоприношению святой троице. Но разве они не повсюду, эти люди? Не они ли собрались сегодня в его церкви? Быстрым шагом и без следов раскаяния вышли они из разоренных домов, прошли по исковерканным улицам, собрались под серо-золотым яйцеобразным сводом. Кто же они, эти люди, заполнившие его церковь? Убийцы, которые бросали бомбы; женщины, которые хуже блудниц, — ибо даже и не продаются, а просто-напросто неверны; богачи, которые знают, что их богатство преступно; священнослужители, которые раздают святые дары, словно так все и должно быть: святыня, раздаваемая привычной рукой тем, кто больше о ней не просит. Выходит, я презираю людей, упрекнул он себя. Ведь есть среди них и такие, которых влечет к престолу господа истинная потребность. Но где и когда встречался мне человек, который, подобно этому, обвинял бы себя в неискупимой вине? «Может быть, ваша маленькая дочь сделала что-то очень скверное? — наконец ответил он этому человеку. — И если даже вы обошлись с ней несправедливо, вы, как я вижу, раскаиваетесь в своем поступке. Почему же и вам не может быть даровано прощение?»
«Церковь прощает и большие преступления, — гласил ответ. — Но как маловажно все это. Мелкие проступки способны разрушить жизнь человеческую. Выслушайте же меня».
Те слова «Молитесь, братие», с которыми он воззвал к пастве, прервали нить его размышлений, но последовавший далее хвалебный и благодарственный хорал, а за ним — начальные строки канона вновь вернули ему возможность беспрепятственно отдаться ходу своих мыслей. Канон заключал в себе все сущее, заботы всех людей. Значит, среди других и заботу этого человека и его неотвязный шепот?
«Вот мы и добрались до Исполиновых гор. Надо бы выстроить церковь, это у нас будет монастырь Грюсау, куда мы всякий раз ездили с мамой. А папа никуда со мной не ездит. Но папа не виноват, просто теперь больше нет ни лошадок, ни повозок. Монастырь Грюсау — какая это была красивая церковь! Таких красивых здесь и нет вовсе. Здесь они все разрушенные. Мы с мамой там были. Играл орган, громко-громко. А впереди стоял священник, и платье у него было все из золота. Мальчик в белой одежде протягивал ему бокал. Я спросила, что в этом бокале. «Вино, — ответила мама, — он претворяет его в кровь Христову». Но ведь делать вино из крови нельзя. Мы недолго пробыли в церкви. Мы поехали дальше, в горы.
В лесу жил Рюбецаль. А вдруг начнется дождь? Как много стало облаков! Надо сделать для папы плащик. Вот листья упали с дерева, можно из них. Но сперва надо построить церковь. На башню придется найти камни, которые совсем белые. В Грюсау камни были тоже белые. Ой, как я испачкала фартук. Папа будет ругаться. А можно будет починить куклу, чтоб папа больше не был такой грустный? Ну вот моя церковка и готова. Поглядел бы на нее папа! Но ему не надо знать, что я здесь играю, не то он рассердится, он не любит, когда я играю одна. Он велит, чтобы я играла с другими детьми. А я больше люблю играть одна. Н-но! Держись, папа, лошадь может понести».
«Я подарил ей куклу, очень красивую куклу, из тех, что сейчас можно достать только на черном рынке. У моей дочери еще никогда не было куклы, хотя ей уже семь лет. Мы беженцы, живем здесь третий год. Живем очень бедно. Вот почему это была для меня большая жертва — купить ей куклу. Нас теперь всего двое — моя дочь и я. Мы очень хорошо ладим. Жена от меня сбежала в прошлом году. Она была очень молодая, я не мог ее удержать. Впрочем, вы, как священник, едва ли в этом разбираетесь».
Губы, шепчущие молитву, на мгновение смолкли, чтобы ввести в нее конкретных людей и мысли. Когда же вновь раздался шепот, сопровождаемый приглушенным кашлем, шорохом одежд, шарканьем ног, голос того отца возник снова.
«Вот почему я вынужден каждый день оставлять дочку одну на много часов. Иногда за ней присматривает соседка, но не могу же я требовать, чтобы она это делала каждый день. И малышка либо сидит одна в комнате, которую нам выделили, либо играет в развалинах. Я устроился работать на почту. Целый день думаю о том, что она сейчас делает. Ваше преподобие, доводилось ли вам хоть когда-нибудь представить себе одинокого ребенка? Впрочем, я хотел рассказать про куклу. Вчера вечером, вернувшись домой, я увидел, что дочка сидит в полутемной комнате, у окна, на своем маленьком стульчике. Она оторвала кукле голову и, когда я вошел, как раз собиралась выпотрошить войлок, которым набито туловище куклы. Тут меня охватил слепой гнев, и я ударил ее. А она даже не заплакала».
Он услышал колокольчик служки и вновь механически сотворил крест над дарами. «Господи, — подумал он, — сейчас начнется претворение, а я к нему не готов, потому что этот человек все еще не отпускает меня». В его ушах снова зазвучал тот же голос: «Она оторвала кукле голову. А я за это ударил ее в лицо. Но кто ударит меня? И кто ударит того, кто ударил меня? Почему бог не перестанет нам все прощать? Ведь так все и пойдет. Кончится тем, что удар нанесут самому богу».
«Сейчас хлеб и вино претворяются в плоть и кровь, — думал он, — но могу ли я с их помощью даровать прощение грешникам?»
«Упали первые капли. Вот почему дерево так шелестело. Из него и вышел призрак. Призрак дождя. Скорей накинуть плащ на папу. Нет, просто так листья не держатся. Придется связать черенки и проткнуть их травинкой. Вот, теперь держатся. Надо ехать поскорей, как в тот раз, когда мы бежали от солдат. Тогда вдруг объявился папа. Он еще был в форме. Быстрей, лошадка, быстрей! Нам пора домой. А мы уезжали все дальше и дальше от дома. Плохо, что мама больше с нами не живет. Я принесу папе этот кусок известки в плаще. У него голова как у человека. Папа опять станет веселый и засмеется. Поведет ли он меня сегодня есть мороженое? Но мне нельзя прийти домой в мокром платье. Постою у входа в подвал, пока не кончится дождь. Только у самых дверей. Заходить дальше я боюсь. Мало ли что там может быть».
Девочка, светлая и тоненькая, остановилась в дверном проеме, расчищенном от обломков, и ждала, пока кончится проливной дождь, который уплывал по небу вместе со свинцово-серыми облаками. Известковую куклу и деревянную тележку она прижимала к груди.
Бурный прибой претворения увлек его за собой. Вот-вот волны выбросят его на берег. Свершилось. Трижды прозвучал колокольчик служки, прежде чем священник преклонил колено и обеими руками поднял остию.
«Она оторвала кукле голову. Она так углубилась в свое занятие, она даже не сознавала, что делает. А я из-за этого осквернил ее лицо. Мне нет прощения!»
«Тогда зачем вы пришли ко мне? Только чтобы сказать это? Вас обуяла гордыня, в своей гордыне вы даже вообразили, будто милость господня не может объять и ваш грех. А впрочем, вы правы, я не могу отпустить вам грех, коль скоро вы сами не хотите прощения».
«И тогда он ушел. Этот житель развалин, этот переселенец, вообразивший, будто господь избрал его, чтобы свершить чудо и разорвать нескончаемую цепь греха и искупления, оставив на нем его вину. У него был смятенный от ужаса взгляд, такими, наверно, были и глаза его дочери, когда он ударил ее. Ему, именно ему, я должен был навязать прощение. Я должен был бежать за ним хоть на край света и умолить его принять от меня прощение. Раз в жизни, — думал священник, — я увидел перед собой человеческое лицо. Увидел, но не признал. Я не признал его. Я недостоин здесь стоять. И однако же сегодня я вновь служил литургию. Недостоин служить. Литургию».
Голос его стал беззвучным, когда он в третий раз преклонил колено и воздел чашу с дарами.
— Это чаша крови моей, нового и вечного союза, это тайна веры, — произнес его беззвучный голос в тишине церкви, но лицо его вопияло: «Почему ты бьешь нас, о господи?»
Примечания
1
«Исповедуюсь»
(обратно)2
«Взошедший»
(обратно)3
«Слава»
(обратно)4
«Господь с вами»
(обратно)5
«И духом твоим…»
(обратно)6
«Помолимся»
(обратно)

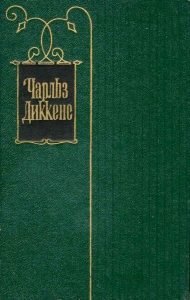
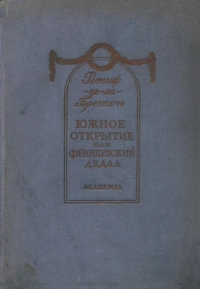
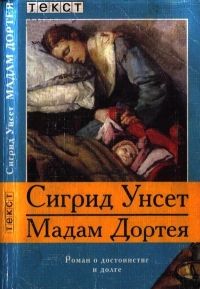
Комментарии к книге «Беспредельное раскаяние», Альфред Андерш
Всего 0 комментариев