Жан-Мари Гюстав Леклезио Золотая рыбка
Quem vel ximimati in ti
teucucuitla michin.
О рыбка, меленькая золотая рыбка!
Остерегайся, ибо много сетей
Припасено для тебя в этом мире.
1
Когда мне было лет шесть или семь, меня украли. Сама я этого не помню, я ведь была совсем маленькая, и все, что произошло со мной потом, стерло то воспоминание. Это вроде как сон, давний кошмар, такой жуткий, он преследует меня ночами, а порой мучает и днем. Белая от солнца улица, пыльная и пустая, тревожный крик черной птицы, и вдруг руки, мужские руки, они запихивают меня в мешок, и я задыхаюсь. А потом меня купила Лалла Асма.
Поэтому я не знаю своего имени, настоящего, которое дала мне мать при рождении, не знаю, как звали моего отца, как называлось место, где я родилась. Все, что я знаю, — со слов Лаллы Асмы: я попала к ней ночью и потому она назвала меня Лайла — «Ночь». Меня привезли с юга, это далеко, очень далеко, а может быть, той страны и нет больше. Мне кажется, что вообще ничего не было до белой улицы, до черной птицы, до мешка.
Потом я оглохла на одно ухо. Это случилось, когда я играла на улице, у дверей дома. Меня сбил маленький грузовик, и в моем левом ухе сломалась какая-то косточка.
А еще я боялась темноты, боялась ночи. Помню, просыпалась иногда и чувствовала, как страх холодной змеей вползает в меня. Лежала и боялась дохнуть. В такие ночи я забиралась в кровать к хозяйке, прижималась к ее широкой спине, чтобы ничего не видеть, не чувствовать. Наверняка Лалла Асма просыпалась, но ни разу не прогнала меня, и поэтому она была мне взаправдашней бабушкой.
Еще я долго боялась улицы. Не решалась выйти со двора. Даже носа не высовывала за большую синюю дверь, что выходит на улицу, а если меня пытались вывести силой, кричала, плакала, цеплялась за стены или убегала и забивалась под стол. Часто меня мучили ужасные головные боли, дневной свет резал мне глаза, пронзал до самого нутра.
Даже звуки улицы пугали меня. Шаги в переулках квартала, громкий мужской голос за стенкой. Зато мне нравилось, как кричат на заре птицы, как со свистом носятся по весне стрижи над самыми крышами. В этой части города совсем нет ворон, только голуби, сизые и белые.
Много-много лет я ничего другого не знала — только дворик нашего дома да голос Лаллы Асмы, когда она громко звала меня по имени: «Лайла!» Я уже говорила, своего настоящего имени я не знаю и привыкла к тому, которое дала мне хозяйка, будто родная мать его для меня выбрала. Но мне кажется, что однажды кто-нибудь произнесет мое имя, то, настоящее, и тогда я вздрогну, потому что узнаю его.
Лаллу Асму тоже по-настоящему звали не так. Она была из испанских евреев, по фамилии Аззема. Когда где-то за морем началась война между евреями и арабами, она одна не покинула милля — так называют ту часть города, где живут евреи. Она заперлась в доме за большой синей дверью и никуда не выходила. Так было до той ночи, когда появилась я и все переменилось в ее жизни.
Я звала ее то «хозяйкой», то «бабушкой». А она просила звать ее «наставницей», потому что это она выучила меня читать и писать по-французски и по-испански, считать в уме, умножать и делить, и основы религии она мне преподала — своей, в которой у бога нет имени, и моей, в которой его зовут Аллах. Она читала мне отрывки из своих священных книг и учила, чего нельзя делать — например, дуть на то, что будешь есть, класть хлеб верхней коркой вниз, подтираться правой рукой. Учила, что надо всегда говорить правду и мыться обязательно каждый день с головы до ног.
А я за это работала на нее с утра дотемна, подметала дворик, щепала лучину для жаровни, стирала. Мне нравилось забираться на крышу — там я развешивала белье. Я видела оттуда улицу, крыши соседних домов, видела прохожих, машины, а в просвете между двумя стенами даже кусочек большой синей реки. И звуки оттуда, с высоты, казались не такими страшными. Мне думалось, что здесь меня никому не достать.
Когда я слишком задерживалась на крыше, Лалла Асма громко звала меня по имени. Сама она весь день сидела в большой комнате, где вместо мебели были кожаные подушки. Она давала мне книгу, чтобы я читала вслух. Еще я писала диктанты, отвечала ей выученные уроки. Иногда она устраивала мне экзамены. В награду разрешала посидеть в комнате рядом с ней и ставила на проигрыватель пластинки своих любимых певцов: Ум Калсум, Сайда Дервиша, Хбибу Мсику, а чаще всего — Фейруз, прекрасную Фейруз аль-Халабийя; глубоким, хрипловатым голосом она пела Иа Кудсу, и Лалла Асма всегда плакала, когда слышала слово «Иерусалим».
Раз в день большая синяя дверь отворялась, чтобы впустить женщину — черноволосую, сухопарую, бездетную; это была невестка Лаллы Асмы, звали ее Зохра. Она приходила сготовить кое-что для свекрови, а больше затем, чтобы проверить, все ли в доме на месте. Лалла Асма говорила, что она проверяет, на месте ли добро, которое со временем ей достанется.
Сын Лаллы Асмы приходил реже. Его звали Абель. Он был большой, широкоплечий, в красивом сером костюме. Я знала, что у Абеля много денег, он был строительным подрядчиком, работал даже за границей, в Испании, во Франции. Но Лалла Асма говорила, что жена заставила его жить с ее родителями, несносными и чванными людьми, а они предпочитали новый город, по ту сторону реки.
Я его всегда побаивалась. Еще маленькой пряталась за занавески, когда он приходил. Он говорил: «Что за дикарка!» Когда подросла, то стала бояться его еще больше. Он так по-особенному на меня смотрел, как будто я — вещь и принадлежу ему. Зохры я тоже боялась, но это был не такой страх. Как-то раз, когда я не подмела пыль во дворе, она ущипнула меня до крови: «Ах ты, голодранка без роду-племени, подметать и то толком не умеешь!» — «Я не без роду-племени, — закричала я в ответ, — у меня есть бабушка, Лалла Асма!» Она расхохоталась, однако тронуть меня больше не посмела.
Лалла Асма всегда заступалась за меня. Но она была старенькая, и сил у нее осталось мало. У нее были огромные ноги, в синих узловатых венах. Когда она выглядела усталой или вздыхала тяжело, я спрашивала ее: «Вы больны, бабушка?» Тогда Лалла Асма ставила меня перед собой, заставляя держаться очень прямо, и смотрела в лицо. Она часто повторяла свою любимую арабскую пословицу, всегда с таким важным видом, словно всякий раз старалась поточнее перевести ее на французский:
— Здоровье — венец, который носят не подверженные немощам, а видят лишь недужные.
Теперь она больше не заставляла меня много читать и заниматься, не устраивала никаких диктантов. Почти весь день просиживала в пустой комнате, уставившись в экран телевизора. А иногда просила принести ее шкатулку с драгоценностями и столовое серебро. Однажды она показала мне золотые серьги:
— Смотри, Лайла, эти серьги будут твоими, когда я умру.
И она вдела их в дырочки, проколотые в моих ушах. Серьги были очень старые, потускневшие, каждая в форме полумесяца рожками книзу. И когда Лалла Асма назвала их — Хиляль, — мне показалось, будто я услышала свое имя, и я подумала, что эти серьги были на мне, когда меня привезли в милля.
— Они тебе идут. Ты в них похожа на Балкиду, царицу Савскую.
Я положила серьги ей на ладонь, сжала ее пальцы и поцеловала руку.
— Спасибо, бабушка. Вы так добры ко мне.
— Ну-ну, будет! — Она нахмурилась. — Я не умерла еще.
Мужа Лаллы Асмы я не знала, видела только его фотографию, она всегда стояла в большой комнате на комоде, рядом со стенными часами, которые никогда не ходили. Такой строгий господин, весь в черном. Он был адвокат, очень богатый, но изменял жене, а когда умер, оставил ей только этот дом да немного денег у нотариуса. Он был еще жив, когда я появилась в доме, но я была совсем маленькая и не помню его.
Абеля я боялась не без причины.
Мне было тогда лет одиннадцать или двенадцать; Зохра раз в кои-то веки вывела свекровь на улицу, то ли к врачу, то ли купить что-то. Я не слышала, как вошел Абель, наверно, он искал меня в доме, а нашел в клетушке в глубине двора, где помещались уборная и умывальник.
Он вошел, такой высокий и широкий, что закрыл собой дверной проем, и мне было никак не убежать. Но я все равно до того испугалась, что и шевельнуться не могла. Он приблизился ко мне вплотную. Двигался резко, судорожно. Наверно, что-то говорил, но я повернулась глухим левым ухом, чтобы не слышать. Абель был большой, плечи широченные, лысина поблескивала на свету. Он присел передо мной на корточки, стал шарить руками у меня под платьем, трогал ляжки, и между ног тоже, руки у него были шершавые от цемента. Словно две ящерицы, холодные и сухие, забрались ко мне под одежду. Мне стало так страшно, что сердце заколотилось где-то в горле. И вдруг опять все вспомнилось — белая улица, мешок, меня бьют по голове. А потом чужие руки, они щупают меня, давят на живот, делают больно. Сама не знаю, как я вырвалась. Кажется, от страха я обмочилась, пустила струйку, точно собака. Он отпрянул, убрал руки, и я исхитрилась мышью прошмыгнуть у него за спиной, с воплем промчалась через двор и закрылась в ванной — только она в доме запиралась на ключ. Сердце у меня колотилось, как бешеное, я ждала, приникнув здоровым ухом к двери.
Абель пришел. Стал стучаться, сперва тихонько, кончиками пальцев, потом все сильнее, замолотил кулаками. «Лайла! Открой! Что ты там делаешь? Открой, я тебя не трону!» Потом он, кажется, ушел. А я села на каменный пол и прислонилась спиной к мраморной ванне — это Абель сделал ее для матери.
Много времени спустя кто-то подошел к двери. Я слышала голоса, но слов не разбирала. В дверь опять постучали, и на этот раз я узнала руку Лаллы Асмы. Я открыла; наверно, у меня был очень испуганный вид, потому что она крепко прижала меня к себе. «Ну, кто тебя обидел? Что с тобой стряслось?» Я прильнула к ней и так прошла мимо Зохры. Но я ничего не сказала. «Она спятила, вот и все!» — кричала Зохра. Лалла Асма больше меня не расспрашивала. И все же с того дня она не оставляла меня одну, когда приходил Абель.
Однажды я мыла в кухне овощи, чтобы сварить суп для Лаллы Асмы, и вдруг услышала грохот в доме — как будто что-то тяжелое рухнуло на каменный пол и стулья разлетелись в разные стороны. Я примчалась со всех ног и увидела хозяйку — она лежала навзничь на полу. Я подумала, что она умерла, и хотела было убежать, спрятаться где-нибудь, но тут услышала, как она стонет и хрипит. Живая, только без сознания. Падая, она ударилась головой об острый угол стула, и кровь тонкой струйкой текла из ранки на виске.
Ее сотрясала крупная дрожь, глаза закатились. Я не знала, что делать. Постояла немного, потом подошла ближе, дотронулась до ее лица. Щека была дряблая и почему-то холодная. Но Лалла Асма дышала, с силой втягивала воздух, грудь ее вздымалась, а когда воздух выходил обратно, губы, вздрагивая, издавали смешное бульканье, как будто она похрапывала.
«Лалла Асма! Лалла Асма!» — шептала я ей на ухо. Я точно знала, что она, там, где была сейчас, все равно меня слышала. Только говорить не могла. Я видела, как подрагивали ее приоткрытые веки над белыми глазами, и знала: она слышит меня. «Лалла Асма! Не умирайте!»
Тут, откуда ни возьмись, появилась Зохра, но я ничего не слышала, кроме медленного дыхания Лаллы Асмы, и как она вошла, тоже не услышала.
— Дура! Маленькая ведьма! Что ты тут делаешь?
Она дернула меня за рукав, да так, что платье порвалось.
— Беги за доктором! Ты что, не видишь — матери плохо!
Впервые Зохра назвала Лаллу Асму матерью. Видя, что я так и стою на пороге, она сняла башмак и запустила им в меня.
— Ну! Чего застыла?
Тогда я прошла через двор, толкнула тяжелую синюю дверь и бросилась бежать, не разбирая дороги. В первый раз я вышла на улицу. Где искать врача, я понятия не имела. Я думала только об одном: Лалла Асма умирает и, если я не смогу найти кого-нибудь, кто бы ей помог, она умрет по моей вине. И я все бежала и бежала, не переводя дыхания, по оцепеневшим от солнца улочкам. Было очень жарко, на небе ни облачка, а стены домов белые-белые.
Я свернула на какую-то улицу, потом на другую и вскоре вышла на такое место, откуда была видна река, а еще дальше — море и паруса как крылья. Красота такая, что я совсем перестала бояться. Я остановилась в тени у стены и смотрела, смотрела во все глаза. Я узнала этот вид — тот же, что открывался с крыши Лаллы Асмы, только шире, гораздо шире. Внизу по шоссе ехали машины, множество автомобилей, грузовиков, автобусов. В это время, наверно, школьники возвращались после обеда на занятия; они шли вдоль дороги, девочки в синих юбках и белоснежных блузках, мальчики не такие опрятные, стриженные наголо. Одни несли ранцы, у других книги были перетянуты резинкой.
Я будто просыпалась от долгого-долгого сна. Они проходили мимо меня и, кажется, хихикали, я думала, что они смеются надо мной; вообще-то у меня и в самом деле был чудной вид, будто с другой планеты: платье, какие носят во Франции, да еще с порванным рукавом, волосы длинные, курчавые. В тени под стеной я, наверно, смотрелась ведьма ведьмой.
Я пошла наобум, вслед за школьниками, потом по какой-то другой улице, где было много народу. Там был базар, над рядами натянуты навесы от солнца. Возле одного дома старик сапожник работал в деревянной будочке; он сидел, скрестив ноги, на чем-то вроде низкого стола, а вокруг валялись бабуши. Медным молоточком он забивал в подошву тонюсенькие гвоздики. Я остановилась поглядеть на него, и он спросил:
— Бельра? Чего тебе?
Он смотрел на мои босые ноги.
— Чего тебе надо? Ты что, немая?
Тут мне удалось наконец хоть что-то выговорить.
— Я ищу доктора для бабушки.
Я сказала это по-французски, а потом повторила по-арабски, потому что он уставился на меня, не понимая.
— А что с ней такое?
— Она упала. Она умирает.
Я сама на себя дивилась, что так спокойно это говорю.
— Здесь доктора нет. Только госпожа Джамиля, вон там, на постоялом дворе. Она повитуха. Вдруг чем поможет.
Я пустилась бежать в ту сторону, куда показывал сапожник. Он так и сидел, подняв свой медный молоточек. Крикнул что-то мне вслед, я не поняла, а люди засмеялись.
Госпожа Джамиля жила в таком доме, каких я сроду не видела. Это был дворец, только очень ветхий, за высокими глинобитными стенами, но ворота, видно, так давно стояли нараспашку, что и не закрывались вовсе, осели и увязли в грязи и щебне. Уцелевшие на фасаде куски штукатурки говорили о том, что когда-то дом был розовым. Окна в деревянных рамах выступали из стен, балконы тоже были деревянные, прогнившие. Я очень боялась, но все-таки вошла во двор.
У Лаллы Асмы порядок был образцовый, всегда прибрано, чисто до блеска, и я думала, что все дворы такие. Но здесь, в гостинице, кавардак был неописуемый. Полно людей, одни дремали под навесами, другие в тени чахлых акаций. Еще были козы, собаки, ребятишки, жаровни тлели, и никто за ними не присматривал, там и сям высились кучи мусора и нечистот, в которых рылись куры, похожие на стервятников. У стен вдоль всего двора бродячие торговцы хранили под навесами свои тюки, а чтоб никто не украл, прямо на них и лежали. Мне было невдомек, кто все эти люди. Я ведь понятия не имела, что такое гостиница. Я шла через двор, не зная, в какую сторону идти, и тут с одного балкона кто-то помахал рукой, подзывая меня. Щурясь от солнца, я вгляделась в полумрак галереи и услышала звонкий голос:
— Ты кого ищешь?
Наконец я рассмотрела женщину, немолодую, одетую в длинное платье бирюзового цвета. Она стояла, облокотясь на перила, курила и глядела на меня. Я сказала, что ищу госпожу Джамилю, и она кивнула:
— Поднимайся сюда, дверь перед тобой, иди прямо до конца, там лестница. — Увидев, что я не понимаю, женщина крикнула: — Подожди, я сейчас!
Она провела меня через большую полутемную комнату, там тоже лежали тюки и дремали люди. Какие-то старики играли в домино за низким столом, рядом стоял большой кальян. На меня никто не обращал внимания.
Мы поднялись по лестнице; солнце освещало галерею пятнами в тех местах, где были сорваны ставни. Наверху жили только женщины, но я таких видела впервые. Одни были молодые на вид, другие — как Зохра, а то и старше. Пухлые, белокожие, с красноватыми от хны волосами, губы накрашены темной-темной помадой, глаза обведены сурьмой. Они сидели у дверей своих комнат прямо на полу, скрестив ноги, и курили. Дым от их сигарет выплывал из сумрака галереи, клубился на солнце.
— Сейчас приведу госпожу Джамилю.
Я осталась стоять одной ногой на последней ступеньке. Мне было страшно возвращаться в дом Лаллы Асмы без доктора, только поэтому, наверно, я не убежала. Женщины обступили меня. Они говорили громкими голосами, смеялись. От сигаретного дыма воздух наполнился сладковатым запахом, и у меня закружилась голова.
Они гладили мои волосы, трогали их, будто никогда таких не видели. Одна, совсем молодая, с длинными тонкими руками, вся увешанная украшениями, стала плести мне косички на макушке, вплетая в волосы красную ленточку. Я не смела шевельнуться.
— Посмотрите, какая хорошенькая, принцесса, да и только!
Я не понимала, что она говорит. Думала, а вдруг эти красавицы, нарумяненные, насурьмленные, все в украшениях, смеются надо мной, вдруг станут щипать, дергать за волосы. Говорили они очень быстро, вполголоса, я из-за своего глухого уха не все слова разбирала.
Тут появилась госпожа Джамиля. Я думала, что повитуха большая и толстая, со строгим лицом, а пришла невысокая худенькая женщина, коротко стриженная, одетая по-европейски. С минуту она пристально смотрела на меня. Потом отстранила женщин и, как будто сразу догадавшись, что я плохо слышу, наклонилась к самому моему лицу и отчетливо произнесла:
— Что тебе нужно?
— Моя бабушка умирает. Вы можете пойти к ней?
Она помедлила, потом сказала:
— Что ж, верно, моя забота — младенцы, и умирающие бабушки — тоже.
Она шла по переулкам быстрым шагом, я едва поспевала за ней. Сама я никогда не нашла бы дорогу, но госпожа Джамиля, оказывается, знала дом Лаллы Асмы.
Когда мы пришли, у меня сжалось сердце. Я подумала, что слишком долго ходила, может быть, Лалла Асма уже умерла и я сейчас услышу пронзительные вопли ее невестки. Но Лалла Асма была жива. Она сидела на своем обычном месте, в кресле, положив ноги на стул. Только немного крови запеклось на виске, на том месте, которым она ударилась, падая.
Лалла Асма увидела меня, и глаза ее просияли. Ее еще чуть-чуть трясло. Она крепко-крепко сжала мои руки. Я видела, что она хочет что-то сказать, но никак не может. Я и не знала, что она так любит меня, и от этого слезы брызнули из глаз.
— Сидите, бабушка. Я сейчас приготовлю вам чай, как вы любите.
Тут я заметила, что госпожа Джамиля стоит на пороге. Раз Лалла Асма не умирает, решила я, значит, ей никто не нужен. Лалла Асма не любит, чтобы в дом заходили чужие. И я сказала госпоже Джамиле:
— Бабушке теперь лучше. Вы ей уже не нужны.
Я проводила ее до дверей. Хотела заплатить из хозяйственных денег, но она отказалась. И сказала, глядя мне прямо в глаза:
— Надо бы тебе, наверно, позвать настоящего доктора. У нее в голове что-то лопнуло, поэтому она и упала.
— А она будет разговаривать? — спросила я.
Госпожа Джамиля покачала головой:
— Она уже никогда не будет прежней. А однажды опять упадет, и тогда — конец. Ничего не поделаешь. Но ты должна быть с ней до последнего вздоха. — Она повторила эти слова по-арабски, и я их запомнила: — «Керьят эр роэ…»
Немного погодя вернулась Зохра. Я ничего не сказала ей о госпоже Джамиле. Она прибила бы меня, если б узнала, что я смогла привести лишь повитуху с постоялого двора. Поэтому я солгала:
— Доктор сказал, что она поправится, он еще зайдет на той неделе.
— А лекарства? Он не дал лекарств?
Я помотала головой:
— Он сказал, ничего страшного. Она опять станет прежней.
Зохра произнесла очень громко, наклонясь к уху Лаллы Асмы, как будто это она была глухая:
— Слышите, матушка? Доктор сказал, что вы выздоровеете.
Но Лалла Асма уже много месяцев не разговаривала со своей невесткой, так что Зохра ни о чем не догадалась. Когда она ушла, я помогла Лалле Асме дойти до постели. Шла она странно, мелкими, подпрыгивающими шажками, как птица дрозд. А ее зеленые глаза стали прозрачными, грустными и смотрели куда-то мимо меня.
Я вдруг испугалась: что же теперь будет? До сих пор я ни разу не задумывалась о том, что станется со мной, если Лалла Асма умрет. Я привыкла жить в этом доме, за высокими стенами, за синей дверью, видя город только мельком с крыши, когда вешала белье, так привыкла, что решила, будто ничего плохого случиться не может.
Я смотрела на свою хозяйку: лицо у нее было одутловатое, глаза — как две бесцветные щелочки, волосы редкие, совсем белые под хной.
— Бабушка, бабушка, вы ведь никогда не оставите меня? — Слезы текли по моим щекам, и я никак не могла их унять. — Правда же, бабушка, вы меня не оставите? — По-моему, она слышала, потому что веки ее дрогнули и губы шевельнулись. Я вложила свои ладони в ее, чтобы она сжала их покрепче. — Я буду хорошо ухаживать за вами, бабушка, я никого к вам не подпущу, особенно Зохру. Я теперь не боюсь выходить на улицу, значит, Зохра нам больше не нужна.
Я говорила, а слезы все текли и текли. Честное слово, со мной это было впервые. Я отродясь не плакала, даже когда Зохра щипала меня до крови.
Но Лалла Асма прежней так и не стала. Наоборот, с каждым днем ей делалось все хуже и хуже. Она больше ничего не ела. Когда я пыталась напоить ее, холодный чай стекал с уголков рта и капал на платье. Губы у нее сморщились, растрескались. Кожа стала сухой и цветом как песок. И еще, что скрывать, она делала под себя. Это она-то, всегда опрятная, чистоплотная. Я сама меняла ей белье. Не хотела, чтобы Зохра и Абель видели ее такой. Я была уверена, что ей стыдно, что она все понимает. Зохра, входя в комнату, морщила нос: «Что здесь за вонь?» Я объясняла: мол, в соседнем доме ремонт, прочищают сточную канаву. Зохра смотрела на Лаллу Асму с недоумением. Ворчала на меня: «Это ты дом запустила, посмотри только, какой свинарник!» Она догадывалась — что-то неладно, но не могла понять что. Чтобы Зохра не смекнула, как худо Лалле Асме, я каждый день причесывала больную, припудривала ей щеки розовой пудрой, мазала губы маслом какао. Я ставила рядом с ней на столик чайный прибор на медном подносе, наливала в стаканы немного сладкого чаю, как будто Лалла Асма пила.
Я теперь не отходила от нее. Ночью спала на полу рядом с ее кроватью, закутавшись в покрывало. Помню, было много комаров, ночь напролет я слушала их пение над самым ухом, а под утро поворачивалась на другой бок и ненадолго засыпала. Я забывала о тяжелом, надсадном дыхании Лаллы Асмы, и мне снилось, будто мы уезжаем, уплываем наконец на том самом пароходе, о котором она столько говорила, из Мелильи в Малагу, и еще дальше, до самой Франции.
А однажды ночью стало совсем худо. Я не сразу поняла, что происходит. Лалла Асма задыхалась. В груди у нее хрипело, как в кузнечных мехах, а на выдохе что-то булькало. Я лежала на полу и боялась шелохнуться. В комнате было темно, хоть глаз выколи, а во дворе чуть-чуть светила луна. Но я нипочем не смогла бы выйти. Мне хотелось, чтобы поскорей рассвело. Все думала: вот взойдет солнце, Лалла Асма проснется и перестанет хрипеть, и булькать, и задыхаться.
Однако на рассвете меня сморил сон, до того я устала. Наверно, тогда-то Лалла Асма и умерла, вот почему я смогла наконец уснуть.
Когда я проснулась, было совсем светло. У кровати стояла Зохра и плакала в голос. Вдруг она заметила меня, и рот у нее перекосило от злости. Она стала бить меня полотенцем, журналами, потом сняла башмак и замахнулась, но я убежала во двор.
— Дрянь, ведьмино отродье! — кричала она. — Мать умерла, а ты спишь как ни в чем не бывало! Убийца!
Я спряталась, забилась под стол в кухне, как раньше, когда была маленькой. Меня всю трясло от страха. На мое счастье, услышав крики, прибежала соседка. Потом и Абель пришел, вдвоем они успокоили Зохру. У нее в руке был нож, наверно, убить меня хотела. Она все вопила: «Ведьма! Убийца!» Абель с соседкой усадили ее во дворе, дали воды.
Тем временем я выскользнула из кухни, прокралась через двор на четвереньках вдоль стены, где была тень. Босиком, в одном только измятом платье — я так в нем и спала, — лохматая, я, наверно, и впрямь выглядела убийцей.
Большая синяя дверь была приоткрыта, я прошмыгнула в нее. И побежала, побежала по улицам, как в тот день, когда ходила за повитухой. Я ужасно боялась, что меня догонят, поймают и посадят в тюрьму за то, что я не помогла Лалле Асме и она умерла.
Вот так я покинула дом в милля — навсегда. Без ничего, без гроша в кармане, босиком, в старом платьишке, у меня не было даже золотых серег, полумесяцев Хиляль, которые Лалла Асма обещала мне оставить после смерти. Такой обездоленной я не была даже в тот день, когда меня украли и продали Лалле Асме.
2
Постоялый двор был совсем не похож на то, к чему я привыкла.
Этот дом, открытый всем ветрам, стоял на людной улице, кишевшей машинами, грузовиками, мотоциклами. В двух шагах находился базар, большое бетонное строение, где можно было купить все, что угодно, — свежее мясо и овощи, бабуши, ковры и пластмассовые ведра.
Когда я убежала из дома Лаллы Асмы, то понятия не имела, куда идти. Знала только одно: мне надо спрятаться в таком месте, где Зохра и Абель никогда не найдут меня, даже если пошлют на поиски полицию. Я бежала по улицам, держась в тени, прижимаясь к стенам, точно бродячая кошка. А в голове все стоял крик Зохры: «Ведьма! Убийца!» Я не сомневалась: если она поймает меня, то непременно посадит в тюрьму. Ноги сами привели меня на ту улицу, где я искала доктора для Лаллы Асмы. Когда я узнала дом с распахнутыми настежь воротами, сердце у меня так и подпрыгнуло от радости. Здесь-то Зохре меня не найти, это точно.
Госпожи Джамили дома не оказалось. Ее позвали куда-то к роженице. Я села на балконе, прислонясь спиной к стене, сидела тихо, как мышка, под ее дверью и ждала.
В первый раз я так спешила, что мне недосуг было поглядеть, что творится в гостинице. Теперь я смотрела во все глаза, как снуют туда-сюда разные люди, торговцы-разносчики в лохмотьях, навьюченные, словно мулы, как они складывают тюки под галереями. Тут были овощи, финики, а еще молодые парни привозили всякую всячину в коробах, установив их на велосипедные рамы: полные короба пластмассовых игрушек, кассет с музыкой, часов, темных очков. Эти товары были мне знакомы: сколько раз такие торговцы стучались в дверь Лаллы Асмы, а она не могла уже выходить за покупками, так что впускала их, просила разложить все во дворе и покупала вещи, которые ей были не нужны, какие-то авторучки, кусочки мыла, выводя этим из себя невестку: «Матушка, зачем вам все это?» А Лалла Асма качала головой: «Может быть, когда-нибудь порадуюсь, что купила». Но я знать не знала, что уличные торговцы собираются на таком вот дворе.
На верхнем этаже жили молодые женщины, которых я видела в прошлый раз, до того красивые и роскошно одетые, что я в простоте душевной решила, будто все они принцессы. В этот час они еще спали в своих комнатах за высокими приотворенными дверьми.
Я заглянула в щелку и увидела одну из принцесс на большой кровати. Приглядевшись, я различила ее впотьмах. Она лежала совсем голая на простынях, лицо было закрыто волосами; я удивилась, увидев ее белый-белый живот и чистый, без единого волоска, треугольник под ним. Такого я в жизни не видала. Лалла Асма никогда не брала меня с собой в баню и до последнего времени не допускала, чтобы я смотрела на нее раздетую. А мое тощее черное тело совсем не походило на эту белоснежную плоть, на это дремлющее лоно. Кажется, я попятилась, испугавшись немного, даже ладони вспотели.
Я долго сидела на галерее, ни о чем не думая, глядя на мельтешню торговцев во дворе. Со вчерашнего дня у меня крошки во рту не было, очень хотелось есть, и еще я умирала от жажды.
Внизу во дворе был колодец, а под галереей я углядела развязанный мешок с сушеными фруктами; на него садились воробьи, клевали. Я прокралась по лестницам к мешку. Мне было немного стыдно: Лалла Асма всегда говорила, что нет ничего хуже, чем красть, даже не потому, что нельзя брать чужое, а потому, что тайком — нечестно. Но я была голодна, а мудрые наставления Лаллы Асмы остались в прошлом.
Я села на корточки перед открытым мешком и стала вытаскивать из пластиковой упаковки и есть сушеные финики, инжир, изюм горстями. Наверно, съела бы почти весь мешок, но хозяин-торговец подошел неслышно сзади и сцапал меня. Левой рукой крепко схватил за волосы, а в правой у него был ремень.
— Ах ты, тварь черномазая! Я тебе покажу, как воровать!
Помню, особенно обидно было не от того, что меня поймали с поличным, а от того, что пальцы торговца вцепились в мои волосы, в самую гущу, и как он кричал: «Сауда!» Такого мне никто никогда не говорил, даже Зохра, когда злилась. Она знала, что Лалла Асма ей бы не спустила.
Я вырывалась, укусила его до крови, и он разжал пальцы. Повернувшись к нему лицом, я крикнула:
— Я не воровка! Я вам заплачу за все, что съела!
Тут как раз появилась госпожа Джамиля, а женщины с верхнего этажа вышли на балкон и, перегнувшись через перила, принялись честить торговца такими словами, каких я в жизни не слыхала. Одна принцесса, не найдя, чем бы в него запустить, даже швыряла мелкие монетки и кричала:
— На, вот тебе твои деньги, сам ты вор, сукин сын!
Женщины так его заклевали, что он и слова сказать не мог, стоял столбом под градом монеток, пока госпожа Джамиля не взяла меня за руку и не отвела наверх. А я, помнится, все еще сжимала в кулаках изюм, я его не бросила даже тогда, когда торговец драл меня за волосы и стегал ремнем.
Но мне вдруг стало очень страшно, а может, навалилось сразу все, что случилось со мной за последние дни, вспомнилось, как Лалла Асма упала, как Зохра меня выгнала и украла мои серьги. На лестнице я расплакалась, да так, что и идти не могла. Госпожа Джамиля была не выше меня ростом, но ей пришлось нести меня наверх, как маленькую. Она шептала мне на ухо: «Доченька, доченька моя», — а я плакала все сильней оттого, что в один день потеряла бабушку и нашла маму.
Наверху поджидали принцессы (про себя я их иначе не называла, даже когда поняла, что никакие они не принцессы), и все стали целовать меня, ласкать и подбадривать. Спросили, как мое имя, и повторяли друг дружке: «Лайла, Лайла». Потом они принесли мне крепкого чаю с медовыми пирожками, и я съела столько, сколько смогла. После этого мне устроили постель из подушек на полу в комнате, где было темно и прохладно, и я сразу уснула, не замечая царившего в гостинице гвалта; во дворе играло радио, и скрипучая музыка убаюкивала меня. Вот так я и вошла в жизнь госпожи Джамили, акушерки, помогавшей девушкам в беде, и ее шести принцесс.
3
Жилось мне на постоялом дворе безмятежно на диво, и могу сказать без преувеличения: то было самое счастливое время в моей жизни. Ни трудов, ни забот я не знала, госпожа Джамиля и принцессы баловали меня, как никто и никогда, у них я нашла любовь, которой прежде была лишена.
Я ела, когда мне хотелось есть, спала, когда хотелось спать; если меня тянуло погулять (а тянуло почти всегда), я уходила, ни у кого не спрашивая разрешения. Я жила на постоялом дворе, точно вольная птица, потому что так жили женщины, чью жизнь я разделила. Они не замечали часов, а значит, были счастливы. Меня они приняли в свою семью как дочь, вернее сказать, я стала их куклой или, скорее, сестренкой — так я у них и звалась. Госпожа Джамиля говорила мне «дочка». Фатима, Зубейда, Айша, Селима, Хурия и Тагадирт говорили «сестричка». Только Тагадирт иногда тоже говорила «дочка», потому что была старше всех и вправду годилась мне в матери. Спала я в их комнатах по очереди, принцессы жили по двое, кроме Тагадирт, та занимала большую комнату без окон, в которой меня уложили в первый день. А у госпожи Джамили был номер по другую сторону галереи, с окном на улицу. Мне и там случалось спать, но реже, я не должна была видеть, чем занималась госпожа Джамиля, а она в своем кабинете принимала женщин, которым надо было избавиться от будущих младенцев. Когда приходили пациентки, я знала, что соваться к ней нельзя. В такие вечера она запирала дверь на щеколду, а в щелку между шторами я видела горевшую в кабинете лампу. Очень скоро я поняла, что это значит.
Все принцессы полюбили меня. Они давали мне поручения, посылали по своим делам. Я приносила им со двора чай, покупала на базаре пирожки и сигареты. Относила их письма на почту. Иногда они брали меня с собой в город за покупками, не затем, чтобы я несла сумки (для этого при них всегда были мальчики), а чтобы помогла купить получше и подешевле. Этому я научилась у Лаллы Асмы, когда она торговалась с разносчиками, стучавшимися в ее дом, и те уроки пошли мне впрок.
Зубейда любила ходить со мной в ряды, где продавали ткани. Она выбирала ситец на платья, на покрывала. Зубейда была высокая, тоненькая, с молочно-белой кожей и черными как смоль волосами. Она заворачивалась в отрезы, выходила на свет: «Ну, как я тебе?» Я задумывалась, прежде чем ответить. Произносила с расстановкой: «Красиво, но темно-синий цвет пойдет тебе больше».
Продавцы меня уже знали. Они привыкли, что я отчаянно торгуюсь, как будто это мне платить. И плохой товар подсунуть не могли, меня им было не провести, и этому Лалла Асма научила. Как-то раз я не дала Фатиме купить золотую подвеску с бирюзой.
— Да ты посмотри, Фатима, камень-то не настоящий, это крашеная железка. — И я постучал камнем о зуб. — Слышишь? Он внутри пустой.
Торговец рвал и метал, но Фатима его отбрила.
— Заткнись. Моя сестричка всегда верно говорит. Скажи спасибо, что я не отвела тебя в участок.
С того дня принцессы и вовсе надышаться на меня не могли. Они всем рассказывали о моих подвигах, и теперь даже торговцы с постоялого двора почтительно кланялись мне. Иной раз приходили просить, чтобы я за них похлопотала перед той или другой женщиной, пытались умаслить подарками, но я-то видела их насквозь. Я брала у них конфеты и пирожки, а потом говорила Фатиме или Зубейде: «С этим держи ухо востро, он точно мошенник».
Госпожа Джамиля про все всегда знала. Не говорила ничего, но я понимала, что ей это не нравится. Когда я шла что-то купить или увязывалась за одной из принцесс, она провожала меня долгим взглядом. Спрашивала Фатиму: «Ты водишь ее туда?» Это звучало как упрек. Порой она пыталась удержать меня дома, засаживала за уроки, заставляла писать, решать примеры, учить законы природы. Она хотела научить меня писать по-арабски, вообще строила планы на мой счет.
Но я все ее слова пропускала мимо ушей. Свобода вскружила мне голову: слишком долго я жила взаперти. Пусть попробует кто не пустить — убегу, только меня и видели.
Даже сегодня мне с трудом верится, что принцессы на самом деле были вовсе не принцессами. С ними жилось так весело. Особенно с Зубейдой и Селимой, они были молоденькие, беспечные, всегда смеялись. Родились они в горах и сбежали из своих деревушек в город. Вокруг них вечно вился хоровод мужчин, красивые американские машины приезжали за ними к воротам постоялого двора. Помню, как-то вечером подкатил длинный черный автомобиль с затемненными стеклами и флажками с двух сторон, такие цветные флажки, зелено-бело-красные и немножко черного. Тагадирт сказала: «Это большой человек и очень богатый». Я пыталась разглядеть того, кто сидел в машине, но сквозь темные стекла ничего не было видно. «Это король?» — спросила я. Тагадирт и не подумала смеяться надо мной. «Все равно что король», — ответила.
Мне нравилось лицо Тагадирт. Она была уже в годах, от глаз лучиками разбегались морщинки, словно она всегда улыбалась, кожа темная, как у меня, почти черная, и маленькие четкие татуировки на лбу. С ней я два раза в неделю ходила в баню, которая находилась на берегу лимана, неподалеку от пристани. Тагадирт давала мне нести большое полотенце, сама брала сумку с чистым бельем, и мы уходили туда вместе. При Лалле Асме я понятия не имела, что такое баня, и мне никогда бы в голову не пришло, что можно раздеться догола при других женщинах.
А Тагадирт вовсе не знала стыда. Она расхаживала передо мной без всякой одежды, скребла себя пемзой, растирала жесткими рукавицами. Груди у нее были тяжелые, с лиловыми сосками, а на бедрах и животе кожа лежала складками. Она тщательно удаляла волосы на лобке, под мышками, на ногах. Я рядом с ней смотрелась как головешка черная, тощая, — но все равно прикрывалась внизу полотенцем, ничего не могла с собой поделать.
Тагадирт просила меня натереть ей спину и шею кокосовым маслом, она покупала его на базаре, и от него разливался тошнотворный запах ванили. Баня была большая, пар клубился над нагими телами, стоял гомон, крик и гвалт. Голые мальчики бегали в бассейне и с визгом разбрызгивали горячую воду. От всего этого голова у меня шла кругом и тошнота подкатывала к горлу.
— Еще, Лайла. У тебя крепкие руки, так приятно.
Я сама не знала, нравится ли мне это. Знай себе втирала масло в спину Тагадирт, вдыхала запахи ванили и пота. Когда я клевала носом, Тагадир брызгала в меня холодной водой, я отпрыгивала, волоски на всем теле вставали дыбом, а она смеялась.
Я стала любимицей постоялого двора. Видно, этим и была недовольна госпожа Джамиля. Наверно, она считала, что принцессы меня слишком нежат и балуют, того гляди, испортят вконец.
Целыми днями эти женщины умилялись надо мной: «Ах, до чего же хороша!» — и наряжали, как им вздумается; наслушавшись их, я и сама в конце концов поверила, что хороша. Я подчинялась всем их прихотям, гордясь собой. Они одевали меня в длинные платья, красили ногти пунцовым лаком, губы алой помадой, румянили щеки, подводили глаза. Селима — в ней была суданская кровь — занималась моей прической. Разделив мои волосы на пряди, она заплетала косички с красными ленточками или разноцветными бусинами. Или мыла мне голову кокосовым мылом, и тогда волосы становились сухими и пышными, как львиная грива. Она говорила, что лучшее во мне — лоб и брови, на диво длинные, изогнутые дугой, и еще — миндалевидные глаза. Может быть, Селима так говорила, потому что я была похожа на нее.
Тагадирт подкрашивала мне ладони хной, а то еще рисовала на лбу и щеках такие же знаки, как у нее, — она делала это соломинкой, обмакнув ее в сажу. Еще она учила меня играть на дарбуке, танцуя посреди комнаты. Заслышав бой маленьких барабанов, приходили другие женщины, и я танцевала для них, босиком на каменном полу, кружилась, кружилась, так, что все плыло перед глазами.
В таких забавах я проводила почти весь день. Под вечер женщины выпроваживали меня: к ним жаловали гости; тогда я уходила или сидела в комнате той, что уезжала на машине. Госпожа Джамиля вытирала мне лицо кончиком мокрого полотенца: — Что они опять с тобой сотворили! Вот дурехи!
Волосы у меня торчали в разные стороны, тушь текла, помада размазывалась; я, наверно, походила на грубо размалеванную куклу, и госпожа Джамиля не могла удержаться от смеха, глядя на меня. Я засыпала, убаюканная кружившимся в голове хороводом событий этих длинных дней, таких длинных, что я даже не могла вспомнить, как они начинались.
Больше всех я полюбила Хурию. Она была самая молодая и появилась в гостинице последней. Всего за несколько дней до меня. Хурия жила в берберской деревушке, далеко на юге. Ее выдали замуж за богача из Танжера, он бил ее и насиловал. Однажды она тайком собрала чемоданчик и убежала. Тагадирт подобрала ее на улице у вокзала и привела сюда, чтобы она могла спрятаться, на случай, если муж пошлет людей искать ее. Госпоже Джамиле это не понравилось. Она пустила Хурию, но при условии, что та уйдет, как только опасность минует. Повитуха не хотела неприятностей с полицией.
Хурия была маленькая, худенькая, на вид совсем девочка. Мы с ней очень скоро стали неразлучными подругами, она брала меня с собой повсюду, даже в рестораны и дансинги. Друзьям говорила, что я ее младшая сестра. «Это Ухти, моя сестренка. Правда, похожа на меня?»
У нее было красивое лицо с правильными чертами, тонкие брови и зеленые глаза, красивее которых я в жизни не видела. Я никогда не спрашивала, как она зарабатывает. Думала, что ей делают подарки за то, что она хорошо поет и танцует, да еще писаная красавица. Мне было невдомек, каково даются деньги, я вообще не знала, что хорошо, а что дурно. Жила как домашняя зверушка, в моем понимании хорошо было, когда меня любили и баловали, а дурно все, что опасно и страшно, — Абель, например, смотревший так, будто съесть хотел, и Зохра, которая искала меня через полицию и всем рассказала, что я-де обокрала ее свекровь.
А страшнее всего было оставаться одной. Иногда по ночам мне снилось то, что было давным-давно, когда меня украли. Я видела яркий свет, белую-белую улицу, слышала жуткий крик черной птицы. А иногда еще слышала, как хрустнули кости в моей голове, когда меня сбил грузовик.
Тогда я забиралась в кровать к Хурии, прижималась к ее спине, крепко-крепко, будто боялась, что сейчас исчезну. От Хурии я впервые узнала, где родилась. Когда я рассказала ей про серьги, которые украла у меня Зохра, она сказала, что знает, где живет мое племя, хиляль, люди полумесяца, — за горами, на берегу большой пересохшей реки. И я мечтала, что когда-нибудь приду туда, в ту деревню, найду улицу, а в конце улицы меня будет ждать родная мать.
Но Хурия недолго прожила на постоялом дворе. Однажды утром она ушла. Не из-за своего мужа, нет. Это случилось из-за меня.
Как-то вечером мы с Хурией и ее друзьями отправились в ресторан на берегу моря. Мы долго ехали куда-то на машине по темным улицам и остановились у большого пустынного пляжа. Я была на заднем сиденье «мерседеса» у дверцы, а Хурия посередине, с мужчиной. Впереди сидели еще двое мужчин и светловолосая женщина. Они громко разговаривали на непонятном мне языке — я подумала, что это, наверно, русский. Я хорошо запомнила мужчину за рулем — он был большой и широкоплечий, как Абель, волосатый и с черной бородой. Еще я запомнила, что один глаз у него был голубой, а другой черный. В ресторане мы просидели довольно долго, наверно, до полуночи. Это был шикарный ресторан, со светильниками в виде канделябров, которые освещали песок на берегу и официантов в белом. Я весь вечер смотрела на темное море, на огни возвращавшихся к берегу рыбачьих лодок и отсветы далекого маяка. Светловолосая женщина говорила без умолку и громко смеялась, а мужчины ухаживали за Хурией. Ветер задувал в открытое окно, унося сигаретный дым. Я тайком выпила немного вина — водитель «мерседеса» дал мне глотнуть из своего бокала; вино было сладкое и густое и огнем обожгло горло. Он говорил со мной по-французски со странным, каким-то тяжелым акцентом, растягивая слова. Я так устала, что уснула прямо на банкетке у окна.
Проснулась я в машине, лежа одна на заднем сиденье. А надо мной склонился водитель, свет из ресторана падал на его курчавые волосы. До меня не сразу дошло, но, когда он запустил руку мне под платье, я проснулась по-настоящему. От вина меня тошнило. Я закричала невольно и не могла остановиться. Мне было страшно; водитель хотел зажать мне рот рукой, но я укусила его. Я орала ка резаная, царапалась и кусалась.
Хурия прибежала сразу. Она разъярилась еще сильней, чем я, оттащила водителя за шиворот, тузила его кулаками. И громко ругалась. Он пытался дать отпор, пятился по песку, а Хурия подняла большой камень и точно убила бы этого гада, если бы не подоспели остальные. Она все честила его последними словами, плакала, и я плакала тоже. Водитель успел обежать машину и закурил как ни в чем не бывало сигарету. Потом Хурия успокоилась и мы поехали обратно. Бородач вел машину, ни на кого не глядя, с сигаретой в зубах, никто ничего не говорил, даже русская помалкивала.
Нас высадили в Суйхе, и мы пешком пошли на постоялый двор. На улицах было еще много народу — кажется, вечер был субботний. На бульваре все скамейки были заняты, под каждой магнолией обнимались влюбленные парочки. Хурия купила два стакана чаю и пирожки. Мы еле передвигали ноги, и обе дрожали, как будто после аварии. Хурия не говорила о том, что произошло, только один раз обмолвилась: «Этот сукин сын сказал мне: пусть она спит, я побуду рядом, буду охранять ее, как отец».
Госпожа Джамиля узнала о том, что случилось на пляже. Но она вовсе не хотела, чтобы Хурия покинула постоялый двор. А та на следующее утро собрала чемоданчик, тот самый, с которым бродила у вокзала, когда ее встретила Тагадирт. И ушла, никому ничего не сказав. Может быть, вернулась к мужу, в Танжер. Много месяцев я ничего о ней не знала, но без нее мне было грустно, потому что она и вправду стала мне как сестра.
После этого госпожа Джамиля пыталась не отпускать меня с другими принцессами, но с Хурией я приохотилась к воле, и все запреты мне были нипочем. А с Айшой и Селимой я еще кое к чему приохотилась: научилась воровать.
Начала я с Селимой. Когда она принимала своего друга на постоялом дворе или шла с ним в ресторан, я увязывалась за ней. Садилась в уголке, прислонясь к двери и поджав ноги, как свернувшийся зверек, поджидала удобного случая. Друг Селимы был француз, учитель географии в лицее или что-то в этом роде, солидный человек. Он хорошо одевался, носил костюм из серой фланели, жилет и до блеска начищенные черные ботинки.
К Селиме он приходил часто, всегда водил ее ресторан в старый город, а после ужина они возвращались на постоялый двор и занимали комнату без окон. Он приносил мне конфеты, несколько раз давал монетки. Я сидела под дверью, будто охраняла их, как верная собачонка. А на самом деле ждала, когда им надолго станет не до меня, и на четвереньках вползала в комнату. Впотьмах я подкрадывалась к кровати. Чем занималась Селима с французом — это мне не было интересно. Я искала одежду. Учитель был человек аккуратный. Брюки он складывал, пиджак и жилет вешал на спинку стула. Мои пальцы, как проворные зверушки, юркали в карманы и вытаскивали все, что находили: часы-луковицу, золотое обручальное кольцо, бумажник, пухлый от банкнот и раздутый от монет, красивую ручку с золотой инкрустацией. Я уносила свою добычу на галерею, чтобы рассмотреть при свете дня, брала себе немного бумажных денег и мелочи, а иногда и какую-нибудь понравившуюся вещицу — перламутровые запонки, маленькую синюю ручку.
Я думаю, что учитель в конце концов что-то заподозрил, потому что однажды он принес мне подарок, красивый серебряный браслет в коробочке, и, протягивая его, сказал: «Вот это действительно твое». Он был добрый, и я устыдилась, что у него воровала, но ничего не могла с собой поделать, руки так и чесались. Я вовсе не со зла этим занималась, скорее это было что-то вроде игры. Деньги мне были не нужны. Разве что на подарки Селиме, Айше и другим принцессам, а так — зачем они, деньги?
Потом, с Айшой, я стала воровать в магазинах. Она брала меня с собой в центр города, мы вместе заходили в лавки, и, пока она покупала сладости, я запихивала в карманы все, что под руку попадалось: шоколадки, банки сардин, печенье, изюм. На улице я так и зыркала глазами по сторонам, ища, где бы еще что стянуть. Мне уже и спутница была не нужна. Я знала, что до меня, маленькой и черной, людям дела нет. Невидимка, да и только. Но на базаре скоро делать стало нечего. Торговцы меня засекли, я чувствовала, как их глаза следят за каждым моим движением.
Тогда мы стали уходить с Айшой далеко-далеко, до самого Приморского квартала, туда, где были красивые виллы, новые многоэтажные дома и сады. Айша любила бродить по торговым центрам, а я тем временем отправлялась на кладбище, чтобы посмотреть на море.
Вот где я чувствовала себя в безопасности. Было спокойно и тихо и не видно городской суеты. Мне казалось, будто я жила здесь всегда. Я садилась на могильные холмики и вдыхала медовый аромат каких-то маленьких, мясистых растений с розовыми цветочками. Гладила ладошкой землю вокруг могил.
В этом месте я разговаривала с Лаллой Асмой. Я ведь даже не знала, где ее похоронили. Она была еврейкой, так что вряд ли упокоилась среди мусульман. Но это не имело значения: здесь, на кладбище, я чувствовала, что она совсем рядом и может услышать меня. Я рассказывала ей, как живу. Не все, урывками, входить в подробности не хотелось. «Бабушка, — говорила я, — вы были бы недовольны мной. Вы учили меня не брать чужое и всегда говорить правду, а теперь я такая воровка и лгунья, какой другой и на свете нет».
Мне было грустно вот так, сквозь землю говорить с Лаллой Асмой. Я роняла слезинку, но она тут же высыхала на ветру. Так красиво было в этом месте, розовели холмики в цветах, белели безымянные надгробные камни, на которых едва виднелись стертые строчки Корана, а вдали синело море, парили в небе чайки, скользили по ветру, кося на меня красными злыми глазами. На кладбище было видимо-невидимо белок. Они словно из могил выскакивали. Наверно, жили вместе с покойниками, может, даже грызли их зубы как орешки.
Смерти я ничуточки не боялась. Когда Лалла Асма лежала на полу и в груди у нее хрипело и булькало, мне представилось, что смерть — это просто очень глубокий сон. А опасаться на кладбище приходилось вовсе не мертвецов.
Однажды откуда ни возьмись появился благообразный седой старик с длинной бородой. Он, наверно, давно меня выслеживал, и стоял, высокий и прямой, у самой могилы, словно из нее вышел. Я смотрела на него, а он запустил руку под рубаху, задрал ее и показал свой член с блестящей лиловатой головкой — совсем как баклажан. Может, он думал, что я испугаюсь, закричу, убегу. Но я на постоялом дворе чуть ли не каждый день видела голых мужчин и слышала шуточки принцесс по поводу их членов, которые, по их словам, обычно бывали маловаты.
Я, не долго думая, запустила в старика камнем и задала стрекача между могил, а он бранился мне вслед, но догнать в своих бабушах не мог.
— Маленькая ведьма!
— Старый кобель!
В тот день я поняла, как обманчива бывает внешность: старик в белых одеждах с красивой седой бородой запросто может оказаться старым похотливым кобелем.
В Приморском квартале хорошо было воровать. Там были шикарные магазины со всякими вещами только для богатых — на базаре в старом городе такого и не видели. В Суйхе продавали только один сорт печенья, одну жевательную резинку, из питья — апельсиновую фанту да пепси. А в тамошних магазинах я находила банки сока с надписями по-японски, по-китайски, по-немецки, новых, незнакомых вкусов — тамаринд, королек, «плоды страсти», гуайява. Сигареты — из всех стран, даже длинные темные, с золотым ободком, я покупала их для Айши, и швейцарский шоколад, его я таскала с прилавка.
Я входила в магазин за спиной Айши, прохаживалась между рядами и шла на выход с полными карманами. Выглядела я пай-девочкой: синее платьице с белым воротничком, в курчавых волосах бант, глаза честные. Все думали, что я, верно, новенькая в квартале, приехала с матерью, которая работает на виллах. Я обнаружила, что люди-то в большинстве своем просты, что видят перед глазами, тому и верят, что им говорят, то и глотают, охмурить их проще простого. Мне шел пятнадцатый год, однако на вид больше двенадцати не дашь, а хитра я уже была как дьявол. Это Тагадирт мне сказала. Может, она и была права. Она ссорилась с Селимой и Айшой, называла их алкахуэтес, своднями.
Боюсь, что я совсем потеряла чувство меры, и никто был мне не указ. Я могла попасть в большую беду. Тогда-то и сложился мой характер, с той поры моей жизни я стала неспособной к какому бы то ни было повиновению и по сей день стремлюсь жить так, как мне заблагорассудится; а еще тогда у меня появился жесткий взгляд.
Госпожа Джамиля понимала, что со мной неладно. Но она не знала, как обращаться с детьми, опыта не было, хотя в каком-то смысле принцессы были ей почти как дети. Пытаясь уберечь меня от кривой дорожки, она решила, что мне надо ходить в школу. Для обычной коммунальной школы я недостаточно хорошо говорила по-арабски, для иностранной — вышла из возраста. К тому же у меня не было никаких документов. Госпожа Джамиля выбрала частное заведение, что-то вроде пансиона, где на попечении сухой и строгой женщины по имени мадемуазель Роза жили десять или двенадцать трудных девочек-подростков. На деле это оказался скорее исправительный дом. Мадемуазель Роза, француженка, в прошлом монашка, имела сожителя много моложе ее, он занимался хозяйственной частью и бухгалтерией.
У большинства девочек было прошлое побогаче моего. Кто убежал из дома, у кого уже имелся любовник, а кого сосватали и держали здесь, чтобы все наверняка прошло гладко. Я рядом с ними чувствовала себя свободной, беспечной и ничего не боялась. И года не провела я у мадемуазель Розы.
Воспитание в пансионе сводилось к тому, чтобы девочки были постоянно заняты — в основном шитьем, глажкой и чтением нравоучительных книжек. Мадемуазель Роза немного учила их французскому, а ее красавчик управляющий — еще меньше — азам арифметики и геометрии.
Когда я рассказывала принцессам, как трудятся девочки, будто рабыни, как им приходится подметать и мыть пол в пансионе, обжигать руки об утюги и кастрюли, они негодовали. Сама же я не собиралась ни вышивать, ни стряпать, ни заниматься уборкой. Когда-то я все это делала для Лаллы Асмы, потому что она была мне бабушкой и вырастила меня. Я не собиралась снова гнуть спину, чтобы угодить старой деве, которой вдобавок за это платили. Так что я просто сидела на стуле и слушала уроки мадемуазель Розы, ее простуженный голос, читавший «Стрекозу и муравья» или «Сон ягуара». Я немногому научилась в школе мадемуазель Розы, зато уж чему научилась — так это ценить свободу и дала себе слово, что никогда, что бы ни случилось, никто у меня эту свободу не отнимет.
Под конец семестра мадемуазель Роза сама пожаловала на постоялый двор, наверно, чтобы своими глазами увидеть, в какой среде могло вырасти этакое чудовище — я. Госпожа Джамиля была в отъезде, и приняли ее на галерее Селима, Айша и Зубейда, в длинных пеньюарах из светлого муслина, с подведенными глазами. «Мы ее тетушки», — сказали они. И как начали при мадемуазель Розе, которая не верила своим ушам и глазам, винить меня во всех грехах: и лгунья-то я, и воровка, и строптивица, и ленивица, гнать меня надо, не то я распугаю всех пансионерок или, чего доброго, возьму утюг да и подожгу школу. Вот так меня и выставили из пансиона. Жаль было только денег, которые госпожа Джамиля потратила на мое обучение, но не могла я обречь себя на каторгу ей в угоду.
Наконец-то после перерыва в несколько месяцев я вернулась к вольной жизни и снова гуляла по Суйхе, по богатому Приморскому кварталу и кладбищу над морем. Но счастье мое длилось недолго. Однажды в полдень, когда я возвращалась из очередной вылазки с полными карманами разных подарочков для моих принцесс, меня поджидали у ворот постоялого двора двое мужчин в сером. Я не успела ни крикнуть, ни позвать на помощь. Они схватили меня с двух сторон за руки и, приподняв, швырнули в синий фургон с решетками на окнах. Все как будто вернулось вновь, и я опять не могла шевельнуться от страха. Я видела белую улицу, она убегала, видела небо, оно чернело. Я скорчилась в углу фургона, прижав колени к животу, заткнув руками уши, зажмурившись, я снова была в черном мешке, и он засасывал меня.
4
Я знать не знала, куда меня везут и зачем. Только позже я поняла, что произошло. Это полиция по наущению Зохры выследила меня, и я попалась. Меня искали во всех магазинах, где я воровала. Мной занимался судья по детским делам, очень спокойный человек, говорил он так тихо, что я ничего не слышала. На все вопросы я отвечала «да», и он решил, что я образумилась. Решил и стал спрашивать про постоялый двор, хотел знать, чем занимались госпожа Джамиля и принцессы. Тут я ничего не отвечала, он сердился, но тоже тихим голосом. Он только ломал карандаш, который вертел в пальцах, и смотрел так, будто хотел сказать: я и тебя могу сломать, только попадись ко мне в руки. Меня допрашивали несколько дней подряд, а после допросов отводили в комнату с решетками на окнах. Это было похоже на школу или на больничный флигель.
А потом меня отдали Зохре. Если б я могла выбирать между Зохрой и тюрьмой, то выбрала бы тюрьму, но меня никто не спрашивал.
Зохра и Абель Аззема жили теперь в новом многоэтажном доме на самой окраине города, среди больших садов. Старый дом в милля они продали, и Зохра согласилась уехать от своих родителей, чтобы поселиться в этом богатом квартале.
Поначалу Зохра с Абелем меня не обижали. Вроде бы решили, что было, то прошло, зла никто ни на кого не держит, теперь будем жить по-новому. Может, они госпожи Джамили побаивались, может, знали, что за ними будут приглядывать.
Но надолго их не хватило. Прошло немного времени, и Зохра опять стала злющей, как раньше. Она била меня, кричала, что я в доме никто, даже не прислуга, потому что делать ничего не умею. Она набрасывалась на меня из-за любого пустяка: за то, что я разбила чашку, не промыла чечевицу, наследила на полу в кухне.
Из дому Зохра меня не выпускала. Говорила, мол, так велел судья, чтобы я не якшалась с дурной компанией. Когда ей надо было куда-то выйти, она запирала меня в квартире на ключ и оставляла кипу белья, чтобы я гладила. Один раз я чуть-чуть подпалила воротник Абелевой рубашки, и Зохра в наказание прижгла мне утюгом руку. У меня слезы катились из глаз, но я изо всех сил стиснула зубы, чтобы не закричать. Мне не хватало воздуха, будто кто-то меня душил, еще немного — и я бы потеряла сознание. На моей руке до сих пор маленький белый треугольник — он теперь навсегда.
Я думала, что умру. Мне нечего было есть. Зохра варила рис для своей собачки, у нее была маленькая ши-тцу с длинной, белой чуть в желтизну шерстью. Рис она заливала куриным бульоном — и больше не давала мне ничего. Я ела меньше ее собачонки. Время от времени мне удавалось стянуть в кухне яблоко или персик. Страшно было даже подумать, что будет, если Зохра это заметит. Руки мои и ноги все были в синяках, так она лупила меня ремнем. Но мне до того хотелось есть, что я все равно таскала из буфета то сахар, то печенье, то фрукты.
Однажды Зохра пригласила к обеду гостей, своих знакомых французов по фамилии Делаэ. Она купила для них в Приморском супермаркете красивую гроздь черного винограда. Пока они ели закуски, я сидела на кухне и отщипывала виноградину за виноградиной. Вскоре оказалось, что я съела все ягоды снизу. Тогда, чтобы не сразу заметили мою проделку, я напихала под гроздь бумажных катышков: так в тарелке она казалась целой. Я знала, что рано или поздно все обнаружится, но мне уже было наплевать. Виноградины таяли во рту, они были сладкие и душистые, как мед.
В конце обеда я принесла виноград, и тут гости попросили, чтобы я осталась. «Ваша маленькая протеже», — говорили они Зохре.
Зохра перед ними стелилась вовсю. Она велела мне снять обноски и надеть голубое платье с белым воротничком, которое осталось еще с тех времен, когда я жила у Лаллы Асмы. Оно оказалось мне коротковато и узко, но Зохра не стала застегивать молнию, а сверху повязала фартучек. И потом, я у нее сильно похудела.
— Она очаровательна, просто прелесть! За вас можно порадоваться.
Французы показались мне очень славными. У месье Делаэ были ясные голубые глаза, они так и сияли на загорелом лице. А у мадам, блондинки, кожа была красноватая, но выглядела она совсем молодо. Мне очень хотелось попросить их забрать меня отсюда, взять к себе, но я не знала, как и сказать. Вот если бы они прочли в моих глазах, что мне худо, и сами все поняли!
Конечно, когда приступили к десерту, Зохра увидела объеденную снизу гроздь и бумажные катышки. Она громко окликнула меня. Веточки без ягод стояли дыбом, словно волосы. Казалось, грозди и той стыдно.
— Не браните ее. Это же ребенок, разве мы все не делали чего-нибудь подобного, когда были детьми? — сказала мадам Делаэ. Ее муж от души смеялся, а Абель кривил губы в улыбке. Зохра даже притворяться не стала, будто ей смешно, она метнула на меня злобный взгляд, а когда гости ушли, достала ремень с тяжелой медной пряжкой. «3 каждую ягоду! Шума!» И избила меня до крови.
Благодаря этим французам я смогла выйти из дому. Мадам Делаэ позвонила Зохре: «Послушайте, милая, вы бы не одолжили мне вашу маленькую протеже, вы же знаете, я не справляюсь одна по дому, а она бы подзаработала себе на конфеты».
Сначала Зохра под разными предлогами отнекивалась, но мадам Делаэ попеняла ей: «Надеюсь, вы не держите ее взаперти?» Тут Зохра испугалась: хоть и сказано было вроде как в шутку, ей почудилась угроза, и она стала меня отпускать. Раз в неделю, потом два.
Супруги Делаэ снимали красивый домик в Приморском квартале. Фирма Абеля его отремонтировала и заново покрасила. Место было тихое, вокруг — сад с апельсиновыми и лимонными деревьями за изгородью из олеандров. И птицы, много птиц. Там я чувствовала себя спокойно, казалось, будто я вернулась в детство, когда всем миром для меня был белый дворик дома Лаллы Асмы в милля.
Жюльетта Делаэ меня не обижала. Когда я приходила, около двух, она поила меня чаем и угощала печеньем из красивой красной жестяной коробки. Видя, как я набрасываюсь на это сухое печенье, наверняка догадывалась, что я недоедаю у Зохры. Думаю, она знала о моем прошлом, но говорить о нем не говорила. Когда я вытирала пыль в ее спальне, она все свои украшения оставляла на виду на комоде, и серебряные чашечки, полные монеток, тоже. После моей уборки мадам Делаэ пересчитывала монетки, и по ее веселому голосу я понимала, что она довольна: все были на месте. Но пока она это делала, я успевала в прихожей пошарить в карманах висевшего на вешалке пиджака ее мужа.
Месье Делаэ был почти старик, с большим носом и в очках, за которыми его голубые глаза казались больше. Он всегда хорошо одевался, носил серый костюм-тройку с маленьким красным кругляшом в петлице и до блеска начищенные черные кожаные туфли. Когда-то он был большим человеком, то ли послом, то ли министром, не помню. Я робела перед ним, он называл меня «малыш», а иногда «мадемуазель». Никто никогда не обращался ко мне так. Он говорил мне «ты», но ни разу не дал ни конфет, ни денег. У него была страсть — фотографировать. Фотографии висели в доме повсюду — в коридорах, в гостиной, в спальнях, даже в туалете.
Как-то раз он позвал меня в свою студию. Маленький флигель без окон в глубине сада, наверно раньше служил гаражом, а месье Делаэ его переоборудовал. Там он проявлял и печатал свои фотографии.
Что меня удивило в студии — снимки его жены, развешенные по стенам. Старые снимки, она них была совсем молоденькая. На одних — раздетая, с цветами в белокурых волосах, на других — в купальнике, на пляже. Это было не в нашей стране, на каком-то далеком острове, я разглядела пальмы, белый песок, бирюзовое море. Месье говорил мне названия, не помню, кажется, Манурева или что-то в этом роде. А еще на стене висел странная штуковина, кожаная, черная, с медным гвоздиками, я сначала решила, что это оружие, рогатка, а может, намордник. Потом, всмотревшись в фотографии, я удивилась, обнаружив, что эта штука, которую он повесил здесь, словно трофей, прикрывала срам мадам Делаэ.
Я не раз видела голых женщин — в бане, когда ходила туда с Тагадирт, или когда Айша, Фатима и другие разгуливали в чем мать родила по свои комнатам. Но мне почему-то стыдно было смотреть на те фотографии, где мадам Делаэ снялась без всякой одежды. На одной, черно-белой, она лежала совершенно голая на террасе под ярким солнцем, и лобок, выделявшийся большим треугольным пятном внизу ее живота, казался особенно черным по сравнению со светлыми волосами. Месье Делаэ смотрел из-под очков, чуть-чуть улыбаясь. Я подумала, что он тоже меня вроде как испытывает, и не подала виду, что мне стыдно. Я так хотела им понравиться!
Потом я еще не раз приходила в студию. Месье Делаэ объяснял мне, как печатать фотографии, показывал ванночки с реактивами, учил брать пинцетом готовый снимок и прищепкой прикреплять его к натянутой веревке, чтобы просох. Мне нравилось смотреть, как проступает на бумаге лицо, медленно, постепенно темнея. Там были женские лица, детские, уличные сценки. И девушки в странных позах, платья расстегнуты, спущены с плеч, волосы растрепаны.
Месье Делаэ твердил, что я умница и у меня способности к фотографии. Он и мадам Делаэ говорил обо мне с воодушевлением: мол, меня надо послать учиться в какую-нибудь лабораторию, где я получу профессию. А я смотрела на эту женщину, такую изысканную, и гнала из головы кусочек черной кожи с гвоздиками, висевший в студии. Думала: ну и что, ничего такого, повесили на стену и забыли, как вешают мимоходом шляпу.
Однажды — это было в начале лета, стояла сильная жара — я, как обычно, закончив дела по дому, пошла печатать фотографии. Месье Делаэ работал в одной рубашке, его пиджак висел на плечиках. Красный свет не горел. «Сегодня я хочу тебя пофотографировать», — сказал он мне. Он смотрел на меня как-то странно. И говорил так, будто это дело решенное. А я совсем не хотела, чтобы меня фотографировали. Мне это никогда не нравилось. Я запомнила, как Лалла Асма говорила, что фотографировать — нехорошо, это у тебя лицо отнимают.
И все же мне было лестно, что такому человеку, как месье Делаэ, хочется фотографировать черную девчонку вроде меня.
А он уже зажег свои лампы на прищепках, поставил табурет перед белой простыней, гвоздиками прибитой к стене. Он все приготовил заранее, наверно, давно это задумал. Лицо у него было серьезное, деловитое, на лбу блестел пот: от ламп припекало. Он посадил меня на табурет и велел сидеть прямо.
Потом поставил аппарат на треноге с красным огоньком и начал фотографировать. Я слышала, как щелкает затвор. И его дыхание я, кажется слышала, тяжелое, как у астматика. Это было как-то чудно. Я его ничуточки не боялась, но почему-то сердце у меня билось сильно-сильно, будто делала такое, чего нельзя, что-то опасное.
Он перестал щелкать. Ему не нравилось, как причесана. Вернее сказать, наоборот, что я не растрепана. Головную повязку, которую Зохра заставляла меня носить, он велел снять, намочил мне волосы, обрызгав холодной водой, и высуши феном, чтобы распушить. Горячий воздух обдувал мне затылок, а по шее текли холодные капли, платье промокло. Господин Делаэ стал совсем странным, он был похож на Абеля, когда тот напал на меня в умывальне во дворе Лаллы Асмы. Пот лил с него градом, глаза сверкали, бегали, белки налились кровью. Я подумала, что его жена может войти в любую минуту, наверно, это его и беспокоило. Действительно, он даже выглянул за дверь, а потом закрыл ее и повернул ключ в замке. Вот ведь как — всем, и госпоже Джамиле, и мадемуазель Розе, и Зохре непременно надо было запереть меня на ключ. С этой минуты мне стало нехорошо. Сердце совсем зашлось, от липкого пота щипало бока и спину.
Месье Делаэ снова стал фотографировать. Он сказал что-то про мое платье, дескать, оно мне не идет, да и промокло совсем. Ему хотелось чего-то подходящего к моему лицу, дикарского чего-то, зверино-свирепого. Он расстегнул на мне платье, оголил шею. Я чувствовала, как его руки шарят по моему затылку, по плечам. Чувствовала его дыхание, отодвигалась, а он что-то делал у меня на груди, под мышками, вроде бы искал живую позу. Глаза у меня, наверно, стали злые, потому что он убрал руки, опять защелкал аппаратом и все повторял: «Вот так, великолепно, ты просто великолепна!» Время от времени он подходил ко мне сзади, расстегивал еще пуговицу, спускал платье пониже. Но теперь он до меня едва дотрагивался, только дышал в затылок.
Наступил момент, когда я не смогла больше терпеть. Меня затошнило. Я вскочила и, даже не застегнувшись, побежала к двери. Но ключа в замке не было, и я развернулась. Месье Делаэ стоял за аппаратом и, как мне показалось, размышлял о чем-то. У него было такое странное лицо, словно ему очень больно. Не помню, что я ему сказала, кажется, выкрикнула злобно что-то вроде: «Если вы меня не выпустите, я заору!» Он открыл мне дверь. И попятился от меня, точно от скорпиона. «Да что с тобой? — спрашивал он. — Что я тебе сделал? Я не хотел тебя пугать, хотел просто сфотографировать». Я не стала его слушать. Убежала прочь со всех ног. Даже с мадам Делаэ не попрощалась, так и ушла. Сердце у меня колотилось, щеки горели огнем и шея тоже, там, где этот человек трогал своими пальцами.
Деваться мне было некуда, и я вернулась Зохре. Дома никого не оказалось. Я дожидалась на лестнице. Как ни странно, она не побила меня и ни о чем не спросила. Просто я не ходила больше к Делаэ. Наверно, в тот день я и решила, что уйду, убегу как можно дальше, на край света и никогда, никогда не вернусь. И как раз в ту пору Зохра вздумала меня сосватать.
Я не сразу поняла, что у нее на уме, но обратила внимание, что, с тех пор как я перестала ходить к Делаэ, Зохра стала ко мне добрее. Она по-прежнему запирала меня в квартире, но бить больше не била. Даже стала получше кормить и вдобавок к рису, который я делила с собачкой ши-тцу, иногда давала яблоко, банан или фиников с орехами. Мало того — в один прекрасный день она торжественно вручила мне коробочку, в которой лежали золотые серьги-полумесяцы с именем моего племени, те, что похитители детей оставили на мне, когда продали Лалле Асме. «Они твои. Я припрятала их и хранила, чтобы ты не потеряла. Такова была воля матери, неужто я могу ее ослушаться?» Я никак не могла взять в толк, с какой стати она это сделала. Думала, думала и решила, что не иначе Лалла Асма явилась ей во сне и велела отдать мне серьги. Зохра была такой же суеверной, как и злой.
Мадам Делаэ несколько раз приходила за мной. Но Зохра не дала мне даже выйти к ней, да я была этому и рада. Во мне вдруг поселилась ненависть к этим людям, таким с виду красивым и изысканным, с их штуковинами для прикрытия срама и чудными фотографиями.
И потом, в дом уже захаживал тот мужчина.
Он был довольно молодой, служил в банке или что-то вроде того. Держался очень чопорно. Зохра, наверно, сказала ему, что я плохо говорю по-арабски, и он обращался ко мне на французском, таком старомодном и церемонном, что меня разбирал смех. Зохра подавала ему чай в гостиной, приносила пепельницу, чтобы он не сорил пеплом от сигарет на ковер. Сигарету свою он держал в пальцах прямо, словно карандаш, повадки у него были неуклюжие, вид простодушный.
Перед его приходом Зохра заставляла меня надевать голубое платье с кружевным воротничком, то самое, что месье Делаэ терпеть не мог и хотел с меня снять в тот день, когда фотографировал. Я приносила на подносе позолоченные чашечки и сахарницу, а господин Джамах (я сразу прозвала его по-французски господином Жаме, господином Никогда то есть) смотрел на меня добрыми глазами. Его тонкое белокожее лицо выражало сильное волнение, а садясь рядом с ним на подушки, я то и дело подмечала, как он украдкой поглядывает на мои ноги. Так продолжалось несколько месяцев, и меня стали даже забавлять эти визиты. Я играла, кокетничала, говорила намеками, чтобы он еще глубже увяз. А Абель тем временем ревновал, злился, и от этого игра мне еще больше нравилась: так я мстила ему за тот случай. Я все делала, чтобы он поверил, будто я радуюсь предстоящему замужеству. Когда он бывал дома, я подолгу расспрашивала Зохру о господине Никогда, допытывалась, много ли у него денег, какой дом, кто его родные, какая у него работа, сколько братьев и все такое.
Однажды Абель мимоходом метнул на меня полный злобы взгляд. «Ладно, недолго уже тебе здесь оставаться». Он сказал мне, что помолвка состоится в октябре. И добавил: «Ты у нас любишь гостиницы, так что это будет в гостинице на берегу моря. Зал уже заказан».
Я даже вещи собирать не стала, чтобы их не насторожить. Только рассовала по одежкам свои сбережения, все, что я украла и что заработала у Делаэ, — я прятала их под плинтусом в комнате, где спала. Монеты я положила в карманы, а бумажки зашила в блузку на животе. Серьги Хиляль прицепила к головной повязке изнутри.
Собравшись, я дождалась, когда вернется из магазина Зохра, и будто нечаянно уронила из окошка ванной постиранное белье. Я спущусь принесу, сказала я Зохре. Сердце у меня колотилось, и я думала: хоть бы она ни о чем не догадалась по моему голосу. Зохре после обеда хотелось спать. Она колебалась, но уж очень устала. И все-таки дала мне ключ.
— Не вздумай только шляться по улице!
Я не верила своим глазам: все оказалось легче легкого.
— Нет, тетя, я сейчас же вернусь.
Она зевнула:
— Закрой дверь хорошенько. И все потом перестираешь.
Я вышла на лестницу. В отместку я увела с собой собачку Зохры и заперла дверь на ключ, на два поворота. У Абеля был свой ключ, и я знала, что до вечера он не вернется.
Спустившись вниз, я пинком прогнала ши-тцу и выбросила ключ в мусорный бак. Еще и закопала поглубже в отбросы, чтобы никто не нашел. А потом ушла по пустым улицам, под ярким солнцем, неспешным шагом.
5
Первым делом, сами понимаете, я направилась на постоялый двор, к госпоже Джамиле и принцессам. Прошел уже почти год с тех пор, как полиция поймала меня. И когда я пришла к постоялом двору, ничегошеньки там не узнала. Словно землетрясение все смело. Не было ни высокой стены, ни ворот, а на месте двора, где раньше сидели торговцы, землю заасфальтировали и устроили стоянку для машин и фургонов, которые приезжали на базар. Нижние окна были заколочены или закрыты железными шторами. На втором этаже все осталось почти как прежде, только выглядел он нежилым, обветшалым, заброшенным. С фасада сыпалась штукатурка, ставни были сломаны. Под потолком галереи свили гнезда ласточки. Я стояла ошеломленная, ничего не понимая. Мне казалось что меня предали.
У въезда на стоянку сидел сторож. Высокий, сухопарый, с обветренным, как у солдата, лицом, в длинной серой рубахе, на голове кое-как накручено что-то вроде чалмы. За его спиной какие-то мальчишки старательно мыли стекла машины, макая тряпку в ведро с мыльной водой. Охранник подозрительно уставился на меня. Я не посмела его ни о чем спросить. Побоялась, что он сдаст меня в полицию. Да и что он мог знать? Сердце разрывалось при мысли, что это из-за меня не стало постоялого двора. Владелец выполнил свою угрозу: госпожу Джамилю и принцесс выслали за оскорбление нравственности, а он продал дом банкирам.
Кое-что мне рассказал Роммана, старый торговец, у которого я всегда покупала американские сигареты для Тагадирт. Госпожу Джамилю арестовали и посадили в тюрьму, а все принцессы разъехались кто куда, но он знал, что Тагадирт поселилась на другом берегу реки, в дуаре под названием Табрикет. С ней теперь жила Хурия. Я купила у него сигарет, больше в память о прежних временах. Но долго задерживаться мне было нельзя. Уж конечно, на постоялом дворе Зохра станет искать меня в первую очередь.
Я села на паром. Дело было к вечеру, лиман казался бескрайним. Начинался прилив, возвращались к берегу рыбацкие суденышки, над ними кружили чайки. Очертания города таяли в туманной дымке. Другой берег уже погрузился во тьму, и на той стороне мерцали огоньки. Впервые я почувствовала себя свободной. Ничто больше не держало меня, а впереди было будущее. Я не боялась белой улицы и птичьего крика, и никому, никогда больше не запихнуть меня в мешок и не побить. Мое детство осталось по ту сторону реки.
Дом Тагадирт я нашла с трудом. Дуар Табрикет оказался далеко от реки, на холме, за еще не достроенным шоссе, по которому проносились грузовики. Это был очень бедный квартал, одни дощатые лачуги, крытые жестью или асбестоцементной плиткой, — стены, подпертые камнями, чтобы не рухнули от ветра. Все улицы были одинаковые — неасфальтированные, прямые, окутанные клубами пыли. А от шоссе и вовсе стояло над все поселком красноватое облако.
Я шла, сворачивая в проулки наугад. Лохматая, оборванная — все собаки лаяли мне вслед. У колонки толпились женщины и ребятня, наполняя пластмассовые бидоны. Гоняли на велосипедах мальчишки, повесив на руль пару бидонов с водой или укрепив на нем вязанку хвороста. Какая-то женщина показала мне дом Тагадирт. Она проводила меня до нужной улицы, оставив свой бидон наполняться под струей воды. На углу показала мне домик, выкрашенный зеленой краской: «Здесь».
Сердце заныло: я не знала, как примут меня Тагадирт и Хурия после всего, что случилось. Может быть, и на порог не пустят, закидают камнями.
Мне даже стучаться не пришлось. Кто-то, наверно, успел их предупредить, и Хурия вышла, как раз когда я подходила. Она обняла меня крепко-крепко и все повторяла: «Лайла, Лайла». Слезы текли у нее по щекам. Она изменилась. Побледнела, даже как-то посерела, под глазами темные круги. На ней было замызганное, все в пятнах платье и пластмассовые сандалии на босу ногу — даже ремешки не застегнуты.
Из глубины двора я услышала басовитый голос Тагадирт. Там был навес из зеленой гофрированной пластмассы, какие ставят в садах, а под ним — жаровня. Вышла Тагадирт, одетая тоже в зеленое. Она не очень изменилась. Морщинки в уголках глаз и у рта, которые мне так нравились, стали чуть глубже. Я заметила, что она слегка прихрамывает. Одна нога у нее была забинтована.
Мы обнялись. Я была счастлива, что снова вижу ее, вдыхаю ее запах. Мне казалось, будто я нашла родных, семью, с которой не виделась много-много лет. Тагадирт приготовила свой любимый gun-powder[1] с мятой, которую она выращивала в горшках возле своей кухни. Столько вопросов вертелось у меня на языке, что я не знала, с чего начать. Хурия рассказала про госпожу Джамилю. Та недолго пробыла в тюрьме, а потом уехала из города. Может быть, в Мелилью или во Францию. Принцессы разлетелись кто куда. Зубейда и Фатима вышли замуж, Селима жила со своим учителем географии, а Айша занялась торговлей. Постоялый двор закрыли, он долго пустовал, а потом стену снесли. Я твердила, что я во всем виновата, меня арестовали, все из-за этого, а добрая душа Тагадирт утешала: «Рано или поздно это должно было случиться. Госпожа Джамиля уже давно не платила аренду, и торговцы тоже. Это был не дом, а табор, поэтому ничего удивительного нет». Я успокоилась, но все же не могла поверить, что не злоба Зохры всему причиной. Зохра была моим демоном.
— Что с тобой? — спросила я Тагадирт, показав на ее ногу.
Она пожала плечами; казалось, ей неприятно, что я об этом спрашиваю.
— Ничего страшного, паук укусил, наверно.
Но позже Хурия сказала мне правду: Тагади заболела диабетом. Врач в больнице осмотрел ногу и сказал Хурии с глазу на глаз: «Она очень больна, у нее гангрена. Ногу придется отнять». Но Хурия ничего не сказала подруге. «Она так и думает, что это от укуса паука, делает припарки из трав и говорит, что ей лучше, уже совсем не болит, но не болит-то потому, что нога мертвеет». Это бы ужасно, но, с другой стороны, может, и лучше, что Тагадирт не говорили правды, поскольку она была обречена.
Жилось в дуаре нелегко, особенно мне — ведь я никогда по-настоящему не знала нужды. Даже у Зохры я все-таки ела каждый день, а в доме были вода и свет. Здесь, в Табрикете, мы всегда голодали, к тому же не хватало самых простых вещей: например, не каждый день можно было помыться, не всегда находился хворост, чтобы вскипятить воду для чая. Хворостом торговали дети, они приносили его издалека, с холмов по другую сторону шоссе. Маленькие девочки в лохмотьях таскали на спине, придерживая за веревку, вязанки, которые были больше их самих.
А ведь наш дом считался далеко не самым бедным. Тагадирт им гордилась, потому что его построил ее сын Иса, один, своими руками, из блоков, которые сам приносил по одному. Иса был строителем, он работал в Германии. В комнате, служившей столовой, Тагадирт повесила его фотографию — большую, чуть подпорченную «снегом». Сын был похож на нее, особенно глазами, слегка раскосыми, как у китайца.
Зеленый цвет для дома выбрала Тагадирт. Это был ее любимый цвет. Она выкрасила в зеленый цветочные горшки, в которых выращивала мяту и шалфей, и стулья в зеленый, и низкий столик, отыскала даже английский чайник цвета бирюзы с плетеной ручкой и круглой, как горошина, шишечкой на крышке.
Места в доме хватало для всех. Во дворе под навесом размещалась кухня, у Тагадирт была своя комната, а в другой спали мы с Хурией, прямо на полу, на подушках. Была даже комната для Исы, с его кроватью и его шкафом, всегда готовая на тот случай, если он вдруг вернется без предупреждения. Рядом с кухней Тагадирт соорудила из досок что-то вроде ванной, там можно было помыться в пластмассовом тазу, поливая на себя из цинкового ведра, а потом в той же воде стирали белье. Мы с Хурией ходили за водой к колонке и по очереди обливали друг друга, визжа от холода. В дуаре не было бани: слишком бедные люди здесь жили, да и воды не хватало. С ванной Тагадирт и цинковым ведром мы жили почитай что в роскоши.
Тагадирт, с тех пор как у нее заболела нога, не могла больше работать. Теперь за нее это делала Хурия. Она зарабатывала шитьем и глажкой в химчистке, обслуживавшей гостиницы. Вставала каждое утро рано-рано, еще шести не было, и отправлялась на пароме в город. «Найди и мне работу», — попросила я Хурию. Та покачала головой. «Нет, это не для тебя. Тебе надо учиться, в школу ходить». Она купила мне учебники по французскому, английскому, испанскому и тетради. Тагадирт соглашалась с ней: «Нельзя тебе быть такой, как мы. Ты должна выучиться, стать важным человеком, талибом, доктором. А не хедимой, прислугой, вроде нас». Почему они так говорят, я не знала. Впервые меня не хотели пристроить замуж. Впервые во мне видели не просто прислугу, чернавку, кухонную девку, только на то и годную, чтобы готовить мужу еду. Что и говорить, меня это тронуло до слез, мои подруги и вправду были добрыми принцессами, и я обнимала и целовала их.
Но сидеть дома и заниматься я не могла. Это было выше моих сил. Я брала книги, перетянутые, как у школьников, резинкой, и уходила искать местечко, где можно было спокойно почитать.
Поначалу, в октябре, пока стояла хорошая погода, я отправлялась на старое кладбище над морем, откуда так хорошо виден горизонт, и полдня читала среди могил. Иногда надо мной парили морские птицы, неподвижно раскинув крылья в потоках ветра. А то хорошенькие рыжие белочки выскакивали из-за могильных холмиков и смотрели на меня, ничуть не боясь. Но я-то как раз побаивалась после того случая со старым кобелем. Он ведь мог и полицию на меня навести в отместку. Я стала искать другое место и нашла городскую библиотеку возле Археологического музея. Читальный зал был маленький, всего несколько столов со старыми тяжеленными стульями. Библиотека бы открыта всю неделю, кроме воскресенья и понедельника, и всегда, за исключением часа, когда лицеисты после уроков приходили делать домашние задания, почти пуста. Там за эти месяцы я смогла прочесть все книги, какие хотела, выбирая без всякой системы, что вздумается. Я читала книги по географии, по зоологии, но больше всего романов — «Нана» и «Жерминаль» Золя, «Госпожу Бовари» и «Три истории» Флобера, «Отверженных» Виктора Гюго, «Жизнь» Мопассана, «Постороннего» и «Чуму» Камю, «Последнего из праведников» Шварц-Барта, «Долг насилия» Ямбо Уологема, «Песчаное дитя» Бен-Джеллуна, «Мой друг Пьеро» Кено, «Клан Морамбер» Эксбрайя, «Остров немых» Башелери, «Наобум» Венсено, «Мораважин» Сандрара. Читала я и переводы — «Хижину дяди Тома», «Рождение Жалны», «Мой мизинчик мне рассказал», «Невинных», «Первую любовь» Тургенева, которая мне особенно нравилась. На улице было еще жарко, а в библиотеке — прохладно и тихо, я чувствовала, что в этом месте меня искать никто не будет. Там, в библиотеке, я познакомилась с господином Рушди, он преподавал французский в лицее. Когда мне надоедало читать, я выходила и присаживалась у дверей библиотеки на оградку пыльного палисадника, а господин Рушди приходил ко мне покурить и поболтать. Он ни о чем меня не спрашивал, но, по-моему, ему было любопытно, почему я глотаю столько книг подряд. Он-то мне и помог выбирать, посоветовал, что читать в первую очередь, рассказал про великих писателей, про Вольтера, Дидро, и про современных тоже, Колетт например, дал прочесть стихи Рембо, в которых я ничего не поняла, и все же они показались мне красивыми. Господин Рушди был беден, но одевался как франт, носил всегда безупречно отутюженный костюм-тройку коричневого цвета и белую рубашку с синим галстуком. Курил он много, его сивые усы пожелтели от табака, однако мне нравилось, как он держал сигарету большим и указательным пальцами, тыча ею, будто указкой.
Когда свет начинал меркнуть, я отправлялась назад в дуар Табрикет. Паром скользил по тусклой воде лимана, а в голове у меня шумело, так она была полна прочитанных слов, героев и пережитых приключений. Потом я шла по улочкам среди лачуг, словно возвращалась из другого мира. У Тагадирт к моему приходу был готов суп, и финики букри, сухие и жесткие, как леденцы, и круглый хлеб, который она пекла в кирпичной печурке, накрывая ее листом железа. Мне казалось, будто я отродясь не ела ничего вкуснее и никогда не жила так беззаботно. Про Зохру и про все, что было со мной раньше, я совсем забыла.
Хурия приходила домой затемно, чуть живая от усталости, с пылающими от раскаленных утюгов и пара щеками, с покрасневшими от долгого шитья глазами. Охая, она выпивала несколько стакан чая и ложилась. Но спать не спала. Мы говорили полночи, как бывало на постоялом дворе. То есть говорила я одна, потому что ее слов не слышала, а прочесть по губам в темноте не могла.
Иногда, субботними вечерами, она уходила. За ней приезжали на машине. Но ей не хотелось, чтобы ее друзья знали, где она живет. Она поджидала их под чахлой акацией на краю дуара. Машина увозила ее, вздымая облако пыли, а мальчишки бежали вслед и швырялись камнями.
Однажды вечером, пока Тагадирт возилась в саду, Хурия шепнула мне в здоровое ухо, что она хочет сделать: как только накопит достаточно денег, сядет на пароход и уедет в Испанию, а оттуда — во Францию. Она показала мне свои сбережения, пачки долларов, скатанные в трубочки и перетянутые резинками, — она прятала их в косметичке у себя под подушкой. Еще несколько таких пачек, сказала она, и можно будет уехать, лишь бы хватило заплатить капитану. Она шептала быстро, лихорадочно, словно выпила. У меня защемило сердце при виде ее денег: ведь это означало, что Хурия скоро уедет.
«Ну что ты?» Она сердилась, потому что я сморщила лицо, собираясь заплакать. «Ты уедешь, а что будет со мной? Я не хочу оставаться здесь с Тагадирт». Хурия крепко обняла меня. Стала утешать ласковыми словами, но я видела, что у нее все давно решено. Сердцем она была уже не с нами.
Уверенности ей было не занимать, а ведь с виду походила на куклу. Росточка Хурия была небольшого, с маленькими ладошками, а на лице с выпуклым лбом написано детское упрямство. Она твердо решила вырваться, бежать прочь от всего этого — от пыльных улочек, рычащего грузовиками шоссе, асбестоцементных крыш, по которым дождь грохотал как лавина, а солнце жгло сквозь них точно каленым железом. И от стен, воняющих мочой и плесенью, от колодцев, в которых стоит черная, ядовитая вода, от детей, играющих на мусорных кучах, от маленьких девочек с перемазанными сажей лицами, сгибающихся, как старушки, под вязанками хвороста. От всего, что напоминало ей о детстве, от нищей деревни, где даже вода, которую пьешь, отдает бедностью. А пуще всего она хотела бежать от гулянок с этими своими господами из хорошего общества, в их черных лимузинах с тонированными стеклами, где надо было через силу смеяться, притворяться веселой, счастливой, никому ведь не нравится горе. И еще она хотела бежать, потому что по-прежнему боялась, что ее ищут, и найдут, и возвратят тому скоту, за которого ее когда-то выдали замуж, а он поэтому считал, что может делать с ней что хочет, даже замучить до полусмерти.
Как-то вечером она вернулась пьяная, глаза у нее были мутные, почти безумные, и мне стало страшно. При свете керосиновой лампы я увидела, что она роется под подушкой, пересчитывает свои контрабандные доллары. Хурия заметила, что я не сплю, и подошла ко мне. «Ты не помешаешь мне уехать, ни ты, никто другой!» Я не сводила с нее глаз и молчала. «Я убью тебя, убью, только попробуй, я и себя убью, если мне придется остаться здесь». Она выпалила это и приставила к свое горлу перочинный ножик, который всегда носила с собой, чтобы защищаться от сутенеров.
Потом Хурия больше об этом не заговаривала, и я тоже ничего ей не сказала. Я точно знала, что она скоро уедет, что уже договорилась с одним капитаном. И тогда мне пришло в голову тоже уехать. Переплыть море, отправиться в Испанию, во Францию, в Германию, даже в Бельгию. Даже в Америку.
Но я была еще не готова. Если уезжать, понимала я, то навсегда, безвозвратно. День и ночь я думала об этом. Ходила по улочкам дуара, а сама была уже где-то далеко. Перепрыгивала через канавы и грязные лужи, обходила стороной стайки мальчишек, наполняла пластиковые бидоны у колонки в конце главной улицы, но делала все это как во сне.
Я стала читать атласы, чтобы знать пути, названия городов, портов. Записалась на курсы английского при ЮСИС[2] и немецкого при Гете-институте. Естественно, за них надо было платить, да еще требовали всякие справки и характеристики. Но я надевала все то же голубое платье с белым воротничком — я удлинила его тесьмой и переставила пуговицы, — прятала свою рыжеватую гриву под чистенькой белой повязкой и выкладывала им про себя все: что я сирота, денег у меня нет, да еще глухая на одно ухо и, мол, готова на что угодно, лишь бы выучиться, повидать мир, стать человеком. Вместо платы, говорила, могу у вас убираться, или надписывать конверты, или расставлять книги в библиотеке, что скажете, все могу. В американском культурном центре я приглянулась тамошнему секретарю, толстой даме-негритянке. Когда я в первый раз вошла в ее кабинет, она так и ахнула: «Господи, как же мне нравятся ваши волосы!» Запустила руку в мои лохмы, которые даже резинка не держала, и сразу записала меня, ни о чем не спрашивая.
А у немцев на меня положил глаз господин Георг Шён, долговязый и тощий молодой человек с редкими завитками светлых волос и серыми, серьезными и печальными глазами. Глядя на меня, он улыбался. Господин Шён взял меня на пробу в свой класс. Я шпарила наизусть целые списки слов, склонения. Все это звонким голосом, будто что-то понимала, вроде как читала стихи. Господин Шён сказал, что память у меня редкостная. Наверно, из-за глухого уха.
По вечерам я возвращалась к Тагадирт с учебниками, читала при свечке, делала уроки. Однажды господин Шён показал всему классу мое домашнее задание. Внизу листка красовалось большое жирное пятно.
— Это что такое? Вы ели за работой?
Ученики захихикали.
— Нет, господин учитель. Это пятно от воска.
Господин Шён, видно, не понял.
— У меня в доме нет электричества. Я занимаюсь при свечке. Если нужно, я все перепишу.
Он растерянно уставился на меня:
— Нет, нет, сойдет и так.
Но после этого он стал каким-то странным. Смотрел на меня так, будто все время думал об этом пятне от свечки на моем домашнем задании. Я не понимала, с чего он мается. Часто он просил меня задержаться после уроков, расспрашивал, что это за место, где я живу, что за люди живут там. Я никак не могла взять в толк, куда он клонит. Боялась, как бы он не донес на меня в полицию. Глаза у него были чудные, влажные и всегда печальные, разговаривая со мной, он сцеплял руки, теребил пальцы. Он немного напоминал мне месье Делаэ, только был добрее, мягче. А смотрел так же, чуть искоса, помаргивая ресницами. Он говорил, что выбьет мне стипендию и я поеду учиться в Германию, в Дюссельдорф. Это был его родной город, и он хотел, чтобы я приехала туда к нему. Еще он говорил, что я многого достигну, это уж наверняка. Стану знаменитой и богатой, мое фото будут печатать в газетах.
Про все это знал господин Рушди. Я теперь нечасто бывала в библиотеке из-за уроков немецкого и английского, но, когда я приходила, он был там. Сидел в углу и читал свои книги по философии. Через какое-то время он вставал и выходил покурить, и я шла за ним в садик. Когда я рассказала ему про господина Шёна, он пожал плечами: «Да он в вас влюблен, только и всего». И посмотрел на меня строго. «А вы, мадемуазель? Вы в него влюблены?» Мне стало смешно. «Вам решать, — заключил господин Рушди. — Вы молоды, у вас впереди вся жизнь». А потом он посоветовал мне прочесть «Самопознание Дзено» Итало Свево. «Кто не читал этой книги, тот ничего не читал», — сказал он загадочно. После этого господин Рушди стал говорить со мной по-другому. Читал мне стихи — Шехаде, Адониса. Как-то раз мне захотелось поддразнить его, и я заявила: «Наверно, я и правда выйду замуж за господина Шёна». Он вдруг помрачнел. Сказал: «Я вам не советую». Это тщеславие во мне говорило, я была уверена, что господин Рушди сам в меня влюблен, и забавлялась, глядя, как он меняется в лице, едва я заводила речь о замужестве.
Учеба моя продолжалась целых полгода, до весны. А потом я решила не ходить больше в Гете-институт. Дома было совсем плохо, Тагадирт без конца бранилась с Хурией, кричала, что та сидит у нее на шее, не дает ей денег, даже воровкой называла. Хурия огрызалась, ругалась нехорошими словами, уходила, хлопая дверью. Она пропадали где-то до утра, а я всю ночь не спала, прислушиваясь, как будто могла услышать ее шаги в проулке.
И еще кое-что произошло однажды в классе. Я, по своему обыкновению, осталась после уроков — на улице все равно шел дождь — и повторяла спряжения. Господин Шён стоял сзади и смотрел через мое плечо. На мне в тот день было черное платье, которое дала мне поносить Хурия, с глубоким вырезом на спине. Я надела его в первый раз, пришла весна, а фуфайки и плащи мне за зиму осточертели. И вдруг господин Шён нагнулся, будто нырнул, и поцеловал меня в шею чуть-чуть, совсем легонько. Так быстро, что я и понять не успела, могла ведь просто муха сесть и улететь. Но я увидела господина Шёна у себя за спиной. Он был весь красный и дышал тяжело, словно только что бежал. Я бы сделала вид, будто ничего не произошло, смешно все это было и странно как-то, что он, такой всегда печальный и холодноватый, вдруг повел себя как мальчишка.
Но он так и отпрянул. Теперь он был, наоборот, бледный и выглядел еще печальнее. Он смотрел на меня издалека сквозь серую влагу своих глаз, как на нечистого. Не знаю, что он бормотал, слов я не слышала, но поняла, что мне надо уносить ноги побыстрее. Мыслимое ли дело, такой большой человек, такой важный, преподаватель из Дюссельдорфского университета, вздумал целовать в шею черную девчонку из дуара.
И я собрала книги, тетради и убежала под мелкий дождик, и он заструился по моей спине, стекая в вырез, что так подействовал на господина Шёна.
Через несколько дней я встретила Алину Босутро, девушку с курсов немецкого, встретила случайно, когда гуляла у Врат Ветра. Она сказала мне про господина Шёна: он очень жалел, что я бросила учебу, надеялся, что я вернусь, я ведь была в списке учеников, которых он рекомендовал на стипендию, чтобы учиться в Германии. Уж не знаю, зачем она мне все это выложила. Может, у нее что-то было с господином Шёном и он с ней откровенничал. Но говорила она вроде от души и без задней мысли, быть того не могло, чтобы он ей рассказал о том, что случилось.
Я сказала: да, конечно, я вернусь, скоро, как только смогу, но пока я очень занята. Мне хотелось от нее избавиться, я озиралась по сторонам и думала: если она не отстанет, ищейки Зохры в два счета меня сцапают. Алина, видно, что-то прочла в моих глазах: затравленность, испуг. Она наклонилась ко мне, спросила: «Лайла, у тебя неприятности?» Алина была дочерью крупного французского коммерсанта, ее отец имел монополию на продажу китайских велосипедов в Африке. Что она могла понять про мою жизнь? Я и боялась-то больше всего, что на меня обратят внимание из-за нее, такой белокурой, такой шикарной. Нет, нет, сказала я, все о'кей, и убежала от нее, затерялась в толпе и кружным путем добралась до парома.
После этого случая от города меня как отрезало. Только за рекой я чувствовала себя в безопасности. Я бросила все курсы, не ходила в библиотеку при музее, не виделась с господином Рушди. Неделя шла за неделей, а я все боялась выйти за пределы Табрикета. Сидела во дворике дома Тагадирт под пластиковым навесом, слушала, как стучит дождь по кровле, смотрела, как потоки воды стекают в бочки.
Печальное это было время, и тянулось оно медленно. Хурия ждала ребеночка, потому-то она и ссорилась все время с Тагадирт. Я ни о чем на спрашивала, но про себя думала, что ребенок, наверно, от того самого друга, который приезжал за ней на машине. А Тагадирт становилось все хуже и хуже. Ее теперь днем и ночью мучили боли в паху, там вспухли твердые, черные, вроде маслин, желваки. Больная нога была серая, раздутая и все равно как деревянная — она ее совсем не чувствовала. Целыми днями она сидела в кресле, уставившись на больную ногу, и проклинала укусившего ее паука. И других девушек она бранила — Селиму, Фатиму, Айшу, припоминала все их былые ссоры. Ведьмы они, говорила, колдуньи. Тем же самым словом называла меня когда-то Зохра: сахра. Тагадирт совсем заговаривалась, она вбила себе в голову, что девушки подложили колючку в ее туфлю. А я думала, что рано или поздно виноватой у нее окажусь я.
Впервые мне захотелось уехать прочь отсюда, далеко-далеко. Отправиться на поиски моей матери, моего племени, в край хиляль, что за горами. Но я была не готова. Может, ничего этого и на свете не было и я сама все придумала, глядя на золотые серьги.
Ночью я прижалась к Хурии, прильнула ухом к ее животу, будто могла расслышать, как бьется сердце ее ребеночка.
— Когда мы уедем? — спросила я.
Хурия ничего не ответила, но руками я ощутила, что она плачет, а может быть, беззвучно смеется. Позже она прошептала мне на ухо:
— Уже скоро. Скоро, как только найдется два места на пароходе до Малаги.
Теперь у нас был общий секрет. После обеда, когда Тагадирт отдыхала в своей комнате, мы, забросив работу по дому, строили планы. Хурия говорила, куда мы поедем, кого встретим, перечисляла города, имена. Сама я никого не знала, кроме писателей и певцов. Я назвала их: Хосе Кабанис, Клод Симон и еще Серж Генсбур, я любила его песню «Элиза». «Если хочешь, — сказала Хурия, — мы и с ними встретимся тоже». Она думала, что это такие же люди, как мы с ней, что с ними можно вот так запросто встретиться.
Тагадирт выходила, ковыляя, из своей комнаты и принималась нас бранить. Она уже поняла, что мы скоро уедем. «Убирайтесь куда хотите! — кричала она. — Во Францию, в Америку, хоть к черту на рога! Только чтобы здесь я вас больше не видела!»
Я накопила денег и купила себе радио на контрабандном рынке у реки. Маленький черный приемник, раньше он, наверно, принадлежал какому-нибудь художнику: на нем остались пятнышки белой краски. «Риалистик» — так он назывался. По вечерам на волнах «Радио Танжер» я слушала Джимми Хендрикса. Еще была под вечер передача Джемаа, я любила ее голос, такой молодой, звонкий, чуть насмешливый. Мне представлялось, будто она моя подруга и мы живем одной жизнью. «Я хочу быть такой, как она», — думала я. Имена певцов, которых она представляла, я записывала в блокнот, пыталась записать и слова песен по-английски, «Foxy Lady». Та весна была странная — моя последняя африканская весна. Дождь барабанил по пластиковому навесу во дворе, переполнял бочки. И голос Джемаа, звучавший в моем здоровом ухе, и музыка из радиоприемника, Нина Саймон, Пол Маккартни, Симон и Гарфункель, Кэт Стивенс, которая пела «Longer Boats», — все это было как долгое-долгое ожидание. И Хурия тоже ждала, лежа на подушках и сложив руки на животе; она уже ходила переваливаясь, словно утка, хотя была беременна всего с месяц, не больше. И дуар Табрикет тоже, казалось, ждал, бесконечно долго ждал чего-то, чего не будет никогда. Чумазые ребятишки шлепали по лужам, взвизгивали женщины. Вечерами голос муэдзина, призывавшего на молитву, звучал над рекой, смешиваясь с криками чаек: возвращались рыбачьи лодки. А позади, в пыльной черноте, гудело шоссе, и всё неслись, неслись по нему грузовики, точно злые насекомые.
Однажды вечером Тагадирт стало совсем худо. Хурия послала меня звонить ее сыну. По-немецки ведь говорила я. Когда я вернулась, Тагадирт уже увезли в больницу и сказали, что ногу ей ампутируют. Все вышло само собой, очень быстро. Назавтра к вечеру мы уже собрались в дорогу. Нам предстояло добраться на грузовике до Мелильи, и в ту же ночь капитан должен был взять нас на пароход до Малаги.
Мы лихорадочно пересчитывали деньги. Хурия оставила себе столько, сколько надо было заплатить капитану, а остальное отдала мне — две тысячи долларов, пачку, перетянутую толстой резинкой. Я хотела было положить ее в карман, но Хурия остановила меня: «Да не сюда! Так у тебя все украдут». Она взяла свой бюстгальтер, ушила его, укоротила бретельки и набила чашечки деньгами, завернув пачки в носовые платки. «Ну вот, — сказала она, надев на меня бюстгальтер, — теперь ты похожа на настоящую женщину! Все мужчины будут падать к твоим ногам!» Мне показалось, будто на груди у меня висят два огромных мешка, а бретельки резали плечи. «Я не могу, халти. Мне больно. Я потеряю все твои деньги». Хурия рассердилась: «Не хнычь, привыкай, деньги будут у тебя, иначе нельзя».
Я спросила: «Может, сходим навестим Тагадирт в больнице?» Когда я о ней думала, меня мучила совесть и я готова была остаться. Но у Хурии взгляд был жесткий, решительный. И такое же выражение лица, как в тот день, когда она приставила к горлу перочинный ножик. «Нет, мы ей напишем, она приедет к нам потом, как только будет куда».
До ночи ждали мы грузовика на обочине шоссе. Успели обе покрыться пылью с ног до головы и походили на нищенок.
Уже затемно мимо нас проехал небольшой грузовичок. Он притормозил и остановился поодаль, погасив фары. Мне было страшно, но Хурия почти волоком потащила меня. Водитель спрыгнул на землю. Он ткнул в меня пальцем и спросил Хурию: «А она не малолетка?» — «Да ты посмотри на грудь! — сказала Хурия. — Ослеп, что ли?» По-моему, его особенно удивил цвет моей кожи. Он, наверно, решил, что я из Судана или из Сенегала. Хурия подсадила меня в кузов и залезла сама. Никакого багажа мы с собой не взяли, так было условлено. Только по сумке со сменой белья да мой неразлучный приемник.
Водитель медлил, не трогался с места, и Хурия прикрикнула на него: «Чего ждешь, coño?» Он огрызнулся, мешая испанские слова с арабскими, а Хурия сказала мне: «Все они такие в Мелилье».
До порта мы добрались около четырех часов утра. Перед таможенным контролем водитель постучал в заднее стекло и сделал нам знак лечь на пол. В кузове громоздились картонные ящики с бельем, на них было написано: BLANCO. Смешно: мы-то с Хурией были как раз черненькие.
Грузовичок медленно проехал через таможенный контроль. Сквозь заднее стекло я видела, как мимо проплыли желтые огни, потом все погрузись во тьму. Я привстала, чтобы посмотреть: вокруг был город, современный и некрасивый, с высоченными зданиями на свайных фундаментах. Накрапывал дождик.
На пристани уже толпился народ — все ждали парохода. Было много мужчин, но и женщины тоже, они зябко кутались в плащи. Детей я не увидела.
Мы с Хурией сели, прислонясь к стене дока, чтобы хоть как-то укрыться от моросящего дождя. Хурия уснула, положив голову мне на плечо. Она так давно ждала этой минуты, что теперь усталость навалилась на нее и она не в силах была противиться. Я попробовала включить радио, но Джемаа уже не говорила в этот час. Раздавался только треск, и я вздрагивала, будто слышала кузнечиков с края света.
Незадолго до зари к пристани пришвартовался катер. Большой, белый, с натянутым над палубой брезентом. Люди стали подниматься по сходням. Они теснились, спешили занять место в каюте, и мы с Хурией оказались последними. Мы сели прямо на палубе, у борта.
Капитан молча сновал между людьми. Он протягивал руку, и каждый отдавал ему остаток денег. Он быстро прятал банкноты и время от времени произносил гнусавым голосом: «О'кей, о'кей». Больше никто не говорил ни слова. Все прислушивались к шуму двигателя и ждали, когда он усилится, это будет означать отплытие.
Еще несколько минут — и все было готово. Матрос поднял якорь, и судно, покачиваясь на волнах, медленно заскользило к фарватеру.
Вот и все. Мы уезжали прочь отсюда, сами не зная куда и не ведая, когда вернемся. Все, чем мы жили здесь, удалялось, словно таяло, и я вспоминала домик в милля, такой маленький среди множества домов, теснившихся на берегу реки, уже далекой, над которой занималась заря, и дуар Табрикет, и женщин, стоявших в очереди к колонке за водой. Может статься, нам суждено умереть там, за морем, а здесь об этом никто и не узнает.
6
Как мы плыли и как потом добрались до самого Парижа — это я вряд ли смогу вам рассказать. Я, до сих пор никуда, можно сказать, из дому не выходившая — ведь все детство я просидела во дворике Лаллы Асмы, да и после самое дальнее мое путешествие было до конца проспекта в Приморском квартале да на пароме в Сале и в дуар Табрикет, — пересекла всю Испанию автобусом до Валье-де-Аран (это название я никогда не забуду), а потом шла пешком через заснеженные горы, поддерживая выбившуюся из сил Хурию.
Мы шагали, не разбирая дороги, оступаясь на горной тропе, среди других путников и даже не знали, как их зовут. Каждый сам за себя. Проводник, молодой парень в джинсах и кроссовках, был такой же чернявый и смуглый, как и люди, которых он вел. Некоторые, невзирая на запрет, шли с багажом, с чемоданами или дорожными сумками через плечо.
Когда мы миновали перевал, уже смеркалось. Внизу, в долинах, стлался молочно-белый туман, точно дым без огня. Я сказала Хурии: «Смотри, там Франция. Как красиво…» Она была очень бледная. У нее болел живот. Проводник подошел к нам. Посмотрел на Хурию и спросил по-испански: «Она ребенка ждет?» Я ответила: «Не знаю. Она устала». Парень только плечами пожал. Мы с Хурией отстали от остальных, и я смотрела, как маленький отряд спускается вниз по извилистой тропе. Они не разговаривали и шли совсем бесшумно. Такая была красота — долина как на ладони, река тумана. Я подумала, что даже если придется сейчас умереть, не страшно, раз мы побывали здесь, на вершине горы, и увидели эту огромную долину, похожую для нас на врата.
Не знаю почему, но тогда я впервые по-настоящему задумалась о родине, как будто только здесь, в этой долине, наконец ушла прочь, далеко-далеко, оставив все позади. Я не спешила нагонять спутников, медлила. На меня снизошел покой, от тумана, от сгущавшихся сумерек. Хурия заторопила меня: «Идем же, идем. Не то потеряемся».
Нас ждали внизу, на опушке рощицы. Где-то шумела горная речка, уже невидимая в темноте. Когда я подошла, испанец обратился ко мне, будто только меня и дожидался, чтобы я переводила остальным.
— Вы переночуете здесь. Не поднимайте шума, не зажигайте огня и не курите. О'кей?
Я повторила его слова по-арабски, а он добавил:
— Завтра грузовик отвезет вас в Тулузу к поезду.
Не дожидаясь ответа, он ушел. Мы остались в лесу одни.
Я запомнила ту ночь. После дневной жары, когда мы карабкались в гору, с темнотой наступил холод, жуткий, промозглый, пробиравший нас до костей. Мы с Хурией прилегли на сухую хвою под елями. Но от земли так тянуло холодом, что зуб на зуб не попадал. Даже одеяла у нас не было. Поворочавшись, мы сели и прижались друг к другу, чтобы согреться. А чтобы не уснуть, стали рассказывать друг другу всякие истории, что в голову приходили, про постоялый двор, как мы там жили, перебрали все сплетни, выдумывали смешные случаи. Теперь уж и сказать не смогу, о чем мы говорили, помню только, что тараторили наперебой, шепотом, смеясь, порой забывались, и тогда на нас шикали: «Скут! Скут! Тише!»
Наши спутники тоже не спали. В сумеречном свете звездного неба я видела, что они поднялись и стояли, прислонясь к деревьям. Время от времени шуршала хвоя — это кто-то отходил в сторонку помочиться.
Нам удалось поспать в грузовичке по дороге в Тулузу. На рассвете он остановился у края леса, и испанец велел нам садиться побыстрее. Велел и сразу ушел в горы, не оглянувшись, не помахав на прощание. В грузовичке я уснула на плече алжирского парня, Абделя. Я могла бы спать и на ходу, до того устала. А дорога все вилась и вилась. Через дырочку в брезенте я мельком увидела черные ели, улицы какой-то деревни, мост… Потом был вокзал в Тулузе, большой, с высоченным потолком зал ожидания, перроны, люди, ждавшие парижского поезда. Водитель дал нам билеты, сказал, как надо себя вести: «Не держитесь кучкой. Садитесь каждый сам по себе, чтобы на вас не обращали внимания». Я взяла Хурию за руку и потащила в конец платформы, туда, где кончалась стеклянная крыша и светило солнце. Мне было лучше, когда я видела над собой голубое небо. Присев на скамейку, мы доели остатки хлеба, испеченного Тагадирт, и финики. Как ни старались мы держаться незаметно, люди все равно смотрели на нас. Мы ведь были не похожи на других: Хурия в длинном синем платье и белом платке и я — чернокожая, с всклокоченными после сна волосами. Две дикарки с гор, да и только.
Какой-то мальчишка остановился прямо перед нами и стал с нахальным видом разглядывать. Хурия еще ниже опустила голову, а я разозлилась. Зашипела: «Чего тебе надо?» — но мальчишка все стоял, тогда я вскочила и пошла прямо на него, и он убежал. На перроне и кроме нас были чудные люди. Смуглые мужчины и женщины с черными как смоль волосами. Они были в лохмотьях и говорили на каком-то странном языке, вставляя испанские слова. «Это цыгане, — шепнула мне Хурия. — Они все время кочуют, нигде не живут». Раньше я никогда не видела цыган. Бедно одетые, они смотрели как будто свысока. Один из них, молодой, остролицый, уставился на меня так, словно глаз оторвать не мог, и впервые за долгое время у меня сильно забилось сердце, от страха, от какого-то нехорошего предчувствия. Хурия потянула меня за руку: «Не смотри на него, беды не оберешься». А цыган подошел к нам: «Вы откуда? В Париж едете?» Зубы так и сверкали белизной на его смуглом лице. Ходил он чуть враскачку, бандитской такой походочкой. Хурия потащила меня в другой конец перрона. «Сдурела ты, Лайла, совсем сдурела, повторяла она. — От него надо держаться подальше». Тут подошел поезд, и людской поток, устремившийся к дверям, затянул нас. Мы нашли местечко в свободном купе, поезд медленно тронулся, и вокзал остался позади. Я смотрела на убегающие дома и думала обо всем, что я покидала: о шумных улицах и сгрудившихся домишках в Табрикете, о дворике Лаллы Асмы и постоялом дворе, где торговцы складывали в комнатах и под аркадами свои тюки и мешки с сушеными фруктами. Я думала, что, может быть, однажды я вернусь, а там ничего не останется от того, что я помню, ничего и никого. Сердце у меня щемило и хотелось плакать, когда я представляла себе Тагадирт в больничной палате, с отрезанной ногой, — мне казалось, что, уехав, я потеряла последнего родного человека. Хурия, сидевшая напротив меня, уснула в обнимку со своей сумкой. Солнечный свет пробегал по ее лицу, освещал закрытые глаза с длиннющими ресницами, рот и поблескивающие белые зубы.
Я вышла в коридор выкурить сигарету. Курить я начала на пароходе, потому что в Мелилье американские сигареты продавались дешево, без пошлины. Мне нравилось пускать дым в окно и смотреть, как он клубится на ветру. Но я бы со стыда сгорела, если б Хурия увидела меня и сказала: «Неужели ты куришь?»
Поезд был длинный, народу в вагонах немного. Я пошла вперед, из вагона в вагон, через громыхающие тамбуры, и вдруг увидела в конце коридора того самого цыгана. Наверно, он шел за мной, потому что был один. Я сделала вид, будто не узнала его, и хотела вернуться в свое купе. Но он загородил мне дорогу. Он был высокий, очень загорелый, с черными как уголь бровями, которые сходились над переносицей. Стоял и улыбался. Кажется, спросил: «Как тебя зовут?» По-французски он говорил со странным акцентом, вроде как у южноамериканцев. Еще он спросил: «Ты меня боишься?» Я всегда терпеть не могла задавак. «Вот еще, с чего это мне вас бояться?» — сказала я ему. И прошла, вернее сказать, прошмыгнула под его рукой, как в детской игре. Он направился за мной. Мне не хотелось, чтобы он знал, в каком купе Хурия. Я остановилась в коридоре у туалета и опять закурила. Цыган не ушел, стоял рядом со мной и смотрел в окно. Вагон так трясло, что мы едва не падали, от шума из тамбура закладывало уши. Он сказал мне, почти прокричал: «Меня зовут Альбонико! А тебя?» Ветер разметал его волосы, длинная черная прядь свисала на лицо. Взглянув украдкой, я увидела золотой зуб у него во рту и золотое колечко в ухе. С виду ничего страшного в нем не было. Я назвалась не своим именем — кажется, Дэзи, — и мы понемногу разговорились. Что такого, в конце концов, мы попутчики, едем в Париж, надо как-то скоротать время, не все ли равно, болтать, или в окно смотреть, или читать журнал? А спать мне совсем не хотелось. Наоборот, от нетерпения я была как наэлектризованная. Цыган говорил о музыке — это было его ремесло. Он играл, пел, тем и кормился. Вдруг он сказал: «Подожди, я сейчас», — ушел куда-то в сторону головного вагона и вернулся с гитарой. Поставил ногу на закраину окна и заиграл. Это была странная музыка, она рассыпалась дробно, смешавшись со стуком колес, а потом ноты зажурчали, затараторили все быстрее. Такого я никогда не слышала, даже из своего старенького приемника. Он играл и пел, выговаривал, скорее даже нашептывал слова на своем языке, а то мычал, не разжимая губ: уммм, ауммм, эммм, примерно так. Потом он перестал играть. «Ну что, нравится тебе моя музыка?» У меня глаза, наверно, блестели, потому что он заиграл и запел опять. Подошли какие-то люди, прибежали дети из другого конца вагона. Даже контролер в темно-синей форме и фуражке остановился, послушал немного и пошел себе дальше. Альбонико на секунду перестал петь и быстро сказал между двумя аккордами: «Видишь? Когда я играю, у меня билета не спрашивают», — будто только для этого принес сюда свою гитару. А мне хотелось пуститься в пляс, вспомнилось, как в первое время на постоялом дворе я танцевала для моих принцесс, босиком на холодных плитках пола, а они пели и хлопали в ладоши. Такая вот была музыка у цыгана, она вошла в меня, наполнила новыми силами.
Тут появилась Хурия. Сами понимаете, она не обрадовалась, увидев меня в такой компании. «Пошли! — прошипела она сквозь зубы по-арабски. — Нельзя тебе стоять с этим типом». Она вышла из купе с обеими нашими сумками и моим приемником, боялась, как бы их не украли. В коричневом свитере и длиннющем синем платье она и вправду выглядела беременной, такая была неуклюжая, что у меня сжалось сердце. Мой единственный родной человек, сестра. Она тащила меня за руку, а цыган смотрел нам вслед и ухмылялся. Я ненавидела его, как он смеет смеяться над нами, над Хурией! Много о себе понимает! А Хурия, оказывается, вовсе не боялась, что я потеряюсь. Когда она проснулась одна в купе, ей стало страшно не за меня, а за себя. Она испугалась, что сама без меня потеряется. Я села и обняла ее, крепко прижала к себе, успокаивая: «Ну что ты, ты же теперь во Франции, тебе нечего бояться. Никто тебя здесь не найдет». Мы с ней были в одинаковом положении, ее разыскивал муж, а меня — хозяйкина невестка. Но с каждым перестуком колес мы удалялись от наших мучителей и ширилось море, отделявшее нас от них.
Потом я крепко уснула и не услышала, как поезд остановился в Париже. А Хурия не спала, и меня разбудил ее тихий голос: «Проснись, Лайла, мы приехали». За окнами было темно, я увидела желтые огни, они плясали, поезд еще покачивался, скрипя колесами на стыках рельсов. Шел дождь. Я тупо смотрела на капли, стекавшие по стеклу, и не могла двинуться с места. Вид у меня, наверно, был такой измученный, что Хурия испугалась и поэтому рассердилась: «Да что это с тобой? Ну-ка просыпайся, надо выходить!» Я никак не могла поверить, что путь окончен, что мы добрались до цели. Несмотря на усталость, я все бы отдала, чтобы поезд снова тронулся, ехал и ехал дальше, а я продолжала бы спокойно спать.
И вот мы в Париже, идем под дождем, съежившись вдвоем под складным зонтиком Хурии, несем сумки, сетку с апельсинами и мой неразлучный приемник «Риалистик». Шагаем вдоль перрона, огибаем вокзал, идем в поисках пристанища на ночь на улицу Жан-Бутон, в меблированную квартиру мадемуазель Майер, которой теперь, наверно, давно уже нет.
7
Поначалу Париж — это была сказка. Я обегала все улицы, никак не могла насмотреться. А вот Хурия так и сидела в четырех стенах, стряпала, приглядывалась. Она боялась всего на свете. Как когда-то на постоялом дворе, я и по магазинам ходила, и всюду, куда понадобится. За покупками я отправлялась с утра пораньше, часов в семь-восемь, покупала картошку (мы почти одну вареную картошку и ели), хлеб, помидоры, молоко. Мясо было слишком дорого, да и все равно Хурия его здесь не ела. Боялась: вдруг подсунут свинину.
Деньги надо было экономить. Комната стоила в неделю пятьсот франков, за свет платили отдельно. Отопления не было. Кухня — общая для всех. Жильцы у мадемуазель Майер были в основном негры, она селила их по четверо в одной комнате. Сама она жила на том же этаже и без конца заглядывала, проверяла, что делается в квартире. За несколько дней я успела познакомиться с соседкой Мари-Элен из Гваделупы, которая работала в больнице Бусико, с ее другом Жозе, тоже антильцем, и со всеми африканцами: Нембаем, Мади, Антуаном и Ноно — он был маленький, ниже меня ростом, черный-пречерный и занимался боксом. Они мне очень нравились, веселые были, надо всем потешались, а хозяйку, мадемуазель Майер, за глаза называли «старая карга». Или еще «грымза» — так прозвала ее Фатима, которая жила до нас в нашей комнате. Мадемуазель Майер сказала, когда увидела нас: «Вообще-то арабов я никогда не пускаю». Но нам она сделала исключение, наверно, из-за цвета моей кожи.
Да, в первое время мне очень нравился этот город. Было немножко страшно, оттого что он такой большой, зато удивительные вещи и необыкновенные люди встречались в нем на каждом шагу. То есть, наверно, он мне виделся таким.
Первое, что поразило меня, — собаки.
Повсюду собаки.
Каких только не было — большие, толстые, маленькие на коротких лапах, были такие лохматые, что не поймешь, где у них голова, а где хвост, и завитые, будто только что из парикмахерской, аккуратно подстриженные, похожие на львов, быков, барашков, тюленей. Были совсем небольшие, ни дать ни взять крысы, и дрожали так же, и так ж злобно глядели. Были и большущие, с теленка или осла, со зверским оскалом, брыластые, когда такая зверюга мотала головой, пенистая слюна летела во все стороны. Собаки жили в квартирах в богатых домах и разъезжали в американских, английских и итальянских машинах. Были и такие, которых хозяйки выносили на улицу на руках, украшали бантиками и одевали в клетчатые жилетики. Я даже видела, как одна собака гуляла на поводке, привязанном к хозяйкиной машине.
Я не хочу сказать, что у нас собак вовсе не было. Были, и много, но все похожие, цвета пыли, желтоглазые и такие поджарые — ну прямо осы, а не собаки. Там я приучилась держать с ними ухо востро. Если какая-нибудь псина порывалась за мной увязаться или даже просто не уходила с моей дороги, я выбирала камень поострее и замахивалась — обычно этого было достаточно, чтобы прогнать кабысдоха. Я делала это не задумываясь. Так привыкла гонять собак, что в первый раз, когда в Ботаническом саду большая тощая собака на длиннющем поводке, который растягивался — на пружинке, что ли? — стала обнюхивать мои пятки, я тут же замахнулась. Только камня у меня не было, в Париже они на улицах не валяются. Собака посмотрела на меня удивленно, наверно, решила, что я играю в мяч. Зато хозяйка все поняла и так меня облаяла, будто это в нее я хотела бросить камень.
Потом я не то чтобы привыкла, но меньше обращала внимания на собак. У них у всех были хозяева, их водили на поводках, поэтому бояться было нечего, разве что их дерьма, на котором, чего доброго, поскользнешься и кости переломаешь.
Улицы Парижа казались мне бесконечными. А некоторые и правда были без конца — проспекты, бульвары; они терялись в потоках машин, исчезали между высокими домами. Мне, знавшей только улочки милля, трущобы Табрикета да обсаженные жасмином аллейки Приморского квартала, открывался город, огромный, неисчерпаемый. Мне думалось, что, захоти я пройти все его улицы одну за другой, то целой жизни на это не хватит. Лишь малую толику города увижу я, и совсем немного лиц увижу.
Да, я смотрела все больше на лица. Как и собаки, они были разные-преразные. Заплывшие жиром, старые, молодые, костляво-тощие, бледные, точно белая глина, и смуглые, черней моего, глаза на которых словно светились изнутри.
Первое время я только и делала, что пялилась на людей. Порой мой взгляд, казалось, ловили, всасывали чьи-то глаза, и я не могла от них оторваться. Я попробовала носить темные очки — как маску, но солнца было мало, а мне не хотелось упустить ни единой мелочи, выражения лиц, блеска глаз.
Очень скоро я нажила неприятности. Мужчины, на которых я так смотрела, увязывались мной. Они думали, я проститутка, пригородная шлюшка-иммигрантка, вздумавшая озолотиться на центральных улицах. Они так и вились вокруг меня. Заговорить не решались, боялись влипнуть в историю. Однажды какой-то старикан взял меня за локоть: «Может, сядешь ко мне в машину? Поедем купим тебе вкусное пирожное».
Он очень крепко сжимал мой локоть, и глаза у него были, как у того типа, что приставал ко мне в ресторане, тогда, с Хурией. Теперь-то я кое-что знала, сами понимаете. Я обругала его сначала по-арабски: кобель, старый сводник, будь проклята вера твоей матери! Потом еще и по-испански соñо, pendejo, maricon! Он так от этого обалдел, что выпустил мою руку, и я задала стрекача.
Вообще-то, когда за мной шел мужчина, я это сразу чувствовала. И удирать от них наловчилась. Но увязывались и женщины. Те были похитрее. Всегда умудрялись притиснуть меня в таком месте, откуда было не убежать. На переходе, к примеру, или на эскалаторе в большом магазине, или в вагоне метро. Я боялась их. Они были высокие, белокожие, в шлемах черных волос, в кожаных куртках и сапожках. У них были странные голоса, хриплые и какие-то усталые. Женщину я и обрубать не могла. Просто выворачивалась и с бешено колотящимся сердцем бежала через дорогу между машинами, неслась очертя голову.
Как-то раз в одном кафе, в туалете, я очень испугалась. Туалет был в подвале, большой, шикарный, на стене зеркало, а вокруг него лампочки. Я мыла руки и брызгала водой себе на лоб, как делала всегда, чтобы пригладить непослушные волосы, и тут ко мне подошла и стала слева женщина — нестарая, довольно полная женщина с крупным носом и мелкими морщинками на щеках, с пучком светлых волос. Она принялась краситься, а я посмотрела на нее в зеркале, может, разок-другой, не больше, только и успела разглядеть глаза, зеленовато-голубые. Она водила маленькой щеточкой по ресницам, красила их черным.
И вдруг эта женщина точно с цепи сорвалась. Я услышала ее голос, странный такой, злой, с металлом, как у Зохры, когда та сердилась:
— Что ты на меня вытаращилась? Что со мной не так?
Я повернулась к ней. Никак понять не могла, что она говорит.
— Отвечай, паршивка, что ты на меня так смотришь?
Глаза у нее были немного навыкате, такие светлые, что я отчетливо видела зрачки в середине, и мне казалось, будто они сужаются и расширяются, как у кошки. «Я вовсе на вас не смотрела…» — пролепетала я. Но она пошла на меня, и такое в ней было холодное бешенство, что я обомлела. «Врешь, мерзавка, смотрела, глаз от меня не отрывала, пока я не глядела в твою сторону, я же чувствовала, как ты ешь меня глазами!» Я попятилась в угол, а женщина все наступала. Она вцепилась мне в волосы обеими руками и ткнула головой в раковину. Я поняла: все, сейчас как стукнет, как размозжит мне голову о мраморную плитку, — и завизжала. Она отпустила меня. «Ах ты дрянь! Гаденыш!» Забрала свои вещи. «Не смей на меня смотреть! Опусти глаза! Глаза опусти, кому говорю! Попробуй только посмотреть — убью!» И вышла. Мне было так страшно, что ноги не держали. Сердце отчаянно колотилось, к горлу подступала тошнота. С тех пор в эти подвальные туалеты я ни ногой.
Так я обвыкалась мало-помалу в новой жизни. А Хурия за мной не поспевала. Неповоротливая от беременности, она почти никуда не выходила, разве что из комнаты в кухню, когда там не было Мари-Элен. Антильцев она боялась. Говорила, все они колдуны. А я думала: она так говорит потому, что они черные, как я. Каждый вечер Хурия пересчитывала свои деньги. Прошло всего три месяца, как мы уехали из Мелильи, а ее сбережения уже растаяли наполовину. Я понимала, что, если так пойдет и дальше, к осени мы останемся без гроша.
Хурия ходила точно в воду опущенная, и я утешала ее как могла. Обнимала, говорила: «Все будет хорошо, вот увидишь». Я обещала ей много всякого разного, что мы найдем работу и хорошую квартиру на берегу Уркского канала, и будем жить как люди, и забудем клоповник мадемуазель Майер.
А выручила-то нас Мари-Элен. Нам уже нечем было заплатить за комнату, и я подумывала опять заняться воровством, когда она однажды спросила меня на кухне: «А работа в больнице вам бы подошла?» Спросила безразличным тоном, но по ее глазам я поняла, что она обо всем догадалась и пожалела нас.
Работа была хорошая — санитаркой. И приняли сразу. Соседка представила меня как свою племянницу — кожа-то ведь черная, — сказала, что у меня есть документы, что я с Гваделупы. В больнице только удивились, что я не понимаю по-креольски, и Мари-Элен объяснила: «Она там родилась, но ее мать сразу после этого уехала в метрополию, где ж ей помнить». Мне даже имя менять не пришлось, оказывается, Лайла — тамошнее имя. Мари-Элен записала меня под своей фамилией: Манжен.
Я работала в Бусико с семи утра до часу дня, на половинном окладе, но этого хватало на квартирную плату и еще на кое-какие расходы. Деньги Хурии можно было не тратить. Вдобавок я могла обедать в больничной столовой. Мари-Элен занимала мне место рядом с собой и набирала для меня всякой еды на свой поднос. Она была такая ласковая, мне нравились ее глаза, всегда чуть влажные. Но бывало, в нее точно бес вселялся. Как-то раз, когда мадемуазель Майер, уж не помню за что, прицепилась к Хурии и грозила выставить ее на улицу, Мари-Элен схватила в кухне нож для мяса и замахнулась на хозяйку: «Только попробуйте выгнать хоть кого-нибудь! За что только дерете с нас такие деньжищи, подлая старая карга!»
Больше всего я полюбила вечеринки. Время от времени, когда был чей-то день рождения или еще какое-нибудь торжество, чернокожие жильцы задергивали все шторы, и квартира тонула в сумраке. Африканцы играли на барабане, большом, деревянном, обтянутом кожей, били по нему легонько, кончиками пальцев; везде зажигали свечи, и парни танцевали. Ноно, боксер-камерунец, танцевал почти голым, а бывало, и вовсе в чем мать родила, посреди коридора, из комнат доносился смех, звонкий голос Мари-Элен, она говорила на своем певучем, как звуки скрипки, языке. Жозе, приятель Мари-Элен, доставал саксофон и играл джазовую мелодию, медленный фокстрот, время от времени что-то визгливо выкрикивая. Мадемуазель Майер в такие дни запиралась в своей комнате и носа не смела высунуть, пока продолжалась вечеринка. Хурия тоже сидела у себя, но музыку слушала. А я то входила, то выходила, вдыхала запахи дыма, готовящейся еды, пробиралась между танцующими, помогала Мари-Элен собрать стаканы. Хурии я приносила угощение, полные тарелки риса с кокосами, тушеной рыбы, жареных бананов. И танцевала тоже, то с африканцами, то с большим чернокожим и зеленоглазым антильцем по имени Дэнис. Как-то он прижал меня к себе слишком крепко, и Мари-Элен выдала ему по первое число: «Осади назад, эта девушка не из таких, она моя племяшка!» Когда вечеринка заканчивалась, я помогала Мари-Элен убраться. Ей было трудно нагибаться за разбросанными салфетками и бумажными тарелками. Однажды она усмехнулась: «Что ж, хоть не я одна». Я не поняла, о чем она. «Ну да, не я одна ребеночка жду, а ты что, не замечала?» Она посмотрела на меня с жалостью. «Глупенькая ты, совсем жизни не знаешь. Чему только тебя мать учила?» Это она Хурию имела в виду. «Она мне никакая не мать». Мари-Элен рассмеялась: «Ладно, мать, не мать, а своего ребеночка она раньше меня родит».
В первый раз мы с ней об этом заговорили. Я давно знала, что должна рассказать ей все как на духу, да только не знала как. Я ведь только врать умела, потому что, с тех пор как осталась одна, без Лаллы Асмы, мне ничего другого не оставалось. Один раз я было начала: «Я говорила тебе, что у меня нет родителей?» Но Мари-Элен не дала мне и рта раскрыть: «Послушай, Лайла, не сейчас. Когда-нибудь мы поговорим об этом, но не сейчас. Мне не хочется этого слушать, а тебе не хочется рассказывать». Она была права. Наверно, догадалась, что я совру.
Все лето я продолжала узнавать Париж. Погода стояла чудесная, небо голубое, без единого облачка, деревья были еще отчаянно зеленые. От августовских гроз вздулась Сена. Днем, закончив работу в больнице, я шла вдоль реки до самых мостов, что соединяют два берега перед большим собором. Мне еще не наскучило ходить по улицам и проспектам. Теперь я забредала все дальше. Иногда садилась в метро, чаще в автобус. К метро я никак не могла привыкнуть. Мари-Элен смеялась надо мной, говорила: «Глупая ты, наоборот, там хорошо, летом прохладно, зимой тепло. Сиди себе в уголке с книжкой, никто и внимания не обратит». Но дело было не в людях. Просто под землей я чувствовала себя нехорошо. Не хватало дневного света, и что-то давило на грудь. Я могла ездить только по открытым линиям, от Аустерлицкого вокзала или еще к станции «Камброн». Я садилась в первый попавшийся автобус, ехала до конечной. Названий улиц не читала вовсе. Старалась увидеть как можно больше всего — людей, домов, магазинов, скверов.
По каким только кварталам я не ходила — Бастилия, Федерб-Колиньи, Шоссе-д'Антен, Опера, Мадлен, Севастопольский бульвар, Контрескарп, Данфер-Рошро, Сен-Жак, Сент-Антуан, Сен-Поль. Были кварталы зажиточные, чистенькие, спавшие в три часа пополудни, были простонародные, шумные кварталы, длинные стены из красного кирпича, похожие на тюремную ограду, лестницы, подъемы-спуски, маленькие пустые площади, пыльные садики, полные странных людей, скверы в час, когда выбегает перекусить ребятня, железнодорожные мосты, подозрительного вида гостинички и их постоялицы — девушки в черных кожаных одежках, дорогие магазины, часы, драгоценности, сумочки, духи в витринах. Я приехали Париж в кожаных сандалиях — к осени они совсем развалились. В магазине возле Итальянской заставы я купила себе белые кеды, неказистые, зато ходить в них можно было километрами.
На улицах я ни с кем не разговаривала. Порой на меня заглядывались, иногда и подойти порывались. После того случая в туалете кафе «Режанси» я больше не смотрела людям в глаза. Шла с отсутствующим видом, как будто знала, куда иду. А уж если кто увязывался, то заходила в какой-нибудь дом, пережидала в темном подъезде, считала до ста и шла дальше.
Попадались странные места, особенно близ вокзалов. Улица Жан-Бутон, набережная Гар. Парни в больших не по размеру куртках, девушки в джинсах и косухах. Обесцвеченные волосы, худые, заостренные лица и отсутствующие, пустые глаза. Как-то раз по дороге домой я попала в потасовку. Было жутко и непонятно. Сначала какие-то люди, мужчины и женщины, бежали, толкаясь и надсадно крича. Турки, по-моему, а может быть, русские, не знаю. Потом несколько молодых парней в кожаных куртках, с дубинками и бейсбольными битами в руках. Они промчались совсем близко от меня — я с перепугу так и застыла на краю тротуара, — и один из кожаных с размаху толкнул меня ладонью. Я увидела его перекошенное лицо, рот, глаза, на секунду вперившиеся в меня, колючие и сухие, как у ящерицы. Все убежали. Я упала на колени у водосточного люка и не могла шевельнуться. Потом завыла полицейская сирена, и я едва успела добежать до дверей дома мадемуазель Майер.
А дома Хурию трясло как в лихорадке. Когда я вошла в темную комнату и включила свет, то не узнала ее глаз — это были глаза затравленного зверя. Мне стало не по себе — ведь я знала ее такой беспечной, такой жизнерадостной.
— Что с тобой?
Хурия не ответила. Она уставилась на мои ноги, и я поняла, на что она смотрит так пристально: на мои разорванные на коленках брюки и расплывающееся по ткани кровавое пятно. «Я упала, — сказала я, — оступилась на лестнице». Но врать ей было бесполезно, я это знала. Она произнесла сдавленным голосом: «Я хочу уехать отсюда, у меня больше нет сил». И тут уже я отрезала, совсем как она перед отъездом: «Это невозможно. Ты не можешь вернуться туда. Нас с тобой обеих упекут в тюрьму. И ребенка своего ты даже не увидишь. Его отнимут у тебя». Я говорила это и для себя тоже. Чтобы не забывать, что сделали со мной, когда я была ребенком. Отняли у матери, засунули в мешок, избили и продали. Память нахлынула вдруг, кислотой разъедая горло. «Лучше умереть». И я сказала эти слова, как сказала она в Табрикете, приставив к горлу ножик.
В конце того лета я познакомилась с докторов Фромежа. Наверно, она, эта докторша, давно заприметила меня, когда я возила по коридорам тележку с грязным бельем. Доктор Фромежа была невропатологом, работала на четвертом этаже, но постоянно забегала то в одно отделение, то в другое. Она спросила у Мари-Элен, как меня зовут, все обо мне разузнала. И вот однажды перед обедом Мари-Элен отвела меня в сторонку. Она говорила своим обычным, протяжным и певучим голосом, но в глубине ее больших золотистых глаз я кое-что прочла. Смущение и насмешку, что ли, а может, опаску. «Слушай, Лайла, — начала она, — ты, конечно, поступай как знаешь, но я хочу тебе сказать, что тобой интересуется одна важная птица». Я смотрела, не понимая, и Мари-Элен добавила: «Это доктор Фромежа, заведующая неврологическим отделением, она хочет тебе помочь. У нее найдется для тебя работа, так что, если захочешь, ты можешь с ней познакомиться». Не скажу, что я обрадовалась, — я ведь как раз не хотела новых знакомств, не собиралась ни с кем больше сходиться. Хотела по-прежнему скользить между людьми, как рыбка между камнями в горной речке.
Мари-Элен нахмурилась: «Пора тебе наконец подумать и о своем будущем, я не могу вечно тебя здесь прикрывать, это рискованно, ты без документов, а местом-то рискую я». Впервые она дала мне понять, что я ей обязана. Если б я могла, то просто ушла бы из больницы, но как же тогда Хурия, совсем павшая духом, одинокая, ведь нам были до ужаса нужны деньги. Я спросила: «И что же я должна делать?» Мари-Элен одернула меня: «Да что ты такое себе вообразила? Эта дама предлагает тебе поработать у нее, только и всего, убрать, постирать, сходить за покупками. Работать будешь каждый день, и обедать сможешь у нее дома. Она ждет тебя завтра, сразу и приступай. Это тебя устраивает?» Я опустила голову. Мне не хотелось ссориться с Мари-Элен. Она действительно много для меня сделала. Просто потому, что хорошо ко мне относилась, ей нравились мои волосы, мои глаза, похожие на ее, глаза газели, как говорила когда-то моя хозяйка. Она обняла меня. «Послушай, хочешь, я пойду с тобой, сама тебя представлю? Попрошу Сесиль подменить меня завтра».
Так она и сделала. Вряд ли у нее было что-нибудь плохое на уме. Она хотела мне помочь, хотя, может быть, в глубине души немножко завидовала и сама бы не отказалась, чтобы ее приветил кто-то из начальства. Ей нелегко жилось, Мари-Элен, нахлебалась она горя, и с дочкой своей, и с мужем, который много лет бил ее каждый вечер. У нее не хватало переднего зуба — это он когда-то толкнул ее лицом на зеркальный шкаф. Она хотела, чтобы я жила по-другому. «Посмотри на меня, — говорила, — ну разве это жизнь?» Она хотела, чтобы я ушла от Хурии. Хотела, чтобы я стала человеком.
Мадам Фромежа жила в Пасси, на тихой улочке, в доме за высокими железными воротами на столбах, и цифра 8 была железная, кованая, а фасад белый, и острая крыша, и прямо под крышей — маленькое окошко, которое мне сразу понравилось.
Мари-Элен представила меня доктору Фромежа. Я столько слышала о ней, так боялась этой встречи, думала, что увижу светскую даму вроде мадам Делаэ в Рабате, воображала ее золотые украшения, безукоризненный серый костюм, бледное лицо с холодными глазами и готовилась, если мне хоть словечко придется не по нутру, дать деру. Но мадам Фромежа оказалась совсем не такой. Она была маленькая и живая, с иссиня-черными волосами, а глаза так и искрились весельем, да еще и одета чудно: в широченных защитного цвета брюках и длинной небесно-голубой блузе, похожей на халат. Она увидела меня и сразу обняла. И воскликнула: «Да она просто прелесть!» Приготовила нам чай с пирожными, а сама не могла усидеть на месте, все сновала по квартире вприскочку, воробышком. «Лайла, ты уж поухаживай за мной, хорошо? Детей у меня нет, ты станешь мне дочкой, будешь заниматься всем в этом доме. Мари-Элен сказала мне, что раньше ты ухаживала за старой больной женщиной. Ну я, как видишь, не такая старая и совсем не больная, но ты обращайся со мной, будто я такая же, поняла?» Я пила чай и кивала. У меня в голове не укладывалось, что она так говорит о моей хозяйке, словно и вправду это у меня работа была такая — ухаживать за больной старухой. А в глубине души я знала, что так оно и есть, что это действительно была моя работа с малых лет.
Работать у мадам Фромежа мне понравилось. Я проводила у нее весь день, убиралась в доме. Делала все то же, что когда-то в милля, в домике Лаллы Асмы. Подметала двор, потом крыльцо, сгребала падавшие с каштанов листья, веточки, мусор от соседних многоэтажных домов. Потом я мыла пол, вытряхивала ковры. Палас подметала метелкой из прутьев, которую нашла в подвале. Как-то мадам пришла пораньше и расхохоталась: «Да нет же, Лайла, для этого есть пылесос!» А я боялась этой машины, которая рычала, и свистела, и все засасывала, даже чулки и тюлевые занавески. Потом ничего, привыкла.
Еще я ходила за покупками. В магазинах поблизости все было дорого, я садилась в автобус и ехала на рынок на улицу Алигр. Покупала апельсины двухкилограммовыми пакетами, помидоры, кабачки, дыни. Кухня у меня всегда была полна фруктов. Мадам нарадоваться не могла. Она оставляла мне сотню франков одной бумажкой на столике в прихожей, а я выкладывала на блюдечко сдачу, старалась тратить как можно меньше. Я готовила салаты, каждый день разные, с тунисскими маслинами, с изюмом, с винными ягодами, патиссонами, киви, авокадо, желтыми и красными перцами. Украшала большими листьями зеленого салата, цикория, эскариоля, валерианницы, одуванчика, и листьями кабачков тоже, и красной капусты. Я наполняла большую белую миску и ставила ее посередине стола на белую скатерть, и серебряные приборы на ней блестели, и стоял графин с холодной водой. Я оставляла все и уходила. Возвращалась в квартиру мадемуазель Майер, и там все казалось мне серым, унылым, убогим. Хурия валялась на диване и жевала хлеб. Она стала обидчивой, жаловалась: «Ты меня бросила. Оставляешь на целый день совсем одну, и я все время плачу. Для этого я привезла тебя сюда?» Ревновала, завидовала. «Теперь-то я тебе больше не нужна, теперь ты нашла себе друзей получше, скоро совсем уйдешь, а я умру в этой дыре, и некому будет даже воды мне принести!» Я как могла ее успокаивала, обещала ей, что накоплю денег и мы уедем на юг, в Марсель, в Ниццу. Я говорила с ней как с маленькой.
Наверно, она была права. Мне хотелось уйти. Хотелось оказаться подальше от улицы Жан-Бутон, от грязных клоповников, от торговцев дурью, от кожаных парней с битами, которые топотали и били встречных арабов и негров.
Мне было хорошо, когда я открывала кованые ворота с восьмеркой и входила в старый тихий домик, в котором своими руками все прибрала и вычистила, — словно еще была жива Лалла Асма и настоящей хозяйкой этого дома была она.
Я думала о том, что с моих малых лет все люди только и делали, что ловили меня в свои сети. Вязали по рукам и ногам. И чувства их, и немощи — все это были расставленные на меня силки. Сначала Лалла Асма, потом ее невестка Зохра, и госпожа Джамиля, и Тагадирт, а теперь вот и Хурия туда же. Мне казалось, будто меня душат. С ней мне никогда из этой жизни не вырваться. Придется вернуться назад, снова жить в Табрикете, сидеть в четырех стенах у Тагадирт и видеть только кусочек ухабистого проулка, да мост для будущего скоростного шоссе, да крыс, скребущих лапками по крышам.
Нехорошо это с моей стороны, согласна, но я так больше не могла. В час, когда мне пора было возвращаться домой, на улицу Жан-Бутон, я взяла и осталась у мадам. Осталась и продолжала убираться на кухне. Начищала до блеска кастрюли, кафельную плитку, краны. Просто чтобы не думать, ни о чем не думать.
Мадам вернулась пораньше. Увидев меня, она ничего не сказала, сразу все поняла. Обняла меня и расцеловала, не успев даже снять плащ, с ключами в руках. «Я очень рада, моя милая, — улыбнулась она, — я ждала этого дня, знала, что когда-нибудь он наступит». Я не очень поняла, о чем она. Она уже раньше показывала мне комнатку за кухней, с отдельным выходом на черную лестницу. Туда-то я и отнесла мою сумку и старенький транзистор — все, что у меня было. Мадам так ни о чем и не спросила. Как будто так и надо, как будто я жила у нее давно, не первый месяц, не первый год. После Хурии я просто душой отдыхала. Даже с Мари-Элен мне было тяжко, она все хотела знать, принимала близко к сердцу. Я даже о Ноно больше не думала. Он тоже опутывал меня своей сетью. Хотел, чтобы мы встречались, чтобы я стала его девушкой. Он был славный, хорошо смеялся, мне было с ним весело, но я все время боялась, что его заберут в полицию, он ведь камерунец, тоже без документов. Я как чувствовала, что рано или поздно его схватят, и не хотела, чтобы меня сцапали заодно.
Да, у мадам я отдыхала. Знала, что здесь со мной ничего не случится. Зажиточный квартал, маленькая улочка с поворотом, коттеджи с садиками, богатые многоэтажные дома, светловолосые детишки в школьных формах. Полиция сюда и не совалась. Первое время после моего водворения в Пасси я целыми днями спала. Мне казалось, будто я не высыпалась много лет, потому что жила, не зная, где буду завтра, или, может быть, от страха, что полиция Зохры опять меня настигнет. А на улице Жан-Бутон негры постоянно лаялись с мадемуазель Майер, и панки с дубинками топотали под окнами, бежали, чтобы бить арабов. И полицейская сирена ревела каждую ночь, перекликаясь с жутким завыванием «скорой помощи».
Я отсыпалась, спала до девяти, до десяти часов. Иногда меня будила мадам. Она отдергивала занавеску, и солнечный свет щекотал мне веки. Я видела красный виноград за окном. Слышала птичий щебет. Я сворачивалась калачиком в постели, тянула время, вставать не хотелось, а мадам садилась на краешек кровати, легонько проводила ладонью по моей щеке, точно котенка гладила. И ее голос тоже ласкал меня. Слова сквозь дремоту казались мне пушистыми. «Лежи, моя милая, лежи, не вставай, здесь твой дом, дай, я тебя побаюкаю, ты моя девочка, я так давно тебя ждала, я не дам тебя в обиду, ничего больше не бойся, я с тобой. Моя девочка, детка моя…» Она говорила такие слова, наклонившись близко-близко, к самому моему уху, и еще много всего говорила своим хрипловатым голосом, низким и нежным, а ее теплая сухая рука скользила по моей щеке, гладила волосы на шее, и пальцы путались в моих кудрях. Сама не знаю, нравилось ли мне это. Было странно, как продолжение сна, казалось, будто я плыву на облаке. Я вздрагивала, какая-то волна пробегала по спине, поднималась откуда-то снизу в животе, и я отчетливо ощущала каждое свое нервное окончание, всей кожей, от пальцев ног до ладоней, и не могла пошевелиться. Потом я засыпала, а когда открывала глаза, оказывалось, что уже день и мадам ушла на работу. Тогда я вставала, направлялась в ванну и долго стояла под прохладным душем, чтобы проснуться окончательно.
Я больше не ездила далеко за покупками. Теперь мне было страшно покинуть этот квартал, уйти с тихой улицы, потерять из виду ворота с номером 8. Я ходила в булочную на углу, а фрукты, овощи и сыр покупала у метро. Денег стало не хватать. Чтобы не просить, я добавляла из собственных сбережений. Я ведь думала, что мадам Фромежа наняла меня за смекалку, за то, что я умею дешево покупать, и ни к чему было ей знать, что я обленилась и не экономлю больше ее деньги. А потом, когда и мои уже были на исходе, я несколько раз воровала — лососину в упаковке, печенье, а то еще салфетки. Сноровки я не потеряла, руки дело помнили, а лавочники в Пасси были как дети малые, никто меня не заподозрил. Только один раз вышло неладно. Я даже не поняла сначала, но осталось странное ощущение тайны, чувствовался в этом какой-то скрытый смысл, которого я не могла разгадать. Была одна продавщица в мини-маркете, молодая, костлявая, с волосами как пакля. Когда я выходила, она так уставилась на меня, что я подумала, все, попалась, наверно, она засекла, как я украла пепельницу. Я хотела было достать ее из кармана и расплатиться, но продавщица сказала только, медленно так, чеканя каждое слово: «Так это, значит, ты новенькая?» — «Новенькая кто?» — пролепетала я. Она все буравила меня своими блеклыми холодными глазами. Потом хмыкнула: «Да, да, милашка». Уложила все мои покупки в пакет, протянула его мне и денег не взяла. Я убежала со всех ног, боялась, что ли, что она меня окликнет.
Время от времени я звонила Хурии. Чтобы мадемуазель Майер позвала ее к телефону, врала, мол, я далеко, в Англии, в Америке. «Вот как?» — произносила она нараспев своим писклявым голосом. И через минуту я слышала другой голос, грудной и хриплый, голос Хурии. Она говорила со мной по-арабски, я отвечала по-французски.
— Где ты?
— В Париже, не в Америке.
— Когда придешь?
— Не знаю. Послушай, я так занята, много работы.
— Ага…
— Правда, честное слово, у меня совсем нет времени. И потом, это далеко, на другом конце города.
— Ага, ага.
— Почему «ага»? Ты что, мне не веришь?
Молчание.
— Послушай, я тебя обязательно навещу, как только смогу вырваться. Тебе ничего не нужно? Деньги у тебя еще есть?
— Есть. Осталось немного.
— Ну все, пока. Я еще позвоню.
— Зачем ты мне врешь? Ты же не придешь, покуда я на тот свет не отправлюсь.
— Послушай, я не вру. Я никак не могу сейчас прийти. Но я тебе еще позвоню.
— Ладно.
— До свидания.
— Салам, Лайла.
— Салам, халти.
Меня жег стыд. Полчаса на метро — и я была бы у нее. Но от одной только мысли об улице Жан-Бутон меня тошнило. Словно какая-то стена отделяла меня от этого места.
Однажды утром пришел Ноно. Уж не знаю, как он меня отыскал, может, выпытал адрес у Мари-Элен. Хотя она с ним не откровенничала, скорее в больнице разузнал. Я вышла за покупками, смотрю — он стоит. Наверно, долго ждал под дверью, в своей легкой кожаной курточке на холодном осеннем ветру. Он хлюпал носом, был простужен. И так просиял, увидев меня, что я просто не могла его отшить. А он вдруг оробел.
— Ты стала какая-то другая.
— Да? Лучше?
Он улыбнулся:
— Ты теперь совсем дамой стала.
Это, наверно, он так сказал из-за одежды, мадам Фромежа мне всего накупила. Я была в узких черных брюках, пуловере с треугольным вырезом, на шее — красный платочек.
Я думала, что не вынесу встречи с кем-нибудь из той моей жизни, и сама себе удивилась, потому что была в общем-то рада видеть Ноно.
Он пошел со мной за покупками. Нес мои пакеты. У него были широкие плечи и мощная шея. А лицо мальчишеское, и еще я удивилась его росту. Мне казалось, что он гораздо ниже. Лавочник смотрели на него с улыбкой, шутили с ним. Один спросил меня: «Это ваш брат?» Впервые за все эти месяцы мне было весело. Я просыпалась от долгого сна.
Ноно принес новости с улицы Жан-Бутон. Мадемуазель Майер влипла в неприятности. К ней нагрянула полиция. Обнаружила незарегистрированных жильцов. Ей пригрозили штрафом.
— Старая карга! Слезы лила в три ручья! Говорила: я не виновата, эти черные все на одно лицо, я их не различаю!
— А моя тетя?
Так я называла Хурию. Она мне ничего об этом не сказала. Оказывается, она выглянула за дверь и тотчас заперлась. Хурия боялась полиции. Думала, это за ней, заберут и отправят к мужу. Но полицейским было не до нее, с антильцами и африканцами забот хватало. Ноно сбежал, спустившись по водосточной трубе. Потому и пришел ко мне.
— Где же ты теперь живешь?
Он махнул рукой куда-то в сторону города, как будто я могла увидеть отсюда.
— Один кореш пустил меня в свой гараж, там и ночую.
— Где это?
Ноно немного подумал:
— Чудное такое название — улица Жавело.
Он показал мне бумажку, на которой был нацарапан адрес: улица Жавело, 28. Самое подходящее название для камерунского воина[3].
— Ночью ничего, а днем темновато, так что тренироваться хожу в спортзал. У меня бой через месяц, тренер говорит, что мне светит попасть в профессионалы, он выправит мне документы.
Когда мы вернулись в дом с восьмеркой, Ноно совсем закоченел, и я впустила его, чтобы напоить кофе. Дом его просто сразил. Он даже ходил осторожно, словно боялся, что пол под ним проломится. Через гостиную мы прошли в большую белую кухню. Забавно было смотреть, как он таращит глаза. Я-то в богатых домах бывала, после виллы мадам Делаэ меня трудно было удивить. А Ноно смотрел на все, как ребенок на новые игрушки. Попросил показать, как работают кофеварка, тостер, выдвигал ящики и дивился, как они мягко выкатываются, крутил блестящие металлические корзиночки.
— Богато здесь.
— Тебе правда нравится?
Он рассмеялся звонким смехом:
— Да уж получше моего гаража!
Я приобняла его одной рукой за шею:
— Станешь знаменитым боксером — купишь себе такой же дом.
Он подумал.
— Тогда я женюсь на тебе.
Он сказал это так серьезно, что я расхохоталась.
— Не пори чушь. Если ты станешь знамениты боксером, то обо мне и думать забудешь, женишься тогда на белокурой куколке!
Ноно посмотрел на меня с укоризной:
— Зачем ты так говоришь? Я женюсь только на тебе.
Ноно стал приходить почти каждое утро, кроме выходных, когда мадам Фромежа была дома. Он помогал мне принести покупки, а я готовила для него сытный завтрак — яйца, тосты и большую чашку горячего молока.
Мадам Фромежа ничего не говорила, но, наверно, ей кто-то что-то нашептал, потому что она вдруг переменилась. Стала злой, раздражительной, ругалась на меня из-за любого пустяка. А то вдруг возвращалась среди дня, мрачнее тучи, говорила, что забыла ключи, бумаги, уж не помню что. На самом-то деле она проверяла, здесь ли Ноно, хотела нас застукать. Я это сразу поняла и сказала Ноно, чтобы не заходил больше в дом, ждал меня на улице. Он еще посмеялся надо мной: «Да она ревнует, твоя хозяйка!»
Не нравилось мне, что она стала такой. Что-то должно было произойти, я это чувствовала. Только не знала что. А мадам Фромежа между тем дала мне таинственное письмо. На конверте было написано: «Национальная полиция. Комиссариат XVI округа». Меня вызывали по вопросу вида на жительство. Мадам-то знала, что это такое. Она сама все и устроила, комиссар был у нее в друзьях. Представила и удостоверение о проживании, и поручительство. Все было готово. Мадам вроде бы вникала в мои проблемы. Она сказала мне: «Думаю, вид на жительство тебе дадут. А потом сможешь получить и гражданство». Я была ошарашена. У меня чуть не вырвалось: «Но я ни о чем не просила!» И тут я вспомнила Зохру, ее муженька, их квартиру, где они месяцами держали меня взаперти, и дуар Табрикет, крысиный писк и скрежет коготков по кровле. «Спасибо», — сказала я. Мадам обняла меня и поцеловала.
Возможно, она пожалела задним числом. Когда я пришла из комиссариата, раскрасневшаяся, потому что день выдался теплый, да еще служащий уж очень меня обхаживал, мне пришлось все рассказать: какие бумаги я подписывала, и про отпечатки пальцев, и про диктовку, и какое он выбрал имя: Лиза-Анриетта. Он сказал, что мне идет. Мадам Фромежа смеялась, хлопала в ладоши, так радовалась, словно все это делалось для нее. Конечно, я не рассказала ей, как служащий навис надо мной, надавил ладонью на затылок и спросил тихонько: «Как сказать по-арабски: я тебя люблю?» — а я ответила: «Саафи…», самое грубое слово из всех, что я знала, потому что именно его кричала Хурия мужчинам, пристававшим к ней в Табрикете. Мадам бы просто не поняла. Не поняла бы, до чего мне это безразлично и что слишком поздно, что не мне надо было дать эти бумаги, а Хурии.
Мадам Фромежа сменила гнев на милость. Она спросила: «Ты ведь не уйдешь? Скажи, ты меня не бросишь?» Совсем как Хурия, как Тагадирт. Все люди одинаковые.
Я бы надолго с ней осталась, наверно, и сейчас еще обреталась бы там, не будь того, что произошло однажды ночью. Ума не приложу, как это могло случиться. Это было после ужина, мы засиделись, разговаривая. С некоторых пор я курила вместе с ней американские сигареты, мы курили и разговаривали. Смотрели вполглаза телевизор, особо не вникая. Было еще тепло, конец сентября, окна настежь. Мелкий дождик шелестел на листьях. Так тихо было на Каштановой улице, не верилось, что мы в большом городе, где творятся ужасные вещи.
Мадам Фромежа приготовила вечерний чай, из травок и цветов, с привкусом перца и ванили, от которого чуть подташнивало. Я задремала на диване. Как будто уплыла куда-то. Не то чтобы спала, но мое тело стало легким-легким, и я не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой. Мне чудилось лицо мадам совсем близко, сияющее, как звезда на небе, ее губы улыбались странной улыбкой, а глаза, черные, сузившиеся, походили на кошачьи. Она говорила, повторяла тихонько: «Деточка моя, деточка моя», как будто мурлыкала. И я чувствовала, как ее теплая сухая рука скользит по моей коже, забираясь под расстегнутую рубашку, играет с кончиками моих грудей. Сердце колотилось, казалось, оно вот-вот разорвется. Я слышала ее голос, нашептывавший «деточка моя», и мне хотелось, чтобы она перестала, замолчала, ушла, хотелось оказаться где-нибудь, где никого нет, хотелось на кладбище над морем, где блестели под солнцем белые камни в траве, безымянные камни, и птицы неподвижно парили на ветру, раскинув острые, как косы, крылья.
Я проснулась утром, во рту было сухо, болело горло. Что произошло, я помнила плохо. Я так и спала на диване в гостиной, но была закутана в шелковый японский халат мадам. Именно это поразило меня сначала, и еще дурманящий запах русской кожи. Я бродила по пустому дому, натыкаясь на мебель. Что-то искала, сама не зная что, в голове не было никаких мыслей. Я согрела воду для кофе. Солнце заливало кухню, на улице было тепло, листья винограда в прямоугольнике окна чуть-чуть порыжели по краям, и стайка воробьев гомонила в кустах.
И вдруг, отхлебнув кофе, я поняла: отсюда надо уходить. Сердце у меня так и прыгало, в висках билась боль. Я кружила по комнатам, опрокидывала стулья. И все повторяла: «Старая карга! Старая карга!» — как Мари-Элен про мадемуазель Майер.
Только теперь я вспомнила, что говорила Лалла Асма. «Никогда не пей чаю у того, кого ты не знаешь, — говорила она, — а то выпьешь такое, что не обрадуешься». Это она рассказывала об одном мужчине, который приглашал девушек выпить кофе и подливал туда какого-то зелья, а когда они засыпали, увозил их к себе домой, насиловал и перерезал горло.
И травяные чаи, которыми мадам поила меня, я вспомнила, и как блестели ее черные глаза, когда я клевала носом. Вчера она, наверно, не рассчитала дозу снотворного, и я отключилась. Я ненавидела ее. Она меня обманула. Я-то думала, она мне друг. А она была такой же, как все, как Зохра, как месье Делаэ, как служащий из комиссариата. Ка я ее ненавидела, убила бы. «Сука, старая сука!»
Я оделась. Надела джинсы и свитер, которые были на мне, когда я пришла сюда, а все, что покупала мне мадам Фромежа, скомкала и побросала в угол. Золотую цепочку с пластинкой, на которой было выгравировано ее имя, выкинула в унитаз и спустила воду, но ее почему-то не засосало. Я искала, что бы еще учинить в отместку. Красть не хотела, мне не нужно было ничего от нее. Я хотела только вычеркнуть ее из памяти со всеми подлыми уловками. Я пошла в кабинет мадам и стала бросать на пол книги, доставала том из шкафа, читала название и швыряла на середину комнаты. А потом в меня словно бес вселился, я кидалась книгами все быстрей и быстрей, в ушах стояло шуршание рвущейся бумаги, тома стукались о стены. То же самое я сделала с ее фотографиями, письмами, бумагами. Кажется, я при этом что-то говорила, кричала, бранилась по-арабски, по-французски, все выложила, что знала. И мне полегчало немного.
Когда я закончила, кабинет и гостиная мадам выглядели так, будто по ним пронесся смерч. Тогда я подхватила свою сумку, старенький транзистор и ушла.
8
Улица Жавело оказалась самым удивительным местом в Париже. Сначала мне даже не верилось, что такое бывает. Когда Ноно привез меня туда на своем мотоцикле (вернее, мотоцикл этот он одолжил) и мы нырнули под землю, я думала, что мы просто едем коротким путем, через туннель. Но улица поворачивала под землей, переходя в галерею с бетонными стенами и воротами гаражей, шум мотора разносился под сводами адским грохотом. Там ехали и машины с зажженными фарами, сигналили. Я после всего случившегося страшно устала и крепко держалась за куртку Ноно, чтобы не упасть; мне казалось, мы заблудились, я не знала, куда меня несет и что со мной будет. Наверно, снотворное еще действовало.
А потом я сильно заболела. Квартира Ноно под землей была крошечная и совсем темная, свет лишь чуть-чуть проникал через люк в потолке кухни. Вообще-то это была даже не квартира, а подземный гараж, в котором оборудовали туалет, один на весь подвал, и кухню. Все остальное помещение было поделено на бетонные клетушки с исцарапанными железными дверьми и низким сводчатым потолком. Но мне здесь понравилось, потому что было совсем не слышно шума, разве что урчали время от времени канализационные трубы да вздыхала вентиляция. Что со мной было — не знаю. Я лежала в комнате Ноно, почти не вставая с матраса, который он принес специально для меня. Сам он спал за стеной — там был гараж с серым бетонным полом и большой двустворчатой дверью, где он держал свой мотоцикл. Спал Ноно прямо на полу, на картонках, точно клошар. Он был добрый, уступил мне свою комнату. Ему невмоготу было видеть меня такой, лежащей колодой на матрасе. Я курила, кашляла. У меня совсем не было сил, даже пошевелить рукой, даже повернуть голову не могла. Я ничего не ела. Есть не хотелось. Иногда рот наполнялся слюной, и надо было свесить голову, чтобы сплюнуть. У меня прекратились месячные. Казалось, будто все во мне замерло.
Ноно говорил, что это «янджук», «джуджу», порча. Похоже, он знал толк в таких вещах. Говорил, что все очень просто, надо бросить соль в огонь, положить туда перья или соломинки, раздуть, чтобы пошел дым. Я слушала его. Ловила каждое слово, каждый его смешок. Он один связывал меня с внешним миром. Когда он приходил с тренировки, от него пахло улицей, потом, автомобильным выхлопом. Я брала его за руку, рука была квадратная, пальцы жесткие, а кожа на ладони гладкая на ощупь, как обкатанный морем камень. «Расскажи мне, что ты видел, что делается на улицах». Он рассказывал, что видел аварию, автобус врезался в легковушку и снес ей крыло. Видел шотландцев, которые играли на волынках, виделся с Мари-Элен. Рассказывал, что новенького на улице Жан-Бутон. «А как тетя Хурия?» Он качал головой. «Ее я не видел. А вот говорят, что мадам Фро…» Он не мог выговорить имя, прыскал со смеху. «Твоя хозяйка, говорят, она тебя ищет. Зла на тебя до смерти. Конечно, эта старая карга напустила на тебя джуджу. Я ее убью!» Он никому не сказал, что я живу у него, даже Мари-Элен. Если бы мадам меня разыскала, уж она бы добилась, чтобы меня выставили из Франции как преступницу. А ведь я ничего у нее не украла — наоборот, это она кое-что взяла у меня, подло, обманом.
Меня мучили кошмары. Я не знала, ночь на дворе или день. Мне снилось, будто я в утробе большущей зверюги и она медленно меня переваривает. Как-то раз я закричала, и пришел Ноно. Он гладил меня по лицу. Говорил ласково, как с ребенком. Когда он хотел вернуться на свои картонки, я не отпустила его. Обняла крепко, изо всех сил. Я чувствовала мускулы на его спине, тугие, как канаты. Он лег рядом со мной и погасил лампу. Все его тело напряглось, он дрожал, и, сама не знаю почему, мне показалось странным, что это он боится, а не я. В тот раз мы ничего такого не делали, я просто уснула, прижавшись к нему. Ноно не шевелился. Он обнимал меня одной рукой, дышал мне в шею. А однажды вечером взял меня, очень-очень бережно. Все извинялся, спрашивал: «Тебе больно?» У меня это было в первый раз, но почему-то я не была потрясена. Казалось, будто я уже давно все это знала.
Потом мне стало получше. Я начала вставать, смогла дойти до кухни. Я спрашивала Ноно, когда он завтракал: «Хорошая сегодня погода?» — «Подожди, сейчас посмотрю». Он вставал на табурет, открывал форточку и ухитрялся, извиваясь, до пояса протиснуться в люк, через который проходил свет. Спрыгивал, на футболке оставались следы сажи. «Небо синее-синее». Он все ждал, когда я смогу прокатиться с ним на мотоцикле.
Через какое-то время я в первый раз вышла, поднялась по лестнице, что вела от дверей гаража, и в лифте наверх. Это было утром, Ноно ушел тренироваться в спортивный зал. Стояла тишина, только лифт на каждом этаже вздрагивал. Я поднялась высоко, на пятнадцатый этаж. Там была какая-то контора, страховая, адвокатская или нотариальная, что ли. Я прошла прямо через контору к большому окну. Секретарши увидели меня — черную девчонку с копной волос, в потертых джинсах, с неподвижным взглядом — и очень испугались. Наверно, я тогда впервые поняла, что и сама могу нагнать страху, — не всё мне бояться.
Я прижалась лбом к стеклу и смотрела, смотрела. Ноги у меня словно приросли к полу, голова закружилась. Еще никогда я не видела город с такой высоты. Внизу были улицы, крыши, многоэтажные дома, большие бульвары тянулись, насколько хватал глаз, и площади, и сады, а еще дальше — холмы и даже извивы реки, блестевшей под солнцем. Это было совсем как на том высоком берегу, на кладбище над морем, где чайки парили в небе. Там и сям клубился дым, поблескивали машины, маленькие, как жуки-скарабеи. Голова плыла от шума, глухой непрерывный гул поднимался отовсюду, то и дело рассекаемый автомобильными гудками, полицейскими сиренами, воем «скорой помощи». Мои руки упирались в толстое стекло, и я не могла оторвать глаз от того, что видела. Небо было перечеркнуто большой черной тучей, и с одной стороны высовывались лучи солнца, а с другой лучи дождя! Клянусь вам, я в жизни не видела ничего прекраснее!
Я услышала, как за моей спиной жалобно зашелестел голос, какая-то женщина обращалась ко мне ласково, но до меня не сразу дошло: «Мадемуазель! Мадемуазель! Вам нехорошо?» Я обернулась, посмотрела на нее с улыбкой. В глазах у меня стояли слезы, оттого что я вдруг почувствовала себя счастливой. «Нет, все хорошо, все хорошо, я… я просто хотела полюбоваться видом». Боюсь, что моя улыбка ее не успокоила, она попятилась. Она была молодая, бледная, с длинными светлыми волосами и зелеными глазами. С ней были еще женщины, одна толстая, другая — похожая на мадам Фромежа. Наверно, они вызвали охрану: когда я вышла из конторы, металлические двери лифта разъехались и мужчина в синей форме с болтавшимися на поясе наручниками вышел мне навстречу. Он уставился на меня, а я вошла в лифт, и двери закрылись. Я чувствовала себя очень усталой и немного захмелевшей. Вернувшись в гараж, в подземелье, я легла на матрас и проспала почти весь день. Даже когда Ноно пришел из спортзала, я не проснулась. Он смотрел на меня, спящую, сидел, прислонясь к стене, тихо-тихо, охранял мой сон, как старший брат.
После этого я стала выходить на улицу. Я даже не сознавала, как долго просидела взаперти. Небо поблекло, низкое солнце пробивалось сквозь облака, похолодало. Даже деревья на набережной Сены стали другими. Ветер срывал с них желтые листья.
Я думала о Хурии. И, как только смогла далеко ходить, отправилась пешком к Лионскому вокзалу. Я мерзла. Ноно дал мне свою кожаную куртку, немного великоватую в плечах. Мне нравилось ходить в ней, от нее пахло Ноно, она была старенькая, протертая на локтях, и мне казалось, что она защищает меня, это были мои доспехи.
На улице Жан-Бутон ничего не изменилось. Казалось, что я ушла вчера. Гостиницы-клоповники, мусорные баки, «жучки» с дурью. В конце улицы, перед самым тупиком, была дверь, черная, железная, с грязным стеклом. Я позвонила, и мне открыл незнакомый негр. Маленький, тощий, с острой бородкой. Посмотрел на меня, ничего не сказал и поплелся обратно в кухню: он там мыл кастрюли. Всегда какой-нибудь мужчина был готов услужить Мари-Элен. Дверь мадемуазель Майер была приоткрыта, горел свет. Я на цыпочках прошла по коридору и постучалась.
Когда Хурия открыла дверь, я едва ее узнала. Она расплылась, а глаза запали. Но лицо ее просияло при виде меня. «Я ждала тебя, мне даже снилось сегодня, что ты придешь». Она всегда так говорила. «Вот видишь, я и пришла». Хурия не спрашивала меня, что я делала, где была. Наверно, для нее, схоронившейся в этой комнате, время не бежало так быстро. «Я скучала, каждый день думала: может быть, она придет сегодня, может, позвонит?»
За пять минут я собрала все ее вещи. Запихнула в сумки белье, лекарства, банки с овсяной мукой, все. Хурия ужасно боялась выйти, потому что уже несколько месяцев она не платила за квартиру. Но я больше не боялась ни мадемуазель Майер, никого. Так хлопнула дверью, уходя, что кусок штукатурки отвалился от потолка и скатился по лестнице. Я была довольна, мне казалось, что начинается совсем новая жизнь. Я положила ладонь на живот Хурии. «Он шевелится?» Она шла осторожно, тяжело дыша. «Да, брыкается все время, настоящий бесенок».
Первые дни на улице Жавело были сплошным праздником. Я была так счастлива, что Хурия снова со мной, не расставалась с ней ни на минуту. Ноно принес огромную стереосистему с колонками и цветной телевизор с большим экраном. Когда я спросила, откуда все это, он не ответил, только рассмеялся, и стены гаража наполнились музыкой. Ноно пригласил друзей-африканцев, мы ставили кассеты и танцевали под африканскую музыку, под рай, регги, рок. А потом они достали свои маленькие барабаны джун-джун и заиграли на них и еще на чудном инструменте вроде маленькой арфы, который принес в своей сумке Хаким, приятель Ноно: он назывался санза, звук у него был нежный, словно скользящий, и, казалось, лился со всех сторон сразу.
Мы пили кока-колу с ромом, водку, пиво. Хурия курила сигарету за сигаретой, раскинувшись на диване. Потом тоже попробовала потанцевать, как она умела когда-то, притопывая и покачивая бедрами, но большой живот и набухшие груди ей мешали. Впервые с тех пор, как я привела ее сюда, она смеялась. Улица Жан-Бутон, старая карга — все было забыто. Музыка поднималась от самой земли, наверно, она отдавалась во всех стенах до тридцать второго этажа и разносилась по соседним улицам — Шато-де-Рантье, Толбиак, Жанны д'Арк, до самой больницы Сальпетриер и Лионского вокзала. Красным песком оседала она на стенах — это была земля Африки. Хаким играл на санзе, сидя на полу по-турецки, капли пота стекали по его щекам, по бородке. Он был похож на колдуна. А Ноно, почти голый, весь блестящий от пота, стучал кончиками пальцев по барабанам, и Хурия притопывала в такт босыми ногами по бетонному полу и звенела медными браслетами.
Лифт не работал. Я потащила Хурию за собой по лестнице на самый верхний этаж, к дверце, ведущей на чердак — замок с нее еще раньше сбил Ноно, — и мы выбрались по пожарной лесенке на крышу. Была уже ночь. Но в Париже никогда не темнеет совсем. Красноватый свет нимбом окружал город. Хаким и Ноно поднялись вслед за нами. Мы уселись на шершавую крышу возле вентиляционных труб. Ноно опять стал играть на барабане, а Хаким щипал струны санзы. Мы пели, без слов, просто звуки: а-а, у-у, э-о, э-а, а-э, я-у, я-а. Мы были молоды. У нас не было денег, не было будущего. Мы курили косяки. Но все это — крыша, красноватое небо, уличный гул и гашиш, — все это, ничье, принадлежало нам.
А потом мы стали так делать каждый вечер. Это было наше кино. Днем мы хоронились под землей, как тараканы в щелях. Зато когда наступала ночь, выбирались и разгуливали повсюду. По переходам метро, на станции «Толбиак» и дальше, до самого Аустерлицкого вокзала. Хаким, приятель Ноно, продавал африканские безделушки — украшения, бусы, амулеты. Ему было все равно, что продавать. Он занимался этим, чтобы платить за учебу, — учился он на историческом факультете в университете «Париж-VII» и жил в студенческом городке в Антони. Хаким рассказывал мне про своего деда по имени Ямба Эль-Хадж Мафоба, который служил во французской армии, в пехоте, и воевал с немцами. В переходах метро каждый вечер звучал тамтам, на станции «Площадь Италии», на «Аустерлице», «Бастилии», «Отель-де-Виль». Барабанный бой гулко разносился под сводами, то грозный, как раскаты грома, то мерный и негромкий, как стук сердца.
Я перезнакомилась со всеми музыкантами. То на одной станции, то на другой я садилась у стены и слушала. На «Аустерлице» играла группа уолофов[4], на «Сен-Поль» — ребята из Мали и с Островов Зеленого Мыса, а на «Толбиаке» — антильцы и африканцы. Они тоже уже знали меня. Махали мне, когда я приходила, переставали играть, чтобы поздороваться со мной за руку. Они думали, что я их землячка. И еще думали, что я девушка Ноно. Может, это он похвастался.
А я тогда стала встречаться с Хакимом. Я приходила к нему на станцию «Толбиак» или «Аустерлиц». Свой столик с амулетами он оставлял под присмотром друзей. Мы шли по ночным улицам куда глаза глядят, ежась от холодного ветра. Выходили к реке. Хаким говорил, что в Африке есть большая река Сенегал. Сам он никогда ее не видел. Но когда он был маленьким, отец рассказывал ему, как медленно катит она свои воды и несет плоты из бревен к морю. И его дед, Эль-Хадж, который под старость ослеп, тоже иногда вспоминал эту реку, так подробно и точно, будто сейчас своими глазами видел ее мутную желтую воду, и пироги с женщинами и ребятишками, и белых цапель, взлетающих прямо из-под весел. А я рассказывала о лимане Бу-Регрег — как будто это можно было сравнивать. Но то была моя единственная река, та, первая, которую я увидела, покинув дом Лаллы Асмы, которую пересекала каждый день, возвращаясь в дуар Табрикет.
Мы садились за столики кафе и разговаривали. Хаким был высокий и худой, носил черный костюм и всегда смотрелся щеголем. Странные вещи он мне рассказывал. Однажды принес книжку, потрепанную, засаленную множеством листавших ее рук. Она называлась «Проклятые на земле», автора звали Франц Фанон[5]. Хаким дал мне ее и сказал загадочно: «Прочти, и ты многое поймешь». Что пойму — он так и не объяснил. Просто положил книгу на столик передо мной. И добавил: «Когда прочтешь, можешь дать кому-нибудь еще».
Ноно он не любил. Говорил, что тот как птичка — знай себе порхает да резвится, одеколоном душится, нет бы делом заняться. Даже его бокс ни в грош не ставил, а еще называл его отщепенцем, шестеркой у белых, игрушкой — мол, поиграют белые, сломают и выбросят на помойку. И захребетником называл за то, что он напросился жить к другу, какому-то неведомому Иву, который уехал на край света, на Таити. Я обижалась, по мне, Ноно не заслуживал, чтобы его так хаяли. Чего-то Хаким недоговаривал, что-то такое было в жизни Ноно, чего я не знала. Пару раз он хотел мне сказать. Начинал: «Ты знаешь, что такое отщепенец?» Я не знала, однажды спросила: «Это вроде сумасшедшего?» Хаким растянул губы в вечной своей насмешливой улыбке. «Ответ неверный, но, возможно, к нему как раз подходит». И больше об этом не говорил.
Как-то в воскресенье, в дождь, он отвез меня к заставе Доре и показал Музей африканского искусства. Кажется, я ни разу не бывала в музее раньше.
Хаким в музее воодушевился, загорелся даже. Я никогда не видела его таким. Он держал мою руку в своей. «Посмотри, это маски фон». Он говорил глуховатым, будто сдавленным голосом. «Смотри, Лайла. Они все копируют, все крадут. Они украли наши статуи и маски, они украли наши души и заперли их здесь, в этих стенах, выставили напоказ, как будто всё это безделушки, та дребедень, что продают в метро «Толбиак», жалкая пародия, подделки». Я не совсем понимала, о чем он. Его рука так сжимала мою, словно он боялся, что я вырвусь и убегу. «Посмотри на маски, Лайла. Они — как мы. Они пленники и не могут высказаться. Их оторвали от корней. А ведь они сами — корень всего, что есть на свете. Они существуют с незапамятных времен, они уже были, когда здешние люди жили в пещерах под землей, ходили черные от сажи и теряли зубы от негодной пищи». Он прилипал к витринам, прижимал кулак к стеклу. «Лайла, Лайла, надо их освободить! Надо увезти их подальше, вернуть туда, откуда их взяли, в Аро-Чуку, в Абомей, Боргозе, Конг, в леса, в пустыни, на реки!» К нам подошел смотритель, встревоженный громким голосом и стуком Хакимова кулака по стеклу. Но Хаким уже увлек меня дальше и застыл перед витриной, где были выставлены глиняные черепки, палки-копалки, какая-то деревянная лопатка. «Смотри, Лайла, любая мелочь оттуда — сокровище, им нет цены». Он показал мне маску догон со злобно оскаленным ртом, маску сонжи, похожую на смерть, всю в каких-то прыщиках, фигурки асханти, похожие на войско призраков, и божество фанг, длиннолицее, с закрытыми глазами, будто погруженное в грезы. Я смотрела на черепки, на почерневшие деревяшки, истертые руками, истрепанные временем. Не помню точно, что было написано на табличке. «Асханти» или что-то в этом роде. «Это наши кости и наши зубы, видишь, это кусочки наших тел, они такого же цвета, как наша кожа, они блестят в темноте, как светляки». Я подумала: может, он сам сумасшедший? И все же от его слов меня била дрожь, я чувствовала в них глубину правды. Мы еще походили по музею, посмотрели на щиты, барабаны, идолов. Была там даже длинная, выдолбленная из ствола пирога, вся изъеденная термитами, и казалось, будто все эти вещи с затонувшего судна выбросило на берег, когда отхлынули воды неведомой мне реки.
Но мягкий шорох шагов смотрителя раздражал Хакима, и мы скоро ушли из музея. Хаким задыхался от бешенства. «Ты видела? — сказал он мне. — Он смотрел, как бы я чего не украл. Как бы я не спер останки моих предков». У него было усталое лицо, он словно постарел. «А ты видела все эти кованые железки? Балясины или сам не знаю, что это, дротики, стрелы, а какой убор из банановых листьев!»
А потом мы поехали на пригородном поезде в Эври-Куркуронн навестить его деда.
Эль-Хадж Мафоба жил один в квартире в белом блочном доме-башне близ Виллабе, у самой автострады. Лифт не работал. Входная дверь висела на одной петле, в полу на лестничной клетке не хватало плиток. Повсюду носилась ребятня. Когда мы поднимались по лестнице, толстый белокожий пацаненок вприпрыжку сбежал нам навстречу, а сверху ему вслед несся пронзительный женский голос: «Сальвадор! Adonde vas? Куда пошел?» Какие-то молодые арабы курили, сидя на ступеньках, еще выше мы встретили двух девушек, потом мелкого белобрысого паренька в очках, который кричал: «Черт, да подождите меня! Это же я вас пригласил!» А девушки ответили: «Из-за тебя, придурок, мы проторчали дома до шести часов!»
Старик, один в комнате, сидел на железном стуле у окна, как будто мог видеть улицу.
— Здравствуй, дедушка.
Эль-Хадж ощупал руками лицо внука. Улыбнулся, потом повел головой:
— С тобой кто-то есть?
Хаким засмеялся:
— Ну и слух у тебя, дедушка, тебя не проведешь.
— Кто это?
Хаким подвел меня к старику. Руки Эль-Хаджа легли на мое лицо, скользнули по щекам, растопыренные пальцы ощупали веки, нос, губы.
— Она похожа на Мариму, — тихо произнес он. — Кто она?
Я пробормотала свое имя. В горле стоял ком. Такого необыкновенного человека я видела впервые. Он был красивый, лицо черное, как уголь, сухая, морщинистая кожа и белые курчавые волосы точно нимб вокруг головы. Стульев больше не было, и я села на пол, прислонясь к стене, а Хаким пошел вскипятить воду для чая.
Эль-Хадж говорил негромко, врастяжку, хрипловатым голосом, с нажимом произносил слова, тщательно их выбирая. Он не обращался ни ко мне, ни к внуку. Он думал вслух, то ли перебирал воспоминания, то ли сочинял сказку. И уже потом, потягивая чай из стакана, он заговорил о том, чего я ждала, о большой реке Сенегал, которая катит свои красноватые воды, и плывут по ним бревна и крокодилы. Я слушала его голос, то гортанный, то певучий, он рассказывал о своей родной деревне, которая называлась Ямба, это было и его имя, в этой деревне хижины из глины, и женщины рисуют на стенах, окуная пальцы в краску из цветов амаранта. Он рассказывал о своих родителях, у которых было десять детей, о гомоне голосов по утрам и о том, как он, самый младший, шагал два часа пешком до тамошней школы, чтобы до вечера читать наизусть Коран. Он заговорил нараспев и принялся раскачиваться, как в ту пору, когда ему было восемь лет, и голос его зазвенел тоненько, словно у ребенка.
— Замолчи, дедушка, ты уже наскучил Лайле…
Хаким так и не сел, стоял у двери, будто собрался уходить.
— Как наскучил? Это ты не хочешь слушать. — Старик обратился ко мне, повернув лицо, на которое падал свет от окна. — Он не желает читать священную книгу. Не желает даже слышать о Пророке. Только и знает, что своего… как бишь его… Фано…
— Фанон.
— Ну да, Фано, Фанон. Пишет он много дельного, признаю. Но забывает главное, самое главное.
Он надолго замолчал, и я спросила:
— А что главное, Эль-Хадж?
— Что даже самый ничтожный человечишка драгоценен в глазах Бога. — Хаким нахмурился, и старик добавил лукаво: — Но полно, оставим это. Он не верит. А ты, Лайла, ты веришь?
— Не знаю.
— Но этот его… Фанон во многом прав, это верно, что богатые поедают плоть бедных. Когда к нам пришли французы, они забрали молодых мужчин, чтобы те работали в полях, и девушек, чтобы прислуживали им за столом, и готовили, и спали с ними в их постелях, потому что своих жен они оставили во Франции. А чтобы застращать маленьких негритят, внушали, что могут съесть их.
— И вправду послали на бойню, во Францию, в Триполитанию, воевать.
Эль-Хадж рассердился:
— Это совсем другое дело, все тогда воевали с врагом рода человеческого.
— И вы знали, за что идете умирать?
— Знали…
Наступило молчание; Эль-Хадж задумчиво курил, пуская дым в открытое окно. Мерно шелестел дождь. Эль-Хадж был одет в широкую африканскую рубаху без воротника, бледно-голубую с белой каймой, и черные брюки, на ногах у него были тяжелые ботинки, черные, лаковые, и шерстяные носки. Он сидел на стуле неподвижно и очень прямо, зажав сигарету в длинных пальцах.
Когда мы уходили, он опять потрогал мое лицо, пробежался пальцами по глазам и губам. И медленно произнес: «Какая ты юная, Лайла. Ты еще откроешь мир, вот увидишь, есть много прекрасного на свете, и ты отправишься в далекие дали, чтобы увидеть это своими глазами». Он словно благословил меня. И во мне что-то дрогнуло от благоговения и любви.
Когда мы вышли из дома, уже затемно, я впервые увидела цыганский табор — на размытой дождем насыпи, между двумя рукавами автострады, они были как потерпевшие кораблекрушение на острове.
9
С тех пор у меня вошло в обыкновение навещать Эль-Хаджа. Я ездила к нему раз в неделю, иногда чаще, иногда реже. Мне нравилось, что он не ждал меня, а если и ждал, то не показывал этого. Когда я входила в его комнатушку, он обращался не к Хакиму. Он знал, что я здесь, поворачивал голову: «Лайла?» Хаким говорил, что у слепых всегда так, у них особое чутье, они лучше чувствуют запахи, как собаки.
В пригородном поезде я встречала компанию мальчишек и девчонок, лет по двенадцать-тринадцать от силы, совсем еще дети. Оборванные, наглые, шумные, но мне приятно было их видеть. Они были забавные — передавали друг другу одну сигарету, корчили рожи, нарочно громко говорили нехорошие слова и косились краем глаза, проверяя, как это действует на хмурых пассажиров. Однажды на последнем перегоне перед Эври в вагон вошли два контролера по их душу, и шумная компания попрыгала в окна на насыпь перед самой станцией. Они висели снаружи, уцепившись за рамы, а потом с визгом разжимали руки.
Так я встретилась с Жуанико.
Я теперь уходила из нашего бивака на улице Жавело с утра пораньше и час-другой работала поблизости: убиралась у Беатрисы, она была редактором в одной газете в Пятом округе, и еще у супругов-пенсионеров на улице Жанны д'Арк. Хурия оставалась дома, готовила, а ближе к полудню выходила прогуляться со своим огромным животом в каменном лесу над нами. Она свела знакомство с месье By, вьетнамцем, — он держал ресторан неподалеку.
Ноно я почти не видела. Я уходила рано, он еще спал в комнате-гараже на картонках. С тех пор как он пригрел меня, когда привез к себе, я больше не звала его лечь со мной. Не хотела. Я боялась, как бы это не стало поводом, если вы понимаете, что я хочу сказать. Думаю, ему было от этого очень больно, но он был все так же ласков со мной, будто ничего не произошло.
Во второй половине дня я встречалась с Хакимом в кафе около Сорбонны. Он называл это кафе «Оставь надежду», потому что все там было похоже на преддверье ада. Он приносил книги, тетради, и я занималась. Хаким решил, что я должна быстро наверстать упущенное и вольным слушателем сдать экзамены на бакалавра или уж сразу на юридический факультет. С французским, историей и философией у меня не было никаких трудностей. Лалла Асма учила меня замечательно, она заложила основы в том возрасте, когда другие дети еще играют в куклы или часами смотрят мультики. Хаким давал мне читать отрывки из Ницше, Юма, Локка, Ла Боэси. Приносил ксерокопии. Он загорелся моим образованием. По-моему, для него это стало даже важнее, чем его собственные экзамены.
Своего деда он посвятил в нашу тайну, и, когда я приезжала в Эври-Куркуронн, Эль-Хадж спрашивал меня: «Ну, как твои успехи в философии?» Мы с ним обсуждали проблемы морали, насилия, воспитания, свободы, общественного устройства и многое другое. И всегда он говорил прекрасные вещи, словно нашел их в своей памяти такими, какими они пришли из глубины времен. Он говорил: «Бог расколет зернышко и сердцевину, Он извлечет живого из мертвого и мертвого из живого». Говорил: «Знаешь ли ты, что такое Судный день? Это день, когда люди станут подобны разлетевшимся бабочкам, а горы станут подобны валяной шерсти». И еще говорил: «Я ищу у Властелина Зари защиты от зла, от сгущающейся тьмы, от зла, что в женщинах, когда они рвут узы, от зла, что в ревнивце, когда он ревнует». Он поднимал лицо к открытому окну, и казалось, будто слова идут из самой глубины его существа, безмятежно и звучно.
Он рассказывал о Пророке и его рабе Билале, который первым призвал к молитве. После хиджры, когда Пророк испустил последний вздох на руках у Айши, Билал вернулся в Африку и шел через леса до большой реки, которая привела его на берег океана. Эль-Хадж говорил так, будто сам знал Билала, будто все это произошло с его родными, и я видела, как Хаким, сидевший на полу, жадно ловит каждое его слово. Я навсегда запомнила историю Билала, и для меня она тоже стала моей историей.
Хаким хотел, чтобы я приходила к нему в университетский городок. Это был совсем другой мир. Ничего похожего ни на улицу Жавело, ни на станции метро, а уж в сравнении с Куркуронном и вовсе небо и земля. Было просторно, и прекрасные сады зеленели вокруг, как за городом, даже сороки и дрозды трещали на ветках. Жили тут студенты со всего мира — американцы, итальянцы, греки, японцы, бельгийцы, даже турки и мексиканцы. Хаким приглашал меня в студенческую столовую и платил за мой обед своими талонами. Я ела равиоли, лазанью — незнакомые блюда. На десерт пробовала сливочные сырки, профитроли, пирожки с яблоками, миндальные пирожные. Хаким смотрел, как я уписываю за обе щеки, и улыбался, вроде его это забавляло. Ему-то было не в новинку. Сам он почти не ел, грыз сухое печенье. На его вкус все это была гадость.
А потом он просил, чтобы я поднялась к нему в комнату. Говорил, что хочет показать мне свои книги. Но я не хотела с ним ссориться. Знала, что он захочет меня поцеловать и все такое, а мне не хотелось ничего этого с ним. Я хотела, чтобы мы оставались друзьями и по-прежнему вместе навещали Эль-Хаджа и он рассказывал бы нам о Пророке, а мы слушали.
Я знала, что Хаким злится. Он ревновал, думал, я с Ноно. Но сказать ничего не смел. Мы шли в холл, садились на диванчик, и я доставала из сумки «По ту сторону добра и зла». «Объясни мне, — просила я, — почему Ницше пишет о договоре. Ты говорил мне, что он не придумал ничего нового, еще Юм сказал, что любое общество основано на договоре». Хаким смотрел на меня из-за своих стеклышек. С бородкой и в этих очках в стальной оправе он выглядел крутым. Мне думается, он старался походить на Малькольма Икса[6] и поэтому если куда-то шел, то непременно в отглаженной белой рубашке и тщательно выбирал галстук. Он не хотел быть похожим на африканцев из Нантера и антильцев из Соля с их пиггитейлами и дредлоками[7]. Он на дух всего этого не переносил и в то же время болел за них душой. Однажды он сказал: «Знаешь, что меня больше всего мучает? Смотрю на них и думаю, что и половина не доживет до двадцати лет. Как будто идешь по коридору смерти».
Говорил он и об Африке, о сведении счетов, о наемниках в Биафре, об умирающих от голода детях, о СПИДе, холере.
Он очень ценил Ницше, но предпочитал все-таки Фанона. Еще он читал мне отрывки из «Господ и рабов» Роберто Фрейра. А вот романы он не любил и стихи тоже, кроме разве что Махмуда Дервиша и Тимажена Уата. «Романы — дерьмо. Ничего в них нет, ни правды, ни лжи. Ветер один». На худой конец он готов был признать Рембо и Джона Донна, но Рембо не мог простить, что тот дурно отзывался о неграх и промышлял работорговлей. Однажды я сказала ему: «Ведь, в сущности, ты думаешь так же, как твой дед, — все сказано в Коране». Я была уверена, что он разозлится, но он задумался, а потом ответил: «Ты права, нет поэзии, более великой, чем эта, и как ужасно, что все уже сказано тысячу с лишним лет назад и лучше все равно сказать нельзя». — «Но вероятно, — спросила я, — можно хуже?» Он посмотрел на меня удивленно: наверно, этого ему было не понять.
У меня было две жизни. С утра я обихаживала Хурию, убиралась у моей редактрисы, ходила за покупками в китайский квартал и для всех была солнышком. Я даже ездила на бульвар Барбес, посмотреть, как тренируется Ноно в спортивном зале. Потом меня ждал Хаким, занятия в Сорбонне или близ улицы Асса, и он с гордостью показывал меня своим однокурсникам: «Это Лайла, она самоучка. Будет сдавать экзамены вольным слушателем, по отделению филологии».
С наступлением ночи все изменялось. Ночью я была тараканом. И уползала туда, где тараканам место, — под землю, на станцию «Толбиак», или «Аустерлиц», или «Реомюр-Себастополь». Я шла по кишке коридора, слышала барабанную дробь — и меня пробирал озноб. Просто колдовство какое-то. Это было сильнее меня. Я переплыла бы море и пешком пересекла пустыню за звуками этой музыки.
Африканцы играли обычно на «Бастилии» или на «Сен-Поль», а на «Реомюр-Себастополь» — антильцы. Зато там иногда бывала Симона. В первый раз мне показал ее Ноно. В переходе было полно народу, но я ухитрилась протиснуться в первый ряд. Она была высокая, очень черная, лицо длинное, с миндалевидными глазами, на голове алый тюрбан, а платье — темно-красное, до пят. «Как похожа на египтянку», — подумала я тогда. «Это Симона, — сказал мне Ноно, — она с Гаити». У нее был грудной голос, звучный, теплый, он пробирал меня до самого нутра. Она пела по-креольски, вставляя африканские слова, пела про обратный путь через море, которым возвращаются островитяне, когда умирают. Пела стоя, почти неподвижная, а потом вдруг начинала кружиться, покачивая бедрами, и широкое платье вздувалось пузырем. Она была так хороша, что дух захватывало.
Однажды Симона заговорила со мной. В тот вечер полиция устроила облаву, и все разбежались. Мы с ней остались одни на станции в конце длинного коридора. Надо было спускаться в метро. Я дала ей талон, и мы поехали в сторону «Площади Италии». Симона села на откидное сиденье, я — рядом. Даже в заплеванном вагоне она выглядела принцессой: тяжелые веки, надменно выступающая нижняя губа, широкие и будто отполированные скулы. Она спросила, кто я такая, откуда. Сама не знаю почему, ей я рассказала то, о чем не говорила никому — ни Ноно, ни Мари-Элен, ни Хакиму: что я не знаю, кто я и где родилась, что меня продали темной ночью с золотыми сережками-полумесяцами. Симона посмотрела на меня долгим взглядом и улыбнулась; по-моему, ее взволновал мой рассказ. Она сжала мою руку — ее ладонь была широкая, теплая и очень сильная. «Ты такая же, как я, Лайла, — сказала она. — Мы с тобой не знаем, кто мы. Мы словно тело свое потеряли». Так странно было ее слушать, а вагон потряхивало, и свет скользил по ее лицу, когда проплывали мимо станции, и карие глаза прозрачно светились, как драгоценные камни.
Она привела меня к себе домой. Оказалось, она живет в маленьком домике с садом на улочке с чудным названием Бютт-о-Кай. Жила она там со своим другом, он был врач, тоже с Гаити, высокий, худой, хорошо одетый; были там и еще какие-то люди, гаитянцы и доминиканцы. Они все говорили между собой на своем языке, бархатно-быстром, которого я не понимала. Не будь Симоны, я, наверно, сразу ушла бы, с этими людьми мне было не по себе, особенно пугал меня Марсьяль Жуае, Симонин друг: он смотрел так пристально, словно в душу хотел заглянуть. Были и белые: пожилой мужчина, представившийся художественным критиком, чем-то похожий на месье Делаэ, какие-то женщины, одетые по-африкански, в тяжелых бренчащих ожерельях вроде тех, что продавал Хаким. Дым от сигарет и гашиша поднимался густыми клубами, завивался вокруг лучей ламп дневного света, в такт нотам медленной музыки, которая лилась, казалось, со всех сторон, с пола, даже от окон.
Никто не обращал на меня внимания. Я стояла в дверях большой комнаты, курила и силилась разглядеть Симону, ее алый тюрбан и золотые серьги.
Художественный критик подошел ко мне, что-то тихо сказал, я не поняла, и он повторил, наклонившись к моему уху: «Она дивная». Кажется, так он сказал. «Воплощенная душа мартиролога». Я не сказала ни да, ни нет. Он, может быть, подумал, что я не понимаю. Я посмотрела ему прямо в лицо и громко, чтобы он расслышал, прочла стихи Эме Сезэра:
А я танцую для себя Свой танец черномазого, Танец разбей-ошейник, Танец беги-из-тюрьмы, Танец как-хорошо-черномазому — славному-доброму-законопослушному.Критик так и застыл столбом, уставясь на меня, а потом зааплодировал. «Слушайте, — кричал он, — слушайте эту девочку, ей есть что сказать вам!» И тут Симона запела только для меня одной. Я знала, что она поет для меня, потому что, стоя в глубине комнаты, она протягивала ко мне руку, и голос ее выводил слова по-французски, нежные и плавные в рокоте барабанов.
А потом я курила сигареты с гашишем. Я и раньше бывала в таких местах, где это делали. На постоялом дворе принцессы собирались иной раз в одной из комнат и курили одну по очереди, запах был как от листьев, чуть терпкий и сладковатый. От него плыла голова и клонило в сон.
Здесь все было иначе. Сигарету мне дал один гаитянец, и я, из-за музыки, из-за голоса Симоны, который так мягко обволакивал, вдохнула дым глубоко-глубоко, словно хотела, чтобы он прошел через меня насквозь. Я и пила тоже, все подряд — виски, пиво, ром. Помню, что просто не могла остановиться. Понятно, я очень скоро опьянела, не отключилась, но была вдрызг пьяна — такое показывают иногда в кино. Я стояла рядом с Симоной и тоже пела, я повторяла за ней слова и танцевала при этом. Я была пьяна, но в голове у меня не мутилось, наоборот. Все стало очень отчетливым. Симона пела, и я повторяла слова ее песни, а маленькие барабаны отбивали ритм, словно тоже говорили:
Я слышу, как бьется город В сердце моем в моей крови. Далеко-далеко Уносит нас море.И дальше по-креольски:
…Manjé té pas fé Yich pou lesclavaj…Все ходило ходуном, пол качался, стены колыхались, силуэты двоились, и алое пятно Симониного тюрбана росло, росло, пока не заполнило всю комнату. Меня подхватил доктор Жуае, уложил на диван, а Симона смочила полотенце в холодной воде и обтерла мне лицо. Руки у нее были ласковые, как материнские. Она говорила протяжно, и казалось, будто она продолжает петь, для меня, только для меня, своим грудным, хрипловатым голосом, но стучали не барабаны, это стук моего сердца отдавался в ушах.
Один за другим все стали расходиться. Может, испугались, что из-за меня будут неприятности. Это были важные люди, критики, киношники, политики. Такие всегда первыми уносят ноги.
Да и друг Симоны немного повздорил с ней. Так странно, я слышала их как издалека, будто парила над собственным телом, а они говорили о ком-то другом. Потом они оставили меня на диване, а сами ушли в спальню. Я слышала басовитый голос доктора и крики Симоны, вроде бы он ее бил или мучил, а потом она начала ритмично постанывать, и я поняла, что они занимаются любовью.
Я лежала на диване, меня бил озноб. В какой-то момент я встала, дотащилась, шатаясь и опрокидывая стулья, до кухни, и меня вырвало. Там еще сидели и пили два гаитянца. Увидев меня в таком состоянии, они пошли звать доктора. Я слышала, как они говорили обо мне по-креольски, а Марсьяль Жуае сказал: «Она, чего доброго, малолетка, лучше бы отвезти ее домой». И стал кому-то звонить, по разным номерам, пока не разыскал Хакима. Так он узнал адрес гаража на улице Жавело. До меня начало доходить, что мир-то тесен, если у тебя нужные концы в руках, все тебе будет, то есть люди, которые что-то значат, связаны между собой все до единого, а остальных, мелкую сошку вроде Ноно и меня, когда надо, из-под земли достанут. Я думала обо всем этом, пока Симонин друг звонил по телефону. У меня плавились мозги. При этом я видела лицо Симоны, ее большие, египетские, коровьи глаза, которые смотрели с глубокой тоской, и я вдруг поняла, почему она говорила, что мы похожи, что мы обе потеряли свое тело, — это потому, что мы никогда ничего не хотели сами и другие решали за нас нашу судьбу.
Она осталась в доме, когда Марсьяль с одним из приятелей увезли меня в машине. Шел дождь.
Дрожали лужи на черной мостовой. Машина ехала по городу, улицы были тихи и пустынны. Кажется, они искали дежурную аптеку, и доктор вышел купить для меня лекарство, капли Премперана или что-то в этом роде. Они оставили меня на улице у гаража. Вынесли из машины и посадили, прислонив к двери. Марсьяль Жуае молча смотрел на меня. Его приятель что-то сказал по-креольски. Мне было без разницы, хоть по-тарабарски. Они уехали, и два красных огонька, мигнув, скрылись за углом.
10
А потом пришла зима. В жизни я так не мерзла. Когда-то Тагадирт рассказывала мне, какая зима во Франции: черно-серое небо, фонари на улицах зажигаются в четыре часа, снег, гололед, и деревья без листьев машут корявыми ветками, как привидения. Но сейчас было еще холоднее, чем она говорила.
Ребеночек Хурии подоспел к февралю. Когда она родила, я подумала, что, наверно, еще ни один младенец не появлялся на свет под землей, где и света-то никакого нет, как в глубокой пещере.
Наверно, поэтому я начала думать о юге: хотелось к солнцу. Чтобы его лучи золотили кожу младенца, чтобы он не дышал затхлым воздухом этой улицы без неба.
Мы с Ноно строили планы. Вот он выиграет матч в наилегчайшей весовой категории, сможет купить машину, мы возьмем Хурию с ребеночком и отправимся на юг по автостраде, что проходит через Эври-Куркуронн, широкой как река, в восемь рукавов. Мы поедем в Канны, в Ниццу, в Монте-Карло, может быть, даже в Италию, в Рим. Дождемся апреля или мая, чтобы ребеночек подрос и смог перенести путешествие. Или даже июня, чтобы я успела сдать экзамены. Но не позже, а то это долго, слишком долго, будет поздно, и мы вообще никуда не уедем. В июне будет в самый раз. И отборочный матч аккурат восьмого. Ноно тренировался без устали. Или уходил в спортивный зал на бульвар Барбес, или боксировал в гараже. Он сделал себе боксерскую грушу из мешка от картошки, набив его тряпками.
Жуткий холод стоял на улице Жавело. Хорошо еще, что Ноно принес электрический радиатор, который выдувал горячий воздух и гудел, точно самолет. Чтобы не тратить лишнего, Ноно показал мне, как он мухлевал со счетчиком: дрелью просверлил сбоку дырочку и вязальной спицей заблокировал колесико. Если ждешь прихода инспектора, то спицу вынимаешь, а дырочку залепляешь синим пластилином. Денег было в обрез. Ноно тренировался, у него не оставалось времени работать, а стипендии едва хватало. Вечером он возвращался полуживой от усталости. Его депутат-социалист обещал ему вид на жительство за победу в матче, так что проиграть он никак не мог. Хурия в последнее время все больше походила на пчелиную царицу. Она лежала на кровати рядом с урчащим радиатором, огромная, беспомощная, с одутловатым лицом. Позвать кого-нибудь из социальной помощи она не разрешала. Доктора тоже не хотела. Все боялась, что на нее донесут в полицию, что отправят назад к мужу. Только под землей она могла в безопасности, как паук в коконе, выносить и родить своего младенчика. Кто ее здесь найдет? Единственное, что нам грозило, — мог вернуться друг Ноно, но мы слышали, что он отлично проводит время на Бора-Бора. Вряд ли его понесло бы в Париж, под дождь и снег.
Когда настало время Хурии рожать, она так и не дала нам позвать врача — попросила привести какую-нибудь женщину. Ноно переполошился ужасно. Метался, совсем голову потерял. А я не знала, куда идти, поэтому села в поезд, доехала до Эври-Куркуронн и пошла в цыганский табор к Жуанико. Он и нашел мне женщину. Поговорил с ней по-цыгански, и она согласилась прийти за пятьсот франков. Женщину звали Жозефа, она была высокая, слегка мужеподобная, с длинным угловатым лицом и сильными ручищами. По-французски она почти не говорила, но подобрела, когда я обратилась к ней по-испански. У нее был резкий галисийский выговор.
Я привезла ее на поезде. Хотела сразу вести на улицу Жавело, но она сказала, что сначала ей надо кое-что купить для себя и для будущей мамы. Взяла в аптеке вату, пластырь, бетадин, компрессы и еще много всякой всячины, а у китайца купила травки — тимьян, шалфей — и какую-то мазь в круглой коробочке с нарисованным тигром. Еще накупила кока-колы, печенья, сигарет.
В гараже она сразу освоилась, отгородила простыней половину комнаты, где лежала Хурия, чтобы ей не мешали. И просидела там три дня, почти не выходила, ни с кем не разговаривала. Говорила, что пахнет у нас плохо, жгла какие-то благовония, курила сигареты. Мы с Ноно в эти дни были как на иголках, дома нам не сиделось. Закончив работу у Беатрисы, я ехала к нему в спортивный зал на бульвар Барбес. Он боксировал с собственной тенью, прыгал через скакалку. Я садилась в уголок и смотрела, как он тренируется. Все думали, что я его девушка. Даже депутат-социалист подходил со мной побеседовать. Он говорил не «Ноно» и не «Леон», а называл его по фамилии: «Адиджо». «Адиджо надо работать, — говорил он, — хватит ерундой заниматься, ты скажи ему». Я догадывалась, что он имел в виду: дружков Ноно, головорезов, что били стекла в киосках и машинах, а еще — магнитофоны, которые он иногда приносил откуда-то и загонял. Депутат, маленький, с волосами ежиком, походил на спортсмена или на полицейского. Мне не хотелось с ним разговаривать. Не нравилось, как он говорит «Адиджо», будто имеет право, будто он наш. Раз-другой он пытался вызнать, как у меня обстоят дела с видом на жительство, не на птичьих ли я правах. Мне не нравились его вопросы, не нравилось, что он со всеми на «ты», вроде показывает, что между ним и нами нет никакой разницы, — хотя, наверно, это он просто по-дружески. Он был однорукий, левая ампутирована, может, поэтому. Подойдет, бывало, к кому-нибудь и скажет, громко так: «Давай-ка, помоги мне надеть свитер!» Этакое напористое дружелюбие. Чуть ли не каждый день он твердил Ноно: «Не дергайся, вид на жительство у тебя, считай, в кармане». Как будто у нас что-то могло быть «в кармане».
А потом Хурия родила девочку. Когда я вернулась от Беатрисы-редактрисы, новорожденная уже сосала грудь Хурии. Повитуха совсем уморилась. Она выпила вина, несколько стаканов подряд, и заснула на софе как убитая. Даже неоновая лампа ей не мешала.
Хурия тоже вроде бы дремала. В комнате крепко пахло мочой, потом, кислый такой запах. Было бы хоть окно, я б распахнула его настежь, чтобы впустить воздух и солнышко. Я подумала: надо младенчика увезти поскорей, а то под землей ему не выжить.
Прошло несколько дней, стало поспокойнее. Мы вымотались так, будто все родили по ребеночку. Спали по очереди, в режиме кормлений. У Хурии потрескались соски, кормить она толком не могла. Ее постель была вся в крови. Опять пришла повитуха, напоила ее молоком с анисом, втерла в соски какой-то жирный крем. Хурия была вся горячая, ее трясло, а малышка орала. В конце концов Беатриса-редактриса прислала к нам свою подругу-медичку, и Хурию с девочкой забрали в больницу. Видно, она и вправду была очень больна: даже слова не сказала, когда ее уносили на носилках.
Я навещала ее каждый день. Она лежала в акушерском отделении с другими мамашами, в белой-пребелой палате на первом этаже; из окна были видны кипарисы, зеленая изгородь, воробьи порхали по веткам. Даже серое небо было необычайной красоты. Я приносила печенье, чай в термосе. Старалась развеселить Хурию, чего только ей не рассказывала. Говорила, что надо дать малышке имя. Мы назовем ее Паскаль, потому что она в добрый час родилась, до того, как успели принять новый закон о происхождении. Хурия была согласна, только хотела еще добавить имя Малика, в честь своей матери. Так и записали малышку — Паскаль-Малика. Когда ее регистрировали, Хурия назвала имя отца — Мухаммед, — чтобы ее дочка не считалась безотцовщиной. Даже Хаким навестил новорожденную. Он посмотрел на красный живой комочек, крепко спавший в колыбельке рядом с кроватью Хурии, и сказал: «Она вполне смотрится маленькой француженкой».
Хурия вдруг встревожилась: «А если я захочу вернуться домой, ее не отнимут у меня?» Я успокаивала ее как могла: «Никто никогда ее у тебя не отнимет. Она твоя, только твоя». А сама думала, что впервые у Хурии появилось что-то по-настоящему ее и, несмотря на все испытания, ей крупно повезло.
С появлением Паскаль-Малики все изменилось на улице Жавело. Я поняла, что как раньше уже никогда не будет и это к лучшему. Во-первых, Хурия не заикалась больше об отъезде. Ей расхотелось возвращаться домой. Теперь, когда у нее была дочурка, она чувствовала себя сильной, город и люди уже не страшили ее. Каждое утро она закутывала малышку в большую шаль и выходила на воздух, гуляла в скверах, на улицах или навещала своего друга месье By. Ей нужна была работа, и я попросила Беатрису нанять ее вместо меня. Беатриса купила коляску для малышки, и Хурия стала каждое утро ходить к ней убираться. Беатриса с мужем не могли иметь детей, поэтому они чуть не плакали от умиления при виде спящей крошки. А потом Хурия стала оставлять ее у них, когда уходила за покупками или учиться. У Паскаль-Малики была теперь своя комната, Беатриса и ее муж убрали из кабинета письменный стол и полки с книгами, оклеили стены розовыми обоями, и получилась детская, тихая, светлая и солнечная. Когда Хурия приходила ночевать в нашу темную нору на улице Жавело, малышка кричала и плакала, никак не могла заснуть. Никто не говорил об этом вслух, но, по-моему, с самого начала Беатриса с мужем думали удочерить Паскаль-Малику.
Я снова увиделась с Симоной. Однажды вечером я наведалась на станцию «Реомюр-Себастополь». Мне казалось, что я уже много лет здесь не бывала. Когда издалека донеслось гулкое эхо барабанных ударов, у меня мурашки побежали по телу. Я и не знала, до чего мне не хватало этого. Но после всего, что произошло с рождением малышки, я изменилась, стала старше, что ли. Казалось, теперь я могла чувствовать что-то такое, что было за этими жестами, за этими танцами, тайный смысл этой музыки.
В переходе на пересечении двух туннелей сидели музыканты и били в барабаны. Среди них были мои знакомые, антильцы и африканцы, но были и новенькие, которых я еще не видела, среди них длинноволосый парень с кожей цвета янтаря — кажется, из Санто-Доминго. Симона не пела. Она сидела, прислонясь к стене, темные очки скрывали лицо. Я села рядом с ней, она узнала меня и улыбнулась, и тут я увидела ее распухшую щеку.
— Что с тобой? Случилось что-нибудь?
Она пожала плечами и ничего не ответила. Музыка барабанов джумбе, барабанов джун-джун тихонько накатывала волнами, неспешная, безмятежная. Волны катились под землей далеко-далеко, на край света, чтобы разбудить музыку по ту сторону большой воды. Музыка пела, музыка говорила. Она была нужна мне, она мне помогала, это было как голос муэдзина, когда он плыл над крышами и вплывал во дворик Лаллы Асмы, похожий на голоса моих предков в стране хиляль.
Наверно, кто-то дал знак, что идут полицейские, все вдруг бросились врассыпную, барабанщики, зрители, кто куда, и мы остались одни с Симоной, как в тот вечер, когда она привела меня к себе. Однако на этот раз она спросила меня, и голос у нее был сдавленный, тревожный: «Лайла, можно, я переночую у тебя сегодня?» Она знала, где я живу, ведь Марсьяль Жуае оставил меня тогда у двери гаража. Я не стала спрашивать почему. Мы пошли пешком по парижским улицам под моросящим дождем.
Она пробыла у нас два дня. Лежала на принесенном Ноно матрасе, почти не шевелилась. Отпивала глоток кока-колы и опять засыпала. Это она наглоталась успокоительных таблеток. Только мне одной Симона рассказала, что случилось: ее друг как с цепи сорвался, ему взбрело в голову, будто она ему изменяет, он избил ее, а потом вдвоем с приятелем они ее изнасиловали. Она не разрешила мне пойти в полицию. Сказала, что это ничего не даст, что доктор Жуае — важная птица, у него везде друзья, он работает в больнице Отель-Дье, а ей никто не поверит.
На третью ночь он приехал за ней. Я услышала, как затормозила машина у дверей гаража. Не знаю, откуда он узнал, что Симона прячется у меня. Везде у него были глаза и уши. Он не стал поднимать шума. Просто постучал в нашу железную дверь, тихонько, но я проснулась. Зажгла свет и увидела, что Симона сидит на постели и смотрит широко раскрытыми глазами — будто она ждала его. Он говорил ей из-за двери что-то ласковое на своем певучем, медовом креольском языке. «Хочешь, я скажу, чтобы он ушел?» — спросила я Симону. У нее был странный, завороженный взгляд, словно и страшно ей, и тянет к нему. Я посмотрела на ее распухшую щеку, на запекшуюся кровь над бровью, и злость и стыд захлестнули меня. «Не слушай его, не отвечай. Постоит и уйдет». Но это было сильнее ее. Симона заговорила с ним через дверь. Она не хотела будить малышку и шептала сначала по-французски бранные слова, потом по-креольски.
В конце концов она ему открыла. В темноте за дверью стоял «мерседес» с зажженными фарами. Было тихо, только пофыркивали время от времени вентиляционные трубы. Они так и проговорили всю ночь. В какой-то момент я проснулась. Мне было холодно. От приоткрытой двери гаража тянуло сыростью. Я увидела «мерседес», фары теперь были погашены, а Симона и ее друг все еще разговаривали на заднем сиденье. Утром она уехала с ним, не сказав мне ни словечка. В голове не укладывалось, как из такой женщины может веревки вить такой мужчина.
Я стала заходить к Симоне во второй половине дня, когда Марсьяля Жуае не было дома: она учила меня играть и петь. Она целый день сидела, почти не вставая, одна за закрытыми ставнями в домике на улице Бютт-о-Кай. В нижней комнате она расставляла зажженные свечи в виде треугольника, а в середину складывала все, что любила: фрукты с рынка, манго, ананасы, папайи. Я не смела спросить зачем. Я вообще ни о чем ее не спрашивала, за это она и любила меня. Она была колдуньей, а еще — наркоманкой, курила черную глиняную трубочку с крэком. И такая была красивая, с большими египетскими глазами и выпуклым лбом, блестящим, как черный мрамор.
У нее было электропианино с двумя колонками. Симона ставила звук на басы, на низкую частоту, чтобы я лучше слышала. Она сказала, что мне обязательно надо заниматься музыкой, потому что я одним ухом не слышу, но у всех великих музыкантов тоже были разные проблемы: кто глухой, кто слепой, кто просто со сдвигом.
Доктор Жуае не возвращался домой до позднего вечера. Он весь день проводил в больнице Сальпетриер, лечил психов. Сам тоже был псих. Он не любил, когда Симона расставляла свечи и раскладывала дары, разозлился бы страшно, если б узнал. Но Симона все убирала до его прихода, прятала свечи и благовония, стелила на место ковер, расставляла стулья и кресла.
Ей загорелось научить меня петь. Я садилась рядом с ней на пол, по-турецки, а она натягивала на колени свое длинное платье алым куполом. Она играла левой рукой, эта рука, широкая, легкая, порхала по клавишам — три такта, четыре, пять или долгий аккорд, а я должна была вторить. Потому она и играла левой рукой: чтобы петь с нужной стороны, в мое здоровое ухо. Я ей не говорила, но она знала, что я на одно ухо глухая. С ума сойти, что ей пришло в голову научить меня музыке, она как будто догадалась, что это давно во мне сидело, что этим-то я и жила.
Мы много времени проводили вместе в домике на Бютт-о-Кай. Занимались музыкой, пили чай, курили, болтали. И смеялись, сами не зная чему. Мне казалось, что у меня никогда не было такой подруги, как Симона. Все это напоминало времена постоялого двора и принцесс — как я танцевала для них, как они ходили со мной в баню и кафе на берегу моря. Симона тоже была принцессой, самой настоящей. Но в ней еще чувствовался какой-то надрыв, я не совсем понимала, что это значит, словно была в ее жизни теневая сторона, тайная, сторона безумия.
Она учила меня петь музыку Джимми Хендрикса — «Burning in the Midnight Lamp», «Foxy Lady», «Purple Haze», «Room Full of Mirrors», «Sunshine of Your Love» и, конечно, «Voodoo Child», а еще музыку Нины Саймон — «Black Is the Color of My True Love's Hair», «I Put a Spell on You», и Мадди Уотерса, и Билли Холидэя — «Sophisticated Lady», но слов я не пела, одни звуки, пела не только ртом и горлом, они возникали где-то глубже, шли из легких, из нутра. Четыре-шесть тактов — и Симона останавливала меня, и опять, и опять. Ее пальцы плясали на клавишах, я должна была спеть то же самое на октаву выше, или, наоборот, она играла в низком регистре, а я пела в унисон: «Ба-бе-ли-бо-о, ба-а-бе-ло-ла-ли, ла-ли-ла-ло-ла…»
Иногда она рассказывала о своем острове на краю света, о музыке, что летит через море к той далекой земле, откуда увезли ее предков и продали на чужбине. Она называла племена, и эти названия звучали странно, как слова какой-то музыки.
«Ибо, Моко, Темне, Мандинка, Чамба, Гана, Киоманти, Асханти, Фон…»
Как имена моих родных, которые я забыла.
Она рассказывала о нищете. «У гаитянца, — говорила она, — самое суровое лицо на свете». «Негр, — говорила она, — предает негра, как во времена императора Дессалина»[8]. «Когда человек голоден, — говорила она, — глаза его обращены внутрь». Она рассказывала об улице Цезарей в Порт-о-Пренсе, о том, как бьется сердце, о своей матери Розе Кароль, которая когда-то пела заклинания вуду, вызывая мертвецов: она била в барабан, и открывался глаз в середине большого треугольника во дворе ее дома — точно такой же выстраивала Симона из свечей. Она рассказывала, пела, говорила с барабанами, и боги лоа приходили к ней, прямо сюда, на ее улицу. Она называла их по именам, это были имена деревьев, лазам, лезвие клинка, плоды живой души, дынное дерево папайя и великан заман, чья густая сень бросает на остров тень. Я слушала, это было так прекрасно, что убаюкивало. Она играла для меня, на одних и тех же клавишах, одни и те же ноты, неизменные, низкие, или стучала пальцами по говорящим барабанчикам, по барабанам рада, по барабанам джун-джун, и дробный звук пробирал до нутра, как в подземных коридорах на «Реомюр-Себастополь», он поднимался и заполнял меня всю, и я была танцующей змеей перед факиром, воздушным шаром на празднике, я кружилась и кружилась, пока в глазах не становилось темно.
Мы не разговаривали больше. Она сидела на корточках, раскинув платье, покачиваясь, играла свою музыку и пела африканскую песню, пришедшую издалека, из-за моря, а я повторяла ее жесты, ее слова, даже движения глаз, даже взмахи рук, не понимая зачем, словно какая-то неодолимая сила притягивала меня к ней.
Она делала это до тех пор, пока свечи не догорали и язычки пламени не тонули в оплывшем воске.
Когда это кончалось, мы валились без сил. Засыпали прямо на полу, на разбросанных подушках, в запахе дыма. За стенами кипела жизнь, гремели поезда, машины, метро, люди носились как ополоумевшая мошкара, кто-то что-то покупал, продавал, подсчитывал, выгадывал, наживал, копил. Я забывала все. Хурию, Паскаль-Малику, Беатрису с Раймоном, Мари-Элен, Ноно, мадемуазель Майер и мадам Фромежа. Все уплывало куда-то. Только одна картина вставала перед глазами, накатывала, захлестывала меня: большая река Сенегал и устье Фаламе, высокий берег, красный глинистый откос, край Эль-Хаджа. Вот куда уводила меня музыка Симоны.
Однажды вечером Марсьяль Жуае пришел раньше обычного. Он открыл дверь в большую комнату да так и замер на пороге, долго стоял и смотрел. На улице уже стемнело. Свечи догорали, слабый свет дрожал, и я только угадывала, как шарят впотьмах глаза доктора. Он ничего не сказал. Пересек комнату, спотыкаясь о Симонины барабаны, и направился прямо в ванную. Наверно, он жутко разозлился, раз прошел через этот кавардак молча. Симона подняла меня с пола и подтолкнула к двери: «Уходи, уходи скорее, пожалуйста». Вид у нее был напуганный. «Пойдем со мной, — сказала я ей, — не надо тебе здесь оставаться». Я точно знала: если только она сможет сейчас уйти, то освободится. Но у нее этого и в мыслях не было. Она сунула мне в руку деньги: «Уходи, езжай домой, возьми такси, холодно». Сама не знаю почему, но в эту минуту я подумала, что больше не увижу ее. Она не могла отважиться и поэтому была рабой. Если бы только она отважилась, хоть один только раз, то не боялась бы больше ни Марсьяля, ни одиночества, и ей не нужно было бы ни нюхать всякую гадость, ни глотать снотворное. Тогда она освободилась бы.
У Эль-Хаджа дела тоже обстояли неважно. Старый солдат плохо переносил зиму. Я ездила, когда могла выбраться, поездом, автобусом, в Куркуронн и по шоссе до Виллабе. За городом было еще холоднее, железнодорожная насыпь покрылась инеем. По огромным серым пустырям расхаживали вперевалку вороны. В крошечной квартирке в корпусе «В» Эль-Хадж по-прежнему сидел у окна. На нем был толстый свитер поверх голубой рубахи и шапка, в которой он даже спал. Он грезил вслух о водах большой реки, так медленно текущих через пустыню, где даже ночью не меркнет свет. Наверно, за этим я к нему и ездила — послушать про реку. Говорил он и о ее притоке Фалеме, и о городах Кайе, Медине, Матаме, и о своей деревне под названием Ямба. Словно сам все еще плыл в длинной пироге с женщинами и ребятишками, глядя, как проплывают мимо хижины, прилепившиеся к берегам, как взлетают журавли и бакланы. Он тогда впервые рассказал мне про Мариму, свою внучку, сестру Хакима. Она умерла там, однажды летом, когда поехала навестить мать. Заболела лейкемией в сезон дождей. Холод проник в нее, и студил ее кровь день за днем, и убил ее. Эль-Хадж не показывал мне ее фотографий. Ему они были ни к чему. Зато показал школьный дневник, потому что гордился ее успехами. Она училась в последнем классе коллежа Святого Людовика.
Он забывал порой, что ее больше нет. И говорил со мной так, будто я была ею, новой Маримой. Что-то в нем надломилось, очень глубоко, и болело непрерывно, как треснувшая кость. Он так ни разу и не съездил туда. «Они все разрушили, теперь повсюду асфальтовые дороги, знаешь, мосты, аэропорты, а все пироги теперь куцые, потому что на корму вешают мотор. Что мне там делать, в мои-то годы? Но когда я умру, ты отвези меня домой, я хочу лежать в земле рядом с отцом и матерью, в Ямбе, на берегу Фалеме. Там я родился, туда я должен вернуться». Я обещала ему, что поеду, отвезу его, хоть и знала, что это вряд ли возможно. У меня ведь тоже было кладбище, на котором я хотела бы, чтоб меня похоронили.
Еще он рассказывал о том, что видел, когда был в Аравии и поцеловал черный камень ангела Джебраила. Про воду из источника Замзам, которую он привез в пластмассовой фляжке, про плоскогорье Арафат, где жгучий ветер пустыни слепит путникам глаза. Его лицо было обращено к окну, к белой цепи соседних башен, совсем рядом гудела автострада и виднелся цыганский остров. Но он был не здесь, он был далеко, там, где ему сиял свет. До самой ночи оставалась я с Эль-Хаджем. Готовила ему чай, мыла посуду, убиралась в комнате. Наверно, в глубине души я чувствовала, что и его вижу в последний раз. Как с Лаллой Асмой, когда она еще только упала в кухне, а я поняла, что скоро ее не станет.
Это зима его выматывала. Он все время мерз. Хаким купил масляный радиатор, который стоял включенным день и ночь, и в комнатушке было так натоплено, что даже пол запотевал. Эль-Хадж говорил, то и дело прерываясь, чтобы откашляться; кашель был глубокий, в груди хрипело, словно там работали кузнечные мехи, мне было больно это слышать. Хаким сказал мне, что у деда нездоровые легкие, поэтому ему трудно дышать. Но я знала, что это все от холода, от ветра и дождя, от низкого неба, обложенного серыми тучами, и тусклого солнца, — вот что подтачивало его.
Когда я догадывалась, что он сильно устал, я уходила. На прощание целовала ему руку, а его ладонь прижималась на миг к моему лбу, спускалась вниз, касаясь глаз, носа, щек и губ. «До свидания, детка», — говорил он, как будто я и вправду была Маримой. А может, он действительно думал, что я — это она. Может, все забыл. Или это я стала на нее похожа, потому что подолгу бывала подле ее деда и слушала его рассказы о жизни в том краю, у большой реки. Я и сама уже не знала толком, кто я.
По дороге в Куркуронн на станцию я проходила через цыганский остров. Делала крюк, чтобы повидать Жуанико. Однажды вечером он вышел мне навстречу, будто поджидал меня. Держался он как-то чудно. Попросил у меня сигарету. И сказал, отчего-то сдавленным голосом: «Брона продает маленького». Я не поняла, и он повторил нетерпеливо: «Я правду тебе говорю, Брона продает своего младенчика». Темнело. Вдоль шоссе загорались желтыми звездами фонари, а поодаль, за бетонной автостоянкой, супермаркет сиял огнями, словно сказочный замок.
Сердце у меня забилось сильно-сильно. Я пошла вслед за Жуанико по собачьей тропке, которая вела прямиком к цыганскому табору. У меня в голове не укладывалось то, что сказал Жуанико. Мне все казалось, будто это обо мне, когда неведомые люди засунули меня в мешок, увезли и продали и я переходила из рук в руки, пока не попала к Лалле Асме.
Жуанико привел меня к дощатой лачуге, крытой железом, которая притулилась возле белой кибитки. Там играли дети, газовая лампа, стоявшая прямо на полу, освещала их мордашки. Вокруг лачуги высились кучи мусора, валялись картонки, ржавые банки, стояла тележка без одного колеса. В кибитке какие-то люди, мужчины и женщины, сидели за столом, ели, работал телевизор. Снаружи были привязаны собаки, желтые, с шерстью дыбом. Жуанико открыл дверь лачуги. На раскладушке, на надувном матрасе, задравшемся с обоих концов, сидела Брона. К ней жались двое детей — шестилетняя девочка и мальчик лет двенадцати с цепкими, умными глазами. Они заговорили по-румынски. Жуанико о чем-то спрашивал женщину. У нее было тонкое лицо, отливающие медью волосы и ярко-зеленые глаза, маленькие, живые, точно у какого-то зверька. Она слушала Жуанико, а глаза так и бегали, на него — на меня, словно прикидывая, правду ли он говорит. Потом она поднялась, пошла куда-то в угол и отдернула занавеску. Там, в нише, стояла черная коляска, а в коляске спал младенчик. «Это девочка, — сказал Жуанико. И добавил тише, мне на ухо: — Я сказал ей, что ты знаешься с богатыми людьми, с докторами, адвокатами, иначе она бы ни за что не показала тебе своего ребенка». Я не знала, что ответить. Стояла и смотрела на спящего младенчика, до самого носа закутанного в одеяльца и пеленки. «Как ее зовут?» — спросила я.
Брона покачала головой. Лицо у нее стало жесткое и словно закрылось. «У нее нет имени, — после долгого молчания ответил Жуанико. — Имя ей дадут те, кто ее купит».
Но когда мы вышли на улицу, Жуанико шепнул мне: «Знаешь, это неправда. У девочки уже есть имя. Ее зовут Магда». Я подумала о Беатрисе-редактрисе, вспомнила, как она говорила про дочку Хурии, что, если мать не сможет ее растить, она бы ее удочерила. «Послушай, — сказала я Жуанико, — если эта женщина и вправду готова продать свою малышку, я знаю человека, который бы ее купил». Я еле протолкнула эти слова сквозь ком в горле, потому что представляла себе, как кто-то говорил то же самое тогда, давным-давно, когда меня украли, и Лалла Асма, наверно, тоже ответила: «Я бы ее купила». Серо и сумрачно было в тот вечер, громыхали машины по обе стороны цыганского острова, шоссе было как река в половодье. Жуанико проводил меня до автобусной остановки, и я уехала в Париж.
11
Эль-Хадж умер три дня спустя. Хаким сообщил мне об этом через одного приятеля. Я как раз собиралась на занятия в кафе «Оставь надежду», когда пришел этот вестник. Я сразу помчалась на вокзал и первым же поездом поехала в Эври-Куркуронн. Небо было все такое же серое и низкое, будто и не прошло трех дней. По радио даже обещали снег.
Дверь квартирки Эль-Хаджа была приоткрыта. Я вошла на цыпочках, словно он еще был здесь и мне не хотелось его пугать. Кухня, где он обычно сидел, была пуста, а в комнате приспущена штора. Я увидела сначала Хакима, он стоял спиной ко мне у кровати, потом еще каких-то людей, пожилых, я их не знала — наверно, это были соседи, — и высокую полную женщину, я сначала подумала, что это мать Хакима, но она выглядела слишком молодой, да и походила скорее на арабку — белокожая, с перманентом на выкрашенных хной волосах. Может, она просто забегала помочь по хозяйству, или это была консьержка. Эль-Хадж лежал на кровати одетый, все в той же длинной голубой рубахе без воротника и серых брюках с безупречной стрелкой. Он был даже обут в свои черные лаковые ботинки, как будто собрался в путь. Я никогда не видела его таким: лицо закрылось, сжалось, как кулак, сжаты были губы, глаза в распухших веках, даже нос; боль и печаль читались во всех чертах, и мне вспомнились его рассказы о реке Сенегал, о деревне под названием Ямба на берегу Фалеме — это было все, что он любил на свете, и надо же, что он умер так далеко, совсем один в своей комнатушке на девятом этаже корпуса «В» жилого комплекса Виллабе.
Все в комнате молчали. Хаким посмотрел на меня, когда я прикоснулась ко лбу его деда, всего на секунду ощутив пальцами холодную, шершавую кожу. Слишком покойно здесь было, слишком тихо. Уж лучше бы гвалт, как в кино, чтобы женщины рыдали протяжно и надрывно, чтобы сливались в гул голоса мужчин, поминающих умершего, как принято, чашкой кофе, или, как у христиан, все бормотали бы молитвы. Хоть бы собака завыла во дворе, или даже похоронный звон раздался. Но ничего этого не было. Только шум телевизора откуда-то с верхнего этажа. Люди стали расходиться, понурясь и почему-то пряча от меня глаза. Были бы здесь барабанщики из метро, думала я, пусть бы они играли без остановки, и гремела бы их музыка раскатами грома по лесам и над реками, а Симона пела бы «Black is the color of my true love's hair». Толстая женщина с рыжими от хны волосами тихонько вышла за дверь. Она казалась мне похожей на Лаллу Асму. У нее был такой же взгляд, слегка потерянный, как у дальнозорких за стеклами очков. Сама не знаю почему, я догнала ее, схватила за руку, повела обратно к кровати: «Пожалуйста, побудьте еще немного, не уходите». Она покачала головой. И сказала сдавленным, хриплым голосом: «Он был славный». Как будто извинялась за что-то. Женщина стала медленно высвобождать руку. Снимала с нее мои пальцы, разжимала их один за другим. В ее зеленых глазах застыл испуг, черные зрачки, казалось, плавали в озерцах радужек.
В конце концов ее выручил Хаким. Он взял меня за плечи, как это делают с буйными истеричками. Хаким был моим братом. А я — Маримой. Я чувствовала иссохшие пальцы Эль-Хаджа на своем лице, они ощупывали мои глаза, щеки, губы. Я не могла дышать. Что-то вздувалось внутри меня, в груди, закупоривало горло. «Это мой дедушка, правда, мой дедушка, как же я теперь без него?» Я бормотала что-то бессвязное, слова душили меня. Хаким думал, что я плачу, но слез не было, была ярость, мне хотелось все переломать в этой домине, хотелось пробить мутное небо, не дававшее Эль-Хаджу видеть, переколотить окна и ставни, стекла в вагонах и автобусах, железнодорожные рельсы и корабль, который так долго, так долго плыл до реки Сенегал и до Ямбы на берегу Фалеме.
Хаким сжимал меня все крепче, а я сползла на пол у кровати и увидела все то, что отняло жизнь у Эль-Хаджа, увидела судно и пузырьки с кортизоном. Все, что упало, а прибрать к похоронам никто не успел.
Хаким потом долго держал меня, прижав к себе, потому, наверно, что его самого некому было утешить. В какой-то момент он поцеловал меня, и я ощутила соленые слезы на его щеках. А потом все кончилось. Я встала и ушла. Не оглянулась на тело старика, которое так и лежало, одетое, на кровати. Я знала, что он не вернется домой, на берег реки. Он останется в Виллабе, ему найдут местечко на кладбище, и не плеск воды он будет слышать, а гул грузовиков на шоссе. Но какое все это имеет значение? В поезде, пустом в этот час, я смотрела в окно на сгущающиеся сумерки сквозь грязное стекло. Пожалуй, думала я больше о Магде, чем об Эль-Хадже. Меня подташнивало. С самого утра я ничего не ела и не пила.
Перед самым Парижем я попалась. Вообще-то обычно я держу ухо востро и ухитряюсь улизнуть, когда входят контролеры. Но в тот день я забылась, сидела как во сне, оцепенев, — так бывает после очень сильной боли. Может быть, они уже засекли меня раньше. Когда я их увидела, было поздно. Они шли прямо ко мне, не обращая внимания на других пассажиров. Цыганята — те самые, которых я видела в первый раз с Жуанико, — задали стрекача, на бегу показывая им язык, но контролеры-то явились по мою душу. Поначалу они обращались со мной вежливо, почти церемонно:
— Мадемуазель, у вас нет проездного документа, будьте любезны, предъявите ваш паспорт.
Когда я сказала им, что, во-первых, у меня его нет, а во-вторых, если б и был, они не имеют никакого права у меня его требовать, вежливости как не бывало.
— В таком случае вам придется пройти с нами.
Странная это была парочка: один — высокий, плотный, с двойным подбородком и маленькими светлыми усиками, другой — низенький, чернявый, весь какой-то дерганый, с тулузским акцентом. Они взяли меня с двух сторон под локти и повели из вагона в вагон, до самого головного. Там они посадили меня, тоже между собой, на жесткую скамью у двери. Я сказала им, что это произвол и насилие, но они — ноль внимания. Поезд подъезжал к Парижу, было уже совсем темно. Два моих конвоира переговаривались через мою голову, как будто меня и не было, делились служебными новостями, пересказывали сплетни. Я могла бы их разжалобить, сказать, что у меня умер дедушка, иначе только бы они меня и видели. Но я не хотела, чтобы они меня жалели, ни за что. И никогда в жизни не воспользовалась бы я именем Эль-Хаджа, чтобы получить поблажку от этих наемников.
На Аустерлицком вокзале они отвели меня в тесный кабинетик за кассами. Там мне пришлось ждать битый час, а они все это время стояли за дверью, курили и никак не могли насплетничаться. Я ведь совсем мелкая рыбешка, думала я, для таких больших людей, в форме, с наручниками и пистолетами за поясом. Но кто их знает, может быть, они считали, что в жизни нет мелочей, все важно. Есть же люди, которым нравится так думать.
Пришел их начальник и сказал, что допросит меня сам. Он наклонился к моему лицу и рявкнул:
— Ваше имя?
— Лайла.
— Вы совершеннолетняя?
— Не знаю. Да. Нет. Кажется.
— Родители ваши где?
— В Африке.
Тут все пошло хуже некуда. Начальник был маленький, невзрачный, по фамилии Кастор, по крайней мере, так было написано на конверте, валявшемся на его столе — вверх ногами, но я прочла.
— У тебя нет документов?
Он перешел на «ты» — дурной знак, стало быть, злился.
Надо было как-то выкручиваться, и мне пришла в голову хорошая мысль.
— Вы можете позвонить моему адвокату.
— В зубы захотела?
Да, так с ними было не договориться. Я пошла на попятный:
— То есть не совсем адвокат, это я так сказала. Я на попечении у этой дамы. Ну, воспитательница, что ли.
Это слово всех больше устроило. Я дала им телефон и фамилию Беатрисы-редактрисы. Решила, пусть побудет воспитательницей немножко. Главное — чтобы они не добрались до улицы Жавело. У Ноно и Хурии и без того проблем хватало. Хорошо еще, что я в Париже поступала как разведчики в фильмах про войну: не носила с собой ничего такого, по чему меня можно было бы опознать.
Беатриса сразу же прикатила на своей английской малолитражке. Она все оплатила — билет, штраф, и даже выслушала нотацию.
Накрапывал дождик. Дворники скрипели по ветровому стеклу, словно с неба сыпался песок.
— Я не могу идти домой, — сказала я Беатрисе.
Она посмотрела на меня и на секунду задумалась, что ответить.
— Если хочешь, можешь переночевать у меня. Раймон не будет против.
Ничего приятнее она мне сказать не могла. Я опустила голову на ее плечо. В этот вечер мне очень хотелось думать, будто у меня кто-то есть — подруга, старшая сестра.
Я надолго осталась у Раймона и Беатрисы. Наверно, я просто очень устала. Я не замечала этого, потому что постоянно куда-то ходила, ездила, было так много всего, дочка Хурии, Ноно, занятия, заботы, и Симона у нас в гараже, и Эль-Хадж, и его смерть. И вдруг оказалось, что у меня совсем нет больше сил, как в тот раз, когда я ушла от мадам и Ноно привез меня на улицу Жавело.
Дней десять я провалялась, или, может быть, месяц, не скажу точно. На улице было холодно, темно, кажется, шел снег. Я лежала пластом на матрасе в углу гостиной, который вообще-то служил кабинетом, но Беатриса убрала оттуда свой лэптоп и подключила его в спальне. Повсюду были книги — в коробках, на полках. Я целыми днями читала, все подряд — романы, исторические труды, даже стихи. Читала Малапарте, Камю, Андре Жида, Вольтера, Данте, Пиранделло, Юлию Кристеву, Ивана Иллиха. Все одно и то же. Те же слова, те же эпитеты. Не потрясало. Не рвало душу. Я скучала по Францу Фанону. Пыталась представить себе, что он сказал бы, как бы отозвался, например, о религии, с какой иронией посмеялся бы над всеми этими небылицами. Стихи — это было вообще не мое. Как будто они сами по себе, а я сама по себе. Хотя мне нравилось собирать коллекцию слов. Я копила слова, чтобы петь, запускать их в комнату, слушать, как они отскакивают от стен и разбиваются на тысячу осколков или, наоборот, мягко шлепаются на пол, точно переспелые плоды. Я держала возле себя раскрытую тетрадь и целый день записывала найденные слова, обрывки фраз:
климат
тени
лирохвост
рассветная песнь жаворонка
преломляю
волны бьются
ход светил.
Ничего это все не значило. В шесть возвращалась Беатриса, когда она открывала дверь, веяло городом, шумом, дымом. Раймон приходил позже. Он приносил вино. Мы ужинали втроем на кухне, ели спагетти с овощами, сыр. Мне было хорошо с ними. Они были надежные, предсказуемые и такие трогательные.
Я все тянула и не заговаривала о Магде. Думала: вот произнесу ее имя и мне ничего не останется, как уйти. Опять на улицу, под открытое небо, где люди будут толкаться, а машины трещать, и опять в туннель на улицу Жавело, словно в коридор, ведущий к центру Земли.
Они говорили о своей работе. Беатриса рассказывала про редакцию, как шеф мечет громы и молнии, как разрываются телефоны, упоминала о каких-то проблемах, в которых я ничегошеньки не понимала, для меня это все было тайной за семью печатями. Раймон говорил односложно. Он был стажером в адвокатской конторе не то в Сарселе, не то в Флери-Мерожисе, где-то далеко, и занимался чужими заботами.
Я пыталась представить себе Магду в этом доме, Магду в детской с розовыми обоями, белую кроватку и музыкальные погремушки, которые вешают в этой стране над младенцами, чтобы научить их терпению. Магду, топочущую ножками по полу, — вот она бежит в кухню, протягивая ручонки к Раймону, с криком: «Дада!» А он ей: «Жюли!» или «Роми!» Как бы то ни было, настоящего ее имени они никогда не узнают. Может быть, когда-нибудь, когда она подрастет и будет звать меня тетей, я открою ей правду: «Сегодня я скажу тебе твое настоящее имя, то, с которым ты родилась». Или, может быть, его ей скажет Жуанико. Она встретит его в переходе метро на «Реомюр-Себастополь», и он окликнет ее: «Магда! Сестренка!»
Они дали ей имя Клер, потому что так звали мать Раймона. И еще — Джоанна, потому что это имя нравилось Беатрисе. Она пела: «Gimme hope Johanna»[9]. Ей было пятнадцать лет, когда шла война во Вьетнаме, — как и многим другим.
Сколько они заплатили — я так и не знаю. Я ждала на улице, на ветру, слушала рев автомобильной реки вокруг островка. В небе кружили вороны, как в день моего рождения, только здесь они не кричали тревожно.
Тогда-то все и случилось со мной. Может быть, оттого, что Хурия ушла к своему месье By. Я осталась одна. Чтобы заработать немножко денег, я подрядилась в обществе глухонемых раздавать в ресторанах брелоки для ключей, а потом собирать со столиков пожертвования доброхотов. Я очень осторожничала и когда разносила брелоки в ресторанах торгового центра, и когда шла послушать музыку в метро на «Реомюр». Не ходила дважды одной дорогой, избегала пустых переходов, подворотен и никому не смотрела в глаза.
Головорезов я распознавала издали. Они ошивались группками, я встречала их то в Иври, то на площади Жанны д'Арк. Едва завидев этих парней, я перебегала улицу прямо между машинами и терялась среди прохожих на другой стороне. Я проворная и наловчилась так, что никто бы за мной не угнался. Порой мне казалось, что я в джунглях или в пустыне, а улицы были реками, большими бурными реками с торчащими там и сям валунами, и я прыгала с валуна на валун, пританцовывая. Многоголосье гудков и рев моторов шли от самой земли, поднимались по моим ногам, наполняли живот. И все-таки того человека я проморгала. Это было на площади, продуваемой ветром, освещенной фонарями; он появился — прохожий как прохожий, в габардиновом пальто и теплой шапке, руки в карманах, лицо какое-то серое, а мне было не до него, я пересчитывала деньги, которые собрала во вьетнамском ресторане, — франков сто — сто пятьдесят, за каких-то десять минут, и делать ничего не надо, знай клади брелоки с краю на столики вместе с карточкой общества глухонемых.
В последний момент я увидела, какие у него глаза, и испугалась, потому что узнала жесткий, пронзительный взгляд Абеля, когда тот вошел в умывальную клетушку. Но было поздно. Он скрутил мне руки, стиснул с такой силой — кто бы мог подумать, — и все это без единого слова. Наверно, он меня выследил, а потом обошел магазины и вернулся, чтобы найти меня именно там, где ему я было надо, — в нише между стеной высотки и закрытыми магазинами.
Я хотела крикнуть, но он ткнул меня кулаком в живот, с такой силой, будто хотел сломать пополам; у меня перехватило дыхание, ноги подкосились, руки повисли, и я осела на землю. Так странно: я прекрасно знала, что со мной делают, только сил совсем не было, как в кошмарном сне. Он расстегнул пуговицы на моих джинсах одной рукой, сильный был и ловкий, другой при этом удерживал меня стоймя, прижав к стене ниши. Помню, что там пахло мочой, мерзкий запах, я вся им пропиталась, меня тошнило, а он вытащил свой член и пытался войти в меня мощными толчками, и его хриплое дыхание скрежещущим эхом отдавалось от стен проулка.
Не знаю, сколько это продолжалось, мне показалось, целую вечность, — рука, давящая на грудь, и эти толчки в живот, и я не могу ни думать, ни дышать. И конца этому не было видно. Потом он все-таки убрал свою штуку. По-моему, у него так и не получилось, то ли у меня оказалось для него слишком узко, то ли кто-то его спугнул. Он метнулся прочь — и нет его, а я осталась там, в углу, окоченевшая, обессилевшая, и кровь из меня капала на бетон. Я спустилась на улицу, дотащилась до подвала и сразу поставила греть воду, чтобы вымыться в ванночке, в которой мы купали дочку Хурии.
Было тихо, точно ватой все окутано. Мне казалось, будто я оглохла и на второе ухо. Я не соображала, где я. Вроде бы меня рвало в туалете в конце коридора. Вроде бы я кричала, открыла железную дверь и кричала в кишку туннеля, орала благим матом, чтобы до самых верхних этажей докричаться, но никто меня не услышал. Моторы вентиляционной системы включались один за другим и гудели как самолеты. Этот гул перекрывал все. Я подумала о Симоне. Мне до смерти хотелось увидеть ее, побыть рядом, пока она повторяет гамму. Но я знала: этого не будет. Наверно, в ту ночь я стала взрослой.
Мне было хорошо вдали от всего и всех, у Беатрисы. Давно я не жила так — в безопасности, не думая о том, что будет завтра, без забот. Хорошо было делать только то, что хочется, спокойно убираться в квартире и присматривать за малышкой, как в ту пору, когда Хурия вернулась из больницы, но с той разницей, что здесь были свет, солнце, и не холодно, и нечего бояться. Окно гостиной выходило во внутренний дворик, где рос плющ, и в густой листве было видимо-невидимо воробьев. Как-то утром я даже нашла одного на подоконнике, он лежал, словно мертвый, перышки все взъерошены. Я назвала его Гарри. Взяла в шкафу коробку из-под туфель и соорудила в ней из ваты мягкое гнездышко, отнесла в детскую и поставила возле колыбельки. Стало совсем уютно и так мило, что казалось, будто на всем белом свете нет никакой дряни — ни головорезов, ни легавых, ни девушек, которых бьют, ни стариков, умирающих от голода в жалких лачугах за закрытыми наглухо ставнями. Потом пришло время готовить бутылочку для Клер, или Джоанны (мне больше нравилось второе имя), и я отлила чуточку теплого молока и размочила в нем хлебный мякиш.
Гарри в обувной коробке сидел нахохлившись, но его перышки уже подсыхали. Я положила перед ним хлебные катышки, он смотрел на меня и не шевелился, только косил блестящим черным глазом, а потом я дала ему попить молока из Магдиной бутылочки (решительно, мне не удавалось забыть малышкино настоящее имя). И когда девочка все допила, воробышек в коробке уже чирикал и встряхивался.
Не знаю, смог ли он съесть хоть один катышек, но ласковое тепло детской привело его в себя: не прошло и минуты, как он вспорхнул, запищал и стал биться об оконное стекло. А по ту сторону, в листве, вся воробьиная компания, хлопая крылышками, звала его к себе. Что поделаешь, я открыла окно, Гарри тотчас выпорхнул, миг — и затерялся в стае воробьев, они кружили, словно листья на ветру, и минуту спустя Гарри улетел вместе со всеми. Давая Джоанне соску, я увидела внизу на улице полицейских. Нет, одеты они были как все — габардиновое пальто, куртка с капюшоном, ботинки на каучуке, — но я их все равно узнала. У меня на таких людей чутье. Они смотрели на окна, будто пытались разглядеть что-то сквозь занавески. А потом вошли в дом, наверно, расспросили консьержку-португалку, которая меня недолюбливала, и бесконечно долго звонили в дверь, разбудили Джоанну, она надрывалась от плача, а у меня трель звонка отдавалась осиным жужжанием в голове.
Я сидела не шелохнувшись, пока они не ушли. А потом заметалась как в лихорадке. Я ни минуты больше не могла оставаться в этом доме, но нельзя же было бросить Джоанну, чтобы она плакала тут одна в колыбельке. Пришлось искать телефон Беатрисы и звонить в газету. Я была до того не в себе, что держала телефонную трубку у глухого уха и не слышала, что мне говорили. Только твердила как попугай: «Пожалуйста, Беатриса, идите домой сейчас же, пожалуйста, идите домой, это срочно, пожалуйста, Беатриса». Когда я уже запирала дверь, телефон зазвонил. Я поднесла трубку к здоровому уху и услышала голос Беатрисы: «Лайла, что случилось?» Я сказала ей, чтобы шла скорее домой, потому что мне нужно уйти. Теперь я была совсем спокойна. Повесила трубку, чтобы не отвечать ни на какие вопросы. А маленькая Джоанна тем временем уснула. И я ушла и направилась к Аустерлицкому вокзалу.
Я вернулась на улицу Жавело. Когда я шла по кишке туннеля к двери гаража, на которой краской была написана цифра 28, у меня щемило сердце. Я чувствовала, что не смогу больше жить здесь, что моя жизнь — в другом месте, не важно где, но я должна уйти, уехать; что-то в этом роде говорил Жуанико. «Знаешь, — говорил он, — со мной бывает, что мне нужно сделать ноги, и все тут. Это сильнее меня. Потом, может, и вернусь, но, если сейчас останусь, или кого-то убью, или себя». Теперь я поняла, что он хотел сказать.
В квартире ничего не изменилось. Было ужасно душно, радиатор отсасывал у «Электрисите де Франс» на всю катушку. Ноно натащил всякой новой техники — телевизоры, видаки, стереосистему. Мотоцикл у него тоже был новый, ярко-красный, с кожаным седлом. Сама не знаю почему, у меня было такое чувство, будто я вхожу в дом, где живет много детей. И от этого мне хотелось смеяться и одновременно плакать.
На кровати лежал конверт с моим именем. Почерк был незнакомый, изящный, не сегодняшний. Без адреса, было написано только: «Мадемуазел Лайле. Париж». Я вскрыла его и не сразу поняла, что там, а это был просто-напросто паспорт, французский паспорт на имя Маримы Мафоба.
Подвал был пуст. Хурии и Паскаль-Малики давно и след простыл. Колыбельки не было. Мне стало грустно, хотя в глубине души я давно поняла, что Хурия ушла насовсем и больше не вернется.
В паспорт, перед той страницей, где фотография, было вложено письмо. Я узнала каракули Хакима. Я всегда с трудом разбирала его конспекты. В письме было все понятно, но я читала его и перечитывала и ничего не понимала.
«Дорогая Лайла!
Дедушка, перед тем как уйти, припрятал этот паспорт для тебя. Он говорил, что ты ему все равно как родная дочь и этот паспорт должен быть у тебя, чтобы ты могла поехать, куда тебе вздумается, как любая француженка, потому что Марима не успела им воспользоваться. Насчет фотографии не беспокойся, ты сама знаешь, для французов все чернокожие на одно лицо.
Мне бы хотелось повидать тебя до отъезда. Я все-таки решил отвезти Эль-Хаджа домой. У меня есть деньги от банковской ссуды, которую я взял на учебу, это будет им лучшее применение, жаль только, что ты не проводишь вместе со мной дедушку в Ямбу. Но теперь у тебя есть паспорт, и ты можешь когда-нибудь приехать туда, а я объясню тебе, как найти его могилу.
Обнимаю тебя.
Хаким».
Когда я наконец поняла, то почувствовала, как слезы переполняют глаза, — такого со мной не случалось с тех пор, как умерла Лалла Асма. Никогда ни от кого не получала я такого подарка — мне подарили имя и законное право на существование. Я плакала оттого, что видела его, как живого, — слепого старика, который медленно водил иссохшими пальцами по моему лицу, по векам, по щекам. Никогда и ни в чем Эль-Хадж не ошибался. Он называл меня Маримой не потому, что тронулся умом. Просто это было все, что он хотел и мог мне дать: имя, паспорт, свободу отправиться на все четыре стороны.
12
Я знала, что весна не за горами, потому что в торговом центре расцвели деревца. Смешные такие деревца, их сажали вьетнамцы, — карликовые сливы, вишни и персики — покрылись белым и розовым пухом. Небо было все такое же серое и холодное, но дни стали длиннее, и от этих пушистых зябких шариков делалось хорошо на душе.
Уже которую неделю не было ни слуху ни духу от Ноно, да и от его друзей тоже. Я больше не ходила в метро на «Реомюр-Себастополь» слушать музыку джумбе. Звонила Симоне, однако на автоответчике раздавался только голос доктора Жуае, солидный такой и надменный, от которого пробирал озноб. Называть себя я не стала. Иногда ночами, одна-одинешенька в подвале, я слышала мерный стук мотора за дверью, и мое сердце отчаянно колотилось не в такт, оттого что мне было страшно. Но это шалило мое воображение.
Однажды в полдень вернулся Ноно. Еще немного — и я б его, пожалуй, не узнала. Голова у него была обрита наголо. И глаза стали странные, тревожные, бегающие, это было что-то новое. Я приготовила ему поесть, блинчики с сыром, его любимые, жареную картошку, хлеб с «нутеллой». Ждала, что он расскажет мне, где был, что делал.
Но он молчал. Ел торопливо, запивая большими глотками кока-колы. Впервые я видела его плохо выбритым, с жесткой щетиной на щеках, на подбородке, над верхней губой.
— Ты сидел в тюрьме?
Он ничего не ответил. Потом дернул головой: да. Покончив с едой, лег на свой матрас, уткнулся лицом в скрещенные руки. И сразу уснул.
Мне захотелось погреться его теплом. Уже сколько дней я была в подвале одна, ни с кем не разговаривала, только музыку ловила на моем стареньком приемнике. Я легла рядом с Ноно, обняла его обеими руками, а он даже не проснулся. Много часов мы пролежали так, не шевелясь, я слушала его сопение и пыталась угадать, где он пропадал все это время, вдыхала запах его затылка, спины. А когда мы проснулись, он взял меня, бережно, как в первый раз. Только сначала встал, чтобы достать из кармана куртки презерватив. Он называл их шляпами. Это он так хотел, я не просила, наверно, сама и не подумала бы. Ни о будущем, ни о ребенке, ни о болезнях.
Потом мы вместе поднялись на крышу нашим тайным путем: на лифте до тридцатого этажа, оттуда через люк на чердак и по пожарной лестнице. Небо нависало над нами синевато-стальным квадратом, словно окно в бесконечность. Вот тогда-то я и поняла, что мне пора уезжать отсюда.
На этой крыше мира ветер свистел в проводах и телемачтах. Странный звук здесь, посреди города, за тысячи миль от моря. Но он был, и был шум машин далеко-далеко внизу, на авеню Иври, на площади Италии и еще дальше, на набережных, на кольцевой автостраде, он накатывал волнами, тихонько, как прилив. Я вдруг почувствовала какую-то пустоту, накатило желание чего-то, нахлынуло во мне до боли. Это было из-за шума моря, так давно я его не слышала, с ума сойти. Я подошла к самому краю крыши, свесилась, подставив лицо ветру, как будто могла там, внизу, увидеть море. Ноно едва успел оттащить меня. Он ничего не понимал: «Ты что? Рехнулась? Жить надоело?» А я подумала: «Значит, вот как бывает, когда прыгают из окна, они, наверно, думают, что там, внизу, море». Я повисла на нем: «Обними меня, Ноно, обними покрепче, мне так плохо». Он усадил меня за коробкой лифтового мотора, где не так дуло. Я вся тряслась от холода, от изнеможения. Ноно снял кожаную куртку с бахромой и набросил мне на плечи. «Возьми, Лайла, — сказал он просто, — я тебе ее дарю, чтобы ты всегда вспоминала меня». У него было гладкое, плоское лицо, голова большая, почти как у карлика. Зато глаза добрые — черные-пречерные и добрые-предобрые. Я подумала, что он все понял и знает, что мне пора. Может быть, он это знал еще до того, как я сама поняла, потому и вернулся.
Я чувствовала: теперь все изменится. Что-то кончилось. Я была на крыше, на тридцать втором этаже, и мои глаза плакали от непомерной синевы неба — как в первый раз, когда Ноно привел меня сюда.
На сколоченном из досок столе, за которым я делала уроки для моего учителя Хакима, лежало письмо на казенном бланке. Домовладельцы обнаружили махинации со счетчиками и неизвестно куда улетучившиеся киловатты. Расследования было не миновать. Виновных разоблачат, выдворят и накажут, как полагается. Я оставила письмо на виду, чтобы Ноно знал. И хлопнула железной дверью с номером 28 так, что, наверно, слышно было на крыше башни.
13
Мы сели на поезд и поехали в Ниццу. Я говорю «мы», но на самом деле билет купила только я одна. Жуанико вошел со мной в вагон, как будто провожал, и прошмыгнул в купе, а там забрался в багажную сетку. Просто так, смеха ради, не очень-то ему это было нужно. Он и без того улизнул бы от контролера, давно в этом наловчился.
В купе было только три человека. Двое внизу и я на верхней полке[10]. Я долго стояла в коридоре, курила сигарету за сигаретой и смотрела, как убегают назад огни. Жуанико тем временем слез со своего насеста. Он ничего мне не сказал. Синяк на его щеке налился чернотой. Когда я узнала, что отчим избил его, то решила, что он уедет со мной.
Я уже не помню, кому это первому пришло в голову. Может быть, и ему. Он так долго твердил: «Дай только срок, и я отсюда свалю». Вот срок и настал.
Он рассказывал мне, что в Ницце у него есть дядя, брат его матери, по имени Рамон Урсу. Ему бы только сесть в поезд, говорил он, но со мной это было проще. Так или иначе, он бы все равно уехал. Может, забрался бы в грузовик на рынке в Ранжи или на заправочной станции.
Мне было странно, что я уезжаю. Я так давно жила в Париже, и казалось, будто прошло много-много лет, я уж и не помнила, когда приехала с Хурией на Аустерлицкий вокзал. Так много всего произошло. Я чувствовала себя совсем старой, нет, даже не то чтобы старой, но другой, отягощенной опытом. Теперь я боялась уже не того, чего прежде. Я могла смотреть людям прямо в глаза и даже дать им отпор. Я могла читать в их глазах, угадывать их мысли и отвечать, не дожидаясь вопросов. Даже огрызнуться могла, как они это умеют.
Но я не стала бы больше делать того, что делала раньше, — воровать в магазинах, или пристраиваться за какими-то людьми и воображать, будто это моя семья, или увязываться за прохожим на улице, говоря себе, что он — любовь моей жизни.
Я поняла теперь, что не так страшны Марсьяль, Абель, Зохра или месье Делаэ — куда страшнее их жертвы, потому что они покорны.
Я поняла, что, если людям приходится выбирать между тобой и собственным счастьем, они выберут не тебя.
Подъезжая к Лиону, я почувствовала, как устала, и ощупью забралась на верхнюю полку. Дама в розовом внизу спала, но на средней приподнялась круглая голова испанки, блеснув в свете проплывавшей станции. Испанка — это я назвала ее так из-за жгуче-черных волос и глаз. Я думала, она что-то мне скажет, но она лишь смотрела пристально, не мигая, без улыбки. Жуанико разлегся на полке и похрапывал. От него крепко пахло потом, грязным бельем. Не очень-то было приятно спать с бродягой. Я отпихивала его к стенке, но вагон трясло, и он все равно сползал ко мне. В конце концов я все же уснула тяжелым сном, в который то и дело врывался свет огней и стук колес.
Разбудил меня от этой полудремы Жуанико. Он успел тихонько слезть и теперь висел, уцепившись за лесенку, как обезьянка, и говорил мне в самое ухо, чтобы не кричать: «Иди посмотри, тата Лайла, иди же посмотри!» Я на ощупь спустилась. В купе было темно и жарко, пахло чужим дыханием. Я вышла в коридор, и прямоугольник окна ослепил меня. Исхлестанное домами и опорами мостов, сияло под солнцем море. Поезд катил, петляя, вдоль побережья, нырял в туннели, вновь вырывался на свет, а море все время было рядом, блестело на солнце такой нестерпимо яркой синевой, что глаза у меня наполнялись слезами.
Жуанико приплясывал на месте. Он впервые видел море. Когда он уезжал из Румынии, поезд вез его с матерью и братьями из Тимишоары прямиком, с одной только остановкой, на границе между Германией и Францией, в палаточные лагеря, приютившие его кочевое племя.
Время от времени он поворачивался ко мне и с широкой улыбкой, сверкая белыми зубами на смуглом лице, говорил: «Видишь? Видишь, а?»
Пассажиры выходили один за другим в разных городах побережья — Аге, Сен-Рафаэле, Каннах, Антибе. Перед Ниццей мы остались в вагоне одни. Поезд ехал вдоль бесконечного галечного пляжа, а параллельно шло шоссе, и машины по нему неслись на той же скорости. И волны катились наискось, разбиваясь о берег, и кружили чайки над сточными канавами. Мне казалось, что я только сейчас проснулась, стряхнула с себя долгий сон, точно после болезни.
Не отходя от нашего окна в коридоре, мы позавтракали тем, что я захватила из Парижа, — апельсинами (марокканскими) и ломтиками черствого хлеба с плиткой шоколада. Есть ветчину мы бы никогда не стали: мне нельзя, а он говорил, что это не человеческая еда. Как-то раз, когда мы об этом спорили, он еще добавил — уж не знаю, откуда это взял, — что вам могут запросто скормить под видом ветчины человечье мясо. И звонко хлопнул себя по заду, показывая, из чего ее делают.
Ницца оказалась такой, как я себе и представляла. Красивый город, весь белый, с куполами и башенками, много голубей и стариков, широкие, обсаженные платанами проспекты, по самые тротуары запруженные машинами. Было много арабов, однако на Африку совсем не похоже. Не похоже даже на Испанию.
В этом городе хорошо было веселиться, хорошо мечтать, а лучше всего в этом городе было гулять, и мы гуляли вдвоем с Жуанико, взявшись за руки, как брат с сестрой.
Люди косились на нас — то ли из-за повадок наших, то ли из-за одежды: на мне была куртка Ноно, та самая, с бахромой, джинсы и ковбойские сапоги, а на Жуанико — вечные болтавшиеся на нем обноски, три футболки разных цветов, надетые одна на другую, самая длинная под низ, самая короткая, зато широкая, в сине-бело-красную полоску — сверху, да еще его курчавые черные волосы и красновато-смуглое, как у индейца, лицо. У нас ничего не было, никаких вещей, только моя пляжная сумка, а в ней — старенький транзистор, кое-какие женские мелочи и мой любимый Франц Фанон.
Солнце пригревало, но не палило, и это было дивно. Мы брели целый день куда глаза глядят, по пляжу вдоль моря, по улицам старого города, даже по холмам среди запущенных садов. Жуанико не знал, где живет его дядя. У него были только имя и адрес, сикось-накось накорябанные на конверте, вот так:
Рамон
Урсу
Палаточный лагерь Крема
В полдень мы доели хлеб с шоколадом на большом пляже, окутанном тучей чаек. Жуанико вел себя как щенок, носился взад-вперед вдоль кромки моря, падал на гальку среди чаек и еще много всего вытворял. Я никогда не видела его таким. Он вдруг в самом деле стал ребенком, он был свободен, а будущее исчезло. И я тоже больше не думала о том, куда мы пойдем, где заночуем и что будем есть сегодня вечером. Я бросила чайкам последнюю горбушку — все равно она совсем зачерствела. Будь такая возможность, я швырнула бы свою синюю пляжную сумку в море со всем ее содержимым. И не транзистора мне стало жаль, и не книги Франца Фанона: что такое радиоприемник, просто коробка с музыкой, а книжку можно купить другую. Но в сумке был конверт с паспортом Маримы и письмом, которое написал мне Хаким, увозя своего деда в Ямбу на реке Фалеме.
Весь май мы провели в Ницце, ничего не делая, — ходили с утра на свалку к разгрузке, после обеда на пляж да шатались по улицам города.
Поначалу в лагере пришлось трудновато. Он был далеко, к северу от города, в долине, за предместьями, за развязками автострады. Как дуар Табрикет, только на холмах, вдали от моря; на этих голых холмах стояла сушь и гулял ветер, и пыль здесь отдавала цементом. Чуть пониже свалки построили городок — домишки из блоков, оштукатуренные розовым, крытые черепицей, в провансальском стиле. Их было штук пятьдесят, и, наверно, в день открытия, в присутствии господина префекта, господина мэра и других официальных лиц все это выглядело очень мило и фотогенично, особенно если в кадр не попадали мусорные кучи. Но прошло несколько лет, и городок стал самым обыкновенным бидонвилем. Розовые стены почернели от копоти мусоросжигателей, проволочную ограду «украсили» пластиковые пакеты и скомканные бумажки, улицы развезло, и грязи было по колено.
Что мне нравилось — кибитки. У каждого цыганского жилища стояло по кибитке, а то и по две; некоторые без колес, на кирпичах. В одной из таких кибиток и поселил нас Рамон Урсу вместе с тремя своими детьми чуть помладше Жуанико — Малко, Георгом и Евой. На ночь мы разворачивали спальные мешки и одеяла и ложились прямо на пол, прижимаясь друг к другу, чтобы не мерзнуть.
Рамон Урсу, высокий, крепко сбитый детина с черными как смоль волосами и бровями, работал поденно на стройке. Он почти не говорил по-французски, но Жуанико сказал мне, что он и по-румынски говорит не лучше. Просто был не из говорливых. Вечером, после работы, он садился на край кровати в единственной комнате, курил и смотрел телевизор.
Он вроде совсем не удивился, когда увидел Жуанико. Может, он ждал нас, а может, его предупредили. Рамон Урсу жил с высокой, белокурой и круглолицей женщиной по имени Елена. Ева была ее дочерью, а Малко и Георг — от другой жены, которая бросила Рамона.
С утра пораньше мы с Жуанико и мальчиками шли к разгрузке. Жуанико называл это «на работу».
Мусоровозы въезжали один за другим в огромное помещение, а мальчишки из городка уже были тут как тут, поджидали по обе стороны и, как только кузов скидывал кучу отбросов, кидались, точно крысы, спеша успеть, пока ковш экскаватора не сгребет ее и не отправит в стальные челюсти дробильной машины.
Мне случалось бывать на свалках в Табрикете, но такого я сроду не видела. В воздухе висела густая, мелкая, колючая пыль, она щипала глаза и горло, пахла затхлостью, опилками, смертью. Грузовики разворачивались в полумраке, слепя фарами и надсадно гудя, свет фонарей не лился, а падал сверху, вертикальными лучами разрезая пыль. Когда включалась машина и челюсти начинали перемалывать деревяшки, сучья и железные пружины, грохот стоял оглушительный.
Жуанико и Малко с Георгом рылись в отбросах и все свои находки приносили мне. Хромоногие стулья, худые кастрюли, дырявые диванные подушки, доски, ощетинившиеся ржавыми гвоздями, — но были там и одежки, башмаки, игрушки, книги. Жуанико все больше носил мне книги. На названия он даже не глядел. Складывал все на парапет, где я сидела, недалеко от челюстей, и убегал встречать новый мусоровоз.
Чего там только не было! Старые номера «Ридерз дайджест» и выпуски «Истории», учебники довоенных лет, детективы серии «Маска», «Зеленая библиотека» и «Розовая библиотека», коллекция «Красное и золотое», «Черная серия». Сидя на парапете, на ветру, я читала разрозненные страницы. Вот, например, про луговую арфу:
«Когда я впервые услышал о луговой арфе? Задолго до памятной осени, когда мы ушли жить на платан; значит, какой-то другою осенью, раньше; и уж само собой — это Долли мне про нее рассказала; кто еще нашел бы такие слова: луговая арфа…»
Я читала все подряд: в этом свалочном аду, казалось, слова обретали иную цену. Они были здесь сильнее, полнозвучнее. Даже заглавия романов, которые, дочитав, выбрасывают в урну: «Богомол», «Открытые врата», «Золотые врата», «Тесные врата», — а то вдруг какая-нибудь фраза бросится в глаза и навсегда врежется в память, вот как эта: «Отчего однажды мы отправляемся в путь?»
Или вот — страничка, выпавшая из старой книги, чудом уцелевшая в куче мусора:
Заснежен дол. Вот он лежит в молчанье. Ни звука: белизна недвижна и пуста, И только псов бездомных завыванье Доносится подчас из-под куста. Ах, пташки бедные, как страшно в эту ночь! В холодном воздухе застыла птичья трель, Покрылись льдом купины старых рощ, И безраздельно властвует метель.Мы с Жуанико заучили это наизусть и долго потом повторяли как пароль. То и дело, на улице или в кибитке, лежа на полу в спальных мешках, он начинал со своим забавным акцентом: «Ах, пташки бедные, как страшно в эту ночь!» Или я: «Ни звука: белизна недвижна и пуста…» Наверно, тогда в первый и последний раз в жизни он читал стихи!
Каждое утро я бежала вместе с детворой на свалку. Это было как игра: ну-ка, что мы сегодня найдем интересного? Мусоровозы ползли вверх и вниз по склону холма, точно жирные навозные жуки. Тонны отбросов вываливались, сгребались, дробились и перемалывались, колючая пыль окутывала долину, поднималась облаком до неба и выше, расползалась бурым пятном в синеве стратосферы. Как могли не ощущать этого во всем остальном городе? Там выбрасывали сор и забывали о нем. Как о своем дерьме. Но пыль, тончайшая, как цветочная пыльца, возвращалась, день за днем она оседала на их волосах, на их руках, на их клумбах с розами. Чего только мы не находили в отбросах! Как-то раз Малко пришел, чуть не лопаясь от гордости. Он принес игрушку, кожаного верблюда с погонщиком на горбу — это был настоящий воин, в красной форме и белом тюрбане, с сабелькой на поясе.
Однажды случилась драка с испанцами, взрослыми парнями лет по двадцать, они носили цветастые рубахи, волосы повязывали яркими платками. Испанцы сами к нам прицепились, дразнили Малко и Георга, потому что те говорили по-румынски. Они хозяйским глазом обозрели наши находки — в тот день мы разжились велосипедным колесом, кастрюлями, карнизом для занавесок, ржавой проволокой, кусками жести, пишущей машинкой, совсем целым черным зонтиком и сапогами. В моих книгах они тоже порылись — там были шпионские романы, сборник итальянских стихов Леопарди и Д'Аннунцио. Один из них листал книжку за книжкой и с презрением отбрасывал, а потом вдруг цепко ухватил меня одной рукой за затылок и хотел поцеловать. Я его оттолкнула, и тут Жуанико бросился, повис на нем, зажав шею в замок. Они как с цепи сорвались оба, катались по мусору, боролись яростно, но молча, только кряхтели, тузя друг друга кулаками и ногами. Даже грузовики заглушили моторы, и люди столпились вокруг поглазеть на потасовку. Малко и Георг дрались вдвоем с одним испанцем, Жуанико с другим один на один. А я голосила как безумная, моя грива встала дыбом на ветру, куртку с бахромой запорошило пылью и пару сапожек, которую я отложила для себя на парапет, тоже.
А потом один работник свалки, старый расист, который всегда говорил гадости про негров, арабов и цыган, взял шланг, из которого мыли территорию свалки, и окатил нас холодной водой, да с такой силой, что Жуанико опрокинулся на спину, как таракан под метлой, а все мои книги разлетелись клочьями.
Вот это-то меня и доконало, эта жесткая, как хлыст, струя ледяной воды, разом уничтожившая все мои книги. Как же я ненавидела проклятого старика! «Сволочь! — закричала я. — Свинья! Дерьмо!» И продолжала по-арабски, пока не выдала весь свой репертуар. Больше я на свалку не ходила.
Я встретила Сару. В первый раз я увидела ее случайно, в баре отеля «Конкорд» на набережной. Я любила этот отель — особенно мне нравилась большая бронзовая женщина, которая пыталась вырваться из щели между двух бетонных глыб. Я зашла в холл, чтобы спросить, кто сделал эту статую, и портье назвал мне фамилию скульптора — Сосновски — и написал ее для меня на бумажке. Дело было к вечеру, я не взяла с собой Жуанико, ему нечего было здесь делать в его вечно замызганных футболках, надетых одна на другую, с всклокоченными волосами — не говоря уж о запахе. И вот откуда-то из глубины холла до меня донеслась музыка. Странно, ведь вообще-то из-за левого уха я не слышу музыку так далеко. Но этот звук я услышала ясно — тяжелый, низкий, вибрирующий, он пробегал дрожью по коже, отзывался в животе.
Я пошла через холл прямо на этот звук. Сердце отчаянно забилось: мне вдруг подумалось, что я снова вижу Симону, что это она стоит там, в углу бара, и поет «Black is the color of my true love's hair».
Чтобы лучше слышать, я села поближе, на ступеньки маленькой сцены, и певица, заметив меня, улыбнулась, как старой знакомой, — я потом поняла, что благодаря ее улыбке меня не выставил за дверь бармен, который наверняка смотрел косо на чернокожую девчонку с копной курчавых волос, одетую в джинсы и куртку с бахромой.
Я прослушала все песни, сидела до самой ночи. Люди в баре болтали, потягивая виски, складывались и распадались парочки. Некоторые даже танцевали. А я упивалась словами и музыкой и все смотрела на высокую фигуру молодой женщины в узком, облегающем черном платье, на ее лицо и коротко остриженные волосы.
Потом она заговорила со мной. Я мало что разобрала, пыталась понять по губам. Она выпила в баре стакан «перье» и сказала мне, что ее зовут Сара, и еще — что она из Чикаго. Она называла меня «Sister Swallow»[11], не знаю почему. И сказала, совсем как та, другая: «I love your hair»[12]. Она написала мне на конверте свое имя и адрес, потому что должна была скоро уехать. И я написала свое имя, а какой адрес написать — не знала. На всякий случай дала ей адрес Беатрисы.
Пианист снова заиграл. Сара вернулась на сцену. Я не уходила до конца, до поздней ночи. За ней пришел высокий брюнет. На нем были костюм-тройка и зеленое пальто с белым шарфом — как в кино. Он увел Сару, она шла к выходу скользящей походкой, покачивая бедрами, и, когда проходила мимо меня, опять сверкнула ослепительно белой на черном лице улыбкой. Звезда, богиня, фея — вот какой она была.
С тех пор я приходила каждый вечер, между пятью и девятью часами, и садилась в своем уголке на краешек сцены. Сделай мне кто-нибудь из официантов замечание, у меня был готов ответ: «Это моя сестра». Но она, наверно, предупредила, и никто меня не трогал.
Сара пела для меня весь месяц. Налетали грозы с ливнями, это было чудесно. И море — бурное, зеленое, дивное. Жуанико каждый день ходил со мной на пляж или на большую дамбу из сваленных бетонных глыб. Но девушке было небезопасно в этих местах. Однажды, когда я ждала Жуанико, ко мне подошел какой-то мужчина и показал свой обрезанный член. У него был странный блуждающий взгляд, и мне даже не захотелось говорить ему, как тому старику на кладбище, сир халатик, проваливай. Да еще рыбаки в лодке будто бы вытягивали сети, а сами делали непристойные жесты и кричали мне какую-то похабщину, только я не разбирала слов. Жуанико, увидев это, просто взбесился: «Сукины вы дети, я вам кишки выпущу!» Прыгая с глыбы на глыбу, он размахивал руками и притворялся, будто бросает в них камни.
Вот что убивало меня — и чаще, чем хотелось бы. Нигде, ну нигде на свете не найти спокойного местечка. Порой отыщешь укромный уголок, лощинку, пещеру, забытый скверик — так нет же, везде наткнешься если не на похабщину, то на вонючую кучу или на чьи-то любопытные глаза.
А каждый вечер я шла, как на свидание, послушать Сарину музыку, которая была точно ласковое прикосновение.
И каждый вечер, в перерыве, мы говорили с ней. То есть говорили — это сильно сказано: она не знала французского, а я плохо слышала ее слова. Она улыбалась. И всегда начинала так: «Sister Swallow, I love your hair». Как пароль.
Я сидела до конца, и всегда за ней приходил ее друг, и она шла мимо меня молча, как будто мы не знакомы, только в глазах плясали веселые искорки да легкая улыбка озаряла лицо. Она шла своей плавной походкой к дверям отеля, уходила в ночь. На весь тот месяц я влюбилась в Сару.
К тому времени я нажила неприятности на свою голову в городке Крема — из-за двух парней, братьев Дани и Юго; Дани был черноволосый, кудрявый, а Юго-рыжий верзила. Индейцы. Так я прозвала их за цветастые рубахи и яркие платки, которыми они повязывали волосы, а еще из-за их машины, «крайслера», на котором они выделывали настоящие родео. Мы с Жуанико и Малко катались на их машине. Они кружили по улицам, визжали шины на поворотах, а братья испускали победный клич. С ума сойти. Проносились на бешеной скорости улицы, холодный ветер врывался в открытые окна, наверно, это опьяняло их, а до этого они еще и курили, весь вечер курили траву, глаза у них были красные.
Мне не было страшно. У меня никогда не получалось бояться таких людей, как Дани и Юго, наверно, потому, что я вижу в них детей, сопливых мальчишек, которыми они были когда-то, — задиристых, смешных, слабых.
Дани только что стукнуло двадцать лет, его брату было восемнадцать, как и мне. Незадолго до темноты они припарковали «крайслер» на стоянке большого магазина инструментов — то ли «Сделай сам», то ли «Зеленый дом», не помню. Мы вышли из машины, и братья учинили погром в магазине; они носились по отделам — ни дать ни взять дикари, с развевающимися волосами, в распахнутых, невзирая на холод, цветастых рубахах. А люди, закутанные в пуховики и куртки, стояли, остолбенев, только провожали их глазами — как будто два волка забежали из леса. А они еще и переговаривались во весь голос, окликали друг друга из разных концов магазина, гоготали, сверкая белыми зубами на смуглых лицах. Потом мы поехали дальше, опять куда глаза глядят, вдоль реки, к подножию гор, мчались через уснувшие городки, окутанные туманом, который не рассеивали желтые пятна фонарей.
С ума можно сойти, что мы вытворяли. Пошли на кладбище и стали прислушиваться подле могил — хотели услышать дыхание мертвецов. Дани был, по-моему, немного с прибабахом. Дядя Жуанико нас предупреждал: «Не ходите с ними, неприятностей не оберетесь». А мне нравился Юго, и я садилась всегда впереди, между братьями. Когда мы останавливались передохнуть и попить, я заигрывала с Юго, пока Малко и Жуанико курили, сидя на капоте машины. Но однажды Дани вдруг вздумалось меня поцеловать, я его оттолкнула, и в него словно бес вселился. На лбу забилась жилка, глаза засверкали. Он выхватил из бардачка пузырек с бензином для зажигалок, обрызгал меня и кинул спичку. Точно горячее дыхание обдало меня, едва не сбив с ног, я вывалилась из машины, языки пламени бегали по груди, по рукам. Погасил огонь Юго: набросил на меня свою куртку, повалил на землю, пинал и бил кулаком. Я, ошеломленная, ничего не понимала. Тем временем Дани с Юго сцепились, понося друг друга последними словами, так, что клочья полетели. Жуанико с Малко смотрели, не вмешиваясь. По-моему, до них просто не дошло. А я, как только очухалась, рванула прочь через шоссе, даже не оглянувшись. Я почти сразу поймала машину, и водитель отвез меня в больницу. Он был очень славный, хотел остаться, подождать, но я сказала: спасибо, ничего страшного, подумаешь, чуть-чуть обожглась. Дежурный врач наложил мне повязки, у меня обгорела грудь, шея, руки.
Врач спросил: «Кто это тебя так?» Я-то знала: что ни белый халат, то полицейский стукач. Мне было больно, ноги не держали, но я сказала: все хорошо. Сказала: «Ничего страшного, я сама обожглась, хотела развести костер». Он вроде бы поверил, и я только попросила вызвать такси, чтобы добраться до Крема.
После этого мне пришлось уйти. Рамон Урсу ничего не сказал, а Елена зашла в кибитку, собрала мои вещички и запихала их в сумку. Она дала мне новенький шерстяной свитер, красный с черным. Но смотрела зло, будто ненавидела меня за что-то. Малко и Жуанико играли в мяч на пыльной улице. «А Жуанико?» — спросила я Елену. Она жестом дала понять, что он останется здесь, с ними. Наверно, она была права, это ведь из-за меня все пошло наперекосяк. Я принесла им несчастье. У дверей стояли несколько цыган вокруг железной арматуры и о чем-то спорили — они походили на охотников, только что разделавших добычу. Было раннее утро, воскресенье, дробильный цех не работал. Я повесила сумку на левое плечо: на правом сильнее болели ожоги. Небо было голубое, в вышине носились ласточки, и я отчетливо слышала, как они кричат. Я доехала автобусом до вокзала, и у меня как раз хватило денег, чтобы купить билет на ближайший поезд до Парижа.
14
Еще до лета в этом году случилось много перемен. Во-первых, я сдавала вольным слушателем экзамены на бакалавра по классу филологии и, как и следовало ожидать, провалилась. По математике и по истории я просто отдала чистые листки. На французском устном экзаменаторша никак не хотела верить, что я не заканчивала школу. Она изучала мой паспорт, листала личное дело и все твердила: «Прекратите мне лгать. Где вы учились?» И еще: «Где ваши оценки?» Потом, как будто устыдившись, что так вспылила, спросила миролюбиво: «Чьи тексты вы хотите проанализировать?» — «Эме Сезэра»[13], — без колебаний ответила я. Это не входило в программу, и она удивилась, но сказала: «Что ж, я вас слушаю». Ну я и прочла наизусть отрывок из «Тетрадей возвращения на родину» — тот, что цитирует Франц Фанон:
В роковой приемной три стены там ждут мужчины с хрупкими хребтами когда улыбнется белозубый Хозяин а я танцую для себя свой танец черномазого…И дальше, до слов:
Прими, прими меня, строгое братство а потом задуши своим звездным лассо лети, голубь выше выше выше Я следом, я белый глаз моих предков лечу вкусить неба к большой черной дыре, куда хочу упасть это луна навыворот в ней я хочу выудить ведьмину речь неподвижной тьмы!По философии тема в этом году была «Человек и свобода» или что-то в этом роде, и я лихорадочно настрочила длиннющее сочинение страниц на двадцать, без конца цитируя Франца Фанона и Ленина, например пассаж, где он говорил о том, что, когда не останется больше на земле никакой возможности эксплуатации человека человеком, не останется ни помещиков, ни фабрикантов и народ не будет делиться на сытых и голодных, — только тогда государственную машину можно будет пустить на слом.
Вот так я и провалила экзамен. Писала без передышки, меня как прорвало, перечитать написанное не успела, бросила кипу листков на стол комиссии и ушла, не оглянувшись. Я даже не искала свое имя в списках: знала заранее, что его там не окажется.
В Париже все было как прежде, но тем не менее что-то изменилось. Все так же уютно у Беатрисы, яркий свет лился в большое окно гостиной, Джоанна подросла, и волосики у нее стали подлиннее. А глаза были прежние, похожие на агаты, и тот же пристальный, тревожный взгляд.
Я провела с ней полдня, пока Раймон обретался в своей адвокатской конторе, а Беатриса в редакции. В зарослях плюща порхали птицы, видимо-невидимо птиц, и я держала Джоанну на руках у открытого окна, чтобы она послушала их щебет.
Я решила: уеду. Благодаря преподавателю из культурного центра и одному начальнику из ЮСИС, который положил на меня глаз, мне удалось получить визу в порядке обмена и официальное приглашение к Саре Либкап, в Бостон. Я даже записалась в лотерею, где можно было выиграть вид на жительство в США: в этом году была хорошая квота на африканцев. Не хватало только денег. Продавать золотые полумесяцы моих предков я не хотела и заняла двадцать пять тысяч у Беатрисы. Немножко было стыдно, но для меня стоял вопрос жизни и смерти — ну, почти что. Мне казалось, будто Беатриса и Раймон дали мне эти деньги, чтобы я навсегда исчезла из их жизни и ничто больше не связывало бы Джоанну с ее настоящей матерью.
Мне даже проститься ни с кем не пришлось. Подвал на улице Жавело был заперт. Вернувшись с острова Моореа, Ив, друг Ноно, поговорил с представителем домовладельцев и поменял замок. Как-то под вечер я проехала мимо в такси, и мне стало не по себе при виде железной двери, выкрашенной в веселенький зеленый цвет, и написанного черной краской номера 28 на стене — с виду обычный гараж, или трансформаторная будка, или еще что-нибудь вроде того, будто никто здесь и не жил вовсе, и не было той ночи, когда появилась на свет Паскаль-Малика. Странно это было, как-то неправильно. Мы выехали из туннеля, и я сказала таксисту: «Вернитесь назад». Он уставился на меня в зеркальце заднего вида. «Вернитесь, — повторила я, — пожалуйста, мне хочется еще раз там проехать». На этот раз мы ехали медленно, таксист зажег подфарники. Я смотрела на то место, где простоял почти всю ночь «мерседес» Марсьяля Жуае, поджидая Симону. На асфальте темнели масляные пятна — как пятна крови. Может, ее уже не было в живых. Он же кричал, что убьет ее, если она вздумает от него уйти, непременно убьет. Но она была его пленницей, которой не вырваться, никогда. Поэтому она нюхала порошок, поэтому глотала таблетки. Каждый уходит по-своему.
Таксист высадил меня на бульваре Барбес, перед спортивным залом, куда ходил тренироваться Ноно. Я поднялась по лестнице между магазинчиком подержанной одежды и киоском с дисками на второй этаж. Зал был закрыт, но из-за двери слышались голоса. Я стала стучать и стучала долго, пока не открыли. Вышел здоровенный парень в тренировочном костюме, араб, я его не знала. «Где Ноно?» — спросила я.
Он молчал, я повторила. «Ты знаешь Ноно?» — крикнул он куда-то в зал. Парень загородил дверь, и мне ничего не было видно. Вышел мужчина лет сорока. Высокий, с матовой кожей, крупным носом и вьющимися, подернутыми сединой волосами, он чем-то походил на месье Делаэ. Не знаю почему, но я сразу догадалась, что это и есть Ив Ле Ген, друг Ноно. Он довольно долго молчал и смотрел на меня. Наверняка тоже догадался, кто я. Но не выказал ни симпатии, ни неприязни — ничего, а ведь я делила с ним Ноно. Он махнул рукой, показывая: кончено, все кончено. Я не услышала его слов, прочла по губам: он говорил почти шепотом. «Нет его. Ноно больше сюда не ходит. Он проиграл матч, его песенка спета, здесь он больше не тренируется и с боксом может проститься». — «Где он? — почти выкрикнула я. — Вы знаете, где его найти?» Он пожал плечами: «Понятия не имею. Может, вернулся в Африку. Может, выслали его. Он конченый человек».
Я не могла ему поверить. Зачем-то привстала на цыпочки, заглянула через их плечи, будто они что-то прятали от меня. Увидела грязный зальчик, самодельный ринг и парней, которые били по мешкам с песком, словно танцуя вокруг них. В зале тренировались негры, худющие и молодые, как Ноно. Потом седоватый повернулся ко мне спиной, а араб подтолкнул ладонью, чтобы закрыть дверь. Остро пахло потом и плесенью, как от Ноно, когда он приходил с тренировок. Я вдруг почувствовала себя очень одинокой. Словно только сейчас поняла наконец, что в самом деле уезжаю — потому что все уже ушли, все они ушли до меня.
Побывала я и на площади Италии, хотела повидать Хурию. Месье By меня терпеть не мог, но мне было наплевать. Я твердо решила, что увижу Хурию, и Паскаль-Малику тоже, хоть на минутку. Подходя, я еще толком не знала, что собираюсь делать. Был вечер, и ресторан «Ву Тай То» уже открылся, дверь нараспашку, но маленький зал пуст. Из-за двери кухни высунул голову месье By и спросил противным голосом: «Чего вам здесь надо?» Я хотела пройти, но не тут-то было: он загородил мне дорогу. Он был маленький и щуплый, однако на диво сильный. «Убирайтесь! — кричал он. — Убирайтесь!» Я надеялась, что Хурия выйдет на его крик, но она так и не показалась. Кто его знает, может, он ее запирал. Или она сама больше не хотела со мной знаться. Наверно, я и вправду приносила несчастье.
В тот вечер я долго кружила в метро, была и на «Реомюр», и у Лионского вокзала, и даже на «Данфер-Рошро». Странно выглядели люди в вагонах и на перронах. Были тут демобилизованные солдаты, которые распевали песни и пили вино, были клошары, женщины с прозрачными глазами, ошалевшие туристы — необыкновенно обыкновенные люди, с сумками в руках, в косынках и шляпах. На станции «Ар-э-Метье» я отыскала моего эритрейского солдата, похожего в широком плаще, с обмотанными тряпками ногами на воина племени исса. Отыскала моего Иисуса, который молит о чем-то на коленях, раскинув крестом руки, и зеленоглазую Марию Магдалину с разметавшимися волосами и кровавым, будто после укуса, ртом. Странно, наверно, в первый раз барабаны молчали, и гулкая тишина стояла в переходах под Аустерлицким вокзалом, как после грозы, как после колокольного звона. Мне это показалось предзнаменованием.
В последний день, накануне отлета в Бостон, я бродила по улице Жан-Бутон и вокруг — сама не знаю, что я хотела там найти, кроме сбившихся с пути девушек, грошовых наркодельцов и меблированных комнат мадемуазель Майер. Была какая-то смутная надежда, что вот сейчас выйдет из дома Мари-Элен, и кинется ко мне, и обнимет крепко-крепко, а в кухне у нее полуголый Ноно будет сидеть и играть на своем джумбе. Шел дождь, капли дробились в черных лужах, ничего не изменилось, но все это было далеко-далеко, в другой жизни. Медленно проехала полицейская машина, и я поспешила уйти, отвернув лицо, чтобы не увидели, до чего я черная. У меня был паспорт Маримы и письмо из иммиграционной службы посольства США, в котором сообщалось, что на мое имя выпал жребий, — и все равно сердце колотилось, будто меня опять могли выслать, выставить вон. И тогда я подумала, что на всем белом свете нет для меня местечка, куда ни уезжай, везде кто-нибудь да скажет мне, что я не у себя дома, и придется снова отправляться в путь.
15
Лето в Бостоне стояло невыносимо душное. Дымка висела над городом, и в ней таяли очертания небоскребов. Сара Либкап жила в двухкомнатной квартирке в доме из красного кирпича у реки Чарльз, неподалеку от университетской библиотеки. С утра она преподавала музыку в одном религиозном колледже, а по вечерам выступала в джаз-клубе со своим другом Юпом, пианистом.
Первое время все было прекрасно — никогда еще я не чувствовала себя такой свободной. Это напомнило мне времена постоялого двора и принцесс, но с той лишь разницей, что здесь никто меня не разыскивал. Я садилась в трамвай и ехала куда вздумается, гуляла дни напролет, заносило меня то в Бэк-Бэй, то в Хаймаркет, в Арлингтон, в порт. В Кембридж я ходила пешком, вдоль реки, а потом через мост. Пока Сара была на уроках, я понемногу хозяйничала: мыла и убирала посуду, готовила что-нибудь на обед и на ужин. Сара меня ни о чем не просила, но я ведь жила у нее, и для меня это было естественно, как раньше у Беатрисы. Вот только денег Сара мне не давала, ни она, ни Юп. Они никогда не спрашивали, сколько я потратила на еду, а я стеснялась сказать. Но сбережения мои таяли, а без зеленой карты я не имела права работать. Каждый день я заглядывала в почтовый ящик, надеясь увидеть наконец письмо со штемпелем иммиграционной службы. И с каждым днем мне становилось все тревожнее, я чувствовала, как петля потихоньку затягивается, а сделать ничего не могла.
Сара и Юп жили одним днем. Никогда и гроша впрок не откладывали. За квартиру платила Сара своей учительской зарплатой, а на все остальное — вечеринки с друзьями, рестораны, шмотки — уходили деньги за выступления. Думаю, они еще и ширялись оба. Иногда они приглашали меня. Водили в клуб «С. Т. Уэйо» в Бэк-Бэй — Юп говорил «Блэк-Бэй», потому что только там можно было послушать настоящий негритянский джаз.
Сара любила показывать меня своим друзьям. На выход она одевала меня «под себя»: черные колготки, черная рубашка, берет — и заплетала мне волосы в косички, как когда-то принцессы на постоялом дворе. Она гордилась мной, все твердила, что я ни на кого не похожа, что я настоящая африканка. Так и представляла меня: это Марима, она из Африки. Люди говорили «а?» или «о!» и задавали дурацкие вопросы типа: «И на каком же языке там разговаривают?» А я отвечала: «Там? Да там вообще не разговаривают». Поначалу я подыгрывала Саре, но со временем все это меня просто достало — и эти вопросы, и взгляды, и их полная темнота. Музыка в баре играла чересчур громко, так и долбала, и ее тяжелый ритм отдавался у меня в животе — как я ни зажимала рукой здоровое ухо, басы проникали в тело до нутра, причиняя боль. Я пила пиво, «Маргариту» и «Кубу либре», пропитываясь светом и дымом. Я была пьяна, как Хурия, когда она возвращалась с ночных гулянок.
Мне это нравилось, а может, и нет. Это было внове, я чувствовала себя так, будто мое тело подменили. Я стала тоненькой, почти тощей, глаза лихорадочно блестели, я ощущала электричество в пальцах, и даже кончики волос, казалось, потрескивали от электрических разрядов. Я чувствовала, как алкоголь пропитывает мои суставы и они становятся гибче. Я порхала от группы к группе, а Юп держал меня за талию. Он что-то говорил, громко, быстро, я ничего не понимала. А Сара смеялась странным таким смехом, он начинался на низких нотах и становился все пронзительнее, рассыпаясь, точно брызги водопада.
Саре Либкап нравилось рассказывать про меня, про то, как мы познакомились в отеле не то «Эксцельсиор», не то «Конкорд», забыла, где нагая женщина в щели между двух стен, точно после землетрясения. И как я сидела каждый вечер на краешке эстрады, серьезная такая девчушка, и слушала, как она поет песни Махалии Джексон и Нины Саймон. Она была моей старшей сестрой, я нашлась, я, не имевшая ни одной родной души на свете, я, умевшая играть на дарбуке и петь — она и-зу-ми-тель-на! — и Сара выписала меня к себе в Бостон, сюда, в это болото, в этот город, где заправляют английские мудаки и где никому, тем более человеку талантливому, что ни делай, никогда не выбраться из трясины, в которой надо как-то жить.
Вот так оно и шло первое время. Но потом случилась та буря на исходе лета, ураган, который все перевернул. Жара, тяжелая жара стояла с начала августа. Висел туман, иногда такой густой, что вовсе не было видно верхушек башен в районе порта. Когда ураган надвигался от мыса Код, объявили штормовое предупреждение. Люди заперли наглухо двери и окна, а на большой высоте заклеили стекла бумажными полосками. Но Сара все равно ходила в колледж давать уроки музыки.
А Юп взял в привычку по утрам оставаться дома. Говорил, будто хочет помочь мне с хозяйством и обедом, но на самом деле валялся на диване в гостиной, потягивая пиво, и поглядывал на меня искоса поверх экрана телевизора.
Так вот, в то утро случилась одна смешная сцена, о которой я потом горько пожалела. Юп встал и пошел на меня, вроде бы в кухню попить. Стояла жара, он был почти голый, в одних узеньких плавках, черная кожа блестела от пота. Я шваркала шваброй по плиточному полу, и он, нет бы перешагнуть через швабру, зашел сзади и облапил меня. Я подумала сначала: дурачится, пока он просто обнимал меня за талию и пытался поцеловать. Но когда он запустил руку мне под футболку и стал щупать грудь, я завопила что было сил. Он убрал руку. Я думала, все, успокоился, но тут он опять схватил меня и поволок в спальню, к кровати. Юп не был здоровяком, но, видно, от выпитого в нем взыграла сила, он держал меня крепко и почти нес к дверям спальни. Я орала и била его кулаками куда попало. И тогда он ударил меня — сначала в висок, потом наотмашь по щеке, по шее. При этом он кричал: «Bitch!»[14] и еще: «Don't be bitchy!»[15] Когда он понял, что ничего не добьется, или, может быть, испугался, что позвонят в дверь соседи узнать, что здесь за шум, он отпустил меня. Взял мою руку и положил на свой затвердевший член. Он хотел, чтобы я его помастурбировала, говорил, что ему худо, он болен. Да, кажется именно это он мне втолковывал: что, если я ему не помогу, он заболеет. Я обругала его: «Asshole!»[16] — послала куда подальше и убежала.
Весь день я бродила по улицам Бостона. А ураган так до нас и не дошел. Натолкнувшись на мыс Код, он изменил направление и посрывал крыши с богатых дач в «Виноградниках Марты».
После обеда полил дождь, а я ушла за реку и гуляла по английским улочкам Кембриджа. Было много людей, никому не сиделось дома, мне навстречу шли студенты, на газонах сидели парочки под летними зонтами. От теплого дождя запахло травой, землей.
Я чувствовала себя пустой и усталой. В каком-то кафе возле трамвайной станции я встретила Жана Вилана. Он сказал, что приехал слушать лекции в Гарварде, а вообще-то преподает французский в чикагском «Альянсе»[17]. Он был невысокий, лысоватый со лба, зато глаза красивые, зеленые, чуть затуманенные, и хорошая улыбка. Весь остаток дня мы проговорили. Бродили по улицам, заходили то в одно кафе, то в другое. Голос у него был низкий — я хорошо его слышала, — и большие красивые руки. Наверно, никогда в жизни я столько не говорила, мне казалось, что у меня уже много лет не было случая поговорить ни с кем вот так, как с дедом Хакима. Мы укрывались от дождя под деревьями в парке, совсем намокнув, заходили в кафе. А когда стемнело, оказались в его комнате в гостинице «The Inn», на последнем этаже, с окном на Массачусетс-авеню.
Теперь мы не могли по-настоящему разговаривать, из-за моего глухого уха — здоровое просто устало. В голове у меня звенело, я чувствовала там пустоту, мне не хотелось думать о том, что произошло у Сары. Я несла какую-то ерунду, а Жан толковал о своем. Он рассказывал о счастливом детстве, о братьях и сестрах, Бретани, Париже. Время от времени мы смеялись, словно над удачной шуткой.
Уходить было слишком поздно. Да и ни за что на свете я не вернулась бы сейчас к Саре. Мы ели соленое печенье из холодильника, пили из маленьких бутылочек джин и водку.
Настало утро, я так и не поспала. Жан прилег на диван, он выглядел бледным и усталым, отросшая щетина казалась тенью на его лице. Я думала о том, что, когда мы выйдем, в гостинице меня примут за его любовницу, а то и просто за шлюшку на одну ночь.
Мы пошли завтракать в гостиничное кафе во внутреннем дворике. Выпили много чаю, ели яйца, фасоль. Жан улетал в Чикаго в полдень.
А я вернулась к Саре.
Но с этого дня все было из рук вон плохо. Не знаю, что Юп наговорил Саре, но она стала со мной ведьма ведьмой. Я хотела сказать ей правду, но какой толк? Она бы мне все равно не поверила. Женщина всегда будет держать сторону своего мужчины, даже если она обманывается, даже если ее обманывают.
И тогда я купила билет на автобус, уложила в пляжную сумку все тот же обшарпанный приемник и книгу Франца Фанона, на память о Хакиме — вот и все мои пожитки, — и уехала в Чикаго.
Я больше ничего не боялась. Мне было по плечу потягаться с целым светом. Не прошло и двух дней с моего приезда, как я нашла работу в отеле на Кэнал-стрит, у мистера Эстебана — для всех он был Эль Сеньор, беженец с Кубы. Он нанял меня убирать и мыть стаканы в баре в «счастливый час» — это когда валом валили пассажиры с очередного автобуса. В этом баре чернокожая певица, на Сару совсем не похожая, коверкала блюзы под аккомпанемент усталого пианиста. Я сняла комнату в Саут-Робинсон — просто увидела в одном доме объявление в окне первого этажа, как в кино. Дом был старый, кособокий, из серого дерева, с крылечком и зеленой шиферной крышей, над которой торчали две кирпичные трубы.
Через какое-то время пианист приболел, и за пианино села я. Вот когда мне пригодились уроки Симоны и Сары. Я играла по памяти, без нот, они мне были не нужны. Все стало просто: я зарабатывала пятьдесят долларов за вечер, четыре вечера — и расплатилась за жилье. Меня кормили в отеле, перед тем как выйти на эстраду, я ела стейки, тигровых креветок и до завтрашнего ужина могла продержаться на молоке и поп-корне. Хозяину нравилась моя музыка. Он приходил в зал, когда я играла, садился со стаканом газировки и слушал. А потом уволилась певица, и он предложил ее место мне — теперь я и пела, и играла. Я исполняла Сарин репертуар — Билли Холидэя [так в бумажном оригинале — Прим. верстальщика], Нину Саймон. А иной раз импровизировала, вспоминая нашу музыку, ту, что звучала в переходах на «Реомюр-Себастополь», на крыше башни на улице Жавело. Так просто — фортепьянный ритм, раскаты далекой грозы, громыханье машин на проспектах и отрывистые, лающие выкрики рубщиков сахарного тростника на плантациях Санто-Доминго: «Aya! Уах!»
Эль Сеньор говорил мало, но по тому, как он чуть откидывался на стуле и щурил глаза, затягиваясь сигаретой, я видела, что ему нравится. Люди в баре пили, я не обращала на них внимания, только для него, пожалуй, и пела. Я пыталась представить себе его жизнь, думала о том, какие пути привели его сюда. Наверно, он раньше был полковником кубинской армии или мировым судьей — до прихода Кастро. Мне казалось, что он вполне похож на мирового судью. Я видела его только вечерами в баре, за стаканом газировки — и никогда больше. Он жил один во флигеле за отелем, в конце аллеи. Сам ничем не занимался, даже расчетами со служащими. Деньги после каждого выступления платил мне Самбо, его правая рука.
Я разыскала Жана Вилана. Оказалось, он жил не один — с женщиной по имени Анджелина, в шикарной квартире в Пайн-Гроув, недалеко от озера. Я встречалась с ним время от времени, чтобы забыть обо всем остальном. Мы шли в какую-нибудь гостиницу в центре, забирались повыше в небоскреб. С ним было так покойно, так безмятежно, точно в каюте первого класса. Большое, во всю стену окно выходило на восток, я смотрела в синий сумрак, на озеро, на огоньки машин, змеившиеся по шоссе далеко-далеко внизу, и будто парила на высоте тридцать тысяч футов. Мы еще разговаривали иногда, но не так, как в гостиничном номере в Гарварде. Любили друг друга, ели, потом я засыпала тяжелым сном и спала до вечера. Просыпалась чаще всего одна, Жан уже уходил на лекции. Он писал диссертацию по социологии, о мексиканских переселенцах в южном предместье Чикаго. Раз или два он и меня брал с собой в эти кварталы — Розелла, Тинли, Нэйпервиль, Аврора, — он напрашивался туда на свадьбы, крестины. Для него это было все равно что слетать на Марс. Вряд ли он, со всеми своими дипломами, лучше меня понимал то, что видел.
В Робинсоне жили всякие темные люди. Незадолго до сумерек они выползали из своих домов, окна которых были заколочены досками. Продавали порошок шепотками, смолу маленькими кубиками. Я исхитрялась не сталкиваться с ними. Но прямо напротив моего окна, по другую сторону улицы, жил Альсидор. Здоровенный детина, похожий на большого черного медведя, с лицом ребенка. Одет он был всегда в один и тот же джинсовый комбинезон и красно-белую футболку, даже когда дул холодный северный ветер. Он жил в домике-развалюхе с матерью, маленькой чернокожей женщиной, — она работала в кафе. Ко мне он отчего-то проникся. Каждое утро, когда я выходила за покупками часов в одиннадцать-двенадцать, Альсидор сидел на крыльце своего домика и махал мне руками. Вот только сказать ничего не мог, у него каких-то винтиков в голове не хватало. Если я ему что-то говорила, он только кивал, ни дать ни взять огромный пес, страшенный, но безобидный. Местные ребятишки дразнили его, кидались сливовыми косточками, а он и злиться-то не умел. Часами мог сидеть на пороге, поджидая матушку, и хрупать крекеры. Деловые его не трогали. Иногда, правда, забавлялись: давали ему сигарету с травкой, чтобы посмотреть, как на него подействует. Альсидор выкуривал и спокойно принимался снова за крекеры. Разве что чуть больше смеялся, и только. Сила в нем и вправду была немереная. Однажды грузовик с пьяным водителем заехал на тротуар и протаранил стену дома неподалеку. Толстая балка повисла на одной поперечине, грозя вот-вот упасть. Прибежал Альсидор и, ухватившись за балку, приподнял ее и вернул на место. Я слышала, что какой-то устроитель боев сулил ему хорошие деньги, но Альсидор был кротким и добродушным и не хотел драться. Если он и говорил что, то только о погоде, какой она будет зимой: «Maybe rain, maybe snow, I don't know»[18].
Мать за него стояла горой. Как-то раз я села рядом с Альсидором на крыльцо с книжкой комиксов, мне вздумалось научить читать этого великана. Но тут пришла его мать, увидела меня и чуть с кулаками не кинулась: «Это еще что за черная девка? Чего вам надо от моего сына?» Больше я уж и не пробовала.
Но она все-таки не уберегла его, когда вышла та жуткая история с полицией. Видно, мэр дал указание арестовать пару-тройку наркодельцов, чтобы в газетах о нем написали и фото тиснули, и, уж не знаю почему, они выбрали именно эту улицу в Робинсоне — скорее всего, как раз потому, что здесь никогда ничего не случалось. Откуда ни возьмись понаехала тьма полицейских машин, перегородили улицу так, что не пройти. Ищейки побежали по домам, сразу в конец улицы, в те, с заколоченными окнами. Зацапали каких-то мальчишек, и тут вдруг им на глаза попался Альсидор. Великан как раз успел вздремнуть после обеда и вышел на крыльцо. Был он все в том же джинсовом комбинезоне и красно-белой футболке. Увидел машины с мигалками — интересно — и пошел посмотреть поближе. Стоя на ступеньках, он выглядел еще выше и шире, точь-в-точь медведь, выходящий из леса. У меня сердце упало, я-то смекнула, что он не понимает опасности, а полицейские при виде его струхнули. Меня так и подмывало крикнуть ему: «Альсидор! Уходи! Беги домой!» Полицейские рявкали команды через громкоговорители, но до Альсидора, ясное дело, не доходило ни слова. Он шел себе и шел, вразвалочку, засунув руки в карманы. Трое полицейских бросились на него и попытались повалить на землю, но он их отшвырнул одной левой. Он-то думал, это игра. Смотрел в нацеленные на него дула автоматов и ничего не понимал, шел и шел к середине улицы. Вот только руки теперь в карманах не держал. И когда полицейские увидели, что он безоружный, тут уж они отвели душу. Навалились на него всем скопом и давай дубасить, по спине, по рукам, по голове. У Альсидора хлынула кровь носом, и лоб был весь в крови, но он еще держался на ногах, только пошатывался, кружил на месте да рычал, раскинув руки, словно хотел ухватиться за что-то. Потом его начали бить по ногам, и тогда он наконец упал. А они продолжали избивать его дубинками, с такой силой, что я, кажется, слышала стук. Ругались и били его, били. Под конец он уже не отбивался, лежал на земле и плакал, только голову руками прикрывал от ударов. И вскрикивал, и ревел, и звал свою маму.
Старушка подоспела, когда Альсидора грузили в машину. Он был такой огромный, что втащить его, поставив на ноги, им не удалось, и они его втолкнули головой вперед и лупили по ногам, чтобы он согнул их, а то не помещались. Старая негритянка бежала за машиной, плача и причитая, все просила: «Подождите, не уезжайте!» Но они уехали, а она ушла домой и заперла дверь. Она была уверена, что это мы, все, кто жил на этой проклятой улице, натравили легавых на ее сына. Через два дня Альсидор вернулся, но не такой, как прежде. Он не сидел больше на крылечке и не смотрел на прохожих. Носа не высовывал из дома. Он боялся. А через некоторое время на доме появилась табличка «Продается». Старуха увезла сына куда-то на другой конец города, и я не знаю, что с ним сталось.
После этого я сошла с катушек. Мне осточертело делить Жана с Анджелиной. Я стала встречаться с Белой из Джолиета — он был эквадорец, высокий, худой, с длинными, как у индейцев в кино, волосами и бриллиантиком в левом ухе. Бела бредил музыкой, регги-рага, мечтал раскрутиться. А пока приторговывал брошками-заколками, и «колесами», и порошком понемногу. Сам тоже ширялся, но тогда я этого не знала. Я ходила с ним в бары, в блюзовые клубы, знакомилась с музыкантами. Пропадала все ночи напролет. Там были звезды баскетбола, сошедшие с круга, обдолбанные, ди-джеи без аппаратуры, нимфы, мнившие себя Джанет Джексон и поучавшие: «Run away if you want to survive»[19], парни с Ямайки, мнившие себя Зигги Марли, и парни с Гаити, мнившие себя «Фуджиз». Мне больше всех нравились рутс: The Godfather of Noise, Black Thought, Hub, Question Mark, Kamel. И еще Common Sense, и KRS one, и Coed. Старенький приемник я сменила на плейер и теперь повсюду носила музыку в себе, в своем здоровом ухе, а весь остальной мир будто онемел. Я одевалась как они, ходила, курила, говорила как они, спрашивала: «You know what I'm saying?»[20] Ни у кого в голове не укладывалось, что я приехала с другого конца света. Как-то я заговорила о Марокко, и все решили, что это Монако. Больше я и не пыталась. Никто не знал, что это такое — быть родом из Африки, и потом, я еще не получила кусочек зеленого пластика, который дает все права. Время от времени я виделась с Жаном, но ему-то ведь тоже не нравилось делить меня с таким парнем, как Бела. Бороться он никогда не умел, слабак был, и только раз от разу грустнел.
Благодаря Эль Сеньору я получила страховку и водительские права. А однажды, ничего мне не сказав, он пригласил в бар мистера Лероя, чтобы тот послушал, как я пою. Когда я закончила свой номер, мистер Лерой дал мне визитную карточку и написал на ней время: назначил прийти завтра. В студию звукозаписи я поехала одна, не сказала ни Беле, ни Жану, никому. Я не совсем понимала, чего от меня хотел мистер Лерой. Надела узкие брюки и глухой черный свитер-водолазку, на случай, если он окажется из охотников распускать руки. Студия находилась в подвальном этаже небоскреба «Огайо» — большой зал с черными звуконепроницаемыми стенами и белым роялем посередине. Мне стало жутковато. Я заиграла так, как научилась у Симоны в домике на Бютт-о-Кай, наклонившись к клавишам, чтобы лучше слышать перекаты низких нот. Я спела Нину Саймон, «I Put а Spell on You» и «Black Is the Color of My True Love's Наіг». А потом сыграла свое, то самое, где я лаяла, как рубщики тростника, вскрикивала, как стрижи в небе над двориком Лаллы Асмы, пела песнопения рабов, взывающих к своим пращурам-лоа на плантациях и в открытом море. Я назвала эту песню «On the Roof»[21], в память об улице Жавело и о пожарной лестнице, что вела прямо на крышу мира. Сердце у меня отчаянно колотилось. Чтобы придать себе мужества, я вспомнила голос Джемаа, такой необычный и звонкий, как я слушала его когда-то в Табрикете, прижав приемник к уху: Кэт Стивенс, Радио Танжер, The Voice of America.
Теперь, после всех этих лет, я поняла, что именно хочу слышать — эти бесконечные раскаты, глухие, низкие, глубокие, плеск моря о твердь земли, непрестанный стук колес по рельсам, протяжное громыханье грозы, надвигающейся из-за горизонта. Этот далекий вздох, этот ропот, долетавший из неведомого, этот шум крови в моих артериях, когда я просыпаюсь в ночи и чувствую себя такой одинокой.
Я играла и ничего больше не боялась. Я забыла, кто я. Все было теперь не важно, даже та маленькая косточка, что сломалась в моем левом ухе. Даже черный мешок, и белая улица, и хриплый крик зловещей птицы. И Зохра, и Абель, и мадам Делаэ, и даже Юп — все эти люди, что, куда ни скройся, подстерегали, преследовали, расставляли сети. Я пела долго, почти не переводя дыхания, играла до боли в пальцах. Было ощущение огромной пустоты, как в переходах метро, когда все ушли. Мистер Лерой ничего не сказал. С тяжелым сердцем ушла я из студии и с таким чувством, будто провалилась и это конец. Как зверь в нору, я уползла в гостиницу, с Жаном Виланом.
Два дня и две ночи я спала, почти не просыпаясь. У меня кончились все силы. После того как я видела великана Альсидора на земле под ударами полицейских дубинок, плачущего и призывающего маму, точно малое дитя, возвращаться в Робинсон мне было невмоготу. В ухе у меня еще гудели сирены полицейских машин, перегородивших улицу. Небо было по-осеннему синее, рдели деревья, и всякое такое, но все это мало чем отличалось от улицы Жан-Бутон, мало чем отличалось даже от дворика Лаллы Асмы и той белой улицы, откуда меня украли, когда я была маленькой.
Перед самым снегом, в ноябре, я получила одновременно письмо из иммиграционной службы с видом на жительство и приглашение от мистера Лероя на запись «On the Roof». В студии на этот раз были и продюсер, и ассистенты, и звукооператоры. Полдня я играла и пела, запись продвигалась черепашьими шажками. Приходилось без конца возвращаться назад, начинать сызнова. А когда закончили, я подписала контракт на пластинку-сингл и на все, что я еще сочиню в ближайшие пять лет. Никогда я не держала в руках столько денег. До меня никак не могло дойти, что все это произошло со мной. Вечером мы с Белой, и музыкантами, и мистером Лероем, и всеми ассистентами отправились в ресторан «Гранд», принадлежавший фирме «Мэджик Джонсон». Голова у меня кружилась, я как будто выплеснулась из берегов. Какая-то черная журналистка задавала мне вопросы, я отвечала наобум: то я француженка, то африканка. Когда она спросила, как будет называться моя следующая песня, я сказала, не задумываясь: «То Alcidor with love»[22]. Какая-то затаенная ярость кипела во мне, меня трясло. Казалось, будто музыка барабанов с «Реомюр-Себастополь» была повсюду, в воздухе, в табачном дыму баров, в красном ореоле, что светится над Чикаго до зари.
Под утро я сбежала от всех. Я шла вдоль озера. Сильно похолодало, а на мне были только кожаная куртка да черный берет, натянутый до ушей. Осины полыхали, небо было ярко-синее. Я смотрела на косяки журавлей, они улетали в Нью-Мексико.
Потом я тихонько дожидалась в коридоре «Альянс франсэз». Жан Вилан не сразу узнал меня в черной куртке и берете. Он извинился перед студентами, сказал, что у него важное и неотложное дело. Мы пошли по широким проспектам, вместе позавтракали, как тогда в Гарварде. Дошли до насыпи, что окружает водоочистительную станцию на берегу озера. Люди уже высыпали на травку, трусили утренние бегуны, держась за поводки королевских пуделей, старики в тренировочных костюмах старательно делали китайскую гимнастику. Было холодно. Мы шли мимо небоскреба «Шеридан», и я сняла однокомнатную квартирку, сразу заплатила за месяц и еще за месяц вперед. Мне хотелось, чтобы все было так, будто мы с Жаном поженились — без свидетелей, без церкви, без бумаг с печатями. Без будущего. Наверно, тогда-то я и забеременела.
17
Не знаю, какой бес меня попутал снова вернуться к Беле в его квартиру в «Ла-Плазе» в Джолиете. Может, этим бесом был он сам. А может, Жан Вилан, потому что он заставил меня столько ждать и потому что так много ждал от меня. Наверно, никто на свете никогда не тосковал так, как я.
В «Шеридане» я была заперта в клетке из стекла и металла, высоко над городом и замерзшим озером; сюда не проникали даже звуки, впору было подумать, что я оглохла на оба уха. Целыми днями я ждала. Ждала, когда Жан прочтет лекции, ждала, когда он закончит с учениками, с профессорами, со статьями. Потом ждала, когда он закончит с Анджелиной. Часа в четыре Жан прибегал, запыхавшийся, с цветами, бутылкой вина и апельсинами, будто больную приходил проведать. Мы любили друг друга прямо на полу, перед пустотой окна во всю стену, за которым уже смеркалось. Я засыпала, прильнув к нему, как в ту далекую пору, когда я прижималась ночами к спине Лаллы Асмы. В полночь он на цыпочках уходил. Как-то раз я попросила его: «Покажи мне фотографию твоей подруги». Она улыбалась чуть глуповатой улыбкой, стоя на большой зеленой лужайке у бассейна. Имя Анджелина ей очень шло. Высокая, белокурая, и впрямь похожая на ангела, в общем, полная противоположность мне. Она была то ли русская, то ли литовка, не помню точно. А работала врачом.
Бела же был полной противоположностью Жану. Тонкий, как лиана, нежный и неистовый, полный какой-то затаенной ярости. А как тщательно он всегда выбирал одежду, обувь, рубашки из черного шелка! Полировал каждое утро бриллиантик в ухе, говорил, будто он достался ему от сестры, она ему подарила и сразу после этого умерла от передозировки, дома у родителей в Вашингтоне. С ним я меньше чувствовала пустоту и тоску ожидания. Да и не ждала больше ничего. Мы жили одним днем, слушали музыку, ходили в бары, в ночные клубы, на вечеринки. Мистер Лерой Белу не любил. Он даже позвонил мне однажды, уж не знаю, как раздобыл мой телефон. Сказал: «Этот парень не для тебя, он слаб, он тебя погубит». Я психанула и решила, что ноги моей больше не будет в студии.
Это было незадолго до весны, у Белы возникли денежные проблемы, квартплату он задолжал за несколько месяцев. Мы строили планы, как уедем на машине в Калифорнию, но все никак не могли собраться. До четырех, до пяти утра шлялись по кабакам, пили, курили, а когда просыпались, оказывалось, что ехать уже поздно. Я даже не знала, какой сегодня день недели. А Белу тем временем турнули из «Ла-Плазы». Однажды я пришла из магазина с молоком, макаронами и всякой снедью к обеду, а замок-то, оказывается, поменяли. Бела рвал и метал, я никогда не видела его в таком состоянии. Наши пожитки сложили в пластиковые мешки для мусора и выставили к лестнице, под дождь. Бела колотил в дверь ногой и грязно ругался. Пришел охранник с телефоном и электрической дубинкой. Бела полез было в драку, но электрошок живо его усмирил, а охранник вызвал полицию. Я визжала, цеплялась за Белу и визжала. Потом за волосы оттащила его до самой стоянки. Было и смешно, и жутко. Мы забросили наши мусорные мешки в машину и укатили до приезда полицейских. В отместку Бела швырнул в стену бутылку томатного сока, и длинное красное пятно растеклось по фасаду. Он орал, выл волчьим воем. Мы отсиделись у одного его друга в китайском квартале, а потом решили-таки рвануть в Калифорнию. Пересекли Соединенные Штаты из конца в конец, почти без остановки, машину вели по очереди, днем и ночью, иногда только спали на автостоянках. Где-то то ли в Арканзасе, то ли в Оклахоме был ужасный холод, снег белел на откосах, и я заболела. Меня бил озноб, раскалывалась голова, тошнило. «Ничего страшного, — говорил Бела, — это простуда, пройдет». Но не прошло. Это была не простуда, а спинномозговая лихорадка. Когда мы добрались до Калифорнии, я почти умирала. Спина не гнулась, шея тоже, стреляющая боль билась в ушах, и казалось, будто сердце вот-вот остановится. Я не могла произнести ни слова, не слышала, что говорил мне Бела. Глаза у меня были открыты день и ночь, я словно падала с огромной высоты. В Сан-Бернардино я потеряла ребенка; было много крови, и Бела перепугался, что я умру прямо в машине. Вместе с моим мешком он выгрузил меня у дверей больницы. Уж не знаю, что он там наплел, будто подобрал меня на шоссе или еще что-то, но больше я его не видела. Может быть, полицейские поймали-таки его на порошке и таблетках. Тогда же я потеряла одну из золотых сережек, тех, которые дала мне Лалла Асма, но я была так больна, что даже не огорчилась.
Я была без сознания, когда попала в больницу Сан-Бернардино, без сознания или почти. Дни и ночи я лежала, свернувшись клубочком, прячась под простынями от света. Из-за жара и обезвоживания язык у меня вздулся и почернел, губы кровоточили. Я даже перестала сознавать, что глуха. Я была в коконе, куколкой лежала на дне глубокой пещеры, в самой сердцевине моей боли. Чрево было моей душой, его столько скоблили, чистили, опорожняли, что только оно, казалось, и жило. Кто-то приходил, будил меня, заставлял помочиться в судно, делал укол. Я чувствовала, как входит игла в спину, между позвонками, и орала от боли. А после этого опять лежала без сил.
Вот тогда-то я впервые увидела Наду. Это я назвала ее Надой про себя, потому что мне на лоб легла ее прохладная ладонь, словно утренней росой обрызгало. Я увидела ее красивое лицо, гладкое и смуглое, очень черные миндалевидные глаза, волосы, заплетенные в одну косу, в руку толщиной. Она сидела у моей койки, я смотрела в ее глаза, тонула в ее взгляде. Я держалась за ее руку и хотела, чтобы она осталась со мной.
Потом я уснула, в первый раз за несколько недель. Мне снилось, что я не сплю, что меня поднимает волна и я скатываюсь назад с гребня. Каждое утро я ждала Наду, ждала ее прохладную ладонь, ждала ее взгляда. Она одна указывала мне, где выход, где свет. Я начала понемногу выбираться из моей пещеры. Только Нада могла вывести меня к порогу, туда, где слышна музыка детей, и птичий гомон, и даже рев машин на улицах. Для нее я копила снотворные пилюли. Прятала их в носовом платке под подушкой, а утром дарила ей. Больше ведь мне нечего было ей дать.
Однажды пришел главный врач в окружении студентов. Он читал лекцию, студенты записывали в тетрадки. Я смотрела на них, пока они не опустили глаза. Юноши хихикали. Мне было плевать на всех, я ждала Наду.
Она появлялась поздно вечером, перед тем как уйти к себе, в миссию Сан-Хуан. Ее звали вовсе не Нада, к белому халату была пришпилена карточка с именем: ШАВЕЗ. Она была индианкой из племени хуанера. Объяснялась со мной только знаками, руками и лицом показывала, что хочет мне сказать. Изображала пальцами буквы. А я научилась ей отвечать, научилась показывать: женщина, мужчина, дитя, зверь, видеть, говорить, знать, искать. Она знала про ребенка. В больнице, помимо всего прочего, им пришлось возиться еще и с этим. Она ни о чем меня не спрашивала. Просто показывала мне мужчин, наугад, в каком-то журнале — Хью Гранта, Сэмми Дэвиса, Киану Ривза, Билла Косби, — и я поняла. Мы очень смеялись. По-моему, она боялась, что меня изнасиловали, оттого и ребенок. Тогда я написала на журнале «Жан Вилан» и показала: да, это имя мужчины.
Однажды утром я знаком дала ей понять, что хочу уйти. Нада немного подумала и принесла мою одежду. Отступила назад и открыла дверь палаты. Это было странно, ведь до сих пор я видела только ее лицо, чистый овал, похожий на золотую маску инков, выгнутые дуги бровей, глаза как две гагатовые слезки и черные, гладкие, блестящие волосы. А когда она встала у открытой двери, оказалось, что она очень толстая, просто громадная. Она, наверно, прочла удивление в моих глазах, нарисовала руками в воздухе свои широченные бедра и улыбнулась.
Я натянула узкие черные джинсы, ярко-красную рубашку, запрятала волосы под берет и приколола к нему оставшуюся золотую серьгу Хиляль. Надела темные, с синими стеклами очки, те самые, что подарил мне Бела перед отъездом. Очки в знак траура по потере, только потерялась-то я. Мне хотелось оставить что-нибудь Наде на память, и я отдала ей мою книгу Франца Фанона, засаленную и потрепанную, как рекламный буклет без картинок, найденный на помойке. Но ничего дороже у меня не было.
Я обняла Наду Шавез, а она сунула мне в руку доллары, скатанные бумажки, перетянутые резинкой, как у Хурии, когда мы уезжали из Табрикета. Я спустилась по лестнице, прошла мимо поста охраны, держась очень прямо и ни разу не оглянувшись.
Я так давно не выходила, что у меня закружилась голова, ноги не шли, и я чуть было не повернула назад. Я слышала, как шелестят мои шаги по тротуару, как шелестит кровь у меня в ушах, как шелестит воздух в легких. А больше я ничего не слышала.
17
Я иду много-много дней. До края города, до моря. До края света, до смерти. Я пробираюсь между людьми, между машинами, часто пускаюсь бегом. Я самая быстрая. Никому меня не остановить. Бегать я научилась давным-давно, когда покинула дворик Лаллы Асмы. Научилась обходить ловушки, избегать опасности, скрываться от полиции Зохры. Поглядывая краешком глаза, я кидаюсь наперерез, балансирую, как канатоходец, на разделительной линии шоссе. Меня задевают грузовики и автобусы, тяжелые металлические прицепы. Ветер бьет в лицо, я чувствую запах всех их десяти колес, вдыхаю тонкую черную пыль, которую они поднимают, крутясь.
Я иду против потока машин, нутром чувствую, что так надо. Если идешь с ними в одну сторону, не увидишь, как наедут. Ты — дичь, ты — добыча. Машины притормаживают, тащатся вдоль тротуара, поблескивают длинными капотами, отсвечивают тонированными стеклами. Открываются дверцы, чьи-то руки тянутся к тебе, норовят затащить внутрь.
А вот если идешь навстречу машинам, значит, ты чокнутая, и это им надо бояться тебя, там, за дверцами, за стеклами. Они объезжают тебя, иди себе спокойно. Гудят, конечно, подвывают волками. Но ты идешь, и закатное солнце бьет тебе в лицо, греет грудь, волосы, и ты ничего не слышишь.
Я думаю о Наде Шавез, моей принцессе с постоялого двора в Сан-Бернардино. До чего она хороша — широкие бедра, лицо индианки, глаза, в которых я могла читать, все равно как видеть струйки, скользящие по поверхности воды, прохладная ладонь — утренняя роса. Она одна не донимала меня вопросами, она одна не подстерегала меня с сетями. Она приходила каждое утро, садилась на пластмассовый стул в изголовье кровати и протягивала руку, чтобы я вложила в нее бумажный катыш с красными и белыми пилюлями, от которых засыпают больные на голову. А потом она прижимала ладонь к моему лбу и отдавала мне свою силу. Настал день, когда она поняла, что я готова, и открыла дверь, и выпустила меня.
Чтобы подкрепиться, побыть в тени, укрыться от утреннего дождика, есть большие торговые центры. От автовокзала на пересечении Седьмой и Аламеда до Санта-Моники час автобусом или полдня пешком. Мне только добраться туда, а там я у себя дома. Я теряюсь в толпе, брожу по переходам, пересекаю залы и эспланады, спускаюсь на эскалаторах, поднимаюсь в прозрачных лифтах. Повсюду побываю, даже в подвалах, даже в паркингах. Иду быстро, деловито. Я ведь не просто гуляю. Я знаю здесь каждый уголок, каждую лазейку. Как когда-то на крыше башни на улице Жавело, только здесь просторы не чета той башне, это как остров, как материк.
Я знаю имена, знаю лица, знаю картинки на витринах. Я давно засекла охранников. Они меня тоже засекли. Наверно, сначала они увидели меня на своих телеэкранчиках и передали друг другу новость: «Тут бродит странная девушка, цветная девушка в красной рубашке и черном берете, а на берете какая-то блестящая штука, то ли звезда, то ли луна. Не теряйте ее из виду!» За мной следят, тени следуют по пятам, как волки в лесах Канады, как акулы в бухте Копакабаны. Я чувствую их за спиной, точно знаю, где они сейчас, что делают. Я могу оторваться от них, когда захочу, но мне забавно знать, что они здесь, сменяют друг друга, не спускают с меня глаз. Я будто бы прячусь, подолгу перебираю кашемировые пиджаки, надеваю то один, то другой поверх красной рубашки, вроде не могу выбрать, щупаю ткань, рассматриваю этикетки, чуть склонив голову набок, точно курица, высматривающая червяка. Потом вдруг бросаю все и ухожу быстрыми шагами. Один раз меня таки поймали. В примерочной кабине толстая грубая тетка обыскала меня. Она не знала, с кем имеет дело. Не знала, что у меня есть глаза на затылке. С тех пор как я оглохла и на второе ухо, я вижу за километр, могу с другого конца зала углядеть, как охранник опускает руку, чтобы почесать между ног. Им хочется меня зацапать, но не стану же я воровать ради их удовольствия.
Я примеряю одежду, и только. Так я могу стать кем-то другим, то есть стать самой собой. Короткие юбочки из черной кожи, из искусственного шелка, белые платья-стрейч, брючки, слаксы, ультрамодные джинсы. Блузки, шелковые рубашки, свитера «T.Ilfiger», «Nautica», майки «Gap», «R.Loren», «С.Klein», «Lee» и белые сорочки «L.Ashley». Я захожу в мужские отделы, примеряю двойки и тройки, спортивные костюмы, комбинезоны «Oshkosh» и штормовки «The Men's Store at Sears». А потом снова надеваю свои черные джинсы, красную рубашку, берет и ухожу. Чего я хочу? Увидеть свое отражение в зеркалах. Оно пугает меня и притягивает. Это я — и уже не я. Я поворачиваюсь так и этак, смотрю на яркие цвета, на блестящие ткани. Мои глаза — уже не мои глаза. Они похожи на нарисованные, длинные, выгнутые, в форме листа, как у Нады, в форме язычка пламени, как у Симоны. Уже улыбаются в уголках глаз морщинки, как у старой Тагадирт. Уже залегли под ними глубокие тени, как у Хурии, когда она ждала ребеночка под землей.
Я хочу говорить телом. Иду к зеркалу длинным коридором, как идет принцесса на свой балкон. Я иду, кружусь, раскачиваюсь и чувствую устремленные на меня взгляды, объективы невидимых камер. Бывает, продавщицы остановятся и смотрят на меня. А то еще дети, подростки. Одна девочка как-то подошла ко мне с блокнотиком, чтобы я написала свое имя, будто какая-нибудь голливудская старлетка. Я написала: НАДА Мафоба. Девочке лет четырнадцать, хорошенькое кошачье личико, большие, карие, миндалевидные глаза, волосы стянуты на макушке, джинсы велики на два размера и с протертыми коленками. Она тоже написала мне свое имя на листочке из блокнота: Анна.
Когда хочется есть, я покупаю сандвичи, они недорогие. Иногда хожу в рестораны, в Уилшир, Галифакс, Ла-Сьенега, и удираю перед десертом. Еще меня приглашают мужчины. Увяжется какой-нибудь в торговом центре, а я веду его прямиком в кафетерий. Он подсаживается ко мне за столик, я выдаю ему улыбку и знаю, что мне не придется платить. Если они понимают, что я глухая, — пугаются. Или злятся. Я ем и пью, а когда до них дойдет, только меня и видели, я уже на улице, бегу наперерез одностороннему движению. Как-то попался один — не стерпел. Кружил и кружил на машине, пока не нашел меня. Он был высокий, красивый с лица, а все равно пес псом. Кинулся на меня и ударил кулаком так, что я кувыркнулась и упала, темные очки отлетели, сумка раскрылась. Никто не помог мне подняться. Думали, наверно: «Вот опять шлюху учат уму-разуму!»
Под вечер я еду автобусом на Седьмую. Когда сажусь, прохожу мимо водителя и не бросаю монетку. Бывает, что мне ничего не говорят. Если начинают ругаться, я жестом показываю, что глухая, и отдаю четвертак. Ночлежка — большой кирпичный дом подле улицы Аламеда. Там всегда очередь, люди ждут, все они вроде меня, темнокожие, черноволосые. В шесть часов раздают кофе и сандвичи. Спальный корпус для женщин — позади, в середине квадратной лужайки с пожухшей травой, а вокруг растут высоченные юкки. Я лежу в кровати и вижу их листья-лезвия на лиловом фоне неба. В корпусе есть душевая, помещение с серыми бетонными стенами, где женщины моются группами. Никто ни на кого не смотрит, только я кошусь на их усталые спины, груди, желтую, серую, шоколадную кожу, животы с фиолетовыми шрамами и ноги со вспухшими венами. Я ни о чем не думаю, живут одни глаза. Потом я встаю под струю горячей воды, и она щиплет губы там, куда ударил меня пес.
Я не сплю. Или сплю, только с открытыми глазами.
Спасла меня музыка.
Я увидела рояль — красивый, черный, в Беверли. Каждый раз, проходя мимо, я не могла отвести от него глаз. А потом, в один прекрасный день, народу было немного, и охранник при рояле сменился. Новый был совсем молоденький, белокурый, в очках, с виду мухи не обидит, чем-то он походил на Жана Вилана. Он сидел на стуле и читал книгу.
Я подошла к роялю, потрогала рукой черную деку, клавиши слоновой кости. Оглянулась на охранника — он читал себе, на меня ноль внимания. Я подумала: может, он тоже глухой?
Я села на табурет и заиграла. Мне показалось сначала, что все забылось, пальцы искали нужные клавиши, я силилась вспомнить звуки, услышать их в голове, напевала, бормотала. Я склоняла голову набок, ловя звуки, как это делала Симона, когда учила меня. А потом вдруг все само вернулось. Пальцы побежали по клавишам, вспомнились аккорды, мотивы, ноты сложились в гаммы. Я играла Билли, играла Джимми Хендрикса, мелодии всплывали, рвались наружу. Играла все, что приходило в голову, подряд, без остановки, импровизировала, как в Чикаго, как на Бютт-о-Кай, возвращалась назад, начинала сызнова, и звуки били из меня, изо рта, из рук, из нутра. Я ничего не видела, я была под крышкой рояля — и мой разинутый рот, и гулкий живот, и даже ноги, как будто я шла по улице под солнцем, как будто бежала.
Теперь я слышала музыку, не ушами, нет, всем телом, этот трепет окутывал меня, пробегая по коже, и было больно каждому нерву, каждой косточке. Неслышимые звуки наполняли пальцы, они смешивались с моей кровью, с моим дыханием, с потом, стекавшим по лицу и спине.
Молодой охранник тем временем встал и подошел ко мне. Он стоял чуть поодаль, и я не могла видеть его лица. Зато я увидела, что в зале и у входа в магазин столпилось много народу. Дети сидели на полу, парочки стояли в обнимку, старики в тренировочных костюмах потягивали содовую из бутылочек. Среди них я разглядела ту девочку, что просила у меня автограф, Анну. Она пробралась в глубь магазина и сидела на ступеньке подиума, как я в первый раз, когда слушала Сару, в отеле «Конкорд» в Ницце.
И для них, и для нее я играла, ко мне вернулась моя музыка, глухая дробь барабанов на «Реомюр-Себастополь» и «Толбиак». Голос Симоны пел про обратный путь к берегам Африки, и полицейские сирены и стук дубинок, которыми били Альсидора на улице Робинсон, в Чикаго. Не для себя одной я играла теперь, я поняла: для них, для всех, кто был со мной, для людей из подполья, для подвальных крыс с улицы Жавело, для эмигрантов, что плыли со мной на катере и шли по горной дороге от Валье-де-Аран, и не только, не только, еще для Суйхи, для дуара Табрикета, для тех, что застыли в ожидании над устьем реки и смотрят, смотрят без конца на горизонт, как будто появится что-то и жизнь их изменится. Для них всех — и вдруг я подумала о ребенке, которого унесла моя лихорадка, я играла и для него тоже, чтобы моя музыка нашла его в том запретном месте, где бы он ни был сейчас.
Музыка несла меня, я ощущала, как она касается моего лица, так слепой ощущает солнце по жару и море по неспешному плеску. Я чувствовала, как из глаз катятся слезы. Это было впервые за долгое-долгое время, с тех пор, как Ямба Эль-Хадж Мафоба застыл, совсем один, в своей постели в Эври-Куркуронне.
Так играть я могла бы до скончания века. Я почувствовала руки охранников, они осторожно приподняли меня. Я еще тянула пальцы к клавишам, но все вдруг кончилось, осталась только тишина. Медленно-медленно, как на торжественном шествии, охранники несли меня через весь зал, а люди справа и слева неслышно аплодировали. Девочка Анна шла рядом, она не хлопала, ничего не говорила, только протягивала ко мне руку, а ее кошачье личико было все перекошено, и на мгновение я увидела, как блестят ее вытянутые к вискам глаза: она плакала. Охранники посадили меня в белый фургон; там, сзади, сидел пожилой человек, похожий на господина Рушди, моего учителя из библиотеки. Он обнял меня, прижал к себе, как будто давно знал. Я так устала, что не противилась, опустила голову на его плечо и, кажется, уснула.
И вот наконец я сижу в тени и холодке, в маленькой чистенькой комнате; она выходит на север, и в нее никогда не заглядывает солнце. Окна нет, только крошечное зарешеченное оконце под самым потолком, в которое ничего не видно, кроме кусочка неба, — оно сейчас голубое. Возле кровати стоят пластмассовый стул и тумбочка, в ней — судно, а в выдвижном ящике черная сумка, с которой я приехала в Сан-Бернардино, со всеми моими пожитками, их всего-то и есть, что очки с синими стеклами да берет, к которому приколота оставшаяся серьга Хиляль.
Каждое утро ко мне ненадолго заходит Профессор. Я не знаю, профессор ли он на самом деле, это я зову его так, потому что он напомнил мне славного господина Рушди из городской библиотеки при музее. Он улыбается, когда я мешаю английский, французский и испанский. Сам не разговаривает, пишет мне вопросы на листах бумаги, вырывая их одним движением из блокнота. Пишет нервно, большими буквами, что-то вроде: «Ваше настроение?», «Ваше любимое сладкое блюдо?» Но ему хочется знать совсем другое: откуда я, что со мной приключилось, есть ли у меня родные, как зовут человека, от которого я забеременела.
Когда он спрашивает о моих родных, я пишу имена, и он читает их внимательно, как загадку разгадывает: «Нада, Сара, Анна, Магда, Малика». Он думает, я из Мексики или с Гаити, а может, из Гвианы.
Сегодня в первый раз пришла Шавез. Не знаю, как она меня разыскала. Может быть, из той больницы запросили мою карту, или она увидела в местной газете заметку с моей фотографией под броским заголовком:
ВЫ ЕЕ НЕ ВИДЕЛИ?
На ней не было формы медсестры, она пришла в широких брюках и цветастой просторной блузе для беременных — по-моему, из солидарности. Мы обнялись, как старые подруги, она села на стул, а я на кровать. Мы поговорили, много смеялись, а потом она вывела меня в сад. Оказывается, я не в Сан-Бернардино. Это Маунт-Зион, Беверли. Здесь есть пальмы, повсюду листва, свежая трава, зелень — и большие деньги. Нет ни ограды, ни сторожа. Я могу идти куда хочу. Наверно, поэтому я и осталась.
Шавез приходит каждое утро вместе с Профессором. Должно быть, она взяла отпуск и не ходит на работу. А может, я и есть ее работа. Мы садимся в машину Профессора и куда-то едем, просто кружим по улицам. Он задает вопросы, все так же пишет на листах из блокнота. Ему хочется выяснить, кто я, чем занималась, где научилась играть на пианино. Мы вместе побывали в торговом центре, в зале с роялем, но меня это не вдохновило. Охранник сменился, это был уже не тот молодой человек, что мне так понравился. А рояль стоял такой огромный посреди пустого зала, точно адская машина. Тогда я повела их в книжный магазин, попросила купить модные журналы и полистала книги, какие под руку попались. Вдруг на одной суперобложке в отделе философии я узнала фотографию Профессора. Книга называлась «Hypnos & Thanatos» или что-то в этом роде. «Эдуард Клейн» — было написано под заголовком, и я обрадовалась, что теперь знаю его имя, а он как будто немного смутился, но тоже был рад. Улыбнулся мне, будто говоря: «Ну да, это я». После он подарил мне свою книгу с надписью: «То my dearest unknown!»[23]
Однажды под вечер дверь моей комнатки в Зионе открылась, и на пороге появился мистер Лерой.
А я даже не удивилась. Я дошла до того предела, за которым все до странного само собой разумеется и одновременно абсолютно бессмысленно.
Всему есть объяснение; придется сказать, что это сделала Нада Шавез. В «Проклятых на земле» я забыла свой контракт. Она позвонила в Чикаго, и мистер Лерой вылетел первым же самолетом. Он привез мне приглашение на фестиваль джаза в Ниццу. Всякое там видали, только глухой пианистки еще не было. Помогать — так до конца: в своем неловком, но от самого сердца порыве Шавез узнала через справочную службу телефон Жана Вилана. У него наверняка будут проблемы с Анджелиной, потому что он приезжает завтра. Не знаю, не придется ли ему поставить крест на своей литовской докторше. Но Бог свидетель, я никого ни о чем не просила.
18
Я вернулась — под другим именем, с другим лицом.
Я так давно ждала этого дня, это мой реванш. Может быть, сама того не сознавая, я все сделала для того, чтобы он настал.
В Ницце оргкомитет фестиваля поселил меня в том самом отеле на берегу моря, где бронзовая женщина все еще рвется из зажавших ее стен. На эстраде по-прежнему стоял рояль, и кто-то пел, должно быть, на музыку Билли Холидэя [так в бумажном оригинале — Прим. верстальщика]. И я тоже спела мою песню на этой эстраде под покровом ночи. В неимоверной духоте, под свинцово-серым небом, я каждый день бродила по улицам Ниццы, будто надеялась увидеть хоть что-то знакомое. Длинный галечный пляж был черен от народа, улицы запружены машинами. Повсюду распаренная праздная толпа.
Повсюду, где мы ходили с Жуанико. Я села в автобус, вдоль пересохшей реки доехала до развязки автострады, отыскала вход в городок. Наверно, я и вправду стала кем-то другим, потому что, едва я вошла в ворота между рядами колючей проволоки, какой-то человек, развернув свой грузовичок, загородил мне дорогу. Смотрел он на меня волком. Когда я назвала имя Рамона Урсу, рассмеялся мне в лицо. Крикнул остальным что-то, я не поняла, вроде исковеркал имя: «Руссу! Руссу!» Подошел еще один, высокий, щеголеватый даже в лохмотьях, с тонкими усиками. Он жестом показал мне, что никого нет, все уехали. И проводил меня до ворот.
Я пыталась дозвониться Жану, хотела сказать ему, чтобы приезжал скорей. И про ребенка хотела сказать, который у нас обязательно будет, вот только я вернусь. Но из-за разницы во времени говорить пришлось с автоответчиком. Слова не шли, я сказала, что перезвоню. Меня мутило, кололо в боку. Я вспоминала Хурию, как она шла через горы с ребеночком в животе. Почему же у меня нет таких сил, если мой живот теперь пуст? От музыки вдруг стало трудно дышать. Мне хотелось только тишины — солнца и тишины.
Я оставила записку для оргкомитета — написала, что отменяю все выступления. Под вечер покинула отель и уехала ночным поездом в Серверу, в Мадрид, в Альхесирас. Было время каникул, повсюду туристы. Гостиницы переполнены. В Альхесирасе я провела два дня на пыльной автостоянке, сплошь уставленной машинами и трейлерами. Спала на земле, завернувшись в одеяло. Одна марокканская семья поделилась со мной водой, фантой, хлебом. Дети играли среди машин, даже танцевали под музыку из магнитол. Время от времени вдали, за оградой из колючей проволоки, проходили охранники с автоматами. Палящее солнце висело в центре белого неба. Зато ночами было свежо, но не холодно. Мы объяснялись жестами, рассказывали друг другу истории, считали часы, дни по календарю. Поначалу дети дразнили меня из-за моей глухоты, потом привыкли. Для них это была игра, и только.
На третий день мы погрузились на паром. Я не знала толком, почему я здесь. Просто двигалась в потоке людей, сама не понимая зачем. Не за воспоминаниями, нет, во мне не было трепета ностальгии. Я не возвращалась на родину, да у меня ее и нет. И не другой берег меня манил. Мой берег теперь — это берег большого синего озера, обдуваемый холодными канадскими ветрами. Но какая-то нить, из самого моего нутра, тянула меня туда, к месту, еще неведомому.
Автобусом я отправилась дальше на юг. Со мной ехали немецкие туристки в шортах, француженки в шляпках и американки в резиновых шлепанцах. Я проделала с ними часть пути, потом наши дороги разошлись. В Марракеше я пересела на другой автобус и поехала в сторону гор, а им надо было к морю, в Агадир, Эс-Сувейру, Тан-Тан.
В Тизин-Тишка, пока водитель автобуса пил чай, я купила у одного бербера огромный аммонит в подарок Жану. Камень был слишком тяжел для моей сумки, и бербер смастерил мне рюкзак из старого мешка. Это был здоровенный детина с красной, как у американских индейцев, кожей, одетый в широкий плащ из грубой шерсти. Он показал мне открытку, которую прислал ему брат из Америки, из затерянного в лесах селения в штате Вашингтон.
Вот так и добралась я до Фум-Згуида. На юг дорога ведет в Тату, на север в Загору. А прямо никакой дороги нет, только глубокие колеи от шин грузовиков да тропы для коз и верблюдов. Насколько хватает глаз простирается неприветливая голая земля с высохшими колодцами и хижинами из глины и камней, похожими на осиные гнезда.
Вот. Сюда я и ехала. Дальше мне некуда. Я словно стою на берегу моря или у бесконечного устья большой реки.
Сумку и аммонит я оставила в деревне, сняла там комнату.
Проводнику, которого я наняла в гостинице, мне хотелось первому задать тот вопрос, что так давно рвется с моего языка: «Скажите, не в этих ли местах украли ребенка пятнадцать лет назад?» Но я промолчала. Все равно он не смог бы ответить, я это знала. С тех пор как я вернулась, мое ухо стало слышать гораздо лучше, но слышать голоса, слова, речь — разве этого достаточно, чтобы понять?
Здешние люди, те, которых я вижу, и другие, из деревень, которых я еще не видела, принадлежат этой земле, как я никогда никакому краю не принадлежала. Они воюют, иной раз захватом берут чужую деревню, чтобы вырыть колодцы в чужой земле.
Здешние люди, люди племен асака, нахила, алугум, улед-айса, улед-хиляль, — что им еще остается? Они воюют, есть раненые, бывают и убитые. Женщины плачут. Случается, пропадают дети. Такая вот жизнь, что нам еще остается?
Это здесь, теперь я уверена. Свет в зените белый-белый, и улица пуста. От света выступают слезы на глазах. Горячий ветер гонит пыль вдоль стен. Чтобы защититься от ветра и света, я купила большое синее покрывало, какие носят здешние женщины, и закуталась, оставив лишь щелочку для глаз. Мне кажется, нет, я уже чувствую, как в животе тихонько толкается ребенок, который у меня еще будет, обязательно будет. И ради него тоже я так долго добиралась сюда, на край света.
Проводнику надоело ходить за мной взад и вперед по пустой улице. Он присел на камень в тени, у стены, курит английскую сигарету и поглядывает на меня издали. Он не из улед-хиляль, не из айса, не из захватчиков хруйга. Слишком высокий, сразу видно, что городской, из Загоры или из Марракеша, может быть, даже из Касабланки.
Вдалеке, в самом конце улицы, там, где начинается пустыня, у распахнутой двери своего дворика на табурете сидит старуха в черном. Ее лицо не скрыто покрывалом, оно черно и морщинисто, похоже на старую опаленную кожу. Я иду, и она смотрит на меня, не опуская глаз, взгляд у нее жесткий, точно камень. Да и вся она кажется мне окаменелой и такой же старой, как аммонит, что я привезу Жану. Она — настоящая хиляль, из племени полумесяца.
Я села рядом со старухой. Она маленькая, щуплая, едва по плечо мне, как дитя. Улица пуста, иссушена солнцем пустыни. Мои губы пересохли и растрескались, проведя по ним рукой, я увидела на ладони кровь. Старуха ничего мне не говорит. Она даже не шевельнулась, когда я села. Только посмотрела на меня, и глаза на ее черном кожаном лице оказались блестящими, глянцевыми, совсем молодыми.
Дальше идти мне нет нужды. Теперь я знаю: я пришла к концу моего пути. Это здесь и нигде больше. Белая, как соль, улица, неподвижные стены, крик ворона. Здесь меня украл пятнадцать лет назад, века, вечность назад, кто-то из племени хруйга, враг моего племени хиляль, из-за неподеленной воды, из-за неподеленных колодцев, из мести. Коснувшись моря, касаешься другого берега. Здесь, потрогав рукой пыль пустыни, я трогаю землю, где я родилась, касаюсь руки моей матери.
Жан прилетает завтра, телеграмму от него я получила в отеле в Касабланке. Я свободна, и все теперь может начаться. Как мой славный предок (еще один) Билал, раб, которого Пророк освободил и отпустил в мир, я наконец вышла из возраста, когда ищут семью, и вхожу в возраст, когда ищут любовь.
Перед тем как уйти, я коснулась старухиной руки, гладкой и твердой, точно камень со дна моря, один раз, легким касанием, чтобы никогда не забыть.
Горизонты континентов и тайники души
Две тысячи восьмой год стал счастливым годом для французской культуры. Один из лучших современных писателей Франции Жан-Мари Гюстав Леклезио удостоен высшей награды — Нобелевской премии по литературе.
Имя Жан-Мари Гюстава Леклезио (р. 13 апреля 1940 г.) русскому читателю известно давно. В 1964 г. «Литературная газета» сообщила о присуждении ему за первый роман премии Ренодо (самой авторитетной после Гонкуровской), и с той поры отклики на его произведения появлялись регулярно, причем хронологический разрыв между появлением книг во Франции и выходом перевода в нашей стране нередко оказывался совсем небольшим. (См. переводы новелл Леклезио в журнале «Иностранная литература»: 1980, № 2; 1983, № 10; 1986, № 3; сборник «Французская новелла. 1970–1995» (М., 1999); романы «Пустыня» (1984); «Путешествия по ту сторону» (1993).)
Похоже, было что-то в манере Леклезио, что выделяло его из потока французской прозы, выносившего на поверхность душевные муки растерянной, утратившей опору личности. Типично экзистенциалистский тезис «Ад — это другие» развернут в первых романах Леклезио в последовательную цепочку метафор, перебрасываемых из одного произведения в другое, и все же в них звучат наивные, неправдоподобные нотки настойчивой надежды.
Те же неожиданные «встречи» разноплановых интонаций в интерпретации действительности происходят и в сборниках новелл писателя («Мондо и другие истории», 1978; «Езда по кругу и другие происшествия», 1982; «Весна и другие времена года», 1989; «Обожженное сердце и другие романсы», 2000). Леклезио благоволит этому «малому» жанру, и в 1980 году ему была вручена премия мастера «элегантной прозы» Поля Морана за совершенство стиля.
Мелодия надежды постепенно становится громче. Уверенность, что не все на свете так плохо, пришла — как ни парадоксально — с другого континента. А связи с ним тянутся от генеалогического древа Леклезио. Дед его по материнской линии происходил от бретонцев, поселившихся на острове Святой Маврикий в XVIII веке. Это он прототип героя из романа «Поиски клада» (1985). Униженный низкими заработками, неспособный, как ему кажется, дать семье необходимое, он переселяется на соседний остров, где, согласно преданию и сохранившимся старинным картам, можно отыскать спрятанный на берегу реки клад. Дочь этого искателя клада — мать писателя — бережно хранила в сундучке карты, записи, дневник, в доме царил культ острова Маврикий. А тут еще она вышла замуж за англичанина, которого направили в Нигерию врачом. Поездка в Нигерию семилетнего мальчика слилась в его сознании с бабушкиными и мамиными рассказами о Маврикии. После его путешествия в Мексику (1967) и на острова архипелага, где находится Маврикий, а также работы преподавателем в Бангкоке и американском штате Нью-Мексико другой, мало знакомый европейцу мир прочно вошел в творчество Леклезио. Талантливый юноша почувствовал, как в его душе прорастают зерна далеких цивилизаций. Появляется не просто иная реальность, слышны голоса сказок, мифов. Все романы следующего периода воссоздают атмосферу легенд, герои существуют как бы в двух измерениях: их мечты и сны сплетаются с услышанными в детстве историями и помогают (а не мешают) лучше ориентироваться в реальной жизни, у них есть корни, не дающие согнуться под беспощадными испытаниями судьбы.
Лайла из «Золотой рыбки» (1997) — одна из самых мужественных и удачливых героинь Леклезио. Горя на ее долю выпало много: родителей не помнит, родное селение лишь смутно сохранилось в памяти; отовсюду ей приходится убегать без оглядки — то гонит злая хозяйка, то пристает хозяин, то покровительница считает себя вправе склонять ее к похотливым игрищам. Однако какое бы течение ни подхватывало Лайлу, добрых людей ей встречалось больше, чем злобных. И ласковая бабушка, и хозяйка дешевой гостиницы, превращенной в дом терпимости, и ее обитательницы-«принцессы», и старик Эль-Хадж, сделавший Лайле бесценный подарок — паспорт своей умершей внучки, что позволило Лайле стать полноценной француженкой… Золотая рыбка то рвет сети, то изящно выскальзывает из них, снова и снова находя друзей, ей бескорыстно помогающих. Несмотря на усиливающуюся глухоту, Лайла музыкально одаренный человек, ей делают предложения продюсеры. Но победы не вскружили ей голову, тяга к родным местам обостряет чутье, и рыбка Лайла возвращается к африканским берегам, ненадолго, лишь набраться там чудодейственной силы, прикоснувшись к земле предков. Лайла уже чувствует свою принадлежность к цивилизации белого человека, именно там она должна стать равноправной, именно там расцветет ее талант. Нет, она не предала свое племя, она унесет нравственные ценности, качества души своих соплеменников в другую цивилизацию, чтобы сделать ее солнечнее, теплее.
Когда Леклезио спросили, к какой литературной школе он себя относит, он ответил: «К школе добрых дикарей». Шутливо уходя от споров о соответствии содержания и формы, Леклезио выводит свое правило: «Надо, чтобы форме соответствовало… желание». Для него «писатель — это тот, кто не принадлежит ни к какой культуре», иначе говоря, не отдает нравственного предпочтения ни одному из народов, уважает каждый, стараясь понять разные души, разные национальные традиции. К универсальному путь лежит через национальное — желательно разглядеть все сегменты спектра, и не для того, чтобы выбрать один из них, а чтобы постичь гармонию их соединения. Поэтому в «Золотой рыбке» он не погружается в экзотические детали, не акцентирует контраст городов и пейзажей; Лайлу окружают живые люди, а не «представители» той или иной нации; эгоизм или сочувствие не имеют национальности, все зависит от богатства человеческой души, и чем больше она вобрала в себя лучей универсального спектра, тем охотнее откликается на чужую боль.
Помогая своим современникам постигать «чужие» нравы, обычаи, Леклезио написал немало книг не только художественных, но и документально-мемуарных: «Три святых города» (1980), «Мексиканская мечта, или Прерванная мысль» (1988), «Песенные праздники» (1997); он подал идею и принял участие в выпуске серии фольклорных памятников «Заря народов». Сам процесс творчества Леклезио сравнивает то с особой формой движения («Пишу, словно еду на велосипеде: чтобы не упасть, надо устремляться вперед»), то с манипуляциями «доброго колдуна», пытающегося «проявить» в существовании линию Гармонии.
В какой-то степени эту колеблющуюся линию Гармонии, редкую для путей Истории, Леклезио пытается прочертить, даже касаясь проблем обжигающе актуальных — например, в романе «Блуждающая звезда» (1992) о встрече и взаимной симпатии двух «звезд» (так переводятся имена) — Эстер и Нежмы, израильтянки и палестинки, которые «далеко друг от друга кричат вместе, осуждая войну»; или в повести «Диего и Фрида» (1993) («Иностранная литература», 2000, № 9), скользнувшей по плоскости трагического треугольника (Диего Ривера — Лев Троцкий — Фрида Калло) и наметившей за историей любви художницы, красавицы калеки документально достоверный фон революционных надежд, иллюзий, преступлений. С появлением в книгах Леклезио актуальных мотивов, оттеснивших легенды и мифы, можно говорить о вступлении его творчества в третий период, апофеозом которого на сегодняшний день стал роман «Революции» (2003). К термину «революция» восходят, по Леклезио, и Французская революция 1789 года, и национально-освободительное движение, и «постоянная революция», подающая свой голос в негодовании социально униженных, и «внутренняя» революция, то есть работа души, извлекающей уроки из происходящих событий, меняющей ориентиры, ставящей новые цели.
Прошлое и современное сливаются в сознании Леклезио в то самое «универсальное», что привлекает его в классике латиноамериканского романа XX века. Окидывая взором горизонты континентов и одновременно всматриваясь в тайники души, Леклезио предлагает читателю манеру повествования, не очень привычную ни для современной французской прозы, ни для латиноамериканского романа, у которого французский мастер не прочь позаимствовать равновесие между необычным и универсальным.
То внимание, которым книги Леклезио были окружены с самого начала и на родине, и у нас, в России, сорок лет спустя вполне оправдало себя. Доказательством служит хотя бы известная книга Мориса Бланшо («О Лотреамоне, Жюльене Граке и Леклезио», 1987), обозначившая три периода французской словесности всего тремя именами: Лотреамон — конец XIX века; Жюльен Грак — расцвет и переосмысление сюрреализма; Леклезио — нынешнее время.
Т. Балашова
Примечания
1
Черный порох (англ.), в данном случае — особый сорт чая. (Здесь и далее примеч. переводчика.)
(обратно)2
Информационная служба США.
(обратно)3
Javelot — дротик (фр.).
(обратно)4
Народность в Западной Африке.
(обратно)5
Французский социолог и психиатр (1925–1961), уроженец Мартиники, ярый противник колониализма.
(обратно)6
Икс, Малькольм (1925–1965) — известный деятель негритянского движения в США, основатель «Организации афро-американского единства», идеолог «черного национализма». Смертельно ранен в 1965 г. в Гарлеме перед публичным выступлением.
(обратно)7
Piggytail — поросячий хвостик; dreadlock — ужасные кудри (англ.); очевидно, имеются в виду негритянские прически.
(обратно)8
Дессалин, Жан-Жак (1758–1806) — гаитянский раб. После отмены рабства на Гаити в 1794 г. — офицер гаитянской армии. В 1804 г. провозгласил себя императором независимого государства. Убит в 1806 г.
(обратно)9
Дай мне надежду, Джоанна (искаж. англ.).
(обратно)10
Во французских спальных вагонах в купе шесть полок на трех уровнях.
(обратно)11
Сестрица ласточка (англ.).
(обратно)12
Я люблю твои волосы (англ.).
(обратно)13
Сезэр, Эме — французский писатель и политический деятель, уроженец о. Мартиника.
(обратно)14
Сука! (англ.).
(обратно)15
Не будь сукой! (англ.).
(обратно)16
Задница (англ.).
(обратно)17
«Альянс франсэз» — организация по распространению французского языка и французской культуры, существующая с 1883 г.
(обратно)18
Может, дождь, может, снег, я не знаю (англ.).
(обратно)19
Беги, если хочешь уцелеть (англ.) — строка из песни Джанет Джексон.
(обратно)20
Вы знаете, что я говорю? (англ.).
(обратно)21
На крыше (англ.).
(обратно)22
Альсидору с любовью (англ.).
(обратно)23
Моей дражайшей незнакомке! (англ.).
(обратно)
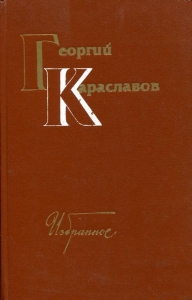



Комментарии к книге «Золотая рыбка», Жан-Мари Гюстав Леклезио
Всего 0 комментариев