Виктор Гюго ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД ЭРНАНИ СТИХОТВОРЕНИЯ
«ВИКТОР ГЮГО» Вступительная статья Е. М. Евниной
«Человечеству для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собой на вершинах славные примеры мужества. Подвиги храбрости заливают историю ослепительным блеском… Пытаться, упорствовать, не покоряться, быть верным самому себе, вступать в единоборство с судьбой, обезоруживать опасность бесстрашием, бить по несправедливой власти, клеймить захмелевшую победу, крепко стоять, стойко держаться — вот уроки, нужные народам, вот свет, их воодушевляющий», — так писал Виктор Гюго в романе «Отверженные», и его неукротимый воинствующий гений, взывающий к мужеству и отваге, и его вера в будущее, которое нужно завоевать, и постоянная обращенность к народам мира — прекрасно выражены в этих пламенных строках.
Виктор Гюго прожил большую, бурную, творчески насыщенную жизнь, тесно связанную с той знаменательной эпохой французской истории, которая началась буржуазной революцией 1789 года и через последовавшие затем революции и народные восстания 1830–1834 и 1848 годов пришла к первой пролетарской революции — Парижской коммуне 1871 года. Вместе со своим веком Гюго проделал столь же знаменательную политическую эволюцию от роялистских заблуждений ранней юности к либерализму и республиканизму, в котором он окончательно утвердился после революции 1848 года. Это ознаменовало одновременное сближение с утопическим социализмом и решительную поддержку обездоленных народных масс, которым писатель остался верен до конца своей жизни.
Гюго был подлинным новатором во всех областях французской литературы: поэзии, прозе, драматургии. Это новаторство, идущее в русле общеевропейского движения романтизма, захватившего не только литературу, но и изобразительное искусство, и музыку, и театр, было тесно связано с обновлением духовных сил европейского общества — обновлением, которое наступило вслед за Великой французской революцией конца XVIII века.
1
Гюго родился в 1802 году. Его отец, Жозеф-Леопольд-Сигизбер Гюго был офицером наполеоновской армии, который выдвинулся из низов в годы французской революции, завербовавшись в республиканскую армию в пятнадцатилетнем возрасте, а при Наполеоне дослужился до чина бригадного генерала; именно через него будущий писатель самым непосредственным образом соприкоснулся с пафосом революции 1789–1793 годов и последовавших за нею наполеоновских походов (долгое время он продолжал считать Наполеона прямым наследником революционных идей).
Первые поэтические произведения юного Гюго, во многом еще подражательного характера (его кумиром был тогда Шатобриан), появились в начале 20-х годов. Политический подъем на подступах к июльской революции 1830 года, а затем республиканские восстания 1832–1834 годов вдохнули в него мощный прилив энтузиазма, повлекли за собою целый переворот в его эстетике и художественной практике. («Революция литературная и революция политическая нашли во мне свое соединение», — напишет он позднее.) Именно тогда, возглавив молодое романтическое движение, Гюго провозглашает новые художественные принципы, яростно ниспровергая старую систему классицизма, выпуская одну за другой книги стихов, создавая свой первый роман, с боем внедряя на сцену новую романтическую драму. При этом он вводит в художественную литературу новые — прежде запретные для нее — темы и образы, ярчайшие краски, бурную эмоциональность, драматизм резких жизненных контрастов, освобождение словаря и синтаксиса от условностей классицистской эстетики, которая превратилась к этому времени в закостенелую догму, нацеленную на сохранение старого режима как в политической, так и в художественной жизни. Бок о бок с Гюго выступают молодые поэты и писатели романтического направления — Альфред де Мюссе, Шарль Нодье, Проспер Мериме, Теофиль Готье, Александр Дюма-отец и другие, объединившиеся в 1826–1827 годах в кружок, который вошел в историю литературы под именем «Сенакль». 30-е годы были воинствующим теоретическим периодом французского романтизма, вырабатывавшего в борьбе и полемике свой новый художественный критерий правды в искусстве.
Два противоположных отношения к миру столкнулись в этой борьбе романтизма и классицизма. Классицистское видение, которое в эпоху молодого Гюго воплощали в своих произведениях жалкие эпигоны некогда блистательной школы Корнеля и Расина, держалось строгого порядка, требовало ясности и стабильности, — в то время как романтическое, прошедшее через революцию, через смену династий, через социальные и идейные сдвиги в общественной практике и сознании людей, стремилось к движению и решительному обновлению всех форм поэзии, всех средств художественного отражения многообразной, на глазах меняющейся жизни.
В 1827 году Гюго создает историческую драму «Кромвель», и предисловие к этой драме становится манифестом французских романтиков. Остро ощущая движение и развитие, происходящее в природе и в искусстве, Гюго провозгласил, что человечество переживает разные возрасты, каждому из которых соответствует своя форма искусства (лирическая, эпическая и драматическая). Он выдвинул, кроме того, новое понимание человека как существа двойственного, обладающего телом и душою, то есть началом животным и духовным, низменным и возвышенным одновременно. Отсюда и последовала романтическая теория гротеска, уродливого или шутовского, выступающего в искусстве резким контрастом по отношению к возвышенному и прекрасному. В противоположность строгому делению классицистского искусства на «высокий» жанр трагедии и «низкий» жанр комедии, новая романтическая драма, по мысли Гюго, должна была соединить в себе оба противоположных полюса, отобразить «ежеминутную борьбу двух враждующих начал, которые всегда противостоят друг другу в жизни». В соответствии с этим положением вершиной поэзии был объявлен Шекспир, который «сплавляет в одном дыхании гротескное и возвышенное, ужасное и шутовское, трагедию и комедию».
Возражая против устранения безобразного и уродливого из сферы высокого искусства, Гюго протестует и против такого канона классицизма, как правило «двух единств» (единство места и единство времени). Он справедливо считает, что «действие, искусственно ограниченное двадцатью четырьмя часами, столь же нелепо, как и действие, ограниченное прихожей». Главный пафос Предисловия-манифеста Гюго состоит, таким образом, в протесте против всякой насильственной регламентации искусства, в яростном ниспровержении всех устаревших догм: «Итак, скажем смело: время настало!.. Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам. Собьем старую штукатурку, скрывающую фасад искусства! Нет ни правил, ни образцов, или, вернее, нет иных правил, кроме общих законов природы…»
Ниспровергающий пафос Предисловия дополняется созидающим пафосом поэзии Гюго, в которой он стремится на практике реализовать свою романтическую программу.
2
Гюго — один из величайших поэтов французского XIX века, но, к сожалению, именно как поэт он наименее у нас известен. Между тем множество сюжетов, идей и эмоций, знакомых нам по его романам и драмам, прошли сначала через его поэзию, получили в его поэтическом слове свое первое художественное воплощение. В поэзии наиболее ясно выразилась эволюция мысли и художественного метода Гюго: каждый из его поэтических сборников — «Оды и баллады», «Восточные мотивы», четыре сборника 30-х годов, затем «Возмездие», «Созерцания», «Грозный год», трехтомная «Легенда веков» — представляет собой определенный этап его творческого пути.
Уже в предисловии к «Одам и балладам» 1826 года Гюго намечает новые принципы романтической поэзии, противопоставляя «естественность» первобытного леса «выравненному», «подстриженному», «выметенному и посыпанному песочком» королевскому парку в Версале, как он образно представляет устаревшую поэтику классицизма. Однако первым по-настоящему новаторским словом в поэзии Гюго явился сборник «Восточных мотивов», созданный в 1828 году на той же волне энтузиазма в преддверии революции 1830 года, что и предисловие к «Кромвелю». Причем самая тема Востока, с его причудливыми образами и экзотическими красками, была определенной реакцией на эллинистическую гармонию и ясность, которые воспевались поэтами классицизма. Именно в этом сборнике начинает осуществляться переход от поэзии интеллектуальной и ораторской, какой была по преимуществу классицистская поэзия (например, стихотворения Буало), к поэзии эмоций, к которой тяготеют романтики. Отсюда берут свое начало поиски наиболее ярких поэтических средств, воздействующих не столько на мысль, сколько на чувства. Отсюда и чисто романтическая драматичность, представленная в необычайно зримых картинах: пылающие турецкие корабли, сожженные греческим патриотом Канарисом; зашитые в мешки тела, выбрасываемые темной ночью из женского сераля («Лунный свет»); четыре брата, закалывающие сестру за то, что она приподняла чадру перед гяуром; движение зловещей черной тучи, ниспосланной богом для разрушения порочных городов Содома и Гоморры и извергающей на них ярко-красное пламя («Небесный огонь»). Это насыщение поэзии интенсивными красками, динамизмом, драматическим и эмоциональным накалом идет об руку с героической темой освободительной войны греческих патриотов против турецкого ига (стихотворения «Энтузиазм», «Дитя», «Канарис», «Головы в серале» и другие).
Шедевр живописной и динамической поэзии, сборник «Восточные мотивы» был своего рода открытием чувственного и красочного мира; последующие поэтические книги Гюго, создаваемые на протяжении 30-х годов, — «Осенние листья» (1831), «Песни сумерек» (1835), «Внутренние голоса» (1837), «Лучи и тени» (1840), — идут по пути более глубокого постижения жизни, выдают постоянное стремление поэта вникнуть в законы мироздания и человеческой судьбы. Здесь отразились и философские, и политические, и нравственные искания времени. Недаром в первом же стихотворении «Осенних листьев» Гюго говорит, что его душа поставлена «в центр» вселенной и откликается на все, как «звучное эхо».
Лирический герой Гюго из сборников 30-х годов постоянно всматривается, вслушивается, вдумывается во все окружающее. Наблюдая картины чудесных закатов, он не просто любуется ими, но пытается за чувственным великолепием красок и форм найти «ключ к тайне» бытия. Он поднимается на гору, где слушает величественный и гармоничный гимн, который создается природой, и скорбный, режущий ухо крик, исходящий от человечества, внимает в полном одиночестве звукам ночи, устремляется дерзкой мыслью в древние времена или в морскую пучину. Раздумья о судьбах людей, об их бедах и горестях, об их прошлом и будущем, которое теряется во мраке, постоянно волнуют поэта: «чистого» созерцания, «чистой» природы для него не существует. Вдохновленный идеями Сен-Симона и Фурье, он уже в это время настойчиво поднимает социальную тему бедности и богатства («Для бедных», «Бал в ратуше», «Не смейте осуждать ту женщину, что пала»). Чутко улавливая подземные толчки, предвещающие революционную ломку, поэт еще до июльской революции (в мае 1830 г.) пишет стихотворение «Размышление прохожего о королях», где советует королям прислушаться к голосу народа, который волнуется у подножия их трона подобно грозному океану. Народ-океан, грозный для коронованных владык, — сквозной образ, проходящий через все творчество Гюго.
Еще одна тема 30-х годов предвещает позднего Гюго: это тема политическая и тираноборческая, которая ведет поэта к выходу в широкий мир, к сочувствию всем угнетенным народам. В стихотворении «Друзья, скажу еще два слова» (1831) он говорит, что глубоко ненавидит угнетение, в каком бы уголке земли оно ни возникало, и что отныне он вставляет в свою лиру «медную струну». В этом же стихотворении намечается характерное для Гюго понимание гражданской миссии поэта («Да, муза посвятить себя должна народу!»), которое найдет более полное выражение в программном стихотворении «Призвание поэта» (1839) из сборника «Лучи и тени».
Мир, созданный Гюго в поэзии 30-х годов, предстает перед нами в резких контрастах: гармонический гимн, выражающий природу, — и горестный вопль человечества; ничтожные и близорукие короли — и волнующиеся народы; пышные празднества богачей — и нищета бедняков; пьяная оргия баловней судьбы — и зловещий призрак смерти, похищающей свои жертвы прямо из-за пиршественного стола; даже на дне человеческой души поэт различает и ясную лазурь, и черную тину, где копошатся злобные змеи. Столь же красочное и динамическое изображение жизни, как в сборнике «Восточные мотивы», умение запечатлеть даже душевные движения и раздумья в необычайно конкретных, зримых образах дополняется в 30-е годы введением драматических эффектов света и тени. От многоцветной феерии «Восточных мотивов» Гюго переходит к более концентрированным и сгущенным комбинациям белого и черного цветов, которые соответствуют его контрастному видению мира.
Этому мировосприятию отвечает поэтика и первого романа Гюго — «Собор Парижской богоматери», созданного на гребне июльской революции 1830 года. Гюго задумал роман как «картину Парижа XV века» и в то же время как подлинно романтическое произведение «воображения, каприза и фантазии». Революция, захватившая Гюго политическими страстями, прервала было его работу над романом, но затем, как рассказывают его близкие, он замкнул на ключ свою одежду, чтобы не выходить из дому, и через пять месяцев, в начале 1831 года, пришел к издателю с готовым произведением. В «Соборе» нашла применение его теория гротеска, которая делает необычайно зримым как внешнее уродство, так и внутреннюю красоту горбатого Квазимодо, в противоположность показному благочестию и глубокой внутренней порочности архидиакона Клода Фролло. Здесь еще более ярко, чем в поэзии, обозначились поиски новых моральных ценностей, которые писатель находит, как правило, не в стане богачей и власть имущих, а в стане обездоленных и презираемых бедняков. Все лучшие чувства — доброта, чистосердечие, самоотверженная преданность — отданы им подкидышу Квазимодо и цыганке Эсмеральде, которые являются подлинными героями романа, в то время как их антиподы, стоящие у кормила светской или духовной власти, подобно королю Людовику XI или тому же архидиакону Фролло, отличаются жестокостью, изуверством, равнодушием к страданиям людей.
Знаменательно, что именно эту — нравственную — идею первого романа Гюго высоко оценил Ф. М. Достоевский. Предлагая «Собор Парижской богоматери» к переводу на русский язык, он писал в предисловии, напечатанном в 1862 году в журнале «Время», что мыслью этого произведения является «восстановление погибшего человека, задавленного несправедливым гнетом обстоятельств… Эта мысль — оправдание униженных и всеми отверженных парий общества». «Кому не придет в голову, — писал далее Достоевский, — что Квазимодо есть олицетворение угнетенного и презираемого средневекового народа… в котором просыпается наконец любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и еще непочатых бесконечных сил своих».[1]
3
Роман Гюго, благодаря своей необычайной живописности и увлекательности, сразу получил признание публики. Зато вокруг романтического театра, создаваемого писателем в те же годы, разгорелись ожесточенные бои. Пьесы Гюго следовали на протяжении десятилетия одна за другой: «Марион Делорм» (1829), «Эрнани» (1830), «Король забавляется» (1832), «Лукреция Борджа» (1833), «Мария Тюдор» (1833), «Анджело — тиран падуанский» (1835), «Рюи Блаз» (1838).
В этом жанре, больше чем в каком-либо другом, видно, что Гюго стремится продолжать в искусстве революционные традиции 1789 года; атакуя прославленную цитадель классической трагедии — театр «Комеди Франсез», он выдвигает на смену свой новый — революционный и народный театр, «…литературная свобода — дочь свободы политической. Этот принцип есть принцип века, и он восторжествует, — говорит он с присущим ему полемическим задором в предисловии к драме „Эрнани“ (март 1830 г.). — После стольких подвигов, совершенных нашими отцами… мы освободились от старой социальной формы; как же нам не освободиться и от старой поэтической формы? Новому народу нужно новое искусство… Пусть на смену придворной литературе явится литература народная».
Завоевание театра романтиками носило, таким образом, не только эстетический, но и явственно политический характер. Защитники ложноклассической трагедии были одновременно убежденными монархистами, приверженцами старого политического режима. Молодежь, поддерживавшая романтическую драму, тяготела, напротив, к либерализму и республике. Этим и объясняется необычайный накал страстей вокруг почти каждой пьесы Гюго. Первая драма, «Марион Делорм», созданная им еще до июльской революции, последовательно запрещалась двумя министрами — Мартиньяком и Полиньяком и была опубликована только после революции, в августе 1831 года. Драма «Король забавляется», появившаяся вслед за июньским республиканским восстанием 1832 года, также подверглась запрету — уже правительством Июльской монархии — после первого же представления (она вернулась на французскую сцену лишь через пятьдесят лет — 22 ноября 1882 года).
Первой драмой Гюго, не только поставленной, но и выдержавшей много представлений, была «Эрнани»; вокруг нее и разразились главные бои «романтиков» и «классиков», сопровождавшиеся состязанием свистков, угрожающих выкриков и аплодисментов, которые не утихали на протяжении всех девяти месяцев, пока «Эрнани» не сходила со сцены. Чтобы отстоять свою пьесу, автору приходилось не только самому присутствовать на каждом ее представлении, но и приводить с собой друзей и единомышленников, которые взяли на себя ее воинственную защиту. Среди «банды» Гюго, как их тогда называли противники, особенно выделялся молодой Теофиль Готье, шокировавший респектабельную публику своим розовым жилетом. В реакционных газетах говорилось в это время, что романтическая драма презрела все правила Аристотелевой эстетики, но самое главное, что она «оскорбляет королей» и, если полиция не предпримет серьезных мер, зал театра, в котором происходят представления «Эрнани», может стать ареной побоища, где мирные люди будут отданы на произвол «диких зверей». Известны также слова хроникера одной ультрамонархической газеты по поведу единственного (22 ноября 1832 г.) представления пьесы «Король забавляется»: «Я буду всю жизнь помнить партер театра, битком набитый публикой… спустившейся сюда из предместий Сент-Антуан и Сен-Виктор, вопящей во всю глотку гимны 93-го года и сопровождающей их бранью и угрозами по адресу тех, кто неодобрительно относится к пьесе…»
Страх и ненависть, которую французские реакционеры испытывали к романтической драме, были не случайно связаны с призраком революции и ее вершиной — 93-м годом. Органическая связь театра Гюго с идеями и драматической реальностью Великой французской революции неоспорима. Об этом говорит прежде всего типично «третьесословное» понимание общественной борьбы как борьбы всего народа в целом против дворянского сословия и аристократов всех мастей, выдвинутое революцией 1789 года. Именно из этого контрастного противопоставления двух сил — деспотической знати, которая держит в своих руках богатство и власть, и бесправного народа, «у которого есть будущее, но нет настоящего» (слова Гюго из предисловия к драме «Рюи Блаз»), исходит и сюжетный конфликт, и характеры героев романтической драмы. Конечно, великий реалист Бальзак, который в те же 30-е годы XIX столетия внимательно прослеживал социальную дифференциацию внутри третьего сословия, описывая восхождение класса буржуазии, — был прозорливее, видел глубже. Но заслуга Гюго состоит в том, что, художественно воплотив самые высокие демократические идеи революции, он придал им небывалый резонанс.
В основе сюжетного конфликта во всех драмах Гюго лежит жестокий поединок между титулованным деспотом и бесправным плебеем. Таково столкновение безвестного юноши Дидье и его подруги Марион со всесильным министром Ришелье в драме «Марион Делорм» или изгнанника Эрнани с испанским королем доном Карлосом в «Эрнани». Иногда подобное столкновение доведено до гротескной заостренности, как в драме «Король забавляется», где конфликт разыгрывается между баловнем судьбы, облеченным властью, — красавцем и бессердечным эгоистом королем Франциском, и обиженным богом и людьми горбатым уродом — шутом Трибуле.
Само выдвижение на первый план героев-простолюдинов, типа подкидыша Дидье, шута Трибуле или лакея Рюи Блаза, которым отдается подлинное благородство души, способность по-настоящему любить и активно отстаивать свои чувства, а порой и убеждения, — было великим новшеством романтической драмы. И ее величайшее значение в том, что она привлекает сердца зрителей именно к этим угнетенным, гонимым, но любящим и благородным героям, делая их моральными победителями в конфликте со всесильными деспотами и коронованными владыками даже в том случае, когда эти герои терпят поражение и должны погибнуть. В драме «Рюи Блаз» автор наградил своего героя из народа не только пламенным сердцем и благородной душою — обычные качества романтического героя, — но и патриотическим чувством и государственным умом, которые позволяют ему (в знаменитой речи на совете министров) жестоко посрамить высокородных испанских грандов, бесстыдно расхищающих агонизирующее королевство. Гневное красноречие Рюи Блаза, неумолимого к внутренним врагам отечества, обвиняющего их с позиций народных масс, звучит словно с трибуны Конвента: «За эти двадцать лет несчастный наш народ… Он выжал из себя почти пятьсот миллионов на ваши празднества, на женщин, на разврат. И все еще его и грабят и теснят!» Язык этого обвинения — неистовый, темпераментный, оснащенный гиперболами и метафорами — также является плотью от плоти ораторского пафоса французской революции.
Романтическая драма Гюго — это острополитическая и тираноборческая драма, далекая от камерного спектакля, замкнутого в рамках частной и семейной жизни. Ее действие выносится на широкую арену, выходит из домашней обстановки во дворцы вельмож и королей, порою на улицу и на площадь. Саму историю она делает плацдармом для выведения на сцену крупных политических и моральных коллизий, используемых автором в самых злободневных целях (недаром в предисловии к драме «Мария Тюдор» Гюго говорит о «прошлом, воскрешенном на пользу настоящему»). Характерен знаменитый монолог дона Карлоса в час избрания его императором, когда из легкомысленного повесы он становится мудрым государем (в «Эрнани»); создавая этот монолог накануне июльской революции, когда передовые силы нации возлагали надежду на смену прогнившей династии Бурбонов, Гюго как бы поучает и предостерегает королей, напоминая им о народе, который является «опорой нации» и
…терпя обиды, Выносит на плечах всю тяжесть пирамиды, —народе, похожем на океан, который уже поглотил и может поглотить в своих волнах не одно королевство и не одну династию.
Гюго, таким образом, постоянно пытается активно воздействовать на мысль современников своим художественным словом: он дерзает поучать монархов, как они должны править государством; он яростно клеймит деспотизм королей, министров, вельмож, испанских грандов или итальянских тиранов; он стремится раскрыть глаза народу на его попранные права и на возможность революционного выступления против тирании. Отголоски народных мятежей и революций чувствуются не только в раздумье дона Карлоса о народе-океане из «Эрнани», но еще более непосредственно в «Марии Тюдор», где народный гнев против фаворита королевы как бы выплескивается на сцену, играя существенную роль в ходе действия: народная масса осаждает дворец и в конце концов добивается казни ненавистного Фабиани.
Романтическая драма Гюго преследует, однако, не только политические, но и нравственные задачи. В этом отношении она идет еще дальше, чем роман «Собор Парижской богоматери». «Забота о человеческой душе — тоже дело поэта. Нельзя, чтобы толпа разошлась из театра и не унесла с собой домой какой-либо суровой и глубокой нравственной истины», — заявляет автор в предисловии к «Лукреции Борджа», а в предисловии к «Марии Тюдор» добавляет, что драма рассматривается им как урок и поучение, что театр призван просвещать, разъяснять, «руководить сердцами», то есть посредством сильных эмоций внушать народу определенные моральные принципы. Вот почему для драмы Гюго характерна интенсивность, подчеркнутость, гипертрофированность чувств. Его герои — Дидье, Эрнани, Рюи Блаз или Трибуле — обладают замечательной цельностью, бескомпромиссностью, большими страстями, полностью захватывающими человека; они не знают половинчатости, раздвоенности, колебаний; если любовь, то до гроба, если оскорбление — то дуэль и смерть, если мщение, то мщение до последнего предела, хотя бы это стоило собственной жизни. Подруги романтических героев — Марион или донья Соль — не уступают им в своей преданности и бесстрашии, готовности бороться за свою любовь и, если надо, идти за нее на смерть, как это сделала в драме «Король забавляется» несчастная Бланш. И эта сила женской или мужской или отцовской любви, и эта самоотверженность и великодушная самоотдача — все эти поистине высокие и благородные эмоции, воплощаемые романтической драмой с необыкновенной патетической силой, находят отклик в самой широкой демократической аудитории, к которой Гюго и обращался в своем новом театре. Этому содействует и ловко завязанная интрига, и увлекательность сюжета, стремительные и неожиданные повороты в развитии действия и в судьбах героев. Романтическая драма, таким образом, достигает того морального эффекта, на который она рассчитывает, и вносит большой вклад в искусство своего времени.
Однако самая неистовость и преувеличенная патетика в изображении демонических страстей, довольно далеких от прозаических будней буржуазной монархии Луи-Филиппа, исключительность и порой малая вероятность ситуаций (например, лакей, влюбленный в королеву — ситуация Рюи Блаза, которую никак не мог простить Виктору Гюго Бальзак, в целом очень высоко оценивавший его искусство), а кроме того, нагромождение мелодраматических эффектов или ужасов всякого рода (шествие к эшафоту, яды, кинжалы, убийства из-за угла, присутствующие в целом ряде пьес) — привели в конце концов к известному вырождению и кризису романтической драмы, который особенно резко обозначился в провале драмы «Бургграфы» (1843).
Кризис захватил в 40-х годах не только драму, но и все творчество Гюго. Однако во вторую половину века ему суждено было вновь развернуться с неожиданной силой.
4
Революционные события 1848 года, а затем контрреволюционный государственный переворот 2 декабря 1851 года открыли собою новый этап в мировоззрении и творчестве Гюго.
После февральской революции 48-го года, сбросившей Июльскую монархию, Гюго выставил свою кандидатуру в парламент и, получив 86 965 голосов, стал депутатом Учредительного, а затем Законодательного собрания. Когда разразилось июньское восстание парижского пролетариата, впервые осознавшего свои собственные классовые интересы, противоположные интересам буржуазии, Гюго вначале не понял истинного смысла событий и был в числе тех депутатов, которые отправились на баррикады, чтобы уговорить рабочих прекратить безнадежную борьбу. Он исходил из старого третьесословного понимания народа, будто бы единого в своих устремлениях («Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия — это просто-напросто удовлетворенная часть народа», — говорит он в романе «Отверженные»), поэтому июньское восстание казалось ему бессмысленным «восстанием народа против самого себя». Однако кровавое подавление восставших рабочих правительством буржуазной республики возмутило писателя и положило начало решительной эволюции его взглядов. Современный французский поэт, романист и литературовед Жан Руссело, выпустивший в 1961 году биографию Виктора Гюго, с полным основанием утверждает, что по отношению к рабочему классу — «Гюго чувствовал себя все более и более солидарным с его судьбой».
На заседаниях парламента Гюго начинает выступать с резкими речами в защиту неимущих: «Я из тех, кто думает и утверждает, что можно уничтожить нищету… Вы создали законы против анархии, создайте же теперь законы против нищеты», — заявил он 9 июня 1849 года. Эта речь, как и многие другие речи Гюго, вызвала аплодисменты левых депутатов, но зато и неистовую ярость правых. Гюго освистывали, ему угрожали. Но он продолжал упрямо отстаивать свои убеждения на парламентской трибуне вплоть до государственного переворота Луи Бонапарта.
Здесь-то и открывается самый замечательный, подлинно героический период в жизни Виктора Гюго.
Еще 17 июля 1851 года, за несколько месяцев до декабрьских событий, в одном из своих публичных выступлений он метко назвал авантюриста Бонапарта, рвущегося к власти, «Наполеоном малым» соотносительно с его дядей, Наполеоном великим. Когда 2 декабря этот Наполеон малый, поддержанный крупной и мелкой буржуазией, с помощью шантажа, подкупа и кровавого террора все-таки захватил власть, Гюго встал во главе республиканского сопротивления и в течение нескольких дней в контакте с рабочими организациями вел самую ожесточенную борьбу за республику. Скрываясь в разных кварталах Парижа, он знал, что его разыскивают агенты Бонапарта и что его голова оценена в 25 тысяч франков. Позднее ему рассказали, что разгневанный узурпатор дал приказ о его расстреле, если он будет схвачен. Только тогда, когда стало ясно, что дело республики потеряно, Гюго покинул Францию и переехал в столицу Бельгии — Брюссель, а затем на англо-нормандский остров Джерси, затем Гернсей, откуда он продолжал разить новоявленного императора и его приспешников яростными памфлетами («Наполеон малый», «История одного преступления») и громовыми стихами, которые составили сборник «Возмездие».
Годы изгнания и одиночества лицом к лицу с океаном были нелегким испытанием для поэта. «Изгнание — это суровая страна», — сказал он однажды. Но он был последователен в своем отказе. Даже когда его семья — жена, сыновья, дочь, уставшие от жизни на чужбине, один за другим покинули острова, Гюго остался непоколебимым. Когда в 1859 году императором была провозглашена амнистия и многие изгнанники вернулись на родину, он сказал ставшие знаменитыми слова: «Я вернусь во Францию только тогда, когда туда вернется свобода». И он действительно возвратился только после падения империи в 1870 году.
Девятнадцатилетний период изгнания оказался для Гюго необычайно плодотворным. По накалу страстей, по огромной творческой мощи Гюго этих лет не без основания сравнивают с Бетховеном или Вагнером. За это время им были созданы подлинные шедевры как в поэзии, так и в жанре романа. За это же время его политическая деятельность приобрела поистине международный характер (выступления в защиту американца Джона Брауна, итальянца Гарибальди, мексиканских республиканцев, критских патриотов, испанских революционеров, председательство на международном конгрессе мира и т. д.), благодаря чему он стал знаменем для всех тех, кто боролся за свои попранные национальные и социальные права.
Когда 5 сентября 1870 года, в разгар франко-прусской войны, на другой день после падения империи, Гюго приехал на родину, в Париже его встречали овациями толпы народа с криками «Да здравствует республика!», «Да здравствует Виктор Гюго!». Старый поэт пережил со своими соотечественниками осаду Парижа прусскими войсками, рождение и падение Коммуны, разгул свирепой реакции и ужасы «кровавой недели»; с поразительной энергией откликнулся он на эти исторические события пламенными воззваниями, стихотворениями «Грозного года», многолетней и целеустремленной борьбой против французской и мировой реакции за амнистию коммунарам, за братство народов, за мир во всем мире, — борьбой, которая продолжалась до самой смерти поэта в 1885 году.
Из этой духовно и политически напряженной жизни и проистекает новый характер или перевооружение романтизма Гюго второй половины XIX века, после известного кризиса, через который он прошел в 40-е годы. Своеобразие второго периода Гюго, пережившего расцвет критического реализма Бальзака и Стендаля и являвшегося современником Золя, заключается в том, что поэт вобрал в свое творчество многие черты и приемы реалистического искусства (изображение социальной среды, вкус к документу, реализм детали, интерес к воспроизведению народного языка и другие), но при этом остался настоящим романтиком в самом лучшем значении этого слова. Причем романтизм второго периода связан уже не с анархическими бунтарями-одиночками 30-х годов, а с массовыми народными движениями, с проблемой восстаний и революций, которыми обогатился опыт политического изгнанника, международного борца и трибуна. Отсюда не только сатирический, но и эпический размах, который приобретает отныне романтическое творчество Гюго.
Новый характер романтизма второй половины века сказывается у Гюго прежде всего в поэзии, когда были созданы замечательные поэтические книги «Возмездие» (1853), «Созерцания» (1856), «Грозный год» (1872), три тома «Легенды веков» (1859, 1877, 1883) и другие.
Начиная со сборника «Возмездие», поэзия эта принимает ярко выраженный воинствующий и подчеркнуто демократический характер. Мастер поэтической формы, Гюго и раньше никогда не вдохновлялся теорией «искусства для искусства»; теперь же его понимание гражданской миссии поэта, подготавливаемое на протяжении 30-х годов, достигает своего подлинного апогея: слово поэта должно «карать», «будить», поднимать народы, звать человечество к высоким моральным образцам. Вот почему в поэме «Nox», помещенной в качестве введения к сборнику «Возмездие», он взывает к музе ненависти, вдохновившей некогда великих эпических поэтов Ювенала и Данте, чтобы она теперь помогла ему «вбить позорный столб» в империю Наполеона III. Вот почему он заранее предупреждает своего издателя Этцеля о том, что он будет «неистов» в своей поэзии, как были неистовы Данте, Тацит и даже Христос, с кнутом в руке изгнавший из храма торгашей. И сила его неистового возмущения и яростного обличения, в котором он видит свой долг поэта и гражданина, действительно такова, что она позволяет ему разить политического противника — императора и его банду — необычайно энергичными, негодующими словами, не стесняясь в выражениях, внося в высокую поэзию нарочитые вульгаризмы, самые резкие презрительные клички и бранные эпитеты.
Энергия и неистовость языка сопрягается в стихотворениях «Возмездия» с сатирическим снижением, с искусством карикатуры, которым Гюго овладевает в этот период в совершенстве. Декабрьский переворот 1851 года рисуется в том же «Nox» в виде бандитского налета, Луи Бонапарт — в образе вора, с ножом за пазухой влезающего в полночь на трон Франции. Вторая империя появляется перед читателем то в образе балагана с большим барабаном, в который заставляют бить державную тень Наполеона I, то в виде «луврской харчевни», где идет шумный пир и распоясавшиеся победители, хохоча, предлагают тосты: один кричит «всех резать», другой — «грабить» и т. д. Постоянное использование реалистической детали в этих нарочито сниженных, окарикатуренных образах Второй империи позволяет увидеть источники сатиры Гюго не только в литературных традициях (Ювенала, Данте, Агриппы Д’Обинье), но и в политической карикатуре изобразительного искусства, которая была чрезвычайно распространена во Франции Июльской монархии и особенно республики 1848–1851 годов.
Однако даже в сборнике «Возмездие» Гюго не ограничивается прямой сатирой. По аналогии с живописью можно было бы сказать, что с карикатурой Домье здесь сочетаются полные революционно-романтического пафоса полотна Делакруа. Особенность сатирической поэзии Гюго состоит в том, что политическая карикатура самым тесным образом связана у него с пророчеством, с оптимистической концепцией исторического процесса.
Политические взгляды Гюго приходят в это время в единство с его философско-религиозной концепцией мира. Он не придерживается официальной религии и решительно отказывается от католических догм, навлекая на себя негодование клерикалов. Но он понимает бога как благое начало, которое через испытания, катастрофы и революции ведет человечество по пути прогресса. Ненавистные поэту институты — монархии и деспотии всех видов — представляются ему косностью, неподвижностью, абсолютным злом, которое препятствует этому движению, задерживает человечество в его восхождении к свету. Гюго, таким образом, глубоко ощущает драматизм развития человеческой истории, но никогда не теряет оптимистической уверенности в преодолении зла и конечном торжестве светлого начала. Это несомненно идеалистическое, но динамическое и революционное мировоззрение проникает собою все его творчество второго периода. Как бы ни была страшна или низменна картина действительности, воссозданная сатирическим гением Гюго, он всегда стремится подняться над данным, фактическим, настоящим, чтобы прозреть движение к идеалу, к грядущему, которое придет на смену сегодняшнему позору. Недаром яростная сатира поэмы «Сдается на ночь» заканчивается знаменательными словами о том, что, пока императорская банда гуляет с невероятным шумом, где-то ночной тропой «спешит божий посланец — будущее». В концовке стихотворения «Карта Европы», где говорится о порабощении и угнетении многих европейских народов, об их слезах и муках, поэт снова обращается к грядущему: «Ждет будущее нас! И вот, крутясь и воя, сметая королей, несется гул прибоя…»
Знаменательно, что пришествие желанного будущего представляется поэту отнюдь не идиллически. Это будущее надо завоевать в страшной битве (вспомним динамические образы прибоя, гремящей волны, бури, постоянные в поэзии Гюго), и в этой битве главная роль отводится народам, к которым обращается поэт; это их зовет трубный глас «с четырех концов неба», это им вечность велит «вставать».
Постоянная вера в народ, обращенность к народу, мысль о народе и революции — характернейшая черта поэзии Гюго второго периода. Мысли и образы, связанные с народом, проходят через «Возмездие», «Грозный год» и через «Легенду веков». Народу посвящено в «Возмездии» несколько специальных стихотворений. В одном из них, построенном на характерных романтических контрастах, поэт развертывает свой старый излюбленный образ народа-океана, одновременно и кроткого и грозного, таящего в себе неизвестные глубины, бывающего и страшным и нежным, могущего расколоть утес и пощадить травинку («Народу»). В поэме «Караван» народ предстает в образе могучего льва, появляющегося среди хищных зверей мирным и величавым, идущим всегда той же дорогой, «которой он приходил вчера и придет завтра», — так поэт подчеркивает неотвратимость этого прихода, который заставит мгновенно смолкнуть неистовое рычание, вой и визг хищников из лесной чащи.
Период исторических событий, связанных с франко-прусской войной и Парижской коммуной, когда создавались стихотворения «Грозного года», обогатил Гюго еще более актуальными примерами народного мужества и героизма. Он воспевает народный Париж как доблестный «город-мученик» и «город-воин», стойко сопротивляющийся врагу; он полон признательности к «необъятной нежности» величественного народа, когда 18 марта — в день провозглашения Парижской коммуны ее бойцы разбирали баррикады, чтобы пропустить похоронную процессию, в которой сам Виктор Гюго, удрученный и подавленный, шел за гробом внезапно скончавшегося сына; он поражен героизмом коммунаров, когда во время зверской расправы, которую учинили над ними версальские палачи, они шли на смерть с гордо поднятой головой. В стихотворениях «Суд над революцией» и «Во мраке» Гюго создает подлинную апологию революции, говоря о ней как о «заре» и о предрассветном «луче», который сражается с тьмой, рисуя драматическую картину борьбы старого мира, безуспешно пытающегося остановить «потоп» революции.
Революционно-романтическая патетика Гюго с излюбленными им образами вздымающейся с грохотом волны и кипящего водоворота, в котором исчезают мрачные призраки старого мира, достигает здесь особенно большого накала. Стихотворение «Во мраке», помещенное в сборнике «Грозный год» в качестве эпилога, было создано еще в 1853 году, то есть во времена «Возмездия», — еще одно подтверждение того факта, что мысль о революции является одной из сквозных тем, проходящих через поэзию Гюго второго периода на протяжении десятилетий.
Романтической поэзии Гюго свойственно при этом глубокое личное чувство; оно наполняет почти все его поэтические сборники. Лирический образ поэта-изгнанника, удалившегося на берег океана, побежденного, но не сломленного, отказывающегося принять бесчестие родины и взывающего во мраке к «сонным душам», — постоянно присутствует в стихотворениях «Возмездия»:
Изгнанник, стану я у моря, Как черный призрак на скале, И, с гулом волн прибрежных споря, Мой голос зазвучит во мгле…[2] —говорит поэт в первом же стихотворении этой книги.
Необычайно богата эмоциональная палитра сборника «Созерцания», который поэт составил из стихотворений, созданных им на протяжении двадцатипятилетнего периода. Примечательна искренность интонации, с которой Гюго говорит о своих радостях и печалях, при необычайной зримости и материальности художественного образа, с помощью которого он раскрывает глубоко личные чувства.
Лирическое неотделимо в поэзии Гюго от эпического, личные чувства и переживания поэта всегда сплетены с напряженной мыслью о вселенной, со стремлением охватить внутренним взором необъятный человеческий и даже космический мир. Многолетнее одиночество изгнания, постоянное созерцание бушующих стихий на берегу океана особенно расположили Гюго к подобным раздумьям о катаклизмах, происходящих и в природе, и в человеческом обществе. «Я вижу реальные очертания всего того, что люди называют деяниями, историей, событиями, успехами, катастрофами, необъятную механику Провидения», — записал он однажды в своем дневнике джерсийского периода, подытоживая опыт трехлетнего изгнания.
Уже в сатирическом «Возмездии» Гюго уделяет большое место исторической фреске, походам Наполеона и «солдат 1802 года», обрисованных в величавых гомеровских традициях, чтобы самим величием этих походов подчеркнуть мизерность и смехотворность современной ему империи во главе с недостойным племянником Наполеона I. Картины битвы при Ватерлоо, отступления из Москвы, острова Св. Елены, где умирает бывший властелин мира («Искупление»), созданы в настоящей эпической манере. Не случайно известный французский исследователь литературы Брюнетьер назвал эту поэму Гюго примером «эпической сатиры».
Однако до высот подлинного эпоса поэзия Гюго поднимается в громадном цикле «Легенда веков», где поэт задумал «запечатлеть человечество в некоей циклической эпопее, изобразить его последовательно и одновременно во всех аспектах истории, легенды, философии, религии, науки, сливающихся в одном грандиозном движении к свету», — как он пишет в предисловии к первой части. Толкование человеческой истории как постоянного восхождения к добру и свету подвигает автора на особый отбор событий, образов и сюжетов, которые берутся не столько из действительной истории, сколько из легендарной. Не нужно искать здесь исторической точности: Гюго преследует иные — нравственно-назидательные задачи. Для этого он вовлекает в изображение человеческой драмы античных богов, библейских мудрецов, легендарных и исторических королей и героев. Эпическое повествование в его «Легенде» связано с символом, который стоит почти за каждым из ее эпизодов.
Нравственное назидание Гюго дано в необычайно ярких и сильных образах. Вот Каин, бегущий после убийства брата на край света, прячась от божьего гнева за высокими стенами башен или в подземной келье. И везде он видит все тот же зоркий глаз в суровых небесах («Совесть»). Вот тень прославленного в древние времена короля Канута, который пришел к трону, убив престарелого отца, и теперь блуждает в залитом кровью саване, не решаясь предстать перед высшим судом («Отцеубийца»). Вот кровожадный феодал Тифаин, убивший ребенка вопреки мольбам старца и женщины-матери и жестоко терзаемый за это орлом, слетевшим с его железной каски («Орел с каски»). Характерно, что поэт не только раскрывает преступление, но тут же сурово наказывает преступника, творя, как и в «Возмездии», правый суд своим карающим словом. Недаром, прежде чем убить своего свирепого господина, орел обращается за свидетельством ко всей вселенной: «Звездное небо, горы, одетые белой невинностью снегов, о цветы, о леса, кедры, ели, клены. Я беру вас в свидетели, что этот человек зол!» Недаром целый раздел средневековой истории из второй книги «Легенды», куда и входит поэма «Орел с каски», носит красноречивое название «Предупреждения и возмездия».
С темой зла и возмездия связан общий тираноборческий дух «Легенды веков». Образы королей, монархов, легендарных или исторических деспотов, проходящих через всю «Легенду» от древних времен до современности поэта, от испанского Филиппа II или итальянского Козимо Медичи до французского Наполеона III, раскрываются как галерея чудовищ, которые попирают и топчут жизни народов, бросая их в войну, угрожая им эшафотом. Им противостоят носители героического, благородного начала: бродячие рыцари средневековья, которые готовы в любой момент на подвиг ради добра или наказания злодея, защитники своего народа легендарные герои Сид или Роланд или, наконец, бедные люди, воплощающие подлинную человечность, скромность и доброту. Таким образом, не пассивное и планомерное восхождение к свету, но жестокий конфликт между мощью зла и героической защитой добра положен поэтом в основу «Легенды», которая представляет собой единую по мысли эпопею, слагающуюся из множества разнообразных эпизодов, нравственных коллизий, героических актов и живописнейших картин.
Характерная черта романтической поэзии, которая так ярко сказалась в «Легенде веков», состоит в том, что здесь дано не прямое изображение, а, скорее, преображение повседневной действительности, представление человеческой истории и политической борьбы в раздвинутых, порою космических и мифологических рамках. Показательна поэма «Сатир», в которой рассказывается, как Геркулес, схватив за ухо маленького сатира, привел его с собою на Олимп, где живут античные боги. Сначала они потешаются над уродливым гостем, но затем ему дают лиру, и он начинает петь им о Земле, о рождении души, о человеке и его многострадальной истории. Постепенно на глазах изумленных богов он вырастает до необыкновенных размеров: вот он поет уже о сияющем будущем, о любви и гармонии, о свободе и жизни, торжествующей над разрушенной догмой. Он необъятно велик, он олицетворяет собою могучую природу — Пана и заставляет пасть на колени языческого бога — Юпитера.
Исследователи творчества Гюго не раз подчеркивали полную согласованность философской мысли поэта с ее воплощением в зримые поэтические образы, его умение живописать даже самые абстрактные понятия, ибо вокруг его мысли или чувства всегда свободно рождаются конкретные пейзажи или символические картины. В «Легенде веков» автор добился небывалого роскошества живописных образов, блистающих феерических картин и пылающих красок. «Художник, скульптор и музыкант, он создавал зримую и слышимую философию», — справедливо сказал о Гюго его современник Бодлер.
5
То же эпическое дыхание, которое ощущается в «Возмездии» и «Легенде веков», — широта исторического и художественного видения, масштабность замыслов, постоянная озабоченность судьбами отдельных людей и целых народов, — вдохновили Гюго на создание романов второго периода. Это «Отверженные» (1862), «Труженики моря» (1866), «Человек, который смеется» (1869) и «Девяносто третий год» (1874). Они являются подлинными эпопеями — многоплановыми постройками, в которых за романической интригой стоит широкий исторический план, общественная жизнь целой эпохи. В особенности громадный роман «Отверженные» — подлинная энциклопедия XIX века — представляет собой полифоническое произведение со многими планами, сюжетными линиями, мотивами и проблемами. Оно включает и социальную проблему нищеты и бесправия низших классов, и обширный историко-политический план, охватывающий целый комплекс вопросов французской революции, империи Наполеона I, битвы при Ватерлоо, Реставрации, Июльской монархии, республиканского восстания 1832 года; здесь поднимаются насущные вопросы государственного управления и законодательства, вопросы детской беспризорности и преступного мира; здесь ставится проблема нравственного совершенства (образ епископа Мириэля и затем Жана Вальжана) и раскрывается духовная эволюция поколения Гюго (история Мариуса). Здесь звучит и чистейшая лирика (любовь Мариуса и Козетты), и острая политическая характеристика рабочего предместья Сент-Антуан как «пороховницы страдания и мысли», поместившейся у ворот Парижа, и патетика баррикадной войны, мечты о светлом будущем, которое революция несет человечеству («горизонт, открывающийся с высоты баррикады», в речи республиканца Анжольраса).
Романтические герои Гюго это всегда люди значительной судьбы. Или это отверженные обществом бедняки, как Жан Вальжан, укравший булку для голодных детей своей сестры и отправленный за это на каторгу, которая наложила страшное клеймо на всю его дальнейшую жизнь («Отверженные»). Или же это жертва преступления короля — проданный и изуродованный в раннем детстве Гуинплен, с его чудовищной маской смеха, олицетворяющий страдающее человечество, обезображенное преступной общественной системой («Человек, который смеется»). Романтическая масштабность, гипербола, максимальная выразительность, гротеск человеческого страдания ясно чувствуется в построении этих характеров (маска Гуинплена недаром превосходит все возможные уродства, являясь настоящей «пародией на человеческий образ»).
В противоположность натуралистическому описанию, соразмерному с действительными масштабами событий и не отрывающемуся от повседневных фактов и явлений, Гюго в своем описании выделяет значительное, внушительное и грандиозное, обозначающее не только видимое, но и спрятанную за ним духовную сущность вещей. Из описания Гюго всегда вытекают далеко идущие выводы, порою целые философские концепции. Характерно, например, описание бушующего моря в «Человеке, который смеется», когда море, словно намеренно, преследует и наконец поглощает в своих глубинах преступных компрачикосов, изуродовавших и бросивших маленького Гуинплена, а затем в течение многих лет бережно носит на своих волнах флягу, содержащую тайну его судьбы. По мысли Гюго, за этой бушующей стихией скрывается божественное возмездие за преступление и защита несправедливо обиженного ребенка. Такое провиденциальное толкование мироздания касается и человеческой истории, в которой Гюго также отводит решающее значение року, судьбе, воле провидения. Зато в другом пункте он судит об исторических событиях, например о войнах, более трезво, чем буржуазные историки. Победителями исторических битв и сражения являются, согласно его мысли, не великие полководцы, а безвестные люди, простые солдаты, сам народ, доблесть которого он не устает славить во всех своих романах.
Романы Гюго открыто тенденциозны. Автор сам говорит в «Отверженных», что его книга не простая зарисовка событий, что она включает в себя определенную тенденцию. Видя мир в резких контрастах, в постоянном движении от злого к доброму, он пытается не только запечатлеть, но и проповедовать это движение, активно содействовать ему своим словом. Поэтому он прямо и резко выявляет свое авторское отношение к событиям и персонажам. У него действуют абсолютные праведники, типа епископа Мириэля из «Отверженных», или абсолютные злодеи, типа Баркильфедро из «Человека, который смеется». Как и «Легенда веков», его романы представляют собой жестокое сражение добрых и злых сил, и не только во внешнем мире, но и в душах героев. Романическая фабула «Отверженных» в большой своей части построена на именно такой грандиозной борьбе в душе Жана Вальжана, борьбе, которая сравнивается с ураганом, землетрясением, поединком гигантов. Жан Вальжан не только выигрывает эту битву со своей совестью, но становится своего рода гротеском величия («Все, что есть на свете мужественного, добродетельного, героического, святого, — все в нем», — объявляет Мариус, который лишь в конце романа познаёт величие души этого человека из народа, бывшего каторжника, ставшего «святым»).
Романы Гюго — это всегда романы больших и благородных чувств и великодушных поступков, как поступки того же Жана Вальжана, или подвиг маленького Гавроша на революционной баррикаде, или мужественное поведение Гуинплена, брошенного в ледяной пустыне и спасающего при этом жизнь еще более беспомощного младенца — Деи.
Таким образом, гуманист Гюго и проповедует добро, великодушие, истину, как он ее понимает, в самой сюжетной ткани своих романов. Он, кроме того, свободно врывается в эту сюжетную ткань с авторскими отступлениями, добавлениями, оценками, суждениями, вопросами и ответами «вслух». В этом смысле его авторская манера откровенно лирична и публицистична. Он высказывает по ходу дела свою оценку Великой французской революции, которую он считает могучим и благороднейшим движением, «исполненным доброты». Он со страстью отстаивает на примере Жана Вальжана свои нравственные воззрения, состоящие в том, что в душе человека есть божественная основа, искра, которую добро может воспламенить и превратить в лучезарное сияние. Подобные патетические, философские, исторические и политические отступления составляют одну из достопримечательностей романов Гюго, их несомненное богатство.
В последнем романе, «Девяносто третий год», получает свое самое полное воплощение проблема революции, постоянно стоящая в творчестве Гюго.
Девяносто третий год, что бы ни говорила о нем официальная историография, заклеймившая эту вершину французской революции как год гильотины, террора и ужаса, для Гюго — «памятная година героических битв». Охватывая своим сюжетом самый драматический узел событий (Вандея, восставшая против республики, грозная коалиция европейских монархов, англичане, готовые вступить на французскую землю, внутренняя и внешняя контрреволюция, подстерегающая момент, чтобы вонзить нож в сердце революционного Конвента), великий гуманист Гюго, не закрывая глаз на необходимость революционного насилия, на вынужденную жестокость гражданской войны, хочет показать величие и человечность революции. И эта грандиозная задача решается им с помощью столь же грандиозных средств: укрупненных характеров и ситуаций, контрастных и гиперболических построений, патетических и драматических сцен, каждая из которых раскрывает новую грань или новый аспект революционного сознания, формирующегося в разгаре битв.
Знаменательно изображение Конвента как «высочайшей из вершин» революции, которую Гюго сравнивает с Гималаями. Революция и ее детище Конвент предстают в романе как великое массовое движение, теснейшим образом связанное с улицей, с самыми широкими слоями народа. Очень важно, что художник увидел и подчеркнул созидающую роль Конвента, который в страшной обстановке войны, окруженный врагами, обдумывал в то же время проект народного просвещения, создавал начальные школы, занимался вопросом улучшения больниц.
Но самая примечательная особенность романа заключается в том, что при зарисовке этих исторически-масштабных событий — войн, революции, решения ею громадной важности политических и идеологических задач — художник ни на одну минуту не упускает из виду индивидуально-человеческой драмы, которая развертывается на фоне этих событий. Соединение высокого эпоса и интимной лирики, которое характерно для поэзии Гюго, сказывается не менее явственно и в его романе. Об этом говорят первые же эпизоды «Девяносто третьего года» — встреча парижского батальона «Красный колпак» с несчастной крестьянкой, вдовой, матерью, прячущейся с детьми в чаще вандейских лесов, диалог между нею и сержантом Радубом («Кто ты?.. Какой партии ты сочувствуешь?.. Ты синяя? Белая? С кем ты?» — «С детьми…»), и слеза сурового воина революции, и его предложение усыновить сирот, сделав их детьми батальона. Как увязать материнство, детство, любовь, милосердие с грозной поступью революции, очищающей землю во имя сияющего будущего? Такова важнейшая проблема, которую ставит Гюго в своем романе.
Главные герои Гюго олицетворяют собою силы революции и контрреволюции, столкнувшиеся в жесточайшем поединке. Бесчеловечность старого мира, использующего в борьбе против революции неграмотность, суеверия, рабскую привычку к послушанию простого народа, в особенности темной крестьянской массы, — воплощена художником в образе маркиза де Лантенака — беспощадно-жестокого, решительного, деятельного вождя восставшей Вандеи, который объявляет о себе кровавыми экзекуциями, поголовными расстрелами и поджогами мирных деревень, принявших республику (примечательно, что враги революции у Гюго не менее масштабны, чем она сама, иначе не была бы так тяжка, так драматична ее борьба со старым миром).
Другая, контрастирующая между собой, пара героев Гюго принадлежит лагерю революции. Бывший священник, ставший революционером, Симурдэн и его воспитанник, молодой полководец республики, Говэн служат одному и тому же великому делу защиты республики, но они, по мысли Гюго, воплощают две противоположные тенденции революции. Суровый и непреклонный Симурдэн опирается на насилие, с помощью которого республика должна одолеть своих врагов. Любимый герой Гюго Говэн соединяет воинскую отвагу с милосердием.
Противоположные позиции Симурдэна и Говэна резко сталкиваются вокруг поступка маркиза Лантенака, который спасает из горящей башни маленьких заложников — усыновленных детей батальона «Красный колпак» и добровольно отдается в плен республиканцам. В этом кульминационном моменте остро проявляется постоянная романтическая тенденция Гюго, стремящегося доказать, что поступками людей должна управлять высшая человечность, что добро может победить даже в душе самого злобного человека. («Человечность победила бесчеловечность. С помощью чего была одержана эта победа?.. Как удалось сразить этого колосса злобы и ненависти? Какое оружие было употреблено против него? Пушка, ружья? Нет, колыбель».)
Но великодушный поступок маркиза де Лантенака вызывает ответную реакцию в душе Говэна — страстный спор, который он ведет с собственной совестью: должно ли ответить благородством на благородство и освободить Лантенака? Но как же Франция?..
Поступок Говэна, который освобождает Лантенака, никак не может быть оправдан с точки зрения реальных задач революции и родины. Речь Говэна перед революционным трибуналом доказывает, что он сам это прекрасно понял и сам осудил себя на смерть («Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленных… я забыл о Франции, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен»).
Так воплощается трагическое противоречие между гуманной целью и вынужденно жестокими средствами революции. Противоречие между благородным великодушием ее бойцов и суровой необходимостью ограждать революцию от ее врагов. Недаром именно в уста Говэна (во время его последней беседы с Симурдэном в ночь перед казнью) Гюго вкладывает свою утопическую программу, свое понимание революции в ее грозном настоящем и прекрасном будущем, которое она несет людям. Говэн без колебаний оправдывает настоящий момент революции как очистительную бурю, которая должна оздоровить общество («Зная, как ужасны миазмы, я понимаю ярость урагана»). Но при этом, отнюдь не отступая от своих гуманистических устремлений, Говэн (Гюго) ждет от революции не только всеобщего равенства и равноправия, за которые ратует суровый Симурдэн, но и расцвета высочайших человеческих чувств — милосердия, преданности, взаимного великодушия и любви; он мечтает о «республике духа», которая позволит человеку «возвыситься над природой»; он верит в вечное дерзание и беспредельное развитие человеческого гения.
Таков был ответ старого гуманиста, человеколюбца Гюго многочисленным врагам и клеветникам, которые с особенной яростью обрушились на революцию после дерзновенной попытки Парижской коммуны.
* * *
В 1952 году, когда весь мир праздновал стопятидесятилетний юбилей Виктора Гюго, у нас много говорилось о сближении Гюго с реализмом — высшим художественным методом XIX столетия. Иногда с извинительной интонацией писали, что, «вопреки» романтизму, Гюго отразил подлинную действительность своего времени, особенно в таких шедеврах, как «Возмездие» или «Отверженные». Однако за двадцать лет, прошедшие с тех пор, советское литературоведение немало сделало для изучения романтизма, показав, что и этот метод художественной литературы XIX века имел свои громадные завоевания, и сегодня нет никакой необходимости «оправдывать» Гюго в его романтизме.
На самом деле вся эстетика (равно, как и этика и философия) Гюго остается глубоко романтической по своему духу, что вовсе не означает, что писатель «уходит» от действительности или извращает ее в своем творчестве. Напротив, романтический метод Гюго в ряде случаев позволяет ему более масштабно поставить некоторые политические и нравственные проблемы (проблемы народа и революции, например), позволяет порою подняться над непосредственно видимыми событиями сегодняшнего дня, чтобы увидеть за ними невидимые величественные процессы, увидеть будущее, о котором говорит в своем предсмертном прозрении Говэн.
Вся этика и эстетика Гюго основаны на преодолении настоящего, на возвышении над повседневностью и порыве к нравственному идеалу. В противоположность натуралистическому методу, который сознательно не отрывался от повседневности, для Гюго характерны сила и размах воображения, создание образов на грани реального и фантастического (как чудовищная маска Гуинплена, символизирующая общую изуродованность человека в бесчеловечном мире). Это эстетика чрезмерности и контраста, нарочитого укрупнения — вплоть до гротеска — как героев, так и событий, как добродетели, так и порока, эстетика постоянных антитез: черного и белого, злого и доброго, не только сосуществующих, но и постоянно сражающихся между собой во всей вселенной и в душе человека. Это, наконец, чисто романтическая тенденциозность: сознательное преобладание нравоучительной цели над задачами создания типического характера (вот почему нельзя упрекать Гюго с точки зрения реалистической эстетики за «неоправданность» неожиданно великодушного поступка маркиза Лантенака).
Таковы особенности художественно-романтического воссоздания мира в творчестве Гюго, с помощью которых он ярко выражает свою гуманистическую оценку событий и привлекает сердца людей к обездоленным против богачей и аристократов, к народным массам и революции против тирании, к милосердию и духовному величию против жестокости, подлости и низости всякого рода.
Книги Гюго, благодаря своей человечности и благородству, благодаря блестящей фантазии, увлекательности, мечте, продолжают волновать взрослых и юных читателей всех стран мира.
Елена Марковна ЕвнинаДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ ГОД Перевод Н. М. Жарковой
Часть первая В МОРЕ
Книга первая СОДРЕЙСКИЙ ЛЕС
В последних числах мая 1793 года один из парижских батальонов, прибывших в Бретань под командованием Сантерра[3], вел разведку в грозном Содрейском лесу, близ Астилле. Около трехсот человек насчитывал теперь этот отряд, больше чем наполовину растаявший в горниле суровой войны. То было в те дни, когда после боев под Аргонном, Жемапом[4] и Вальми[5] в первом парижском батальоне из шестисот волонтеров осталось всего двадцать семь человек, во втором — тридцать три и в третьем — пятьдесят семь человек. Памятная година героических битв.
Во всех батальонах, посланных из Парижа в Вандею, было девятьсот двенадцать человек. Каждому батальону придали по три орудия. Сформировали их в спешном порядке. 25 апреля, в бытность Гойе[6] министром юстиции и Бушотта[7] военным министром, секция Бон-Консейль предложила послать в Вандею несколько батальонов волонтеров; член Коммуны Любен сделал соответствующее представление; первого мая Сантерр уже мог направить к месту назначения двенадцать тысяч солдат, тридцать полевых орудий и батальон канониров. Эти батальоны, сформированные столь молниеносно, оказались столь удачно сформированными, что и поныне еще служат образцом при определении состава линейных рот; именно тогда впервые изменилось традиционное соотношение между числом солдат и числом унтер-офицеров.
Двадцать восьмого апреля Коммуна города Парижа дала своим волонтерам краткий наказ: «Ни пощады, ни снисхождения!» К концу мая из двенадцати тысяч человек, покинувших Париж, восемь тысяч пали в бою.
Батальон, углубившийся в Содрейский лес, был начеку. Продвигались не торопясь. Зорко смотрели по сторонам, направо и палево, вперед и назад; недаром Клебер[8] говорил: «У солдата и на затылке глаза». Шли уже давно. Который мог быть час? Начало или конец дня? Трудно сказать, так как в здешних глухих чащобах безраздельно господствует вечерняя мгла и никогда в этом лесу не бывает по-настоящему светло.
Трагический Содрейский лес! Здесь, среди лесных зарослей, в ноябре 1792 года свершилось первое злодеяние гражданской войны. Из гибельных дебрей Содрея вышел свирепый хромец Мускетон; длинный перечень убийств, совершенных тут, вызывал невольную дрожь. Нет места страшнее. Солдаты с осторожностью углублялись в лес. Все было в цветении; вокруг смыкалась колеблющаяся завеса ветвей, изливавших сладостную свежесть молодой листвы; солнечные лучи лишь местами пронизывали зеленую мглу; под ногой шпажник, касатик, полевые нарциссы, весенний шафран, безыменные цветочки — предвестники тепла, словно шелковыми нитями и позументом расцвечивали пышный ковер трав, куда вплетался разнообразным узором мох: здесь он стелился подобно зеленым гусеницам, а там распускался звездами. Солдаты шагали медленно в полном молчании, бесшумно раздвигая кустарник. Над остриями штыков щебетали птицы.
В гуще Содрейского леса некогда, в мирные времена, устраивались ночные охоты на пернатых, ныне здесь шла охота на людей.
Стеной стояли березы, вязы и дубы; под ногами ровная земля; густая трава и мох поглощали шум человеческих шагов; ни тропинки, а если и встречалась случайная тропка, то тут же пропадала; заросли остролиста, терновника, папоротника, шпалеры колючего стольника — и в десяти шагах невозможно разглядеть человека.
Пролетавшая иногда над шатром ветвей цапля или водяная курочка указывали на близость болота.
Люди шли. Шли навстречу неизвестности, боясь найти то, что искали.
Время от времени попадались следы привала: выжженная земля, примятая трава, сбитый из палок крест, окровавленные ветки. Вот там готовили ужин, тут служили мессу, там перевязывали раненых. Но люди, побывавшие здесь, исчезли бесследно. Где они сейчас? Может быть, уже далеко? Может быть, совсем рядом, залегли в засаде с мушкетоном в руке? Лес словно вымер. Батальон двигался вперед с удвоенной осмотрительностью. Закон пустыни — недоверие. Не видно никого — тем больше оснований кого-то остерегаться. Недаром о Содрейском лесе ходила дурная слава.
В таких местах всегда возможна засада.
Тридцать гренадеров, посланные лазутчиками под командой сержанта, ушли вперед далеко от основной части отряда. С ними отправилась и батальонная маркитантка. Маркитантки вообще охотно следуют за головным отрядом. Пусть на каждом шагу подстерегает опасность, зато чего только не насмотришься… Любопытство — одно из проявлений женской храбрости…
Вдруг солдаты маленького передового отряда почувствовали тот знакомый охотнику трепет, который предупреждает его о близости звериного логова. Будто слабое дуновение пронеслось над непроходимым кустарником, и, казалось, что-то шевельнулось в листве. Идущие впереди подали знак остальным.
Когда солдаты посланы в дозор или на разведку, офицерам незачем вмешиваться: то, что должно быть сделано, делается само собой.
В мгновение ока подозрительное место было окружено и замкнуто в кольцо вскинутых ружей: черную глубь чащи взяли на прицел со всех четырех сторон, и солдаты, держа палец на курке, не отрывая глаз от подозрительного куста, ждали лишь команды сержанта.
Но маркитантка отважно заглянула под шатер ветвей, и, когда сержант уже готов был отдать команду «пли!», — раздался ее крик: «Стой!»
Затем, повернувшись к солдатам, она добавила: «Не стреляйте, братцы».
Она нырнула в кусты. Солдаты последовали за ней.
И впрямь там кто-то был.
В самой гуще кустарника на краю круглой ямы, где лесорубы, как в печи, пережигают на уголь старые корневища, в просвете расступившихся ветвей, словно в зеленой горнице, полускрытой, как альков, завесою листвы, сидела на мху женщина; она кормила грудью младенца, а на коленях у нее покоились две белокурые головки спящих детей.
Так вот она засада!
— Что вы здесь делаете? — воскликнула маркитантка.
Женщина подняла голову.
— Вы, видно, с ума сошли, что сюда забрались! — с яростью воскликнула маркитантка. И она добавила: — Еще минута, и вас бы на месте убили!.. — Повернувшись к солдатам, она пояснила: — Это женщина.
— Будто сами не видим! — отозвался кто-то из гренадеров.
А маркитантка все не унималась:
— Пойти вот так в лес, чтобы тебя тут же убили… Надо ведь такую глупость придумать!
Женщина, оцепенев от страха, с изумлением, словно спросонья, глядела на ружья, сабли, штыки, на свирепые физиономии.
Дети проснулись и захныкали.
— Мне есть хочется, — сказал один.
— Мне страшно, — сказал второй.
Лишь младенец продолжал сосать материнскую грудь.
К нему-то и обратилась маркитантка:
— Только ты один у нас молодец.
Мать онемела от ужаса.
— Да не бойтесь вы, — крикнул ей сержант, — мы из батальона «Красный колпак»!
Женщина задрожала всем телом. Она взглянула на сержанта: на этом суровом лице выделялись лишь густые усы, густые брови и пылавшие, как уголья, глаза.
— Бывший батальон «Красный крест», — пояснила маркитантка.
А сержант добавил:
— Ты кто такая, сударыня, будешь?
Женщина, застыв от ужаса, не спускала с него глаз. Она была худенькая, бледная, еще молодая, в жалком рубище; на голову она, как все бретонские крестьянки, накинула огромный капюшон, а на плечи шерстяное одеяло, подвязанное у шеи веревкой. Она даже не прикрыла голую грудь, словно чуждая стыдливости дикарка. На сбитых в кровь ногах не было ни чулок, ни обуви.
— Видать, нищенка, — решил сержант.
В разговор снова вмешалась маркитантка, и хотя ее вопрос прозвучал по-солдатски грубо, в нем чувствовалась женская мягкость:
— Как звать-то?
Женщина, заикаясь, невнятно прошептала в ответ:
— Мишель Флешар.
А маркитантка тем временем ласково гладила шершавой ладонью головку младенца.
— Сколько же нам времени? — спросила она.
Мать не поняла. Маркитантка повторила:
— Я спрашиваю, сколько ему?
— А-а, — ответила мать. — Полтора годика.
— Смотрите, какие мы взрослые! — воскликнула маркитантка. — Стыдно такому сосать. Придется, видно, мне отучать его от груди. Мы ему супу дадим.
Мать немного успокоилась. Двое старших ребятишек, которые тем временем уже успели проснуться, смотрели вокруг с любопытством, забыв о недавнем испуге. Они залюбовались гренадерскими плюмажами.
— Ах, — вздохнула мать, — они совсем изголодались. — И добавила: — Молоко у меня пропало.
— Еды им сейчас дадут, — закричал сержант, — да и тебе тоже. Не о том речь. Ты скажи нам, какие у тебя политические убеждения?
Женщина смотрела на сержанта, ничего не отвечая.
— Ты что, не слышишь, что ли?
Она пробормотала:
— Меня совсем молодой в монастырь отдали, а потом я вышла замуж, я не монахиня. Святые сестры научили меня говорить по-французски. Нашу деревню сожгли. Вот мы и убежали в чем были, я даже башмаков надеть не успела.
— Я тебя спрашиваю, каковы твои политические убеждения?
— Это вы о чем?
— Пойми ты, сейчас много шпионок развелось. А шпионок расстреливают. Ну, отвечай. Ты не цыганка? Где твоя родина?
Женщина глядела на сержанта, будто не понимая его слов.
Сержант повторил:
— Где твоя родина?
— Не знаю, — ответила женщина.
— Как так не знаешь? Не знаешь, откуда ты родом?
— Где родилась? Знаю.
— Ну, так и говори, где родилась.
Женщина ответила:
— На ферме Сискуаньяр в приходе Азэ.
Тут пришла очередь удивляться сержанту. Он на минуту замолк. Потом переспросил:
— Как ты сказала?
— Сискуаньяр.
— Какая же это родина?
— Это мой край.
И женщина, подумав с минуту, сказала:
— Теперь я поняла, сударь. Вы из Франции, а я из Бретани.
— Ну и что?
— Это ведь разные края.
— Но родина-то у нас одна! — закричал сержант.
Женщина упрямо повторила:
— Из Сискуаньяра мы.
— Ну ладно, Сискуаньяр так Сискуаньяр! — подхватил сержант. — Твоя семья оттуда?
— Да.
— А что делают твои родные?
— Умерли все. У меня никого нет.
Сержант, видимо, любитель поговорить, продолжал допрос:
— У всех есть родные или были, черт возьми. Ты кто такая? А ну, говори скорее.
Женщина оцепенела: эти «или были» напоминали скорее звериное рычанье, чем человеческую речь.
Маркитантка поняла, что пришло время снова вмешаться в беседу. Она погладила по головке грудного младенца и ласково похлопала по щечкам двух старших.
— Как зовут крошку? — спросила она. — По-моему, она у нас девица.
Мать ответила:
— Жоржетта.
— А старшего? Этот сорванец, видать, кавалер.
— Рене-Жан.
— А младшего? Ведь и он тоже настоящий мужчина, гляди, какой щекастый.
— Гро-Алэн, — ответила мать.
— Хорошенькие детки, — заметила маркитантка, — посмотрите только, какие важные.
Но сержант не унимался:
— Отвечай-ка, сударыня. Дом у тебя есть?
— Был дом.
— Где был?
— В Азэ.
— А почему ты дома не сидишь?
— Потому что его сожгли.
— Кто сжег?
— Не знаю. Война сожгла.
— Откуда ты идешь?
— Оттуда.
— А куда идешь?
— Не знаю.
— Говори толком. Кто ты?
— Не знаю.
— Не знаешь, кто ты?
— Люди мы, спасаемся.
— А какой партии ты сочувствуешь?
— Не знаю.
— Ты синяя? Белая? С кем ты?
— С детьми.
Наступило молчание. Его нарушила маркитантка.
— А вот у меня детей нет, — сказала она. — Некогда было.
Сержант снова приступил к допросу:
— А родители твои? А ну-ка, сударыня, доложи нам о твоих родителях. Меня вот, к примеру, звать Радуб, сам я сержант с улицы Шерш-Миди, мать и отец тоже там жили, я могу сказать, кто такие мои родители. А ты о своих скажи. Говори, кто были твои родители?
— Флешары. Просто Флешары.
— Флешары — это Флешары, а Радубы — это Радубы, Но ведь у человека не только фамилия есть. Чем они занимались, твои родители? Что делали? Что сейчас поделывают? Что они нафлешарничали, твои Флешары?
— Они землю пахали. Отец был калека, не мог работать с тех пор, как сеньор приказал избить его палками; так приказал сеньор, его сеньор, наш сеньор; это он по доброте велел избить отца за то, что отец подстрелил кролика, а ведь за это полагается смерть, но сеньор наш помиловал отца, он сказал: «Хватит с него ста палок», — мой отец с тех пор и стал калекой.
— Ну, а еще что?
— Дед мой был гугенотом. Господин кюре велел сослать его на галеры. Я тогда еще совсем маленькая была.
— Дальше?
— Свекор мой контрабандой занимался — соль продавал. Король велел его повесить.
— А твой муж чем занимается?
— Сейчас воевал.
— За кого?
— За короля.
— А еще за кого?
— Ну, конечно, за своего сеньора.
— А еще за кого?
— Ну, конечно, за господина кюре.
— Чтобы вас всех громом порасшибало! — вдруг заорал один из гренадеров.
Женщина даже подскочила от страха.
— Видите ли, сударыня, мы парижане, — любезно пояснила маркитантка.
Женщина в испуге сложила руки и воскликнула:
— О, господи Иисусе!
— Ну-ну, без суеверий! — прикрикнул сержант.
Маркитантка опустилась рядом с женщиной на траву и усадила к себе на колени старших детей, которые охотно к ней пошли. У ребенка переход от страха к полному доверию совершается в мгновение ока и без всяких видимых причин. Тут действует какое-то непогрешимое внутреннее чутье.
— Бедняжка вы моя, бретоночка, детки у вас такие милые, просто прелесть. Сейчас скажу, сколько им лет. Вот тому, что побольше, — четыре годочка, а младшему — три. А девица эта, смотри, как сосет, сразу видать, обжора. Ах ты, чудовище этакое! Ты так свою мамашу совсем скушаешь. Вот что, сударыня, вы ничего не бойтесь. Вступайте-ка в наш батальон. Будете вроде меня. Зовут меня Гусарша. Это мое прозвище. Но по мне уж лучше Гусаршей зовите, чем мамзель Двурогой, как мою матушку. Я маркитантка, а маркитантки, это, знаете, которые разносят воду, когда стреляют и убивают. А кругом все как в аду кипит. У нас с вами одинаковая нога, я вам свои башмаки подарю. Десятого августа я была в Париже и подавала напиться самому Вестерману. Вот оно как! Видела своими глазами, как гильотинировали Людовика Шестнадцатого, Луи Капета, так его теперь называют. Ух, и не хотелось же ему помирать! Да слушайте вы меня, черт возьми! Подумать только, еще тринадцатого января он на всех страху нагонял, а сам сидел со своим семейством да посмеивался! Когда его силком уложили «на доску», как у нас в Париже говорят, он был без сюртука и туфель, только в сорочке, в пикейном жилете, в серых шерстяных штанах и в серых шелковых чулках. Своими глазами видела. Карета, в которой его везли, была выкрашена в зеленый цвет… Послушайте меня, идите с нами, у нас в батальоне все славные ребята. Будете маркитанткой номер два, я вас живо делу научу. Нет ничего проще — дадут тебе большую флягу и колокольчик, и ты идешь в самое пекло. Пули летают, пушки ухают, шум стоит адский, а ты знай кричи: «А ну, сынки, кому пить охота, а ну?» Говорю вам, дело немудреное. Я, например, всем подряд пить подаю. Ей-богу, правда. И синим и белым, хотя сама-то я синяя. И самая настоящая синяя. А пить всем подаю. Ведь каждому раненому пить охота. Умирают-то все, без различия убеждений. Перед смертью людям надо бы помириться. Дурацкое это занятие — драться. Идите с нами. Если меня убьют, дело к вам перейдет. Вы по виду не судите, я женщина не злая, и солдат из меня неплохой. Не бойтесь ничего.
Когда маркитантка закончила свою речь, женщина пробормотала:
— Нашу соседку звали Мари-Жанна, а нашу батрачку звали Мари-Клод.
Тем временем сержант Радуб отчитывал гренадера:
— Молчал бы ты! Видишь, даму совсем напугал. Разве при дамах можно чертыхаться?
— Да ведь честному человеку такие слова слушать — прямо нож в сердце, — оправдывался гренадер, — легче на месте помереть, чем такими чудищами заморскими любоваться: отца сеньор искалечил, ихнего дедушку из-за кюре сослали на галеры, ихнего свекра король повесил, а они, дурьи башки, сражаются, устраивают мятежи, готовы дать себя уложить ради своего сеньора, кюре и короля!
Сержант скомандовал:
— В строю не разговаривать!
— Мы и так не разговариваем, сержант, — ответил гренадер, — да все равно с души воротит смотреть, как такая миленькая женщина сама лезет под пули в угоду какому-то попу!
— Гренадер, — оборвал его сержант, — мы здесь не в клубе секции Пик. Не разглагольствуйте.
Он снова повернулся к женщине:
— А где твой муж, сударыня? Что он поделывает? Что с ним сталось?
— Ничего не сталось, потому что его убили.
— Где убили?
— В лесу.
— Когда убили?
— Третьего дня.
— Кто убил?
— Не знаю.
— Не знаешь, кто твоего мужа убил?
— Нет, не знаю.
— Синие убили? Белые убили?
— Ружье убило.
— Третьего дня, говоришь?
— Да.
— А где?
— Около Эрне. Мой муж упал. Вот и все.
— А когда твоего мужа убили, ты что стала делать?
— Пошла с детьми.
— Куда?
— Куда глаза глядят.
— Где спишь?
— На земле.
— Что ешь?
— Ничего.
Сержант скорчил классическую солдатскую гримасу, вздернув пышные усы к самому носу.
— Совсем ничего?
— Ежевику рвали, терн прошлогодний, он еще кое-где на кустах уцелел, чернику ели, побеги папоротника.
— Так. Выходит, что ничего.
Старший мальчик, поняв, очевидно, о чем идет речь, сказал: «Есть хочу».
Сержант вытащил из кармана краюху хлеба — свое дневное довольствие — и протянул ее женщине. Она разломила краюху пополам и дала по куску старшим детям. Те с жадностью принялись уплетать хлеб.
— А себе не оставила, — проворчал сержант.
— Потому что не голодна, — сказал солдат.
— Потому что мать, — сказал сержант.
Мальчики перестали жевать.
— Пить хочу! — сказал один.
— Пить хочу! — сказал другой.
— А в этом чертовом лесу даже ручья нет! — воскликнул сержант.
Маркитантка сняла медную чарку, висевшую у нее на поясе рядом с колокольчиком, отвернула крышку жбана, который она носила через плечо, нацедила несколько капель и поднесла чарку к губам ребенка.
Старший выпил и скорчил гримасу.
Младший выпил и сплюнул.
— А ведь какая вкусная, — сказала маркитантка.
— Ты чем их попотчевала, водкой, что ли? — осведомился сержант.
— И еще какой, самой лучшей! Да ведь они деревенщина.
И она вытерла чарку.
Сержант снова приступил к делу:
— Значит, сударыня, спасаешься?
— Пришлось.
— Бежишь, стало быть, прямиком через поля?
— Сперва я бежала, сколько хватало сил, потом пошла, а потом свалилась.
— Ох вы, бедняжка, — сказала маркитантка.
— Люди всё дерутся, — пробормотала женщина. — Кругом, куда ни погляди, всюду стреляют. А я не знаю, чего кто хочет. Мужа моего убили. Вот это я поняла.
Сержант с силой ударил прикладом о землю и сердито прокричал:
— Какая глупость эта война, прах ее возьми!
Женщина продолжала:
— Прошлую ночь мы в дуплине спали.
— Все четверо?
— Все четверо.
— Спали?
— Спали.
— Спали, — повторил сержант, — стоя спали. — И он повернулся к солдатам. — Ребята, здешние дикари называют дуплиной большое такое дуплистое дерево, куда человек может втиснуться, словно в ножны. Да с них какой спрос. Ведь не парижане.
— Спать в дупле, — повторила маркитантка, — и еще с тремя ребятишками!
— А когда малыши рев поднимали, — промолвил сержант, — вот прохожие, должно быть, дивились, никого вроде не видно, — стоит дерево и кричит: «Папа, мама».
— Слава богу, сейчас хоть лето, — вздохнула женщина.
Она опустила глаза, и в ее покорном взгляде отразилось бесконечное удивление перед непостижимым бременем катастроф.
Солдаты молча стояли вокруг, ошеломленные картиной человеческой беды.
Вдова, трое маленьких сироток, бегство, растерянность, одиночество; война, с грозным рыком обложившая весь горизонт; голод, жажда, единственная пища — трава, единственный кров — небо!
Сержант подошел поближе к женщине и поглядел на девочку, прижавшуюся к материнской груди. Малютка выпустила изо рта сосок, повернула головку, уставилась красивыми синими глазками на страшную мохнатую физиономию, склонившуюся над ней, и вдруг улыбнулась.
Сержант быстро выпрямился, крупная слеза проползла по его щеке и, словно жемчужина, повисла на кончике уса.
— Товарищи, — громко произнес он, — из всего вышесказанного вытекает, что батальону не миновать стать отцом. Как же мы поступим? Возьмем да и усыновим трех малышей.
— Да здравствует Республика! — прокричали гренадеры.
— Решено, — заключил сержант.
И он простер обе руки над матерью и детьми.
— Значит, — сказал он, — отныне это дети батальона «Красный колпак».
Маркитантка даже подпрыгнула от радости.
— Под одним колпаком три головки, — прокричала она.
Потом вдруг зарыдала в голос, горячо поцеловала бедняжку вдову и проговорила:
— А маленькая-то уже и сейчас, видать, шалунья!
— Да здравствует Республика! — снова крикнули гренадеры.
Сержант повернулся к матери:
— Пойдемте, гражданка.
Книга вторая КОРВЕТ «КЛЕЙМОР»
I АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ В СМЕШЕНИИ
Весной 1793 года, когда Францию, атакуемую одновременно на всех границах, вдруг отвлекло, как отвлекает волнующее зрелище, падение жирондистов, вот что происходило в Ламаншском архипелаге.
Первого июня, приблизительно за час до захода солнца, на острове Джерси, в маленькой пустынной бухточке Боннюи, готовился к отплытию корвет, пользуясь туманной погодой, которая благоприятна беглецам, потому что слишком опасна для мирных мореплавателей. Судно это, обслуживаемое французским экипажем, числилось в составе английской флотилии, которая несла службу охраны у восточной оконечности острова. Английской флотилией командовал принц Латур Овернский, из рода герцогов Бульонских, и именно по его приказу корвет был отряжен для выполнения важного и спешного поручения.
Этот корабль, значившийся в списках английского морского ведомства под названием «Клеймор», на первый взгляд казался обычным транспортным судном, хотя в действительности являлся военным корветом. По виду это было прочное, тяжеловесное торговое судно, но горе тому, кто доверился бы внешним приметам. При постройке «Клеймора» преследовалась двоякая цель — хитрость и сила: если возможно — обмануть, если необходимо — драться. Чтобы успешно справиться с предстоящей задачей, обычный груз заменили тридцатью крупнокалиберными каронадами, занявшими все межпалубное пространство. В предвидении непогоды, а вернее, стремясь придать корвету безобидный вид торгового судна, все тридцать орудий принайтовили, или, проще говоря, прикрепили, тройными цепями, причем жерла их упирались в закрытые ставни портов; самый зоркий глаз не обнаружил бы ничего подозрительного, тем более что иллюминаторы и люки тоже были задраены; корвет словно надел на себя маску. Каронады устанавливались на лафетах с бронзовыми колесами старинного образца — со спицами. Обычно на военных корветах орудия размещаются лишь на верхней палубе, однако «Клеймор», предназначенный для внезапных нападений и засад, не имел открытой батареи, но, как мы уже говорили, мог нести целую батарею на нижней палубе. При своих внушительных размерах и относительной тяжеловесности «Клеймор» был достаточно быстроходен и среди всех прочих судов английского флота славился прочностью корпуса, так что в бою стоил целого фрегата, хотя его низкая бизань-мачта несла только одну бизань. Руль, редкой по тем временам, замысловатой закругленной формы, — творение саутгемптонских верфей, — обошелся в пятьдесят фунтов стерлингов.
Экипаж «Клеймора» сплошь состоял из французских офицеров-эмигрантов и французских матросов-дезертиров. Людей отбирали тщательно: каждый, принятый на борт корвета, должен был быть хорошим моряком, хорошим солдатом и хорошим роялистом. Каждый был трижды фанатиком — фанатически преданным корвету, шпаге и королю.
На случай высадки экипажу корвета придали полубатальон морской пехоты.
Корветом командовал граф дю Буабертло, один из лучших офицеров старого королевского флота, кавалер ордена Святого Людовика; его старшим помощником был шевалье де Ла Вьевиль, который командовал той гвардейской ротой, где Гош начинал свою службу в качестве сержанта; лоцманом был самый опытный из всех лоцманов Джерси — Филипп Гакуаль.
По всему чувствовалось, что корвету предстояло совершить нечто из ряда вон выходящее. Недаром «Клеймор» принял на борт человека, который явно готовился к рискованному предприятию. То был высокий, еще крепкий старик, не согбенный годами, с суровым лицом, которое казалось и юным и старческим одновременно, и трудно поэтому было определить его возраст; пусть такому человеку много лет, зато у него много сил, пусть поседели виски, зато глаза мечут молнии; сорок — по богатырскому сложению и восемьдесят — по властной осанке. В ту минуту, когда новый пассажир вступил на палубу, ветер отогнул край его плаща, и все увидели широкие штаны, гетры и куртку из козьей шкуры густым всклокоченным мехом внутрь, расшитую по коже позументом, — традиционный наряд бретонского крестьянина. Такие куртки в Бретани раньше носили и в будни и в праздник, смотря по надобности, выворачивая наружу то мехом, то расшитой стороной, так что простая овчина становилась в воскресенье праздничным нарядом. Чтобы довершить сходство с крестьянской одеждой, костюм старика был с умыслом потерт на локтях и коленях и выглядел заношенным, а плащ из грубой ткани походил на обычное рубище рыбака. Голову его венчала круглая, по моде того времени, шляпа с высокой тульей и широкими полями; при желании ее можно было носить и на крестьянский и на военный манер — в первом случае поля опускались, а во втором достаточно было приподнять один край и пристегнуть к тулье петлицей с кокардой. Сейчас шляпа была надета на крестьянский лад, без кокарды и петлицы.
Лорд Балькаррас, губернатор острова, и принц де Латур Овернский лично сопровождали старика на корабль. Тайный агент эмигрантской знати, некто Желамбр, состоявший прежде в охране графа д’Артуа[9], самолично следил за уборкой каюты для нового пассажира и, пренебрегши своим благородным происхождением, простер внимание и заботливость до того, что сам нес за стариком его саквояж. Отбывая обратно на сушу, г-н де Желамбр склонился перед этим крестьянином в низком поклоне; лорд Балькаррас сказал ему: «Желаю успеха, генерал», а принц Овернский добавил: «До скорой встречи, кузен!»
Матросы «Клеймора» тут же окрестили нового пассажира Мужиком, и эта кличка то и дело повторялась в тех обрывистых фразах, которые заменяют морякам беседу, но кто он, откуда взялся и зачем попал на судно, оставалось им неизвестно; однако они поняли, что этот Мужик такой же мужик, как их корвет — торговое судно.
Ветра почти не было. «Клеймор» вышел из бухты Боннюи, миновал Булэй-Бэй и некоторое время, прежде чем взять курс в открытое море, шел в виду берега; затем, постепенно уменьшаясь в размерах, судно исчезло во мраке.
Час спустя, вернувшись к себе в Сент-Элье, Желамбр отправил с саутгемптонским курьером в штаб-квартиру герцога Йоркского[10] следующие строки, адресованные графу д’Артуа:
«Ваше высочество, отъезд состоялся. Успех обеспечен. Через неделю все побережье от Гранвиля до Сен-Мало будет объято пламенем».
А за четыре дня до того тайный эмиссар вручил депутату от Марны гражданину Приеру[11], прикомандированному с особыми полномочиями к Шербургской береговой армии и квартирующему в Гранвиле, послание, написанное той же рукой, что и первое, и гласившее:
«Гражданин уполномоченный, 1 июня, с началом прилива, снимается с якоря военный корвет „Клеймор“, несущий на себе батарею, скрытую на нижней палубе; цель его плавания — высадить на французский берег некоего человека, чьи приметы приводятся ниже: рост высокий, возраст пожилой, волосы седые, одежда крестьянская, руки аристократические. Завтра постараюсь сообщить более точные сведения. Высадка намечена на утро 2 июня. Поставьте в известность эскадру, захватите корвет, прикажите гильотинировать вышеозначенного человека».
II МРАК СГУЩАЕТСЯ ВОКРУГ КОРАБЛЯ И ПАССАЖИРА
Вместо того чтобы идти на юг и держать путь на Сент-Катрин, корвет взял курс на север, потом повернул на запад и смело вошел в пролив между Серком и Джерси, который зовется пролив Бедствий. Ни на левом, ни на правом берегу в те времена маяков не было.
Солнце давно уже село; ночь выдалась темная, темнее, чем обычно в летнюю пору; вот-вот должна была появиться луна, но тяжелые тучи — редкое явление в период солнцестояния и частое в дни равноденствия — затянули небосвод, и, судя по всем признакам, луна появится, лишь склонившись к горизонту, то есть перед самым заходом. Тучи нависали все ниже, обволакивая морскую гладь пеленой тумана.
Эта темень как нельзя более благоприятствовала «Клеймору».
В намерения лоцмана Гакуаля входило оставить Джерси слева, а Гернсей справа и, смелым маневром пройдя между Гануа и Дувром, достичь любой бухты на побережье Сен-Мало, другими словами, он избрал путь хотя и более длинный, чем на Менкье, зато и более безопасный, так как французской эскадре было приказано особенно зорко охранять берега между Сент-Элье и Гранвилем.
При попутном ветре, если ничего не произойдет, если можно будет поставить все паруса, Гакуаль надеялся достичь французского берега еще на рассвете.
Все шло благополучно, корвет обогнул мыс Гро-Нэ; однако к девяти часам вечера погодка, по выражению моряков, зашалила: начался ветер и поднялась волна; но ветер был попутный, а волна хоть и разгулялась, но не бушевала. Все же при особенно сильных ударах о нос корвета вода хлестала за борт.
Мужик, коего лорд Балькаррас именовал «генералом», а принц Овернский «кузеном», обладал, что называется, «морскими ногами»; он спокойно и важно, будто не замечая качки, расхаживал по палубе. Время от времени он вынимал из кармана куртки плитку шоколада, отламывал кусочек и клал в рот; этот седовласый старец сохранил все зубы до единого.
Он ни с кем не вступал в беседу, только изредка бросал вполголоса и отрывисто несколько слов капитану, который выслушивал его замечания с почтительным видом, словно не он, капитан, а загадочный пассажир был подлинным командиром корабля.
Подчиняясь руке опытного лоцмана, «Клеймор» прошел незамеченным в тумане вдоль длинного крутого северного берега Джерси, держась как можно ближе к суше, чтобы не натолкнуться на грозный риф Пьер-де-Лик, лежащий в самой середине пролива между Джерси и Серком. Гакуаль, не покидая руля, время от времени выкрикивал названия оставшихся позади рифов — Грев-де-Лик, Гро-Нэ, Племон — и вел корвет среди разветвлений их гряды почти ощупью, но уверенно, как человек, которому ведом нрав океана и который здесь — у себя дома. Фонаря на носу корвета не зажгли, опасаясь обнаружить свое присутствие в этих зорко охраняемых водах. Все благословляли туман. Уже миновали Гранд-Этап, и сквозь туманную пелену еле обозначился высокий силуэт Пинакля. На колокольне Сент-Уэн пробило десять, и на корвете отчетливо прозвучал каждый удар — верный знак того, что ветер дует в корму. Все по-прежнему шло хорошо, только волнение усилилось, как и обычно вблизи Корбьера.
В начале одиннадцатого часа граф дю Буабертло и шевалье де Ла Вьевиль проводили старика в крестьянском наряде до его каюты, вернее, до капитанской каюты, предоставленной к услугам гостя. Уже приоткрыв дверь, старик вдруг остановился и сказал, понизив голос:
— Господа, вам не нужно напоминать, как важно сохранить тайну. Полное молчание до той минуты, пока не произойдет взрыв. Лишь вам одним здесь известно мое имя.
— Мы унесем его с собой в могилу, — ответил Буабертло.
— А я, — прервал старик, — не открою его даже в свой смертный час.
И он вошел в каюту.
III ЗНАТЬ И ПРОСТОЛЮДИНЫ В СМЕШЕНИИ
Капитан и его помощник поднялись на палубу и зашагали рядом, о чем-то беседуя. Видимо, они говорили о пассажире, и вот каков был этот ночной разговор, заглушаемый ветром.
Дю Буабертло вполголоса сказал Ла Вьевилю:
— Скоро мы увидим, каков он в роли вождя.
Ла Вьевиль возразил:
— Что бы там ни было, он — принц.
— Ну не совсем.
— Во Франции — дворянин, в Бретани — принц.
— Точно так же как Тремуйли[12] и Роганы[13].
— Кстати, он с ними в свойстве.
Буабертло продолжал:
— Во Франции и на королевских выездах он маркиз, как я — граф и как вы — шевалье.
— Где теперь эти выезды! — воскликнул Ла Вьевиль. — Началось с кареты, а кончилось повозкой палача.
Наступило молчание.
Первым нарушил его Буабертло:
— За неимением французского принца приходится довольствоваться принцем бретонским.
— За неимением орла… и ворон хорош.
— Лично я предпочел бы ястреба, — возразил Буабертло.
На что Ла Вьевиль ответил:
— Еще бы! Клюв и когти.
— Увидим.
— Да, — произнес Ла Вьевиль, — давно пора подумать о вожде. Я вполне разделяю девиз Тентеннака: «Вождя и пороха!» Так вот, капитан, я знаю приблизительно всех кандидатов в вожди, как пригодных для этой цели, так и вовсе непригодных, знаю вождей вчерашних, сегодняшних и завтрашних; ни в одном нет настоящей военной жилки, а она-то нам как раз и нужна. Этой дьявольской Вандее необходим генерал, который был бы одновременно и испытанным крючкотвором: пусть изматывает противника, пусть оттягает сегодня мельницу, завтра куст, послезавтра ров, булыжник, пусть ставит ловушки, пусть все оборачивает себе на пользу, пусть бдит, пусть крушит всех и вся, пусть примерно карает, пусть не знает ни сна, ни жалости. Сейчас в их мужицком воинстве герои есть, а военачальников нет. Д’Эльбе[14] — ничтожество, Лескюр[15] болен, Боншан[16] миндальничает, он добряк, что уж совсем глупо. Ларошжакелен[17] незаменим на вторых ролях; Сильз одолеет врага в открытом поле, а в ловушку заманить не сумеет; Катлино[18] — простоватый ломовик; Стоффле[19] — пронырливый лесной сторож; Берар бездарен, Буленвилье — шут гороховый, Шаретт[20] страшен. Я не говорю уже о цирюльнике Гастоне[21]. В самом деле, не понимаю, какого беса мы поносим революцию, так ли уж велико различие между республиканцами и нами, коль скоро у нас дворянами командуют господа брадобреи?
— А все потому, что эта проклятая революция и нас самих тоже портит.
— Вся Франция в парше.
— В парше третьего сословия, — подхватил дю Буабертло. — Одна надежда на помощь Англии.
— И она поможет, не сомневайтесь, капитан.
— Поможет завтра, а худо-то уже сегодня.
— Согласен, изо всех углов лезет смерд; раз монархия назначает главнокомандующим Стоффле, лесника господина де Молеврие, нам нет никаких оснований завидовать республике, где в министрах сидит Паш[22], сын швейцара герцога де Кастри. Да, в вандейской войне произойдут презабавные встречи: с одной стороны — пивовар Сантерр, с другой — цирюльник Гастон.
— А знаете, дорогой Вьевиль, я все-таки ценю Гастона. Он неплохо показал себя, когда командовал при Геменэ. Без дальних слов велел расстрелять триста синих, да еще приказал им предварительно вырыть себе братскую могилу.
— Что ж, в добрый час, но и я бы с этим делом не хуже его справился.
— Конечно, справились бы. Да и я тоже.
— Великие военные деяния требуют в качестве исполнителя человека благородной крови, — продолжал Ла Вьевиль. — Это дело рыцарей, а не цирюльников.
— Однако ж и в третьем сословии встречаются приличные люди, — возразил дю Буабертло. — Вспомните хотя бы часовщика Жоли[23]. Во Фландрском полку он был простым сержантом, сейчас он вождь вандейцев, командует одним из береговых отрядов; сын у него республиканец: отец служит у белых, сын — у синих. Встреча. Схватка. Отец берет сына в плен и пристреливает его.
— Вот это хорошо, — сказал Ла Вьевиль.
— Настоящий Брут-роялист[24], — сказал дю Буабертло.
— И все-таки тяжело идти в бой под командованием разных Кокро, Жан-Жанов, каких-то Муленов, Фокаров, Бужю, Шуппов.
— То же чувство негодования, дражайший шевалье, испытывают и в противном лагере. В наших рядах сотни буржуа, в их рядах сотни дворян. Неужели вы полагаете, что санкюлоты[25] в восторге оттого, что ими командует граф де Канкло[26], виконт де Миранда[27], виконт де Богарне[28], граф де Валанс, маркиз де Кюстин[29] и герцог Бирон[30].
— Да, путаница изрядная.
— Не забудьте еще герцога Шартрского[31]!
— Сына Филиппа Эгалитэ[32]? Когда он, по-вашему, станет королем?
— Никогда.
— А все же он подымается к трону. Его возносят собственные преступления.
— И тянут вниз собственные пороки, — добавил дю Буабертло.
Вновь воцарилось молчание, которое прервал капитан:
— А ведь он был готов пойти на мировую. Приезжал повидать короля. Я как раз находился в Версале, когда ему плюнули вслед.
— С главной лестницы?
— Да.
— И хорошо сделали.
— У нас его прозвали Бурбон-Бубон.
— Очень метко, плешивый, прыщавый, цареубийца, фу, пакость какая! — И Ла Вьевиль добавил: — Мне довелось быть с ним в бою при Уэссане.
— На корвете «Святой дух»?
— Да.
— Если бы он держался на ветре, следуя сигналу адмирала Д’Орвилье, англичане ни за что бы не прорвались.
— Совершенно справедливо.
— А правда, что он со страха забился в трюм?
— Болтовня. Но такой слух распространить полезно.
И Ла Вьевиль громко расхохотался.
— Есть еще на свете дураки, — продолжал капитан. — Возьмите хотя бы того же Буленвилье, о котором вы сейчас говорили. Я его знал, видел вблизи. Сначала крестьяне были вооружены пиками, а он забрал себе в голову превратить их в отряды копейщиков. Решил обучить их действовать пикой по всем правилам, как положено в воинских уставах. Мечтал превратить этих дикарей в регулярное войско. Старался научить их всем видам построения батальонных каре. Обучал их старинному военному языку: вместо «командир отделения» говорил «капдэскадр», как называли капралов во времена Людовика Четырнадцатого. Вбил себе в голову мысль создать регулярную часть — из этих-то браконьеров; сформировал роты, и сержантам полагалось каждый вечер становиться в кружок; сержант шефской роты сообщал на ухо сержанту второй роты пароль и отзыв, тот передавал их тем же путем соседу, тот следующему и так далее. Он разжаловал офицера за то, что тот, получая от сержанта пароль, не встал и не снял шляпу. Судите сами, что там творилось. Этот дуралей никак не мог понять одного: мужики хотят, чтобы ими и командовали по-мужичьи, и что нельзя приучить к казарме того, кто привык жить в лесу. Поверьте, я знаю вашего Буленвилье.
Они молча сделали несколько шагов, думая каждый о своем. Затем разговор возобновился.
— Кстати, подтвердились слухи о том, что Дампьер убит?
— Подтвердились, капитан.
— На подступах к Конде?
— В лагере Памар. Пушечным ядром.
Дю Буабертло вздохнул:
— Граф Дампьер! Вот еще один из наших, который перешел на их сторону.
— Ну и черт с ним! — сказал Ла Вьевиль.
— А где их высочества принцессы?
— В Триесте.
— Все еще в Триесте?
— Все еще там.
И Ла Вьевиль воскликнул:
— Ах, эта республика! Сколько бед, а из-за чего! И подумать только, что революция началась из-за дефицита в несколько миллионов!
— Ничтожные причины — самые опасные! — возразил Буабертло.
— Все идет прахом, — сказал Ла Вьевиль.
— Согласен. Ларуари[33] умер, дю Дрене[34] — дурак. А возьмите наших пастырей Печального Образа, всех этих вожаков, всех этих Куси[35], епископа Рошельского, возьмите Бопуаля Сент-Олэра[36], епископа Пуатье, Мерси[37], епископа Люсонского, любовника госпожи де Лэшасери…
— Которая, да было бы вам известно, капитан, зовется Серванто. Лэшасери — название ее поместий.
— А этот лжеепископ из Агри, этот кюре неизвестно даже какого прихода.
— Прихода Доль. А звать его Гийо де Фольвиль[38]. Он, кстати сказать, человек очень храбрый и умеет драться.
— Всё попы, а нам нужны солдаты. Епископы, которые вовсе и не епископы даже! И генералы, которые вовсе и не генералы!
Ла Вьевиль прервал капитана:
— Есть у вас в каюте последний номер «Монитера»[39]?
— Есть.
— Интересно, что нынче дают в Париже?
— «Адель и Полэн» и «Пещеру».
— Вот бы посмотреть!
— Еще посмотрите. Через месяц мы будем в Париже. — И после минутного раздумья дю Буабертло добавил: — Не позже. Господин Уиндхэм[40] сказал это лорду Гуду[41].
— Значит, капитан, наши дела еще не так плохи?
— Все было бы хорошо, черт возьми, если бы войну в Бретани вели правильно.
Ла Вьевиль покачал головой.
— Скажите, капитан, — спросил он, — высадим мы морскую пехоту?
— Высадим, если побережье за нас, и не высадим, если оно нам враждебно. Иной раз надо, чтобы война вламывалась в двери, а другой раз полезнее, чтобы она проскальзывала в щелку. Гражданская война должна держать про запас отмычку. Постараемся сделать все, что возможно. Но главное — вождь. — И Буабертло задумчиво добавил: — Скажите, Ла Вьевиль, что вы думаете о Дьези[42]?
— О младшем?
— Да.
— В качестве военачальника?
— Да.
— Он тоже годен лишь для регулярных действий и открытого боя. А здешние дебри признают только крестьянина.
— Следовательно, придется вам довольствоваться генералами Стоффле и Катлино.
Подумав с минуту, Ла Вьевиль сказал:
— Тут нужен принц. Французский принц, принц крови. Настоящий принц.
— Почему же? Недаром говорится, раз принц…
— Значит, трус. Знаю, капитан. Но все равно принц необходим, хотя бы для того, чтобы поразить воображение этого мужичья.
— Но, дорогой шевалье, принцы что-то не спешат.
— Обойдемся и без них.
Дю Буабертло машинально потер ладонью лоб, словно это помогало пробиться наружу нужной мысли.
— Что ж, придется испытать нашего генерала, — произнес он.
— Во всяком случае, он настоящий вельможа.
— Значит, по-вашему, он подойдет?
— Если только окажется хорош, — ответил Ла Вьевиль.
— То есть свиреп, — уточнил дю Буабертло.
Граф и шевалье переглянулись.
— Господин дю Буабертло, вы сказали сейчас нужное слово. Свиреп — именно это нам и требуется. Наша война не ведает жалости. Настал час кровожадных. Цареубийцы отрубили голову Людовику Шестнадцатому, мы четвертуем цареубийц. Да, нам нужен генерал, генерал Палач. В Анжу и Верхнем Пуату командиры играют в добряков, по уши увязли в великодушии, и толку никакого. А в Марэ и в Ретце командиры жестоки, и все идет отлично. Только потому, что Шаретт безжалостен, он держится против Паррена[43]. Гиена против гиены.
Буабертло не успел ответить. Последние слова Ла Вьевиля заглушил отчаянный крик, сопровождаемый шумом, непохожим на все существующие шумы. Крики и шум доносились с нижней палубы.
Капитан и помощник бросились туда, но не смогли пробиться. Орудийная прислуга в ужасе лезла наверх по трапу.
Произошло нечто ужасное.
IV TORMENTUM ВЕLI[44]
Одна из каронад, входящих в состав батареи, — двадцатичетырехфунтовое орудие, — сорвалась с цепей.
Не может быть на море катастрофы грознее. И не может быть бедствия ужаснее для военного судна, идущего полным ходом в открытое море.
Пушка, освободившаяся от оков, в мгновение ока превращается в некоего сказочного зверя. Мертвая вещь становится чудовищем. Эта махина скользит на колесах, приобретая вдруг сходство с бильярдным шаром, кренится в ритм бортовой качки, ныряет в ритм качки килевой, бросается вперед, откатывается назад, замирает на месте и, словно подумав с минуту, вновь приходит в движение; подобно стреле, она проносится от борта к борту корабля, кружится, подкрадывается, снова убегает, становится на дыбы, сметает все на своем пути, крушит, разит, убивает, рушит. Это таран, который бьет в стену по собственной воле, к тому же — таран чугунный, а стена деревянная. Это освобождает себя материя, это как бы мстит человеку его извечный раб, будто вся злоба, что живет в «неодушевленных», как мы говорим, предметах, разом вырывается наружу; это она, слепая материя, потеряв терпение, берет невиданный реванш, и нет ничего беспощаднее, чем буйство вещественного мира. Эта осатаневшая глыба вдруг приобретает гибкость пантеры; она тяжеловесна, как слон, проворна, как мышь, неумолима, как взмах топора, изменчива, как морская зыбь, неожиданна, как зигзаг молнии, глуха, как могильный склеп. Весу в ней десять тысяч фунтов, а скачет она с легкостью детского мяча. Вихревое круговращение и резкие повороты под прямым углом. Что делать? Как с ней справиться? Буря утихнет, циклон пронесется мимо, ветер уляжется, взамен сломанной мачты вырастет новая, пробоину, куда хлещет вода, задраят, пламя потушат, но как обуздать этого бронзового хищника? Как к нему подступиться? Можно лаской уговорить свирепого пса, можно ошеломить быка, усыпить удава, обратить в бегство тигра, смягчить гнев льва; но все бессильно против этого чудовища — против сорвавшейся с цепей пушки. Убить вы ее не можете — она и так мертва; и в то же время она живет. Живет своей зловещей жизнью, которую ей сообщает бесконечность. Пол ей не опора, он лишь подбрасывает ее. Ее раскачивает корабль, корабль раскачивают волны, а волны раскачивает ветер. Она убийца и в то же время игрушка в чужих руках. Она сама во власти корабля, волн, ветра, у них заимствует она свое наводящее ужас бытие. Как разъять звенья в этой цепи? Как обуздать этот чудовищный механизм катастрофы? Как предугадать кривую бега, повороты, резкие остановки, внезапные удары? Каждый такой удар по борту может стать причиной крушения. Как разгадать хитрости каронады? Ведь это словно выпущенный из жерла снаряд, который заупрямился, задумал что-то свое и ежесекундно меняет данное ему первоначально направление. Как же остановить то, к чему опасно приблизиться? Страшное орудие ярится, бросается напролом, отступает вспять, разит налево, разит направо, бежит, проносится мимо, путает все расчеты, сметает все препятствия, давит людей, как мух. И трагизм положения усугубляется еще тем, что пол ни на минуту не остается в покое. Как вести бой на наклонной плоскости, которая норовит ускользнуть из-под ваших ног? Представьте, что в чреве судна заточена молния, ищущая выхода, гром, гремящий в минуту землетрясения.
Через секунду весь экипаж был на ногах. Виновником происшествия оказался канонир, который небрежно завинтил гайку пушечной цепи и не закрепил как следует четыре колеса; вследствие этого подушка ездила по раме, станок расшатался, и в конце концов брюк ослаб. Пушка неустойчиво держалась на лафете, ибо канат лопнул. В ту пору еще не вошел в употребление постоянный брюк, тормозящий откат орудия. В ставень порта ударила волна, плохо прикрепленная каронада откатилась, порвав цепь, и грозно двинулась по нижней палубе.
Чтобы лучше представить себе это удивительное скольжение, представьте себе дождевую каплю, скатывающуюся по оконному стеклу.
В ту минуту, когда лопнула цепь, все канониры находились при батарее. Кучками по нескольку человек или в одиночку они выполняли ту работу, которая требуется от каждого моряка в предвидении боевой тревоги. Повинуясь килевой качке, каронада ворвалась в толпу людей и первым же ударом убила четырех человек, потом, послушная боковой качке, отпрянула назад, перерезала пополам пятую жертву и сбила с лафета одно из орудий левого борта. Вот почему на верхней палубе Буабертло и Ла Вьевиль услышали такой отчаянный крик. Вся прислуга бросилась к трапу. Батарея сразу опустела.
Огромное орудие осталось одно. Осталось на свободе. Оно стало само себе господином, а также господином всего корабля. Оно могло сделать с ним все, что заблагорассудится. Экипаж «Клеймора», с улыбкой встречавший вражеские ядра, задрожал от страха. Невозможно передать ужас, охвативший все судно.
Капитан дю Буабертло и его помощник Ла Вьевиль — два отважных воина — остановились на верхней ступеньке трапа и, побледнев как полотно, молча смотрели вниз, не решаясь действовать. Вдруг кто-то, отстранив их резким движением локтя, спустился на батарейную палубу.
Это был Мужик, тот самый пассажир, о котором они говорили за минуту до происшествия.
Добравшись до последней ступеньки трапа, он тоже остановился.
V VIS ЕТ VIR[45]
Пушка беспрепятственно разгуливала по нижней палубе. Невольно приходила на мысль ожившая колесница Апокалипсиса. Фонарь, раскачивавшийся под одним из бимсов, еще усугублял фантастичность этой картины головокружительной сменой света и тени. Пушка то попадала в полосу света, вся ярко-черная, то скрывалась во мраке, тускло и белесо поблескивая оттуда, и вихревой бег скрадывал ее очертания.
Каронада продолжала расправляться с кораблем. Она разбила еще четыре орудия и в двух местах повредила обшивку корабля, к счастью, выше ватерлинии, но при шквальном ветре в пробоины могла хлынуть вода. С какой-то неестественной яростью обрушивалась каронада на корпус судна, тимберсы еще держались, так как изогнутое дерево обладает редкой прочностью, но даже и они начали трещать под ударами исполинской дубины, которая била во все стороны одновременно, являя собой образ удивительной вездесущести. Даже дробинка, которую трясут в пустой бутылке, не выписывает таких нелепых и стремительных кривых. Четыре колеса каронады многократно прошлись по телам убитых ею людей, рассекли их на части, измололи, искромсали на десятки кусков, которые перекатывались по нижней палубе; казалось, мертвые головы вопят; ручейки крови то и дело меняли свое направление в зависимости от качки. Внутренняя обшивка корвета, поврежденная во многих местах, начинала поддаваться. Все судно сверху донизу наполнял дьявольский грохот.
Капитан быстро обрел свое обычное хладнокровие, и по его приказанию через люк стали швырять вниз все, что могло задержать или хотя бы замедлить бешеный бег каронады, — матрасы, койки, запасные паруса, бухты тросов, матросские мешки и кипы с фальшивыми ассигнатами, которыми были завалены все трюмы корвета, ибо эта подлая выдумка англичан считалась допустимым приемом войны.
Но какую пользу могло принести все это тряпье? Ведь никто не решался спуститься и разместить, как следовало, сброшенные вниз предметы! И через несколько минут вся нижняя палуба белела, словно ее усеяли мельчайшие обрывки корпии.
Море волновалось ровно настолько, чтобы усугубить размеры бедствия. Сильная буря пришлась бы кстати: налетевший ураган мог бы перевернуть пушку колесами вверх, а тогда уже укротить ее не составило бы труда.
Тем временем разрушения становились все серьезнее. Уже треснули и надломились мачты, которые, опираясь о киль корабля, проходят через все палубы, наподобие толстых и круглых колонн. Под судорожными ударами пушки фок-мачта дала трещину и начала поддаваться грот-мачта. Батарея пришла в полное расстройство. Десять орудий из тридцати выбыли из строя; с каждой минутой увеличивалось число пробоин в обшивке корвета, и он дал течь.
Старик пассажир застыл на нижней ступеньке трапа, словно каменное изваяние. Суровым взглядом следил он за разрушениями. Но не двигался с места. Казалось, немыслимо сделать даже шаг по батарейной палубе.
Каждый поворот непокорной каронады приближал гибель судна. Еще минута, другая — и кораблекрушение неминуемо.
Нужно было или погибнуть, или, не медля ни мгновения, предотвратить катастрофу, что-то предпринять. Но что?
Да, неутомимый боец эта пушка!
Требовалось остановить эту обезумевшую глыбу металла.
Требовалось схватить на лету эту молнию.
Требовалось обуздать этот шквал.
Буабертло обратился к Ла Вьевилю:
— Вы верите в бога, шевалье?
Ла Вьевиль ответил:
— Да. Нет. Иногда верю.
— Во время бури?
— Да. И в такие вот минуты — тоже.
— Вы правы, только господь бог может нас спасти, — промолвил Буабертло.
Все молча следили за лязгающей и гремящей каронадой.
Волны били в борт корабля, — на каждый удар пушки море отвечало ударом. Словно два молота состязались в силе.
Вдруг на этой неприступной арене, где на свободе металась пушка, появился человек с металлическим брусом в руках. Это был виновник катастрофы, канонир, повинный в небрежности, приведшей к бедствию, хозяин каронады. Сотворив зло, он решил его исправить. Зажав в одной руке ганшпуг, а в другой конец с затяжной петлей, он ловко соскочил через люк прямо на нижнюю палубу.
И вот начался страшный поединок — зрелище поистине титаническое: борьба пушки со своим канониром, битва материи и разума, бой неодушевленного предмета с человеком.
Человек притаился в углу, держа наготове ганшпуг и конец; прислонившись спиной к тимберсу, прочно стоя на крепких, словно стальных, ногах, смертельно бледный, трагически спокойный, словно вросший в палубу, он ждал.
Он ждал, чтобы пушка пронеслась мимо него.
Канонир знал свою каронаду, и, как ему казалось, она также должна его знать. Долгое время прожил он с нею рядом. Десятки раз вкладывал он руку ей в пасть! Пушка была зверем, но зверем ручным. И он заговорил с нею, словно подзывая собаку. «Иди, иди сюда», — повторял он. Может быть, он даже любил ее.
Казалось, он желал, чтобы она подошла к нему.
Но подойти к нему — значило пойти на него. И тогда он погиб. Как избежать смерти под ее колесами? Вот в чем заключалась вся трудность. Присутствующие, оцепенев от ужаса, не спускали глаз с канонира. В груди у каждого спирало дыхание, и, быть может, только старик пассажир — мрачный секундант ужасного поединка — дышал ровно, как всегда.
Его тоже могла раздавить пушка. Но он даже не пошевелился.
Под их ногами слепая стихия сама руководила боем.
В ту минуту, когда канонир, решив вступить в грозную рукопашную схватку, бросил вызов своей каронаде, морское волнение случайно затихло, и каронада на миг остановилась, как бы в раздумье. «Поди ко мне», — говорил ей человек. И пушка будто прислушивалась к его словам.
Вдруг она ринулась на человека. Человек отпрянул и избежал удара.
Завязалась борьба. Неслыханная борьба. Хрупкая плоть схватилась с неуязвимым металлом. Человек-укротитель пошел на стального зверя. На одной стороне — сила, на другой — душа.
Битва происходила в полумраке. Это было как смутное видение, как чудо.
Душа; как ни странно, но казалось, что у пушки тоже была своя душа; правда, душа, исполненная ненависти и злобы. Незрячая бронза точно обладала парой глаз. И словно подстерегала человека. Можно было подумать, что у этой махины имелись свои коварные замыслы. Она тоже ждала своего часа. Какое-то небывало огромное чугунное насекомое было наделено сатанинской волей. Временами этот гигантский кузнечик, подпрыгнув, задевал низкий потолок палубы, потом прядал на все четыре колеса — так тигр после прыжка опускается на все четыре лапы — и кидался в погоню за человеком. А человек, изворотливый, проворный, ловкий, скользил ужом, стараясь избежать удара молнии. Ему удавалось уклониться от опасных встреч, но удары, предназначенные канониру, доставались кораблю, и разрушение продолжалось.
За пушкой волочился обрывок порванной цепи. Цепь непонятным образом обмоталась вокруг винта казенной части. Один конец цепи оказался закрепленным на лафете, а другой, свободный конец вращался как бешеный вокруг пушки, отчего прыжки ее становились еще страшнее. Винт держал этот обрывок зажатым, словно в кулаке, каждый удар тарана-пушки сопровождался ударом бича-цепи; вокруг пушки крутился неудержимый вихрь, будто железная плеть в медной длани. Битва от этого становилась еще опаснее.
И все же человек боролся. Минутами не пушка нападала на человека, а человек переходил в наступление: он крался вдоль борта, держа в руке брус и конец троса, но пушка словно разгадывала его замысел и, почуяв засаду, ускользала. А человек неумолимо следовал за ней.
Так не могло длиться вечно. Пушка вдруг точно решила: «Довольно! Пора кончать!» — и остановилась. Зрители поняли, что развязка близится. Каронада застыла на мгновение, как бы в нерешительности, и вдруг приняла жестокое решение, ибо в глазах всех она стала мыслящим существом. Она вдруг бросилась на канонира. Канонир ловко увернулся от удара, пропустил ее мимо себя и, смеясь, крикнул вслед: «Не вышло, разиня!» В ярости пушка подбила еще одну из каронад левого борта, затем снова, как пущенная из невидимой пращи, метнулась к правому борту, но человеку вновь удалось избежать опасности. Зато рухнули под ее мощным ударом еще три каронады; потом, будто слепая, не зная, на что еще решиться, она повернулась и покатилась назад, подсекла форштевень и пробила борт в носу корвета. Человек, ища защиты, укрылся возле трапа, в нескольких шагах от старика секунданта. Канонир держал наготове свой брус. Пушка, очевидно, заметила его маневр и, даже не дав себе труда повернуться, ринулась задом на человека, быстрая, как взмах топора. Человек, прижавшийся к борту, был обречен. Все присутствующие испустили громкий крик.
Но старик пассажир, стоявший до этой минуты как каменное изваяние, вдруг бросился вперед, опередив соперничающих в быстроте человека и металл. Он схватил тюк с фальшивыми ассигнатами и, пренебрегая опасностью, ловко бросил его между колес каронады. Это движение, которое могло стоить ему жизни, решило исход битвы; даже человек, в совершенстве усвоивший все приемы, которые предписываются Дюрозелем в его книге «Служба при судовых орудиях», и тот не мог бы действовать более точно и умело.
Брошенный тюк сыграл роль буфера. Незаметный камешек предотвращает падение глыбы, веточка иной раз задерживает лавину. Каронаду пошатнуло. Тогда канонир, в свою очередь, воспользовался этой грозной заминкой и всадил брус между спицами одного из задних колес. Пушка замерла на месте.
Она накренилась. Действуя брусом, как рычагом, человек налег всей своей тяжестью на свободный конец. Махина тяжело перевернулась, прогудев на прощание, как рухнувший с колокольни колокол, а человек, обливаясь потом, забросил затяжную петлю на глотку поверженной к его ногам бездыханной бронзе.
Все было кончено. Победителем вышел человек. Муравей одолел мастодонта, пигмей полонил громы небесные.
Солдаты и матросы захлопали в ладоши.
Весь экипаж бросился к орудию с тросами и цепями, и в мгновение ока его принайтовили.
Канонир склонился перед пассажиром.
— Сударь, — сказал он, — вы спасли мне жизнь.
Но старик снова замкнулся в своем невозмутимом спокойствии и ничего не ответил.
VI НА ЧАШЕ ВЕСОВ
Победил человек, но с тем же основанием можно было сказать, что победила и пушка. Правда, непосредственная опасность кораблекрушения миновала, но, однако ж, корвет еще не был спасен. Вряд ли представлялось возможным исправить нанесенные повреждения. В борту насчитывалось пять пробоин, при этом самая большая — в носовой части судна; из тридцати каронад двадцать лежали на лафетах мертвой грудой металла. Да и сама укрощенная и вновь посаженная на цепь пушка тоже вышла из строя: ее подъемный винт был погнут, из-за чего стала невозможна точная наводка. Батарея теперь состояла всего из девяти действующих орудий. В трюм набралась вода. Необходимо было принять срочные меры для спасения корабля и пустить в ход насосы.
Нижняя палуба, доступная теперь для осмотра, являла собой поистине плачевное зрелище. Разъяренный слон и тот не мог бы так изломать свою клетку.
Как ни важно было для корвета пройти незамеченным, еще важнее было предотвратить неминуемое крушение. Пришлось осветить палубу, прикрепив фонари к борту.
Пока длилась трагическая борьба, от исхода которой зависела жизнь и смерть экипажа, никто не обращал внимания на то, что творилось в море. Тем временем сгустился туман, погода резко переменилась, ветер свободно играл кораблем; выйдя из-под прикрытия Джерси и Гернсея, судно отклонилось от курса и оказалось значительно южнее, чем следовало; теперь корвет находился лицом к лицу с разбушевавшейся стихией. Огромные валы лобзали зияющие раны корабля, опасная ласка! Баюкающая зыбь таила в себе опасность. Слабый ветер переходил в штормовой. Нахмурившийся горизонт сулил шторм, а быть может, и ураган. Взор различал в потемках лишь три-четыре ближайших гребня волн.
Пока весь экипаж спешно исправлял наиболее серьезные повреждения на нижней палубе, пока заделывали пробоины, расставляли по местам уцелевшие орудия, старик пассажир выбрался на верхнюю палубу.
Он стоял неподвижно, прислонившись к грот-мачте.
Погруженный в свои думы, он не замечал движения, начавшегося на судне. Шевалье Ла Вьевиль приказал солдатам морской пехоты выстроиться в две шеренги по обе стороны грот-мачты; услышав свисток боцмана, матросы, рассыпавшиеся по реям, бросили работу и застыли на местах.
Граф дю Буабертло подошел к пассажиру.
Вслед за капитаном шагал какой-то человек в порванной одежде, растерянный, задыхающийся, однако вид у него был довольный.
То был канонир, который только что весьма кстати показал себя искусным укротителем чудовищ и одолел пушку.
Граф отдал старику в крестьянской одежде честь и произнес:
— Господин генерал, вот он.
Канонир стоял по уставу навытяжку, опустив глаза.
Граф дю Буабертло добавил:
— Генерал, не считаете ли вы, что командиры должны отметить чем-нибудь поступок этого человека?
— Считаю, — сказал старец.
— Соблаговолите отдать соответствующие распоряжения, — продолжал дю Буабертло.
— Отдайте сами. Ведь вы капитан.
— А вы генерал, — возразил дю Буабертло.
Старик бросил на канонира быстрый взгляд.
— Поди сюда, — приказал он.
Канонир сделал шаг вперед.
Старик повернулся к графу дю Буабертло, снял с груди капитана крест Святого Людовика и прикрепил его к куртке канонира.
— Ур-ра! — прокричали матросы.
Солдаты морской пехоты взяли на караул.
Но старый пассажир, указав пальцем на сиявшего от счастья канонира, добавил:
— А теперь расстрелять его.
Радостные клики смолкли, уступив место оцепенению.
Тогда среди воцарившейся мертвой тишины раздался громкий голос старика:
— Из-за небрежности одного человека судну грозит опасность. Кто знает, удастся ли спасти его от крушения. Быть в открытом море — значит быть лицом к лицу с врагом. Корабль в плавании подобен армии в бою. Буря притаилась, но она есть. Море — это засада. Смертной казни заслуживает тот, кто допустил оплошность перед лицом врага. Всякая оплошность непоправима. Мужество достойно вознаграждения, а небрежность достойна кары.
Эти слова падали в тишине медленно и веско, с той неумолимой размеренностью, с которой топор удар за ударом вонзается в ствол дуба.
И, властно взглянув на солдат, старик добавил:
— Выполняйте приказ.
Человек, на лацкане куртки которого блестел крест Святого Людовика, потупил голову.
По знаку графа дю Буабертло два матроса спустились на нижнюю палубу и принесли оттуда морской саван; корабельный священник, который с момента прибытия на судно не выходил из кают-компании, где он читал молитвы, шел за ними следом; сержант вызвал из рядов двенадцать человек и построил их по шестеро в две шеренги, канонир молча стал между ними. Священник, держа распятие в руке, выступил вперед и подошел к канониру.
— Шагом марш, — скомандовал сержант.
Взвод медленно двинулся к носу корабля. Два матроса, несшие саван, замыкали шествие.
Гнетущее безмолвие воцарилось на корвете. Слышались только далекие завывания бури.
Через несколько мгновений раздался залп, блеснул во мраке огонь выстрелов, потом все смолкло, и лишь всплеск воды, принявшей труп в свое лоно, нарушил тишину.
Старик пассажир по-прежнему стоял в раздумье, прислонясь к грот-мачте и скрестив на груди руки.
Буабертло указал на него пальцем и, обращаясь к Ла Вьевилю, вполголоса произнес:
— Отныне у Вандеи есть глава.
VII КТО СТАВИТ ПАРУС, СТАВИТ ВСЕ НА КАРТУ
Но какая участь ожидала корвет?
Тучи, еще с вечера льнувшие к волнам, теперь почти слились с водой и заслонили весь горизонт, окутав море плотной завесой. Всюду туман. Даже для неповрежденного корабля такое положение чревато опасностями.
К туману присоединилось волнение на море.
На корвете не теряли зря времени; судно постарались облегчить, выбросив за борт все, что удалось собрать после разгрома, учиненного каронадой, — поврежденные орудия, разбитые лафеты, смятые или оторванные тимберсы, бесформенные обломки дерева и металла; орудийные порты открыли и, приставив к ним доски, опустили в бушующее море искалеченные трупы, завернутые в парусину.
Море становилось все своенравнее. Не то чтобы неминуемо должна была разразиться буря; наоборот, казалось, где-то далеко за горизонтом стихает ураган и шквал пронесется севернее; но по-прежнему высоко вздымались валы, верный признак неровного дна, и не такому израненному судну, как «Клеймор», было устоять против напора волн; любая волна повыше грозила гибелью.
Гакуаль задумчиво стоял у руля.
Бестрепетно смотреть в лицо опасности — таков обычай капитанов.
Ла Вьевиль, человек, не теряющий веселости даже в беде, подошел к Гакуалю.
— Ну что, лоцман, — сказал он, — ураган, как видно, не состоялся. Как ни тужился, чихнуть не смог. Теперь мы выкарабкаемся. Ветер, конечно, будет. Но не более того.
Гакуаль серьезно ответил:
— Где ветер, там и волна.
Ни улыбки, ни уныния — таков уж истинный моряк. Смысл его слов вселял беспокойство. Судно, давшее течь, боится волны: в мгновение ока могут наполниться водой трюмы. Как бы желая придать больше веса своему предсказанию, Гакуаль слегка нахмурил брови. Должно быть, в душе он считал, что после трагического происшествия с пушкой и канониром Ла Вьевиль слишком рано заговорил в таком небрежном, даже легкомысленном тоне. Есть слова, приносящие в плавании беду. У моря свои тайны, и кто знает, что заблагорассудится ему сотворить. С ним нужно быть начеку.
Ла Вьевиль почувствовал, что надо переменить тон.
— Где мы сейчас, лоцман? — спросил он серьезно.
На что лоцман ответил:
— В руце божией.
Лоцман — хозяин на корабле; надо всегда предоставлять ему свободу действовать, а иногда и свободу говорить.
Впрочем, лоцманская братия немногоречива. И Ла Вьевиль счел за благо отойти прочь.
Ла Вьевиль задал вопрос лоцману, а ответ ему дал сам горизонт.
Море вдруг очистилось.
Пелена тумана, цеплявшегося за волны, разодралась, темное взбаламученное море до самого небосклона стало доступно глазу, и вот что увидел экипаж «Клеймора» в предрассветных сумерках.
Облака, словно крыша, закрывали небо, но они теперь не касались поверхности вод, восток прочертила бледная полоска, предвестница близкой зари, и точно такая же полоска появилась на западе, где заходила луна. И оба этих белесых просвета, блеснувшие друг против друга, узенькими, тускло светящимися ленточками протянулись между хмурившимся морем и сумрачным небом.
На фоне этих побелевших полосок прямо и недвижно вырисовывались черные силуэты.
На западе, освещенном заходящей луной, высоко вздымались три скалы, похожие на кельтские дольмены.
На востоке, на бледном предрассветном горизонте, виднелись восемь парусных судов, выстроенных в боевом порядке, и в самом их расположении чувствовался грозный умысел.
Три скалы были вершиною рифа; восемь парусов — французской эскадрой.
Итак, позади лежал Менкье, риф, пользующийся у моряков недоброй славой, впереди ждала французская эскадра. На западе — морская пучина, на востоке — кровавая резня; кораблекрушение или битва — иного выбора не было.
Для борьбы с рифом корвет располагал лишь продырявленным корпусом, пришедшими в негодность снастями и расшатанными в основании мачтами; для боя в его распоряжении были девять уцелевших орудий вместо тридцати прежних, к тому же самые опытные канониры погибли.
Заря чуть брезжила на горизонте, и вокруг корвета по-прежнему лежала ночная мгла. Еще не скоро суждено было ей рассеяться, особенно теперь, когда густые тучи поднялись высоко, затянув все небо, похожее на несокрушимый купол.
Ветер, уносивший вдаль последние клочья тумана, гнал корабль прямо на Менкье.
Потрепанный и полуразрушенный корвет почти не слушался руля, он уже не скользил по поверхности вод, а нырял и, подгоняемый волной, покорно отдавался ее воле.
Менкье — зловещий риф — в те времена представлял собой еще большую опасность, чем в наши дни. Море — неутомимый пильщик — срезало теперь большинство башен этой естественной цитадели над бездной; очертания скал и сейчас еще меняются, ведь не случайно по-французски слово «волна» имеет второй смысл — «лезвие»; каждый морской прибой равносилен надрезу пилы. В те времена наскочить на Менкье — значило погибнуть.
А восемь кораблей были той самой эскадрой Канкаля, что прославилась впоследствии под командованием капитана Дюшена, которого Лекиньо окрестил Отцом Дюшеном.
Положение становилось критическим. Пока буйствовала сорвавшаяся с цепи каронада, корвет незаметно сбился с курса и был теперь ближе к Гранвилю, чем к Сен-Мало. Если даже судно не потеряло бы плавучести и могло бы идти под парусами, скалы Менкье все равно преграждали обратный путь на Джерси, а вражеская эскадра преграждала путь во Францию.
Впрочем, буря так и не разыгралась. Зато, как и предсказал лоцман, разыгралась волна. Сердитый ветер гнал по морю крупные валы, угрюмо перекатывая их над неровным дном.
Море никогда сразу не выдает человеку своих намерений. Эта бездна способна на все — даже на крючкотворство. Можно подумать, что оно способно сутяжничать: оно наступает и отступает, оно щедро на посулы и легко отрекается от них, оно подготовляет шквал и отменяет его, оно заманивает в бездну и не разверзает бездны, оно грозит с севера, а наносит удар с юга. Всю ночь «Клеймор» шел в тумане под угрозой урагана; море отказалось от своего первоначального замысла, но отказалось весьма жестоко: посулив бурю, оно преподнесло вместо нее скалы. То есть заменило один вид катастрофы другим.
И к угрозе гибели на скалах присоединялась другая: быть уничтоженным в бою. Один враг споспешествовал другому.
Ла Вьевиль вдруг беспечно рассмеялся:
— Здесь кораблекрушение — там бой. С обеих сторон шах и мат.
VIII 9 = 380
«Клеймор» являл собой лишь жалкое подобие былого корвета.
В мертвенном рассеянном свете, в черной гряде туч, в зыбкой дымке на горизонте, в загадочно морщившихся морских валах — во всем тут чувствовалась торжественность гробницы, кладбища. Лишь ветер, злобно завывая, нарушал тишину. Катастрофа вставала из бездны во всем своем величии. Она подымалась в личине призрака, а не с открытым забралом бойца. Ничто не мелькнуло среди рифов, ничто не шелохнулось на кораблях. Всеобъемлющая, всеподавляющая тишина. Неужели все это действительность, а не просто мираж, проносящийся над водами? Только в легендах бывают такие видения; и корвет очутился между демоном-рифом и флотилией-призраком.
Граф дю Буабертло вполголоса отдал необходимые распоряжения Ла Вьевилю, который спустился на батарею, а сам капитан взял подзорную трубу и встал рядом с лоцманом.
Все усилия Гакуаля были направлены на то, чтобы идти против волны, ибо, если бы ветер и волны обрушились на судно сбоку, оно неминуемо бы опрокинулось.
— Лоцман, — спросил капитан, — где мы находимся?
— У Менкье.
— А с какой стороны?
— С самой опасной.
— Каково здесь дно?
— Сплошь камень.
— Можно стать на шпринг?
— Умереть всегда можно.
Капитан направил подзорную трубу на запад и оглядел скалы Менкье, потом повернулся к востоку и стал рассматривать видневшиеся на горизонте паруса.
А лоцман продолжал вполголоса, словно говоря сам с собой:
— Вот они, Менкье. Здесь отдыхает и белая чайка, летящая из Голландии, и большой поморник.
Тем временем капитан молча считал паруса.
Восемь кораблей, построенных в боевом порядке, действительно виднелись на востоке, силуэты их грозно рисовались над водой. В центре можно было различить высокий корпус трехпалубного судна.
— Можете узнать отсюда эти корабли? — спросил капитан лоцмана.
— Еще бы не узнать, — ответил Гакуаль.
— Что это там такое?
— Эскадра.
— Французская?
— Чертова!
Воцарилось минутное молчание. Капитан заговорил первым:
— Что же, вся их эскадра здесь?
— Нет, не вся.
И впрямь, 2 апреля Валазе[46] доложил Конвенту, что в водах Ла-Манша крейсируют десять фрегатов и шесть линейных кораблей. Но капитан только сейчас вспомнил об этом.
— Ваша правда, — сказал он. — Ведь в их эскадре — шестнадцать судов. А здесь только восемь.
— Остальные, — заявил Гакуаль, — кружат возле берега и шпионят.
Не отрывая глаз от подзорной трубы, капитан пробормотал:
— Трехпалубный корабль, два фрегата первого ранга, пять второго ранга.
— Но я тоже, — пробормотал сквозь зубы Гакуаль, — за ними шпионил.
— Недурные суда, — похвалил капитан. — Я сам командовал такими.
— А я, — заметил Гакуаль, — видел их все, как вас вижу. Как-нибудь одно от другого отличу. С закрытыми глазами узнаю.
Капитан передал подзорную трубу лоцману.
— Лоцман, а вы узнаете это судно, вон то, с высокими бортами?
— Как же, капитан. Это «Кот д’Ор».
— Переименовали, значит, — сказал капитан. — Раньше оно называлось «Бургундские штаты». Совсем новенькое судно. Сто двадцать восемь орудий.
Он достал из кармана записную книжку и карандаш и вывел на страничке цифру «128».
— Лоцман, — произнес он затем, — а как называется судно по левую сторону от «Кот д’Ор»?
— Это «Опытный».
— Фрегат первого ранга. Пятьдесят два орудия. Два месяца тому назад его вооружили в Бресте.
И капитан записал в своей книжечке цифру «52».
— Лоцман, — продолжал он, — а второе судно слева?
— «Дриада».
— Фрегат первого ранга. Сорок восемнадцатифунтовых орудий. Ходил раньше в Индию. Славное у него боевое прошлое.
Под цифрой «52» он написал цифру «40», потом поднял голову и спросил:
— Ну, а направо?
— Там, капитан, фрегаты второго ранга. Всего пять.
— Какое судно идет первым?
— «Решительный».
— Тридцать два восемнадцатифунтовых орудия. А второй?
— «Ришмон».
— То же вооружение. Дальше?
— «Атеист»[47].
— Странное название! С таким опасно пускаться в плавание. Дальше?
— «Калипсо».
— Дальше?
— «Ловец».
— Итого пять фрегатов по тридцать два орудия каждый.
Под прежними цифрами капитан подписал цифру «160».
— Лоцман, — сказал он, — вы действительно узнаете их с первого взгляда.
— А вы, капитан, — возразил Гакуаль, — знаете их назубок. Узнать — полдела, вот знать — это поважнее.
Капитан пристально глядел на листок записной книжки и, бормоча что-то про себя, подсчитывал:
— Сто двадцать восемь, пятьдесят два, сорок, сто шестьдесят.
В эту минуту на палубу поднялся Ла Вьевиль.
— Шевалье, — крикнул ему капитан, — против нас триста восемьдесят орудий.
— Превосходно, — ответил Ла Вьевиль.
— Вы осмотрели батарею, — сколько у нас орудий, годных к бою?
— Девять.
— Превосходно! — в тон ему ответил дю Буабертло.
Он взял из рук лоцмана подзорную трубу и стал всматриваться в горизонт.
Восемь черных безмолвных кораблей, казалось, не двигаются, и все же они неотвратимо увеличивались в размерах.
Они незаметно приближались.
Ла Вьевиль отдал честь.
— Капитан, — заговорил он, — разрешите доложить. С первой же минуты я не доверял нашему «Клеймору». И нет, по-моему, ничего хуже, как внезапно очутиться на судне, к которому ты не привык или которое тебя не любит. Судно английское — значит, для нас, французов, предательское. Тому доказательство хотя бы эта чертова каронада. Я все осмотрел. Якоря крепкие. Металл хороший, без раковин. Якорные кольца надежные. Канаты превосходные, отдавать их легко, длина обычная — сто двадцать сажен. Ядер и прочего достаточно. Шесть канониров убито. На каждую пушку приходится сто семьдесят один выстрел.
— Только потому, что у нас всего девять орудий, — пробормотал капитан.
Он навел подзорную трубу на горизонт. Эскадра по-прежнему медленно приближалась.
У каронады есть свои преимущества — она требует всего трех человек прислуги; но у нее есть и недостатки — стреляет она на меньшее расстояние и поражает цель не так метко, как обычная пушка. Следовательно, надо было подпустить вражескую эскадру на расстояние выстрела из каронады.
Капитан вполголоса отдавал приказания. На корвете воцарилась тишина. Боевой тревоги не пробили, но все готовились к бою. Корвет был в такой же мере не пригоден к битве с людьми, как и со стихиями. Однако все, что можно сделать, было сделано, дабы придать боеспособность этой тени военного корабля. Команда собрала у ростр на шкафуте все запасные перлини и кабельтовы, чтобы в случае необходимости укрепить рангоут. Привели в порядок лазарет. По тогдашним морским обычаям на судне устанавливались защитные заслоны, что предохранило от пуль, но отнюдь не от ядер. Принесли даже прибор для проверки калибра ядер, хотя сейчас уже вряд ли стоило проверять калибровку; но никто не мог предвидеть подобного поворота событий. Каждый матрос получил подсумок и засунул за пояс пару пистолетов и кинжал. Койки были скатаны, пушки наведены, заряжены мушкетоны, разложены по местам топоры и кошки; крюйт-камера и бомбовый погреб открыты. Люди заняли свои места. Все делалось бесшумно, словно у одра умирающего. Делалось быстро и мрачно.
Корвет поставили на якоря. На «Клейморе», как и на фрегатах, имелось шесть якорей. Отдали все шесть: становой якорь бросили с носа, стоп-анкер — с кормы, один из больших верпов — со стороны открытого моря, другой — со стороны бурунов, второй становой якорь — с штирборта, запасной якорь — с бакборта.
Девять уцелевших каронад построили в боевом порядке, все девять на одном борту, в сторону врага.
Эскадра так же бесшумно закончила свой маневр. Восемь судов выстроились полукругом, хорду которого составляли скалы Менкье. «Клеймор», запертый в этом полукольце и к тому же связанный собственными якорями, был почти прижат к скалам, другими словами — прижат к стене.
Так свора гончих наседает на кабана, не подавая голоса, но уже ощерив зубы.
Казалось, противники выжидали, кто начнет первым.
Канониры «Клеймора» припали к орудиям.
Буабертло повернулся к Ла Вьевилю.
— Я хотел бы открыть огонь первым, — произнес он.
— Прихоть кокетки, — ответил Ла Вьевиль.
IX НЕКТО СПАСАЕТСЯ
Старик пассажир не покидал палубы, невозмутимо наблюдая за всем происходящим.
Буабертло подошел к нему.
— Сударь, все приготовления к бою закончены. Мы прикованы к нашей могиле, и пусть попробуют оторвать нас от нее. Мы — пленники вражеской эскадры или рифов. Сдаться врагу или погибнуть в бурунах — другого выбора нет. У нас единственный выход — смерть. Лучше вступить в бой, нежели просто пойти ко дну. Я предпочитаю картечь пучине; умирать — так в огне, а не в воде. Впрочем, смерть — это наше дело, но отнюдь не ваше. На вас пал выбор королевских особ, на вас возложена высокая миссия — возглавить вандейскую войну. Не будет вас, возможно, не станет и монархии; следовательно, вы должны жить. Наша честь повелевает нам остаться на судне, а ваша — покинуть судно. Посему, генерал, вам придется немедленно расстаться с корветом. Я дам вам провожатого и шлюпку. Попытайтесь добраться до берега окольным путем. Еще не рассвело. Волна сейчас высокая, на море темно, вам удастся проскользнуть незамеченным. В иных случаях бегство с поля боя равносильно победе.
Старик утвердительно склонил свое суровое чело.
Граф дю Буабертло возвысил голос.
— Солдаты и матросы! — громко крикнул он.
Все вдруг разом замерло на корабле от палубы до трюма, все лица повернулись к капитану.
А он продолжал:
— Человек, который находится на борту корвета, — представитель короля. Его жизнь доверили нам, и наш долг спасти его. Он нужен престолу Франции; ввиду отсутствия принца он будет, по крайней мере, мы надеемся, что будет, главой Вандеи. Это старый, опытный военачальник. Он должен был высадиться на французский берег вместе с нами, теперь он высадится без нас. Спасти голову — значит все спасти.
— Верно! — троекратно прокричали солдаты и матросы.
Капитан продолжал:
— И его тоже подстерегают впереди немалые опасности. Достичь берега не так-то легко. Для того чтобы пуститься сейчас, во время прилива, в открытое море, нужна большая лодка, но ускользнуть от вражеской эскадры можно лишь на маленькой шлюпке. Необходимо достичь берега в каком-нибудь безопасном месте и желательно ближе к Фужеру, чем к Кутансу. Для этой цели требуется искусный моряк, добрый гребец и добрый пловец, уроженец здешних мест, знающий каждый проливчик. Еще не рассвело, и шлюпка может отвалить от корвета незамеченной. Да и порохового дыму будет достаточно. Благодаря своим малым размерам шлюпка не боится мелководья. Там, где не проберется пантера, пролезет хорек. Для нас с вами нет выхода, для него выход есть. Шлюпка на веслах может уйти далеко, ее с неприятельских кораблей не заметят, да и мы тем временем постараемся отвлечь внимание врага. Ну как, верно?
— Верно! — снова троекратно прокричали присутствующие.
— Дорога каждая минута, — продолжал капитан. — Есть добровольцы?
Какой-то матрос, неразличимый в полумраке, шагнул вперед из рядов и произнес:
— Есть!
X СПАСЕТСЯ ЛИ?
Через несколько минут маленькая шлюпка, называемая в матросском обиходе «гичка» и находящаяся в личном распоряжении капитана, отвалила от корабля. В гичке сидели два человека, старик пассажир — на руле, а матрос-доброволец на веслах. Ночной мрак еще не рассеялся. Следуя приказу капитана, матрос яростно греб по направлению к скалам Менкье. Иного пути не было.
На дно гички сбросили с борта корвета немного провианта: мешок с галетами, копченое мясо и бочонок с пресной водой.
В ту самую минуту, когда гичка отошла от корвета, не унывавший даже перед лицом смерти Ла Вьевиль перегнулся через ахтерштевень и напутствовал отъезжающих такой шуткой:
— На такой гичке спастись, конечно, легко, а утонуть и того легче.
— Сударь, — прервал его лоцман, — сейчас не до смеха.
Через минуту гичка была уже далеко от корвета. Ветер и волна помогали гребцу, и гичка быстро неслась в темноте, временами исчезая между высоких валов.
Над необъятными морскими просторами нависло зловещее ожидание.
Вдруг безгласный ропот океана прорезал чей-то голос, которому почти нечеловеческую силу придавал металлический рупор, — казалось, что сквозь медную маску вещает античный лицедей.
Это говорил капитан дю Буабертло.
— Королевские матросы, — возгласил он, — подымите на грот-мачте белый стяг. Сейчас перед нами в последний раз встанет солнце.
И с корвета грянул оглушительный пушечный выстрел.
— Да здравствует король! — закричали матросы.
Тогда с горизонта раздался чей-то другой крик, нескончаемый, отдаленный, неясный и все же четко донесший слова:
— Да здравствует Республика!
И грохот, подобный одновременному удару трехсот громов, отдался в глубинах океана.
Борьба начиналась.
Дым и огонь заволокли море.
Там, где в воду падало ядро, по всему гребню волны вскипали крошечные фонтанчики пены.
«Клеймор» изрыгал пламя, пушки его били по восьми вражеским кораблям. В то же время эскадра, расположившись полумесяцем вокруг корвета, открыла огонь из всех своих батарей. Небосвод запылал. Словно вулкан вырос из глубин моря. Ветер яростно свивал и скручивал этот гигантский пурпур битвы, то открывая, то застилая корабли-призраки. А впереди на фоне багряного неба четко вырисовывался темный остов «Клеймора».
Видно было, как на верхушке грот-мачты полощется по ветру стяг с королевскими лилиями.
Два человека, сидевшие в гичке, молчали.
Треугольное основание рифа Менкье, образующее под водой как бы усеченный конус, занимает большее пространство, чем весь остров Джерси; море покрывает его, но до края плоской вершины даже в штормовые дни не доходят волны прибоя; на северо-восток тянется гряда из шести огромных утесов, выстроившихся по прямой линии, — издали они кажутся высокой стеной, обвалившейся в двух-трех местах. Через узенький пролив, отделяющий главную вершину от шести утесов, можно пробраться только на лодке, да и то имеющей мелкую осадку. По ту сторону пролива снова расстилается морская гладь.
Матрос, которому доверили судьбу гички, направил ее как раз в этот пролив. Таким образом, скалы Менкье защищали беглецов от превратностей боя. Гребец искусно вел гичку через узенький пролив, ловко избегая подводных камней с правого и левого борта; скалы заслоняли теперь картину боя. По мере удаления от «Клеймора» все бледнее становились вспышки пламени на горизонте, все глуше доносился бешеный вой орудий; но по упорству взрывов можно было судить, что корвет держится стойко и что там твердо решили с толком истратить все сто семьдесят ядер.
Вскоре гичка очутилась в открытом море, вдали от рифов, вдали от боя, вне предела досягаемости ядер.
Мало-помалу поверхность вод посветлела: сверкающие полосы, на которые еще набегала ночная мгла, становились шире, взбаламученная пена рассыпалась световыми фонтанчиками, по граням волн пробегали беловатые отсветы. Вставал день.
Гичка ушла далеко от врага, но впереди ее поджидала еще более грозная опасность. Она спаслась от картечи, но в любую минуту ее могли поглотить волны. Неприметная скорлупка пустилась в плавание без парусов, без мачт, без компаса, и вся сила этой молекулы, отдавшей себя на милость двух колоссов — океана и бури, — заключалась лишь в паре весел.
Тогда, среди бескрайних просторов моря, среди окружающего безмолвия, человек, сидевший на веслах, вскинул бледное в предрассветном сумраке лицо и, пристально посмотрев на человека, сидящего на корме, произнес:
— Я брат канонира, которого расстреляли по вашему приказу.
Книга третья ГАЛЬМАЛО
I СЛОВО ЕСТЬ ГЛАГОЛ
Старик медленно поднял голову.
Тому, кто произнес эти слова, было около тридцати лет. На лбу его лежала полоска морского загара; странен был его взгляд — в простодушных глазах крестьянина светилась проницательность матроса. В мощных руках весла казались двумя перышками. Вид у него был незлобивый.
За матросским поясом виднелся кинжал и пара пистолетов рядом с четками.
— Кто вы? — переспросил старик.
— Я же вам сказал.
— Что вы от меня хотите?
Матрос бросил весла, скрестил на груди руки и ответил:
— Я хочу вас убить.
— Как вам угодно, — бросил старик.
Матрос возвысил голос:
— Готовьтесь.
— К чему готовиться?
— К смерти.
— Почему? — спросил старик.
Воцарилось молчание. Матрос словно опешил от такого вопроса. Потом он промолвил:
— Я же сказал, что хочу вас убить.
— А я спрашиваю почему?
Глаза матроса метнули молнию.
— Потому, что вы убили моего брата.
Старик спокойно продолжал:
— Но ведь до этого я спас ему жизнь.
— Верно. Сначала спасли, а потом убили.
— Нет, не я его убил.
— А кто же?
— Его собственная вина.
Матрос, разинув рот, смотрел на старика, потом его брови снова грозно нахмурились.
— Как вас зовут? — спросил старик.
— Зовут меня Гальмало, впрочем, вам вовсе не обязательно знать имя того, кто вас убьет!
Как раз в эту минуту над горизонтом поднялось солнце. Первый луч упал прямо на лицо матроса, подчеркнув дикарскую выразительность черт. Старик внимательно вглядывался в своего спутника.
Пушки все еще продолжали грохотать, но теперь стреляли беспорядочно, судорожно, как в агонии. Клубы дыма заволокли все небо. Гичка, не управляемая гребцом, неслась по прихоти волн.
Матрос выхватил из-за пояса пистолет и взял в левую руку четки.
Старец поднялся во весь свой рост.
— Ты веришь в бога? — спросил он.
— Отче наш, иже еси на небесех, — пробормотал матрос.
И он осенил себя крестным знамением.
— Есть у тебя мать?
— Есть.
Он снова осенил себя крестным знамением. Потом он добавил:
— Решено. Даю вам всего одну минуту, ваша светлость.
И он взвел курок.
— Почему ты так меня величаешь?
— Потому что вы сеньор. Это сразу видать.
— А у тебя-то самого есть сеньор?
— Есть. Да еще какой важный. Как же без сеньора жить!
— А где он сейчас?
— Не знаю. Уехал куда-то из наших краев. Звали его маркиз де Лантенак, виконт де Фонтенэ, принц Бретани; он всем Семилесьем владел. Хоть я его никогда в глаза не видал, а все-таки он мой хозяин.
— Ну, а если бы ты его увидел, повиновался бы ты ему или нет?
— Разумеется. Я ведь не нехристь какой-нибудь, как же не повиноваться. Первым делом мы должны повиноваться господу богу, потом королю, потому что король вроде бога на земле, потом сеньору, потому что сеньор для нас почти что король. Да все это к делу не относится, вы убили моего брата, значит, я должен убить вас.
Старик ответил:
— Я убил твоего брата и тем сделал доброе дело.
Матрос судорожно сжал рукоятку пистолета.
— Готовьтесь! — сказал он.
— Я готов, — ответил старик.
И спокойно добавил:
— А где же священник?
Матрос удивленно поднял на него глаза:
— Священник?
— Да, священник. Я ведь позвал к твоему брату священника. Стало быть, и ты должен позвать.
— Где же я его возьму? — ответил матрос. И добавил: — Да разве в открытом море найдешь священника?
Издали доносились отрывистые отзвуки боя, становившиеся все тише.
— У тех, кто умирает там, есть священник, — произнес старик.
— Что верно, то верно, — пробормотал матрос. — У них есть господин кюре.
Старик спокойно продолжал:
— Вот ты хочешь погубить мою душу, а ведь это грех.
Матрос в раздумье потупил голову.
— И губя мою душу, — добавил старик, — ты тем самым губишь и свою душу. Слушай. Мне жаль тебя. Ты волен поступать так, как тебе заблагорассудится. А я выполнил свой долг — я сначала спас жизнь твоему брату, потом отнял у него жизнь, и сейчас я выполняю свой долг, стараясь спасти твою душу. Подумай хорошенько. Ведь дело идет о тебе самом. Слышишь выстрелы? Там на корвете в эту минуту гибнут люди, там они стонут в предсмертных муках, там мужья, которые никогда больше не увидят своих жен, там отцы, которые никогда больше не увидят своих детей, братья, которые, подобно тебе, не увидят своего брата. А по чьей вине? По вине твоего собственного брата. Ты ведь веруешь в бога? Так знай же, что бог страдает сейчас, бог страдает в лице своего сына, христианнейшего короля Франции, который еще дитя, подобно дитяти Иисусу, и который ныне заточен в тюрьме Тампль; бог страдает в лице своей святой бретонской церкви; бог страдает в поруганных своих храмах, в уничтоженных священных книгах, в оскверненных домах молитвы; бог страдает в лице убиенных пастырей церкви. А мы, что мы делали на том судне, которое сейчас гибнет? Мы старались помочь нашему господу. Если бы брат твой был добрый слуга, если бы он верно нес свою службу, как положено человеку разумному и нужному для нашего общего дела, не произошло бы несчастья с каронадой, корвет не был бы искалечен, не сбился бы с пути, миновал бы эту гибельную эскадру и мы бы сейчас — а ведь нас немало, — мы, доблестные воины на суше и на море, счастливо высадились бы на французский берег и с мечом в руке, с гордо развевающимся белым стягом радостно помогали бы отважным вандейским крестьянам спасти Францию, спасти короля, спасти бога. Вот что бы мы делали, вот что мы могли бы сделать. И вот то, что я, единственный оставшийся в живых, буду делать. Но ты противишься этому. В борьбе нечестивцев против священников, в борьбе цареубийц против короля, в борьбе сатаны против бога ты держишь руку сатаны. Брат твой был первым пособником дьявола, а ты второй его пособник. Он начал дурное дело, а ты довершишь начатое. Ты вместе с цареубийцами против престола, ты вместе с нечестивцами против церкви. Ты хочешь лишить господа бога последнего его оплота. Ибо, если я, я, представляющий ныне короля, не попаду на французскую землю, по-прежнему будут полыхать в огне хижины, стенать осиротевшие семьи, проливать свою кровь священнослужители, страдать Бретань, король пребудет в темнице, а Иисус Христос в скорби. И кто тому будет виной? Ты. Что ж, действуй, если желаешь. Я надеялся на тебя. Видно, я ошибся. Ах да, верно, ты прав, я убил твоего брата. Твой брат оказался храбрецом, и я наградил его; он оказался виноватым, и я его покарал. Он изменил своему долгу, но я не изменил своему. И, приведись еще раз, я поступил бы точно так же. Клянусь святой Анной Орейской, что смотрит на нас с небес: так же, как я приказал расстрелять твоего брата, я приказал бы расстрелять и своего собственного сына. А теперь ты волен поступать как знаешь. Да, мне жаль тебя. Ты солгал своему командиру. У тебя, христианина, нет веры, у тебя, бретонца, нет чести; я доверился твоей честности, а встретила меня твоя измена; ты преподнесешь мою смерть тем, кому обещал сохранить мою жизнь. А знаешь ли ты, кого ты губишь? Самого себя. Ты отнимаешь мою жизнь у короля и вручаешь свою бессмертную душу сатане. Что же, твори свое черное дело, твори. Недорого же ты ценишь свое место в раю. По твоей милости победит дьявол, по твоей милости падут храмы, по твоей милости безбожники будут по-прежнему переливать колокола на пушки, и то, что должно служить спасению души человека, обратится в смертоносное орудие против него. И вот сейчас, в ту самую минуту, когда я с тобой говорю, медь колокола, который благовестил на твоих крестинах, может быть, убила твою родную мать. Что ж, торопись, помогай дьяволу, не медли. Да, я покарал твоего брата, но знай: я лишь орудие в руке божьей. Ого, да ты, как видно, берешься судить пути господни, ты, чего доброго, будешь осуждать и гром, который разит с небес! Он падет на твою голову, несчастный. Берегись! А уверен ли ты, что я нахожусь в состоянии благодати? Не знаешь? Ну что ж, действуй. Делай то, что задумал. Ты волен ввергнуть меня, да и самого себя в ад. В твоей власти погубить в геенне огненной наши бессмертные души. Но отвечать перед господом будешь ты один. Здесь нет никого, кроме нас с тобой да морской пучины. Что ж, начинай, действуй, рази. Я стар, а ты молод, я без оружия, а ты вооружен, так убей же меня.
Старик говорил, стоя во весь рост, и голос его покрывал рокот моря; в лад с ударами волны о днище гички высокая фигура попадала то в полосу света, то в полосу тени; матрос побледнел как мертвец, крупные капли пота струились по его лбу, он дрожал как осиновый лист и время от времени благоговейно подносил к губам свои четки; когда старик замолк, он отбросил в сторону пистолет и упал на колени.
— Смилуйтесь, ваша светлость! Простите меня! — вскричал он. — Сам господь бог глаголет вашими устами. Я виновен. И брат мой был виновен. Я все сделаю, лишь бы искупить его вину. Располагайте мною. Приказывайте. Я ваш слуга.
— Прощаю тебя, — произнес старец.
II МУЖИЦКАЯ ПАМЯТЬ СТОИТ ЗНАНИЙ ПОЛКОВОДЦА
Провизия, сброшенная с корабля на дно гички, весьма пригодилась.
После вынужденного блуждания по морю беглецам удалось добраться до берега лишь на вторые сутки. Ночь они провели в море; правда, ночь выдалась на славу, пожалуй, даже слишком лунная, особенно если требуется проскользнуть незамеченным.
Сначала гичке пришлось отойти от французского берега и держаться открытого моря в направлении острова Джерси.
Беглецы слышали последний залп разбитого врагами корвета, разнесшийся вокруг, подобно предсмертному рычанию льва, которого настигла в лесной чаще пуля охотника. Затем на море спустилась тишина.
Корвет «Клеймор» принял ту же смерть, что и «Мститель», но слава обошла его. Нельзя быть героем, сражаясь против отчизны.
Гальмало оказался на редкость искусным моряком. Он совершал чудеса ловкости и сообразительности; он, как по вдохновению, мастерски провел гичку сквозь рифы и валы, под самым носом у неприятеля. Ветер утих, и плавание теперь не представляло больших опасностей.
Гальмало благополучно миновал скалы Менкье, обогнул Бычий Вал и укрылся в мелкой бухточке с северной его стороны, чтобы немного передохнуть, потом снова взял курс на юг, пробрался между Гранвилем и островами Шосси, благополучно обойдя дозорные посты у Шосси и у Гранвиля. Так он достиг бухты Сен-Мишель, что уже само по себе было весьма дерзким маневром, ввиду близости Канкаля, где стояла на якоре французская эскадра.
К вечеру второго дня, приблизительно за час до захода солнца, гичка обогнула гору Сен-Мишель и пристала к берегу, куда не ступает нога человека, ибо смельчака подстерегает здесь опасность увязнуть в зыбучих песках.
К счастью, в это время начался прилив.
Гальмало подгреб как можно ближе к берегу, ощупал веслом песок и, убедившись, что он способен выдержать тяжесть человека, врезался носом гички в берег и выскочил первым.
Вслед за ним вышел старик и внимательно огляделся вокруг.
— Ваша светлость, — сказал Гальмало, — мы с вами находимся в устье реки Куэнон. Вон там, по левому борту, — Бовуар, а по правому — Гюинь. А вон там, прямо, видите колокольню? Так это Ардевон.
Старик нагнулся, взял одну галету, сунул ее в карман и приказал Гальмало:
— Остальное возьми себе.
Гальмало положил в мешок остаток мяса и остаток галет и взвалил мешок себе на плечо. Затем он сказал:
— Ваша светлость, мне вести вас или идти за вами?
— Ни то, ни другое.
Гальмало удивленно уставился на старика.
А тот продолжал:
— Сейчас, Гальмало, нам придется расстаться. Два человека — это ничто. Тут нужно идти или с тысячным отрядом, или одному…
Не докончив фразы, старик вытащил из кармана зеленый шелковый бант, напоминавший кокарду, с вышитой посредине золотой лилией.
— Ты читать умеешь? — спросил он.
— Нет.
— Тем лучше. Грамота — лишняя обуза. А память у тебя хорошая?
— Да.
— Отлично. Слушай меня, Гальмало. Ты пойдешь вправо, а я влево; я направлюсь в сторону Фужера, а ты в сторону Базужа. Не бросай мешок, так легче сойдешь за крестьянина. Оружие спрячь. Вырежь себе в кустах палку. Пробирайся через рожь, она нынче высока. Крадись вдоль изгородей. Минуя околицы, иди напрямик полями. Прохожих сторонись. Избегай проезжих дорог и мостов. Не вздумай заходить в Понторсон. Ах да, путь тебе преграждает река Куэнон. Как ты через нее переберешься?
— Вплавь.
— Отлично. Впрочем, ее можно порейти и вброд. Знаешь, где брод?
— Между Ансе и Вьевилем.
— Отлично. Теперь я вижу, что ты действительно местный уроженец.
— Но ведь ночь на дворе. Где же вы будете ночевать, ваша светлость?
— Обо мне не беспокойся. А вот ты где думаешь переночевать?
— Где-нибудь во мхах. Ведь до матросской службы я был крестьянином.
— Да, кстати, выбрось матросскую шапку, а то тебя по ней опознают. А крестьянский головной убор ты достанешь без труда.
— Ну, за этим дело не станет. Любой рыбак с охотой продаст мне свою шапку.
— Отлично. А теперь слушай. Ты здешние места знаешь?
— Все до единого.
— По всей округе?
— От Нуармутье до самого Лаваля.
— А как они называются, тоже знаешь?
— И леса знаю, и, как они называются, знаю, все знаю.
— И все запомнишь, что я тебе скажу?
— Запомню.
— Отлично. А теперь слушай внимательно. Сколько лье ты можешь пройти за день?
— Десять, пятнадцать, восемнадцать, а если понадобится — и все двадцать.
— Может понадобиться. Запомни каждое мое слово. Пойдешь отсюда прямо в Сент-Обэнский лес.
— Тот, что рядом с Ламбалем?
— Да. На краю оврага, который идет между Сен-Риэлем и Пледелиаком, растет высокий каштан. Там ты и остановишься. И никого не увидишь.
— А все равно там кто-нибудь да есть. Знаю, знаю.
— Ты подашь сигнал. Умеешь подавать сигналы?
Гальмало надул щеки, повернулся лицом к морю и несколько раз ухнул по-совиному.
Казалось, что звук идет из самой ночной мглы. Неотличимо похожее и зловещее уханье.
— Отлично, — произнес старик. — Молодец.
И он протянул Гальмало зеленый шелковый бант.
— Вот моя кокарда. Возьми ее. Не важно, что имени моего здесь никто еще не знает. Вполне достаточно этой кокарды. Смотри, вот эту лилию вышивала в тюрьме Тампль сама королева.
Гальмало преклонил колена. С священным трепетом он принял из рук старца вышитую кокарду и приблизил ее было к губам, но тут же отдернул руку, убоявшись такого святотатства.
— Смею ли я? — спросил он.
— Конечно, ведь целуешь же ты распятие!
Гальмало коснулся губами золотой лилии.
— Встань, — сказал старик.
Гальмало встал с колен и спрятал бант на груди.
А старик продолжал:
— Слушай меня хорошенько. Запомни пароль: «Подымайтесь. Будьте беспощадны». Итак, добравшись до каштана, что на краю оврага, подашь сигнал. Трижды подашь. На третий раз из-под земли выйдет человек.
— Из ямы, что под корнями. Знаю.
— Человек этот некто Планшено, его прозвали также Королевское Сердце. Покажешь ему кокарду. Он все поймет. Затем пойдешь в Астиллейский лес по любой дороге, которая тебе приглянется; там ты встретишь колченогого человека, который зовется Мускетон, от этого не жди пощады. Скажи ему, что я его помню и люблю и что пора ему подымать все окрестные приходы. Оттуда иди в Куэсбонский лес, он всего в одном лье от Плэрмеля. Там прокричишь по-совиному, из берлоги выйдет человек, — это господин Тюо, сенешаль Плэрмеля, бывший член так называемого Учредительного собрания, но придерживался он наших убеждений. Скажешь ему, что пора подготовить к штурму замок Куэсбон, который принадлежит маркизу Гюэ, ныне эмигрировавшему. Местность там пересеченная, овраги, перелески — словом, самая для нас подходящая. Господин Тюо — человек решительный и умный. Оттуда пойдешь в Сент-Уэн-ле-Туа и поговоришь с Жаном Шуаном, который, по моему мнению, подлинный вождь. Оттуда пойдешь в Виль-Англозский лес, увидишь там Гитте, его зовут также Святитель Мартен, и скажешь ему, чтобы он зорко следил за неким Курменилем, зятем старика Гупиль де Префельна[48], который возглавляет в Аржантане якобинскую секцию. Запомни все хорошенько. Я ничего не записываю, потому что писать ничего нельзя, Ларуари написал несколько строк, и это его погубило. Оттуда ты пойдешь в Ружфейский лес, где встретишь Миэлета, он умеет прыгать через овраги, опираясь на длинный шест.
— У нас такой шест зовется жердиной.
— Ты умеешь ею пользоваться?
— Еще бы, неужто я не бретонец, неужто я не крестьянин? Да у нас жердь первый друг; с нею и руки крепче, и ноги длиннее.
— Другими словами, с нею враг слабее и расстояние короче. Хорошая штука.
— Как-то раз я со своей жердиной отбился от трех жандармов, а у них были сабли.
— Когда же это?
— Лет десять тому назад.
— При короле?
— Ну да.
— Значит, ты сражался еще при короле?
— Ну да.
— Против кого сражался?
— Хоть убей, не знаю. Я соль тайком привозил.
— Отлично.
— У нас это называлось бороться против соляных налогов. Да разве соляные налоги и король одно и то же?
— Да. Нет. Впрочем, тебе это знать не обязательно.
— Прошу прощения, ваша светлость, что осмелился задать вашей светлости вопрос!
— Хорошо, слушай дальше. Ты знаешь Ла-Тург?
— Это я-то? Да я сам оттуда.
— Как так?
— Да так, я ведь родом из Паринье.
— Правильно. Тург рядом с Паринье.
— Знаю ли я Тург — да это же родовой замок моих господ, большой такой, с круглой башней. Старое здание отделено от нового крепкой железной дверью, ее и пушкой не прошибешь. В новом замке хранится книга про святого Варфоломея, многие нарочно приезжали в Тург поглядеть эту книжку. А лягушек там вокруг — пропасть. Сколько я их мальчишкой переловил. И подземный ход там тоже есть. Может, кроме меня, никто этого хода и не знает.
— Какой подземный ход? О чем это ты? Ничего не понимаю.
— Старинный ход, его еще в те времена прорыли, когда враг осадил Тург. Те, что сидели в замке, спаслись только потому, что прошли подземным ходом, а ход выводит прямо в лес.
— Такой подземный ход в замке Жюпельер, это верно, есть ход в замке Юнодэй и в Кампеонской башне тоже, но в Турге никакого хода нет.
— Да есть, ваша светлость, есть. Вот о тех ходах, что вы, ваша светлость, сейчас говорили, никогда не слыхивал. Знаю только один ход — в Турге, потому что я сам из тех краев. Кроме меня, об этом ходе ни одна живая душа не знает. Да никто о нем никогда и не заикался. Запрещено было, потому что этим ходом пользовались во время войн, которые вел господин Роган. Мой отец знал про этот ход и мне показал. И я знаю, как войти и как выйти. Из лесу я могу попасть прямо в башню, а из башни прямо в лес. И никто меня не увидит. Враг ворвется, а там пусто. Вот он какой, наш Тург. Я-то его хорошо знаю.
Старик стоял в раздумье.
— Да нет, ты, должно быть, ошибаешься, будь в Турге тайный ход, мне было бы это известно.
— Уж поверьте совести, ваша светлость. Там еще камень такой есть, который поворачивается.
— Так бы и сказал! Ведь вы, мужики, во что только не верите; у вас камни вращаются, камни поют, камни ночью на водопой к ручью ходят. Словом, басни и басни.
— Да я сам видел, как этот камень поворачивается.
— А другие сами слышали, как камни поют. Слушай, приятель, Тург — хорошая, надежная крепость, и защищать ее легко; но тот, кто станет рассчитывать на ваши подземные ходы, тот жестоко просчитается.
— Да как же, ваша светлость…
Старик нетерпеливо пожал плечами:
— Не будем терять зря времени. Поговорим о делах.
Слова эти были произнесены столь решительным тоном, что Гальмало перестал настаивать на существовании подземного хода.
Старик продолжал:
— Итак, слушай дальше. Из Ружфе пойдешь в лес Моншеврие, где верховодит Бенедиктус, командир Двенадцати. Он тоже славный малый. Читает «Benedicite», пока по его приказу расстреливают людей. На войне не до сантиментов. Из Моншеврие пойдешь…
Он не докончил фразы.
— Да, я забыл о деньгах.
Старик вынул из кармана кошелек и бумажник и протянул их Гальмало.
— В этом бумажнике тридцать тысяч франков в ассигнатах, что составляет приблизительно три ливра десять су; надо сказать, ассигнаты фальшивые, впрочем, и настоящие стоят не дороже; а в кошельке — смотри хорошенько — сто золотых. Отдаю тебе все, что у меня есть. Мне теперь ничего не нужно. Впрочем, это и к лучшему, по крайней мере, при мне не найдут денег. Продолжаю: из Моншеврие пойдешь в Антрэн и встретишься там с господином Фротте[49]; из Антрэна иди в Жюпельер, где увидишься с господином Рошкоттом[50]; из Жюпельера отправляйся в Нуарье, где повидаешь аббата Бодуэна. Запомнил?
— Как «Отче наш».
— Встретишься с господином Дюбуа-Ги[51] в Сен-Брисан-Когль, с господином Тюрпэном[52] в Моранне, — Моранн — это укрепленный городок, — а в Шато-Гонтье отыщешь принца Тальмона.
— Неужели принц станет со мной говорить?
— Я же с тобой говорю.
Гальмало почтительно обнажил голову.
— Тебе повсюду обеспечен хороший прием, раз у тебя лилия, вышитая руками самой королевы. Не забудь еще вот что: выбирай такие места, где живут горцы и мужики потемнее. Переоденься. Это нетрудно. Республиканцы — разини: в синем мундире и треуголке с трехцветной кокардой можно беспрепятственно пройти повсюду. Сейчас нет ни полков, ни единой формы; армии и те не имеют номеров, каждый надевает на себя любое тряпье, по своему вкусу. Непременно побывай в Сен-Мерве. Там повидайся с Голье, или, как его называют иначе, с Пьером Большим. Пойдешь в лагерь Парне, где тебе придется иметь дело с чернолицыми. Они кладут в ружье двойную порцию пороха, да еще добавляют песку, чтобы выстрел получился погромче; что ж, молодцы. Скажешь им одно: убивать, убивать и убивать. Пойдешь в лагерь «Черная корова», который расположен на возвышенности посреди Шарнийского леса, потом в «Овсяный лагерь», потом в «Зеленый», а оттуда в «Муравейник». Пойдешь в Гран-Бордаж, который иначе зовется О-де-Пре, там живет вдова, на дочери которой женился некто Третон, прозванный Англичанином. Гран-Бордаж — один из приходов Келена. Непременно загляни к Эпине ле Шеврейль, Силле ле Гильом, к Парану и ко всем тем, что прячутся по лесам. Словом, друзей ты заведешь немало и пошлешь их к границе Верхнего и Нижнего Мэна; ты встретишься с Жаном Третоном в приходе Вэж, с Беспечальным — в Биньоне, с Шамбором — в Бошампе, с братьями Корбэн — в Мэзонселле и с Бесстрашным Малышом — в Сен-Жан-сюр-Эрв. Иначе его зовут Бурдуазо. Проделав все это, пройдя повсюду с лозунгом: «Подымайтесь, будьте беспощадны», ты присоединишься к великой армии, армии католической и королевской, где бы она ни находилась. Ты увидишься с господами д’Эльбе, Лескюром, Ларошжакеленом — словом, со всеми вождями, которые еще будут живы к тому времени. Предъявляй им мою кокарду. Они сразу поймут, в чем дело. Ты простой матрос, но ведь и Катлино тоже простой ломовик. Скажешь им от моего имени следующее: «Пришел час вести разом две войны: войну большую и войну малую. От большой войны большой шум, от малой большие хлопоты. Вандейская война — хороша, шуанская — хуже, но в годину гражданских междоусобиц худшее подчас становится лучшим. Война тем лучше, чем больше зла она причиняет».
Старик помолчал немного.
— Я не зря тебе все это говорю, Гальмало. Пусть ты не поймешь моих слов, зато поймешь суть дела. Я поверил в тебя, когда ты так искусно вел гичку; геометрии ты не знаешь, зато мореход ты умелый, а кто умеет править лодкой, тот сумеет направлять мятеж; и уж по одному тому, как ты ловко управлялся в море, обходя все его ловушки, я понял, что ты отлично справишься с моими поручениями. Продолжаю. Всем вандейским вождям ты передашь вот что, — конечно, не этими самыми словами, а как сумеешь, и то слава богу: я отдаю все преимущества войне лесной перед войной в открытом поле; я вовсе не намерен подставлять стотысячную крестьянскую армию под картечь и пушки господина Карно[53]; через месяц, а то и раньше, мне необходимо иметь пятьсот тысяч надежных убийц, залегших в лесной чаще. Республиканская армия — это моя дичь. Браконьерствовать — значит воевать. Я — стратег лесных зарослей. Опять трудное слово — не важно, если ты его и не поймешь, улови хотя бы смысл: действовать беспощадно, и засады, повсюду и везде засады! Я хочу, чтобы дрались по-шуански, а не по-вандейски. Добавишь еще, что англичане с нами. Зажмем республику меж двух огней. Европа нам помогает. Покончим с революцией. Короли ведут с ней войну королей, а мы поведем с ней войну прихожан. Скажи им это. Понял ты меня?
— Понял. Все надо предать огню и мечу.
— Совершенно верно.
— Не щадить.
— Никого. Совершенно верно.
— Всех обойду.
— Только будь осторожен. Ибо в этом краю не так-то уж трудно стать мертвецом.
— А что мне смерть? Тот, кто делает свой первый шаг, возможно, снашивает свои последние башмаки.
— Ты храбрый малый.
— А если меня спросят, как вас звать, ваша светлость?
— Пока еще никто не должен знать моего имени. Скажешь, что не знаешь, и не солжешь.
— А где я увижусь с вами, ваша светлость?
— Там, где я буду.
— А как я узнаю?
— Все узнают, и ты тоже. Через неделю повсюду заговорят обо мне, я первый подам вам всем пример, я отомщу за короля и нашу веру, и ты догадаешься, что говорят обо мне.
— Понимаю.
— Смотри, не забудь ничего.
— Будьте спокойны.
— Ну, а теперь в путь. Да хранит тебя бог. Иди.
— Я сделаю все, что вы мне приказали. Я пойду. Я скажу. Не выйду из повиновения. Передам приказ.
— Отлично.
— И если все мне удастся…
— Я награжу тебя орденом Святого Людовика.
— Как моего брата. Ну, а если мне не удастся, вы прикажете меня расстрелять?
— Как твоего брата.
— Хорошо, ваша светлость.
Старец уронил голову на грудь и вновь ушел в свои суровые думы. Когда он вскинул глаза, никого уже не было. Лишь вдалеке смутно виднелась какая-то черная точка.
Солнце только что скрылось.
Чайки и поморники возвращались на берег: все-таки море — не родное гнездо.
В воздухе была разлита смутная тревога, предвестница наступающей ночи; лягушки пронзительно квакали, кулички со свистом взлетали с мочежин, чайки, чирки, грачи, скворцы подняли обычный вечерний гомон, звонко перекликались морские птицы, только не слышно было человеческого голоса. Ни души! Ни паруса в море, ни крестьянина в поле. Куда ни кинешь взор, всюду пустынные просторы. Огромные чертополохи вздрагивали под порывами ветра. Бесцветное сумеречное небо заливало землю мертвенным светом. Озерца, разбросанные по темной равнине, издали казались аккуратно разложенными оловянными монетками. Ветер дул с моря.
Книга четвертая ТЕЛЬМАРШ
I С ВЕРШИНЫ ДЮНЫ
Старик подождал, пока вдали исчезнет фигура Гальмало, затем плотнее закутался в матросский плащ и двинулся в путь. Шагал он медленно, задумчиво. Он направлялся в сторону Гюиня, а Гальмало тем временем пробирался к Бовуару.
Позади огромным черным треугольником возвышалась знаменитая гора Сен-Мишель, Хеопсова пирамида пустыни, именуемой океаном; у горы Сен-Мишель есть своя тиара — собор и своя броня — крепость с двумя высокими башнями, круглой и квадратной, и вся она принимает на себя тяжесть каменных церковных стен и деревенских домов.
В бухточке, лежащей у подошвы Сен-Мишель, идет непрестанное движение зыбучих песков, то и дело вырастают и рассыпаются дюны. В ту пору между Гюинем и Ардевоном особенно славилась высокая дюна, исчезнувшая ныне с лица земли. Дюна эта, которую как-то в дни равноденствия до основания смыли волны, насчитывала, — что редкость для дюн, — не один век, и на вершине ее красовался каменный верстовой столб, воздвигнутый еще в XII веке в память Собора, осудившего в Авранше убийц святого Фомы Кентерберийского. Отсюда открывалась как на ладони вся округа, и путнику легче было выбрать дорогу.
Старик направился к дюне и стал взбираться на вершину.
Достигнув цели, он присел на одну из четырех тумб, стоявших у камня, служившего верстовым столбом, прислонился к столбу и стал внимательно изучать географическую карту, разостланную у его ног самой природой. Казалось, он силится припомнить дорогу в знакомых местах. В беспредельно огромной панораме, затянутой сумерками, ясно вырисовывалась только линия горизонта, черная линия на бледном фоне неба.
Отчетливо были видны сбившиеся в кучу крыши одиннадцати селений и деревень; можно было различить даже за много лье шпили всех колоколен, которые здесь, как и во всех прибрежных селениях, с умыслом строят значительно выше обычного: мореплаватели могут по ним, как по маяку, определять курс судна.
Через несколько минут старик, очевидно, обнаружил то, что искал в полумраке; он не отрывал теперь взора от купы деревьев, осенявших крыши и ограду мызы, затерявшейся среди перелесков и лугов; он удовлетворенно качнул головой, будто подтверждая верность своей догадки: «Ага, вот оно!» — и указательным пальцем прочертил в воздухе линию — кратчайший путь между живых изгородей и нив. Время от времени он пристально вглядывался в какой-то бесформенный и неразличимый предмет, раскачивавшийся над крышей самого крупного строения фермы, и словно пытался мысленно разрешить загадку — что это такое? Однако темнота скрадывала очертания и цвет загадочного предмета; флюгером это быть не могло, раз он колыхался на ветру, а флаг водружать здесь было незачем.
Старик устал, он долго не поднимался с тумбы, отдавшись тому смутному полузабытью, которое в первую минуту охватывает утомленного путника, присевшего отдохнуть.
Есть в сутках час, который справедливо было бы назвать часом безмолвия, — безмятежный час, час предвечерний. И этот час наступил. Путник вкушал блаженство этого часа, он вглядывался, он вслушивался — вслушивался в тишину. Даже у самых жестоких людей бывают свои минуты меланхолии. Вдруг эту тишину не то чтобы нарушили, а еще резче подчеркнули близкие голоса. Два женских голоса и детский голосок. Так иногда в ночную мглу нежданно врывается веселый перезвон колоколов. Густой кустарник скрывал говоривших, но ясно было, что они пробираются у самого подножия дюны в сторону равнины и леса. Свежие и чистые голоса легко доходили до погруженного в свои думы старца; они звучали так явственно, что можно было расслышать каждое слово.
Женский голос произнес:
— Поторопитесь, Флешарша. Сюда, что ли, идти?
— Нет, сюда.
И два голоса, один погрубей, другой помягче, продолжали беседу:
— Как зовется та ферма, где мы сейчас стоим?
— Соломинка.
— А это далеко?
— Минут пятнадцать, не меньше.
— Пойдемте быстрей, тогда, может, и поспеем к ужину.
— Верно. Мы и так сильно запоздали.
— Бегом бы поспели. Да ваших малышей совсем разморило. Куда же нам двоим на себе троих ребят тащить. И так вы, Флешарша, ее с рук не спускаете. А она прямо как свинец. Отняли ее, обжору, от груди, а с рук она у вас все равно не слезает. Привыкнет — сами будете жалеть. Пускай себе ходит. Эх, жалко, суп остынет.
— А какие вы мне башмаки славные подарили! Совсем впору, словно по заказу сделаны.
— Какие ни на есть, а все лучше, чем босиком шлепать.
— Прибавь шагу, Рене-Жан.
— Из-за него-то мы и опоздали. Ни одной девицы в деревне не пропустит, с каждой ему, видите ли, надо поговорить. Настоящий мужчина растет.
— А как же иначе? Ведь пятый годок пошел.
— Отвечай-ка, Рене-Жан, почему ты разговорился с той девчонкой в деревне, а?
Детский, вернее, мальчишеский голосок ответил:
— Потому что я ее знаю.
Женский голос подхватил:
— Господи боже мой, да откуда же ты ее знаешь?
— А как же не знать, — произнес мальчик, — ведь она мне утром разных зверушек дала.
— Ну и парень, — воскликнула женщина, — трех дней нет, как сюда прибыли, а этот клоп уже завел себе милую!
Голоса затихли вдали. Все смолкло.
II AURES НАВЕТ ET NОN AUDIET[54]
Старик сидел не шевелясь. Он не думал ни о чем, даже не грезил. Вокруг него разливался безмятежный покой: все дышало доверчивой дремой, одиночеством. На вершине дюны еще было совсем светло, зато на равнину уже спускался мрак, а лесом мрак завладел совсем. На востоке всходила луна. Сияние первых звезд пробивалось сквозь бледно-голубое в зените небо. И старик, как ни был он полон самых жестоких замыслов, растворялся душою в невыразимой благости бесконечного. Пока это было лишь неясное просветление, схожее с надеждой, если только можно применить слово «надежда» к чаяниям гражданской войны. Сейчас ему казалось, что, счастливо избегнув козней неумолимого моря и ступив на твердую землю, он миновал все опасности. Никто не знает его имени, он один, вдалеке от врагов, он не оставил за собой следов, ибо морская гладь не хранит следов, и здесь он сейчас скрыт, никому неведом, никто не подозревает об его присутствии. Его охватило блаженное умиротворение. Еще минута, и он спокойно уснул бы.
Глубокое безмолвие, царившее на земле и в небе, придавало незабываемую прелесть этим мирным мгновениям, случайно выпавшим на долю человека, над головой и в душе которого пронеслось столько бурь.
Слышен был только вой ветра с моря, но ветер, этот неумолчно рокочущий бас, став привычным, почти перестает быть звуком.
Вдруг старик вскочил на ноги.
Что-то внезапно привлекло его внимание, он впился глазами в горизонт. Его взгляд сразу приобрел сверхъестественную зоркость.
Теперь он глядел на колокольню Кормере, которая стояла в долине прямо напротив дюны. Там действительно творилось что-то странное.
На фоне неба четко вырисовывался силуэт колокольни, с дюны ясно была видна башня с островерхой крышей и расположенная между башней и крышей квадратная, без навесов, сквозная звонница, открытая, по бретонскому обычаю, со всех четырех сторон.
Отсюда, с дюны, казалось, что звонница то открывается, то закрывается: через равные промежутки времени ее высокий проем то проступал белым квадратом, то заполнялся тьмою; сквозь него то виднелось, то переставало виднеться небо; свет сменялся чернотой, будто его заслоняли гигантской ладонью, а потом отводили ее с размеренностью молота, бьющего по наковальне.
Колокольня Кормере, стоявшая против дюны, находилась на расстоянии приблизительно двух лье; старик посмотрел направо, на колокольню Баге-Пикана, приютившуюся в правом углу панорамы; звонница и этой колокольни так же равномерно светлела и темнела.
Он посмотрел налево, на колокольню Таниса, и ее звонница мерно открывалась и закрывалась, как на колокольне Баге-Пикана.
Старик постепенно, одну за другой, оглядел все колокольни, видимые в округе: по левую руку — колокольни Куртиля, Пресэ, Кроллона и Круа-Авраншена; по правую руку — колокольни Ра-сюр-Куэнон, Мордре, Депа; прямо — колокольня Понторсона. Звонницы всех колоколен последовательно то становились темными, то светлыми.
Что это могло означать?
Это означало, что звонили на всех колокольнях.
Просветы потому и появлялись и исчезали, что кто-то яростно раскачивал колокола.
Что же это могло быть? По-видимому, набат.
Да, набат, неистовый набатный звон повсюду, со всех колоколен, во всех приходах, во всех деревнях. Но ничего не было слышно.
Объяснялось это дальностью расстояния, скрадывавшего звук, а также и тем, что морской ветер дул сейчас с противоположной стороны и уносил все шумы земли куда-то вдаль, за горизонт.
Зловещая минута — круговой, бешеный трезвон колоколов и ничем не нарушаемая тишина.
Старик смотрел и слушал.
Он не слышал набата, он видел его. Странное чувство — видеть набат.
На кого же так прогневались колокола?
О чем предупреждал набат?
III КОГДА БЫВАЕТ ПОЛЕЗЕН КРУПНЫЙ ШРИФТ
Кого-то выслеживали.
Но кого?
Трепет охватил этого поистине железного человека.
Нет, только не его. Никто не мог догадаться о его прибытии сюда; невозможно даже предположить, что уже успели известить представителей Конвента; ведь он только что ступил на сушу. Корвет пошел ко дну раньше, чем хоть один человек из экипажа успел спастись. Да и на самом корвете только дю Буабертло и Ла Вьевиль знали его подлинное имя.
А колокола надрывались в яростном перезвоне. Он снова оглядел все колокольни и даже машинально пересчитал их, не в силах ни на чем сосредоточить мысль, отбрасывая одну догадку за другой, в том состоянии смятения чувств, когда глубочайшая уверенность вдруг сменяется пугающей неизвестностью. Но ведь бить в набат можно по разным причинам, и старик мало-помалу успокоился, твердя про себя: «В конце концов никто не знает о моем прибытии, никто не знает моего имени».
Вот уже несколько минут откуда-то сбоку и сверху доносился легкий шорох. Словно на потревоженном ветром дереве зашуршал лист. Сначала старик даже не поглядел в ту сторону, но так как шорох не смолкал, а как будто нарочно старался привлечь к себе внимание, он обернулся. Действительно, это был лист, но только лист бумаги. Ветер пытался сорвать с дорожного столба большое объявление. По всей видимости, его приклеили лишь недавно, так как бумага еще не успела просохнуть, и ветер, играя, отогнул ее край.
Старик подымался на дюну с противоположной стороны и поэтому не заметил раньше объявления.
Он влез на тумбу, где только что спокойно отдыхал, и прихлопнул ладонью угол объявления, которое отдувало ветром. Июньские сумерки не сразу сменяет ночная мгла, и по-вечернему прозрачное небо лило свой бледный свет на вершину дюны, подножие которой уже окутала ночь; почти весь текст объявления был набран крупным шрифтом, еще различимым в наступающих потемках. Старик прочел следующее:
«Французская республика, единая и неделимая.
Мы, Приер из Марны, представитель народа при береговой Шербургской республиканской армии, приказываем: бывшего маркиза де Лантенака, виконта де Фонтенэ, именующего себя бретонским принцем, высадившегося тайком на землю Франции близ Гранвиля, объявить вне закона. Голова его оценена.
Доставивший его мертвым или живым получит шестьдесят тысяч ливров. Названная сумма выплачивается не в ассигнатах, а в золоте. Один из батальонов Шербургской береговой армии незамедлительно отрядить на поимку бывшего маркиза де Лантенака. Предлагаем сельским общинам оказывать войскам всяческое содействие. Дано в Гранвиле 2 сего июня 1793 года. Подписано
Приер из Марны».Ниже этого имени стояла вторая подпись, набранная мелким шрифтом, и разобрать ее при угасающем свете дня не представлялось возможным.
Старик нахлобучил на глаза шляпу, закутался до самого подбородка в матросский плащ и поспешно спустился вниз. Мешкать здесь, на освещенной дюне, было просто бессмысленно.
Возможно, он и так уж слишком задержался, ведь вершина дюны была последней светлой точкой во всем пейзаже.
Внизу темнота сразу поглотила путника, и он замедлил шаги.
Он направился в сторону фермы, следуя намеченному еще на дюне маршруту, который он, очевидно, считал наиболее безопасным.
На пути он не встретил никого. В этот час люди предпочитают сидеть по домам.
Войдя в густую заросль кустарника, старик остановился, снял плащ, вывернул куртку мехом вверх, снова накинул свой нищенский плащ, только подвязал его теперь у шеи веревочкой, и снова зашагал вперед.
Светила луна.
Старик дошел до перекрестка двух дорог, где стоял древний каменный крест. У подножия креста смутно виднелся какой-то белый квадрат — судя по виду, все то же объявление, которое он только что прочел. Старик подошел поближе.
— Куда вы идете? — раздался вдруг вопрос.
Старик обернулся.
По ту сторону зеленой изгороди стоял человек; ростом он был не ниже старика, годами не моложе его, волосом так же сед, только, пожалуй, рубище у него было еще более жалким. Почти двойник.
Подпирался он длинной палкой.
— Я вас спрашиваю, куда вы идете? — продолжал незнакомец.
— Скажите прежде, где я нахожусь, — ответил старик спокойно, почти высокомерно.
Незнакомец ответил:
— Находитесь вы в сеньории Танис, я здешний нищий, а вы здешний сеньор.
— Я?
— Да, вы маркиз де Лантенак.
IV НИЩЕБРОД
Маркиз де Лантенак, впредь мы так и будем его именовать, сурово вымолвил:
— Что ж! Идите и сообщите обо мне.
Но незнакомец продолжал:
— Мы тут с вами оба дома, вы у себя в замке, а я у себя в лесу.
— Довольно. Идите. Сообщите обо мне, — повторил маркиз.
Незнакомец спросил:
— Вы, я вижу, держите путь на ферму Соломинка. Так?
— Да.
— Не советую туда ходить.
— Почему?
— Потому что там синие.
— Сколько дней?
— Уже три дня.
— Жители фермы оказали им сопротивление?
— Какое там! Отперли перед ними все двери.
— Ах так! — сказал маркиз.
Незнакомец показал пальцем в сторону фермы, крыша которой еле виднелась из-за купы деревьев.
— Вот она, крыша, видите, господин маркиз?
— Вижу.
— А видите, что там такое наверху?
— Что-то вьется.
— Да.
— Флаг вьется.
— Трехцветный, — заключил незнакомец.
Еще с вершины дюны маркиз обратил внимание на этот предмет.
— Что это, кажется, в набат бьют?
— Да.
— А что тому причиной?
— Вы, должно быть.
— А почему ничего не слышно?
— Ветер относит.
Незнакомец спросил:
— Объявление видели?
— Видел.
— Вас разыскивают.
Затем, бросив беглый взгляд в сторону фермы, он добавил:
— Там целый полубатальон.
— Республиканцев?
— Парижан.
— Ну что ж, — ответил маркиз, — идем.
И сделал шаг по направлению фермы.
Нищий схватил его за руку:
— Не ходите туда!
— А куда же, по-вашему, я должен идти?
— Ко мне.
Маркиз молча взглянул на нищего.
— Послушайте-ка меня, господин маркиз, у меня не сказать чтобы очень богато, зато надежно. Землянка не высока, вроде погреба. Вместо кровати — сухие водоросли, вместо кровли — ветки и трава. Идем ко мне. На ферме вас расстреляют. А у меня вы спокойно отдохнете. Вы, должно быть, устали; завтра утром синие уйдут, и можете отправляться, куда вам угодно.
Маркиз по-прежнему глядел на незнакомца.
— А вы-то на чьей стороне? — спросил он. — Вы что — республиканец? Роялист?
— Я — нищий.
— Не республиканец, не роялист?
— Как-то не думал об этом.
— За короля вы или против?
— Времени не было решить.
— А что вы думаете о происходящих событиях?
— Думаю, что жить мне не на что.
— Однако же вы решили спасти меня.
— Я узнал, что вас объявили вне закона. А что такое закон, раз можно быть вне его? Никак в толк не возьму. Вот я, что я — вне закона? Или наоборот? Ничего не понимаю. С голоду помереть — это по закону выходит или нет?
— Вы давно умираете с голоду?
— Всю жизнь.
И все-таки решили меня спасти?
— Да.
— Почему?
— Потому что я подумал: вот человек, которому еще хуже, чем мне. Я хоть имею право дышать, а он и этого права не имеет.
— Это верно. И вы хотите меня спасти?
— Конечно. Мы ведь теперь с вами братья, ваша светлость. Я прошу кусок хлеба, вы просите жизни. Оба мы теперь нищие.
— А вы знаете, что моя голова оценена?
— Да.
— А как вы об этом узнали?
— Объявление прочел.
— Вы умеете читать?
— Умею. И писать тоже умею. Почему же я должен неграмотным скотом быть?
— Раз вы умеете читать и раз вы прочитали объявление, вы должны знать, что тот, кто меня выдаст, получит шестьдесят тысяч ливров.
— Знаю.
— И не в ассигнатах.
— Знаю, в золоте.
— А знаете ли вы, что шестьдесят тысяч — это целое состояние?
— Да.
— И следовательно, тот, кто меня выдаст, станет богачом?
— Знаю, ну и что?
— Богачом!
— Как раз я об этом и подумал. Увидел вас и сразу сообразил: тот, кто выдаст этого человека, получит шестьдесят тысяч ливров и станет богачом. Значит, придется его спрятать, да побыстрее.
Маркиз молча последовал за нищим.
Они углубились в чащу. Здесь и помещалась землянка нищего. Огромный старый дуб пустил к себе человека, устроившего под его сенью свое жилье: под корнями была вырыта землянка, прикрытая сверху густыми ветвями. Землянка была темная, низкая, надежно укрытая от глаз. В ней могли поместиться двое.
— Словно я знал, что придется принимать гостя, — сказал нищий.
Такие землянки гораздо чаще попадаются в Бретани, чем принято думать, и зовутся на местном диалекте «пещерка». Тем же словом здесь называют тайники, которые устраиваются в толще стен.
Все убранство такой пещерки обычно составляют несколько горшков, ложе из соломы или из промытых и высушенных на солнце морских водорослей, дерюга вместо одеяла, два-три светильника, наполненных животным жиром, и десяток сухих стебельков в замену спичек.
Согнувшись, почти на четвереньках, они вползли в пещерку, перерезанную толстыми корнями дуба на крохотные коморки, и уселись на кучу сухих водорослей, заменявших ложе. Меж двух корней, образующих узкий вход, в пещерку проникал слабый свет. Спустилась ночь, но человеческий глаз приспосабливается к любому освещению и в конце концов даже в полном мраке сумеет отыскать светлую точку. Лунный луч бледным пятном расплывался у входа. В углу виднелся кувшин с водой, лепешка из гречневой муки и кучка каштанов.
— Давайте поужинаем, — предложил нищий.
Они поделили каштаны, маркиз вынул из кармана матросскую галету, они откусывали от одного куска и пили по очереди из одного кувшина.
Завязался разговор.
Маркиз начал первым.
— Следовательно, — спросил он, — случаются ли какие-нибудь события или вовсе ничего не случается, вам все равно?
— Пожалуй, что и так. Вы — господа, вы — другое дело. Это уж ваша забота.
— Но ведь то, что сейчас происходит…
— Происходит-то наверху. — И нищий добавил: — А многое происходит еще выше: вот солнце подымается, или месяц на убыль идет, или полнолуние наступит, вот это мне не все равно.
Он отхлебнул глоток из кувшина и произнес:
— Хорошая вода, свежая. — И добавил: — А вам она по вкусу ли, ваша светлость?
— Как вас зовут? — спросил маркиз.
— Зовут меня Тельмарш, а кличут Нищеброд.
— Слыхал такое слово. В здешних местах так говорят.
— Нищеброд — значит нищий. И еще одно прозвище у меня есть — Старик.
Он продолжал:
— Вот уже сорок лет, как меня Стариком величают.
— Сорок лет! Да вы тогда были еще совсем молодым.
— Никогда я молодым не был. Вот вы, маркиз, всегда были молоды. У вас и сейчас ноги, как у двадцатилетнего, смотрите, как легко вы на дюну взобрались; а я еле двигаюсь, пройду четверть лье, и конец, из сил выбился. А ведь мы с вами однолетки; ну да у богатых против нас есть одно преимущество — каждый день обедают. А еда человека сохраняет.
Помолчав немного, нищий добавил:
— Бедняки, богачи — страшное это дело. Оттого и все беды бывают. По крайней мере, так, на мой взгляд, выходит. Бедные хотят стать богатыми, а богачи не хотят стать бедными. В этом-то вся суть, по моему разумению. Я в это не вмешиваюсь. События, они и есть события. Я не за кредитора и не за должника. Знаю только, что раз есть долг — надо его уплатить. Вот и все. По мне, лучше, если бы короля не убивали, а почему — сказать не могу. Мне на это возражают: «В прежние времена господа ни за что ни про что людей на сук вздергивали». Что и говорить, я своими глазами видел, как один бедняга подстрелил не в добрый час королевскую косулю, за что его и повесили, а у него осталась жена и семеро ребятишек. Так что тут надвое можно сказать.
Он помолчал и снова заговорил:
— Поверьте, никак я в толк не возьму: одни приходят, другие уходят, события разные случаются, а я все сижу на отшибе под звездами.
Тельмарш задумался, потом произнес:
— Я, видите ли, немножко костоправ, немножко лекарь, в травах разбираюсь, знаю, какая на пользу человеку идет, а здешние крестьяне заметят, что я гляжу на что-нибудь задумавшись, ну и говорят, будто я колдун. Я просто размышляю, а они считают, что мне невесть что открыто.
— Вы местный житель? — спросил маркиз.
— Всю жизнь здесь прожил.
— А меня вы знаете?
— Как же не знать. Последний раз я вас видел два года тому назад, в последний ваш приезд. Отсюда вы в Англию отправились. А вот сейчас заметил какого-то человека на вершине дюны. Смотрю, человек высокого роста. А высокие здесь в диковину; в Бретани народ все низкорослый. Пригляделся получше, прочел объявление и подумал: «Гляди-ка ты!» А когда вы спустились, тут уж луна взошла, я вас сразу и признал.
— Однако я вас не знаю.
— Вы меня и видели и не видели.
И Тельмарш Нищеброд пояснил:
— Я-то вас видел. Прохожий и нищий по-разному друг на друга глядят.
— Стало быть, я вас и раньше встречал?
— Частенько, ведь я как бы ваш нищий. Тот нищий, что просил в конце дороги, которая ведет от вашего замка. При случае вы мне тоже подавали; но тот, кто милостыню подает, не смотрит, а тот, кто получает, все заметит, все оглядит. Нищий, говорят, тот же соглядатай. Хоть мне подчас и горько приходится, однако я стараюсь, чтобы мое соглядатайство во зло никому не пошло. Я протягивал руку, вы только мою руку и видели; бросите, проходя, монету, а она мне как раз утром нужна, чтобы дотянуть до вечера и не умереть с голоду. Подчас круглые сутки маковой росинки во рту не бывает. Иной раз грош — это жизнь. Я вам обязан жизнью, а теперь только заплатил долг.
— Совершенно верно, вы меня спасли.
— Да, я вас спас, ваша светлость. — В голосе Тельмарша прозвучали торжественные ноты. — Только при одном условии.
— Каком условии?
— При том, что вы явились сюда не ради зла.
— Я явился сюда ради добра, — ответил маркиз.
— Ну, пора спать, — сказал нищий.
Они устроились рядом на ложе из водорослей. Нищий тут же заснул. А маркиз, несмотря на сильную усталость, с минуту еще думал о чем-то, потом взглянул на лежащего с ним рядом в потемках Тельмарша и лег. Спать на нищенском ложе — значит спать прямо на голой земле; воспользовавшись этим обстоятельством, маркиз припал ухом к земле и стал слушать. До него донесся глухой шум, — как известно, звук легко распространяется, под землей; маркиз различил далекий перезвон колоколов.
По-прежнему били в набат.
Маркиз уснул.
V ПОДПИСАНО: «ГОВЭН»
Когда он проснулся, уже брезжил свет.
Нищий стоял не в землянке, так как в землянке невозможно было выпрямиться во весь рост, а у порога своей пещерки. Он опирался на палку. Лицо его было освещено солнцем.
— Ваша светлость, — начал Тельмарш, — на колокольне Таниса уже пробило четыре часа; ветер переменился, теперь он с суши дует. А кругом тихо, ни звука, стало быть, в набат больше не бьют. Все спокойно и на ферме, и на мызе Соломинка. Синие или еще спят, или уже ушли. Теперь опасности нет, разумнее всего нам с вами распрощаться. В этот час я обычно ухожу из дому. — Он показал куда-то вдаль. — Вот туда я и пойду. — Затем показал в обратную сторону. — А вы вот туда идите.
И нищий важно махнул рукой на прощание.
Потом указал на остатки вчерашнего ужина:
— Если вы голодны, можете взять себе каштаны.
Через мгновение он уже скрылся в чаще.
Маркиз поднялся со своего ложа и пошел в направлении, указанном Тельмаршем.
Был тот восхитительный час, который в старину нормандские крестьяне именовали «птичьи пересуды». Со всех сторон доносился пересвист щеглов и воробьиное чириканье. Маркиз шагал по тропинке, по которой он шел вчера в сопровождении нищего. Он выбрался из лесной чащи и направился к перекрестку дорог, где стоял каменный крест. Объявление по-прежнему было здесь, белое и даже какое-то нарядное в лучах восходящего солнца. Маркиз вспомнил, что внизу объявления имеется строчка, которую он не мог прочитать накануне, так как в темноте не разобрал мелкого шрифта. Он подошел к подножию креста. И действительно, ниже подписи «Приер из Марны», две строчки, набранные мелкими буквами, гласили:
«В случае установления личности маркиза де Лантенака, он будет немедленно расстрелян». Подписано: «Командир батальона, начальник экспедиционного отряда Говэн».
— Говэн! — промолвил маркиз.
С минуту он стоял неподвижно, не отрывая глаз от объявления.
— Говэн! — повторил он.
Он зашагал вперед, потом вдруг оглянулся, посмотрел на крест, повернул обратно и прочел объявление еще раз.
Затем он медленно отошел прочь. И повстречайся с ним в эту минуту прохожий, он услышал бы, как маркиз вполголоса твердит про себя: «Говэн!»
Высокий обрывистый откос дороги, по которой он шел, открывал взору лишь крыши фермы, оставшейся по левую руку. Путь маркиза лежал мимо крутого холма, покрытого цветущим терновником. Вершину пригорка венчал голый земляной выступ, именовавшийся в здешних краях Кабанья Голова. Подножие пригорка густо поросло кустарником, и взгляд терялся в зеленой чаще. Листва словно вбирала в себя солнечный свет. Вся природа дышала безмятежной радостью утра.
Вдруг мирный пейзаж стал страшен. Это было как внезапное нападение из засады. Лавина диких криков и ружейных залпов внезапно обрушилась на эти леса и нивы, залитые солнцем; над фермой высоко поднялся огромный клуб дыма, пронизанный языками огня, словно заполыхал стог соломы. Как зловещ и скор был этот переход от спокойствия к ярости, эта вспышка адского пламени на фоне розовеющей зари, внезапность этой жестокой развязки! Бой шел возле фермы Соломинка. Маркиз остановился.
Нет человека, который в подобных обстоятельствах не поддался бы чувству жгучего любопытства, чувству более сильному, нежели чувство самосохранения. Погибнуть — лишь бы только знать. Старик взошел на холм, у подножия которого пролегала дорога. Пусть отсюда будет видно его самого, зато он сам увидит все. Через несколько минут он достиг Кабаньей Головы. Он огляделся по сторонам.
И впрямь, там раздавались выстрелы, там разгорался пожар. Сюда наверх доносились крики, отсюда видно было пламя. Ферма оказалась в центре какой-то непонятной катастрофы. Какой именно? Неужели Соломинка подверглась нападению? Но кто же напал на нее? Да и бой ли это? Вероятнее всего, это просто карательная экспедиция. Нередко синие, во исполнение революционного декрета, карали мятежные деревни и фермы, предавая их огню; чтобы другим неповадно было, они сжигали каждый хутор и каждую хижину, не сделавшие в лесу завала, как от них требовалось, или же своевременно не расчистившие прохода в чаще для следования республиканской кавалерии. Совсем недавно подобная экзекуция была совершена в приходе Бургон, неподалеку от Эрне. Неужели и Соломинка подверглась такой каре? Даже простым глазом было видно, что среди кустарника и лесов, окружавших Танис и Соломинку, никто не позаботился, вопреки требованию декрета, проложить стратегическую просеку. Значит, расправа обрушилась и на ферму? Уж не получили ли занявшие ферму солдаты соответствующего приказа? И уж не входит ли этот авангардный батальон в состав летучих отрядов, именуемых «адскими отрядами»?
К пригорку, с которого маркиз обозревал округу, со всех четырех сторон подступал густой, почти непроходимый лес. Известный больше под именем рощи, но вполне достойный по своим размерам зваться бором, лес этот тянулся вплоть до фермы Соломинка и, подобно всем бретонским чащам, скрывал глубокие складки оврагов, лабиринты тропинок и дорог, где сутками блуждали в поисках пути республиканские армии.
Экзекуция, если только это действительно была экзекуция, по-видимому, была свирепой, потому что была краткой. Как все зверское, она совершилась мгновенно. Жестокость гражданских войн предполагает эти дикие расправы. Пока маркиз терялся в догадках, не зная, спуститься ли ему вниз или оставаться здесь, на холме, пока он вслушивался и вглядывался, шум побоища утих или, вернее, рассеялся. Маркиз догадался, что теперь среди густого кустарника растеклась во всех направлениях яростная и торжествующая орда. Под сенью деревьев кишел человеческий муравейник. Расправившись с фермой, каратели бросились в лес. Барабаны били сигнал атаки. Выстрелы смолкли; очевидно, теперь началась облава, люди как бы преследовали, выслеживали кого-то, гнались за кем-то. Ясно было, что шел поиск, кругом стоял глухой и раскатистый шум; слышались вперемежку крики гнева и ликования, из общего гула вдруг вырывался радостный возглас, но слов нельзя было различить. Подобно тому как сквозь густой дым вдруг начинают вырисовываться очертания предметов, так и сквозь этот гам пробилось одно четко и раздельно произнесенное слово, вернее, имя, имя, повторенное тысячью глоток, и маркиз ясно различил: «Лантенак! Лантенак! Маркиз де Лантенак!»
Стало быть, искали именно его.
VI ПРЕВРАТНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
И внезапно вокруг маркиза, разом со всех сторон, перелесок ощетинился дулами ружей, штыками и саблями; в пороховом дыму заплескалось трехцветное знамя, крики «Лантенак!» явственно достигли слуха маркиза, а у ног его, между колючек и веток, показались свирепые физиономии.
Одинокая фигура маркиза, стоявшего неподвижно на вершине пригорка, была заметна из каждого уголка леса. Хотя сам он с трудом различал тех, кто выкликал его имя, его было видно отовсюду. Если в лесу имелась тысяча ружей, то он, стоя здесь, являл собою превосходную мишень для каждого. В густом кустарнике сверкали лишь зрачки устремленных на него глаз.
Маркиз снял шляпу, отогнул поля, сорвал с терновника длинную сухую колючку, вытащил из кармана белую кокарду и приколол ее колючкой вместе с поднятым бортом к тулье, надел шляпу, так что кокарда сразу же бросалась в глаза, и произнес громким голосом, как бы требуя внимания от лесной чащи:
— Я тот, кого вы ищете. Да, я маркиз де Лантенак, виконт де Фонтенэ, бретонский принц, генерал-лейтенант королевских армий. Кончайте быстрее! Целься! Огонь!
И, схватившись обеими руками за отвороты своей козьей куртки, он широко распахнул ее, подставив под дула голую грудь.
Опустив глаза, он искал взглядом нацеленные на него ружья, а увидел коленопреклоненную толпу.
Громогласный крик единодушно вырвался из сотен глоток: «Да здравствует Лантенак! Да здравствует его светлость! Да здравствует наш генерал!»
Над деревьями замелькали брошенные в воздух шляпы, весело закружились над головами клинки сабель, и над зеленым кустарником поднялся частокол палок с нацепленными на них коричневыми вязаными колпаками.
Люди, толпившиеся вокруг Лантенака, оказались отрядом вандейцев.
Увидев его, вандейцы преклонили колена.
Старинная легенда гласит, что некогда в тюрингских лесах жили удивительные существа, из породы великанов, похожие на людей и вместе с тем не совсем люди, коих римлянин почитал дикими зверьми, а германец — богами во плоти, и, в зависимости от того, кому попадался на пути такой бог-зверь, его ждал смертоносный удар или слепое преклонение.
В эту минуту маркиз ощутил нечто подобное тому, что должны были испытывать те сказочные существа, — он ожидал, как зверь, удара, и вдруг ему, как божеству, воздаются почести.
Сотни глаз, горевших грозным огнем, впились в маркиза с выражением дикарского обожания.
Весь этот сброд был вооружен карабинами, саблями, косами, мотыгами, палками; у каждого на широкополой войлочной шляпе или на коричневом вязаном колпаке рядом с белой кокардой красовалась целая гроздь амулетов и четок, на всех были широкие штаны, не доходившие до колен, плащи, кожаные гетры, открывавшие голые лодыжки; космы волос падали на плечи; у многих был свирепый вид, но во всех взглядах светилось простодушие.
Какой-то молодой человек с красивым лицом растолкал толпу коленопреклоненных вандейцев и твердым шагом направился к маркизу. Голову его украшала простая войлочная шляпа с белой кокардой на приподнятом борту, одет он был, как и все прочие, в плащ из грубой шерсти, но руки отличались белизной, а сорочка — качеством полотна; под распахнутой на груди курткой виднелась белая шелковая перевязь, служившая портупеей для шпаги с золотым эфесом.
Добравшись до верха Кабаньей Головы, молодой человек швырнул наземь шляпу, отцепил перевязь и, опустившись на колени, протянул ее маркизу вместе со шпагой.
— Да, мы искали вас, — сказал он, — и мы вас нашли. Разрешите вручить вам шпагу командующего. Все эти люди отныне в полном вашем распоряжении. Я был их командиром, теперь я получил повышение в чине: я ваш солдат. Примите, ваша светлость, наше глубочайшее почтение. Мы ждем ваших приказаний, господин генерал.
Он махнул рукой, и из леса выступили люди, несшие трехцветное знамя. Они тоже подошли к маркизу и опустили знамя к его ногам. Именно это знамя заметил маркиз тогда сквозь ветви деревьев.
— Господин генерал, — продолжал молодой человек, сложивший к ногам маркиза свою шпагу с перевязью, — мы только что отбили это знамя у синих, засевших на ферме Соломинка. Имя мое Гавар. Я служил под началом маркиза де Ларуари.
— Что ж, чудесно, — ответил старик.
Уверенным и спокойным движением он перепоясал себя шарфом.
Потом выхватил из ножен шпагу и, потрясая ею над головой, воскликнул:
— Встать! Да здравствует король!
Коленопреклоненная толпа поднялась.
И в чаще леса прокатился неудержимый ликующий крик: «Да здравствует король! Да здравствует наш маркиз! Да здравствует Лантенак!»
Маркиз повернулся к Гавару:
— Сколько вас?
— Семь тысяч.
И, спускаясь с пригорка за Лантенаком, перед которым услужливые руки крестьян раздвигали колючие ветки, Гавар добавил:
— И ничего удивительного, ваша светлость. Сейчас я вам все объясню в двух словах. Мы ждали лишь первой искры. Узнав из объявления республиканцев о вашем прибытии, мы призвали всю округу встать за короля. К тому же нас тайком известил мэр Гранвиля — наш человек, тот самый, что спас аббата Оливье. Нынче ночью ударили в набат.
— Ради чего?
— Ради вас.
— А!.. — произнес маркиз.
— И вот мы здесь, — подхватил Гавар.
— Все семь тысяч?
— Сегодня всего семь. А завтра будет пятнадцать. Да и эти пятнадцать — дань лишь одной округи. Когда господин Анри Ларошжакелен отбывал в католическую армию, мы тоже ударили в набат, и в одну ночь шесть приходов — Изернэ, Коркэ, Эшобруань, Обье, Сент-Обэн и Ноэль выставили десять тысяч человек. Не было боевых припасов, — у какого-то каменотеса обнаружилось шестьдесят фунтов пороха, и господин Ларошжакелен двинулся в путь. Мы предполагали, что вы должны находиться где-нибудь поблизости в здешних лесах, и отправились на поиски.
— Значит, это вы перебили синих на ферме Соломинка?
— Ветром унесло колокольный звон в другую сторону, и они не слышали набата. Потому-то они и не поостереглись; жители фермы — безмозглое мужичье — встретили их с распростертыми объятиями. Сегодня утром, пока синие еще мирно почивали, мы окружили ферму и покончили с ними в одну минуту… У меня есть лошадь. Разрешите предложить ее вам, господин генерал?
— Хорошо.
Какой-то крестьянин подвел генералу белую лошадь под кавалерийским седлом. Маркиз, словно не заметив подставленной руки Гавара, без посторонней помощи вскочил на коня.
— Ур-ра! — крикнули крестьяне. Ибо возглас «ура», как и многие другие английские словечки, широко распространен на бретонско-нормандском берегу, издавна связанном с островами Ла-Манша.
Гавар отдал честь и спросил:
— Где изволите выбрать себе штаб-квартиру, господин генерал?
— Пока в Фужерском лесу.
— В одном из семи принадлежащих вам лесов, маркиз?
— Нам необходим священник.
— Есть один на примете.
— Кто же?
— Викарий из прихода Шапель-Эрбре.
— Знаю такого. Если не ошибаюсь, он бывал на Джерси.
Из рядов выступил священник.
— Трижды, — подтвердил он.
Маркиз обернулся на голос.
— Добрый день, господин викарий. Хлопот у вас будет по горло.
— Тем лучше, ваша светлость.
— Вам придется исповедовать сотни людей. Но только тех, кто изъявит желание. Насильно никого.
— Маркиз, — возразил священник, — Гастон в Геменэ насильно гонит республиканцев на исповедь.
— На то он и цирюльник, — ответил маркиз. — В смертный час нельзя никого неволить.
Гавар, который тем временем давал солдатам последние распоряжения, выступил вперед.
— Жду ваших приказаний, господин генерал.
— Прежде всего, встреча состоится в Фужерском лесу. Пусть пробираются туда поодиночке.
— Приказ уже дан.
— Помнится, вы говорили, что жители Соломинки встретили синих с распростертыми объятиями?
— Да, господин генерал.
— Вы сожгли ферму?
— Да.
— А поселок сожгли?
— Нет.
— Сжечь немедленно.
— Синие пытались сопротивляться, но их было всего сто пятьдесят человек, а нас семь тысяч.
— Что это за синие?
— Из армии Сантерра.
— А, того самого, что командовал барабанщиками во время казни короля? Значит, это парижский батальон?
— Вернее, полбатальона.
— А как он называется?
— У них на знамени написано: «Батальон „Красный колпак“».
— Зверье!
— Как прикажете поступить с ранеными?
— Добить!
— А с пленными?
— Расстрелять всех подряд.
— Их человек восемьдесят.
— Расстрелять.
— Среди них две женщины.
— Расстрелять.
— И трое детей.
— Захватите с собой. Там посмотрим.
И маркиз дал шпоры коню.
VII HE МИЛОВАТЬ (ДЕВИЗ КОММУНЫ) ПОЩАДЫ НЕ ДАВАТЬ (ДЕВИЗ ПРИНЦЕВ)
В то время как все эти события разыгрывались возле Таписа, нищий брел по дороге в Кроллон. Он спускался в овраги, исчезал порой под широколиственными кронами деревьев, то не замечая ничего, то замечая что-то вовсе недостойное внимания, ибо, как он сам сказал недавно, он был не мыслитель, а мечтатель; мыслитель — тот во всем имеет определенную цель, а мечтатель не имеет никакой, и поэтому Тельмарш шел куда глаза глядят, сворачивал в сторону, вдруг останавливался, срывал на ходу пучок конского щавеля и отправлял его в рот, то, припав к ручью, пил прохладную воду, то, заслышав вдруг отдаленный гул, удивленно вскидывал голову, потом вновь подпадал под колдовские чары природы; солнце припекало его лохмотья, до слуха его, быть может, доносились голоса людей, но он внимал лишь пенью птиц.
Он был стар и медлителен: дальние прогулки стали ему не под силу; как он сам объяснил маркизу де Лантенаку, уже через четверть лье у него начиналась одышка; поэтому он добрался кратчайшим путем до Круа-Авраншена, а к вечеру отправился в обратный путь.
Чуть подальше Масэ тропка вывела его на голый безлесный холм, откуда было видно далеко во все четыре стороны; на западе открывался бескрайний простор небес, сливавшийся с морем.
Вдруг запах дыма привлек его внимание.
Нет ничего слаще дыма, но нет ничего и страшнее его. Дым бывает домашний, мирный, и бывает дым-убийца. Дым — густота его клубов, их окраска, — в этом вся разница между миром и войной, между братской любовью и ненавистью, между гостеприимным кровом и мрачным склепом, между жизнью и смертью. Дым, вьющийся над кроной деревьев, может означать самое милое сердцу — домашний очаг и самое ужасное — пожар; и все счастье человека, равно, как и все его горе, заключено подчас в этой субстанции, послушной воле ветра.
Дым, который заметил с пригорка Тельмарш, вселял тревогу.
В густой его черноте пробегали быстрые, красные язычки, словно пожар то набирался сил, то затихал. Подымался он над фермой Соломинка.
Тельмарш ускорил шаг и направился туда, откуда шел дым. Он очень устал, но ему не терпелось узнать, что там происходит.
Нищий взобрался на пригорок, к подножью которого прилепились ферма и селение.
Ни фермы, ни поселка не существовало более.
Тесно сбитые в ряд пылающие хижины — вот что осталось от Соломинки.
Если бывает на свете зрелище более горестное, чем горящий замок, то это зрелище горящей хижины. Охваченная пожаром хижина вызывает слезы. Есть какая-то удручающая несообразность в бедствии, обрушившемся на нищету, это как коршун, раздирающий земляного червя.
По библейскому преданию, всякое живое существо, смотрящее на пожар, обращается в каменную статую; и Тельмарш тоже на минуту застыл как изваяние. Он замер на месте при виде открывшегося перед ним зрелища. Огонь творил свое дело в полном безмолвии. Ни человеческого крика не доносилось с фермы, ни человеческого вздоха не летело вслед уплывающим клубам; пламя в сосредоточенном молчании пожирало остатки фермы, и лишь временами слышался треск балок и тревожный шорох горящей соломы. Минутами ветер разгонял клубы дыма, и тогда сквозь рухнувшие крыши виднелись черные провалы горниц; горящие угли являли взору всю россыпь своих рубинов; окрашенное в багрец тряпье и жалкая утварь, одетая пурпуром, на мгновение возникали среди разрумяненных огнем стен, так что Тельмарш невольно прикрыл глаза перед зловещим великолепием бедствия.
Каштаны, росшие возле хижины, занялись и уже пылали.
Тельмарш напряженно прислушивался, стараясь уловить хоть звук человеческого голоса, хоть призыв о помощи, хоть стон; но все было недвижно, кроме языков пламени, все молчало, кроме ревущего огня. Значит, люди успели разбежаться?
Куда делось все живое, что населяло Соломинку и трудилось здесь? Что сталось с горсткой ее жителей?
Тельмарш зашагал с пригорка вниз.
Он старался разгадать трагическую тайну. Он шел не торопясь, вперив взгляд в пожарище. Медленно, словно тень, подходил он к этим руинам и сам себе казался призраком, посетившим безмолвную могилу.
Он подошел к воротам фермы, вернее, к тому, что было раньше ее воротами, и заглянул во двор: ограды уже не существовало, и ничто не отделяло теперь хижину от поселка.
Все увиденное им раньше было ничто. Он видел лишь страшное, теперь перед ним предстал сам ужас.
Посреди двора чернела какая-то груда, еле очерченная с одной стороны отсветом зарева, а с другой — сиянием луны; эта груда была грудой человеческих тел, и люди эти были мертвы.
Вокруг натекла лужа, над которой подымался дымок, отблески огня играли на ее поверхности, но не они окрашивали ее в красный цвет; то была лужа крови.
Тельмарш приблизился. Он начал осматривать лежащие перед ним тела, — тут были только трупы.
Луна лила свой свет, пожарище бросало свой.
То были трупы солдат. Все они лежали босые; кто-то поторопился снять с них сапоги, кто-то поторопился унести их оружие. Но на них уцелели мундиры — синие мундиры; на груде мертвых тел валялись простреленные каски с трехцветными кокардами. То были республиканцы. То были парижане, которые еще вчера, живые и невредимые, расположились на ночлег на ферме Соломинка. Этих людей предали мучительной смерти, о чем свидетельствовала аккуратно сложенная гора трупов; людей убили на месте, и убили обдуманно. Все были мертвы. Из груды тел не доносилось даже предсмертного хрипа.
Тельмарш провел смотр этим мертвецам, не пропустив ни одного; всех изрешетили пули.
Те, кто выполнял приказ о расстреле, по всей видимости, поспешили уйти и не позаботились похоронить мертвецов.
Уже собираясь уходить, Тельмарш бросил последний взгляд на низенький частокол, чудом уцелевший посреди двора, и заметил две пары ног, торчащих из-за угла.
Ноги эти были обуты и казались меньше, чем все прочие. Тельмарш подошел поближе. То были женские ноги.
По ту сторону частокола лежали рядом две женщины, их тоже расстреляли.
Тельмарш нагнулся. На одной женщине была солдатская форма, возле нее валялась продырявленная пулей пустая фляга. Это оказалась маркитантка. Череп ее пробили четыре пули. Она уже скончалась.
Тельмарш осмотрел ту, что лежала с ней рядом. Это была простая крестьянка. Бледное лицо, оскаленный рот. Глаза плотно прикрыты веками. Но раны на голове Тельмарш не обнаружил. Платье, превратившееся от долгой носки в лохмотья, разорвалось при падении и открывало почти всю грудь. Тельмарш раздвинул лохмотья и увидел на плече круглую пулевую ранку, — очевидно, была перебита ключица. Старик взглянул на безжизненно посиневшую грудь.
— Мать-кормилица, — прошептал он.
Он дотронулся до тела женщины. Оно не окоченело, подобно другим.
Иных повреждений, кроме перелома ключицы и раны в плече, он не заметил.
Тельмарш положил руку на сердце женщины и уловил робкое биение. Значит, она еще жива.
Он выпрямился во весь рост и прокричал диким голосом:
— Эй, кто тут есть? Выходи.
— Да это, никак, ты, Нищеброд, — тут же отозвался голос, но прозвучал он приглушенно, еле слышно.
И в ту же минуту между двух рухнувших балок просунулась чья-то физиономия.
Затем из-за угла хижины выглянуло еще чье-то лицо.
Два крестьянина успели вовремя спрятаться, только им двоим и удалось спастись от пуль.
Услышав знакомый голос Тельмарша, они приободрились и рискнули выбраться на свет божий.
Их обоих до сих пор била дрожь.
Тельмарш мог только кричать, говорить он уже не мог; таково действие глубоких душевных потрясений.
Он молча показал пальцем на тело женщины, распростертое на земле.
— Неужели жива? — спросил крестьянин.
Тельмарш утвердительно кивнул головой.
— А другая тоже жива? — осведомился второй крестьянин.
Тельмарш отрицательно покачал головой.
Тот крестьянин, что выбрался из своего укрытия первым, заговорил:
— Стало быть, все прочие померли? Видел я все, своими глазами видел. Сидел в погребе. Вот в такую минуту и поблагодаришь господа, что у тебя семьи нет. Дом мой сожгли. Боже мой, господи, всех поубивали. А у этой вот женщины были дети. Трое детишек. Мал мала меньше. Уж как ребятки кричали: «Мама! Мама!» А мать кричала: «Дети мои!» Мать, значит, убили, а детей увели. Сам своими глазами видел. Господи Иисусе! Господи Иисусе! Те, что всех здесь перебили, ушли потом. Да еще радовались. Маленьких, говорю, увели, а мать убили. Но ведь она не умерла, ты говоришь? Как, по-твоему, Нищеброд, удастся тебе ее спасти? Хочешь, мы тебе поможем перенести ее в твою пещерку?
Тельмарш утвердительно кивнул головой.
Лес подступал к самой ферме. Не мешкая зря, крестьяне смастерили из веток и папоротника носилки. На носилки положили женщину, по-прежнему не подававшую признаков жизни, один крестьянин впрягся в носилки в головах, другой в ногах, а Тельмарш шагал рядом и держал руку раненой, стараясь нащупать пульс.
По дороге крестьяне продолжали беседовать, и их испуганные голоса как-то странно звучали над израненным телом женщины, чье бледное лицо освещала луна.
— Всех погубили.
— Все сожгли.
— Святые угодники, что-то теперь будет?
— А все это длинный старик натворил.
— Да, это он всем командовал.
— Я что-то его не заметил, когда расстрел шел. Разве он был тут?
— Не было его. Уже уехал. Но все равно по его приказу действовали.
— Значит, он всему виной.
— А как же, ведь это он приказал: «Убивайте, жгите, никого не милуйте».
— Говорят, он маркиз.
— Конечно, это наш маркиз.
— Погоди, а как его зовут?
— Да это же господин де Лантенак.
Тельмарш поднял глаза к небесам и прошептал сквозь стиснутые зубы:
— Если б я знал!
Часть вторая В ПАРИЖЕ
Книга первая СИМУРДЭН
I УЛИЦЫ ПАРИЖА ТЕХ ВРЕМЕН
Вся жизнь протекала на людях, столы вытаскивали на улицу и обедали тут же перед дверьми; на ступеньках церковной паперти женщины щипали корпию, распевая «Марсельезу»; парк Монсо и Люксембургский сад стали плацем, где новобранцев обучали воинским артикулам; на каждом перекрестке работали оружейные мастерские, здесь изготовляли ружья, и прохожие восхищенно хлопали в ладоши; одно было у всех на устах: «Терпение. Мы делаем революцию». И улыбались героически. Зрелища привлекали толпы, как в Афинах во время Пелопонесской войны; на углах пестрели афиши: «Осада Тионвиля», «Мать семейства, спасенная из пламени», «Клуб беспечных», «Папесса Иоанна», «Солдаты-философы», «Сельское искусство любви». Немцы стояли у ворот столицы; ходил слух, будто прусский король приказал оставить для него ложу в Опере. Все было страшно, но никто не ведал страха. Зловещий «закон о подозрительных»[55], который останется на совести Мерлена из Дуэ, вздымал над каждой головой зримый призрак гильотины. Некто Сэран, прокурор, узнав, что на него поступил донос, сидел в ожидании ареста у окна в халате и ночных туфлях и играл на флейте. Всем было недосуг. Все торопились. На каждой шляпе красовалась кокарда. Женщины говорили: «Нам к лицу красный колпак». Казалось, весь Париж стронулся с насиженного места. Лавчонки старьевщиков уже не вмещали корон, митр, позолоченных деревянных скипетров и геральдических лилий — старья из королевских дворцов. Это шла на слом отжившая свой век монархия. Ветошники бойко торговали церковным облачением. В Поршероне у Рампоно люди, наряженные в стихари и епитрахили, важно восседая на ослах, покрытых вместо чепраков ризами, протягивали разливавшим вино кабатчикам священные дароносицы. На улице Сен-Жак босоногие каменщики властным жестом останавливали тачку разносчика, торговавшего обувью, покупали в складчину пятнадцать пар сапог и тут же отправляли в Конвент в дар нашим воинам. На каждом шагу красовались бюсты Франклина[56], Руссо[57], Брута и, добавим, Марата[58]; под одним из бюстов Марата на улице Клош-Перс была прибита в застекленной черной рамке обвинительная речь против Малуэ с полным перечнем улик и припиской сбоку: «Все эти подробности сообщены мне любовницей Сильвэна Байи — доброй патриоткой, не раз доказывавшей мне свою доброту». И подпись: «Марат». На площади Пале-Рояль прежняя надпись на фонтане: «Quantos effundit in usus!»[59] — исчезла под двумя огромными холстами, писанными темперой, — на одном был изображен Кайе де Жервилль, открывающий Национальному собранию пароль арльских «тряпичников», а на другом — Людовик XVI, возвращающийся из Варенна; снизу к королевской карете была привязана длинная доска, и по обеим выступающим ее концам стояли два гренадера с примкнутыми штыками. Большинство лавок не торговало; женщины развозили по улицам тележки с галантерейными товарами и разной мелочью; вечерами торговля шла при свечах, и оплывающее сало падало на разложенные сокровища; на улицах, под открытым небом, держали ларьки бывшие монахини в белокурых париках; штопальщица чулок, устроившаяся в углу лавчонки, оказывалась графиней, портниха оказывалась маркизой; госпожа де Буфле перебралась на чердак, откуда могла любоваться своим собственным особняком. С криком сновали мальчишки, предлагая прохожим «новости дня». Тех, кто щеголял в высоких галстуках, обзывали «зобастыми». Весь город кишел бродячими певцами. Толпа улюлюкала вслед песеннику — роялисту Питу[60], человеку, впрочем, мужественному, ибо его сажали за решетку двадцать два раза и наконец предали революционному суду за то, что, произнося слова «гражданские добродетели», он щелкнул себя по мягкому месту; видя, что ему грозит гильотина, Питу воскликнул: «Уж если рубить мне что-нибудь, так не голову! Она-то здесь ни при чем», — и, рассмешив судей, спас свою жизнь. Этот самый Питу высмеивал моду на греческие и латинские имена; охотнее прочих он распевал песенку о некоем сапожнике, который именовал себя Цезарем, а супругу свою Цесаркой. На улицах плясали карманьолу; никто не называл даму дамой, а кавалера — кавалером, говорили просто «гражданка» и «гражданин». В разоренных монастырях устраивали танцы; украсив алтарь лампионами, плясали под сенью двух палок, сбитых крестом, с четырьмя свечами по концам, и пристукивали каблуками по могильным плитам. В моде были синие камзолы «а-ля тиран». В галстук втыкали булавку в форме «колпака свободы», в которой последовательно перемежались белые, синие и красные камешки. Улицу Ришелье переименовали в улицу Закона, Сент-Антуанское предместье — в предместье Славы; на площади Бастилии водрузили статую Природы. Любимцами уличных зевак были в ту пору Шатле, Дидье, Никола и Гарнье-Делонэ, дежурившие у дверей дома столяра Дюпле[61]; Вуллан[62], который не пропускал ни одной казни и провожал каждую телегу, везущую осужденных на смерть, вплоть до самой гильотины, называя свои прогулки посещением «красной обедни»; Монфлабер[63], маркиз и революционный присяжный, который требовал, чтобы его величали Десятое Августа. Прохожие любовались на маршировавших по улицам учеников военной школы, переименованных декретом Конвента в «воспитанников школы Марса», а народной молвой — в «Робеспьеровых пажей». Зачитывались прокламациями Фрерона[64], разоблачавшего заподозренных в «негоциантизме»; мюскадены торчали у дверей мэрии, высмеивая церемонию гражданского брака: они улюлюканием встречали молодоженов и кричали им вслед: «Омуниципалившиеся!» В Доме инвалидов на статуи святых и королей нацепили фригийские колпаки. На каждом перекрестке, присев на тумбы, картежники резались в карты, но и в игральную колоду ворвался вихрь революции: королей заменили «гениями», дам — «свободами», валетов — «равенствами», а тузов — «законами». Перепахивали публичные парки: в Тюильри пустили плуг. При всем том, особенно у приверженцев побежденных партий, чувствовалось какое-то высокомерное утомление жизнью. Фукье-Тенвиль[65] получил от кого-то следующее письмо: «…Будьте любезны, освободите меня от бремени жизни. Адрес свой при сем прилагаю». Шансене был арестован за то, что крикнул на весь Пале-Рояль: «А когда же начнется революция в Порте? Хорошо бы республику турнуть в Турцию!» И повсюду газеты. Пока подмастерья цирюльника на глазах зрителей завивали дамские парики, хозяин читал им вслух «Монитер», а рядом, разбившись на кучки, люди, взволнованно размахивая руками, комментировали статьи из газеты «Согласие», издаваемой Дюбуа-Крансэ[66], или из «Трубача дядюшки Бельроза». Нередко цирюльники совмещали свое ремесло с торговлей колбасами, и рядом с манекенами в золотых локонах в окне выставлялись окорока и связки сосисок. Торговцы предлагали на площадях «эмигрантские вина»; один даже хвалился в объявлении, что у него имеются вина «пятидесяти двух марок»; другие пускали в продажу часы в форме лиры и кушетки «а-ля дюшес»; один брадобрей намалевал на своей вывеске: «Брею духовенство, стригу дворянство, прихорашиваю третье сословие». Охотно посещали гадальщика Мартена, проживавшего в доме № 173 по улице Анжу, бывшей Дофиновой. Хлеба не хватало, угля не хватало, мыла не хватало; по улицам гнали целые гурты молочных коров, закупленных в провинции. В Балле фунт баранины стоил пятнадцать франков. Объявление Коммуны гласило, что каждый едок получает на декаду фунт мяса. У лавок выстраивались очереди; одна из них прославилась своей невиданной протяженностью — начиналась она у дверей бакалейщика на улице Пти-Карро и тянулась до середины улицы Монторгейль. Стоять в очереди называлось тогда «держать веревочку», так как каждый, стоя в затылок переднему, держался правой рукой за длинную веревку. Женщины среди этих бед и лишений вели себя мужественно и кротко. Целые ночи дежурили они у булочной, дожидаясь своей очереди. Крайние меры удавались революции; она стремилась вытащить страну из нищеты двумя рискованными средствами: с помощью ассигнатов и максимума; ассигнаты служили рычагом, а максимум — точкой опоры. Этот здравый подход и спас Францию. Враг — враг из Кобленца, в той же мере что и враг из Лондона, — устраивал ажиотаж с ассигнатами. Развязные девицы, бродя по улицам, для вида предлагали прохожим лавандовую воду, подвязки и фальшивые косы, а на самом деле спекулировали; торговали ассигнатами и темные личности с улицы Вивьен в стоптанных башмаках, прикрывавшие свои сальные космы меховыми шапками, увенчанными лисьими хвостами, а также и менялы с улицы Валуа, щеголявшие в начищенных до блеска сапожках, с зубочисткой в зубах, в плюшевых шляпах, и уличные девицы обращались к ним на «ты». Народ преследовал их, как и воров, которых роялисты ехидно называли «сверхактивными гражданами». Впрочем, воровство стало явлением редким. Жесточайшие лишения, стоическая честность. Оборванцы, живые скелеты, проходили, сурово потупив глаза, мимо сверкающих витрин ювелиров в Пале-Эгалитэ. Во время обыска у Бомарше, проводившегося секцией Антуан, какая-то женщина сорвала в саду цветок, ей надавали пощечин. Вязанка дров стоила четыреста франков серебром, и нередко можно было видеть на улице, как какой-нибудь гражданин распиливал на топливо собственную кровать; зимой фонтаны замерзли; за два ведра воды просили двадцать су; все парижане стали водоносами. Луидор стоил три тысячи девятьсот пятьдесят франков. Поездка на фиакре обходилась в шестьсот франков в один конец. Нередко можно было слышать такой диалог между седоком, нанимавшим экипаж на целый день, и возницей: «Сколько с меня?» — «Шесть тысяч ливров». Зеленщицы выручали за день двадцать тысяч франков. Нищий, протягивая руку за милостыней, канючил: «Подайте, люди добрые, совсем обносился, двести тридцать ливров не хватает, чтобы башмаки купить!» У мостов высились вырезанные из дерева колоссы, разрисованные Давидом[67], которых Мерсье[68] презрительно именовал «Деревянные петрушки». Фигуры эти долженствовали изображать поверженные в прах Федерализм и Коалицию. Ни малейших признаков упадка духа в народе. И угрюмая радость оттого, что раз навсегда свергнуты троны. Лавиной шли добровольцы, предлагавшие родине свою жизнь. Каждая улица выставляла батальон. Проплывали знамена округов, на каждом был начертан свой девиз. На знамени округа Капуцинов значилось: «Нас голыми руками не возьмешь!» На другом: «Благородным должно быть лишь сердце!» На всех стенах афиши и объявления — большие, маленькие, белые, желтые, зеленые, красные, отпечатанные в типографии и написанные от руки — провозглашали: «Да здравствует Республика!» Крохотные ребятишки лепетали: «Ça ira».
В этих ребятишках жило неизмеримо огромное будущее.
Позже на смену трагическому городу пришел город циничный: парижские улицы в годы революции являли собой два совершенно различных облика: один — до, другой — после 9 термидора; Париж Сен-Жюста[69] сменился Парижем Тальена[70]; такова извечная антитеза Творца: Синай и вслед за ним — Золотой телец.
Повальное безумие не такая уж редкость. Нечто подобное было еще за восемьдесят лет до описываемых событий. После Людовика XIV, как и после Робеспьера, захотелось вздохнуть полной грудью; вот почему век начался Регентством[71] и закончился Директорией[72]. Тогда и теперь — террор сменился разгулом. Когда Франция вырвалась на волю из пуританского затворничества, как прежде из затворничества монархии, ею овладела радость спасшейся от гибели нации.
После 9 термидора Париж веселился, но каким-то исступленным весельем. Его охватило тлетворное ликование. Готовность отдать свою жизнь сменилась бешеной жаждой жить любой ценой, и величье померкло. В Париже появился свой Тримальхион[73] в лице Гримо де ла Реньера; увидел свет «Альманах гурманов». Вошли в моду обеды на антресолях Пале-Рояля под бравурные звуки оркестра, где женщины-музыканты били в барабаны и трубили в трубы; смычок скрипача управлял движением толпы; в ресторации Мео ужинали «по-восточному» среди курильниц с благовониями. Живописец Боз написал двух своих шестнадцатилетних дочек — двух невинных, чарующих красоток — в «гильотинном» уборе, то есть в красных рубашечках с обнаженными шейками. Миновало время неистовых плясок в разоренных церквах; на смену им пришли балы у Руджиери, Люке, Венцеля, Модюи и госпожи Монтанзье; на смену гражданкам, степенно щипавшим корпию, пришли маскарадные султанши, дикарки, нимфы; на смену солдатам с босыми ногами, покрытыми кровью, грязью и пылью, пришли красотки с голыми ножками, украшенными бриллиантами; одновременно с распутством вернулось бесчестье: наверху орудовали поставщики, а внизу — мелкие воришки; Париж наводнили жулики всех рангов, и рекомендовалось зорко следить за своим бумажником; любимым развлечением парижан было ходить на заседания окружного суда — смотреть воровок, которых сажали на высокие табуреты, связав им из соображений скромности юбки; выходившим из театров «гражданам» и «гражданкам» мальчишки предлагали занять места в кабриолете «на двоих»; газетчики уже не выкрикивали «Старый кордельер»[74] и «Друг народа», а бойко торговали «Письмами Полишинеля» и «Петицией сорванцов»; в секции Пик на Вандомской площади председательствовал маркиз де Сад. Реакция веселилась и свирепствовала; «Драгуны свободы» девяносто второго года возродились под кличкой «Рыцари кинжала». На подмостках появился простофиля — Жокрис[75]. «Несравненные» и «ослепительные» щеголяли последними модами. Вместо «честного слова» говорили: «даю суово жегтвы» или клялись в непристойных выражениях. От Мирабо[76] сползли к Бобешу[77]. Таков Париж, вся его жизнь — приливы и отливы; он гигантский маятник цивилизации, который касается то одного полюса, то другого, — и широта его размаха от Фермопил[78] до Гоморры. После девяносто третьего года революция прошла через какое-то странное затмение; казалось, век забыл завершить то, что начал; какая-то оргия вмешалась в его ход, вылезла на передний план, оттеснив апокалипсические ужасы, если прибегать к эпическим образам, и, натерпевшись страха, захохотала; трагедия превратилась в пародию, и лик Медузы, еще видневшийся на горизонте, затянуло дымом карнавальных факелов.
Но в описываемое нами время, в девяносто третьем году, парижские улицы хранили еще величественный и суровый облик начальной поры. У парижан были свои уличные ораторы, как, например, Варле[79], который разъезжал по всему городу в фургоне и держал оттуда речи перед толпой; были свои герои, одного из которых прозвали «капитаном молодцов с железным посохом»; были свои любимцы, как, например, Гюффруа[80], автор памфлета «Ружиф». Одни из этих знаменитостей сеяли зло, другие очищали души. И был среди них некто, проживший роковую и поистине славную жизнь, — Симурдэн.
II СИМУРДЭН
Симурдэн был совестью чистой, но угрюмой. Он носил в себе абсолют. Он был священником, а это не проходит даром. Душа человека, подобно небу, может быть сумеречно-ясной, для этого достаточно соприкосновения с тьмой. Иерейство погрузило во мрак дух Симурдэна. Тот, кто был священником, останется им до конца своих дней.
Душа, пройдя через ночь, хранит след не только мрака, но и след Млечного Пути. Симурдэн был полон добродетелей и достоинств, но сверкали они во тьме.
Историю его жизни можно рассказать в двух словах. Он был священником в безвестном селении и наставником в знатной семье; потом подоспело небольшое наследство, и он стал свободным человеком.
Прежде всего он был упрямец. Он пользовался мыслью, как другой пользуется тисками; уж если какая-нибудь мысль западала ему в голову, он считал своим долгом додумать ее до конца и лишь после этого отбрасывал прочь; он мыслил с каким-то ожесточением. Он владел всеми европейскими языками и знал еще два-три языка; он учился беспрестанно, и день и ночь, что помогало ему нести бремя целомудрия; но нет ничего опаснее постоянного обуздания чувств.
Будучи священником, он из гордыни ли, в силу ли стечения обстоятельств или из благородства души — ни разу не нарушил данных обетов; но веру сохранить не сумел. Знания подточили веру; догмы рухнули сами собой. Тогда, строгим оком заглянув в свою душу, он почувствовал себя нравственным калекой и решил, что, раз уж невозможно убить в себе священника, нужно возродить в себе человека; но средства для этого он избрал самые суровые: его лишили семьи — он сделал своей семьей родину, ему отказали в супруге — он отдал свою любовь человечеству. Этот избыток, в сущности, та же пустота.
Его родители, простые крестьяне, отдав сына в духовную семинарию, мечтали отторгнуть его от народа, — он возвратился в народные недра.
И возвратился в каком-то страстном порыве. Он смотрел на страждущих с грозной нежностью. Священник стал философом, а философ — могучим борцом. Еще при жизни Людовика XV Симурдэн уже был республиканцем. Какая республика грезилась ему? Быть может, республика Платона, а быть может, республика Дракона.
Раз ему запретили любить, он стал ненавидеть. Он ненавидел всяческую ложь, ненавидел самодержавие, власть церкви, свое священническое облачение, он ненавидел настоящее и громко призывал будущее; он предчувствовал грозное завтра, провидел заранее, угадывал его пугающий и великолепный облик; он понимал, что конец прискорбной драме человеческих бедствий положит некий мститель, который явится в то же время и освободителем. Он загодя предвкушал грядущую катастрофу.
В 1789 году катастрофа наконец пришла, и он встретил ее в полной готовности. Симурдэн отдался высокому делу обновления человечества со всей присущей ему логикой, что у человека такой закалки означает: со всей неумолимостью; логика не знает жалости. Он прожил великие годы революции, всем существом отзываясь на каждое ее дуновение: восемьдесят девятый год — взятие Бастилии, конец мукам народным; четвертое августа — конец феодализма; девяносто первый год — Варенн, конец монархии; девяносто второй год — установление республики. Он видел, как поднималась революция; но не таким он был человеком, чтобы испугаться пробудившегося гиганта, — напротив, этот сказочно быстрый рост влил в жилы Симурдэна новую жизнь; и он, почти старик, — в ту пору ему минуло пятьдесят лет, а священник старится вдвое быстрее, чем прочие люди, — он тоже начал расти. На его глазах год от года все выше вздымалась волна событий, и он сам как бы становился выше. Вначале он опасался, что революция потерпит поражение; он зорко наблюдал за ней: на ее стороне был разум и право, а он желал ей и успеха; чем грознее становилась ее поступь, тем спокойнее становилось у него на душе. Он хотел, чтобы эта Минерва, в венце из звезд грядущего, была также и Палладой и чтобы щитом ей служила голова Медузы. Он хотел, чтобы божественное ее око сжигало демонов адским пламенем, хотел воздать им ужасом за ужасы.
Так дожил он до девяносто третьего года.
Девяносто третий год — это война Европы против Франции и война Франции против Парижа. Чем же была революция? Победой Франции над Европой и победой Парижа над Францией. Именно в этом весь необъятный смысл грозной минуты — девяносто третьего года, — более великой, чем все прочие столетия в их совокупности.
Что может быть трагичнее: Европа, обрушившаяся на Францию, и Франция, обрушившаяся на Париж? Драма поистине эпического размаха.
Девяносто третий год — год неслыханной напряженности, пришла гроза гневная и величественная. Симурдэн дышал полной грудью. Эта дикая, исступленная и великолепная стихия соответствовала его масштабам. Он был подобен морскому орлу — глубочайшее внутреннее спокойствие и жажда опасностей. Иные окрыленные существа, суровые и невозмутимые, как бы созданы для могучих порывов ветра. Да, да, бывают такие грозовые души.
Жалость Симурдэна была особого рода — она распространялась только на обездоленных. Самое отталкивающее страдание находило в нем самоотверженного целителя. И тут ничто не вызывало в нем омерзения. Такова была отличительная черта его доброты. Как врачевателя его боготворили, но отворачивались от него с брезгливостью. Он искал язвы, чтобы лобызать их. Труднее всего даются прекрасные поступки, вызывающие в зрителях дрожь отвращения; он предпочитал именно такие. Однажды в больнице для бедных умирал человек — его душила опухоль в горле, зловонный и страшный с виду нарыв. Болезнь была, по всей видимости, заразной, требовалось удалить гной немедленно. Симурдэн, оказавшийся при больном, прижал губы к опухоли, рот его наполнился гноем, который он высасывал, пока не очистилась рана, — человек был спасен. Так как он в ту пору еще не расстался со священнической рясой, кто-то сказал: «Если бы вы решились сделать это для короля, — быть бы вам епископом». — «Я не сделал бы этого для короля», — ответил Симурдэн. Этот поступок и эти слова прославили Симурдэна в мрачных кварталах парижской бедноты.
С тех пор все страждущие, все обездоленные, все недовольные беспрекословно выполняли его волю. В дни народного гнева против спекулянтов, вспышки которого нередко приводили к прискорбным ошибкам, не кто иной, как Симурдэн, одним-единственным словом остановил у пристани Сен-Никола людей, расхищавших груз мыла с прибывшего судна, и он же рассеял разъяренную толпу, задерживавшую возы у заставы Сен-Лазар.
И он же, через два дня после 10 августа, повел народ сбрасывать статуи королей. Падая с пьедестала, они убивали. Так, на Вандомской площади некая Рэн Виоле, накинув на шею Людовику XIV веревку, яростно тащила его вниз и погибла под тяжестью рухнувшего монумента. Этот памятник простоял ровно сто лет; его воздвигли 12 августа 1692 года, а сбросили 12 августа 1792 года. На площади Согласия у подножия статуи Людовика XV толпа растерзала некоего Генгерло, обозвавшего «сволочью» тех, кто дерзновенно поднял руку на короля. Статую эту разбили на куски. Позднее из нее начеканили мелкую монету. Уцелела лишь одна рука, правая, — та, которую Людовик XV простирал вперед жестом римского императора. По ходатайству Симурдэна народная депутация торжественно вручила эту руку Латюду, томившемуся целых тридцать семь лет в Бастилии. Когда Латюд с железным ошейником вокруг шеи, с цепью, врезавшейся ему в бока, заживо гнил в подземном каземате по приказу короля, чья статуя горделиво возвышалась над Парижем, мог ли он хотя бы в мечтах представить себе, что стены его темницы падут, что падет статуя, а сам он выйдет из склепа, куда будет ввергнута монархия, и что он, жалкий узник, получит в собственность бронзовую руку, подписавшую приказ о его заточении, а от этого поверженного в прах деспота уцелеет лишь эта длань.
Симурдэн принадлежал к числу тех людей, в чьей душе немолчно звучит некий голос, к которому они прислушиваются. Такие люди на первый взгляд могут показаться рассеянными, — ничуть не бывало, они, напротив того, сосредоточенны.
Симурдэн познал все и не знал ничего. Он познал все науки и совсем не знал жизни. Отсюда его непреклонность. Он, словно гомеровская Фемида, носил на глазах повязку. Он устремлялся вперед со слепой уверенностью стрелы, которая видит лишь цель и летит только к цели. В революции нет ничего опаснее слишком прямых линий.
Так Симурдэн неотвратимо шел вперед.
Симурдэн верил, что при рождении нового социального строя только крайности — надежная опора (заблуждение, свойственное тому, кто подменяет разум логикой). Он не удовольствовался Конвентом, он не удовольствовался Коммуной, он вступил в члены Епископата[81].
Собрания этого общества, происходившие в одной из зал бывшего епископского дворца, откуда и пошло само название, меньше всего напоминали обычные собрания политических клубов, — это было пестрое сборище людей. Так же как и на собраниях Коммуны, здесь присутствовали те безмолвные, но весьма внушительные личности, у которых, по меткому выражению Гара[82], «в каждом кармане было по пистолету». Странную смесь являли сборища в Епископате: смесь парижского с всемирным, что, впрочем, и понятно, ибо в Париже билось тогда сердце всех народов мира. Здесь добела накалялись страсти плебеев. По сравнению с Епископатом Конвент казался холодным, а Коммуна чуть теплой. Епископат принадлежал к числу тех революционных образований, что подобны образованиям вулканическим; в нем было всего понемножку: невежества, глупости, честности, героизма, гнева и — полицейских. Герцог Брауншвейгский[83] держал там своих агентов. Там собирались люди, достойные украсить собою Спарту, и люди, достойные украсить собою каторжные галеры. Но большинство составляли честные безумцы. Жиронда[84], устами Инара[85], тогдашнего председателя Конвента, бросила страшное пророчество: «Берегитесь, парижане. От вашего города не останется камня на камне, и тщетно наши потомки будут искать то место, где стоял некогда Париж». В ответ на эти слова и возник Епископат. Люди, и, как мы только что сказали, люди всех национальностей, ощутили потребность плотнее сплотиться вокруг Парижа. Симурдэн примкнул к их числу.
Группа эта боролась с реакционерами. Ее породила та общественная потребность в насилии, которая является одной из самых грозных и самых загадочных сторон революции. Сильный этой силой, Епископат сразу же занял вполне определенное место. В годину потрясений, колебавших почву Парижа, из пушек стреляла Коммуна, а в набат били люди Епископата.
Симурдэн верил со всем своим неумолимым простодушием, что все совершающееся во имя торжества истины есть благо; в силу этого он очень подходил для роли вожака крайних партий. Мошенники видели, что он честен, и радовались этому. Любому преступлению лестно, когда его направляет рука добродетели. Хоть и стеснительно, да приятно. Архитектор Паллуа, тот самый, что нажился на разрушении Бастилии, продав камни из ее стен, а будучи уполномочен окрасить стены узилища Людовика XVI, переусердствовал, покрыв их изображениями решеток, цепей и наручников; Гоншон[86], подозрительный оратор Сент-Антуанского предместья, денежные расписки которого были впоследствии обнаружены; Фурнье Американец[87], который 17 июля стрелял в Лафайета из пистолета, купленного, по слухам, на деньги самого Лафайета; Анрио[88] — питомец Бисетра, который побывал и лакеем, и уличным гаером, воришкой и шпионом, прежде чем стать генералом и обратить пушки против Конвента; Ларейни[89], бывший викарий Шартрского собора, сменивший требник на «Отца Дюшена»[90], — всех этих людей Симурдэн держал в узде; и в иные минуты, когда слабые душонки уже готовы были предать, их останавливало зрелище грозной и непоколебимой чистоты. Так при виде Сен-Жюста замирал в ужасе Шнейдер[91]. Однако большинство Епископата составляли бедняки — горячие головы и добрые сердца, которые свято верили Симурдэну и шли за ним. В качестве викария, или, если угодно, в качестве адъютанта, при Симурдэне состоял тоже священник — республиканец Данжу[92], которого в народе любили за огромный рост и прозвали Аббат Шестифут. За Симурдэном пошел бы в огонь и в воду бесстрашный вожак, по прозвищу Генерал Пика, и отважный Никола Трюшон, по кличке Верзила; этот Верзила задумал спасти госпожу де Ламбаль[93] и уже перевел было ее через гору трупов, но затея эта не увенчалась успехом из-за жестокой шутки цирюльника Шарло.
Коммуна следила за Конвентом. Епископат следил за Коммуной. Прямодушный Симурдэн, ненавидевший всяческие интриги, не однажды разрушал козни, которые исподтишка плел Паш, прозванный Бернонвилем[94] Черный Человек. В Епископате Симурдэн был со всеми на равной ноге. Он выслушивал советы Добсана и Моморо[95]. Он говорил по-испански с Гусманом[96], по-голландски с Перейра, по-немецки с австрийцем Проли, побочным сыном какого-то принца. Его стараниями разноголосица превращалась в согласие. Сам Эбер[97] побаивался Симурдэна.
Симурдэн обладал властью, которая в те дни и в той трагической по духу среде давалась неумолимым. Он оставался в тени, но влияние его было значительным. Он был праведник и сам считал себя непогрешимым. Никто ни разу не видел, чтобы взор его увлажнили слезы. Вершина добродетели, недоступная и леденящая. Он был справедлив и страшен в своей справедливости.
Для священника в революции нет середины. Превратности революции могут привлечь к себе священника лишь из самых низких либо из самых высоких побуждений; он или гнусен, или велик. Симурдэн был велик, но это величие замкнулось в себе, ютилось на недосягаемых кручах, в негостеприимно мертвенных сферах: величие, окруженное безднами. Иные горные вершины бывают так зловеще чисты.
Внешность у Симурдэна была самая заурядная. Одевался он небрежно, даже бедно. В молодости ему выбрили тонзуру, к старости тонзуру сменила плешь. Редкие волосы поседели. На его высоком челе внимательный взор прозрел бы особую мету. Говорил Симурдэн отрывисто, торжественно и страстно — непререкаемым тоном; в углах его рта лежала горькая, печальная складка, взгляд был светлый и пронзительный, а лицо поражало своим гневным выражением.
Таков был Симурдэн.
Ныне никто его не помнит.
В истории встречаются такие грозные, никому не ведомые имена.
III ТО, ЧЕГО НЕ СМЫЛИ ВОДЫ СТИКСА
Да был ли такой человек человеком? Мог ли этот верный служитель всего человеческого рода иметь какие-нибудь привязанности? Не вытеснила ли душа этого человека его сердце? Способны ли объятия, готовые принять всех и вся, заключить одного? Мог ли Симурдэн любить? Ответим на этот вопрос утвердительно. Да, мог.
В дни молодости он жил в одном весьма аристократическом семействе в качестве воспитателя; воспитанник его был единственным сыном и наследником. Симурдэн любил этого мальчика. Но ведь так легко любить ребенка. Чего только не простишь дитяти? Ему прощается даже то, что он аристократ, что он принц, что он король. Невинность юного отпрыска заставляет забывать все преступления его рода; хрупкое крошечное существо заставляет забывать все сословные привилегии. Оно так мало, что ему прощают самое высокое положение. Раб прощает ему, что он его господин. Старик негр боготворит белого мальчугана. Симурдэн страстно привязался к своему ученику. Детство уж потому так неизъяснимо прекрасно, что на него можно излить все силы любви. Весь запас любви, жившей в его душе, Симурдэн обрушил, если так можно выразиться, на этого ребенка; беззащитное существо стало, пожалуй, даже добычей для этого сердца, обреченного на одиночество. Симурдэн любил мальчика со всей, какая только существует, нежностью, любил его, как отец, как брат, как друг, как творец. Это был его сын; сын не по плоти, а по духу. Симурдэн не был его отцом, не он родил его; но он был подлинным художником, и мальчик стал лучшим его творением. Из маленького аристократа он сделал человека. И кто знает, быть может, даже великого человека. Ибо об этом он мечтал. Не ставя в известность родных (да и требуется ли разрешение тому, кто замыслил выковать ум, волю и прямодушие?), Симурдэн передал юному виконту, своему воспитаннику, все лучшее, что жило в нем самом; он привил ребенку грозный недуг добродетели; он влил в его жилы свою веру, свою совесть, свой идеал; в эту аристократическую голову он вложил дух народа.
Дух — кормилица, ум — материнская грудь. Существует несомненное сходство между кормилицей, вскармливающей младенца своим молоком, и наставником, вскармливающим его своей мыслью. Иной раз воспитатель больше отец, чем родной отец, подобно тому как кормилица нередко больше мать, чем сама мать, родившая ребенка.
Это глубокое духовное отцовство привязало Симурдэна к его ученику. При виде этого ребенка он всякий раз умилялся душой.
Добавим еще: заменить отца было тем легче, что ребенок рос сиротой, его отец скончался, скончалась и мать; мальчик остался на попечении старой слепой бабки и двоюродного деда, который всегда отсутствовал. Бабка умерла, дед — глава семьи — прирожденный военный, знатный вельможа, призываемый службой ко двору, покинул родные пенаты, поселился в Версале, участвовал в походах и оставил сиротку одного в опустевшем замке. Таким образом, учитель стал воспитателем в полном смысле этого слова.
Добавим к тому же: ученик Симурдэна родился у него на глазах. В младенчестве мальчик тяжело заболел. Смерть витала над его изголовьем, и Симурдэн бодрствовал возле ребенка день и ночь; пусть от болезни лечит врач, но выхаживает больного сиделка, — и Симурдэн выходил дитя. Ученик был обязан своему учителю не только воспитанием, образованием, обширными знаниями — он был обязан ему также выздоровлением и здоровьем; он был обязан ему не только способностью мыслить — он был обязан ему жизнью. Мы боготворим тех, кто всем обязан нам; Симурдэн боготворил этого ребенка.
Наступило неизбежное в жизни расставание. Воспитание было закончено, Симурдэну пришлось расстаться со своим учеником, теперь уже взрослым юношей. Сколько холодной и бессознательной жестокости скрыто в подобных разлуках! С каким равнодушием рассчитывают родители человека, отдавшего их ребенку сокровище своей мысли, и кормилицу, передавшую ему свои жизненные соки. Симурдэну заплатили сполна все причитающиеся ему деньги и вежливо выпроводили прочь; так он покинул верхи общества и возвратился в низы; дверца между великими мира сего и сирыми захлопнулась; молодой виконт, записанный уже в детстве в полк в чине капитана, уехал в отдаленный гарнизон; безвестный воспитатель, в тайниках души восставший против своего сана, спустился в полутемную прихожую католической церкви, именуемую низшим духовенством, и потерял из виду воспитанника.
Началась революция; воспоминание о том, кого он сделал человеком, по-прежнему жило в тайниках души Симурдэна, — его не мог развеять даже вихрь великих событий.
Прекрасно изваять статую и вдохнуть в нее жизнь, — но куда прекраснее вылепить сознание и вдохнуть в него истину. Симурдэн был Пигмалионом, создавшим человеческую душу.
Дух тоже может произвести живое существо.
Итак, этот ученик, этот ребенок, этот сирота был единственным на земле существом, которого любил Симурдэн.
Но, любя так нежно, стал ли он уязвим в своей привязанности?
Это будет видно из дальнейшего.
Книга вторая КАБАЧОК НА ПАВЛИНЬЕЙ УЛИЦЕ
I МИНОС, ЭАК И РАДАМАНТ
Был на Павлиньей улице кабачок, который называли кофейней. Имевшееся при кофейне заднее помещение стало ныне исторической достопримечательностью. Здесь время от времени встречались, чуть ли не тайком, люди, наделенные таким могуществом власти, являвшиеся предметом такого тщательного надзора, что беседовать друг с другом публично они не решались. Здесь 23 октября 1792 года Гора и Жиронда обменялись знаменитым поцелуем. Сюда Гара, хотя он и оспаривает этот факт в своих «Мемуарах», явился за сведениями в ту зловещую ночь, когда, отвезя Клавьера в безопасное место на улицу Бон, он остановил карету на Королевском мосту, прислушиваясь к тревожному гулу набата.
Двадцать восьмого июня 1793 года в этой знаменитой комнате вокруг стола сидели три человека. Они занимали три стороны стола, таким образом, четвертая сторона пустовала. Было около восьми часов вечера; на улице еще не стемнело, но в комнате стоял полумрак, так как свисавший с потолка кенкет — роскошь по тем временам — освещал только стол.
Правый из трех сидящих был бледен, молод, важен, губы у него были тонкие, а взгляд холодный. Щеку подергивал нервный тик, и потому улыбка давалась ему с трудом. Он был в пудреном парике, тщательно причесан, приглажен, застегнут на все пуговицы, в свежих перчатках. Светло-голубой кафтан сидел на нем как влитой. Он носил нанковые панталоны, белые чулки, высокий галстук, плиссированное жабо, туфли с серебряными пряжками. Из остальных двух — второй, сидевший за столом, был почти гигант, а третий — почти карлик. На высоком был небрежно надет алый суконный кафтан; развязавшийся галстук, с повисшими ниже жабо концами, открывал голую шею, на расстегнутом камзоле не хватало половины пуговиц, обут он был в высокие сапоги с отворотами, а волосы торчали во все стороны, хотя, видимо, их недавно расчесали и даже напомадили; гребень не брал эту львиную гриву. Лицо его было в рябинах, между бровями залегла гневная складка, но морщинка в углу толстогубого рта с крупными зубами говорила о доброте; он сжимал огромные, как у грузчика, кулаки, и глаза его блестели. Третий, низкорослый, желтолицый человек в сидячем положении казался горбуном; голову с низким лбом он держал закинутой назад, глаза были налиты кровью; лицо его покрывали синеватые пятна, жирные прямые волосы он повязал носовым платком, огромный рот был страшен. Он носил длинные панталоны со штрипками, большие, не по мерке, башмаки, жилет, некогда белого атласа, поверх жилета какую-то кацавейку, под складками которой вырисовывались резкие и прямые очертания кинжала.
Имя первого из сидящих было Робеспьер, второго — Дантон[98], третьего — Марат.
Кроме них в комнате никого не было. Перед Дантоном стояли запыленная бутылка вина и стакан, похожий на знаменитую кружку Лютера[99], перед Маратом — чашка кофе, перед Робеспьером лежали бумаги.
Рядом с бумагами виднелась тяжелая круглая свинцовая чернильница с волнистыми краями, вроде тех, какими еще на нашей памяти пользовались школьники. Возле валялось брошенное перо. Бумаги были придавлены большой медной печаткой, представлявшей собою точную копию Бастилии, сбоку была выгравирована надпись: «Palloy fecit»[100].
Середину стола занимала разостланная карта Франции.
За дверью дежурил известный Лоран Басс — сторожевой пес Марата, рассыльный из дома № 18 по улице Кордельер; именно ему 13 июля, приблизительно через две недели после описанного дня, суждено было оглушить ударом стула девицу, именовавшуюся Шарлоттой Корде[101], которая в этот летний вечер находилась еще в Кане и лишь вынашивала свои замыслы. Тот же Лоран Басс разносил корректурные листы «Друга народа». Нынче вечером, проводив своего хозяина в кофейню на Павлинью улицу, он получил строгий приказ охранять двери комнаты, где находились Марат, Дантон и Робеспьер, и не пропускать никого, за исключением некоторых членов Комитета общественного спасения, Коммуны или Епископата.
Робеспьер не желал закрывать дверей от Сен-Жюста, Дантон не желал закрывать дверей от Паша, Марат не желал закрывать дверей от Гусмана.
Совещание началось уже давно. Предметом обсуждения являлись лежавшие на столе донесения, которые Робеспьер прочитал вслух. Голоса начинали звучать громче. В них слышались теперь гневные ноты. Временами какое-нибудь восклицание доносилось даже на улицу. В ту пору все так привыкли слушать речи, произносимые с публичной трибуны, что каждый считал себя вправе прислушиваться к тому, что говорят. Ведь как раз в те времена секретарь суда Фабриций Пари подглядывал в замочную скважину за тем, что делалось в Комитете общественного спасения. Заметим кстати, что это занятие оказалось небесполезным, ибо тот же Пари предупредил Дантона в ночь с 30 на 31 марта 1794 года. Лоран Басс приник ухом к двери комнаты, где сидели Дантон, Марат и Робеспьер. Басс честно служил Марату, но сам принадлежал к членам Епископата.
II MAGNA TESTANTUR VOCE PER UMBRAS[102]
Дантон вскочил с места, резко отодвинув стул. — Послушайте меня, — закричал он. — Есть только один важный вопрос: Республика в опасности. Я знаю лишь одно — необходимо освободить Францию от врага. Для этого все средства хороши. Все, все и все! Когда опасность грозит со всех сторон, все средства хороши, никакой оглядки, когда я боюсь всего, я иду на все. Моя мысль как львица. В революции никаких полумер. Немезида не жеманница. Будем сеять спасительный страх. Разве слон смотрит, куда ступает? Раздавим врага.
Робеспьер ответил кротким голосом:
— И я хочу того же. — И он добавил: — Вопрос в том — где враг.
— Он за пределами Франции, и я изгнал его, — сказал Дантон.
— Он в пределах Франции, и я слежу за ним, — сказал Робеспьер.
— Я буду гнать его и впредь! — воскликнул Дантон.
— Внутреннего врага не изгонишь.
— Что же с ним делать?
— Уничтожить.
— Согласен, — сказал Дантон. — И он добавил: — Повторяю, Робеспьер, враг за пределами страны.
— Повторяю, Дантон, враг внутри страны.
— Он на границе, Робеспьер.
— Он в Вандее, Дантон.
— Успокойтесь, — раздался вдруг третий голос, — враг повсюду, и вы погибли.
Это заговорил Марат.
Робеспьер взглянул на Марата и спокойно произнес:
— Хватит общих мест. Буду точен. Вот факты.
— Педант, — проворчал Марат.
Робеспьер положил руку на разбросанные по столу бумаги и продолжал:
— Я только что прочитал вам депешу, присланную Приером из Марны. Я только что сообщил вам сведения, доставленные Желамбром. Дантон, послушайте меня, война с чужеземными государствами — пустяковая царапина на локте, гражданская война — язва, разъедающая внутренности. Из всего, что я вам прочел, следует одно: силы Вандеи, до сего дня раздробленные под властью десятка вожаков, сейчас объединяются. Отныне у нее будет главный вождь.
— Главный разбойник, — буркнул Дантон.
— Этот человек, — продолжал Робеспьер, — высадился второго июня возле Понторсона. Из моих слов вы знаете, каков он. Заметьте, что высадка этого человека совпадает с арестом в Байэ наших представителей: Приера из Кот д’Ор и Ромма[103]. Оба арестованы в один и тот же день — второго июня. Предательский округ Кальвадос.
— И перевезли их в Канский замок, — вставил Дантон.
— Итак, что же следует из депеши, — продолжал Робеспьер. — Лесная война готовится с широким размахом. Одновременно готовится и высадка англичан. Вандейцы и англичане — это уже Бретань плюс Британия. Финистерские гуроны говорят на одном языке с корнуэльским сбродом. Я вам показывал перехваченное письмо Пюизэ, где черным по белому написано: «Распределите двадцать тысяч человек в красных мундирах среди инсургентов, и завтра подымется сто тысяч человек». Когда крестьянское восстание охватит всю Вандею, состоится высадка англичан. Таков план. А теперь потрудитесь взглянуть на карту.
Водя пальцем по карте, Робеспьер продолжал:
— У англичан богатый выбор мест для высадки от Канкаля до Пэмполя. По слухам, Крэг склоняется к бухте Сен-Бриек, Корнваллис — к бухте Сен-Каст. Но это не столь существенно. Левый берег Луары удерживает армия вандейских мятежников, а что касается открытой местности от Ансениса до Понторсона, протяжением в двадцать восемь лье, то сорок нормандских приходов обещали в случае надобности свою помощь. Высадка состоится в трех пунктах: в Плерене, Ифиньяке и Пленефе; из Плерене они направятся на Сен-Бриек, а из Пленефа на Ламбаль; на второй же день они достигнут Динана, где содержится девятьсот пленных англичан, в то же время они захватят Сен-Жуан и Сен-Мэен и разместят там свою кавалерию; на третий день две колонны пойдут — одна из Жуана на Бодэ, вторая из Динана на Бешерель; Бешерель, как известно, — естественная цитадель, и там неприятель установит две батареи; на четвертый день он будет уже в Ренне. А Ренн — это ключ ко всей Бретани. В чьих руках Ренн, у того победа. Если будет взят Ренн, падут Шатонеф и Сен-Мало. В Ренне имеется миллион патронов и пятьдесят полевых орудий.
— Которые они и захватят, — пробурчал Дантон.
Робеспьер продолжал:
— Разрешите кончить. Из Ренна одна колонна пойдет на Фужер, вторая — на Витре и третья — на Редон. Мосты повсюду разрушены, но, как видно из этого донесения, неприятель сможет навести понтонные мосты и сбить плоты, кроме того, проводники укажут кавалерийским частям подходящие места для переправы вброд. Из Фужера они направятся на Авранш, из Редона — на Ансенис, из Витре — на Лаваль. Нант сдастся, Брест сдастся. Из Редона открывается дорога по всему течению Вилены, из Фужера на Нормандию, из Витре на Париж. Через две недели в рядах разбойничьей армии будет триста тысяч человек, и вся Бретань окажется в руках французского короля.
— То есть короля английского, — уточнил Дантон.
— Нет, французского.
И Робеспьер добавил:
— Французский король хуже английского. Прогнать иноземцев можно в две недели, а чтобы подорвать монархию, понадобилось восемнадцать столетий.
Дантон тем временем уселся, положил локти на стол и, подперев подбородок кулаком, задумался.
— Вы сами теперь видите, как велика опасность, — проговорил Робеспьер. — Из Витре англичанам открыта дорога на Париж.
Дантон поднял голову и ударил огромными кулаками по карте, словно по наковальне.
— Скажите, Робеспьер, а разве из Вердена пруссакам не открывалась дорога на Париж?
— Ну и что из этого?
— Как ну и что? Прогнали пруссаков, прогоним и англичан.
И Дантон вскочил со стула.
Робеспьер положил холодную ладонь на пылавшую, как в лихорадке, руку Дантона.
— Поймите, Дантон, Шампань не стояла за пруссаков, а Бретань стоит за англичан. Отбить Верден — значит вести обычную войну; взять Витре — значит начать войну гражданскую.
Понизив голос, Робеспьер сказал холодно и многозначительно:
— Разница огромная. — И он тут же добавил: — Сядьте, Дантон, и лучше поглядите на карту, чем молотить по ней кулаками.
Но Дантон был весь поглощен своими мыслями.
— Это уж чересчур! — воскликнул он. — Ждать катастрофы с запада, когда она грозит с востока! Я согласен с вами, Робеспьер. Англия может подняться из-за океана, но ведь из-за Пиренеев подымается Испания, но ведь из-за Альп подымается Италия, но ведь из-за Рейна подымается Германия. А там вдали — могучий русский медведь. Робеспьер, опасность охватывает нас кольцом. Вне страны — коалиция, внутри — измена. На юге Серван[104] пытается открыть врата Франции испанскому королю, на севере Дюмурье[105] переходит на сторону врага. Впрочем, он всегда угрожал не столько Голландии, сколько Парижу. Hepвинд[106] зачеркивает Жемап и Вальми. Философ Рабо Сент-Этьен[107] — изменник, да и чего еще ждать от протестанта. Он переписывается с царедворцем Монтескью[108]. Ряды армии редеют. В любом батальоне сейчас насчитывается не более четырехсот человек; от доблестного Депонского полка осталось всего-навсего полтораста человек; Памарский лагерь сдан; в Живэ имеется лишь пятьсот мешков муки; мы отступаем к Ландау; Вюрмсер[109] теснит Клебера; Майнц пал, но защищался он доблестно, а Конде подло сдался, равно как и Валансьен. Однако же это не помешало Шанселю, защитнику Валансьена, и старику Феро, защитнику Конде, прослыть героями наравне с Менье[110] — защитником Майнца. Но все прочие просто изменники. Дарвиль[111] изменяет в Экс-ла-Шапель, Мутон[112] изменяет в Брюсселе, Валанс[113] изменяет в Бреда, Нэйи[114] изменяет в Лимбурге, Миранда изменяет в Мейстрихте; Стенжель[115] — изменник, Лану[116] — изменник, Лигонье[117] — изменник, Мену[118] — изменник, Диллон[119] — изменник; все они из гнусной породы Дюмурье. Нужна острастка. Мне подозрительны манеры Кюстина, я считаю, что Кюстин предпочитает взять выгоды ради Франкфурт, нежели ради пользы дела — Кобленц. Франкфурт, видите ли, может выложить четыре миллиона контрибуции. Но ведь это же ничто по сравнению с той пользой, которую принесет разгром эмигрантского логова. Утверждаю — это измена. Менье умер тринадцатого июня. Клебер, таким образом, остался один. А пока что герцог Брауншвейгский накапливает силы, переходит в наступление и водружает немецкий флаг во всех взятых им французских городах. Маркграф Бранденбургский вершит ныне дела всей Европы, он прикарманивает наши провинции; вот, посмотрите, он еще приберет к рукам Бельгию, похоже, что мы хлопочем для Берлина; если так будет продолжаться и впредь, если мы немедленно же не наведем порядок, французская революция пойдет на пользу Потсдаму, ибо единственным ее результатом будет то, что Фридрих Второй[120] округлит свои скромные владения, и получится, что мы убили французского короля ради чего… ради выгоды короля прусского.
И Дантон угрожающе захохотал.
Марат улыбнулся, услышав смех Дантона.
— У каждого из вас свой конек, у вас, Дантон, — Пруссия, у вас, Робеспьер, — Вандея. Разрешите же и мне высказаться. Вы оба не видите подлинной опасности, а она здесь, в этих кофейнях и в притонах. Кофейня «Шуазель» — сборище якобинцев, кофейня «Патэн» — сборище роялистов, в Кофейне свиданий нападают на национальную гвардию, а в кофейне «Порт-Сен-Мартен» ее защищают, кофейня «Регентство» против Бриссо[121], кофейня «Корацца» — за него, в кофейне «Прокоп» клянутся Дидро[122], в Кофейне Французского театра клянутся Вольтером, в кофейне «Ротонда» рвут на клочья ассигнаты[123], в кофейне «Сен-Марсо» негодуют по этому поводу, кофейня «Манури» раздувает вопрос о муке, в кофейне «Фуа» идут драки и кутежи, в кофейню «Перрон» слетаются трутни, то бишь господа финансисты. Вот это серьезная опасность.
Дантон больше не смеялся. Зато Марат продолжал улыбаться. Улыбка карлика страшнее смеха великана.
— Вы что же это, насмехаетесь, Марат? — проворчал Дантон.
По ляжке Марата прошла нервическая дрожь — его знаменитая судорога. Улыбка сбежала с его губ.
— Узнаю вас, гражданин Дантон. Ведь если не ошибаюсь, именно вы назвали меня перед всем Конвентом — «некто Марат». Так слушайте же. Я прощаю вас. Мы переживаем сейчас нелепейший момент. Так, по-вашему, я насмехаюсь! Еще бы, кто я такой? Это я разоблачил Шазо[124], я разоблачил Петиона[125], я разоблачил Керсэна[126], я разоблачил Мортона[127], я разоблачил Дюфриш-Валазе[128], я разоблачил Лигонье, я разоблачил Мену, я разоблачил Банвиля[129], я разоблачил Жансоннэ[130], я разоблачил Бирона, я разоблачил Лидона[131] и Шамбона[132]. Прав я был или нет? Я издали чую в изменнике измену, и, на мой взгляд, куда полезнее изобличить преступника, пока он не совершил преступления. Я имею привычку говорить еще накануне то, что вы все скажете только завтра. Не кто иной, как я, предложил Собранию подробно разработанный проект уголовного законодательства. Что я делал до сих пор? Я потребовал, чтобы секции были осведомлены обо всем и тем самым вернее служили революции; я велел снять печати с тридцати двух папок тайных документов; я приказал изъять хранившиеся у Ролана бриллианты; я доказал, что бриссотинцы выдавали Комитету общественной безопасности пустые бланки на аресты; я первый указал на пробелы в докладе Лендэ[133] о преступлениях Капета; я голосовал за казнь тирана и потребовал исполнения приговора в двадцать четыре часа; я защищал батальон «Моконсейль» и батальон Республики; я воспрепятствовал оглашению письма Нарбонна[134] и Малуэ[135]; я внес предложение о помощи раненым солдатам; я добился упразднения Комиссии Шести; я первый почувствовал в поражении под Монсом измену Дюмурье; я потребовал, чтобы взяли сто тысяч родственников эмигрантов в качестве заложников за наших комиссаров, выданных врагу; я предложил объявить изменником каждого представителя, который осмелится выйти за заставу; я увидел руку Ролана в марсельских беспорядках; я настоял, чтобы назначили награду за голову сына принца Эгалитэ; я защищал Бушотта; я потребовал поименного голосования, чтобы сбросить Инара с председательского кресла; благодаря мне было объявлено о выдающихся заслугах парижан перед отечеством, — и вот поэтому-то Луве[136] обозвал меня паяцем, департамент Финистер требует, чтобы меня исключили из состава депутатов, город Луден желает, чтобы меня изгнали из Франции, город Амьен хочет, чтобы мне заткнули рот. Кобург[137] мечтает, чтобы меня арестовали, а Лекуант-Пюираво предлагает Конвенту объявить меня сумасшедшим. А вы, гражданин Дантон, разве вы не за тем позвали меня на ваше тайное свидание, чтобы выслушать мое мнение? Разве я напрашивался? Отнюдь нет! У меня нет ни малейшей охоты беседовать по душам с такими контрреволюционерами, как Робеспьер и вы. Впрочем, ни вы, ни Робеспьер меня не поняли. Где же здесь государственные мужи? Вам еще надо зубрить да зубрить азбуку революции, вам надо все разжевывать и в рот класть. Короче, я вот что хочу сказать: вы оба ошибаетесь. Опасность не в Лондоне, как полагает Робеспьер, и не в Берлине, как полагает Дантон; опасность в самом Париже. И опасность эта в отсутствии единства, в том, что каждый, начиная с вас двоих, оставляет за собой право тянуть в свою сторону, опасность в разброде умов и в анархии воли…
— Анархия? — прервал его Дантон. — А откуда идет анархия, как не от вас?
Марат даже не взглянул на него.
— Робеспьер, Дантон, опасность в другом — в этих расплодившихся без счета кофейнях, игорных домах, клубах. Судите сами — Клуб черных, Клуб федераций, Дамский клуб, Клуб беспристрастных, который обязан своим возникновением Клермон-Тоннеру[138] и который в тысяча семьсот девяностом году был просто-напросто клубом монархистов… Затем «Социальный кружок» — изобретение попа Клода Фоше[139], Клуб шерстяных колпаков, основанный газетчиком Прюдомом[140], et caetera[141], не говоря уже о вашем Якобинском клубе, Робеспьер, и о вашем Клубе кордельеров, Дантон. Опасность в голоде, из-за которого грузчик Блэн вздернул на фонаре около ратуши булочника Франсуа Дени, торговавшего на рынке Палю, и опасность в нашем правосудии, которое повесило грузчика Блэна за то, что он повесил булочника Дени. Опасность в бумажных деньгах, которые обесцениваются с каждым днем. На улице Тампль кто-то обронил ассигнат в сто франков, и прохожий, человек из народа, сказал: «За ней и нагибаться не стоит». Барышники и скупщики ассигнатов — вот где опасность. На ратуше мы водрузили черный флаг — ну и что из этого? Вы арестовали барона де Тренка[142], да разве этого достаточно? Нет, вы сверните шею этому старому тюремному интригану. Вы воображаете, что все сложные вопросы решены, раз председатель Конвента увенчал венком за гражданские доблести Лабертеша, получившего под Жемапом сорок один сабельный удар, а теперь с этим Лабертешем носится Шенье[143]. Все это комедия и фиглярство! Да, вы не видите Парижа! Вы ищете опасность где-то далеко, а она тут, совсем рядом. Ну скажите, Робеспьер, на что годна ваша полиция? А я знаю, у вас имеются свои шпионы: Пайан[144] в Коммуне, Кофиналь[145] — в Революционном трибунале, Давид — в Комитете общественной безопасности, Кутон[146] — в Комитете общественного спасения. Как видите, я достаточно хорошо осведомлен. Так вот, запомните, опасность повсюду — над вашей головой и под вашими ногами, кругом заговоры, заговоры, заговоры! Прохожие читают на улицах вслух газеты и многозначительно покачивают головой. Шесть тысяч человек, не имеющих свидетельства о благонадежности, возвратившиеся эмигранты, мюскадены и шпионы укрылись в погребах, на чердаках и в галереях Пале-Рояля; у булочных очереди; у каждого порога бедные женщины молитвенно складывают руки и спрашивают: «Когда же наконец наступит мир?» И зря вы запираетесь в залах Исполнительного совета в надежде, что вас никто не услышит, — каждое ваше слово известно всем; и вот доказательство — не далее как вчера вы, Робеспьер, сказали Сен-Жюсту: «Барбару[147] отрастил себе брюшко, а при побеге это обременительно». Да, опасность повсюду, и в первую очередь она здесь — в сердце страны, в самом Париже. Бывшие люди затевают заговоры, добрые патриоты ходят босиком, аристократы, арестованные девятого марта, уже разгуливают на свободе; великолепные кони, которых давно пора перегнать к границе и запрячь в пушки, обрызгивают нас на парижских улицах грязью; четырехфунтовый каравай хлеба стоит три франка двадцать су; в театрах играют похабные пьесы… и скоро Робеспьер пошлет Дантона на гильотину.
— Как бы не так! — сказал Дантон.
Робеспьер внимательно разглядывал разостланную на столе карту.
— Спасение только в одном, — вдруг воскликнул Марат, — спасение в диктаторе. Вы знаете, Робеспьер, что я требую диктатора.
Робеспьер поднял голову.
— Знаю, Марат, им должны быть вы или я.
— Я или вы, — сказал Марат.
Дантон буркнул сквозь зубы:
— Диктатура? Только попробуйте!
Марат заметил, как гневно насупил брови Дантон.
— Что ж, — сказал он. — Попытаемся в последний раз. Может быть, удастся прийти к соглашению. Положение таково, что стоит постараться. Ведь удалось же нам достичь согласия тридцать первого мая[148]. А теперь речь идет о главном вопросе, который куда серьезнее, чем жирондизм, являющийся, по сути дела, вопросом частным. В том, что вы говорите, есть доля истины; но вся истина, настоящая, подлинная истина, в моих словах. На юге — федерализм, на западе — роялизм, в Париже — поединок между Конвентом и Коммуной; на границах — отступление Кюстина и измена Дюмурье. Что все это означает? Разлад. А что нам требуется? Единство. Спасение в нем одном, но надо спешить. Пусть Париж руководит революцией. Если мы упустим хотя бы один час, вандейцы завтра же войдут в Орлеан, а пруссаки — в Париж. Я согласен в этом с вами, Дантон, я присоединяюсь к вашему мнению, Робеспьер. Будь по-вашему. Итак, единственный выход — диктатура. Значит — пусть будет диктатура. Мы трое представляем революцию. Мы подобны трем головам Цербера. Одна говорит, — это вы, Робеспьер; другая рычит, — это вы, Дантон…
— А третья кусается, — прервал Дантон, — и это вы, Марат.
— Все три кусаются, — уточнил Робеспьер.
Воцарилось молчание. Потом снова началась беседа, полная грозных подземных толчков.
— Послушайте, Марат, прежде чем вступать в брачный союз, нареченным не мешает поближе познакомиться. Откуда вы узнали, что я вчера говорил Сен-Жюсту?
— Это уж мое дело, Робеспьер.
— Марат!
— Моя обязанность все знать, а как я получаю сведения — это уж никого не касается.
— Марат!
— Я люблю все знать.
— Марат!
— Да, Робеспьер, я знаю то, что вы сказали Сен-Жюсту, равно и то, что Дантон говорил Лакруа[149], я знаю, что творится на набережной Театэн, в особняке Лабрифа — притоне, где встречаются сирены эмиграции; я знаю также, что происходит в доме Тилля, близ Гонесса, в доме, принадлежавшем Вальмеранжу, бывшему начальнику почт, — там раньше бывали Мори[150] и Казалес[151], затем Сийес[152] и Верньо, а ныне раз в неделю туда заглядывает еще кое-кто.
При слове «кое-кто» Марат взглянул на Дантона.
— Будь у меня власти хоть на два гроша, я бы уж показал! — воскликнул Дантон.
Марат продолжал:
— Я знаю, что сказали вы, Робеспьер, так же как я знаю, что происходило в тюрьме Тампль, знаю, как там откармливали, словно на убой, Людовика Шестнадцатого, знаю, что за один сентябрь месяц волк, волчица и волчата сожрали восемьдесят шесть корзин персиков, а народ тем временем голодал. Я знаю также, что Ролан[153] прятался в укромном флигеле на заднем дворе по улице Ла-Гарп; я знаю также, что шестьсот пик, пущенных в дело четырнадцатого июля, были изготовлены Фором, слесарем герцога Орлеанского; я знаю также, что происходит у госпожи Сент-Илер, любовницы Силлери[154]; в дни балов старик Силлери сам натирает паркет в желтом салоне на улице Невде-Матюрен; Бюзо[155] и Керсэн там обедали. Двадцать седьмого августа там обедал Саладэн[156], и с кем же? С вашим другом Ласурсом[157], Робеспьер!
— Вздор! — пробормотал Робеспьер. — Ласурс мне вовсе не друг. — И он задумчиво добавил: — А пока что в Лондоне восемнадцать фабрик выпускают фальшивые ассигнаты.
Марат продолжал все также спокойно, но с легкой дрожью в голосе, наводившей ужас:
— Вы — это крамола власть имущих. Да, я знаю все, знаю вопреки тому, что подразумевает Сен-Жюст под формулой «молчание государства».
Последние слова Марат произнес с расстановкой и, кинув на Робеспьера быстрый взгляд, продолжал:
— Я знаю все, что говорится за вашим столом в те дни, когда Леба[158] приглашает Давида отведать пирогов, которые печет Элизабет Дюпле, ваша будущая свояченица, Робеспьер. Я всевидящее око народа и вижу все из своего подвала. Да, я вижу, да, я слышу, да, я знаю. Вы довольствуетесь малым. Вы восхищаетесь сами собой и друг другом. Робеспьер щеголяет перед своей мадам де Шалабр, дочерью того самого маркиза де Шалабр, который играл в вист с Людовиком Пятнадцатым в день казни Дамьена[159]. О, вы научились задирать голову. Сен-Жюста из-за галстука и не видно. Лежандр[160] всегда одет с иголочки — новый сюртук, белый жилет, жабо. Хочет, чтобы забыли, как он разгуливал в фартуке. Робеспьер воображает, что история запомнит оливковый камзол, в котором его видело Учредительное собрание, и небесно-голубой фрак, которым он пленяет Конвент. У него по всей спальне развешаны его собственные портреты…
— Зато ваши портреты, Марат, валяются во всех сточных канавах, — сказал Робеспьер, и голос его звучал еще спокойнее и ровнее, чем голос Марата.
Их беседа со стороны могла показаться безобидным пререканием, если бы не медлительность речей, подчеркивавшая ярость реплик, намеков и окрашивавшая иронией взаимные угрозы.
— Если не ошибаюсь, Робеспьер, вы, кажется, называли тех, кто хотел свергнуть монархию, «донкихотами рода человеческого».
— А вы, Марат, после четвертого августа[161] в номере пятьсот пятьдесят девятом вашего «Друга народа», — да, да, представьте, я запомнил номер, всегда может пригодиться, — так вот, вы требовали, чтобы дворянам вернули титулы. Помните, вы тогда заявляли: «Герцог всегда останется герцогом».
— А вы, Робеспьер, на заседании седьмого декабря защищали госпожу Ролан против Виара.
— Точно так же, как вас, Марат, защищал мой родной брат, когда на вас обрушились в Клубе якобинцев. Что это доказывает? Ровно ничего.
— Робеспьер, известно даже, в каком из кабинетов Тюильри вы сказали Гара: «Я устал от революции».
— А вы, Марат, здесь, в этой самой кофейне, двадцать девятого октября облобызали Барбару.
— А вы, Робеспьер, сказали Бюзо: «Республика? Что это такое?»
— А вы, Марат, в этом самом кабачке угощали завтраком марсельцев, по три человека от каждой роты.
— А вы, Робеспьер, взяли себе в телохранители рыночного силача, вооруженного дубиной.
— А вы, Марат, накануне десятого августа[162] умоляли Бюзо помочь вам бежать в Марсель и даже собирались для этого случая нарядиться жокеем.
— Во время сентябрьских событий[163] вы просто спрятались, Робеспьер.
— А вы, Марат, слишком уж старались быть на виду.
— Робеспьер, вы швырнули на пол красный колпак.
— Швырнул, когда его надел изменник. То, что украшает Дюмурье, марает Робеспьера.
— Робеспьер, вы запретили накрыть покрывалом голову Людовика Шестнадцатого, когда мимо проходили солдаты Шатовье.
— Зато я сделал нечто более важное, — я ее отрубил.
Дантон счел нужным вмешаться в разговор, но только подлил масла в огонь.
— Робеспьер, Марат, — сказал он, — да успокойтесь вы!
Марат не терпел, когда его имя произносилось вторым. Он повернулся к Дантону.
— При чем тут Дантон? — спросил он.
Дантон вскочил со стула.
— При чем тут я? Вот при чем. При том, что не должно быть братоубийства, не должно быть борьбы между двумя людьми, которые оба служат народу. Довольно с нас войны с иностранными державами, довольно с нас гражданской войны, недостает нам еще домашних войн. Я делал революцию и не позволю с нею разделаться. Вот почему я вмешиваюсь.
Марат ответил ему, даже не повысив голоса:
— Представьте лучше отчеты о своих действиях.
— Отчеты? — завопил Дантон. — Идите спрашивать отчета у Аргоннских ущелий, у освобожденной Шампани, у покоренной Бельгии, у армий, где я четырежды подставлял грудь под пули; идите спрашивайте отчета у площади Революции, у эшафота, воздвигнутого двадцать первого января[164], у повергнутого трона, у гильотины, у этой вдовы…
Марат прервал Дантона:
— Гильотина не вдова, а девица; на нее ложатся, но ее не оплодотворяют.
— Вам-то откуда знать, — отрезал Дантон. — Я вот ее оплодотворю.
— Что ж, посмотрим, — ответил Марат.
И он улыбнулся.
Дантон заметил эту улыбку.
— Марат! — вскричал он. — Вы человек подвалов, а я живу под открытым небом и при свете дня. Ненавижу жизнь пресмыкающихся. Быть мокрицей — покорно благодарю! Вы живете в подвале, я живу на улице. Вы не общаетесь ни с кем, а меня видит любой, и любой может обратиться ко мне.
— Еще бы!.. «Мальчик, пойдем?..» — буркнул Марат.
И, стерев с лица следы улыбки, он заговорил властным тоном:
— Дантон, потрудитесь дать отчет о истраченной вами сумме в тридцать три тысячи экю звонкой монетой, каковую вам вручил Монморен[165] от имени короля якобы за то, что вы исполняли в Шатле должность прокурора.
— За меня отчитывается четырнадцатое июля, — высокомерно ответил Дантон.
— А дворцовые кладовые? А бриллианты короны?
— За меня отчитывается шестое октября[166].
— А хищение в Бельгии вашего «alter ego» Лакруа?
— За меня отчитывается двадцатое июня[167].
— А ссуды, выданные вами госпоже Монтанзье?
— Я подымал народ в день возвращения короля из Варенна.
— А не на ваши ли средства построен зал в Опере?
— Я вооружил парижские секции.
— А сто тысяч ливров из секретных фондов министерства юстиции?
— Я осуществил десятое августа.
— А два миллиона, негласно израсходованные Собранием, из которых вы присвоили себе четверть?
— Я остановил наступление врага и преградил путь коалиции королей.
— Продажная тварь! — бросил Марат.
Дантон вскочил со стула, он был страшен.
— Да, — закричал он, — я публичная девка, я продавался, но я спас мир.
Робеспьер молча грыз ногти. Он не умел хохотать, не умел улыбаться. Он не знал ни смеха, которым, как громом, разил Дантон, ни улыбки, которой жалил Марат.
Дантон продолжал:
— Я подобен океану, и у меня тоже есть свои приливы и отливы; мое дно видно, когда море отступает, а в час прибоя видны мои волны.
— Вернее, ваша пена, — сказал Марат.
— Мой шторм, — сказал Дантон.
Марат тоже поднялся со стула. В голосе его звучал гнев. Уж внезапно превратился в дракона.
— Эй! — закричал он. — Эй, Робеспьер! Эй, Дантон! Вы не хотите меня слушать! Так смею вас заверить — оба вы пропали. Ваша политика зашла в тупик, перед ней нет пути, у вас обоих нет выхода, и своими собственными действиями вы захлопываете перед собой все двери, кроме дверей склепа.
— В этом-то наше величие, — ответил Дантон.
И он презрительно пожал плечами.
Марат продолжал:
— Берегись, Дантон. У Верньо тоже был огромный губастый рот, и в гневе он тоже хмурил чело. Верньо тоже был рябой, как ты и Мирабо, однако тридцать первое мая свершилось. Не пожимай плечами, Дантон, как бы голова не отвалилась. Твой громовой голос, твой небрежно повязанный галстук, твои мягкие сапожки, твои слишком тонкие ужины и слишком толстые карманы — все это прямой дорогой ведет к Луизетте.
Луизеттой Марат в приливе нежности называл гильотину.
— А ты, Робеспьер, — продолжал он, — ты хоть и умеренный, но это тебя не спасет. Что ж, пудрись, взбивай букли, счищай пылинки, щеголяй, меняй каждый день сорочки, прихорашивайся, франти — все равно тебе не миновать Гревской площади; прочти-ка декларацию: в глазах герцога Брауншвейгского ты второй Дамьен и цареубийца, — одевайся с иголочки, все равно от топора не уйти.
— Подголосок Кобленца, — процедил сквозь зубы Робеспьер.
— Нет, Робеспьер, я не чей-то подголосок, я голос всех. Вы оба еще молоды. Сколько тебе лет, Дантон? Тридцать четыре? Сколько тебе лет, Робеспьер? Тридцать три? Ну а я жил вечно, я — извечное страдание человеческое, мне шесть тысяч лет.
— Верно сказано, — подхватил Дантон, — шесть тысяч лет Каин, нетленный в своей злобе, просидел жив и невредим, как жаба под камнем, и вдруг скала раскололась, Каин выскочил на свет божий, и Каин этот — Марат.
— Дантон! — крикнул Марат. И в его глазах зажглось тусклое пламя.
— Что прикажете? — ответил Дантон.
Так беседовали три грозных человека. Схватка бурь.
III СОДРОГАЮТСЯ ТАЙНЫЕ СТРУНЫ
Разговор умолк; каждый из трех титанов погрузился в свои думы.
Львы настораживаются, завидев гидру. Робеспьер побледнел, а Дантон побагровел. По их телу прошла дрожь. Злобный блеск погас в зрачках Марата; спокойствие, властное спокойствие запечатлелось на лице этого человека, грозного даже для грозных.
Дантон почувствовал, что потерпел поражение, но не желал сдаваться. Он первым нарушил молчание:
— Марат громогласно вещает о диктатуре и единстве, но силен лишь в одном искусстве — всех разъединять.
Нехотя разжав тонкие губы, Робеспьер добавил:
— Я лично придерживаюсь мнения Анахарсиса Клоотса[168] и повторю вслед за ним: ни Ролан, ни Марат.
— А я, — ответил Марат, — говорю: ни Дантон, ни Робеспьер. — И, пристально поглядев на обоих своих собеседников, он произнес: — Разрешите дать вам один совет, Дантон. Вы влюблены, вы намереваетесь снова сочетаться законным браком, так оставьте политику, будьте благоразумны. — Сделав два шага к двери, он поклонился и зловеще сказал: — Прощайте, господа.
Дантон и Робеспьер вздрогнули.
Вдруг чей-то голос прозвучал из глубины комнаты:
— Ты не прав, Марат.
Все трое оглянулись. Во время гневной вспышки Марата кто-то незаметно проник в комнату через заднюю дверь.
— А, это ты, гражданин Симурдэн, — сказал Марат. — Ну, здравствуй.
Действительно, вошедший оказался Симурдэном.
— Я говорю, что ты не прав, Марат, — повторил он.
Марат позеленел; в тех случаях, когда другие бледнеют, он зеленел.
Симурдэн продолжал:
— Ты принес много пользы, но и без Робеспьера и Дантона тоже не обойтись. Зачем же им грозить? Единение, единение, граждане, народ требует единения.
Приход Симурдэна произвел на присутствующих действие холодного душа, и, подобно тому как появление постороннего лица кладет конец семейной ссоре, распря утихла, если не в подспудных своих глубинах, то, во всяком случае, на поверхности.
Симурдэн подошел к столу.
Дантон и Робеспьер тоже знали его в лицо. Они не раз замечали в Конвенте на скамьях для публики рослого незнакомца, которого приветствовал народ. Однако законник Робеспьер не удержался и спросил:
— Каким образом, гражданин, вы сюда попали?
— Он из Епископата, — ответил Марат, и голос его прозвучал даже как-то робко.
Марат бросал вызов Конвенту, вел за собой Коммуну и боялся Епископата.
Это своего рода закон.
На определенной глубине Мирабо начинает чувствовать, как зашевелился Робеспьер, Робеспьер так же чувствует Марата, Марат чувствует Эбера, Эбер — Бабефа[169]. Пока подземные пласты находятся в состоянии покоя, политический деятель может шагать смело; но самый отважный революционер знает, что под ним существует подпочва, и даже наиболее храбрые останавливаются в тревоге, когда чувствуют под своими ногами движение, которое они сами родили себе на погибель.
Уметь отличать подспудное движение, порожденное личными притязаниями, от движения, порожденного силою принципов, сломить одно и помочь другому — в этом гений и добродетель великих революционеров.
От Дантона не укрылось смущение Марата.
— Гражданин Симурдэн здесь отнюдь не лишний, — сказал он и протянул Симурдэну руку. Потом добавил: — Давайте же, черт побери, объясним суть дела гражданину Симурдэну. Он пришел как нельзя более кстати. Я представляю Гору, Робеспьер представляет Комитет, а Симурдэн представляет Епископат. Пусть он нас и рассудит.
— Что ж, — просто и серьезно ответил Симурдэн. — О чем шла речь?
— О Вандее, — ответил Робеспьер.
— О Вандее? — повторил Симурдэн. И он тут же добавил: — Это серьезная угроза. Если революция погибнет, то погибнет она по вине Вандеи. Вандея страшнее, чем десять Германий. Для того чтобы осталась жива Франция, нужно убить Вандею.
Этими немногими словами Симурдэн завоевал сердце Робеспьера.
Тем не менее Робеспьер осведомился:
— Вы, должно быть, бывший священник?
Робеспьер безошибочно определял по внешнему виду людей, носивших духовный сан. Он замечал в других то, что было скрыто в нем самом.
— Да, гражданин, — ответил Симурдэн.
— Ну и что тут такого? — вскричал Дантон. — Если священник хорош, так уж хорош по-настоящему, не в пример прочим. В годину революции священники переплавляются в граждан, подобно тому как колокола переплавляют в монету и в пушки. Данжу — священник, Дону[170] — священник, Тома Лендэ[171] — эврский епископ. Да вы сами, Робеспьер, сидите в Конвенте рядом с Масье[172], епископом из Бове. Главный викарий Вожуа[173] десятого августа состоял в комитете, руководившем восстанием. Шабо[174] — монах-капуцин. Не кто иной, как преподобный отец Жерль[175], приводил людей к присяге в Зале для игры в мяч[176]; не кто иной, как аббат Одран[177], потребовал, чтобы власть Национального собрания поставили выше власти короля; не кто иной, как аббат Гутт[178], настоял в Законодательном собрании, чтобы с кресел Людовика Шестнадцатого сняли балдахин; не кто иной, как аббат Грегуар[179], поднял вопрос об упразднении королевской власти.
— При поддержке этого шута горохового Колло д’Эрбуа[180], — ядовито заметил Марат. — Оба трудились сообща: священник опрокинул трон, а лицедей столкнул короля.
— Вернемся к Вандее, — предложил Робеспьер.
— В чем же дело? — спросил Симурдэн. — Что там такое случилось? Что она натворила, эта Вандея?
На этот вопрос ответил Робеспьер:
— Дело вот в чем: отныне в Вандее есть вождь. Она становится грозной силой.
— Что же это за вождь, гражданин Робеспьер?
— Это бывший маркиз де Лантенак, который именует себя принцем бретонским.
Симурдэн сделал невольное движение.
— Я знаю Лантенака, — сказал он. — Я был священником в его приходе.
Он подумал с минуту и добавил:
— Прежде чем стать служителем Марса, он был поклонником Венеры.
— Как и Бирон, который не уступал Лозену, — бросил Дантон.
Симурдэн раздумчиво произнес:
— Да, этот Лантенак пожил в свое удовольствие. Сейчас он, должно быть, просто страшен.
— Скажите: ужасен, — подхватил Робеспьер. — Он жжет деревни, приканчивает раненых, убивает пленных, расстреливает женщин.
— Женщин?
— Да, представьте. Вместе со всеми прочими он приказал расстрелять одну женщину — мать троих детей. Что сталось с детьми — неизвестно. Кроме того, он военный. И умеет воевать.
— Умеет, — согласился Симурдэн. — В ганноверскую кампанию солдаты даже сложили поговорку: «Ришелье[181] предполагает, а Лантенак располагает», Лантенак и был тогда настоящим командиром. Спросите-ка о нем у нашего коллеги Дюссо[182].
Робеспьер, погруженный в свои думы, не ответил, потом снова обратился к Симурдэну:
— Так вот, гражданин Симурдэн, этот человек находится сейчас в Вандее.
— И давно?
— Уже три недели.
— Надо объявить его вне закона.
— Объявлен.
— Надо оценить его голову.
— Оценена.
— Надо пообещать за его поимку много денег.
— Обещано.
— И не в ассигнатах.
— Сделано.
— В золоте.
— Сделано.
— Надо его гильотинировать.
— Гильотинируем!
— А кто же?
— Вы!
— Я?
— Да, вы. Комитет общественного спасения направляет вас туда с самыми широкими полномочиями.
— Согласен, — ответил Симурдэн.
Робеспьер был скор в выборе людей, — еще одно ценное качество государственного деятеля. Он вытащил из папки, лежавшей на столе, листок чистой бумаги с отпечатанным вверху штампом: «Французская республика, единая и неделимая. Комитет общественного спасения».
Симурдэн продолжал:
— Да, я согласен. Устрашение против устрашения. Лантенак жесток, — что ж, и я буду жестоким. Объявим этому человеку войну не на жизнь, а на смерть. Я освобожу от него Республику, если на то будет воля божия.
Он помолчал, затем заговорил снова:
— Я — священник, и я верю в бога.
— Бог нынче устарел, — заявил Дантон.
— Я верю в бога, — невозмутимо повторил Симурдэн.
Робеспьер мрачно и одобрительно кивнул головой.
— А к кому меня решено прикомандировать?
— К командиру экспедиционного отряда, направленного против Лантенака, — ответил Робеспьер. — Только предупреждаю вас, он аристократ.
— Ну и что такого? — воскликнул Дантон. — Аристократ! Подумаешь, беда какая. То, что мы сейчас говорили о священниках, применимо и к аристократам. Когда аристократ хорош, он просто превосходен. Дворянство — предрассудок, и с этим предрассудком надо считаться, но не надо его преувеличивать: ни за, ни против. Робеспьер, да разве Сен-Жюст не аристократ? Слава богу, Флорель де Сен-Жюст! Анахарсис Клоотс — барон. Наш друг Карл Гесс[183], который не пропускает ни одного заседания в Клубе кордельеров, — принц и брат ныне правящего ландграфа Гессен-Ротенбургского. Монто[184], ближайший друг Марата, на самом деле маркиз де Монто. Наконец, в числе присяжных Революционного трибунала имеется священник Вилат[185] и аристократ Леруа, маркиз де Монфлабер. И оба люди вполне надежные.
— Вы забыли, — добавил Робеспьер, — еще председателя Революционного трибунала.
— Антоннеля[186]?
— Да, маркиза Антоннеля, — уточнил Робеспьер.
Дантон снова заговорил:
— Аристократ также и Дампьер[187], который недавно при Конде пал за Республику смертью храбрых, и аристократ также Борепэр[188], который предпочел пустить себе пулю в лоб, но не открыл пруссакам ворота Вердена.
— Однако ж, — проворчал Марат, — когда Кондорсе[189] сказал: «Гракхи[190] были аристократами», — это не помешало тому же Дантону крикнуть с места: «Все аристократы изменники, начиная с Мирабо и кончая тобой».
Раздался спокойный и важный голос Симурдэна:
— Гражданин Дантон, гражданин Робеспьер, может быть, вы оба и правы, доверяя аристократам, но народ им не доверяет, и хорошо делает, что не доверяет. Когда священнику поручают следить за аристократом, то на плечи священника ложится двойная ответственность, и священник должен быть непреклонен.
— Совершенно справедливо, — сказал Робеспьер.
Симурдэн добавил:
— И неумолим.
— Прекрасно сказано, гражданин Симурдэн, — подхватил Робеспьер. — Вам придется иметь дело с молодым человеком. Будучи старше его вдвое, вы можете оказать на него благотворное влияние. Его надо направлять, но надо его и щадить. По-видимому, он талантливый военачальник, во всяком случае, все донесения свидетельствуют об этом. Его отряд входит в корпус, который выделили из Рейнской армии и перебросили в Вандею. Он прибыл с границы, где отличился и умом и отвагой. Он умело командует экспедиционным отрядом. Вот уже две недели он не дает передышки старому маркизу де Лантенаку. Теснит и гонит его. В конце концов он окончательно оттеснит маркиза и сбросит его в море. Лантенак обладает хитростью старого вояки, а он — отвагой молодого полководца. У этого молодого человека уже есть враги и завистники. В частности, ему завидует и с ним соперничает генерал Лешель[191].
— Уж этот мне Лешель! — прервал Дантон. — Вбил себе в голову, что должен быть генерал-аншефом. Недаром про него сложили каламбур: «Il faut Lechelle pour monter sur Charette»[192]. А пока что Шаретт его бьет.
— И Лешель желает, — продолжал Робеспьер, — чтобы честь победы над Лантенаком выпала только ему, и никому другому. Все беды вандейской войны — в этом соперничестве. Если угодно знать, наши солдаты — герои, но сражаются они под началом скверных командиров. Простой гусарский капитан Шамбон подходит к Сомюру под звуки фанфар и пение «Ça ira» и берет Сомюр; он мог бы развить операцию и взять Шоле, но, не получая никаких приказов, не двигается с места. В Вандее необходимо сменить всех военачальников. Там зря дробят войска, зря распыляют силы, а ведь рассредоточенная армия — это армия парализованная; была крепкая глыба, а ее превратили в пыль. В Парамейском лагере остались пустые палатки. Между Трегье и Динаном без всякой пользы для дела разбросаны сто мелких постов, а их следовало бы объединить в дивизион и прикрыть все побережье. Лешель, с благословения Парена, обнажил северное побережье под тем предлогом, что необходимо-де защищать южное, и, таким образом, открыл англичанам путь в глубь страны. План Лантенака сводится к следующему: полмиллиона восставших крестьян плюс высадка англичан на французскую землю. А наш молодой командир экспедиционного отряда гонится но пятам за Лантенаком, настигает и бьет его, не дожидаясь разрешения Лешеля, а Лешель — его начальник. Вот Лешель и доносит на своего подчиненного. Относительно этого молодого человека мнения разделились. Лешель хочет его расстрелять, Приер из Марны хочет произвести его в генерал-адъютанты.
— Поскольку могу судить, — сказал Симурдэн, — этот молодой человек обладает незаурядными достоинствами.
— Однако у него есть недостаток!
Это замечание сделал Марат.
— Какой же? — осведомился Симурдэн.
— Мягкосердечие, — произнес Марат. И он продолжал: — В бою мы тверды, а вне его — слабы. Милуем, прощаем, щадим, берем под покровительство благочестивых монахинь, спасаем жен и дочерей аристократов, освобождаем пленных, выпускаем на свободу священников.
— Серьезная ошибка, — пробормотал Симурдэн.
— Нет, преступление, — сказал Марат.
— Иной раз — да, — сказал Дантон.
— Часто, — сказал Робеспьер.
— Почти всегда, — заметил Марат.
— Если имеешь дело с врагами родины — всегда, — сказал Симурдэн.
Марат повернулся к Симурдэну:
— А что ты сделаешь с республиканским вождем, который выпустит на свободу вожака монархистов?
— В данном случае я придерживаюсь мнения Лешеля, я бы его расстрелял.
— Или гильотинировал, — сказал Марат.
— То или другое, на выбор, — подтвердил Симурдэн.
Дантон расхохотался.
— По мне, и то и другое хорошо, — сказал он.
— Не беспокойся, тебе уготовано не одно, так другое, — буркнул Марат.
И, отведя взгляд от Дантона, он обратился к Симурдэну:
— Значит, гражданин Симурдэн, если республиканский вождь совершит ошибку, ты велишь отрубить ему голову?
— В двадцать четыре часа.
— Что ж, — продолжал Марат, — я согласен с Робеспьером, пошлем гражданина Симурдэна в качестве комиссара Комитета общественного спасения при командующем экспедиционным отрядом береговой армии. А как он зовется, этот командир?
Робеспьер ответил:
— Он из бывших, аристократ.
И Робеспьер стал рыться в бумагах.
— Пошлем священника следить за аристократом! — воскликнул Дантон. — Я лично не очень-то доверяю священнику, действующему в одиночку, так же как и аристократу в подобных обстоятельствах, но когда они действуют совместно, — я спокоен; один следит за другим, и все идет прекрасно.
Гневная складка, залегшая между бровями Симурдэна, стала еще резче, но, очевидно, он счел замечание справедливым, ибо даже не оглянулся в сторону Дантона, и лишь суровый его голос прозвучал громче обычного:
— Если республиканский командир, который доверен моему наблюдению, сделает ложный шаг, его ждет смертная казнь.
Робеспьер, не поднимая глаз от бумаг, произнес:
— Нашел. Гражданин Симурдэн, командир, в отношении которого вы облечены всей полнотой власти, — бывший виконт. Зовут его Говэн.
Симурдэн побледнел.
— Говэн! — воскликнул он.
От взора Марата не укрылась бледность Симурдэна.
— Виконт Говэн, — повторил Симурдэн.
— Да, — повторил Робеспьер.
— Итак? — спросил Марат, не спуская с Симурдэна глаз.
Наступило молчание. Марат заговорил первым:
— Гражданин Симурдэн, вы согласились на условиях, которые только что указали сами, принять должность комиссара при командире Говэне. Решено?
— Решено, — ответил Симурдэн.
Он побледнел еще больше.
Робеспьер взял перо, лежавшее рядом с бумагами, не спеша вывел четким почерком четыре строчки на бланке, в углу которого значилось: «Комитет общественного спасения», поставил свою подпись и протянул листок Дантону; Дантон подписал бумагу, и Марат, не спускавший глаз с мертвенно-бледного лица Симурдэна, подписался ниже подписи Дантона.
Робеспьер снова взял листок, поставил число и протянул бумагу Симурдэну, который прочел следующее:
«II год Республики.
Сим даются неограниченные полномочия гражданину Симурдэну, чрезвычайному комиссару Комитета общественного спасения, прикомандированному к гражданину Говэну, командиру экспедиционного отряда береговой армии.
Робеспьер. Дантон. Марат».И ниже подписей дата:
«28 июня 1793 года».Революционный календарь, именуемый также гражданским календарем, не получил еще в ту пору официального распространения и был принят Конвентом по предложению Ромма лишь 5 октября 1793 года.
Пока Симурдэн перечитывал бумагу, Марат пристально глядел на него.
Потом он заговорил вполголоса, как бы обращаясь к самому себе:
— Необходимо принять соответствующий декрет в Конвенте или специальное решение в Комитете общественного спасения. Кое-что придется добавить и уточнить.
— Гражданин Симурдэн, — спросил Робеспьер, — а где вы живете?
— На Торговом дворе.
— Значит, соседи, — сказал Дантон, — я тоже там живу.
— Нельзя терять ни минуты, — продолжал Робеспьер. — Завтра вы получите приказ о вашем назначении за подписью всех членов Комитета общественного спасения. Это и будет официальным подтверждением ваших полномочий для наших представителей: Филиппо[193], Приера из Марны, Лекуантра, Алкье[194] и других. Мы вас знаем. Вам даются неограниченные полномочия. В вашей власти сделать Говэна генералом или послать его на плаху. Приказ будет у вас завтра в три часа. Когда вы намереваетесь выехать?
— В четыре часа, — ответил Симурдэн.
И собеседники разошлись по домам.
Вернувшись к себе, Марат предупредил Симонну Эврар[195], что завтра он идет в Конвент.
Книга третья КОНВЕНТ
I КОНВЕНТ
Мы приближаемся к высочайшей из вершин.
Перед нами Конвент.
Такая вершина невольно приковывает взор.
Впервые поднялась подобная громада на горизонте, доступном обозрению человека.
Есть Гималаи, и есть Конвент.
Быть может, Конвент — кульминационный пункт истории.
При жизни Конвента, — ибо собрание людей это нечто живое, — не отдавали себе отчета в его подлинном значении. От современников ускользнуло самое главное — величие Конвента; величие это не ослепляло, а внушало страх. Все великое внушает священный ужас. Восхищаться посредственностью и невысокими пригорками — по плечу любому; но то, что слишком высоко — человеческий гений или утес, собрание людей или совершеннейшее произведение искусства, — на близком расстоянии внушает страх. Любая вершина кажется преувеличением. Восхождение утомительно. Задыхаешься на крутых подъемах, скользишь на спусках, сбиваешь ноги о выступы утесов, а ведь в них и есть красота; водопад, ревущий в дымке пены, предвещает разверзшуюся пропасть; облака окутывают пики вершин; подъем пугает не меньше, чем падение. Поэтому-то страх пересиливает восторги. И невольно проникаешься странным чувством — отвращением к великому. Видишь бездны, но не видишь возвышенного, видишь чудовищное, не видишь чудесного. Именно так судили поначалу о Конвенте. Конвент мерили своей меркой близорукие, а его впору было созерцать орлам.
Ныне он виден нам в перспективе времени, и на фоне бескрайних небес, в безоблачно-чистой и трагической дали вырисовывается гигантский абрис французской революции.
II
14 июля — освобождение.
10 августа — гроза.
21 сентября[196] — заложение основ.
21 сентября — равноденствие, равновесие. Libra — Весы. По меткому замечанию Ромма, французская революция была провозглашена под знаком Равенства и Справедливости. Ее пришествие было возвещено созвездием.
Конвент — первое из воплощений народа. С Конвентом была открыта новая великая страница, с него начался будущий день — наш сегодняшний день.
Каждая идея нуждается в осязаемом выражении, каждому принципу нужна зримая оболочка; церковь не что иное, как идея бога, заключенная в четырех стенах: каждый догмат требует храма. Когда на свет появился Конвент, необходимо было решить прежде всего вопрос, где ему обитать.
Сначала заняли здание Манежа, потом дворец Тюильри. Там, в Тюильри, установили раму, декорацию, огромную гризайль работы Давида, расположили симметрично скамьи, воздвигли квадратную трибуну, наставили в два ряда пилястры с цоколями, похожими на чурбаны, нагородили прямоугольных тесных клетушек и назвали их трибунами для публики, натянули матерчатый навес, как у римлян, повесили греческие драпировки, и среди этих прямых углов, среди этих прямых линий поместили Конвент; в геометрическую фигуру втиснули ураган. Фригийский красный колпак на трибуне выкрасили в серый цвет. Роялисты поначалу насмехались над этим серым, то бишь красным колпаком, над этими театральными декорациями, над монументами из папье-маше, над этим картонным святилищем, над этим пантеоном в грязи и плевках. Нет, всему этому долго не продержаться! Колонны понаделали из бочарной клепки, своды из дранок, барельефы из цемента, карнизы из еловых досок, статуи из гипса, стены из холста, а мрамор просто нарисовали, но в этой недолговечной оболочке Франция творила вечное.
Стены зала Манежа, когда там заседал Конвент, были увешаны афишами, которые красовались по всему Парижу в дни возвращения короля из Варенна[197]. Одна из них гласила: «Король возвращается! Бейте дубинками того, кто ему рукоплещет, вешайте тех, кто его оскорбляет». Другая: «Смирно. Шапок не снимать. Сейчас он предстанет перед судьями». Еще одна: «Король долгое время держал на мушке всю французскую нацию. Слишком долго он целился в нас. Теперь пришел черед нации взяться за оружие». И еще следующая: «Закон! Закон!» В этих стенах Конвент судил Людовика XVI.
С 10 мая 1793 года Конвент стал заседать в Тюильри, который называли тогда Национальным дворцом; зал заседаний занимал все пространство между бывшим Павильоном часов, переименованным в Павильон Единства, и павильоном «Марсан», переименованным в Павильон Свободы. Павильон Флоры назвали Павильоном Равенства. Сюда, в зал заседаний, подымались по главной лестнице работы Жана Бюллана. Весь второй этаж был занят Конвентом, а в первом этаже во всю длину дворца в огромных залах устроили караульное помещение, — здесь стояли ружья в козлах, походные койки и толпились солдаты всех родов оружия, оберегавшие Конвент. Собрание охранялось специальным почетным караулом, носившим название «гренадеров Конвента».
Лишь трехцветная лента отделяла дворец от сада, где свободно расхаживал народ.
III
Что еще сказать о зале заседаний Конвента? Все в этом грозном месте заслуживает нашего внимания.
Первое, что бросалось в глаза каждому входящему, — это большая статуя Свободы, помещавшаяся в простенке между двух высоких окон.
Сорок два метра в длину, десять метров в ширину и одиннадцать метров в высоту — таковы были размеры бывшего королевского театра, который стал театром революции. Изящная и пышная зала, построенная Вигарани для придворных развлечений, совсем исчезла под уродливым помостом, который в девяносто третьем году выносил на себе огромную тяжесть — тяжесть народных толп. Любопытно отметить, что этот помост, где устроили трибуны для публики, имел в качестве опоры всего один-единственный столб. Столб этот вытесали из дерева, имевшего в обхвате десять метров. Не всякая кариатида могла потягаться с таким столбом; в течение нескольких лет он с честью выдерживал неистовый натиск революции. Он вынес все — крики восторга, ликование, проклятия, шум, ропот, невообразимую бурю гнева и возмущения. И не погнулся. Вслед за Конвентом он видел Совет старейшин[198]. 18 брюмера[199] его убрали.
Персье[200] тогда заменил деревянный столб мраморными колоннами, которые оказались менее долговечными.
Подчас идеал, к которому стремится зодчий, весьма своеобразен; зодчий, прокладывавший улицу Риволи, бесспорно, взял себе за образец траекторию полета пушечного ядра; строитель Карлсруэ в качестве образца избрал развернутый веер; гигантский ящик комода — вот каков, по-видимому, был идеал зодчего, построившего зал, где начал заседать Конвент 10 мая 1793 года, — это было нечто продолговатое, высокое и скучное. Одна из длинных сторон этого ящика примыкала к обширному полукругу; здесь для представителей народа стояли амфитеатром скамьи, — ни столов, ни пюпитров не полагалось: Гаран-Кулон[201], любитель записывать речи ораторов, клал бумагу на собственное колено; напротив скамей — трибуна, перед трибуной бюст Лепеллетье де Сен-Фаржо[202]; за трибуной кресло председателя.
Мраморная голова Лепеллетье слегка выдавалась над краем трибуны; по этой причине бюст позже убрали.
Амфитеатр состоял из девятнадцати рядов скамей, идущих полукругом один над другим; по обоим краям амфитеатра стояли еще скамьи, покороче.
Внизу амфитеатра, образующего как бы подкову, у подножия трибуны, стояли приставы.
По одну сторону трибуны висела в черной деревянной раме доска вышиной в девять футов, разделенная посредине скипетром, и на ней в две колонки была начертана Декларация прав человека[203]; по другую сторону на стене было пустое пространство, которое позже заняли такой же рамой с текстом Конституции II года, две колонки ее были разделены мечом. Над трибуной, а следовательно, и над головой оратора, реяли почти горизонтально три огромных трехцветных знамени, которые выходили из глубокой и разгороженной на два отделения ложи, где вечно теснился народ; древки знамен опирались на алтарь с надписью: «Закон». Позади этого алтаря, словно колонна, возвышался — на страже свободного слова — дикторский пучок[204]. Гигантские статуи, вытянувшиеся вдоль стены, стояли как раз напротив мест, отведенных для представителей народа. Справа от председательского места красовался Ликург[205], слева Солон[206], над скамьями Горы была статуя Платона[207].
Пьедесталом статуям служили простые каменные постаменты, и расставлены они были на длинной балюстраде, опоясывавшей весь зал, отделявшей публику от членов Конвента. Зрители обычно опирались на эту балюстраду.
Черная деревянная рама, окаймлявшая Декларацию прав человека, доходила до балюстрады, перерезая рисунки на стене и нарушая прямоту линий, чем был весьма недоволен Шабо. «Это же уродство», — жаловался он Вадье[208].
Чело статуй венчали венки из дубовых листьев и из лавра.
От балюстрады спускалась длинными прямыми складками зеленая ткань, на которой зеленым же, но только более густого оттенка, были нарисованы такие же венки; эта драпировка огибала весь низ зала, отведенного для членов Конвента, а над нею холодно поблескивала пустая белая стена. Пробитые в этой толстой стене, шли в два яруса, без всяких архитектурных украшений, трибуны для публики: внизу квадратные, а в верхнем ярусе — полукруглые; в те времена Витрувий еще царил в умах, архивольты, согласно его правилам, должны были соответствовать архитравам. С каждой длинной стороны зала шли в ряд десять трибун, а в конце каждого ряда помещались по две огромные ложи — всего, следовательно, двадцать четыре трибуны. Там всегда теснился народ.
Зрители трибун нижнего яруса, не помещаясь на отведенных им местах, влезали на все выступы, жались на карнизах, пользуясь любой возможностью, предоставленной архитектурой зала. Вдоль верхнего яруса трибун вместо несуществующих перил шел длинный и толстый железный брус, предохранявший зрителей от падения, если задние напирали чересчур сильно. Какой-то зритель все же ухитрился свалиться вниз; он рухнул прямо на Масье, бывшего епископа из Бове, и, к счастью, не убившись, воскликнул: «Смотри-ка, и епископ на что-нибудь годится».
Зал Конвента мог вместить две тысячи человек, а в дни народных волнений — и три тысячи.
В Конвенте происходило по два заседания в день — утреннее и вечернее.
Спинка председательского кресла была округлая, с золочеными гвоздиками. Стол поддерживали четыре крылатых чудовища об одной ноге, они будто сошли со страниц Апокалипсиса, чтобы присутствовать при революции. Казалось, их выпрягли из колесницы Езекииля и впрягли в повозку Сансона.
На председательском столе красовался большой колокольчик, вернее, колокол, огромная медная чернильница и переплетенный в кожу фолиант для протоколов.
Случалось, что этот стол окропляла кровь, стекавшая с отрубленных голов, которые поддевали на пики и приносили в Конвент.
На трибуну подымались по лестнице в девять ступеней. Ступени были высокие, крутые, и взбираться по ним было нелегко; однажды Жансоннэ, направлявшийся к трибуне, споткнулся. «Да это же настоящая лестница на эшафот!» — проворчал он. «Что ж, попрактикуйся заранее!» — крикнул ему с места Каррье[209].
Там, где стены выглядели слишком голыми, зодчий, желая украсить их, поставил в углах ликторские пучки с торчавшей из них секирой.
Справа и слева от трибуны возвышались на цоколях два канделябра в двенадцать футов вышиной, несущие по четыре пары кенкетов. В ложах были такие же канделябры. Цоколи под канделябрами скульптор украсил венчиками, которые в народе называли «ожерелье гильотины».
Скамьи для членов Конвента подымались в амфитеатре почти к самым трибунам для публики; депутаты и народ могли обмениваться репликами.
Из трибуны попадали в путаный лабиринт коридоров, где временами стоял неистовый шум.
Распространившись по всему дворцу, Конвент переплеснулся и в соседние особняки, в отель Лонгвиль, в отель Куаньи. Именно в отель Куаньи после 10 августа, если верить письму лорда Бредфорда, перенесли всю обстановку из королевских покоев. Потребовалось целых два месяца, чтобы очистить от нее Тюильри.
Комитеты были расположены поблизости от зала заседаний: в Павильоне Равенства — законодательный, земледельческий и торговли; в Павильоне Свободы — морской, колоний, финансов, ассигнатов, а также Комитет общественного спасения; в Павильоне Единства — военный комитет.
Комитет общественной безопасности сообщался с Комитетом общественного спасения темным длинным коридором, где днем и ночью горел фонарь и где толклись шпионы всех партий. Говорили там полушепотом.
Барьер в Конвенте несколько раз переносили с места на место. Обычно он помещался справа от председателя.
Переборки, которые закрывали справа и слева полукружье амфитеатра, оставляли между скамьями и стеной два тесных коридорчика, упиравшихся в две низенькие дверцы самого мрачного вида. Здесь был вход и выход для публики.
В этом зале, слабо освещенном днем бледными пятнами окон и плохо освещенном в сумерках тусклыми светильниками, было что-то от царства ночи. Полумрак сливался с вечерней мглой; заседания, проходившие при свете ламп, производили зловещее впечатление. Сосед не различал соседа; по всему залу направо и налево смутно виднелись лица яростно споривших людей. Даже сталкиваясь вплотную, не узнавали друг друга. Однажды Леньело[210], взбегая на трибуну, толкнул какого-то человека, спускавшегося вниз. «Прости, Робеспьер», — сказал Леньело. «За кого это ты меня принимаешь?» — раздался хриплый голос. «Прости, Марат!» — поправился Леньело.
Внизу, справа и слева от председательского места, две ближние трибуны запрещалось занимать, ибо как ни странно, но и в Конвенте имелись привилегированные зрители. Только эти две трибуны были задрапированы. Посреди архитрава драпировку подхватывали витые шнуры с золотыми кистями. Трибуны для народа никаких украшений не имели.
Во всем тут было упорядоченное неистовство, ярость, что-то дикое и прямолинейное, — в этом, пожалуй, вся революция. Зал Конвента являл собой наиболее яркий образчик того стиля, который позже в среде художников стал именоваться «мессидорская архитектура»: все было одновременно и массивным и хрупким. В глазах тогдашних строителей симметричное и считалось прекрасным. Последнее слово в духе Возрождения было сказано в царствование Людовика XV, а затем началась реакция. Чрезмерная забота о благородстве и чистоте линий привела к пресному и сухому стилю, нагонявшему зевоту. И зодчество тоже подвержено недугу ложной стыдливости. После великолепных пиршеств формы и разгула красок, отметивших восемнадцатый век, искусство вдруг село на диету и разрешало себе лишь прямые линии. Но подобный прогресс приводит к уродству. Иначе говоря, искусство превращается в скелет. Такова оборотная сторона благоразумной сдержанности. Стиль подвергает себя таким лишениям, что в конце концов чахнет.
Не говоря уже о политических страстях, один лишь вид этого зала, одна лишь его архитектура вызывала трепет. Еще вспоминали, как смутное видение, прежний театр: ложи, украшенные лепными гирляндами, плафон, расписанный лазурью и пурпуром, люстру с гранеными подвесками, жирандоли, отливавшие алмазным блеском, переливчатые, словно голубиная шейка, обои, изобилие амуров и нимф на занавесках и драпировках — всю идиллию самодержавия и галантного века, запечатленную в красках, в скульптуре, в позолоте, некогда освещавшей своей улыбкой это суровое место, где взгляд повсюду натыкался на строгие прямые углы, холодные и жесткие, словно сталь, — нечто вроде Буше, гильотинированного Давидом.
IV
Кто следил за заседанием Конвента, забывал, каков зал. Кто следил за драмой, не думал о подмостках. Невиданная смесь самого возвышенного с самым уродливым. Когорта героев, стадо трусов. Благородные хищники на вершине и пресмыкающиеся в болоте. Там кишели, толкались, подстрекали друг друга, грозили, сражались и жили борцы, все те, кто стали ныне лишь тенями.
Нескончаемо огромный список.
Справа Жиронда — легион мыслителей, слева Гора[211] — отряд богатырей. С одной стороны — Бриссо, которому были вручены ключи от Бастилии; Барбару, которому повиновались марсельцы; Кервелеган[212], командовавший Брестским батальоном, расквартированым в предместье Сен-Марсо; Жансоннэ, который добился признания первенства депутатов перед военачальниками; роковой Гюаде[213], которому в Тюильри однажды ночью королева показала спящего дофина, — Гюаде поцеловал в лобик ребенка, но потребовал, чтобы отрубили голову его отцу: Салль[214], разоблачитель несуществующих заигрываний Горы с Австрией; Силлери, хромой калека с правых скамей, подобно тому как Кутон был безногим калекой — левых скамей; Лоз-Дюперре[215], который, будучи оскорблен одним газетчиком, назвавшим его «негодяй», пригласил оскорбителя отобедать и заявил: «Я знаю, что „негодяй“ означает просто „инакомыслящий“»; Рабо Сент-Этьен, открывший свой альманах 1790 года словами: «Революция окончена!»; Кинет[216], один из тех, кто столкнул с трона Людовика XVI: янсенист Камюс[217], составитель проекта гражданских уставов для духовенства, человек, который свято верил в чудеса диакона Париса[218] и все ночи напролет лежал, распростершись перед распятием саженной высоты, прибитым к стене его спальни; Фоше — священник, вместе с Камиллом Демуленом[219] руководивший восстанием 14 июля; Инар, который совершил преступление, сказав: «Париж будет разрушен», в тот самый момент, когда герцог Брауншвейгский заявил: «Париж будет сожжен»; Жакоб Дюпон[220], первым крикнувший: «Я атеист», на что Робеспьер ответил ему: «Атеизм — забава аристократов»; Ланжюинэ[221], непреклонный, проницательный и доблестный бретонец; Дюкос[222] — Эвриал при Буайе-Фонфреде[223]; Ребекки[224] — Пилад при Барбару, тот самый Ребекки, который сложил с себя депутатские полномочия, потому что еще не гильотинировали Робеспьера; Ришо[225], который боролся против несменяемости секций; Ласурс, автор злобного изречения «Горе благодарным нациям!», который у ступеней эшафота отверг свои же собственные слова, гордо бросив в лицо монтаньярам: «Мы умираем оттого, что народ спит, но вы умрете оттого, что народ проснется!»; Бирото[226], который на свою беду добился отмены неприкосновенности личности депутатов, таким образом отточил нож гильотины и воздвиг плаху для самого себя; Шарль Виллет, который для очистки совести время от времени возглашал: «Не желаю голосовать под угрозой ножа»; Луве, автор «Фоблаза», в конце жизненного пути ставший книгопродавцем в Пале-Рояле, где за прилавком восседала Лодойска; Мерсье, автор «Парижских картин», который писал: «Все короли на собственной шее почувствовали двадцать первое января»; Марек, который пекся об «охране бывших границ»; журналист Карра, который, взойдя на эшафот, сказал палачу: «До чего же досадно умирать! Так хотелось бы досмотреть продолжение»; Виже[227], который именовал себя «гренадером второго батальона Майенны и Луары» и который в ответ на угрозы публики крикнул: «Требую, чтобы при первом же ропоте трибун мы, депутаты, ушли отсюда все до последнего и двинулись бы на Версаль с саблями наголо!»; Бюзо, которому суждено было умереть с голоду; Валазе, принявший смерть от собственной руки; Кондорсе, которому судьба уготовила кончину в Бур-ла-Рен, переименованном в Бур-Эгалитэ, причем роковой уликой послужил обнаруженный в его кармане томик Горация[228]; Петион, который в девяносто втором году был кумиром толпы, а в девяносто четвертом погиб, растерзанный волками; и еще двадцать человек, среди коих: Понтекулан[229], Марбоз[230], Лидон, Сен-Мартен[231], Дюссо, переводчик Ювенала, проделавший ганноверскую кампанию; Буало[232], Бертран[233], Лестер-Бове[234], Лесаж[235], Гомэр[236], Гардьен[237], Мэнвьель[238], Дюплантье[239], Лаказ[240], Антибуль[241] и во главе их второй Барнав, который звался Верньо[242].
С другой стороны — Антуан-Луи-Леон Флорель де Сен-Жюст, бледный, узколобый двадцатитрехлетний юноша, с безупречным профилем, загадочным взором, с печатью глубокой грусти на челе; Мерлен из Тионвиля[243], которого немцы прозвали Feuer-Teufel — Огненный Дьявол; Мерлен из Дуэ, преступный создатель закона о подозрительных; Субрани[244], которого народ Парижа 1 прериаля потребовал назначить своим полководцем; бывший кюре Лебон[245], чья рука, кропившая ранее прихожан святой водой, держала теперь саблю; Билло-Варенн[246], который предвидел магистратуру будущего, где место судей займут посредники; Фабр д’Эглантин[247], которого только однажды, подобно Руже де Лилю[248], создавшему «Марсельезу», осенило вдохновение, и он создал республиканский календарь, но — увы! — вторично муза не посетила ни того, ни другого; Манюэль[249], прокурор Коммуны, который заявил: «Когда умирает король, это не значит, что стало одним человеком меньше»; Гужон[250], который взял Трипштадт, Нейштадт и Шпейер и обратил в бегство пруссаков; Лакруа, из адвоката превратившийся в генерала и пожалованный орденом Святого Людовика за неделю до 10 августа; Фрерон-Терсит, сын Фрерона-Зоила; Рюль[251], гроза банкирских железных сундуков, непреклонный республиканец, трагически покончивший с собой в день гибели республики; Фуше[252] с душой демона и лицом трупа; друг Отца Дюшена Камбулас[253], который сказал Гильотену[254]: «Сам ты из Клуба фельянов[255], а дочка твоя — из Якобинского клуба»; Жаго[256], ответивший тому, кто жаловался, что узников держат полунагими: «Ничего, темница одела их камнем»; Жавог[257], зловещий осквернитель гробниц в усыпальнице Сен-Дени, Осселэн[258], изгонявший подозрительных и скрывавший у себя осужденную на изгнание госпожу Шарри; Бантаболь[259], который, председательствуя на заседаниях Конвента, знаками показывал трибунам рукоплескать им или улюлюкать; журналист Робер[260], супруг мадемуазель Кералио[261], писавшей: «Ни Робеспьер, ни Марат ко мне не ходят; Робеспьер может явиться в мой дом, когда захочет, а Марат — никогда»; Гаран-Кулон, который гордо сказал, когда Испания осмелилась вмешаться в ход процесса над Людовиком XVI, что Собрание не должно читать письмо короля, ходатайствующего за другого короля; Грегуар, поначалу пастырь, достойный первых времен христианства, а при Империи добившийся титула графа Грегуар, дабы стереть даже воспоминание о Грегуаре-республиканце; Амар[262], сказавший: «Весь шар земной осудил Людовика XVI. К кому же апеллировать? К небесным светилам?»; Руйе[263], который 21 января протестовал против пушечной стрельбы с Нового моста, ибо, как он заявил: «Голова короля при падении должна производить не больше шума, чем голова любого смертного»; Шенье[264], брат Андре Шенье; Вадье, один из ораторов, что клали перед собой на трибуну пистолет; Панис[265], который сказал Моморо: «Я хочу, чтобы Марат и Робеспьер дружески обнялись за моим столом». — «А где ты живешь?» — «В Шарантоне[266]». — «Оно и видно», — ответил Моморо. Лежандр, который стал мясником французской революции, подобно тому как Прайд[267] был мясником революции английской. «Подойди сюда, я тебя пришибу», — закричал он Ланжюинэ, на что последний ответил: «Добейся сначала декрета, объявляющего меня быком». Колло д’Эрбуа, зловещий лицедей, скрывший свое подлинное лицо под античной двуликой маской, одна половина которой говорила «да», а другая «нет», одна одобряла то, на что изрыгала хулу другая, бичевавший Каррье в Нанте и превозносивший Шалье[268] в Лионе, пославший Робеспьера на эшафот, а Марата в Пантеон; Женисье[269], который требовал смертной казни для всякого, на ком будет обнаружен образок с надписью: «Мученик Людовика XVI»; Леонар Бурдон[270], школьный учитель, предложивший свой дом старцу Юрских гор; моряк Топсан[271], адвокат Гупильо[272], Лоран Лекуантр[273] — купец, Дюгем[274] — врач, Сержан[275] — скульптор, Давид — художник, Жозеф Эгалитэ — принц крови. И еще — Лекуантр-Пюираво[276], который требовал, чтобы Марата особым декретом объявили «находящимся в состоянии умопомешательства»; неугомонный Робер Лендэ[277], родитель некоего спрута, головой которого был Комитет общественной безопасности, а бесчисленные щупальца, охватившие всю Францию, именовались революционными комитетами; Лебеф[278], которому Жире-Дюпре посвятил в своем «Ноэле лжепатриотов» следующую строку: «Лебеф, увидев раз Лежандра, замычал»; Томас Пэйн[279], американец и человек гуманный; Анахарсис Клоотс, немец, барон, миллионер, безбожник, эбертист, существо весьма простодушное; неподкупный Леба, друг семьи Дюпле; Ровер[280], яркий образчик любителя зла ради зла, ибо искусство для искусства существует гораздо чаще, чем принято думать; Шарлье[281], требовавший, чтобы к аристократам обращались на «вы»; Тальен[282], чувствительный и свирепый, которого любовь к женщине сделает термидорианцем[283]; Камбасерес[284], прокурор, ставший впоследствии принцем; Каррье, прокурор, ставший впоследствии тигром; Лапланш[285], который в один прекрасный день воскликнет: «Я требую приоритета для пушки, дающей сигнал тревоги»; Тюрьо[286], который предложил открытое голосование для судей Революционного трибунала; Бурдон из Уазы[287], который вызвал на дуэль Шамбона, донес на Пэйна и сам был разоблачен Эбером; Фэйо[288], который предлагал послать в Вандею «армию поджигателей»; Таво[289], который 13 апреля был чем-то вроде посредника между Жирондой и Горой; Вернье[290], который считал необходимым, чтобы вожди жирондистов, равно как и вожди монтаньяров, пошли в армию простыми солдатами; Ревбель[291], который заперся в Майнце; Бурбот[292], под которым при взятии Сомюра убили коня; Гимберто[293], который командовал армией на Шербургском побережье; Жард-Панвилье[294], который командовал армией на побережье Ла-Рошель; Лекарпантье[295], который командовал эскадрой в Канкале; Робержо[296], которого подстерегала в Роштадте ловушка; Приер из Марны, надевавший при инспекторской поездке по войскам свои старые эполеты командира эскадрона; Левассер[297] из Сарты, который одним-единственным словом обрек на гибель Серрана, командира батальона в Сент-Амане; Ревершон[298]; Мор[299]; Бернар де Сент[300]; Шарль Ришар[301]; Лекинио[302] и во главе этой группы новоявленный Мирабо, именуемый Дантоном.
Вне этих двух лагерей стоял человек, державший оба лагеря в узде, и человек этот звался Робеспьер.
V
Внизу гнул шею ужас, который может быть благородным, и страх, который всегда низок. Вверху шумели бури страстей, героизма, самопожертвования, ярости, а внизу притаилась мрачная толпа безликих. Дно этого собрания именовалось Равниной. Сюда скатывалось все шаткое, все колеблющееся, все маловеры, все выжидатели, все медлители, все соглядатаи, и каждый кого-нибудь да боялся. Гора была местом избранных; Жиронда была местом избранных; Равнина была толпой. Дух Равнины был воплощен и сосредоточен в Сийесе.
Сийес — человек глубокомысленный, ставший человеком пустым. Он застрял в третьем сословии и не сумел подняться до народа. Иные умы словно нарочно созданы для того, чтобы мешкать на полпути. Сийес звал тигром Робеспьера, который называл Сийеса кротом. Этот метафизик пришел в конце концов не к разуму, а к благоразумию. Он был придворным революции, а не ее слугой. Он брал лопату и шел вместе с народом перекапывать Марсово поле, но шел в одной упряжке с Александром Богарне. Он проповедовал энергию, но сам ее в ход не пускал. Он говорил жирондистам: «Привлеките на вашу сторону пушки». Есть мыслители-ратоборцы; такие, подобно Кондорсе, шли за Верньо или, подобно Камиллу Демулену, шли за Дантоном. Но есть и такие мыслители, которые стремятся выжить, — такие шли за Сийесом.
На дно бочки с самым добрым вином выпадает мутный осадок. Под Равниной помещалось Болото[303]. Сквозь мерзкий отстой явственно просвечивало себялюбие. Здесь молча выжидали, щелкая от страха зубами, немотствующие трусы. Нет зрелища гаже. Готовность принять любой позор и ни капли стыда; затаенная злоба; недовольство, скрытое личиной раболепства. Все они были напуганы до цинизма; ими двигала отвага, порожденная трусостью; предпочитали в душе Жиронду, а присоединялись к Горе; от их слов зависела развязка; они держали руку того, кого ждал успех; они предали Людовика XVI — Верньо, Верньо — Дантону, Дантона — Робеспьеру, Робеспьера — Тальену. При жизни они клеймили Марата, после смерти обожествляли его. Они поддерживали все вплоть до того дня, пока не опрокидывали все. Они чутьем угадывали, что зашаталось, и стремились нанести последний удар.
В их глазах — ибо они брались служить любому, лишь бы тот сидел прочно, — пошатнуться значило предать их. Они были числом, они были силой, они были страхом. Отсюда-то их смелость — смелость подлых.
Отсюда 31 мая, 11 жерминаля, 9 термидора — трагедии, завязка которых была в руках гигантов, а развязка в руках пигмеев.
VI
Бок о бок с людьми, одержимыми страстью, сидели люди, одержимые мечтой. Утопия была представлена здесь во всех своих видах: утопия воинствующая, признающая эшафот, и утопия наивная, отвергающая смертную казнь; грозный призрак для тронов и добрый гений для народа. В противовес умам борющимся здесь имелись умы созидающие. Одни думали только о войне, другие думали только о мире; в мозгу Карно родилась организация всех четырнадцати армий, в мозгу Жана Дебри[304] родилась мечта о всемирной демократической федерации. Среди неукротимого красноречия, среди воя и рокота голосов таилось плодотворное молчание. Лаканаль[305] молчал, но обдумывал проект народного просвещения; Лантенас[306] молчал и создавал начальные школы; молчал и Ревельер-Лепо[307], но в мечтах старался придать философии значение религии. Прочие занимались второстепенными вопросами, пеклись о мелких, но насущных делах. Гюитон-Морво[308] занимался вопросом улучшения больниц, Мэр хлопотал об уничтожении крепостных податей, Жан-Бон-Сент-Андре[309] добивался отмены ареста за долги и упразднения долговых тюрем, Ромм отстаивал предложение Шаппа[310], Дюбоэ[311] наводил порядок в архивах, Коран-Фюстье[312] создал анатомический кабинет и музей естествознания, Гюйомар[313] разработал план речного судоходства и постройки плотины на Шельде. Искусство также имело своих фанатиков и даже своих одержимых; 21 января, в тот самый час, когда на площади Революции скатилась голова монархии, Безар[314], депутат Уазы, пошел смотреть обнаруженную где-то на чердаке в доме по улице Сен-Лазар картину Рубенса[315]. Художники, ораторы, пророки, люди-колоссы, как Дантон, и люди-дети, как Анахарсис Клоотс, гладиаторы и философы — все шли к единой цели, к прогрессу. Никогда они не опускали рук. В том-то и величие Конвента — он находил крупицу реального в том, что люди называли неосуществимым. На одном полюсе был Робеспьер, видевший лишь «право», на другом — Кондорсе, видевший лишь «долг».
Кондорсе был человеком мечты и света; Робеспьер был человеком свершений; а иногда, в периоды агонии одряхлевшего общества, свершение равносильно искоренению. У революции, как и у горы, есть свои подъемы и спуски, и на разных уровнях ее склонов можно видеть все разнообразие природы — от вечных льдов до весеннего цветка. Каждая зона творит людей себе на потребу: и таких, что живы солнцем, и таких, что живы громами.
VII
Посетители Конвента указывали друг другу на один из поворотов левого коридора, где Робеспьер шепнул Гара, приятелю Клавьера, грозные слова: «У Клавьера что разговор, то заговор». В том же углу, как будто нарочно созданном для сторонних бесед и заглушаемого гнева, Фабр д’Эглантин пенял Ромму, упрекая его за то, что тот посмел переименовать «фервидор» в «термидор» и тем испортил его календарь. Показывали угол зала, где сидели бок о бок семь представителей Верхней Гаронны, которым первым пришлось выносить приговор Людовику XVI и которые провозгласили один за другим — Майль: «Смерть», Дельмас: «Смерть», Прожан: «Смерть», Калес: «Смерть», Эйраль: «Смерть», Жюльен: «Смерть», Дезаби: «Смерть»[316]. Извечная перекличка, ибо, с тех пор как существует человеческое правосудие, под сводами судилища гулко отдается эхо гробниц. В волнующемся море голов указывали на тех, чьи голоса слились в нестройный и трагический хор приговора; вот они: Паганель[317], сказавший: «Смерть. Король полезен только одним — своей смертью»; Мийо, сказавший: «Если бы смерти не существовало, ныне ее нужно было бы изобрести»; старик Рафрон де Труйе[318], сказавший: «Смерть, и немедля!»; Гупильо, который закричал: «Скорее на эшафот! Чем больше будем медлить, тем труднее будет отправить на эшафот!»; Сийес, который с мрачной краткостью произнес: «Смерть!»; Тюрьо, который отверг предложение Бюзо, советовавшего воззвать к народу: «Как? Еще народные собрания? Как? Еще сорок четыре тысячи трибуналов? Процесс никогда не окончится. Голова Людовика Шестнадцатого успеет поседеть, прежде чем скатится с плеч!»; Огюстен-Бон Робеспьер[319], который воскликнул вслед за братом: «Я не признаю человечности, которая уничтожает народы и мирволит деспотам. Смерть! Требовать отсрочки — значит взывать не к народу, а к тиранам!»; Фусседуар[320], заместитель Бернардена де Сен-Пьера[321], сказавший: «Мне отвратительно пролитие человеческой крови, но кровь короля — это не человеческая кровь. Смерть!»; Жан-Бон-Сент-Андре, который заявил: «Народ не может быть свободен, пока жив тиран»; Лавиконтри[322], который провозгласил как аксиому: «Пока дышит тиран, задыхается свобода. Смерть!»; Шатонеф-Рандон[323], который крикнул: «Смерть Людовику последнему!»; Гийярден[324], который высказал следующее пожелание: «Пусть казнят, раз барьер опрокинут», намекая на барьер вокруг трона; Телье, который сказал: «Пускай отольют пушку калибром с голову Людовика Шестнадцатого и выстрелят по врагу». Указывали и на тех, что проявили милосердие. Среди них был Жантиль[325], сказавший: «Я голосую за пожизненное заключение. Вслед за Карлом Первым[326] следует Кромвель[327]»; Банкаль[328], который заявил: «Изгнание. Я хочу, чтобы впервые в мире король занялся каким-нибудь ремеслом и зарабатывал в поте лица хлеб свой»; Альбуис[329], который сказал: «Каторга. Пускай живой его призрак бродит вокруг тронов»; Занджиакоми[330] сказал: «Лишение свободы. Сохраним Капета в качестве пугала»; Шайон сказал: «Пусть живет. Зачем нам мертвец, которого Рим превратит в святого?» Пока все эти слова срывались с суровых уст и одно за другим исчезали в далях истории, на трибунах разряженные, декольтированные дамы подсчитывали голоса, отмечая булавкой на листе каждый поданный голос.
Там, где побывала трагедия, там надолго остаются ужас и сострадание.
Видеть Конвент в любой час его деятельности значило вновь видеть суд над последним Капетом, как будто легендарное 21 января пропитывало все деяния Конвента; от этого грозного Собрания не раз подымалось роковое дыхание, которое, коснувшись древнего факела монархии, заниженного восемнадцать веков тому назад, потушило его; окончательный, не подлежащий обжалованию, приговор над всеми королями в лице одного короля стал как бы отправной точкой, откуда Конвент повел великую войну с прошлым; какому бы вопросу ни было посвящено заседание Конвента, в глубине незримо подымалась тень, отбрасываемая эшафотом Людовика XVI. Зрители рассказывали друг другу об отставке Керсэна, об отставке Ролана, о Дюшателе[331], депутате от Де-Севр, который, прикованный к постели недугом, велел принести себя в Конвент и, умирая, проголосовал за сохранение жизни, чем вызвал смех Марата; зрители искали взглядом депутата (история не сохранила его имени), который, утомившись заседанием, длившимся тридцать семь часов подряд, заснул на скамье, и, когда пристав разбудил его для подачи голоса, он, с трудом приоткрыв глаза, крикнул: «Смерть!» — и снова уснул.
Когда Конвент выносил смертный приговор Людовику XVI, Робеспьеру оставалось жить восемнадцать месяцев, Дантону — пятнадцать месяцев, Верньо — девять месяцев, Марату — пять месяцев и три недели, Лепеллетье Сен-Фаржо — один день. Коротко и страшно дыхание человеческих уст!
VIII
Народ следил за Конвентом через свое открытое окно — трибуны для публики, но когда это окно оказывалось слишком узким, он распахивал дверь и в зал вливалась улица. Такие вторжения толпы в сенат — один из самых примечательных феноменов истории. Обычно народ врывался в Конвент с дружелюбными намерениями. Курульное кресло браталось с уличным перекрестком. Но дружелюбие народа, который в один прекрасный день в течение трех часов захватил сорок тысяч карабинов и пушки, стоявшие у Дома инвалидов, — дружелюбие такого народа чревато угрозами. Каждую минуту какое-нибудь шествие прерывало ход заседания — являлись делегации с петициями, подношениями, адресами. То женщины Сент-Антуанского предместья подносили членам Конвента почетную пику. То англичане предлагали двадцать тысяч пар сапог, чтобы обуть наших босых солдат. «Гражданин Арну, — писала газета „Монитер“, — обиньянский кюре, командир Дромского батальона, просит отправить его на границу, а также сохранить за ним его приход». То врывались делегаты секций и приносили на носилках церковную утварь: блюда, чаши, дискосы, ковчежцы, золото и серебро — дар родине от толпы оборванцев, и в награду просили только одного — разрешения сплясать карманьолу перед Конвентом. Шенар, Нарбонн и Вальер[332] приходили сюда спеть свои куплеты в честь Горы. Секция Монблан торжественно вручала Конвенту бюст Лепеллетье; какая-то женщина надела красный колпак на голову председателя, который тут же расцеловал дарительницу; «гражданки секции Майль» забрасывали «законодателей» цветами; «воспитанницы родины» с оркестром во главе приходили поблагодарить Конвент за то, что он «подготовил благоденствие века»; женщины из секции Французской гвардии подносили депутатам розы; женщины из секции Елисейских полей подносили депутатам венки из дубовых листьев; женщины из секции Тампль давали клятву в том, что «каждая из них свяжет свою судьбу лишь с истинным республиканцем»; секция Мольера подарила Конвенту медаль с изображением Франклина, которую особым декретом решено было подвесить к венцу, украшавшему чело статуи Свободы; подкидыши, отныне именовавшиеся «детьми республики», дефилировали перед Конвентом в национальных мундирчиках; заглядывали в Конвент и молодые девушки из секции Девяносто второго года, все в длинных белых одеяниях, и на следующий день «Монитер» в таких словах описывал это событие: «Председатель получил букет из невинных ручек юной красавицы». Ораторы приветствовали толпу, а иногда и льстили ей; они говорили народу: «Ты безупречен, ты непогрешим, ты божество», — а народ, как ребенок, любит сладкое. Иногда сам мятеж врывался в двери Конвента и выходил оттуда умиротворенный, — так Рона вливает свои илистые воды в Женевское озеро и выливается оттуда лазурью.
Впрочем, не всегда обходилось так мирно, и Анрио в таких случаях приказывал ставить у входа в Тюильрийский дворец жаровни, на которых накаливали пушечные ядра.
IX
Выплавляя революцию, Конвент одновременно выковывал цивилизацию. Да, горнило, но также и горн. В том самом котле, где кипел террор, крепло также бродило прогресса. Из мрака, из стремительно несущихся туч вырывались мощные лучи света, равные силой извечным законам природы. Лучи, и поныне освещающие горизонт, не гаснущие на небосводе народов, и один такой луч зовется справедливостью, а другие терпимостью, добром, разумом, истиной, любовью. Конвент провозгласил великую аксиому: «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого»; в одной этой фразе заключены все условия совместного существования людей. Конвент объявил бедность священной; священным он объявил убожество, взяв на попечение государства слепца и глухонемого; он освятил материнство, поддерживая и утешая девушку-мать; он освятил детство, усыновляя сирот и дав им в матери родину; он освятил справедливость, оправдывая по суду и вознаграждая оклеветанного. Он бичевал торговлю неграми; он упразднил рабство. Он провозгласил гражданскую солидарность. Он декретировал бесплатное обучение. Он упорядочил национальное образование, учредив в Париже Нормальную школу, центральные школы в крупных провинциальных городах и начальные школы в сельских общинах. Он открывал консерватории и музеи. Он издал декрет, которым устанавливался единый кодекс законов для всей страны, единство мер и весов и единое исчисление по десятичной системе. Он навел порядок в финансах государства, и на смену долгого банкротства монархии пришел общественный кредит. Он дал населению телеграфную связь, неимущей старости — бесплатные богадельни, недужным — больницы, очистив их от вековой заразы, учащимся — Политехническую школу, науке — Бюро долгот, человеческому разуму — Академию. Не теряя своих национальных черт, он в то же время был космополитичен. Из одиннадцати тысяч двухсот десяти декретов, изданных Конвентом, лишь одна треть касалась непосредственно вопросов политики, а две трети — вопросов общего блага. Он провозгласил всенародную мораль основой общества и всенародную совесть — основой закона. И, освобождая раба, провозглашая братство, поощряя человечность, врачуя сознание людей, превращая закон о труде из бремени в право, в опору человека, упрочивая национальное богатство, опекая и просвещая детство, развивая искусства и науки, неся свет на все вершины, помогая во всех бедах, распространяя свои принципы, — Конвент делал все это в то время, как внутренности его терзала эта гидра Вандея, а к горлу тянули свои тигриные когти монархи.
X
Обширнейший плацдарм. Представители всех пород — человеческой, нечеловеческой и сверхчеловеческой — собирались здесь. Грандиозное скопище противоположностей: Гильотен, сторонившийся Давида; Базир[333], оскорбляющий Шабо; Гюадэ, высмеивающий Сен-Жюста; Верньо, презирающий Дантона; Луве, нападающий на Робеспьера; Бюзо, разоблачающий Филиппа Эгалитэ; Шамбон, бичующий Паша, — и все они ненавидели Марата. А сколько еще имен мы не назвали, хотя и следовало бы их назвать. Армонвиль[334], по прозвищу Красный Колпак, ибо на каждом заседании он появлялся в фригийском колпаке, друг Робеспьера, требовавший, чтобы равновесия ради «вслед за Людовиком XVI гильотинировали Робеспьера»; Масье, приятель и двойник добряка Ламуретта[335], епископа, который прославил свое имя лишь тем, что оно так мило сердцу влюбленных; Легарди из Морбигана[336], клеймивший бретонских священников; Барер[337], человек большинства, председательствовавший в день суда над Людовиком XVI и ставший для Памелы тем, чем был Луве для Лодойски; Дону, член Оратории[338], заявивший: «Главное — выиграть время»; Дюбуа-Крансэ, доверенный Марата; маркиз де Шатонеф[339]; Лакло[340]; Эро де Сешель[341], отступивший перед Анрио, когда тот скомандовал: «Канониры, к пушкам!»; Жюльен, сравнивавший Гору с Фермопилами; Гамон[342], который требовал, чтобы для женщин выделили особую трибуну; Лалуа[343], предложивший на заседании Конвента почтить епископа Гобеля[344], который, явившись в Конвент, скинул митру и надел красный колпак; Леконт[345], воскликнувший: «А ну, попы, торопитесь в расстриги»; Феро, перед отрубленной головой которого склонился Буасси д’Англа[346] и тем задал историкам неразрешимый вопрос: склонился ли он, Буасси д’Англа, перед головой, то есть перед жертвой, или же перед пикой, то есть перед убийцами? Два брата Дюпра[347] — один монтаньяр, другой жирондист, — ненавидевшие друг друга столь же яростно, как братья Шенье.
С этой трибуны произносились слова, которые кружили головы, и иной раз в них без ведома самого оратора звучал вещий глас революции, и не успевал он еще отзвучать, как вдруг события проникались людским недовольством и людскими страстями, будто их слух был оскорблен этими речами; все, что происходит, является как бы гневным откликом на то, что говорится, и, точно их выводят из себя слова человека, одна за другой разражаются страшные катастрофы. Так иной раз крик путника вызывает в горах обвал. Одно лишнее слово может привести к бедствию. Если бы слово не было произнесено, ничего бы не произошло. Кажется подчас, что события могут гневаться.
Именно так, из-за случайно оброненного оратором и не понятого другими слова, поплатилась головой принцесса Елизавета.
Невоздержанность на язык была в обычае Конвента.
Во время жарких споров угрозы носились в воздухе и сталкивались, словно горящие головни на пожаре. Петион: «Робеспьер, ближе к делу». Робеспьер: «…Все дело в вас, Петион. Не беспокойтесь, я перейду к делу». Чей-то голос: «Смерть Марату!» Марат: «В тот день, когда умрет Марат, не станет более Парижа, а когда погибнет Париж, погибнет и Республика». Билло-Варенн (подымается с места): «Мы желаем…» Барер (прерывая его): «Уж слишком ты по-королевски заговорил…» Как-то на заседании Филиппо сказал: «Один из депутатов обнажил против меня шпагу». Одуэн[348]: «Председатель, призовите к порядку убийцу». Председатель: «Все в свое время». Панис: «Тогда, председатель, я призываю к порядку вас». Нередко стены Конвента сотрясал громовой смех. Лекуантр: «Кюре из Шан-де-Бу приносит жалобу на своего епископа Фоше за то, что тот запрещает ему жениться». Чей-то голос: «Никак не пойму, почему Фоше, у которого двадцать любовниц, не желает, чтобы у других была хоть одна жена». Второй голос: «Ничего, поп, не робей, бери себе жену». Публика с трибун вмешивалась во все споры и разговоры. Она обращалась к членам Собрания без чинов, на «ты». Как-то депутат Рюан[349] выходит на трибуну. А славился он тем, что одна ягодица у него была заметно пухлее другой. Кто-то из публики крикнул: «Эй, повернись-ка толстой стороной к правым скамьям, потому что „щека“ у тебя совсем в духе Давида». Такие вольности усвоил народ в отношении Конвента. Впрочем, как-то во время чересчур бурного заседания 11 апреля 1793 года председатель велел арестовать одного из нарушителей порядка.
Однажды, по свидетельству старика Буонарроти[350], Робеспьер взял слово и говорил два часа подряд, не отрывая глаз от Дантона, — он то смотрел пристально, что не предвещало ничего доброго, то скользил по нему рассеянным взглядом, что было еще хуже. Наконец, он прямо обрушился на Дантона и закончил свою речь негодующими зловещими словами: «Известно, где интриганы, известно, где взяточники и развратники, известно, где изменники. Они здесь, на этом собрании. Они слышат нас, мы видим их, мы не спускаем с них глаз. Пусть поглядят они наверх — над их головой висит меч закона. Пусть заглянут они в свою душу — в их душе гнездится подлость. Так пусть же они поберегутся!» Когда Робеспьер кончил, Дантон, который сидел в небрежной позе, запрокинув голову, глядя в потолок полузакрытыми глазами и забросив руку за спинку скамьи, затянул вдруг песенку:
Сносить Русселя речь нет мочи! И самая короткая должна бы быть короче.На оскорбления отвечали оскорблениями: «Заговорщик! — Убийца! — Мошенник! — Мятежник! — Умеренный!» Разоблачая друг друга, брали в свидетели гипсового Брута. Поток восклицаний, проклятий, бранных слов. Дуэль гневных взглядов. Рука сжималась в кулак, грозила пистолетом, выхватывала из ножен кинжал. Пламя страстей перекидывалось на трибуны. Иные говорили так, будто над ними уже навис нож гильотины. В полумраке обозначалась волнообразная линия голов, испуганных и страшных. Монтаньяры, жирондисты, фельяны[351], модерантисты[352], террористы[353], якобинцы, кордельеры и восемнадцать священников-цареубийц.
Таковы были эти люди! Словно клубы дыма, которыми играет ветер.
XI
Пусть эти умы были добычей ветра.
Но то был чудодейственный ветер.
Быть членом Конвента — значило быть волною океана. И это было верно даже в отношении самых великих. Первый толчок давался сверху. В Конвенте жила воля, которая была волей всех и не была ничьей волей в частности. Этой волей была идея, идея неукротимая и необъятно огромная, которая, как дуновение с небес, проносилась в этом мраке. Это мы и зовем Революцией. Когда эта идея подымалась, подобно волне, она сшибала одних и возносила других, одного увлекала в глубь моря, другого разбивала о подводные камни. Идея эта знала, каков ее путь, она сама вырывала перед собою бездны. Приписывать революцию человеческой воле все равно что приписывать прибой силе волн.
Революция есть дело Неведомого. Можете называть это деяние хорошим или дурным, в зависимости от того, уповаете ли вы на грядущее или обращаетесь к прошлому, но не отторгайте ее от ее творца. На первый взгляд может показаться, что революция — совместное творение великих событий и великих умов, на деле же она лишь равнодействующая событий. События транжирят, а расплачиваются люди. События диктуют, а люди лишь скрепляют написанное своей подписью. 14 июля скрепил своей подписью Камилл Демулен, 10 августа скрепил своей подписью Дантон, 2 сентября скрепил своей подписью Марат, 21 сентября скрепил своей подписью Грегуар, 21 января скрепил своей подписью Робеспьер; но Демулен, Дантон, Марат, Грегуар и Робеспьер — лишь писцы Истории. Могущественный и зловещий сочинитель этих великих страниц имеет имя, и имя это бог, а личина его Рок. Робеспьер верил в бога, что и не удивительно.
Революция есть, по сути дела, форма той имманентной силы, которая теснит нас со всех сторон и которую мы зовем Необходимостью.
И перед лицом этого загадочного переплетения благодеяний и мук История настойчиво задает вопрос: почему?
Потому — ответит тот, кто ничего не знает, и таков же ответ того, кто знает все.
Наблюдая эти периодические катаклизмы, которые опустошают и обновляют цивилизацию, не решаешься судить о деталях. Хулить или превозносить людей за последствия их действий — это все равно что хулить или превозносить цифры за итог. То, чему положено свершиться, — свершится, то, что должно разразиться, — разразится. Но извечная ясность не страшится таких ураганов. Над революциями, как звездное небо над грозами, сияют Истина и Справедливость.
XII
Таков был этот Конвент, который не измеришь обычной мерой, этот воинский стан человечества, атакуемый одновременно всеми темными силами, сторожевой огонь осажденной армии идей, неоглядный бивуак умов, раскинувшийся на краю бездны. Ничто в истории несравнимо с этим собранием людей: оно — сенат и чернь, конклав и улица, ареопаг и площадь, трибунал и подсудимый.
Конвент всегда склонялся под ветром, но ветер этот исходил из тысячеустого дыхания народа и был дыханием божьим.
И ныне, спустя восемьдесят лет, всякий раз, когда перед человеком — историк ли он или философ — встанет вдруг образ Конвента, человек этот бросает все и застывает в раздумье. Нельзя оставаться равнодушным к великому шествию теней.
XIII МАРАТ ЗА КУЛИСАМИ
На следующий день, после свидания на Павлиньей улице, Марат, как он и объявил накануне Симонне Эврар, отправился в Конвент.
Среди членов Конвента имелся некий маркиз Луи де Монто, страстный приверженец Марата; именно он поднес Собранию десятичные часы, увенчанные бюстом своего кумира.
В ту самую минуту, когда Марат входил в здание Конвента, Шабо подошел к Монто.
— Эй, бывший, — начал он.
Монто поднял глаза.
— Почему ты величаешь меня бывшим?
— Потому что ты бывший.
— Я бывший?
— Ты ведь был маркизом.
— Никогда не был.
— Рассказывай!
— Мой отец был простой солдат, а дед был ткачом.
— Да брось выдумывать, Монто!
— Меня вовсе и не зовут Монто.
— А как же тебя зовут?
— Меня зовут Марибон.
— Хотя бы и Марибон, — сказал Шабо, — мне-то что за дело? — И прошипел сквозь зубы: — Куда только все маркизы подевались?
Марат остановился в левом коридоре и молча смотрел на Монто и Шабо.
Всякий раз, когда Марат появлялся в Конвенте, по залу проходил шепот, но шепот отдаленный. Вокруг него все молчало. Марат даже не замечал этого. Он презирал «квакуш из болота».
Скамьи, стоявшие внизу, скрадывал полумрак, и сидевшие в ряд Компе из Уазы, Прюнель[354], Виллар[355], епископ, впоследствии ставший членом Французской академии, Бутру[356], Пти, Плэшар, Боне, Тибодо[357], Вальдрюш показывали друг другу на Марата пальцем.
— Смотрите-ка — Марат!
— Разве он не болен?
— Как видно, болен, — раз явился в халате.
— Как так в халате?
— Да в халате же, говорю.
— Слишком уж много себе позволяет.
— Смеет в таком виде являться в Конвент!
— Что ж удивительного, ведь приходил он сюда в лавровом венке, почему бы не прийти в халате?
— Лицо медное, и зубы зеленые.
— А халат-то, глядите, новый.
— Из какой материи?
— Из репса.
— В полоску.
— Посмотрите лучше, какие отвороты!
— Из меха.
— Тигрового?
— Нет, горностаевого.
— Подделка.
— Да на нем чулки!
— Странно, как это он в чулках!
— И туфли с пряжками.
— Серебряными.
— Ого, что-то скажут на это деревянные сабо нашего Камбуласа!
На других скамьях делали вид, что вообще не замечают Марата. Говорили о посторонних предметах. Сантона подошел к Дюссо.
— Дюссо, вы знаете?
— Кого знаю?
— Бывшего графа де Бриенн.
— Которого посадили в тюрьму Форс вместе с бывшим герцогом Вильруа?
— Да.
— Обоих знавал в свое время. А что?
— Они до того перетрусили, что за версту раскланивались, завидя красный колпак тюремного надзирателя, а как-то даже отказались играть в пикет, потому что им подали карты с королями и дамами.
— Ну и что?
— Вчера гильотинировали.
— Обоих?
— Обоих.
— А как они держались в тюрьме?
— Как трусы.
— А на эшафоте?
— Как храбрецы. — И Дюссо добавил: — Да, умирать легче, чем жить.
Барер между тем зачитывал донесение, касающееся положения дел в Вандее. Девятьсот человек выступили из Морбигана, имея полевые орудия, и отправились на выручку Нанта. Редону угрожают восставшие крестьяне. Пэмбеф атакован. Перед Мендрэном крейсировала эскадра, чтобы помешать высадке. Весь левый берег Луары от Энгранда до Мора ощетинился роялистскими батареями. Три тысячи крестьян овладели Порником. Они кричали: «Да здравствуют англичане!» Письмо Сантерра, адресованное Конвенту, которое оглашал Барер, кончалось словами: «Семь тысяч крестьян атаковали Ванн. Мы отбросили их и захватили четыре пушки…»
— А сколько пленных? — прервал Барера чей-то голос.
Барер продолжал:
— Тут имеется приписка: «Пленных нет, так как пленных мы теперь не берем»[358].
Марат сидел не шевелясь и, казалось, ничего не слышал, — он весь был поглощен суровой думой.
Он вертел в пальцах бумажку, и тот, кто развернул бы ее, прочел бы несколько строк, написанных почерком Моморо и, очевидно, служивших ответом на какой-то вопрос Марата.
«Мы бессильны против всемогущества уполномоченных комиссаров, особенно против уполномоченных Комитета общественного спасения. И хотя Женисье заявил на заседании 6 мая: „Любой комиссар стал сильнее короля“, — ничто не переменилось. Они карают и милуют. Массад в Анжере, Трюллар в Сент-Амане, Нион при генерале Марсе, Паррен при Сабльской армии, Мильер при Ниорской армии[359] — все они поистине всемогущи. Клуб якобинцев дошел до того, что назначил Паррена бригадным генералом. Обстоятельства оправдывают все. Делегат Комитета общественного спасения держит в руках любого генерал-аншефа».
Марат по-прежнему теребил бумажку, затем сунул ее в карман и не спеша подошел к Монто и Шабо, которые продолжали разговаривать и не заметили, как он вошел.
— Как там тебя, Марибон или Монто, — говорил Шабо, — а знаешь, я только что был в Комитете общественного спасения.
— Ну и что ж там делается?
— Поручили одному попу следить за дворянином.
— А!
— За дворянином вроде тебя.
— Я не дворянин, — возразил Монто.
— Священнику…
— Вроде тебя.
— Я не священник, — воскликнул Шабо.
И оба расхохотались.
— А ну-ка расскажи подробнее, — попросил Монто.
— Вот как обстоит дело. Некий поп, по имени Симурдэн, делегирован с чрезвычайными полномочиями к некоему виконту, по имени Говэн; этот виконт командует экспедиционным отрядом береговой армии. Следовательно, надо помешать дворянину вести двойную игру, а попу изменить.
— Все это очень просто, — сказал Монто. — Придется вывести на сцену третье действующее лицо — Смерть.
— Это я возьму на себя, — сказал Марат.
Собеседники оглянулись.
— Здравствуй, Марат, — сказал Шабо, — что-то ты стал редко посещать заседания.
— Врач не пускает, прописал мне ванны, — ответил Марат.
— Бойся ванн, — изрек Шабо, — Сенека[360] умер в ванне.
Марат улыбнулся.
— Здесь, Шабо, нет Неронов.
— Зато есть ты, — произнес чей-то рыкающий голос.
Это бросил на ходу Дантон, пробираясь к своей скамье; Марат даже не оглянулся.
Наклонившись к Монто и Шабо, он сказал шепотом:
— Слушайте меня оба, я пришел сюда по важному делу. Необходимо, чтобы кто-нибудь из нас троих предложил Конвенту проект декрета.
— Только не я, — живо отказался Монто, — меня не слушают, я ведь маркиз.
— И не я, — подхватил Шабо, — меня не слушают, я ведь капуцин.
— И меня тоже, — сказал Марат, — я ведь Марат.
Воцарилось молчание.
Когда Марат задумывался, обращаться к нему с вопросами было небезопасно. Однако Монто рискнул:
— А какой декрет ты хочешь предложить?
— Декрет, который карает смертью любого военачальника, выпустившего на свободу пленного мятежника.
— Такой декрет уже имеется, — прервал Марата Шабо. — Его приняли еще в конце апреля.
— Принять-то приняли, но на деле он не существует, — ответил Марат. — Повсюду в Вандее участились побеги пленных, а пособники беглецов не несут никакой кары.
— Значит, Марат, декрет вышел из употребления.
— Значит, Шабо, надо вновь ввести его в силу.
— Само собой разумеется.
— Об этом-то и требуется заявить в Конвенте.
— Совершенно необязательно, Марат, привлекать к этому делу весь Конвент, достаточно Комитета общественного спасения.
— Мы вполне достигнем цели, — добавил Монто, — если Комитет общественного спасения велит вывесить декрет во всех коммунах Вандеи и накажет для острастки двух-трех человек.
— И притом не мелкую сошку, — подхватил Шабо, — а генералов.
— Пожалуй, этого хватит, — произнес вполголоса Марат.
— Марат, — снова заговорил Шабо, — а ты сам скажи об этом в Комитете общественного спасения.
Марат посмотрел на него таким взглядом, что даже Шабо поежился.
— Шабо, — сказал он, — Комитет общественного спасения — это Робеспьер. А я не хожу к Робеспьеру.
— Тогда пойду я, — предложил Монто.
— Хорошо, — ответил Марат.
На следующий же день соответствующий декрет Комитета общественного спасения был разослан повсюду; властям вменялось в обязанность расклеить его по всем городам и селам Вандеи и выполнять неукоснительно, то есть предавать смертной казни всякого, кто причастен к побегу разбойников и пленных мятежников.
Декрет этот был лишь первым шагом. Конвенту пришлось сделать и второй шаг. Через несколько месяцев, 11 брюмера II года (ноябрь 1793 года), после того как город Лаваль открыл свои ворота вандейским беглецам, Конвент издал новый декрет, согласно которому каждый город, предоставивший убежище мятежникам, должен был быть разрушен до основания.
Со своей стороны европейские монархи объявили, что каждый француз, захваченный с оружием в руках, будет расстрелян на месте, и если хоть один волос упадет с головы короля, Париж будет стерт с лица земли; все это излагалось в манифесте за подписью герцога Брауншвейгского, подсказан этот манифест был эмигрантами, а составлен маркизом де Линноном, управляющим герцога Орлеанского.
Дикарство против варварства.
Часть третья В ВАНДЕЕ
Книга первая ВАНДЕЯ
I ЛЕСА
В ту пору в Бретани насчитывалось семь страшных лесов. Вандея — это мятеж церкви. И пособником этого мятежа был лес. Тьма помогала тьме.
В число семи прославленных бретонских лесов входили: Фужерский лес, который преграждал путь между Долем и Авраншем; Пренсейский лес, имевший восемь лье в окружности; Пэмпонский лес, весь изрытый оврагами и руслами ручьев, почти непроходимый со стороны Бэньона и весьма удобный для отступления на Конкорне — гнездо роялистов; Реннский лес, по чащам которого гулко разносился набат республиканских приходов (обычно республиканцы тяготели к городам), здесь Пюизэ[361] наголову разбил Фокара[362]; Машкульский лес, где, словно волк, устроил свое логово Шаретт; Гарпашский лес, принадлежавший семействам Тремуйлей, Говэнов и Роганов, и Бросельяндский лес, принадлежавший только феям.
Один из дворян Бретани именовался Хозяином Семилесья. Этот почетный титул носил виконт де Фонтенэ, принц бретонский.
Ибо помимо французского принца существует принц бретонский. Так, Роганы были бретонскими принцами. Гарнье де Сент в своем донесении Конвенту от 15 нивоза II года окрестил принца Тальмона «Капетом разбойников, владыкой Мэна и всея Нормандии».
История бретонских лесов в период между 1792 и 1800 годами могла бы стать темой специального исследования, и она на правах легенды вошла бы в обширную летопись Вандеи.
У истории своя правда, а у легенд — своя. Правда легенд по самой своей природе совсем иная, нежели правда историческая. Правда легенд — это вымысел, итог которого — реальность. Впрочем, и легенды и история обе идут к одной и той же цели — в образе преходящего человека представить вечночеловеческое.
Нельзя полностью понять Вандею, если не дополнить историю легендой; история помогает увидеть всю картину в целом, а легенда — подробности.
Признаемся же, что Вандея стоит такого труда. Ибо Вандея своего рода чудо.
Война темных людей, война нелепая и блистательная, отвратительная и великолепная, подкосила Францию, но и стала ее гордостью. Вандея — рана, но есть раны, приносящие славу.
В иные свои часы человеческое общество ставит историю перед загадкой, и для мудреца разгадка ее — свет, а для невежды — мрак, насилье и варварство. Философ поостережется вынести обвинительный приговор. Он понимает, что трудности влекут за собой неясность. Проходя, трудности, подобно тучам, отбрасывают на своем пути тень.
Если вы хотите понять Вандею, представьте себе отчетливо двух антагонистов — с одной стороны французскую революцию, с другой — бретонского крестьянина. Развертываются небывалые события; благодетельные перемены, происходящие одновременно, оборачиваются настоящей угрозой; цивилизация совершает гневный рывок; прогресс буйствует, забыв меру, несет с собой неслыханные и непонятные улучшения, и представьте, что на все это с невозмутимой важностью взирает дикарь, странный светлоглазый длинноволосый человек, вся пища которого — молоко да каштаны, весь горизонт — стены его хижины, живая изгородь да межа его поля; он знает наизусть голос каждого колокола на любой колокольне в окрестных приходах, воду он употребляет лишь для питья, не расстается с кожаной курткой, расшитой шелковым узором, словно татуировкой покрывающим всю одежду, как предок его, кельт[363], покрывал татуировкой все лицо; почитает в своем палаче своего господина; говорит он на мертвом языке, тем самым замуровывая свою мысль в склепе прошлого, и умеет делать лишь одно — запрячь волов, наточить косу, выполоть ржаное поле, замесить гречневые лепешки; чтит прежде всего свою соху, а потом уж свою бабку; верит и в святую деву Марию, и в Белую даму, молитвенно преклоняет колена перед святым алтарем и перед таинственным высоким камнем, торчащим в пустынных ландах; в долине — он хлебопашец, на берегу реки — рыбак, в лесной чаще — браконьер; он любит своих королей, своих сеньоров, своих попов, своих вшей; он несколько часов подряд может, не шелохнувшись, простоять на плоском пустынном берегу, угрюмый слушатель моря.
А теперь судите сами, способен ли был такой слепец принять благословенный свет?
II ЛЮДИ
У нашего крестьянина два надежных друга: поле, которое его кормит, и лес, который его укрывает.
Трудно даже представить в наши дни тогдашние бретонские леса, — это были настоящие города. Глухо, пустынно и дико; не продерешься через сплетение колючих ветвей и кустов; неподвижность и молчание обитают в этих зеленых зарослях без конца и без краю; одиночество, какого нет даже в смерти, даже в склепе; но если бы вдруг одним взмахом, как порывом бури, можно было бы снести все эти деревья, то стало бы видно, как под густой их сенью копошится людской муравейник.
Узкие круглые колодцы, скрытые под завалами из камней и сучьев, колодцы, которые идут сначала вертикально, а потом дают ответвления в сторону под прямым углом, расширяются наподобие воронки и выводят в полумрак пещер, — вот какое подземное царство обнаружил Камбиз[364] в Египте, а Вестерман[365] обнаружил в Бретани; там — пустыня, здесь — леса; в пещерах Египта лежали мертвецы, а в пещерах Бретани ютились живые люди. Одна из самых заброшенных просек Мидонского леса, сплошь изрезанная подземными галереями и пещерами, где сновали невидимые люди, так и звалась Большой Город. Другая просека, столь же пустынная на поверхности и столь же густо заселенная в глубине, была известна под названием Королевская Площадь.
Эта подземная жизнь началась в Бретани с незапамятных времен. Человеку здесь всегда приходилось убегать от человека. Потому-то и возникали тайники, укрытые, как змеиные норы, под корнями деревьев. Так повелось еще со времен друидов[366], и некоторые из этих склепов ровесники дольменам. И злые духи легенд, и чудовища истории — все они прошли по этой черной земле: Тевтат[367], Цезарь[368], Гоэль, Неомен, Готфрид Английский, Алэн Железная Перчатка, Пьер Моклерк[369], французский род Блуа[370] и английский род Монфоров[371], короли и герцоги, девять бретонских баронов, судьи Великих Дней, графы Нантские, враждовавшие с графами Реннскими, бродяги, разбойники, купцы, Рене II[372], виконт де Роган, наместники короля, «добрый герцог Шонский», вешавший крестьян на деревьях под окнами госпожи де Севинье[373]; в XV веке — резня сеньоров, в XVI–XVII веках — религиозные войны, в XVIII веке — тридцать тысяч псов, натасканных на охоту за людьми; заслышав издали этот грозный топот, народ спешил скрыться, исчезнуть. Итак, троглодиты[374], спасающиеся от кельтов, кельты, спасающиеся от римлян, бретонцы, спасающиеся от нормандцев, гугеноты[375] — от католиков, контрабандисты — от таможенников, — все они поочередно искали убежища сначала в лесах, а потом и под землей. Самозащита зверя. Вот до чего тирания доводит нации. В течение двух тысячелетий деспотизм во всех своих проявлениях — завоевания, феодализм, фанатизм, поборы — травил несчастную загнанную Бретань, любая безжалостная облава кончалась лишь затем, чтобы вновь начаться на новый лад. И люди уходили под землю.
Ужас, который сродни гневу, уже гнездился в душах, уже гнездились в подземных логовах люди, когда во Франции вспыхнула революция. И Бретань поднялась против нее — насильственное освобождение показалось ей новым гнетом. Извечная ошибка раба.
III СГОВОР ЛЮДЕЙ И ЛЕСОВ
Трагические леса Бретани теперь, как и встарь, стали пособниками и прислужниками нового мятежа.
Земля в таком лесу напоминала разветвленную веточку звездчатого коралла, — во всех направлениях шла целая система неведомых врагу сообщений и ходов, пещерок и галерей. В каждой такой глухой пещере жило пять-шесть человек. Недостаток воздуха — вот в чем заключалась главная трудность. Несколько цифр дадут представление о могущественной организации этого неслыханного по размерам крестьянского мятежа. В Иль-э-Вилэн, в Пертрском лесу, где укрывался принц Тальмон, не слышно было дыхания человека, не видно было следа его ноги, и тем не менее там ютилось шесть тысяч человек во главе с Фокаром; в Морбигане, в Мелакском лесу, прохожий не встретил бы ни души, а там укрывалось восемь тысяч человек. А ведь эти два леса — Пертрский и Мелакский — еще не самые крупные в семье бретонских лесных массивов. Страшно было углубиться в их чащу. Эти обманчивые дебри, где в подземных лабиринтах ютились бойцы, напоминали огромные, недоступные человеческому глазу губки, из которых под тяжелой пятой гиганта, под пятой революции, вырывался фонтан гражданской войны.
Незримые батальоны подстерегали врага. Тайные армии, змеей проползая под ногами республиканских армий, вдруг появлялись, вдруг снова уходили под землю; вездесущие и невидимые, они обрушивались лавиной и рассыпались, они были подобны колоссу, наделенному способностью превращаться в карлика: колосс — в бою, карлик — в норе. Ягуары, ведущие жизнь кротов.
Кроме огромных прославленных лесов, в Бретани имелось еще множество перелесков и рощ. Подобно тому как города переходят в села, вековой бор переходил в заросли кустарника. Леса были связаны между собой целой сетью густолиственных зеленых лабиринтов. Старинные замки — они же крепости, поселки — они же лагери; фермы, превращенные в ловушки и западни, мызы, обнесенные рвами и обсаженные деревьями, — из этих бесчисленных петель плелась огромная сеть, в которой запутывались республиканские войска.
Все это вместе взятое носило название Бокаж.
В него входил Мидонский лес с озером в центре, — лес этот служил штаб-квартирой Жану Шуану, лес Жэнн — штаб-квартирой Тайеферу[376]; Гюиссерийский лес — штаб-квартирой Гужле-Брюану[377]; лес Шарни — штаб-квартирой Куртилье Батарду[378], прозванному Апостолом Павлом, начальнику укрепленного лагеря «Черная корова»; Бюргольский лес — штаб-квартирой таинственному господину Жаку[379], которому рок судил умереть загадочной смертью в подземельях Жевардейля; был там также лес Шарро, где Пимусс и Пти-Прэнс во время стычки с гарнизоном Шатонефа хватали в охапку гренадеров и утаскивали их в плен; лес Эрэзри — свидетель поражения гарнизона Лонг-Фэ; Онский лес — весьма удобный для наблюдения за дорогой из Ренна в Лаваль; Гравельский лес, который принц де ла Тремуйль некогда получил в собственность после удачной партии в мяч; Лоржский лес, расположенный в департаменте Кот-де-Нор, где после Бернара де Вильнев[380] хозяйничал Шарль де Буагарди[381]; Баньярский лес близ Фонтенэ, где Лескюр напал на Шальбоса[382] и тот принял бой, хотя враг превосходил его численностью в пять раз; лес Дюронде, который некогда оспаривали друг у друга Алэн де Редрю и Эрипу, сын Карла Лысого; лес Кроклу, к самой опушке которого подходили ланды, где Кокро[383] приканчивал пленных; лес Круа-Батайль, под сенью которого Серебряная Нога изрыгал подлинно гомеровскую хулу на голову Морьера, а Морьер отвечал тем же Серебряной Ноге; Содрейский лес, чащи которого, как мы уже видели, обшаривал один из парижских батальонов. И еще много других.
В большинстве этих лесов и рощ имелись не только подземные жилища, расположенные вокруг пещеры вождя; были там и настоящие поселения с низенькими хибарками, укрытыми древесной листвой, и подчас их насчитывалось такое множество, что они заполняли все уголки леса. Часто их местоположение выдавал только дым. Два таких лесных поселка в Мидонском лесу завоевали громкую славу: один — Лоррьер близ Летана, и близ Сент-Уэнле-Туа — десяток хижин, известных под названием Рю-де-Бо.
Женщины жили в хижинах, мужчины — под землей, в склепах. Для военных целей они пользовались «гротами фей» и древними ходами, вырытыми еще кельтами. Жены и дочери носили пищу ушедшим под землю мужьям и отцам. А бывало и так: забудут о человеке — и он погибает в своем убежище с голоду. Впрочем, такая участь постигала лишь тех, кто по неловкости не мог поднять крышку, закрывавшую выходной колодец. Обычно крышку подземного тайника маскировали мхом и ветвями, и так искусно, что ее почти невозможно было обнаружить среди густой травы, но зато очень легко было открывать и закрывать изнутри. Тайники эти рыли с большими предосторожностями, вынутую землю потихоньку уносили и бросали в соседний пруд. Стенки и пол подземелья устилали мхом и папоротником. Именовалось такое подземное убежище «конуркой». Жить там было можно, если можно жить без света, без огня, без хлеба и свежего воздуха.
Было неосторожно не вовремя выглянуть на свет божий, покинуть подземное жилье в недобрый час. Того гляди, неожиданно очутишься под ногами марширующего республиканского отряда. Грозные леса: что ни лес — двойной капкан. Синие не решались войти в лес, белые не решались выйти из леса.
IV ИХ ЖИЗНЬ ПОД ЗЕМЛЕЙ
Люди, забившиеся в звериные норы, томились от скуки. Иной раз ночью, махнув рукой на все опасности, они вылезали наружу и отправлялись в близлежащие ланды поплясать немного. Иные молились, надеясь скоротать долгие часы. «С утра до ночи, — вспоминает Бурдуазо, — Жан Шуан заставлял нас перебирать четки».
Немалых трудов стоило удержать под землей жителей Нижнего Мэна, когда в их краю наступал праздник Жатвы. Некоторым приходили в голову самые невероятные фантазии. Так Дени, иначе Пробей-Гора, переодевшись в женское платье, пробирался в Лаваль посмотреть спектакль, потом снова заползал в свою «конурку».
В один прекрасный день они уходили на смертный бой, сменив мрак звериной норы на мрак могилы.
Иногда, приподняв крышку тайника, они жадно прислушивались, не началась ли «схватка», настороженно следили за ходом сражения. Республиканцы стреляли равномерно, залп за залпом, роялисты вели беспорядочный огонь, и это помогало разбираться в боевой обстановке. Если повзводная стрельба вдруг прекращалась — значит, роялистов одолели, если одиночные выстрелы еще долго слышались вдали — значит, побеждали белые. Белые всякий раз преследовали неприятеля, а синие — никогда, так как Вандея была против них.
Подземное воинство прекрасно знало, что творится на поверхности земли. Со сказочной быстротой распространялись по лесу вести сказочно-таинственными путями. Вандейцы разрушили все мосты, сняли колеса со всех повозок и телег, и тем не менее находили способ передавать друг другу необходимые сведения и осведомлять друг друга обо всем, что происходило окрест. Сеть дозорных постов, расставленных повсюду, передавала сведения из леса в лес, из деревни в деревню, от мызы к мызе, от хижины к хижине, от куста к кусту.
Какой-нибудь безобидный мужлан, глуповато улыбаясь, брел по дороге, но в выдолбленной палке он нес депешу.
Бывший член Учредительного собрания Боэтиду[384] снабжал мятежников республиканскими пропусками нового образца, позволявшими беспрепятственно передвигаться из одного конца Бретани в другой. На таком пропуске оставалось лишь поставить свое имя, а изменник выкрал их не одну сотню. И невозможно было никого изловить. «Тайны, в которые были посвящены более четырехсот тысяч человек, хранились свято», — пишет Пюизэ[385].
Казалось, что этот огромный четырехугольник, образованный на юге линией Сабль — Туар, на востоке линией Туар — Сомюр, а также рекой Туэ, на севере — водами Луары и на западе — берегом океана, наделен единой нервной системой, и толчок в любой его точке сотрясал одновременно весь организм. В мгновение ока новость из Нуармутье долетала до Люсона, и в лагере Луэ знали в подробностях то, что делается в лагере Круа-Морино. Словно птицы помогали переносить вести. Седьмого мессидора III года Гош писал: «Можно подумать, что у них есть телеграф».
В этом крае были свои кланы, подобные шотландским кланам. Каждый приход имел своего военачальника. В этой войне участвовал мой родной отец, и я вправе говорить о ней.
V ИХ ЖИЗНЬ НА ВОЙНЕ
Многие из них были вооружены только пиками. Однако имелись в изобилии и добрые охотничьи карабины. Браконьеры Бокажа и контрабандисты Лору — непревзойденные стрелки. Странное это было воинство — наводящее ужас и отважное. Когда прошел слух о наборе по декрету трехсоттысячного ополчения, во всех приходах Вандеи забили в набат, всполошив шестьсот деревень. Пожар мятежа запылал со всех концов сразу. Пуату и Анжу выступили в один и тот же день. Добавим, что первые раскаты грозы послышались в ландах Кербадер еще 8 июля 1792 года, за месяц до 10 августа. Предшественником Ларошжакелена и Жана Шуана был ныне забытый Алэн Ределер[386]. Под страхом смертной казни роялисты забирали в свои отряды всех мужчин, способных носить оружие, реквизировали лошадей, повозки, съестные припасы. В мгновение ока Сапино[387] сформировал отряд в три тысячи солдат, Кателино набрал десять тысяч человек, Стоффле — двадцать тысяч, а Шаретт стал хозяином Нуармутье. Виконт де Сепо[388] поднял мятеж в Верхнем Анжу, шевалье де Дьези — в Антр-Вилэн-э-Луар, Тристан Отшельник[389] — в Нижнем Мэне, цирюльник Гастон — в городе Геменэ, а аббат Бернье[390] — по всему остальному краю. Впрочем, расшевелить эту массу не составляло особого труда. В дарохранительницу какого-нибудь присягнувшего Республике священника, по местному выражению «попа-клятвенника», сажали черного кота, который внезапно выскакивал в самый разгар обедни. «Дьявол! Дьявол!» — кричали крестьяне, и вся округа подымалась как один человек. В исповедальнях тлело пламя мятежа. Бретонское воинство было вооружено палками длиной в пятнадцать футов, так называемыми жердинами, и это орудие, равно пригодное в бою и при отступлении, служило для неожиданных атак на синих и помогало в головоломных прыжках через овраги. В разгар самых жарких схваток, когда бретонские крестьяне с ожесточением рвались на республиканские каре, стоило им заметить поблизости часовенку или распятие, как они тут же, на поле боя, преклоняли колена и под свист картечи читали молитву; закончив молиться, оставшиеся в живых вскакивали на ноги и устремлялись на врага. Какие гиганты… увы! Они славились уменьем заряжать на ходу ружья. Их можно было уверить в чем угодно; священники показывали им своего собрата по ремеслу, которому предварительно веревкой стягивали докрасна шею, и объявляли собравшимся: «Смотрите, вот он воскрес после гильотины!» Им не был чужд дух рыцарства: так, они с воинскими почестями похоронили Феска, республиканского знаменосца, который был изрублен саблями, но не выпустил из рук полкового стяга. Они были остры на язык, про республиканских священников, вступивших в брак, они язвительно говорили: «Сначала на сан наплюет, а потом, глядишь, санкюлот». Поначалу они боялись пушек, а потом бросались на орудия с палками и захватывали их. Так они забрали великолепную бронзовую пушку и назвали ее «Миссионер»; вслед за «Миссионером» захватили старинное орудие, помнившее еще религиозные войны, — на нем были отлиты герб Ришелье и лик девы Марии; эту пушку они прозвали «Мари-Жанна». Когда их выбили из Фонтенэ, они потеряли и «Мари-Жанну», при защите которой, не дрогнув, полегли шестьсот крестьян. Потом они снова захватили Фонтенэ, именно с целью отбить свою «Мари-Жанну», и торжественно провезли ее по селениям, покрыв знаменами с королевскими лилиями и цветочными гирляндами, причем заставляли всех встречных женщин лобызать пушку. Но двух пушек было маловато. «Мари-Жанну» взял себе Стоффле; тогда снедаемый завистью Катлино выступил из Пэн-ан-Манж, атаковал Жаллэ и захватил третье орудие; Форэ[391] атаковал Сен-Флоран и взял четвертое. Два других вожака, Шуп[392] и Сен-Поль, поступили проще: дубовые бревна обрядили под стволы пушек, понаделали чучел, долженствующих изображать орудийную прислугу, и с этой-то артиллерией, над которой весело потешались сами, обратили в бегство синих под Марейлем. То была их лучшая пора. Позднее, когда Шальбо разбил наголову Ламарсоньера, крестьянские батальоны позорно бежали, оставив на поле боя тридцать два английских орудия. В те времена Англия выплачивала французским принцам субсидию и посылала «определенное содержание его высочеству, — как писал 10 мая 1794 года некий Нансиа[393], — ибо господина Питта уверили, что этого требуют приличия». Мелине[394] в донесении от 31 марта сообщает: «Мятежники идут в бой с криками: „Да здравствуют англичане!“» Крестьяне задерживались там, где могли пограбить. Святоши превратились в воров. И дикарь не без порока. Играя именно на этой его слабой струнке, его приобщают к цивилизации. Пюизэ пишет во II томе на странице 187: «Я несколько раз спасал Плелан от грабежа». И дальше на странице 434 он объясняет, почему обошел стороной Монфор: «Я нарочно пошел в обход, чтобы не допустить разграбления якобинских жилищ». Мятежники обобрали Шолле; они обчистили Шаллан. Так как им не удалось поживиться в Гранвиле, они обрушились на Виль-Дье. Крестьян, примкнувших к синим, они обзывали «якобинским отребьем» и уничтожали их в первую очередь. Они любили бой, как солдаты, и любили убийство, как разбойники. Они с удовольствием расстреливали буржуа, этих, по их выражению, «брюхачей»; «разговелись мы», — говорили они в таких случаях. В Фонтенэ один из священников, кюре Барботэн, зарубил саблей старика. В Сен-Жермен-сюр-Илль[395] какой-то вандейский командир, дворянин по происхождению, застрелил из ружья прокурора Коммуны и взял себе его часы. В Машкуле республиканцев уничтожали систематически по тридцати человек в день — избиение длилось целых пять недель; каждая партия из тридцати человек называлась «четками». Обреченных цепью ставили у края вырытой могилы — спиной к яме — и расстреливали; нередко республиканцы падали в яму еще живыми, но их засыпали землей. Впрочем, мы сами еще недавно наблюдали подобные нравы. Жуберу, главе округа, отпилили кисти обеих рук. На синих, попавших в плен, надевали наручники, впивавшиеся в тело и выкованные специально для такой цели. Убивали республиканцев на площади при всем народе под звуки охотничьих рогов. Шаретт, который подписывался: «Братство; Кавалер Шаретт» — и повязывал голову, наподобие Марата, носовым платком, делая узел спереди, над самыми бровями, сжег город Порник со всеми жителями, заперев их в домах. Правда, и Каррье не миновал вандейцев. На террор отвечали террором. Бретонский мятежник обликом своим напоминал греческого повстанца: короткая куртка, ружье на перевязи, гетры, широкие штаны; бретонский «молодец» походил на клефта. Анри де Ларошжакелен, имея от роду двадцать один год, отправился на войну с палкой в руке и парой пистолетов за поясом. Вандейская армия насчитывала сто пятьдесят четыре дивизии. Они проводили регулярные осады городов, в течение трех дней они держали в осаде Брессюир. Девять тысяч крестьян в страстную пятницу бомбардировали город Сабль раскаленными ядрами. Как-то раз они ухитрились за один день разгромить четырнадцать республиканских лагерей между Монтинье и Курбвейлем. В Тюаре можно было слышать следующий блистательный диалог между Ларошжакеленом и каким-то крестьянским парнем — оба стояли под стенами города: «Шарль!» — «Здесь». — «Подставь плечи, я попробую взобраться». — «Подставил». — «Дай твое ружье». — «Дал». И Ларошжакелен взобрался на стену, спрыгнул вниз, и мятежники овладели без помощи осадных лестниц башнями, которые безуспешно осаждал сам Дюгесклен[396]. Пуля им была дороже червонца. Они плакали горючими слезами, когда вдали скрывалась колокольня родного села. Бегство от неприятеля считалось самым обыденным делом; в таких случаях вожак командовал: «Башмаки долой, ружья не бросать!» Когда не хватало зарядов, они, прочитав молитву, отправлялись добывать порох из запасов республиканских армий; позднее д’Эльбе обращался за порохом и пулями к англичанам. Когда синие наседали, вандейцы перетаскивали своих раненых в высокую рожь или в заросли папоротника и по окончании схватки уносили с собой. Военной формы у них не имелось. Одежда постепенно приходила в ветхость. Мужики и дворяне носили первое попавшееся тряпье: так, Роже Мулинье[397] щеголял в тюрбане и доломане, которые он прихватил из театральной костюмерной в городе Флеш; шевалье де Бовилье[398] накидывал на плечи прокурорскую мантию, а поверх шерстяного колпака надевал дамскую шляпку. Зато каждый носил белую перевязь и белый пояс; чины различались по цвету бантов; Стоффле ходил с красным бантом, Ларошжакелен — с черным; Вимпфен[399], наполовину жирондист, впрочем, ни разу не покидавший пределов Нормандии, разгуливал с нарукавной повязкой. В рядах вандейцев были и женщины — например, госпожа де Лескюр, позже ставшая госпожой де Ларошжакелен; Тереза де Мольен, любовница де Ларуари, которая сожгла список главарей приходов; юная красавица, госпожа де Ларошфуко, которая, выхватив из ножен саблю, вместе с крестьянами пошла на штурм башни замка Пюи-Руссо, и, наконец, знаменитая Антуанетта Адамс, прозванная Кавалер Адамс, столь прославившаяся своей отвагой, что, когда она попалась в руки синим, ее расстреляли, из уважения к ее воинской доблести, стоя. Эти легендарные времена не знали снисхождения. Иные люди становились бесноватыми. Та же госпожа Лескюр нарочно пускала в галоп своего коня по телам республиканцев, павших в бою, по мертвецам, — утверждает она; возможно, и по раненым, — скажем мы. Мужчины, случалось, изменяли общему делу, женщины — никогда. Мадемуазель Флери из Французского театра перешла от Ларуари к Марату, но перешла послушная велению сердца. Военачальники иной раз были такими же грамотеями, как и их солдаты, — например, господин Сапино, не особенно ладивший с орфографией, писал: «На нашей староне имеитца…» Вандейские вожаки ненавидели друг друга; орудовавшие в болотистых низинах орали: «Долой разбойников из горных мест!» Кавалерия у вандейцев была малочисленная, да и сформировать ее стоило немалого труда; Пюизэ пишет: «Крестьянин с легкой душой отдает мне двух сыновей, но, попроси я у него лошаденку, он сразу насторожится». Вилы, косы, старые и новые ружья, браконьерские ножи, вертела, дубинки обыкновенные и дубинки с шипом на конце — вот их вооружение; кое-кто носил крест, сделанный из двух перекрещенных человеческих костей. На врага они бросались с громкими криками, возникали сразу отовсюду: выбегали из чащи леса, из-за холма, из-за кучи хвороста, из-за дорожного откоса, рассыпались полукругом, убивали, истребляли, разили и исчезали. Проходя через республиканский город, они срубали дерево Свободы, сжигали его и плясали вокруг костра. У них были повадки ночных хищников. Правила вандейца — нападать внезапно. Они проделывали по пятнадцать лье без малейшего шума, даже не примяв на пути травинки. Вечером предводители, сойдясь на военный совет, определяли место завтрашнего нападения на республиканские посты; вандейцы тут же заряжали карабины; потом, пробормотав молитву, снимали деревянные сабо и длинной вереницей шли через лес, шагая босыми ногами по вереску и мху: ни звука, ни слова, ни вздоха. Так в темноте осторожно крадется кошка.
VI ДУША ЗЕМЛИ ВСЕЛЯЕТСЯ В ЧЕЛОВЕКА
Мятежная Вандея насчитывала, по самому скромному счету, пятьсот тысяч человек — мужчин, женщин и детей. Полмиллиона бойцов — такую цифру называет Тюффен де Ларуари.
Федералисты[400] помогали ей; сообщницей Вандеи была Жиронда. Ла Лозер[401] направил в Бокаж тридцать тысяч человек. Для совместных действий объединились восемь департаментов — пять в Бретани и три в Нормандии. Город Эвре, побратавшийся с Каном, был представлен в лагере мятежником Шомоном — своим мэром, и Гардемба — своим нотаблем. Бюзо, Горса[402] и Барбару — в Кане, Бриссо — в Мулене, Шассан — в Лионе, Рабо Сент-Этьен — в Ниме, Мейян[403] и Дюшатель[404] — в Бретани, — все они дружно раздували пламя мятежа.
Было две Вандеи: большая Вандея, которая вела лесную войну, и Вандея малая, которая воевала по кустарникам; именно этот оттенок и отличает Шаретта от Жана Шуана. Малая Вандея действовала в простоте душевной, большая прогнила насквозь; малая все же была лучше. Шаретт получил титул маркиза, чин генерал-лейтенанта королевских войск и большой крест Святого Людовика, а Жан Шуан как был, так и остался Жаном Шуаном. Шаретт сродни бандиту, Жан Шуан — рыцарю.
А такие вожаки, как Боншан, Лескюр, Ларошжакелен — люди большой души, — просто-напросто заблуждались. Создание «великой католической армии» было безрассудной растратой сил; она была обречена на гибель. Можно ли представить себе крестьянский шквал обрушившимся на Париж, коалицию деревенщины, осаждающую Пантеон, гнусавый хор рождественских псалмов и тропарей, заглушающий звуки «Марсельезы», орду деревянных башмаков, двинувшуюся на гвардию духа? Под Мансом и Савенэ это безумие получило по заслугам. Вандея запнулась о Луару. Она могла все, но не могла перешагнуть через эту преграду. В гражданской войне завоевания опасны. Переход через Рейн довершает славу Цезаря и множит триумфы Наполеона, переход через Луару убивает Ларошжакелена.
Истинная Вандея — это Вандея в пределах своего дома; здесь она неуязвима, более того — неуловима. Вандеец у себя в Вандее — контрабандист, землепашец, солдат, погонщик волов, пастух, браконьер, франтирер, гуртоправ, звонарь, крестьянин, шпион, убийца, пономарь, лесной зверь…
Ларошжакелен только Ахилл, Жан Шуан — Протей.
Вандея потерпела неудачу. Многие восстания увенчались успехом, примером тому может служить Швейцария. Но между мятежником-горцем, каким являлся швейцарец, и лесным мятежником-вандейцем есть существенная разница: подчиняясь роковому воздействию природной среды, первый борется за идеалы, второй — за предрассудки. Один парит, другой ползает. Один сражается за всех людей, другой — за свое безлюдье: один ищет свободы, другой — одиночества; один защищает человеческую общину, другой — свой приход. «Общины! Общины!» — кричали герои битвы при Мора. Один привык к безднам, другой — к рытвинам. Один — дитя горных пенящихся потоков, другой — стоячих болот, откуда выползает лихорадка; у одного над головой лазурь, у другого — сплетение ветвей; один царит на вершинах, другой хоронится в тени.
А вершина и низина по-разному воспитывают человека. Гора — это цитадель, лес — это засада; гора вдохновляет на отважные подвиги, лес — на коварные поступки. Недаром древние греки поселили своих богов на вершины гор, а сатиров в лесную чащу. Сатир — это дикарь, получеловек, полузверь. В свободных странах есть Апеннины, Альпы, Пиренеи, Олимп. Парнас — это гора. Гора Монблан была гигантским соратником Вильгельма Телля[405]; в поэмах Индии, пронизанных духом победоносной борьбы разума с темными силами, сквозь это борение проступает силуэт Гималаев. Символ Греции, Испании, Италии, Гельвеции — гора; символ Киммерии, Германии или Бретани — лес. А лес — он варвар.
Характер местности подсказывает человеку многие его поступки. Природа чаще, чем полагают, бывает соучастницей наших деяний. Вглядываясь в хмурый пейзаж, хочется порой оправдать человека и обвинить природу, исподтишка подстрекающую его на дурное; пустыня подчас может оказать пагубное воздействие на человеческую совесть, особенно совесть человека непросвещенного; совесть может быть великаншей, и тогда появляются Сократ[406] и Иисус; она может быть карлицей — тогда появляются Атрей и Иуда. Совесть-карлица легко превращается в пресмыкающееся; не дай ей бог попасть в мрачные дебри, в объятия колючек и терний, в болота, гниющие под навесом ветвей; здесь она открыта всем дурным и таинственным внушениям. Оптический обман, непонятные миражи, нечистое место, зловещий час суток — все это повергает человека в полумистический, полуживотный страх, из которого в мирные дни рождаются суеверия, а в грозную годину — зверская жестокость. Галлюцинации своим факелом освещают путь убийству. В разбое есть что-то хмельное. В чудесных явлениях природы скрыт двойной смысл — она восхищает взор истинно просвещенных людей и ослепляет душу дикаря. Для человека невежественного пустыня населена призраками, ночной мрак усиливает мрак ума, и в душе человека разверзаются бездны. Какая-нибудь скала, какой-нибудь овраг, какая-нибудь лесная поросль, резкая игра света и тени между деревьев — все это может толкнуть на дикий и жестокий поступок. Словно и в самом доле существуют в природе злодейские места.
Сколько трагедий перевидал на своем веку мрачный холм, поднимающийся между Бэньоном и Плеланом!
Широкие горизонты внушают душе человека общие идеи; горизонты ограниченные порождают лишь идеи частные; и порой человек большой души всю жизнь живет в кругу своих узких мыслей, свидетельством тому — Жан Шуан.
Общие идеи ненавистны идеям частным; отсюда — борьба против прогресса.
Родной край и отечество — в этих двух словах заключена вся сущность вандейской войны; вражда идеи местной с идеей всеобщей, крестьянина против патриота.
VII ВАНДЕЯ ПРИКОНЧИЛА БРЕТАНЬ
Бретань — завзятая мятежница. Всякий раз, когда в течение двух тысяч лет она подымалась, правда была на ее стороне; на сей раз она оказалась неправа. И, однако, боролась ли она против революции или против монархии, против делегатов Конвента или против своих хозяев — герцогов и пэров, против выпуска ассигнатов или против соляного налога, бралась ли она за оружие под водительством Никола Рапэна[407], Франсуа де Лану[408], капитана Плювио или госпожи де ла Гарнаш, Стоффле, Кокеро или Лешанделье де Пьервиль, шла ли она за Роганом против короля или с Ларошжакеленом за короля, — Бретань всегда вела одну и ту же войну, противопоставляла себя центральной власти.
Старинные бретонские провинции подобны пруду: стоячие воды не желали течь; дыхание ветра не освежало их, а лишь будоражило. Для бретонцев Финистером кончалась Франция, им замыкался мир, отведенный человеку, тут прекращался шаг поколений. «Стой!» — кричал океан земле, а варварство — цивилизации. Каждый раз, как из центра, из Парижа, шел толчок, — исходил ли он от монархии или от республики, был ли он на руку деспотизму или свободе, — все равно это оказывалось новшеством, и вся Бретань злобно ощеривалась. Оставьте нас в покое! Что вам от нас нужно? И жители равнины брались за вилы, а жители Бокажа — за карабин. Все наши начинания, наши первые шаги в законодательстве и просвещении, наши энциклопедии, наши философы, наши гении, наша слава разлетались в прах, натолкнувшись у подступов к Бретани на Гуру; набат в Базуже возвещает угрозу французской революции; пустошь Фау подымается против наших шумливых площадей, а колокол в О-де-Пре объявляет войну башням Лувра.
Трагическая глухота.
Вандейский мятеж был зловещим недоразумением.
Стычка колоссов, свара титанов, неслыханный по своим масштабам мятеж, которому было суждено оставить в истории лишь одно имя — Вандея, знаменитое, но черное имя; Вандея, кончавшая самоубийством ради того, что уже кончилось, приносившая себя в жертву ради эгоистов, отдававшая свою беззаветную отвагу ради трусов, не имевшая ни стратегии, ни тактики, ни плана, ни цели, ни вождя, ни ответственности; показавшая, в какой мере воля может стать бессилием; рыцарственная и дикая, нелепая в своем разнузданном зверстве, воздвигавшая против света преграду тьмы; невежество, целые годы оказывающее бессмысленное и спесивое сопротивление истине, справедливости, праву, разуму, свободе; пугало, страшившее страну целых восемь лет; опустошение четырнадцати провинций; вытоптанные нивы, сожженные села, разрушенные, разграбленные города и жилища, убийство женщин и детей; горящий факел в соломе; меч, вонзенный в сердце, угроза цивилизации, надежда господина Питта — вот какова была эта война, эта бессознательная попытка отцеубийства.
В итоге Вандея послужила делу прогресса, доказав, что необходимо рассеять древний бретонский мрак, пронизать эти джунгли всеми стрелами света. Катастрофы на свой зловещий лад ставят все на свое место.
Книга вторая ТРОЕ ДЕТЕЙ
I PLUS QUAM CIVILIA BELLA[409]
Лето 1792 года выдалось на редкость дождливое, а лето 1793 года — на редкость жаркое. Гражданская война в Бретани уничтожила все существовавшие дороги. Однако люди разъезжали по всему краю, пользуясь прекрасной погодой. Сухая земля — сама по себе прекрасная дорога.
К концу ясного июльского дня, приблизительно через час после захода солнца, какой-то человек, ехавший из Авранша, подскакал к маленькой харчевне под названием «Круа-Браншар», что стояла у входа в Понторсон, и осадил коня перед вывеской, какие еще совсем недавно можно было видеть в тех местах: «Потчуем холодным сидром прямо из бочонка». Весь день стояла жара, но к ночи поднялся ветер.
Путешественник был закутан в широкий плащ, покрывавший своими складками круп лошади. На голове его красовалась широкополая шляпа с трехцветной кокардой, что свидетельствовало об отваге путника, ибо в этом краю, где каждая изгородь стала засадой, трехцветная кокарда служила прекрасной мишенью. Широкий плащ, застегнутый у горла и расходившийся спереди, не стеснял движений и не скрывал трехцветного пояса, из-за которого торчали рукоятки двух пистолетов. Полу плаща сзади приподымала сабля.
Когда всадник осадил коня, дверь харчевни отворилась, и на пороге показался хозяин с фонарем в руке.
Было то неопределенное время дня, когда на дворе еще светло, а в домах уже сгущается тьма.
Хозяин взглянул на трехцветную кокарду.
— Гражданин, — спросил он, — вы у нас остановитесь?
— Нет.
— Куда изволите путь держать?
— В Доль.
— Тогда возвращайтесь лучше обратно в Авранш, а то заночуйте в Понторсоне.
— Почему?
— Потому что в Доле идет сражение.
— Ах, так, — произнес всадник и добавил: — Засыпьте-ка моему коню овса.
Хозяин притащил колоду, высыпал в нее мешок овса и разнуздал лошадь; та, шумно фыркнув, принялась за еду.
Разговор между тем продолжался:
— Гражданин, конь у вас реквизированный?
— Нет.
— Значит, ваш собственный?
— Да, мой. Я его купил и заплатил наличными.
— А сами откуда будете?
— Из Парижа.
— Конечно, не прямо из Парижа?
— Нет.
— Так я и знал — все дороги перекрыты. А вот почта пока ходит исправно.
— Только до Алансона. Поэтому я из Алансона еду верхом.
— Скоро по всей Франции почта не будет ходить. Лошади перевелись. Коню красная цена триста франков, а за него просят шестьсот, к овсу лучше и не подступайся. Сам почтовых лошадей держал, а теперь, видите, держу харчевню. Нас, начальников почты, было тысяча триста тринадцать человек, да двести уже подали в отставку. А с вас, гражданин, по новому тарифу брали?
— С первого мая берут по новому.
— Значит, платили по двадцать су с мили за место в карете, двенадцать су — за место в кабриолете и пять су за место в повозке. Лошадку-то в Алансоне приобрели?
— Да.
— Целый день нынче ехали?
— Да, с самого рассвета.
— А вчера?
— И вчера и позавчера так же.
— Сразу видно. Вы через Донфорон и Мортэн ехали?
— И через Авранш.
— Послушайте меня, гражданин, остановитесь у нас, отдохните. И вы устали, и лошадка притомилась.
— Лошадь имеет право уставать, человек — нет.
При этих словах хозяин взглянул на приезжего и увидел строгое, суровое, спокойное лицо в рамке седых волос. Оглянувшись на пустынную дорогу, он спросил;
— Так одни и путешествуете?
— Нет, с охраной.
— Какая же охрана?
— Сабля и пистолеты.
Трактирщик притащил ведро воды и поднес лошади; пока лошадь пила, он не спускал глаз с приезжего и думал: «Хоть десяток сабель прицепи, все равно попа узнаешь».
— Так вы говорите, что в Доле сражаются? — начал приезжий.
— Да. Должно быть, сейчас там битва в самом разгаре.
— А кто же сражается?
— Бывший с бывшим.
— Как вы сказали?
— Говорю, что один бывший перешел на сторону республиканцев и сражается против другого бывшего, — тот как был, так и остался за короля.
— Но короля уже нет.
— А малолетний? И самое смешное: оба эти бывшие — родня между собой.
Путник внимательно слушал слова хозяина.
А тот продолжал:
— Один — молодой, а другой — старик. Внучатный племянник поднял руку на своего двоюродного деда. Дед — роялист, а внук — патриот. Дед командует белыми, а внук — синими. Ну, от этих пощады не жди. Оба ведут войну не на живот, а на смерть.
— На смерть?
— Да, гражданин, на смерть. Вот полюбуйтесь, какими они обмениваются любезностями. Прочтите-ка объявление, — старик ухитрился такие объявления развесить повсюду, на всех домах, во всех деревнях, даже мне на дверь нацепили.
Он приблизил фонарь к квадратному куску бумаги, приклеенному к створке входной двери, и путник, пригнувшись с седла, разобрал написанный крупными литерами текст:
«Маркиз де Лантенак имеет честь известить своего внучатного племянника виконта де Говэна, что, ежели маркизу по счастливой случайности попадется в руки вышеупомянутый виконт, маркиз с превеликим удовольствием его умертвит».
— А вот поглядите и ответ, — добавил хозяин.
Он повернулся и осветил другое объявление, приклеенное к противоположной створке двери. Всадник прочел:
«Говэн предупреждает Лантенака, что, если этот последний попадется в плен, он будет расстрелян».
— Вчера, — пояснил хозяин, — старик повесил объявление, а сегодня, глядите, и внук за ним. Недолго ответа ждал.
Путешественник вполголоса, словно говоря с самим собой, произнес несколько слов, которые хозяин хоть и расслышал, но не понял.
— Да, это уже больше чем междоусобная война — это война семейная. Что ж, пусть так, это к лучшему. Великое обновление народов покупается лишь такой ценой.
И, не отрывая глаз от второго объявления, всадник поднес руку к шляпе и почтительно отдал честь клочку бумаги.
Хозяин тем временем продолжал:
— Сами видите, гражданин, что получается. Города и крупные селения — за революцию, а деревни — против; иначе сказать, города — французские, а деревни — бретонские. Значит, войну ведут горожанин с крестьянином. Нас они зовут «брюханами», ну, а мы их величаем «сиволапыми». А дворяне и попы все на их стороне.
— Ну, положим, не все, — заметил путник.
— Конечно, гражданин, не все, раз виконт против маркиза пошел.
И добавил про себя:
«Да и сам ты, гражданин, видать, поп».
— А кто из них двоих одерживает верх?
— Пока что виконт. Но ему трудно приходится. Старик упорный. Оба они из рода Говэнов — здешние дворяне. Их род разделился на две ветви: у старшей ветви глава маркиз де Лантенак, ну, а глава младшей — виконт де Говэн. А нынче обе ветви сшиблись. У деревьев такого не бывает, а вот у людей случается. Маркиз де Лантенак — глава всей Бретани. Мужики его иначе как принцем не называют. Только он высадился, к нему сразу пришло восемь тысяч человек; за одну неделю поднялись триста приходов. Если бы ему удалось захватить хоть полоску побережья, англичане сразу бы высадились. К счастью, здесь оказался Говэн, его внук. Чудеса, да и только! Он командует республиканскими войсками и уже образумил деда. Потом случилось так, что Лантенак сразу же по приезде приказал уничтожить всех пленных, среди них попались две женщины, а у одной было трое ребятишек, которых решил усыновить парижский батальон. Теперь этот батальон спуску белым не дает. Зовется он «Красный колпак». Парижан, правда, в нем осталось немного, зато каждый дерется за пятерых. Вот они все и влились в отряд Говэна. Белых так и метут. Хотят отомстить за тех женщин и отобрать ребятишек. Что с маленькими сталось, куда их старик запрятал — никто не знает. Поэтому-то парижские гренадеры совсем разъярились. Не случись здесь этих ребятишек, может быть, и война по-другому повернулась бы. А виконт — славный и храбрый молодой человек. Зато старик маркиз — сущий зверь. Крестьяне говорят, что это, мол, Михаил-архангел сражается с Вельзевулом. Вы, может быть, не слыхали, Михаил-архангел — здешний покровитель. Даже одна гора его именем называется, та, что посреди залива. Здешние жители верят, что архангел Михаил укокошил дьявола и похоронил его под другой горой, и зовется та гора Томбелен.
— Да, — пробормотал путник, — tumba Belini, могила Беленуса, Белюса, Бела, Белиала, Вельзевула.
— Вы, как я погляжу, человек сведущий.
И хозяин снова шепнул про себя:
«Ну, понятно, священник, — вон как по-латыни говорит!»
А вслух он сказал:
— Так вот, гражданин, по крестьянскому представлению выходит, что снова началась старая война. Если их послушать, то получается, что Михаил-архангел — это генерал-роялист, а Вельзевул — это республиканский командир. Но уж если есть на свете дьявол, так это наверняка Лантенак, а если имеются божьи ангелы — так это как раз Говэн. Перекусить, гражданин, не желаете?
— Нет, у меня с собою фляга с вином и краюха хлеба. А вы мне так и не сказали, что делается в Доле.
— Сейчас расскажу. Говэн командует береговым экспедиционным отрядом. А Лантенак решил поднять Нижнюю Бретань и Нижнюю Нормандию, открыть двери Питту и усилить вандейскую армию — влить в нее двадцать тысяч англичан и двести тысяч крестьян. А Говэн взял и разрушил этот план. Он держит в своих руках все побережье, теснит Лантенака в глубь страны, а англичан — к морю. Еще недавно здесь был Лантенак, но Говэн его отогнал, отобрал у него Понт-о-Бо, выбил его из Авранша, выбил его из Вильдье, преградил ему путь на Гранвиль. А теперь предпринял новый маневр, чтобы загнать Лантенака в Фужерский лес и там окружить. Все шло хорошо. Вчера еще здесь был Говэн со своим отрядом. Вдруг тревога. Старик — стреляный воробей, взял да и пошел в обход, говорят, пошел на Доль. Если он овладеет Долем да установит на Мон-Доль хоть одну батарею, — а пушки у него есть, — значит, здесь, на нашем участке побережья, смогут высадиться англичане, и тогда пиши пропало. Вот поэтому-то и нельзя было мешкать. Говэн, упрямая голова, не спросил ни у кого совета, никаких распоряжений не стал ждать, скомандовал: «По коням!» — велел двинуть артиллерию, собрал свое войско, выхватил саблю и двинулся в путь. Лантенак бросился на Доль, а Говэн на Лантенака. Вот в этом самом Доле и сшибутся два бретонских лба. Сильный получится удар! Теперь они уже в Доле.
— А сколько отсюда до Доля?
— Отряд с повозками часа за три доберется. Но они уже дошли.
Всадник прислушался и сказал:
— И в самом деле, будто слышна канонада.
Хозяин прислушался тоже.
— Верно, гражданин. И из ружей тоже палят. Слышите, словно полотно рвут. Заночуйте-ка здесь. Сейчас туда незачем спешить.
— Нет, я не могу задерживаться. Мне пора.
— Напрасно, гражданин. Конечно, я ваших дел не знаю, да уж очень велик риск, если, конечно, речь не идет о самом дорогом для вас на свете…
— Именно об этом и идет речь, — ответил всадник.
— Ну, скажем, о вашем сыне…
— Почти о сыне, — сказал всадник.
Хозяин, задрав голову, посмотрел на него и прошептал про себя:
«Вот поди ж ты, а я-то считал, что он поп».
Но, подумав, решил:
«Что ж, и у попов бывают дети».
— Взнуздайте моего коня, — сказал путник. — Сколько я вам должен?
И он расплатился.
Хозяин оттащил колоду и ведро к стене и подошел к всаднику.
— Раз уж вы решили ехать, послушайтесь моего совета. Вы в Сен-Мало направляетесь? Ну так незачем вам забираться в Доль. Туда есть два пути — один прямо на Доль, другой по берегу моря. Что тут ехать, что там — разница невелика. Берегом моря дорога идет на Сен-Жорж-де-Бреэнь, на Шерье и на Гирель-ле-Вивье. Значит, Доль останется у вас с юга, а Канкаль с севера. В конце нашей улицы, гражданин, будет перекресток: левая дорога пойдет в Доль, а правая — в Сен-Жорж. Послушайте меня, зачем вам в Доль ездить, попадете в самую бойню. Поэтому налево не сворачивайте, а берите направо.
— Спасибо, — сказал путник.
И он дал шпоры коню.
Стало уже совсем темно, всадник мгновенно исчез во мраке.
Трактирщик сразу же потерял его из виду.
Когда всадник доскакал до перекрестка, до него донесся еле слышный возглас трактирщика:
— Направо берите!
Он взял налево.
II ДОЛЬ
Доль, «испанский город Франции в Бретани», как значится в старинных грамотах, вовсе не город, а улица. По обе ее стороны тянутся ломаной линией дома с деревянными колоннами, и поэтому широкая средневековая улица образует то выступы, то неожиданные повороты. Остальная часть города представляет лабиринт улочек, отходящих от главной улицы или вливающихся в нее, как ручейки в речку. Доль не обнесен крепостной стеной, не имеет крепостных ворот, он открыт со всех четырех сторон и расположен у подножия горы Мон-Доль; город, само собой разумеется, не может выдержать осады; зато осаду может выдержать его главная улица. Выступающие вперед фасады домов — такие можно было видеть еще полвека тому назад — и галереи, образованные колоннами, вполне пригодны для длительного и успешного сопротивления. Что ни здание, то крепость, и неприятелю пришлось бы брать с бою каждый дом. Рынок находился почти в середине городка.
Трактирщик из Круа-Браншар не солгал: пока он беседовал с приезжим, в Доле шел жаркий бой. Между белыми, пришедшими сюда поутру, и подоспевшими к вечеру синими внезапно завязался ночной поединок. Силы были неравны: белых насчитывалось шесть тысяч человек, а синих всего полторы тысячи, зато противники были равны яростью. Достойно упоминания то обстоятельство, что нападение повели именно полторы тысячи человек, атаковав шесть тысяч.
С одной стороны — беспорядочная толпа, с другой — фаланга. С одной стороны — шесть тысяч крестьян, в кожаных куртках с вышитым на груди Иисусовым сердцем, с белыми лентами на круглых шляпах, с евангельскими изречениями на нарукавных повязках и с четками за поясом; у большинства вилы, а меньшинство с саблями или с карабинами без штыков; они волочили за собой на веревках пушки, были плохо обмундированы, плохо дисциплинированы, плохо вооружены, но сущие дьяволы в бою. С другой стороны — полторы тысячи солдат в треуголках, с трехцветной кокардой, в длиннополых мундирах с широкими отворотами, в портупеях, перекрещивающихся на груди. Вооруженные тесаками с медной рукоятью и ружьями с длинным штыком, хорошо обученные, хорошо держащие строй, послушные солдаты и неустрашимые бойцы, строго повинующиеся командиру и при случае сами способные командовать, тоже все добровольцы, но добровольцы, защищающие родину, все в лохмотьях и без сапог; за монархию — мужики-рыцари, за революцию — босоногие герои; и оба отряда, столкнувшиеся в Доле, воодушевляли их командиры: роялистов — старик, а республиканцев — человек в расцвете молодости. С одной стороны Лантенак, а с другой — Говэн.
Два образа героев являла революция: молодые гиганты, какими были Дантон, Сен-Жюст и Робеспьер, и молодые солдаты идеала, подобные Гошу и Марсо. Говэн принадлежал к числу последних.
Говэну исполнилось тридцать лет; торс у него был, как у Геркулеса, взор строгий, как у пророка, а смех, как у ребенка. Он не курил, не пил, не сквернословил. Даже в походах он не расставался с дорожным несессером, заботливо отделывал ногти, каждый день чистил зубы, тщательно расчесывал свои роскошные каштановые кудри и на привале сам вытряхивал свой капитанский мундир, пробитый пулями и побелевший от пыли. Он как одержимый врывался в самую сечу, но ни разу не был ранен. В его голосе, обычно мягком, порой слышались властные раскаты. Он первый подавал пример своим людям, спал прямо на земле, завернувшись в плащ и положив красивую голову на камень, не обращая внимания на ветер, на дождь и снег. Героическая и невинная душа. Взяв саблю в руку, он весь преображался. Наружность у него была немного женственная, что на поле битвы внушает особый ужас.
И вместе с тем мыслитель, философ, молодой мудрец. «Алкивиад», — говорили, увидев его; «Сократ», — говорили, услышав его речи.
В той великой импровизации, которая именуется французской революцией, молодой воин сразу же вырос в полководца.
Он сам сформировал отряд, который, по образцу римского легиона, являлся маленькой армией, имевшей все виды оружия; в отряд входили пехота и кавалерия, а также разведчики, саперы, понтонеры; и подобно тому как римский легион имел свои катапульты, в отряде были свои пушки. Три орудия в конной упряжке усиливали отряд, не сковывая его подвижности.
Лантенак тоже был полководцем, пожалуй, даже еще более грозным. Он превосходил Говэна в обдуманности и дерзости ударов. Убеленные сединами вояки куда хладнокровнее юных героев, ибо для них уже давно угасла утренняя заря, и куда смелее, ибо смерть их уже близка. Что им терять? Ничего или так мало! Поэтому-то действия Лантенака отличались не только дерзостью, но и мудростью. Однако почти всегда в этом упорном единоборстве старости и молодости Говэн одерживал верх. Объяснялось это, пожалуй, больше всего удачей. Все виды человеческого счастья, даже грозное боевое счастье, — удел молодости. Победа — все-таки легкомысленная девица.
Лантенак возненавидел Говэна прежде всего потому, что Говэн побеждал, и потому, что Говэн приходился ему родственником. Как это ему взбрело в голову стать якобинцем? Нет, подумайте только — Говэн стал якобинцем! Сорванец Говэн! Прямой наследник Лантенака, ибо у маркиза детей не было, его внучатный племянник, почти внук! «Ах, — говорил этот любящий дедушка, — попадись он мне в руки, я его убью, как собаку».
Впрочем, Республика совершенно справедливо опасалась Лантенака. Едва только он ступил на французский берег, как все пришло в трепет. Имя его, словно огонь по пороховому шнуру, пробежало по всей Вандее, и он сразу же стал средоточием восстания. В таких мятежах, где столь сильно взаимное соперничество и где каждый укрывается в своих кустах или в своем овраге, человек, посланный «из высших сфер», обычно объединяет разрозненные действия равноправных главарей. Почти все лесные вожаки, и ближние и далекие, присоединились к Лантенаку и признали его главой.
Лишь один человек покинул Лантенака, и как раз тот, кто первым присоединился к нему, — а именно Гавар. Почему? Да потому, что Гавар до сих пор был первым доверенным лицом у вандейцев. Он был в курсе всех их тайных замыслов и признавал старые приемы гражданской войны, которые Лантенак явился отвергнуть и заменить новыми. Доверенное лицо не передается по наследству; башмак де Ларуари явно не пришелся по ноге Лантенаку. Гавар ушел к Боншану.
Лантенак в военном искусстве принадлежал к школе Фридриха II; он старался сочетать большую войну с малой. Он и слышать не желал о том «пестром сброде», которым являлась «великая католическая и роялистская армия» — вернее, толпа, обреченная на гибель; но он не признавал и мелких стычек по чащам и перелескам, способных лишь беспокоить врага, но неспособных его уничтожить. Нерегулярные войны не приводят пи к чему или приводят к худшему: поначалу грозят сразить республику, а кончают грабежом на больших дорогах. Лантенак не признавал ни этой бретонской войны, ни приемов Ларошжакелена, сражавшегося только в открытом поле, ни «лесной войны» Жана Шуана; он не хотел воевать ни по-вандейски, ни по-шуански; он намеревался вести настоящую войну — использовать крестьянина, но подпереть его солдатом. Для стратегии ему требовались банды, а для тактики полки. По его мнению, это мужицкое воинство было незаменимо для внезапных атак, засад и тому подобных сюрпризов, — оно умело мгновенно собрать свои силы и тут же рассыпаться по кустам; но Лантенак понимал, что главная их беда — текучесть, они, словно вода, уходили сквозь пальцы; он стремился создать внутри этой подвижной и рассеянной по всей округе армии прочное ядро; он хотел укрепить эту дикую лесную армию регулярными частями, которые явились бы стержнем операций. Мысль верная и чреватая страшными последствиями; удайся Лантенаку его план, Вандея стала бы непобедимой.
Но где взять эти регулярные войска? Где взять солдат? Где взять полки? Где взять готовую армию? В Англии. Вот почему Лантенак бредил высадкой англичан. Так сторонники той или иной партии теряют совесть: за белой кокардой Лантенак не видел красных мундиров. Лантенак мечтал лишь об одном — овладеть хоть малой полоской берега и расчистить путь Питту. Вот поэтому-то, узнав, что в Доле нет республиканских войск, он бросился туда, ибо, взяв Доль, он овладевал горой Мон-Доль, а взяв гору, овладевал побережьем.
Место было выбрано удачно. Артиллерия, установленная на горе Мон-Доль, снесла бы с лица земли Френуа, лежащий направо, и Сент-Брелад, лежащий налево; держала бы на почтительном расстоянии канкальскую эскадру и очистила бы для английского десанта все побережье от Ра-сюр-Куэнон до Сен-Мелуар-дез-Онд.
Чтобы обеспечить успех этой решающей вылазки, Лантенак повел за собой более шести тысяч человек — все, что было самого надежного в руководимых им бандах, а также всю свою артиллерию — десять шестнадцатифунтовых кулеврин, одну восьмифунтовую пушку и одно полевое четырехфунтовое орудие. Он рассчитывал установить на Мон-Доле сильную батарею, исходя из того, что тысяча выстрелов из десяти орудий оказывает больше действия, нежели полторы тысячи выстрелов из пяти орудий.
Успех казался несомненным. В распоряжении Лантенака имелось шесть тысяч человек. Опасность грозила лишь со стороны Авранша, где стоял Говэн со своим отрядом в полторы тысячи человек, и со стороны Динана, где стоял Лешель. Правда, у Лешеля было двадцать пять тысяч человек, но зато он находился на расстоянии двадцати лье. Поэтому Лантенак ничего не опасался, — пусть у Лешеля больше сил, зато он далеко, а Говэн хоть и близко, но отряд его невелик. Добавим, что Лешель был человек бестолковый и позднее погубил весь свой двадцатипятитысячный отряд, уничтоженный неприятелем в ландах Круа-Батайль, — за это поражение он заплатил самоубийством.
Лантенак, таким образом, был более чем уверен в успехе. Доль он захватил внезапно и без боя. Имя маркиза де Лантенака окружала мрачная слава, окрестные жители знали, что от него нечего ждать пощады. Поэтому никто даже не пытался сопротивляться. Перепуганные горожане попрятались в домах, закрыв ставни и двери. Шесть тысяч вандейцев расположились на бивуаке в чисто деревенском беспорядке, словно пришли на ярмарку; фуражиров не назначили, о расквартировании не позаботились; разместились где попало, варили обед прямо под открытым небом, разбрелись по церквам, сменив ружья на четки. Сам Лантенак, с группой артиллерийских офицеров, спешно направился осматривать гору Мон-Доль, поручив командование Гуж ле Брюану, которого маркиз называл своим полевым адъютантом.
Этот Гуж ле Брюан оставил по себе в истории лишь смутный след. Он был известен под двумя кличками: Синебой — за его расправы над патриотами, или Иманус, ибо во всем его обличье было нечто невыразимо ужасное. Слово «иманус» происходит от древнего нижненормандского «иманис» и означает нечеловеческое, почти божественно-грозное и уродливое существо, нечто вроде демона, сатира, людоеда. В одной старинной рукописи говорится: «D’mes daeux iers j’vis l’imanus»[410]. Сейчас даже старики в Бокаже уже не помнят Гуж ле Бpюана, не понимают значения слова Синебой, но смутно представляют себе Имануса. Образ Имануса вошел в местные легенды и суеверия. В Тремореле и Плюмога еще и в наши дни говорят об Иманусе, так как в этих двух селениях Гуж ле Брюан оставил кровавый отпечаток своей пяты. Вандейцы были дикари, а Гуж ле Брюан был среди них варваром. Он напоминал кацика, весь с ног до головы в татуировке, где переплетались кресты и королевские лилии: на лице его с отвратительными, почти неестественно безобразными чертами запечатлелась душа, мало чем похожая на человеческую душу. В бою он был по-сатанински отважен, а после боя — по-сатанински жесток. Сердце его было вместилищем всех крайностей, оно млело в собачьей преданности и пылало лютой яростью. Размышлял ли он? Да, но ход его мысли был подобен спиральному извиву змеи. Он начинал с героизма, а кончал как убийца. Невозможно было угадать, откуда берутся у него решения, подчас даже величественные в силу своей чудовищности. Он был способен на самые страшные и неожиданные поступки. Он был легендарно свиреп.
Отсюда и это страшное прозвище Иманус.
Маркиз де Лантенак полагался на его жестокость.
И верно, в жестокости Иманус не знал соперников; но в области стратегии и тактики он был куда слабее, и, возможно, маркиз совершил ошибку, назначив его своим помощником. Как бы то ни было, маркиз поручил Иманусу замещать его и вести за лагерем наблюдение.
Гуж ле Брюан, скорее вояка, чем воин, был скорее способен вырезать целое племя, чем охранять город. Все же он расставил кругом сильные посты.
Вечером, когда маркиз де Лантенак, осмотрев предполагаемое местоположение батареи, возвращался в Доль, он вдруг услышал пушечный выстрел. Он огляделся. Над главной улицей поднималось багровое зарево. Случилась беда, нежданное вторжение неприятеля, штурм; в городе шел бой.
И хотя Лантенака трудно было удивить, он остолбенел. Он не мог ожидать ничего подобного. Что это такое? Одно ясно — это не Говэн. Никто не рискнет пойти в атаку, когда на стороне врага такое численное превосходство — четыре против одного. Значит, это Лешель? Но как же он успел подтянуть свои войска? Появление Лешеля невероятно, а появление Говэна — невозможно.
Лантенак дал шпоры коню; навстречу ему тянулись по дороге беглецы из Доля; он обратился с вопросом к одному, другому, но обезумевшие от страха люди вопили только: «Синие! Синие!» И когда Лантенак подскакал к Долю, положение было серьезное.
Вот что произошло.
III МАЛЫЕ АРМИИ И БОЛЬШИЕ БИТВЫ
По прибытии в Доль крестьяне, как мы уже говорили, разбрелись по всему городку, решив воспользоваться досугом сообразно своим наклонностям, что естественно, когда боец, по выражению вандейцев, повинуется начальнику лишь по дружбе. Такое повиновение способно породить героев, но не солдат. Все орудия вместе с войсковым имуществом вандейцы завели под своды старого рынка, а сами, изрядно выпив, сытно поужинав и перебрав на ночь четки, легли спать вповалку на главной улице, перегородив ее грудой своих тел, но караула не выставили. Спускалась ночь, и добрая половина вандейцев сладко храпела, подложив под головы мешок; рядом с некоторыми спали их жены, так как нередко бретонские крестьянки сопровождали мужей в походе; бывало и так, что какая-нибудь беременная крестьянка несла обязанности лазутчицы. Стояла теплая июльская ночь, в густой бездонной синеве неба сверкали созвездия. Весь бивуак спал, напоминая более остановившийся на ночлег караван, чем военный лагерь. Вдруг те, что лежали еще с открытыми глазами, различили в ночном мраке силуэты трех орудий, загородивших верхний конец улицы.
Это был Говэн. Он снял часовых, он вошел в город, и он занял со своим отрядом начало улицы.
Какой-то вандеец вскочил с криком: «Кто идет?» — и выстрелил из ружья; ему ответил пушечный выстрел. Тотчас заговорили ружья. Погруженная в сон орда сразу же поднялась. Жестокая встряска. Заснуть под звездами, а проснуться под картечью.
Первый миг пробуждения был ужасен. Нет зрелища страшнее, чем кишение толпы под пушечными ядрами. Вандейцы схватились за оружие. Люди вопили во всю глотку, куда-то бежали, многие падали. В растерянности иные, не помня себя, стреляли по своим. Из домов выскакивали испуганные горожане, устремлялись обратно, снова выбегали на улицу и, ошалев, сновали в самой гуще свалки. Родители звали детей, мужья искали жен. Зловещий бой, в который втянуты женщины и дети. Пули, летавшие во всех направлениях, со свистом рассекали ночной мрак. Стреляли в темноте из-за каждого угла. Везде дым и сумятица. В беспорядке сбились повозки и фургоны. Перепуганные кони ржали и брыкались. Люди шагали по раненым, и от земли поднимались дикие вопли. Одни метались в страхе, другие оцепенели. Бойцы искали своих командиров, а командиры скликали бойцов. И бок о бок с этим ужасом — угрюмое равнодушие. Возле дома сидела какая-то женщина и кормила грудью младенца, тут же рядом к стене прислонился ее муж; из перебитой ноги текла кровь, а он хладнокровно заряжал свой карабин и посылал куда-то в ночную мглу несущие смерть пули. Вандейцы, забравшись под телегу, палили из-за колес. Временами человеческие крики сливались в протяжный вой. Но все перекрывал рокочущий бас пушек. Страшная картина.
Казалось, здесь валят лес и, подрубленные под корень, падают друг на друга деревья. Отряд Говэна из-за укрытия стрелял наверняка и поэтому понес лишь незначительные потери.
Однако крестьянская рать, отважная даже в минуты растерянности, перешла к обороне; вандейцы стянулись к рынку, просторному мрачному помещению, представлявшему собой целый лес каменных столбов. Очутившись под прикрытием, повстанцы ободрились: все, что хотя бы отдаленно напоминало лес, вселяло в них уверенность. Иманус старался, как умел, заменить отсутствующего Лантенака. У вандейцев были орудия, но, к великому удивлению Говэна, они молчали; объяснялось это тем, что офицеры-артиллеристы отправились вместе с маркизом на рекогносцировку к Мон-Долю, а крестьяне не знали, как подступиться к кулевринам и пушкам; зато они осыпали синих градом пуль в ответ на их пушечные ядра. На картечь крестьяне отвечали ружейной пальбой. Теперь в укрытии оказались вандейцы. Они натаскали отовсюду дроги, повозки, телеги, прикатили со старого рынка все бочки и соорудили высокую баррикаду с бойницами для карабинов. Из этих бойниц они и открыли убийственный огонь. Все было сделано молниеносно. Через четверть часа рынок стал неприступной крепостью.
Положение Говэна осложнилось. Слишком неожиданно превратился мирный рынок в цитадель. Все вандейское воинство прочно засело в ней. Говэн сумел внезапно атаковать, но не сумел разгромить неприятеля. Он спрыгнул с коня и стоял на батарее, освещенный горевшим факелом; скрестив на груди руки, он зорко вглядывался в темноту. В полосе света его высокая фигура была отчетливо видна защитникам баррикады. Но он даже не думал, что служит прекрасной мишенью, не замечал, что пули, летевшие из бойниц, жужжат вокруг него.
Он размышлял. Против вандейских карабинов у него есть пушки. А перевес всегда останется за картечью. У кого орудия, у того победа. Батарея в руках умелых пушкарей обеспечивала превосходство.
Вдруг словно молния вырвалась из темной громады рынка, затем прорычал гром, и ядро пробило фасад дома над головой Говэна.
Пушка с баррикады ответила на пушечный выстрел.
Как же так? Значит, что-то произошло. Артиллерия теперь была у обеих сторон.
Вслед за первым ядром вылетело второе и разворотило стену рядом с Говэном. При третьем выстреле с него сбило шляпу.
Все ядра были крупного калибра. Стреляли из шестнадцатифунтового орудия.
— В вас целятся, командир! — закричали пушкари.
И они потушили факел. Говэн неторопливо нагнулся и поднял с земли шляпу. Пушкари не ошиблись — в Говэна кто-то целился, в него целился Лантенак.
Маркиз только что подъехал к рынку с противоположной стороны.
Иманус бросился к нему:
— Ваша светлость, на нас напали.
— Кто?
— Не знаю.
— Дорога на Динан свободна?
— По-моему, свободна.
— Пора начинать отступление.
— Уже началось. Многие бежали.
— Я сказал — отступление, а не бегство. Почему у вас бездействует артиллерия?
— Мы тут сначала голову потеряли, да и офицеров не было.
— Я сам пойду на батарею.
— Ваша светлость, я отправил на Фужер все, что можно: ненужный груз, женщин, все лишнее. А как прикажете поступить с тремя пленными детишками?
— С теми?
— Да.
— Они наши заложники. Отправьте их в Тург.
Отдав распоряжения, маркиз зашагал к баррикаде. С появлением командира все преобразилось. Баррикада была не приспособлена для артиллерийского огня, там могло поместиться только две пушки; маркиз велел поставить рядом два шестнадцатифунтовых орудия, для которых тут же устроили амбразуру. Маркиз пригнулся к пушке, стараясь разглядеть вражескую батарею, и вдруг заметил Говэна.
— Это он! — воскликнул маркиз.
И, не торопясь, он взял банник, сам забил снаряд, навел пушку и выстрелил.
Трижды целился он в Говэна и все три раза промахнулся. Последним выстрелом ему удалось лишь сбить с Говена шляпу.
— Промазал, — буркнул он. — Возьми я чуть ниже, ему снесло бы голову.
Вдруг факел на вражеской батарее потух, и маркиз уже не мог ничего разглядеть в сгустившемся мраке.
— Ну погоди! — проворчал он.
И, обернувшись к своим пушкарям-крестьянам, он скомандовал:
— Картечь!
Говэн, в свою очередь, тоже был озабочен. Положение осложнилось. Бой вступил в новую фазу. Теперь баррикада бьет из орудий. Кто знает, не перейдет ли враг от обороны к наступлению? Против него, за вычетом убитых и бежавших с поля битвы, было не меньше пяти тысяч, а в его распоряжении осталось всего тысяча двести солдат. Что станется с республиканцами, если враг заметит, как ничтожно их число? Тогда роли могут перемениться. Из атакующего республиканский отряд превратится в атакуемого. Если вандейцы предпримут вылазку, тогда всему конец.
Что же делать? Нечего и думать штурмовать баррикаду в лоб; идти на приступ было химерой — тысяча двести человек не могут выбить из укрепления пять тысяч. Штурм — бессмыслица, промедление — гибель. Надо было что-то срочно предпринять. Но что?
Говэн был уроженцем Бретани и не раз заглядывал в Доль. Он знал, что к старому рынку, где засели вандейцы, примыкает целый лабиринт узеньких кривых улочек.
Он обернулся к своему помощнику, доблестному капитану Гешану, который впоследствии прославился тем, что очистил от мятежников Консизский лес, где родился Жан Шуан, преградил вандейцам дорогу к Шэнскому озеру и тем самым спас от падения Бурнеф.
— Гешан, передаю вам командование боем, — сказал он. — Ведите все время огонь. Разбейте баррикаду пушечными выстрелами, отвлеките всю эту банду.
— Хорошо, — ответил Гешан.
— Весь отряд собрать, ружья зарядить, подготовиться к атаке.
И, пригнувшись к уху Гешана, он шепнул ему несколько слов.
— Будет сделано, — ответил Гешан.
— Все наши барабанщики живы?
— Все.
— У нас их девять человек. Оставьте себе двоих, а семеро пойдут со мной.
Семеро барабанщиков молча подошли и выстроились перед Говэном.
Тогда Говэн прокричал громовым голосом:
— Батальон «Красный колпак», ко мне!
Одиннадцать человек под началом сержанта выступили из рядов.
— Я вызывал весь батальон, — сказал Говэн.
— Батальон в полном составе, — ответил сержант.
— Как? Вас всего двенадцать человек?
— Осталось двенадцать.
— Ладно, — сказал Говэн.
Сержант, выступивший вперед, был суровый и добрый воин Радуб, тот самый Радуб, который от имени батальона усыновил троих ребятишек, найденных в Содрейском лесу.
Добрая половина батальона, если читатель помнит, была перебита на ферме Соломинка, но Радуб по счастливой случайности уцелел.
Неподалеку стояла телега с фуражом, Говэн указал на нее сержанту:
— Пусть ваши люди наделают соломенных жгутов, обмотают ими ружья, чтобы ни одно не звякнуло на ходу.
Через минуту приказ был выполнен в полном молчании и в полной темноте.
— Готово, — доложил сержант.
— Солдаты, сапоги снять, — скомандовал Говэн.
— Нет у нас сапог, — ответил сержант.
Вместе с семью барабанщиками составился отряд из девятнадцати человек. Говэн был двадцатым.
— В колонну по одному стройсь! — скомандовал он. — За мной! Барабанщики вперед, батальон за ними. Сержант, командование поручаю вам.
Он пошел в голове колонны, и пока орудия били с обеих сторон, двадцать человек, скользя как тени, углубились в пустынные удочки.
Некоторое время они шли, держась у стен. Городок, казалось, вымер; жители забились в погреба. Все двери на запоре, на всех окнах — ставни. Нигде ни огонька.
Вокруг была тишина, и тем сильнее доносился грохот с главной улицы; орудийный бой продолжался, батарея республиканцев и баррикада роялистов яростно осыпали друг друга картечью.
Минут двадцать Говэн уверенно вел свой отряд в темноте по кривым переходам и наконец вышел на главную улицу, позади рынка.
Позицию вандейцев обошли. По ту сторону рынка не было никаких укреплений; вследствие неисправимой беспечности строителей баррикад рынок с тыла оставался открытым и незащищенным, поэтому не составляло труда войти под каменные своды, где стояли наготове повозки с войсковым имуществом. Теперь Говэну и его девятнадцати бойцам противостояло пять тысяч вандейцев, но спиной.
Говэн шепотом отдал сержанту приказание; солдаты размотали солому, накрученную вокруг ружей; двенадцать гренадеров построились за углом улички в полном боевом порядке, и семь барабанщиков, подняв палочки, ждали команды.
Орудийные выстрелы следовали один за другим через известные промежутки. Воспользовавшись минутой затишья между двумя залпами, Говэн выхватил шпагу и голосом, прозвучавшим в тишине, как пронзительный призыв трубы, прокричал:
— Двести человек вправо, двести влево, остальные за мной!
Грянул залп из двенадцати ружей, семь барабанщиков забили «атаку».
А Говэн бросил грозный клич синих:
— В штыки! Коли!
Началось нечто неописуемое.
Крестьяне вообразили, что их обошли и что с тыла подступают целые полчища врага. В ту же самую минуту, услышав барабанный бой, республиканский отряд под командованием Гешана, занимавший верхнюю часть улицы, двинулся вперед, — оставшиеся при нем барабанщики тоже забили «атаку», — и быстрым шагом приблизился к баррикаде; вандейцы очутились между двух огней; паника склонна все преувеличивать; в момент паники ружейный выстрел кажется орудийным залпом, крик — загробным голосом, лай собаки — львиным рычанием. Добавим, что страх вообще охватывает крестьянина с такой же быстротой, как пламя — стог соломы, и с такой же быстротой, с какою от горящего стога пламя перекидывается на ближайшие предметы, крестьянин в страхе кидается в бегство. Вандейцев охватила неописуемая паника.
В несколько мгновений рынок опустел, крестьяне разбежались кто куда, не слушая офицеров. Хотя Иманус и убил двух или трех беглецов, ничто не помогало, — вандейцы с криком: «Спасайся, кто может!» — растеклись по городу, будто вода, и исчезли в полях стремительно, как тучи, подхваченные ураганным ветром. Одни бежали по направлению к Шатонефу, другие — к Плерге, третьи — к Антрэну.
Маркиз де Лантенак молча следил за разбегавшимися воинами. Он собственноручно заклепал орудия и, уходя последним, спокойно, размеренной поступью, холодно бросил: «Нет, на крестьянина надежда плоха. Без англичан нам не обойтись».
IV ВО ВТОРОЙ РАЗ
Республиканцы одержали полную победу.
Говэн повернулся к гренадерам батальона «Красный колпак» и сказал:
— Вас всего двенадцать, а стоите вы тысячи.
В те времена для солдата похвала командира была боевой наградой.
Гешан, по приказу Говэна, преследовал беглецов за пределами Доля и взял много пленных.
Солдаты зажгли факелы и стали обшаривать город.
Не успевшие убежать вандейцы сдались на милость победителя. Главную улицу осветили плошками. Ее усеивали вперемежку убитые и раненые. Как и обычно в конце каждого сражения, кучки самых отчаянных смельчаков, окруженные неприятелем, еще отбивались, но и им пришлось сложить оружие.
В беспорядочном потоке беглецов внимание Говэна привлек один храбрец; ловкий и проворный, как фавн, он прикрывал бегство товарищей, а сам и не собирался бежать. Этот крестьянин, мастерски владея карабином, то стрелял, то глушил врага прикладом, и действовал с такой силой, что приклад наконец сломался; тогда вандеец взял в одну руку пистолет, а в другую — саблю. Никто не решался подступиться к нему. Вдруг Говэн заметил, что вандеец пошатнулся и оперся спиной о столб. Должно быть, его ранило. Но он все еще орудовал саблей и пистолетом. Взяв шпагу под мышку, Говэн подошел к нему.
— Сдавайся, — сказал он.
Вандеец пристально взглянул на говорившего. Кровь, бежавшая из раны, пропитала куртку и лужицей расплывалась у его ног.
— Ты мой пленник, — повторил Говэн.
Вандеец молчал.
— Как тебя звать?
— Звать Пляши-в-Тени.
— Ты храбрый малый, — сказал Говэн.
И протянул вандейцу руку.
Но тот воскликнул:
— Да здравствует король!
Собрав последние силы, он быстро вскинул обе руки: нажал курок, намереваясь всадить Говэну в сердце пулю, и одновременно взмахнул над его головой саблей.
Он действовал с проворством тигра, но кто-то оказался еще проворнее. То был всадник, подскакавший к полю битвы всего несколько секунд тому назад и никем не замеченный. Видя, что вандеец поднял пистолет и занес саблю, незнакомец бросился между ним и Говэном. Если бы не он, лежать бы Говэну в могиле. Пуля попала в лошадь, а удар сабли пришелся по всаднику, и лошадь и всадник рухнули наземь. Все это произошло с молниеносной быстротой.
Вандеец тоже свалился на землю.
Удар сабли рассек лицо незнакомца, упавшего без чувств. Лошадь была убита наповал.
Говэн подошел к лежащему.
— Кто этот человек? — спросил он.
Он нагнулся и посмотрел на незнакомца. Кровь, струившаяся из раны, залила все лицо и застыла красной маской. Видны были лишь седые волосы.
— Этот человек спас мне жизнь, — продолжал Говэн. — Кто-нибудь знает его? Откуда он явился?
— Командир, — ответил один из солдат, — он только что въехал в город, я сам видел. А прискакал он по дороге из Понторсона.
Полковой хирург со своей сумкой поспешил на помощь. Раненый по-прежнему лежал без сознания. Хирург осмотрел его и заключил:
— Пустяки. Опасности нет. Зашьем рану, и через неделю он будет на ногах. Великолепный сабельный удар.
На раненом был плащ, трехцветный пояс, пара пистолетов и сабля. Его положили на носилки. Раздели. Кто-то принес ведро свежей воды, и хирург промыл рану; из-под кровавой маски показалось лицо. Говэн присматривался к незнакомцу с глубоким вниманием.
— Есть при нем бумаги? — спросил он.
Хирург нащупал в боковом кармане раненого бумажник, вытащил его и протянул Говэну.
Меж тем от холодной примочки раненый пришел в себя. Его веки слабо дрогнули.
Говэн перебирал бумаги незнакомца; вдруг он обнаружил листок, сложенный вчетверо, развернул его и прочел:
«Комитет общественного спасения. Гражданин Симурдэн».
Он вскрикнул:
— Симурдэн!
Этот крик достиг слуха раненого, и он открыл глаза.
Говэн задыхался от волнения:
— Симурдэн! Это вы! Во второй раз вы спасаете мне жизнь.
Симурдэн посмотрел на Говэна. Непередаваемая радость озарила его окровавленное лицо.
Говэн упал на колени возле раненого и воскликнул:
— Мой учитель!
— Твой отец, — промолвил Симурдэн.
V КАПЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Они не виделись много лет, но сердца их не разлучались ни на минуту; они признали друг друга, будто расстались только вчера.
В городской ратуше на скорую руку устроили походный лазарет. Симурдэна уложили в маленькой комнатке, примыкавшей к просторному залу, где разместили раненых солдат. Хирург зашил рану и пресек взаимные излияния друзей, заявив, что больному необходим покой. Впрочем, и самого Говэна требовали десятки неотложных дел, которые составляют долг и заботу победителя. Симурдэн остался один, но не мог уснуть; его вдвойне мучила лихорадка, он дрожал от озноба и от радостного волнения.
Он не спал, но ему казалось, что он видит сны. Неужели это явь? Свершилась его мечта. Симурдэн, по самому складу характера, не верил в свою счастливую звезду, и вот она взошла. Он нашел своего Говэна. Он оставил ребенка, а увидел взрослого мужчину, грозного, отважного воина. Увидел его в минуту победы, и победы, одержанной во имя народа. Говэн был в Вандее опорой революции, и сам Симурдэн, своими собственными руками, создал этот столп Республики. Этот победитель — его, Симурдэна, ученик. Он видел, как молодое лицо, быть может, предназначенное украсить собой Пантеон Революции, озарялось отблеском мысли, и это также была его, Симурдэна, мысль; его ученик, детище его духа, уже и сейчас вправе называться героем, а вскоре станет славой отчизны; Симурдэну казалось, что он узнает свою собственную душу, но в оболочке гения. Он только что любовался Говэном в бою, как Хирон Ахиллесом. Между священником и кентавром существует таинственное сходство, ибо и священник — лишь наполовину человек.
Все перипетии этой драмы, недавнее ранение и бессонница наполняли душу Симурдэна каким-то блаженным опьянением. Он видел зарю блистательного удела и радовался, что он властен над этим уделом. Еще одна такая победа, и тогда Симурдэну достаточно будет сказать слово, чтобы Республика поручила Говэну командование армией. Когда все чаяния человека сбываются, он как бы слепнет на миг от изумления. В ту пору каждый бредил воинской славой, каждый желал создать своего полководца: Дантон выдвинул Вестермана, Марат — Россиньоля, Эбер — Ронсена, а Робеспьер желал со всеми ними разделаться. «Почему бы и не Говэн?» — подумалось Симурдэну, и он погружался в мечты. Ничто их не стесняло, Симурдэн переходил от одной грезы к другой; сами собой рушились все помехи; стоит только начать грезить, и уже трудно остановиться на полпути, впереди бесконечно высокая лестница, — и, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, восходишь от человека к звезде. Великий генерал руководит лишь в сфере военной; великий вождь руководит также и в сфере идей. Симурдэн мечтал о Говэне — великом вожде. Он уже видел, — ведь мечта быстрокрыла, — как Говэн разбивает на море англичан, как на Рейне он карает северных монархов, как в Пиренеях теснит испанцев, в Альпах призывает Рим к восстанию. В Симурдэне жило два различных человека — один нежный, а другой сумрачный, и они оба были сейчас удовлетворены, ибо, подчиняясь своему идеалу непреклонности, он рисовал себе будущность Говэна столь же великолепной, сколь и грозной. Симурдэн думал обо всем, что придется разрушить, прежде чем начать строить новое, и говорил про себя: «Сейчас не время миндальничать». Говэн, как тогда говорили, «достигнет высот». И Симурдэну представлялся Говэн в светозарных латах, со сверкающей на челе звездою; попирая мрак, возносится он на мощных крыльях идеала — справедливости, разума и прогресса, а в руке сжимает обнаженный меч; он ангел, но ангел карающий.
Когда Симурдэн, размечтавшись, дошел почти до экстаза, он вдруг услышал через полуоткрытую дверь разговор в зале, превращенной в лазарет и примыкавшей к его комнатке; он сразу же узнал голос Говэна; все долгие годы разлуки этот голос звучал в ушах Симурдэна, и теперь в мужественных его раскатах ему чудился мальчишеский голосок. Симурдэн прислушался. Раздались шаги, затем заговорили наперебой солдаты:
— Вот, командир, тот самый человек, который в вас стрелял. Он спрятался в погреб. Но мы его отыскали. А ну-ка, покажись.
И Симурдэн услышал следующий диалог между Говэном и покушавшимся на его жизнь вандейцем:
— Ты ранен?
— У меня достаточно сил для того, чтобы встать под дула.
— Уложите этого человека в постель. Перевяжите его раны, ухаживайте за ним, вылечите его.
— Я хочу умереть.
— Ты будешь жить. Ты хотел убить меня во славу короля, я дарую тебе жизнь во славу Республики.
Тень омрачила лицо Симурдэна. Он словно внезапно очнулся от сна и уныло пробормотал:
— Да, он из милосердных.
VI ЗАЖИВШАЯ РАНА И КРОВОТОЧАЩЕЕ СЕРДЦЕ
Сабельный удар заживает быстро; но где-то был кто-то, раненный еще тяжелее, чем Симурдэн. Мы говорим о расстрелянной женщине, которую на ферме Соломинка подобрал в луже крови нищий Тельмарш.
Тельмарш и не подозревал, что состояние Мишели Флешар серьезнее, чем ему показалось вначале. Пуля пробила ей грудь и вышла через лопатку, вторая пуля раздробила ключицу, а третья — плечевую кость; но, поскольку легкое не было задето, оставалась надежда на выздоровление. Недаром крестьяне называли Тельмарша «философом», подразумевая под этим словом: немножко лекарь, немножко костоправ и немножко колдун. Он перенес раненую в свою нору, ухаживал за ней, уступил ей свое ложе из сухих водорослей, пользовал ее таинственными средствами, именуемыми обычно «простонародными», и благодаря ему она выжила.
Ключица срослась, раны в груди и на плече затянулись, и через несколько недель Мишель стала поправляться.
Как-то утром она с помощью Тельмарша выбралась из пещерки и присела на солнышке под деревом. Тельмарш мало что знал о своей гостье; при ранении в грудь предписывается полное молчание, да и сама раненая, бывшая почти при смерти, едва могла произнести несколько слов. А когда она пыталась заговорить с Тельмаршем, он всякий раз приказывал ей замолчать; но от старика не ускользнуло, что его гостья находится во власти каких-то неотвязных дум, и он подмечал порой, как в глазах ее загорались и таяли мучительные воспоминания. В это утро она чувствовала себя лучше; она могла даже пройти несколько шагов без посторонней помощи; целитель — это почти отец, и Тельмарш с радостью смотрел на свое детище. Добрый старик улыбнулся и завел разговор;
— Ну вот, мы и поправились. Теперь у нас все зажило.
— Только сердце не зажило, — ответила Мишель. И она добавила: — Значит, вы совсем не знаете, где они?
— Кто они? — удивился Тельмарш.
— Мои дети.
Это «значит» — заключало в себе целый мир мыслей, оно выражало: «Раз вы со мной о них не говорите, раз вы просидели у моего изголовья столько дней и даже ни разу не заикнулись о них, раз вы велите мне молчать, когда я пытаюсь расспросить вас, раз вы боитесь, что я о них спрошу, значит, вам нечего мне ответить». Нередко в часы бреда, лихорадки, болезненного полузабытья она звала своих детей, и она заметила, — ибо в бреду человек по-своему наблюдателен, — что старик не отвечает на ее вопросы.
Но Тельмарш и в самом деле не знал, что ей сказать. Не так-то легко говорить с матерью о ее пропавших детях. Да и что он знал? Ничего. Знал только, что какую-то женщину расстреляли, он сам нашел ее распростертою на земле, подобрал почти бездыханной, знал также, что она мать троих детей и что маркиз де Лантенак, приказав расстрелять мать, увел с собою детей. Этим и исчерпывались все его сведения. Что сталось с детьми? Живы они или нет? Узнал он из расспросов и то, что увели двух мальчиков и девочку, недавно отнятую от груди. И ничего больше. Он сам ломал голову над судьбой злосчастных малюток и терялся в догадках. В ответ на все его расспросы крестьяне молча покачивали головой. Не такой был человек господин де Лантенак, чтобы зря судачить о нем.
В округе неохотно говорили о Лантенаке, но так же неохотно говорили с Тельмаршем. Крестьяне — народ подозрительный. Они не любили Тельмарша. Тельмарш Нищеброд внушал им какую-то тревогу. С чего это он вечно смотрит на небо? Что он делает, о чем думает, когда полдня торчит в лесу как пень и не шелохнется? Ясно — все это неспроста. В здешнем краю, охваченном войной, смутой и огнем пожарищ, где у каждого была одна забота — уничтожать и одно занятие — резать, где все наперегонки старались поджечь дом, перебить семью, заколоть вражеский караул, разграбить поселок, где каждый думал лишь о том, как бы устроить другому засаду, завлечь в ловушку и убить, пока тебя не убили, — этот отшельник, этот созерцатель природы, растворившийся душой в необъятном покое всего сущего, этот собиратель трав и кореньев, влюбленный в цветы, птиц и звезды, был, само собой разумеется, человеком весьма опасным. Сразу видно, что он не в своем уме: не выслеживает врага, притаившись за кустом, ни в кого не стреляет… Не мудрено, что он внушал крестьянам страх.
— Умом повредился, — говорили прохожие.
Тельмарш жил на положении человека, не только одинокого среди людей, но и избегаемого людьми.
К нему не обращались с вопросами, на его вопросы не отвечали. Так что при всем желании он мог узнать лишь немногое. Война ушла из их округи в соседние, теперь люди бились где-то далеко, маркиз де Лантенак исчез с горизонта, а такой человек, как Тельмарш, замечает войну лишь тогда, когда она придавит его своей пятою.
Услышав слова «мои дети», Тельмарш перестал улыбаться, а мать углубилась в свои думы. Что происходило в ее душе? Она словно пребывала на дне пропасти. Вдруг она подняла на Тельмарша взор и снова воскликнула — на этот раз почти гневно:
— Мои дети!
Тельмарш опустил голову, точно виноватый.
Он думал о маркизе де Лантенаке, который, конечно, не думал о нем и, вероятно, даже забыл о его существовании. Тельмарш понимал это и твердил про себя: «Когда господа в опасности, они вас отлично знают; когда опасность миновала, они с вами и не знакомы».
Он спрашивал себя: «Зачем же в таком случае я спас маркиза?»
И отвечал себе: «Потому, что он человек».
Он думал и думал, и снова перед ним возникал вопрос: «Да полно, человек ли он?»
И вновь он повторял про себя горькие слова: «Если бы я только знал!»
Случившееся угнетало его, ибо все, что он совершил тогда, стало для него самого неразрешимой загадкой. Он мучительно думал. Значит, добрый поступок может оказаться дурным поступком. Кто спасает волка — убивает ягнят. Кто выхаживает коршуна с подбитым крылом, тот сам оттачивает его когти.
Он почувствовал себя и впрямь виноватым. Эта мать, в своем неразумном гневе, права.
Однако он спас ей жизнь, и это в какой-то мере извиняло его в том, что он спас жизнь маркиза.
А дети?
Мать тоже задумалась. И хотя оба молчали, мысли их текли в одном направлении, и, быть может, им суждено было встретиться где-то там, в потоке мрачных раздумий.
Но вот она снова подняла на Тельмарша взгляд, темный, как ночь.
— Что же это такое делается?! — воскликнула она.
— Тс! — сказал Тельмарш, приложив палец к губам.
Но она продолжала:
— Напрасно вы меня спасли, я на вас в обиде. Лучше бы мне умереть, тогда бы я хоть оттуда видела их. Знала бы, где они. Они бы меня не видели, но я бы все время была с ними. Мертвая, я бы им стала заступницей.
Тельмарш взял ее за руку и пощупал пульс.
— Успокойтесь, не то снова лихорадка начнется.
Она спросила его почти сурово:
— Когда я могу уйти?
— Уйти?
— Ну да. Прочь уйти.
— Никогда, если не будете вести себя благоразумно. А если будете умницей — завтра же.
— А что значит быть умницей?
— Во всем полагаться на бога.
— На бога! А куда он дел моих детей?
Она была словно в бреду. И заговорила тихим голосом:
— Поймите, не могу я здесь оставаться. У вас нет детей, а у меня были. А это ведь разница. Нельзя судить о том, чего сам не испытал. Ведь нет у вас детей, нет?
— Нет, — ответил Тельмарш.
— А у меня только и было что дети. Что я такое без детей? Да объясните мне хоть что-нибудь, почему нет моих детей? Чувствую, что-то случилось, а понять не могу. Мужа моего убили, меня расстреляли, — и все-таки я ничего не пойму.
— Ну вот, опять лихорадка началась, — сказал Тельмарш. — Вам вредно так много говорить.
Она взглянула на него и замолчала.
С этого дня они вообще перестали говорить.
Тельмарш уже не рад был, что велел ей молчать. Целые часы она в оцепенении сидела, скорчившись у подножия старого дуба. Она думала о чем-то и молчала. Молчание — прибежище простых душ, познавших всю зловещую глубину скорби. Казалось, она была не в силах ничего понять. Есть такая степень отчаяния, когда оно уже непостижимо для отчаявшегося.
Тельмарш с волнением следил за ней. Видя эти муки, мужчина, старик начинал думать, как женщина. «Да, — думал он, — уста ее безмолвны, но глаза говорят; я понимаю, какая мысль неотвязно ее мучит. Быть матерью — и перестать быть ею! Кормить младенца — и перестать кормить! Нет, не может она смириться. Она думает о малютке, которую еще так недавно отняла от груди, О ней она думает, о ней, о ней. И в самом деле, как, должно быть, сладостно чувствовать у своей груди крохотные розовые губки и с радостью отдавать вместе с материнским молоком всю себя, отдавать свою жизнь, чтобы младшему жить и крепнуть».
И Тельмарш тоже молчал, он понял, как бессильны перед такой смертельной тоской все людские слова. Одержимый страшен своей молчаливостью. И можно ли заставить одержимую горем мать прислушаться к голосу рассудка? Материнство чем-то безысходно, с ним нельзя спорить. Мать близка к любой живой твари, и потому она так возвышенно прекрасна. Материнский инстинкт есть животный инстинкт в самом божественном смысле этого слова. Мать уже не женщина, мать — это самка.
Дети — это детеныши.
Потому-то в каждой матери есть нечто, что ниже рассудка и в то же время выше его. Мать наделена особым чутьем. В ней живет могучая и неосознанная воля к созиданию, и эта воля ведет ее. Слепота, равная ясновидению.
Теперь уже сам Тельмарш старался вызвать бедняжку на разговор; но все его попытки были тщетны. Однажды он сказал:
— К несчастью, я старик и не могу много ходить. Я устаю, когда и уставать-то не от чего. Иной раз походишь с четверть часа, и ноги уже не слушаются; хочешь не хочешь, приходится присесть отдохнуть, а то я бы непременно пошел с вами. Впрочем, может быть, моя немощь и к лучшему. От меня вам, пожалуй, будет больше вреда, чем пользы; здесь ко мне притерпелись; но синие относятся ко мне с подозрением — как к крестьянину, а крестьяне — как к колдуну.
Он ждал ответа. Но она даже не взглянула в его сторону.
Навязчивая мысль приводит или к безумию, или к героизму. Но какой героический поступок способна совершить бедная крестьянка? Никакой. Она может быть лишь матерью, и только матерью. С каждым днем она все больше уходила в себя. А Тельмарш наблюдал за ней.
Он пытался развлечь ее; он принес ей ниток, иголку, наперсток; и, желая доставить удовольствие бедному старику, она взялась за шитье; она по-прежнему была погружена в свои мысли, но работала — верный признак выздоровления; силы мало-помалу возвращались к ней; она перештопала свое белье, зачинила платье и башмаки, но взгляд у нее был стеклянный, невидящий. Иногда за работой она потихоньку напевала какие-то песенки, бормотала какие-то имена, должно быть, имена своих детей, но Тельмарш ничего не мог разобрать. Временами она бросала шить и прислушивалась к пению птиц, словно надеясь, что они прощебечут ей долгожданную весть. Она смотрела на небо, не идут ли тучи, не будет ли непогоды. Губы ее беззвучно шевелились. Она о чем-то тихонько говорила сама с собой. Она сшила мешок и доверху набила его каштанами. Однажды утром Тельмарш увидел, что она тронулась в путь, глядя неподвижным взором в лесную чащу.
— Куда вы? — крикнул он.
— Иду за ними, — ответила она.
Он не пытался ее удержать.
VII ДВА ПОЛЮСА ИСТИНЫ
По прошествии нескольких недель, исполненных превратностей гражданской войны, во всем Фужерском крае только и было разговоров о том, как два человека, разные во всем, творили одно и то же дело, иначе сказать, бились бок о бок в великой революционной битве.
Еще длился кровавый вандейский поединок, но под ногами вандейцев уже горела земля. В Иль-э-Вилэне после победы молодого полководца, столь умело противопоставившего в городке Доль отваге шести тысяч роялистов отвагу полутора тысяч патриотов, — восстание если не совсем утихло, то, во всяком случае, продолжало жить на сузившемся и ограниченном пространстве. Вслед за дольским ударом воспоследовали другие военные удачи, и благодаря этому сложилась новая ситуация.
Обстановка резко изменилась, но одновременно возникло и своеобразное осложнение.
Во всей этой части Вандеи республика взяла верх — в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Но какая республика? В свете близкой уже победы обрисовывались две формы республики: республика террора и республика милосердия, одна стремилась победить суровостью, а другая — кротостью. Какая же возобладает? Обе эти формы — примирение и беспощадность — были представлены двумя людьми, причем каждый пользовался и влиянием и авторитетом: один — военачальник, второй — гражданский делегат; какому из двух суждено было восторжествовать? Один из них, делегат, имел могучую и страшную поддержку; он привез грозный наказ Коммуны Парижа батальонам Сантерра: «Ни пощады, ни снисхождения!» Он был всевластен в силу декрета Конвента, гласившего: «Смертная казнь каждому, кто отпустит на свободу или будет способствовать бегству взятого в плен вождя мятежников»; он был облечен полномочиями Комитета общественного спасения и приказом за тремя подписями: Робеспьер, Дантон, Марат. На стороне другого была лишь сила милосердия.
За него были только его рука, разящая врагов, и сердце, милующее их. Победитель, он считал себя вправе щадить побежденного.
Так начался скрытый, но глубокий разлад между этими двумя людьми. Оба они царили, каждый в своей сфере, оба они подавляли мятеж, и каждый карал его своим мечом — один победоносно на поле боя, другой — террором.
По всему Бокажу только и говорили о них; и устремленные отовсюду взоры следили за их действиями с тем большей тревогой, что два эти человека, столь различные во всем, были в то же время связаны неразрывными узами. Эти два противника были и двумя друзьями. Никогда чувство более возвышенное и глубокое не соединяло двух сердец; беспощадный спас жизнь милосердному и поплатился за это рубцом на лице. Эти два человека воплощали: один — смерть, второй — жизнь; один олицетворял принцип устрашения, второй — принцип примирения, и оба любили друг друга. Странные отношения! Вообразите себе милосердного Ореста и беспощадного Пилада. Вообразите Аримана родным братом Ормузда.
Добавим, что тот, кого именовали «жестоким», был также и самым мягкосердечным из людей; он собственноручно перевязывал раненых, выхаживал недужных, сутками не выходил из походных госпиталей и лазаретов; не мог без слез видеть какого-нибудь босоногого мальчонку и ничего не имел, так как раздавал бедным все, что у него было. Когда начиналась битва, он первым бросался в бой, он шел впереди солдат, кидался в самую гущу схватки, вооруженный двумя пистолетами и саблей и в то же время безоружный, так как никто ни разу не видел, чтобы он вытащил саблю из ножен или выстрелил из пистолета. Он смело встречал удары, но не возвращал их. Ходили слухи, что он был священником.
Один из них был Говэн, другой — Симурдэн.
Дружба царила меж этими двумя людьми, но меж двумя принципами не унималась вражда, как если бы единую душу рассекли надвое и разъединили навеки; и действительно, Симурдэн словно отдал Говэну половину души — ту, что была кроткой. Светлый ее луч почил на Говэне, а черный луч, если только бывают черные лучи, Симурдэн оставил себе. Отсюда глубокий разлад. Эта тайная война рано или поздно должна была стать явной. И в одно прекрасное утро битва началась.
Симурдэн спросил Говэна:
— Каково положение дел?
Говэн ответил:
— Вы знаете это не хуже меня. Я рассеял шайки Лантенака. При нем теперь всего горстка людей. Мы загнали их в Фужерский лес. И через неделю окружим.
— А через две недели?
— Возьмем его в плен.
— А потом?
— Вы читали мое объявление?
— Читал. Ну и что же?
— Он будет расстрелян.
— Опять милосердие! Лантенак должен быть гильотинирован.
— Я за воинскую казнь, — возразил Говэн.
— А я, — возразил Симурдэн, — за казнь революционную.
Он взглянул в глаза Говэну и добавил:
— Почему ты отпустил на свободу монахинь из обители Сен-Мар-ле-Блан?
— Я не воюю с женщинами, — ответил Говэн.
— Однако ж эти женщины ненавидят народ. А в ненависти женщина стоит двадцати мужчин. Почему ты отказался отправить в Революционный трибунал всю эту свору — старых фанатиков попов, захваченных при Лувинье?
— Я не воюю со стариками.
— Старый священник хуже молодого. Мятежи еще опаснее, когда к ним призывают седовласые старцы. Седины внушают доверие. Остерегайся ложного милосердия, Говэн. Цареубийцы суть освободители. Зорко следи за башней тюрьмы Тампль.
— Следи! Будь моя воля — я выпустил бы дофина на свободу. Я не воюю с детьми.
Взгляд Симурдэна стал суровым.
— Знай, Говэн, надо воевать с женщиной, когда она зовется Мария-Антуанетта, со старцем, когда он зовется Пий Шестой, и с ребенком, когда он зовется Луи Капет.
— Учитель, я человек далекий от политики.
— Смотри, как бы ты не стал человеком опасным для нас. Почему при штурме Коссе, когда мятежник Жан Третон, окруженный, чуя гибель, бросился с саблей наголо один против всего твоего отряда, почему ты закричал солдатам: «Ряды разомкнуть. Пропустить его»?
— Потому что не ведут в бой полторы тысячи человек, чтобы убить одного.
— А почему в Кайэтри д’Астилле, когда ты увидел, что твои солдаты собираются добить раненого вандейца Жозефа Безье, уже упавшего на землю, почему ты тогда крикнул: «Вперед! Я сам займусь им!» — и выстрелил в воздух?
— Потому что не убивают лежачего.
— Ты не прав. Оба пощаженные тобой стали главарями банд: Жозеф Безье зовется теперь Усач, а Жан Третон — Серебряная Нога. Ты спас двух человек, а дал республике двух врагов.
— Я хотел приобрести для нее друзей, а не давать ей врагов.
— Почему после победы над Ландеаном ты не приказал расстрелять триста пленных крестьян?
— Потому что Боншан пощадил пленных республиканцев, и мне хотелось, чтобы люди знали: республика щадит пленных роялистов.
— Значит, если ты захватишь Лантенака, ты пощадишь его?
— Нет.
— Почему же нет? Ведь пощадил же ты триста крестьян.
— Крестьяне не ведают, что творят, а Лантенак знает.
— Но Лантенак тебе сродни.
— Франция — наш великий родич.
— Лантенак — старик.
— Лантенак не имеет возраста. Лантенак — чужой. Лантенак призывает англичан. Лантенак — это иноземное вторжение. Лантенак — враг родины. Наш поединок с ним может кончиться лишь его или моей смертью.
— Запомни, Говэн, эти слова.
Последовало молчание; они взглянули друг на друга.
Говэн заговорил первым:
— Кровавой датой войдет в историю нынешний, девяносто третий год.
— Берегись! — воскликнул Симурдэн. — Да, существует страшный долг. Не обвиняй того, на ком не может быть вины. С каких это пор врач стал виновником болезни? Да, ты прав, этот великий год войдет в историю, как год, не знающий милосердия. Почему? Да потому, что это великая революционная година. Нынешний год олицетворяет революцию. У революции есть враг — старый мир, и она не знает милосердия в отношении его, точно так же, как для хирурга гангрена — враг и он не знает милосердия в отношении ее. Революция искореняет монархию в лице короля, аристократию в лице дворянина, деспотизм в лице солдата, суеверие в лице попа, варварство в лице судьи — словом, искореняет всю и всяческую тиранию в лице всех и всяческих тиранов. Операция страшная, но революция совершает ее твердой рукой. Ну, а если притом прихвачено немного и здоровой плоти, спроси-ка на сей счет мнение нашего Бергава. Разве удаление злокачественной опухоли обходится без потери крови? Разве не тушат пожар огнем? Эта грозная необходимость — условие успеха. Хирург походит на мясника, целитель может иной раз показаться палачом. Революция самоотверженно выполняет свой роковой долг. Она калечит, зато она спасает. А вы, вы просите у нее милосердия для вредоносных бацилл. Вы хотите, чтобы она щадила заразу? Она не склонит к вам слух. Прошлое в ее руках. Она добьет его. Она делает глубокий надрез на теле цивилизации, чтобы открыть путь будущему здоровому человечеству. Вам больно? Ничего не поделаешь. Сколько времени это продлится? Столько, сколько продлится операция. Зато вы останетесь в живых. Революция отсекает старый мир. И отсюда кровь, отсюда девяносто третий год.
— Хирург не теряет хладнокровия, — возразил Говэн, — а вокруг нас все ожесточились.
— Труженики революции должны быть беспощадны, — ответил Симурдэн. — Она отталкивает руку, охваченную дрожью. Она верит лишь непоколебимым. Дантон — страшен, Робеспьер — непреклонен, Сен-Жюст — непримирим, Марат — неумолим. Берегись, Говэн! Не пренебрегай этими именами. Для нас они стоят целых армий. Они сумеют устрашить Европу.
— А может быть, и будущее, — заметил Говэн.
Помолчав, он заговорил:
— Впрочем, вы заблуждаетесь, учитель. Я никого не обвиняю. По моему мнению, с точки зрения революции правильнее всего говорить о безответственности. Нет невиновных, нет виноватых. Людовик Шестнадцатый — баран, попавший в стаю львов. Он хочет убежать, хочет спастись, он пытается защищаться; будь у него зубы, он укусил бы. Но не всякому дано быть львом. Это было зачтено ему в вину. Как, баран в гневе посмел ощерить зубы! «Изменник!» — кричат львы. И они пожирают его. А затем грызутся между собой.
— Баран — животное.
— А львы, по-вашему, кто?
Симурдэн задумался. Потом, вскинув голову, сказал:
— Эти львы — совесть, эти львы — идеи, эти львы — принципы.
— А действуют они с помощью террора.
— Придет время, когда в революции увидят оправдание террора.
— Смотрите, как бы террор не стал позором революции.
И Говэн добавил:
— Свобода, Равенство, Братство — догматы мира и всеобщей гармонии. Зачем же превращать их в какие-то чудища? Чего мы хотим? Приобщить народы к всемирной республике. Так зачем же отпугивать их? К чему устрашать? Народы, как и птиц, не приманишь пугалом. Не надо творить зла, чтобы творить добро. Низвергают трон не для того, чтобы уцелел эшафот. Смерть королям, и да живут народы. Снесем короны и пощадим головы. Революция — это согласие, а не страх. Жестокосердные люди не могут верно служить великодушным идеям. Слово «амнистия» для меня самое прекрасное из всех человеческих слов. Я могу проливать чужую кровь лишь при том условии, что может пролиться и моя. Впрочем, я умею только воевать, я всего лишь солдат. Но если нельзя прощать, то и побеждать не стоит. Будем же в час битвы врагами наших врагов и братьями их после победы.
— Берегись, — повторил Симурдэн в третий раз. — Ты, Говэн, мне дороже, чем родной сын. Берегись!
И он задумчиво добавил:
— В такие времена, как наши, милосердие может стать одной из форм измены.
Если бы кто-нибудь услышал этот спор, он сравнил бы его с диалогом топора и шпаги.
VIII DOLOROSA[411]
А тем временем мать искала своих малюток.
Она шла куда глаза глядят. Чем только была она жива? Трудно сказать. Она и сама бы не ответила на этот вопрос. Она шла дни и ночи; она просила подаяние, питалась травой, спала прямо на земле, под открытым небом, забившись под куст; иной раз над нею мерцали звезды, иной раз ее мочил дождь и пробирал до костей холодный ветер.
Она брела от деревни к деревне, от фермы к ферме, расспрашивая о судьбе своих детей. Она робко останавливалась на пороге. Платье ее превратилось в лохмотья. Иногда ей давали приют, иногда ее гнали прочь. Когда ее не пускали в дом, она шла в лес.
В здешние края она попала впервые, да и вообще не знала ничего, кроме своего Сискуаньяра и прихода Азэ, никто не указывал ей дороги, она шла, потом возвращалась обратно, снова начинала тот же путь, делая ненужные крюки. То шагала она по камням мостовой, то по проселочным колеям, то по тропке, вьющейся среди кустарника. От бродячей жизни вся ее одежда пришла в ветхость. Сначала она шла в башмаках, затем босая и под конец едва ступала израненными ногами.
Она шла сквозь войну, сквозь ружейные залпы, ничего не слыша, ничего не видя, не думая об опасности, — она искала своих детей. Весь край был взбудоражен, не стало больше ни сельских стражников, ни мэров, ни властей. Ей попадались только случайные прохожие.
Она обращалась к ним. Она спрашивала:
— Не видели ли вы троих маленьких детей?
Прохожий оборачивался на голос.
— Двух мальчиков и девочку, — поясняла она.
И продолжала:
— Рене-Жана, Гро-Алэна, Жоржетту? Не встречали?
И добавляла:
— Старшему четыре с половиной, маленькой — год восемь месяцев.
Она допытывалась:
— Вы не знаете, где они? Их у меня отняли.
Прохожий глядел на нее, не отвечая.
Видя, что ее не понимают, она пускалась в объяснения:
— Это мои дети. Вот я и спрашиваю про них.
Люди шли своей дорогой. Тогда она останавливалась и молча раздирала ногтями себе грудь.
Как-то раз один крестьянин терпеливо выслушал ее.
Добряк старался что-то припомнить.
— Подождите-ка, — сказал он. — Трое ребятишек?
— Да.
— Двое мальчиков?
— И девочка.
— Вы их ищете?
— Да.
— Слыхал я, что какой-то сеньор забрал троих ребятишек и держит их при себе.
— Где этот человек? — воскликнула она. — Где мои дети?
Крестьянин ответил:
— Идите в Тург.
— Значит, там я найду своих детей?
— Может, и найдете.
— Как вы сказали?
— Тург.
— А что это — Тург?
— Место такое.
— Это село? Замок? Ферма?
— Никогда там не бывал.
— А это далеко?
— Не близко.
— А где?
— В сторону Фужера.
— Как туда попасть?
— Сейчас мы с вами в Ванторте, — пояснил крестьянин, — идите на Лоршан так, чтобы у вас по левую руку оставался Эрне, а по правую — Коксель, а там пройдете через Леру. — И крестьянин указал рукой куда-то на запад: — Так и идите все прямо и прямо, вон туда, где солнце садится.
Не успел крестьянин опустить руку, как мать уже отправилась в путь.
Крестьянин крикнул ей вслед:
— Смотрите будьте осторожны. Там сражаются.
Она не ответила на его слова, даже не обернулась и продолжала идти на запад.
IX ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ БАСТИЛИЯ
1. ТУРГ
Еще лет сорок тому назад путник, проникший в Фужерский лес со стороны Леньеле и направляющийся в Паринье, невольно остановился бы на опушке бора, пораженный мрачным зрелищем. Там, где кончались заросли, перед ним внезапно возникал Тург.
Но не живой Тург, а лишь прах Турга, Тург полуразрушенный, весь в трещинах, в пробоинах, в рубцах. Здание и его руины — это то же, что человек и его призрак. Тург вставал перед путником пугающим видением. Первой бросалась в глаза высокая круглая башня, стоявшая одиноко на опушке леса, словно тать в ночи. Башня, возведенная на самом краю обрывистой скалы, основательностью и строгостью линий напоминала творения римской архитектуры, да и вся эта громада воплощала в себе идею величия в такой же мере, как и идею упадка. Впрочем, не случайно она походила на римские башни, она была башней романской; заложили ее в девятом веке, а достроили в двенадцатом, после третьего крестового похода. Импосты оконных проемов свидетельствовали об ее возрасте. Путник подходил ближе, подымался по крутому откосу, замечал пролом и, если у него хватало духу проникнуть внутрь, входил и, войдя, убеждался, что башня полая. Изнутри она напоминала гигантскую каменную трубу, поставленную горнистом прямо на землю. Сверху донизу ни одного перекрытия, ни крыши, ни потолка, ни пола, только остатки сводов и очагов, бойницы и амбразуры для фальконетов, пробитые на различной высоте, гранитные выступы и несколько поперечных балок, побелевших от помета ночных птиц и обозначавших прежнее деление на этажи; могучие стены пятнадцати футов толщиной в нижней части и двенадцати в верхней, кое-где провалы и дыры, бывшие двери, через которые виднелись лестницы, высеченные в темной толще стен. А вечером путник услышал бы уханье сов, крик цапли, кваканье жаб, писк летучих мышей, разглядел бы под ногами колючие растения, камни и гадов, а над головой — черный круг — вершину башни, похожую на устье огромного колодца, и еще выше — звезды.
По местному обычаю, на верхних этажах башни имелись потайные двери, вроде тех, что встречаются в гробницах иудейских царей: огромный камень поворачивается вокруг своей оси, открывает проход, затем закрывает — и снова перед вашим взором сплошная стена: архитектурная традиция, занесенная во Францию крестоносцами вместе с восточной огивой. Двери эти нельзя было обнаружить — так плотно входили они в каменную кладку стен. В наши дни можно еще видеть такие двери в таинственных селениях Антиливана, уцелевших от землетрясения, которое уничтожило в царствование Тиберия двенадцать городов.
2. ПРОЛОМ
Пролом, через который попадали внутрь башни, образовался вследствие подкопа и взрыва мины. Человек, знакомый с трудами Эррара, Сарди и Пагана, признал бы, что для своего времени мина была подведена с величайшим искусством. Пороховая камера конической формы по своим размерам вполне соответствовала массивности башни, которую предстояло взорвать. В эту камеру входило по меньшей мере два квинтала пороха. Туда вел змеевидный ход, который значительно удобнее, нежели прямой; после взрыва мины в толще треснувшего камня стала ясно видна трещина диаметром в куриное яйцо. Башне была нанесена глубокая рана, и через этот пролом осаждающие, должно быть, и проникли внутрь. По всей видимости, башня эта выдержала в различные эпохи не одну регулярную осаду: всю ее иссекло ядрами, и следы их относились к разному времени; каждое ядро клеймит на свой лад, каждое ядро оставило на крепостной стене свой шрам — от каменных ядер четырнадцатого века до чугунных восемнадцатого столетия.
Через этот пролом можно было попасть туда, где раньше, надо полагать, помещался нижний этаж. Напротив пролома прямо в стене открывалась дверца в склеп, который был высечен в скале и тянулся в фундаменте башни вплоть до залы нижнего этажа.
Этот склеп, на три четверти засыпанный землей, был расчищен в 1835 году стараниями бернейского антиквара господина Огюста Ле Прево.
3. КАЗЕМАТ
Склеп служил казематом. Такие казематы имелись в ту пору в каждой башне. Склеп, как и большинство подземных тайниц того времени, был устроен в два этажа. Верхняя его половина, куда попадали через узкую дверцу, представляла собой довольно обширное помещение со сводчатым потолком и находилась на одном уровне с нижним этажом башни. На двух противоположных стенах склепа виднелись две параллельные полосы, которые шли вверх по потолку, и там их след был особенно четок, напоминая две глубокие колеи. И даже проложены они были колесами. В стародавние феодальные времена в этом помещении четвертовали людей по способу, менее шумному, чем казнь с помощью четырех лошадей. Для этой цели употреблялись два колеса, столь большие и массивные, что они касались одновременно и стен и свода. Преступника привязывали за руку и ногу к колесам, потом колеса вращали в противоположном направлении, и человека разрывало на части. Эта операция требовала немалых усилий; поэтому-то в стене и остались две выщербленные колеи там, где колеса соприкасались с каменной кладкой. Подобное помещение можно видеть еще и ныне в Виандене.
Под этой комнатой находилась другая. Это и был каземат в собственном смысле слова. Попадали в него не через дверь, а через отверстие в полу. Узника, раздетого донага, подвязывали под мышки веревкой и опускали в склеп через люк, проделанный среди каменных плит пола верхнего помещения. Если человек, по случайности, оставался жив, ему бросали через отверстие еду. Подобные отверстия можно видеть еще и ныне в Буйоне.
Через это отверстие поступал воздух. Помещение, вырытое под полом нижнего этажа башни, представляло собой скорее колодец, нежели комнату. В нее проникала вода, по ней разгуливал ледяной ветер. Ветер, приносивший верную смерть узнику нижнего каземата, нес жизнь заключенному на верхнем этаже. Иначе человек задохся бы. Тот, кто был заключен наверху и продвигался ощупью по своей сводчатой темнице, мог дышать только благодаря этому отверстию. Впрочем, тот, кого сюда вводили или кого сюда сбрасывали, уже не выходил отсюда живым. В этой кромешной тьме узнику приходилось все время быть начеку. Один неверный шаг — и узник верхнего каземата становился узником нижнего. Впрочем, выбор был за ним. Если он цеплялся за жизнь — он остерегался этого отверстия; если жизнь становилась ему невмоготу — искал в нем спасения. Верх был тюрьмой, низ — могилой. Так же примерно было устроено и тогдашнее общество.
Наши предки называли такие темницы «каменным мешком». Исчезли каменные мешки, и самое выражение утратило для нас первоначальный смысл. Благодаря революции мы можем произносить это слово с полным спокойствием.
Снаружи, над проломом, который сорок лет тому назад служил единственным входом в башню, виднелась амбразура более широкая, чем остальные бойницы; с нее свисала железная решетка, вывороченная из своего ложа и погнутая.
4. ЗАМОК НА МОСТУ
Со стороны, противоположной пролому, непосредственно к башне примыкал пощаженный временем каменный трехарочный мост. Раньше на этом мосту стояло здание, от него остались лишь руины. Это здание, хранившее следы пожара, представляло собой почерневший остов, сквозной костяк, через который свободно проходил дневной свет; башня и замок стояли рядом, словно скелет рядом с призраком.
Ныне эти руины окончательно рассыпались, и от них ничего не осталось. То, что воздвигалось многими веками и многими монархами, пало от руки одного крестьянина и в один день.
Тург на здешнем крестьянском языке, склонном сливать слова, означает Тур-Говэн, точно так же как Жюпель означает Жюпельер, равно как имя одного из вожаков вандейских банд горбуна Пэнсон Череп должно было значить Пэнсон Черепаха.
Тург, сорок лет тому назад бывший руиною, а ныне ставший призраком, был в девяносто третьем году крепостью. Эта цитадель, принадлежавшая роду Говэнов, преграждала с запада подход к Фужерскому лесу, который в наши дни не заслуживает названия даже перелеска.
Цитадель возвели на одной из сланцевых скал, которых такое множество между Майенной и Динаном; они в беспорядке разбросаны среди зарослей кустарника, вереска, словно титаны швыряли эти глыбы друг в друга.
Вся крепость, в сущности, и состояла из одной башни; она возвышалась на скале, у подножия скалы протекал ручей, в январе — полноводный, как горный поток, и пересыхающий в июне.
Сведенная ныне к одной только башне, крепость была в средние века почти неприступна. Единственным уязвимым ее местом являлся мост. Средневековые Говэны построили крепость без моста. В нее попадали через висячие мостки, которые ничего не стоило уничтожить одним ударом топора. Пока Говэны носили титул виконтов, такая крепость их вполне устраивала, даже ласкала их взор; но ставши маркизами и покинув свое гнездо ради королевского двора, они перекинули через поток трехарочный мост, чем открыли к себе путь из долины, а себе открыли путь к королю. Господа маркизы в семнадцатом веке и госпожи маркизы в восемнадцатом перестали дорожить неприступностью. Все подражали Версалю, как прежде примеру предков.
Напротив башни, с западной ее стороны, простиралось довольно высокое плоскогорье, постепенно переходившее в равнину; оно почти достигало подножия башни и отделялось от нее лишь крутым оврагом, по дну которого протекала речка, приток Куэнона. Мост, единственное связующее звено между крепостью и плоскогорьем, покоился на высоких устоях; на них-то и стояло, как в Шенонсо, здание в стиле Мансара, более пригодное для жилья, нежели башня. Но тогдашние нравы еще отличались суровостью; сеньоры предпочитали ютиться в каморках башни, похожих на тайники. Через все строение, стоявшее на мосту и представлявшее собой небольшой замок, шел длинный коридор, служивший одновременно прихожей и называвшийся кордегардией; над кордегардией помещалась библиотека, а над библиотекой чердак. Высокие узкие окна, богемские стекла в частом свинцовом переплете, пилястры в простенках, скульптурные медальоны по стенам; три этажа: в нижнем — алебарды и мушкетоны, в среднем — книги, в верхнем — мешки с овсом, — во всем облике замка было что-то варварское, но вместе с тем и благородное.
Стоявшая рядом башня казалась дикаркой.
Своей мрачной громадой она подавляла кокетливое строеньице. С ее плоской крыши ничего не стоило уничтожить мост.
Столь близкое соседство двух зданий — одного тяжеловесного, другого изящного — скорее коробило, чем радовало глаз. По стилю они не подходили друг к другу: хотя два полукружия, казалось бы, всегда одинаковы, тем не менее округлая романская арка ничем не похожа на классический архивольт. Башня, достойная сестра пустынных лесов, окружавших ее, была неподходящей соседкой для моста, достойного украсить версальские сады. Представьте себе Алэна Бородача под руку с Людовиком XIV. Страшный союз. И тут и там величие, а в сочетании — варварство.
С точки зрения военной, мост, повторяем, совсем не служил башне защитой. Он украшал ее и обезоруживал; выигрывая в красоте, крепость проигрывала в силе. Мост низводил ее на один уровень с плоскогорьем. По-прежнему неприступная со стороны леса, она стала уязвимой со стороны равнины. В былые времена башня господствовала над плоскогорьем, теперь плоскогорье господствовало над ней. Враг, овладевший плоскогорьем, без труда овладел бы и мостом. Библиотека и чердачное помещение становились пособниками осаждающих и обращались против крепости. Библиотека и чердак схожи в том отношении, что и книги и солома — легко воспламеняющийся материал. Для осаждающего, который прибегает к помощи огня, безразлично: сжечь ли Гомера или охапку сена — лишь бы хорошо горело, что французы и доказали немцам, спалив Гейдельбергскую библиотеку, а немцы доказали французам, спалив библиотеку Страсбургскую. Итак, этот мост, пристроенный к башне, был просчетом с точки зрения стратегической; но в семнадцатом веке, при Кольбере и Лувуа, принцы Говэны, так же как и принцы Роганы или принцы Тремуйли, и думать забыли об осадах. Строители моста все же приняли кое-какие меры предосторожности. Прежде всего они предусмотрели возможность пожара; под окнами, обращенными в сторону рва, подвесили на крюках, которые можно было видеть еще полвека тому назад, надежную спасательную лестницу, доходившую до второго этажа и превосходившую высотой три обычных этажа; предусмотрели и возможность осады: мост отделили от башни посредством тяжелой низкой сводчатой двери, обитой железом; запиралась она огромным ключом, который хранился в тайнике, известном одному лишь хозяину; будучи на запоре, дверь эта не боялась никакого тарана и устояла бы, пожалуй, и перед пушечным ядром.
Чтобы добраться до двери, надо было пройти через мост, и надо было пройти через эту дверь, чтобы попасть в башню. Иного входа не имелось.
5. ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ
Второй этаж замка, благодаря тому что здание стояло на мосту, соответствовал третьему этажу башни; на этом-то уровне, для вящей безопасности, и устроили железную дверь.
Со стороны моста дверь выходила в библиотеку, а со стороны башни — в большую залу, своды которой поддерживала посредине мощная колонна. Зала, как мы уже говорили, помещалась на третьем этаже башни. Она была круглая, как и сама башня; свет туда проникал сквозь узкие бойницы, из которых открывался вид на всю округу. Неоштукатуренные стены обнажали кладку, камни которой были пригнаны, впрочем, с большим искусством. В залу вела винтовая лестница, устроенная прямо в стене, что нетрудно сделать, когда толщина стен достигает пятнадцати футов. В средние века город брали улицу за улицей, улицу — дом за домом, а дом — комнату за комнатой. В крепости осаждали этаж за этажом. В этом отношении Тург был построен весьма умело; взять его представлялось делом сложным, почти непосильным. Из этажа в этаж подымались по спиральной лестнице, что затрудняло продвижение, а дверные проемы, расположенные наискось, были ниже человеческого роста, так что при входе приходилось наклонять голову, а, как известно, нагнувший голову подставляет ее под удар; за каждой дверью осаждающего поджидал осажденный.
Под круглой залой с колонной были расположены две такие же залы, составлявшие второй и первый этажи, а наверху шли друг над другом еще три такие же залы; эти шесть ярусов, занимавшие весь корпус башни, увенчивались каменной крышей — площадкой, куда попадали через сторожевую вышку.
Для того чтобы устроить железную дверь, пришлось пробить всю толщу пятнадцатифутовой стены, в середине образовавшегося прохода и повесили дверь; поэтому, чтобы добраться до двери со стороны моста или со стороны башни, нужно было углубиться в проход на шесть-семь футов; когда дверь отпирали, оба прохода образовывали один длинный сводчатый коридор.
Со стороны моста в толще стены в коридоре имелась еще низенькая потайная дверца, через которую выходили на винтовую лестницу и попадали в коридор нижнего этажа замка, прямо под библиотекой, что тоже затрудняло действия неприятеля. К плоскогорью замок был повернут глухой стеной, и здесь кончался мост. Подъемный мост, примыкавший к низкой двери, соединял замок с плоскогорьем, а поскольку плоскогорье лежало выше моста, то мост, будучи опущен, находился в наклонном положении; он вел прямо в длинный коридор, именовавшийся кордегардией. Но, даже завладев этим помещением, неприятель не мог достичь железной двери, не взяв живой силой винтовую лестницу, соединявшую оба этажа.
6. БИБЛИОТЕКА
Библиотека, комната удлиненной формы, по размеру соответствовавшая ширине и длине моста, имела единственный выход — все ту же железную дверь. Потайная дверь, обитая зеленым сукном и поддававшаяся простому толчку, маскировала сводчатый проход, который приводил к железной двери. Стены библиотеки до самого потолка были уставлены застекленными шкафами, представлявшими собой прекраснейший образец искусства резьбы по дереву семнадцатого века. Свет проникал сюда через шесть широких окон, пробитых над арками, — по три с каждой стороны. Внутренность библиотеки была видна с плоскогорья. В простенках между окнами на резных дубовых консолях стояли шесть мраморных бюстов — Ермолая Византийского, навкратического грамматика Афинея, Свиды, Казабона, франкского короля Хлодвига и его канцлера Анахалуса, который, заметим в скобках, был такой же канцлер, как Хлодвиг — король.
В шкафах библиотеки хранилось изрядное количество книг. Один из увражей был известен во всем христианском мире. Мы имеем в виду древний фолиант in quarto с эстампами, на заглавном листе крупными буквами значилось «Святой Варфоломей», а ниже: «От святого Варфоломея Евангелие, коему предпослан трактат христианского философа Пантения, трактующий вопрос, следует ли почитать сие Евангелие апокрифическим и есть ли основания признавать тождество святого Варфоломея с Нафанаилом». Эта книга, признанная единственным сохранившимся экземпляром, лежала на отдельном пюпитре посреди библиотеки. Еще в минувшем веке посмотреть ее съезжались любопытствующие.
7. ЧЕРДАК
Чердак, как и библиотека, повторял вытянутую форму моста и был, в сущности, образован двумя скатами крыши. Это обширное помещение было завалено сеном и соломой и освещалось шестью окошками. Единственным его украшением являлась высеченная на двери фигура святого Варнавы и ниже надпись:
«Barnabus sanctus falcem jubet ire per herbam»[412].
Итак, высокая, просторная шестиэтажная башня с пробитыми бойницами единственным своим входом и выходом имела железную дверь, сообщавшуюся с замком, стоявшим на мосту, который, в свою очередь, заканчивался подъемным мостом; позади башни лес; перед ней плоскогорье, покрытое вереском, край которого возвышался над мостом, но был ниже самой башни; под мостом между башней и плоскогорьем глубокий, узкий, густо поросший кустарником овраг, зимой — грозный поток, весной — просто ручеек, каменистый ров — летом, — вот каким был Тур-Говэн, в просторечии Тург.
X ЗАЛОЖНИКИ
Миновал июль, шел август месяц, над всей Францией пронеслось героическое и грозное дыхание, две тени промелькнули на горизонте — Марат с кинжалом в боку и обезглавленная Шарлотта Корде; атмосфера накалилась до предела. А Вандея, проигравшая большую войну, исподтишка вела малую, еще более опасную, как мы уже говорили; теперь война превратилась в непрерывное сражение, в мелкие лесные стычки; великая, читай роялистская и католическая, армия начала терпеть поражение за поражением; вся майнцкая армия особым декретом была переброшена в Вандею; восемь тысяч вандейцев погибли под Ансени; вандейцев оттеснили от Нанта, выбили из Монтэгю, вышвырнули из Туара, прогнали из Нуармутье, опрокинули под Шолле, у Мортани и Сомюра, они очистили Партенэ, оставили Клиссон, отошли от Шатийона, потеряли знамя в бою при Сент-Илере; они были разбиты наголову под Порником, Саблем, Фонтенэ, Дуэ, Шато-д’О, Пон-де-Сэ; они потерпели поражение под Люсоном, отступили от Шатеньерэ, в беспорядке отхлынули от Рош-сюр-Ион; однако они угрожали Ла-Рошели, а в водах Гернсея бросил якорь под командованием Крэга английский флот, экипаж которого, состоявший из отборных морских офицеров-французов и многочисленных английских полков, ожидал для высадки лишь сигнала от маркиза де Лантенака. Высадка могла вновь принести победу роялистским мятежникам. Питт был преступником у кормила власти; предательство является частью политики, как кинжал — частью рыцарского вооружения. Питт поражал кинжалом нашу страну и предавал свою; позорить свое отечество — значит предать его; при нем и под его руководством Англия вела пуническую войну. Она шпионила, мошенничала, лгала. Браконьерство, подлог — она не брезговала ничем. Она опускалась до самых низких проявлений ненависти. Она скупала во Франции сало, дошедшее до пяти франков за фунт. В Лилле у одного англичанина нашли письмо от Приджера, агента Питта в Вандее, гласившее: «В деньгах можете не стесняться. Надеемся, что убийства будут совершаться с осторожностью. Старайтесь привлечь переодетых священников и женщин, как наиболее пригодных для этой цели. Перешлите шестьдесят тысяч ливров в Руан и пятьдесят тысяч в Кан». Письмо это Барер первого августа огласил в Конвенте. В ответ на коварные действия воспоследовали кровавые расправы Паррена, а затем жестокие меры Каррье. Республиканцы Меца и республиканцы Юга просили, чтобы их отправили на усмирение мятежа. Особым декретом были сформированы двадцать четыре саперные роты, получившие приказ жечь изгороди и плетни по всей лесной Бретани. Напряжение достигло предела. Война прекращалась в одном пункте, чтобы тут же разгореться в другом. «Никого не миловать! Пленных не брать!» — таков был наказ с обеих сторон. История полнилась ужасным мраком.
Этим августом замок Тург был осажден.
Однажды вечером, когда замерцали первые звезды, в тишине летних сумерек, не нарушаемой ни шорохом листвы в лесу, ни шелестом трав на равнине, внезапно раздался пронзительный звук рожка. Он шел с вышки башни.
Рожку ответил горн, звук которого шел снизу, с равнины.
На вышке стоял вооруженный человек; внизу, под сенью леса, расположился целый лагерь.
В сумерках можно было еще различить, как вокруг Тур-Говэна движутся какие-то черные тени. Это кишел бивуак. В лесу под деревьями и среди вереска на плоскогорье загорались огоньки, и эти беспорядочно разбросанные сверкающие точки прорезали темноту, словно земля решила одновременно с небом засиять звездами. Зловещие звезды войны! Бивуак со стороны плоскогорья спускался до самой равнины, а со стороны леса уходил в глубь чащи. Тург был окружен со всех сторон.
Самые размеры бивуака свидетельствовали о многочисленности осаждающих.
Лагерь тесно опоясал крепость и со стороны башни подходил вплотную к скале, а со стороны моста — вплотную к оврагу.
Во второй раз послышался рожок, а за ним вторично — горн.
Рожок спрашивал, горн отвечал.
Голосом рожка башня обращалась к лагерю: «Можно ли с вами говорить?» И лагерь голосом горна отвечал: «Да».
В те времена Конвент не рассматривал вандейских мятежников как воюющую сторону, и специальным декретом было запрещено обмениваться с лагерем «разбойников» парламентариями; поэтому при переговорах с противником, допускаемых в обычной войне и запрещенных в войне гражданской, обеим сторонам приходилось всячески изощряться. По этой причине и начался диалог между рожком-деревенщиной и военным горном. Первый сигнал явился как бы вступлением к дальнейшим переговорам, второй ставил вопрос: «Хотите нас слушать?» Если бы на второй зов рожка горн промолчал, это означало бы отказ; если бы горн ответил, следовательно, он соглашался. Это означало: начинается краткое перемирие.
Горн ответил на второй зов рожка; человек, стоявший на вышке башни, заговорил:
— Люди, вы, что слушаете меня сейчас, я Гуж ле Брюан, по прозвищу Синебой, ибо я уложил немало ваших, прозванный также Иманусом, ибо я еще убью их вдесятеро больше, чем убил до сих пор; во время атаки Гранвиля вы ударом сабли отрубили мне указательный палец, лежавший на курке, в Лавале вы гильотинировали моего отца, мать и мою сестру Жаклину, а ей было всего восемнадцать лет от роду. Вот кто я таков.
Я говорю с вами от имени маркиза Говэна де Лантенака, виконта де Фонтенэ, бретонского принца, хозяина Семилесья и моего господина.
Так знайте же, что, прежде чем запереться в этой башне, которую вы осадили, маркиз возложил военное командование на шестерых вождей, своих помощников: Дельеру он доверил всю округу между Брестской и Эрнейской дорогой; Третону — местность между Роэ и Лавалем; Жакэ, именуемому Железной Пятой, — опушку Верхне-Мэнского леса; Голье, по прозвищу Большой Пьер, — Шато-Гонтье; Леконту — Краон; Фужерский лес — господину Дюбуа-Ги и Майенну — господину Рошамбо; так что, если даже вы возьмете крепость, ничего вы этим не выиграете. Если даже нашему маркизу суждено погибнуть, Вандея — господа нашего и короля — не погибнет.
Говорю я это, чтобы вас предупредить. Маркиз де Лантенак находится здесь, рядом со мной. Я лишь уста, передающие его речь. Люди, осаждающие нас, не шумите.
Слушайте и вникайте.
Помните, что война, которую вы ведете против нас, — неправая война. Мы — здешние жители, и мы деремся честно, мы — люди простые и чистые сердцем, и воля божья для нас что роса для травинки. Это вы, это республика напала на нас, она пришла сеять смуту в наших селах, жечь наши дома и наши нивы, разбивать картечью наши фермы; это из-за вас наши жены и дети вынуждены были босыми бежать в леса, когда еще пела зимняя малиновка.
Вы, люди, пришедшие сюда и слушающие мои слова, вы преследовали нас в лесу; вы осадили нас в этой башне; вы перебили или рассеяли наших союзников; у вас есть пушки; вы пополнили свой отряд гарнизонами Мортэна, Барантона, Тейеля, Ландиви, Эврана, Тэнтениака и Витре, а это значит, что вас, нападающих, четыре тысячи пятьсот человек, нас же, защищающихся, всего девятнадцать.
У нас достаточно пуль и пороха и хватит съестных припасов.
Вам удалось подвести мину и взорвать часть нашей скалы и часть стены.
Внизу башни образовалась брешь, и вы можете даже ворваться через нее, хотя башня все еще стоит крепко и сводом своим надежно прикрывает брешь.
Теперь вы готовитесь к штурму.
А мы, и первый среди нас — его светлость маркиз, бретонский принц и светский приор аббатства Лантенакской божьей матери, где ежедневно служат обедню, как установлено было еще королевой Жанной, а затем и все остальные защитники башни, в числе их господин аббат Тюрмо, именуемый у нас Гран-Франкер; мой соратник Гинуазо — командир «Зеленого лагеря», мой соратник Зяблик — командир «Овсяного лагеря», мой соратник Мюзетт — начальник «Муравьиного лагеря», и я, простой мужик, уроженец местечка Дан, где протекает ручей Мориандр, — мы объявляем вам следующее.
Люди, стоящие под башней, слушайте меня.
В наших руках находятся трое пленников, иначе говоря, трое детей. Детей этих усыновил один из ваших батальонов, и потому они ваши. Мы предлагаем выдать вам этих детей.
Но при одном условии: дайте нам выйти из башни.
Если вы ответите отказом, — слушайте меня хорошенько, — вам остается напасть на нас либо со стороны леса через брешь, либо через мост со стороны плоскогорья. В замке, стоящем на мосту, три этажа: в нижнем этаже я, Иманус, тот, кто говорит с вами, припас шесть бочек смолы и сто снопов сухого вереска, в третьем этаже сложена солома, в среднем имеются книги и бумаги; железная дверь, которая соединяет замок с башней, заперта, и ключ от нее находится у его светлости маркиза де Лантенака; я собственноручно пробил под дверью дыру и протянул через нее шнур, пропитанный серой, один конец которого опущен в бочку со смолой, а другой — здесь, с этой стороны двери, то есть в башне; от меня зависит поджечь его в любую минуту. Если вы откажетесь выпустить нас на волю, мы поместим троих детей во втором этаже замка, между тем этажом, куда проходит пропитанный серой шнур и стоят бочки со смолой, и чердаком, где сложена солома, а железную дверь я запру своими руками. Если вы пойдете штурмом со стороны моста — вы сами подожжете замок; если вы нападете на нас со стороны леса — подожжем замок мы; если вы нападете на нас сразу и через мост и через пролом — значит, подожжем мы с вами одновременно. И дети в любом случае погибнут.
А теперь решайте: согласны вы на наши условия или нет.
Если согласны, мы уйдем.
Если отказываетесь — дети умрут.
Я кончил.
Человек, говоривший с вышки, замолк.
Чей-то голос крикнул снизу:
— Мы не согласны.
Голос прозвучал сурово и резко. Другой голос, менее суровый, но столь же твердый, добавил:
— Даем вам двадцать четыре часа на размышление, сдавайтесь без всяких условий.
Воцарилось молчание, затем тот же голос произнес:
— Завтра, в этот же час, если вы не сдадитесь, мы начнем штурм.
А первый голос добавил:
— Но уж тогда не ждите пощады!
На этот устрашающий возглас ответили с башни. При ярком сиянии звезд стоящие внизу увидели, как между двумя бойницами склонилась чья-то фигура, и все узнали грозного маркиза де Лантенака; маркиз пристально рассматривал бивуак, как бы ища кого-то взором, и вдруг воскликнул:
— Ага, да это ты, иерей!
— Да, это я, злодей! — ответил снизу суровый голос.
XI ПО-ДРЕВНЕМУ ГРОЗНЫЙ
Суровый голос действительно принадлежал Симурдэну; голос более юный и не столь властный принадлежал Говэну.
Маркиз де Лантенак не ошибся, окликнув Симурдэна.
В короткий срок в этом краю, залитом кровью гражданской войны, имя Симурдэна, как мы говорили, приобрело славу; пожалуй, редко, на чью долю выпадает столь грозная известность; говорили: «В Париже Марат, в Лионе Шалье, в Вандее Симурдэн». Всеобщее уважение, которым пользовался раньше Симурдэн, обернулось теперь всеобщим порицанием — таково неизбежное следствие снятия с себя духовного сана. Симурдэн внушал ужас. Люди мрачные — обычно несчастливцы; кто видит лишь их поступки, осуждает их, но кто заглянул бы им в душу, возможно, отпустил бы им грехи. Непонятый Ликург может показаться Тиберием. Так или иначе, два человека — маркиз де Лантенак и аббат Симурдэн — весили одинаково на весах ненависти; проклятия, которые обрушивали роялисты на голову Симурдэна, являлись как бы противовесом той брани, которой республиканцы осыпали Лантенака. Каждого из них в противостоящем лагере почитали чудовищем; именно в силу этого и произошел знаменательнейший факт — в то время как Приер Марнский оценивал в Гранвиле голову Лантенака, Шаретт в Нуармутье оценивал голову Симурдэна.
Добавим, что эти два человека — маркиз и священник — были в каком-то отношении как бы одним существом. Бронзовая маска гражданской войны двулика — одной стороной она обращена к прошлому, другой — к будущему, но оба лика ее равно трагичны. Лантенак был первым, а Симурдэн — вторым ликом; но горькая усмешка Лантенака была скрыта ночной мглой, а на роковом челе Симурдэна лежал отблеск встающей зари.
Тем временем осажденные в Турге получили отсрочку.
Благодаря вмешательству Говэна, как мы уже знаем, решено было сделать передышку на двадцать четыре часа.
Впрочем, Иманус и впрямь был хорошо осведомлен; благодаря настойчивым требованиям Симурдэна, Говэн имел под ружьем четыре с половиной тысячи человек: частично солдат национальной гвардии, частично из линейных полков; с этим отрядом он окружил Лантенака в Турге и мог выставить против него двенадцать орудии: шесть со стороны башни, на опушке леса, и шесть на плоскогорье, против замка. Кроме того, осаждавшие подвели мину, и в нижней части башни образовалась после взрыва брешь.
Итак, с окончанием суточной передышки штурм должен был начаться в описываемой ниже обстановке.
На плоскогорье и в лесу собралось четыре тысячи пятьсот человек.
В башне — девятнадцать.
Имена этих девятнадцати осажденных история сохранила в списках лиц, объявленных вне закона. Нам, возможно, придется еще встретиться с ними.
Когда Говэна поставили во главе четырех с половиной тысяч человек — почти целой армии, Симурдэн решил добиться для своего питомца чина генерал-адъютанта. Говэн отказался, он заявил: «Сначала захватим Лантенака, а там посмотрим. Пока же у меня еще нет достаточно заслуг».
Впрочем, руководство крупными воинскими соединениями при небольших чинах было вполне в духе республиканских нравов. Позже Бонапарт был одновременно командиром артиллерийского эскадрона и генерал-аншефом Итальянской армии.
Странная судьба выпала на долю Тур-Говэна; один Говэн шел на него штурмом, другой Говэн его защищал. Поэтому нападающие действовали с известной осторожностью, чего нельзя было сказать об осажденных, так как не в натуре господина де Лантенака было щадить кого-либо и что-либо; кроме того, прожив всю жизнь в Версале, он не питал никакого пристрастия к Тургу, да и вряд ли помнил свое родное гнездо. Он укрылся в Турге просто потому, что поблизости не оказалось более подходящего убежища, но не моргнув глазом мог бы разрушить его до основания. Говэн же относился к родным местам с большим уважением.
Наиболее уязвимым местом крепости был мост; но в библиотеке, которая помещалась в замке, хранились все семейные архивы; если начать штурм со стороны моста, неизбежен пожар, а Говэну казалось, что сжечь семейные архивы — все равно что посягнуть на своих предков. Тург был фамильным замком Говэнов; из этой башни управлялись все их бретонские лены, точно так же как все лены Франции управлялись из Луврской башни; все воспоминания детства Говэна связывались с Тургом, да и сам он родился тут; своими самыми извилистыми путями рок привел Говэна к взрастившей его башне, и теперь ему, взрослому, предстояло штурмовать эти древние стены, охранявшие его, когда он был ребенком. Неужели он святотатственно подымет на них руку, предаст огню? Может быть, там, в углу чердака или библиотеки, еще стоит его колыбелька. Порой размышления — те же чувства. Видя перед собой старинное семейное гнездо, Говэн испытывал волнение. Поэтому-то он решил пощадить мост. Он ограничился тем, что приказал зорко охранять все входы и выходы, дабы ни один беглец не мог проскользнуть незамеченным, а также держать мост под угрозой обстрела; для штурма же он избрал противоположную сторону. По его приказу под основание башни и подвели мину.
Симурдэн не препятствовал действиям Говэна и упрекал себя за это, ибо его суровое сердце не испытывало ни малейшего умиления перед стариной, он был так же не склонен щадить здания, как и людей. Пощадить замок — это уже начало милосердия. А милосердие и так было слабой стороной Говэна: Симурдэн, как мы уже знаем, не спускал глаз со своего питомца и старался остеречь его от этого пагубного, по мнению Симурдэна, пути. Но и сам он не мог глядеть на Тург без какого-то внутреннего трепета, хотя гневно корил себя; сердце его невольно смягчалось при виде библиотеки, где еще хранились книги, которые по его указанию когда-то прочел Говэн; он был священником в соседнем селении Паринье; сам он, Симурдэн, жил на верхнем этаже замка; в этих комнатах, поставив между колен крошку Говэна, слушал он, как тот складывает слоги; здесь, меж этих древних стен, у него на глазах его возлюбленный ученик, чадо его души, становился взрослым человеком, здесь зрел его разум. Неужели же придется разрушить и сжечь эту библиотеку, этот замок, эти стены, видевшие не раз, как он благословлял отрока Говэна? И он пощадил их. Пощадил скрепя сердце.
Он не возражал против плана Говэна — повести штурм со стороны леса. Тург как бы делился на две части: варварскую — башню, и цивилизованную — библиотеку. И Симурдэн согласился с тем, чтобы Говэн нанес удар лишь по этой, варварской части.
Итак, осажденная одним Говэном и защищаемая другим Говэном, старинная крепость в самый разгар французской революции возвращалась к своим феодальным привычкам. Вся история средних веков повествует о войнах между родичами; Этеоклы и Полиники не только греки, но также и готы, а Гамлет в Эльсиноре совершил то же, что совершил Орест в Аргосе.
XII НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ
Всю ночь обе стороны неутомимо готовились к бою.
Как только окончились зловещие переговоры, Говэн первым делом позвал своего лейтенанта.
Гешан, с которым мы хотим познакомить читателя, человек заурядный, но честный и бесстрашный, был как бы создан для вторых ролей, — образцовый солдат, однако посредственный военачальник, понятливый, но не в ущерб долгу, который иногда запрещает понимать, ни разу в жизни ничему не умилившийся, ни разу не поддавшийся позорной слабости, в чем бы таковая ни проявлялась, — в подкупе ли, совращающем совесть человека, в сострадании ли, совращающем человека со стези справедливости. Он как бы отгородил от жизни свою душу и сердце двумя заслонами: дисциплиной и повиновением — и, подобно коню в шорах, шел только вперед по отведенной ему тропе. Его шаг был тверд, но дорога узка.
При всем том человек надежный — непреклонный командир, исполнительный солдат.
Говэн обратился к подошедшему к нему лейтенанту:
— Гешан, нужна лестница.
— У нас нет лестницы, командир.
— Нужно достать.
— Для штурма?
— Нет, для спасения.
Гешан подумал и ответил:
— Понимаю. Но для этого требуется очень длинная лестница.
— На три этажа, не меньше.
— Да, командир, более короткая не дойдет.
— Нужно даже чуть подлиннее, чтобы действовать наверняка.
— Безусловно.
— Как же могло случиться, что у нас нет лестницы?
— Но ведь, командир, вы сами рассудили, что удобнее штурмовать Тург не с плоскогорья, и решили обложить его только с этой стороны; вы хотели штурмовать не мост, а башню. Поэтому все сейчас заняты подкопом и отказались от мысли взять замок приступом. Вот почему у нас нет лестницы.
— Прикажите сколотить лестницу на месте.
— Лестницу, чтобы хватило на три этажа, так сразу не сколотишь.
— Прикажите составить несколько коротких лестниц.
— Для этого нужно иметь короткие лестницы.
— Разыщите их.
— Где же тут разыскать? Крестьяне во всей округе порубили лестницы, точно так же как разобрали все повозки и разрушили все мосты.
— Это верно, они хотят связать действия Республики.
— Они хотят, чтобы мы ни на повозках не ездили, ни через реку не перебрались, ни через стену не перелезли.
— Однако мне нужна лестница.
— Я вот что думаю, командир. В Жавенэ, неподалеку от Фужера, есть большая плотничья мастерская. Там можно раздобыть лестницу.
— Нельзя терять ни минуты.
— А когда вам нужна лестница?
— Завтра в этот же час, самое позднее.
— Сейчас я пошлю в Жавенэ верхового. Дам приказ, чтобы там срочно изготовили лестницу. В Жавенэ расквартирован кавалерийский пост, они и доставят нам лестницу под охраной. Значит, мы будем иметь ее здесь завтра еще до захода солнца.
— Прекрасно, — сказал Говэн. — Идите. Поскорее отдайте распоряжения.
Через десять минут Гешан подошел к Говэну и доложил:
— Командир, нарочный отправлен в Жавенэ.
Говэн поднялся на плоскогорье, он долго и пристально глядел на замок, отделенный рвом. По ту сторону крутого обрыва возвышалась глухая стена замка, от крыши до фундамента в ней не было ни окон, ни дверей, если не считать низенькой дверцы, прикрытой сейчас подъемным мостом. Чтобы добраться с плоскогорья до подножия мостовых устоев, надо было спуститься вниз по крутому склону обрыва, что, впрочем, не представляло трудностей, так как густой кустарник облегчал спуск. Но, оказавшись на дне обрыва, нападающий становился мишенью для ядер, которые можно было метать из всех трех этажей замка. Говэн лишний раз убедился, что при подобном положении вещей штурм разумнее всего вести лишь через пролом в башне.
Он принял все меры, чтобы предотвратить любую попытку к бегству. Он еще ближе подтянул к башне свои войска, обложившие Тург, еще теснее сжал сеть своих батальонов, чтобы ни один беглец не мог проскользнуть незамеченным. Говэн и Симурдэн поделили между собой командование предстоящим штурмом — Говэн взял на себя действия со стороны леса и предоставил Симурдэну плоскогорье. Было условлено, что, пока Говэн с Гешаном атакуют башню через пролом, Симурдэн будет держать под наблюдением мост и ров, имея под рукой заряженные и готовые к залпу орудия.
XIII ЧТО ДЕЛАЕТ МАРКИЗ
В то время как снаружи шли приготовления к штурму, внутри башни шли приготовления к обороне.
Неспроста башню сравнивают с бочкой: между ними существует то сходство, что иной раз башню можно пробить с помощью мины, как бочку с помощью пробойника. Из стены словно вынимают втулку. Как раз это и произошло в Турге.
Мощный удар пробойника, иначе говоря, взрыв двух-трех квинталов пороха, продырявил стену в нескольких местах. У подножия башни в самой толще стены образовалась сквозная брешь, и это отверстие в нижнем этаже напоминало арку неправильной формы. Осаждающие пустили в пролом несколько ядер с целью расширить его, чтобы удобнее было начать приступ.
Весь нижний этаж башни, куда вел пролом, был занят огромной круглой залой, совершенно пустой, с мощной колонной, поддерживающей свод. Эта зала, самое просторное помещение во всем Турге, насчитывала по меньшей мере сорок футов в диаметре. В каждом этаже башни имелись такие же круглые залы с бойницами и амбразурами, суживавшиеся по мере удаления от фундамента. В самой нижней зале не было ни амбразур, ни отдушин, ни окон; света и воздуха не больше, чем в могиле.
Именно из этой залы вела в подземную темницу дверь, окованная железом. Другая дверь выводила на лестницу, но которой можно было попасть на верхние этажи. Все лестницы в башне были высечены в толще ее стен.
Осаждающие могли попасть в залу через пролом. Овладев залой, они должны были еще овладеть всей башней.
В этой зале с низко нависшими сводами всегда спирало дыхание. Провести в ней сутки — значило задохнуться. Теперь же благодаря пролому там можно было дышать.
Вот потому-то осажденные и решили не закрывать бреши.
Да и к чему, впрочем? Ядро разрушило бы любой заслон.
Осажденные вбили в стену железную скобу, вставили в нее факел и таким образом осветили помещение.
Но как выдержать атаку?
Заложить пролом не составило бы труда, но и не принесло бы пользы. Куда разумнее устроить редюит с входящим углом, что позволит открыть по неприятелю сосредоточенный огонь и, оставив брешь снаружи открытой, прикрыть ее таким образом изнутри. Материалов для постройки редюита хватало, и редюит возвели, оставив отверстия для ружейных дул. Угол редюита упирался в колонну, стоявшую посреди залы; оба его крыла доходили до двух противоположных стен. Теперь предстояло только заложить фугасы в наиболее подходящих местах.
Всеми работами руководил сам маркиз. Вдохновитель, начальник, вождь и хозяин — человек страшной души.
Лантенак принадлежал к той породе военачальников восемнадцатого века, которые и восьмидесятилетними стариками спасали города. Он напоминал графа Альберта, который чуть ли не столетним старцем отбросил от стен Риги польского короля.
— Мужайтесь, друзья, — говорил маркиз, — в начале нашего века, в тысяча семьсот тринадцатом году, шведский король Карл Двенадцатый засел в Бендерах в одном из домов и, имея в своем распоряжении всего триста солдат, выдержал осаду против двадцати тысяч турок.
Быстро забаррикадировали два нижних этажа, обезопасили входы, устроили в нишах бойницы, заложили двери брусьями, вбив их в пол деревянным молотком, так что получился как бы ряд контрфорсов; лишь подходы к винтовым лестницам, соединяющим все ярусы башни, пришлось оставить свободными для удобства передвижения; закрыть этот проход от нападающих означало закрыть его от самих осажденных. У каждой осажденной крепости имеется своя уязвимая сторона.
Лантенак, неутомимый, крепкий, как юноша, сам таскал балки, подносил камни; он показывал пример прочим, брался за любое дело, давал распоряжения, помогал и, братаясь с этой свирепой шайкой, обращался к ней с шуткой, сам смеялся вместе с прочими и все же оставался сеньором — высокородным, простым, изящным, жестоким.
Избави бог ослушаться его. Он говорил: «Если половина из вас взбунтуется, я прикажу другой половине расстрелять бунтовщиков и стану защищать крепость с горсткой оставшихся людей». Вот что заставляет обожать вождя.
XIV ЧТО ДЕЛАЕТ ИМАНУС
В то время как маркиз занимался проломом и башней, Иманус занимался замком, стоявшим на мосту. С начала осады спасательная лестница, висящая вдоль стены под окнами второго этажа, была по приказанию маркиза убрана, а Иманус втащил ее в библиотеку. По-видимому, Говэн хотел заменить именно эту лестницу. Окна нижнего этажа, иначе говоря, помещения для кордегардии, были забраны тройными рядами железных прутьев, вделанных в каменную стену, так что через них нельзя было ни выйти, ни войти.
Правда, в библиотеке на окнах не было решеток, зато расположены они были на значительной высоте.
Иманус взял с собой трех человек, таких же, как и он сам, способных на все и ко всему готовых. Это были Уанар, иначе Золотая Ветка, и два брата, известные под кличкой Деревянные Копья. Иманус захватил потайной фонарь, отпер железную дверь и тщательно осмотрел все три этажа замка. Уанар, с тех пор как у него убили брата, не уступал в жестокости самому Иманусу.
Сначала Иманус обошел верхний этаж, забитый соломой и мешками с овсом, потом нижний и велел принести сюда несколько чугунных горшков, которые и поставил рядом с бочками смолы; затем он распорядился подтащить пучки вереска к бочкам и проверил, правильно ли лежит пропитанный серой шнур, один конец которого находился в замке, а другой в башне. Вокруг бочек он налил лужу смолы и окунул в нее конец шнура; потом по его приказу в библиотеку, находившуюся между нижним этажом, где стояли бочки со смолой, и чердаком, где лежала солома, принесли три колыбельки, в них спали крепким сном Рене-Жан, Гро-Алэн и Жоржетта. Колыбельки несли осторожно, чтобы не разбудить малюток.
Впрочем, это были и не колыбельки даже, а просто низенькие ясельцы на манер ивовых корзин, которые ставят прямо на землю, так что ребенок может выбраться оттуда без посторонней помощи. Возле каждой такой кроватки Иманус велел поставить мисочку с супом и положить деревянную ложку. Спасательную лестницу, снятую с крючьев, поставили на ребро вдоль стены, а колыбельки разместили в противоположном конце, как раз напротив лестницы. Потом, решив, что в подобных случаях ветер — надежный пособник, Иманус распахнул все шесть огромных окон библиотеки. За окнами стояла ночь — летняя, теплая, светлая.
Иманус приказал братьям Деревянные Копья распахнуть окна также в нижнем и в верхнем этаже. Он заметил, что восточный фасад замка от земли до самой крыши обвит иссохшим и серым, как трут, плющом, ветки которого заглядывают в окна всех трех этажей. Иманус решил, что и плющ не помешает. Он бросил вокруг последний взгляд, затем все четверо покинули замок и вернулись в башню. Иманус запер тяжелую железную дверь на два поворота ключа, внимательно осмотрел огромный, устрашающего вида запор и, еще раз удовлетворенно кивнув головой, проверил шнур, который выходил через проделанное для него отверстие и служил отныне единственным связующим звеном между замком и башней. Начало этот шнур брал в круглой зале, проходил под железной дверью, шел вдоль сводчатого прохода, извивался вместе с поворотами винтовой лестницы, тянулся по полу нижнего этажа замка и заканчивался в луже смолы у кучи сухих пучков вереска. Иманус высчитал, что потребуется приблизительно четверть часа для того, чтобы огонь по шнуру, подожженному в башне, добрался до лужи смолы, разлитой под библиотекой. Закончив последние приготовления и оглядев все в последний раз, он вручил ключ от железной двери маркизу, который и положил его в карман.
Надо было зорко следить за каждым движением врага. Иманус, с пастушьим рожком за поясом, поднялся на сторожевой пост на вершину башни. Он положил в одну из амбразур пороховницу, холщовый мешочек с пулями и пачку старых газет и, не спуская глаз с леса и плоскогорья, стал крутить пыжи.
Когда взошло солнце, оно озарило три батальона, расположенные на опушке леса: солдаты, с саблями на боку, с патронташами через плечо, с примкнутыми штыками, уже были готовы к штурму; на плоскогорье стояла батарея, зарядные ящики, полные ядер, и зарядные картузы; лучи, проникшие в башню, осветили девятнадцать человек, заряжавших ружья, мушкеты, пистолеты и мушкетоны, а также три колыбельки, где спали трое малюток.
Книга третья КАЗНЬ СВЯТОГО ВАРФОЛОМЕЯ
I
Дети проснулись.
Первой проснулась крошка Жоржетта.
Когда просыпается ребенок, словно открывается венчик цветка; кажется, от весенне-свежей души исходит благоухание.
Жоржетта, девица года и восьми месяцев, самая младшая из троих ребятишек, которая еще в мае сосала грудь, подняла голову, уселась, взглянула на свои ножки и защебетала.
Солнечный луч скользнул по колыбельке; и казалось, даже розовая заря блекнет по сравнению с розовыми ножками Жоржетты.
Двое старших еще спали — мужчины тяжелы на подъем.
А Жоржетта весело и невозмутимо щебетала.
Рене-Жан был брюнет, Гро-Алэн — шатен, а Жоржетта — блондинка. Оттенок волос у детей меняется с годами. Рене-Жан был похож на младенца Геркулеса; спал он ничком, уткнувшись лицом в сжатые кулачки. Гро-Алэн во сне свесил с постели ноги.
Все трое были в лохмотьях; батальон «Красный колпак» обмундировал своих питомцев, но платьице и белье успели с тех пор износиться — то, во что они были облачены, уже нельзя было даже назвать рубашонками: мальчики спали почти голые, а Жоржетта щеголяла в юбке, вернее, в какой-то тряпице, державшейся на одной шлейке. Кто заботился о малышах? Трудно ответить на этот вопрос, матери у них не было. Одичавшие вояки-крестьяне, таскавшие за собой ребятишек по всему Семилесью, часто делились с ними солдатской похлебкой. Вот и все. Так малыши и жили — как могли. У них были сотни хозяев, но не было отца. Но от детских лохмотьев всегда исходит сияние. Все трое были прелестны.
Жоржетта лепетала.
Птица — поет, ребенок — лепечет. И то и другое — гимн. Невнятный, нечленораздельный, проникновенный. Но только птице не сужден тот печальный человеческий удел, что ждет ребенка. Вот почему взрослые с грустью слушают то, о чем так радостно щебечет ребенок. Нет на земле возвышенней песни, чем неясное лепетание человеческой души, вещающей устами младенца. В этом сбивчивом шепоте мысли, даже не мысли еще, а пока только инстинкта, слышится неосознанный призыв к вечной справедливости; быть может, душа возмущается, не желая переступить порог жизни; смиренное и трогательное до слез возмущение; эта улыбка неведения, обращенная к бесконечности, словно обличает все сущее, удел, уготованный слабому и беззащитному. Послать ему беды — значит злоупотребить его доверием.
Лепет ребенка — это и больше и меньше, чем слова: это не звуки музыки, но это песнь, это не слоги, но это речь; лепет этот начался еще на небесах, и ему не будет конца на земле; он предшествовал рождению ребенка и звучит сейчас; это продолжение. В этой невнятице заключено то, что говорило дитя, будучи ангелом, и то, что скажет оно, став человеком; колыбель имеет свое Вчера, как могильный склеп свое Завтра; это Вчера и это Завтра сливают в таинственном щебете свое двойное неведение; и ничто не доказывает столь бесспорно существование бога, вечности, виновности, двойственности рока, как грозная тень грядущего, омрачающая эту розовую, словно заря, душу.
Но, видно, Жоржетта лепетала о чем-то таком, что не омрачало души, так как все ее кроткое личико улыбалось. Улыбались губки, глаза, улыбались ямочки на щеках. И эта улыбка была как бы приятием занимавшегося дня. Душа верит свету. Небо было голубое, воздух теплый, погода прекрасная. И это хрупкое создание, ничего не знающее, ничего не ведающее, ничего не понимающее, баюкаемое мечтой, которая еще не стала мыслью, смело вверяло себя природе, честности леса, искренности зелени, чистым и мирным долинам, хлопотливым птицам у гнезд, ручейку, мошкаре, листьям — всему, над чем сияло солнце во всей своей торжествующей Непорочности.
Вслед за Жоржеттой проснулся старший — Рене-Жан, которому — не шутка — шел уже пятый год. Он встал во весь рост, храбро перешагнул через край корзины, заметил миску с супом и, ничуть не удивившись, уселся прямо на пол и принялся за еду.
Лепет Жоржетты не разбудил Гро-Алэна, но услышав сквозь сон мерный стук ложки о миску, он открыл глаза. Гро-Алэну было три года. Он тоже увидел еду и, не долго думая, нагнулся, схватил миску и, усевшись поудобнее, поставил ее на колени, в правую руку взял ложку и последовал примеру Рене-Жана.
Жоржетта ничего не слыхала, и переливы ее голоса, казалось, следовали баюкающему ладу ее грез. Ее широко раскрытые глаза были устремлены ввысь, взгляд их был божественно чист; даже когда над головой ребенка нависает низкий свод или потолок, в зрачках его отражается небо.
Рене-Жан кончил есть, поскреб ложкой по донышку миски, вздохнул и степенно заметил:
— Весь суп съел.
Эти слова вывели Жоржетту из задумчивости.
— Суп съей, — повторила она.
И, увидев, что Рене-Жан поел, а Гро-Алэн ест, она подтянула свою мисочку к кроватке и принялась за еду; не скроем, что при этом ложку она чаще подносила к уху, чем ко рту.
Подчас она отбрасывала прочь навыки цивилизации и запускала в миску всю пятерню.
Гро-Алэн в подражание Рене-Жану тоже поскреб ложкой по донышку миски, потом вскочил с постели и побежал вслед за старшим братом.
II
Вдруг откуда-то снизу, со стороны леса, донеслось пение горна — требовательный и властный зов. И на призыв горна с вершины башни ответил рожок.
На сей раз спрашивал горн, а отвечал рожок.
Вторично заиграл горн, и вторично отозвался рожок.
Потом на опушке леса раздался приглушенный расстоянием голос, однако каждое слово звучало ясно:
— Эй, разбойники! Сдавайтесь. Если вы не сдадитесь на милость победителя до захода солнца, мы начнем штурм.
И с башенной вышки отозвался громовой голос:
— Штурмуйте!
Голос снизу продолжал:
— За полчаса до начала штурма мы выстрелим из пушки, и это будет наше последнее предупреждение.
Голос сверху повторил:
— Штурмуйте!
Дети не могли слышать этих голосов, но звуки горна и рожка, более звонкие и сильные, проникли в библиотеку; Жоржетта при первом звуке горна вытянула шею и перестала есть; когда горну ответил рожок, она отложила в сторону ложку; когда снова заиграл горн, она подняла правую ручонку и стала медленно водить вверх и вниз указательным пальчиком, следуя ритму горна, которому вторил рожок; когда же рожок и горн замолкли, она, не опуская пальчика, задумчиво пролепетала:
— Музика!
Надо думать, что она хотела сказать «музыка».
Двое старших — Рене-Жан и Гро-Алэн — не обратили внимания ни на рожок, ни на горн; они были всецело захвачены другим: по полу ползла мокрица.
Гро-Алэн первый заметил ее и закричал:
— Зверь!
Рене-Жан подбежал к брату.
— Укусит! — предупредил Гро-Алэн.
— Не обижай его! — приказал Рене-Жан.
И оба стали рассматривать забредшую в библиотеку странницу.
Жоржетта тем временем покончила с супом; она обернулась, ища братьев. Рене-Жан и Гро-Алэн, забившись в проем окна, присели на корточки и с озабоченным видом рассматривали мокрицу; касаясь друг друга головой, смешав свои черные и каштановые локоны, они боялись громко дохнуть и с восхищением следили за зверем, который застыл на месте и не шевелился, отнюдь не польщенный таким вниманием.
Жоржетта заметила, что братья чем-то занялись, ей тоже захотелось посмотреть; хотя добраться до окна было делом нелегким, она все же решилась; предстоявшее ей путешествие было чревато опасностями: на полу валялись стулья, опрокинутые табуретки, кучи каких-то бумаг, какие-то пустые ящики, сундуки, груды хлама, и требовалось обогнуть весь этот архипелаг подводных рифов! Но Жоржетта все-таки рискнула. Первым делом она вылезла из кроватки; потом миновала первые рифы, проскользнула в пролив, оттолкнув по дороге табуретку, потом прошмыгнула между двух ящиков, взобралась на связку бумаг и съехала на пол, с милой беззастенчивостью показав при этом свое голое розовое тельце, и наконец достигла того, что моряк назвал бы открытым морем, то есть довольно обширного пространства, ничем не заставленного, где уже ничто не грозило путнице; тут она снова пустилась в путь, быстро, как котенок, пересекла на четвереньках наискось почти всю библиотеку и достигла окна, где ее ждало новое грозное препятствие: длинная лестница, стоявшая на ребре вдоль стены, не только доходила до окна, но даже выдавалась за угол проема; таким образом, Жоржетту отделял от братьев мыс, и его нужно было обогнуть; Жоржетта остановилась и призадумалась; закончив свой внутренний монолог, она наконец решилась: смело уцепилась розовыми пальчиками за одну из перекладин лестницы, которые шли не в горизонтальном, а в вертикальном направлении, так как лестница стояла набоку, и попыталась подняться на ноги, но пошатнулась и села; она повторила свою попытку; два раза она шлепнулась, и только в третий раз ей удалось встать во весь рост и выпрямиться; тогда, перехватывая ручонками ступеньку за ступенькой, она двинулась вдоль лестницы; но, когда добралась до мыса, ступеньки кончились; тут, лишившись опоры, она зашаталась, однако успела вовремя удержаться за огромное ребро лестницы, выпрямилась, обогнула мыс, взглянула на Рене-Жана и Гро-Алэна и засмеялась.
III
Как раз в эту минуту Рене-Жан, досыта налюбовавшийся мокрицей, поднял голову и заявил:
— Это самка.
Услышав смех Жоржетты, засмеялся и Рене-Жан, а услышав смех Рене-Жана, засмеялся и Гро-Алэн.
Жоржетта благополучно добралась до братьев, и все трое уселись в кружок прямо на полу.
Но мокрица исчезла.
Воспользовавшись весельем детей, она уползла в щель.
Зато вслед за мокрицей начались следующие происшествия.
Сначала прилетели ласточки.
Должно быть, они свили себе гнездо над выступом стены. Встревоженные появлением детей, они летали под окном, описывая в воздухе широкие круги, и нежно, по-весеннему щебетали.
Дети повернулись к окну, и мокрица была забыта.
Жоржетта ткнула пальчиком в сторону ласточек и крикнула:
— Петусек!
Но Рене-Жан тут же осадил сестру:
— Эх ты, какой же это петушок, надо говорить: птички.
— Птицьки, — повторила Жоржетта.
И все трое начали следить за полетом ласточек.
Потом появилась пчела.
Пчелу с полным правом можно сравнить с душой человека. Подобно тому как душа перелетает со звезды на звезду, так и пчела перелетает с цветка на цветок и несет с собой мед, как душа приносит с собой свет.
Пчела появилась с шумом, она жужжала во весь голос и всем своим видом хотела сказать: «Вот и я! Я обжужжала все розы, а сейчас желаю посмотреть на детей. Что тут происходит?»
Пчела — рачительная хозяйка, и, даже напевая свою песенку, она не может не брюзжать.
Пока пчела летала по комнате, дети не спускали с нее глаз.
Пчела деловито обследовала всю библиотеку, заглянула в каждый уголок, словно находилась у себя дома, в собственном улье, и с мелодичным жужжанием, трепеща крылышками, медленно пролетела вдоль всех шкафов, заглядывая через стекла на корешки книг, легкая, будто пух.
Закончив осмотр библиотеки, она удалилась.
— Домой пошла, — сказал Рене-Жан.
— Это зверь! — сказал Гро-Алэн.
— Нет, — возразил Рене-Жан, — это мушка.
— Муська, — повторила Жоржетта.
Тут Гро-Алэн обнаружил на полу веревку с узелком на конце и, крепко зажав другой конец между большим и указательным пальцем, стал вращать ее, с глубоким вниманием глядя на описываемые ею круги.
Жоржетта, снова предпочтя более надежный способ передвижения, на манер четвероногих, облазила во всех направлениях залу и обнаружила нечто достойное внимания — почтенное старое кресло, побитое молью, из-под обивки которого вылезал конский волос. Жоржетта остановилась возле кресла. Она раздирала пальчиком дыры и с озабоченным видом вытаскивала оттуда волос.
Вдруг она подняла пальчик, что означало: «Слушайте!»
Оба ее брата обернулись.
Снаружи доносился глухой и неясный шум: должно быть, готовясь к штурму, перестраивались части, расквартированные на опушке леса; ржали кони, слышалась дробь барабанов, с грохотом передвигались снарядные ящики, лязгали цепи, перекликались горны, и все эти разрозненные грозные шумы казались издали даже гармоничными: дети слушали как зачарованные.
— Это божемоинька гремит, — сказал Рене-Жан.
IV
Шум прекратился.
Рене-Жан вдруг загрустил.
Кто знает, почему и как в крохотном мозгу возникают и исчезают мысли. Какими таинственными путями идет работа памяти, столь еще короткой и неустойчивой? И в головке притихшего, задумавшегося ребенка смешались в одно: «божемоинька», молитва, сложенные руки, чье-то лицо, которое с нежной улыбкой склонялось над ним когда-то, а потом исчезло, и Рене-Жан тихо прошептал:
— Мама.
— Мама, — сказал Гро-Алэн.
— Мам, — повторила Жоржетта.
И вдруг Рене-Жан запрыгал.
Увидев это, Гро-Алэн тоже запрыгал.
Гро-Алэн повторял все жесты и движения Рене-Жана. Жоржетта тоже повторяла, но не так свято. В три года нельзя не подражать четырехлетним, но в год восемь месяцев можно позволить себе большую самостоятельность.
Жоржетта осталась сидеть на полу, время от времени произнося какое-нибудь слово. Жоржетта не умела еще складывать фраз. Как истый мыслитель, она говорила афоризмами, и притом односложными.
Однако немного погодя пример братьев заразил и ее, она присоединилась к их игре, и три пары босых детских ножонок заплясали, забегали, затопали по пыльному дубовому паркету, под строгим взглядом мраморных бюстов, на которые то и дело боязливо поглядывала Жоржетта, шепча себе под нос: «Дядядьки».
На языке Жоржетты слово «дядядька» обозначало все, что похоже на человека, но в то же время и не совсем человек. Живые существа неизбежно смешаны в представлении ребенка с призраками.
Жоржетта следовала по зале за братьями, но она была не особенно тверда на ногах и посему предпочитала передвигаться на четвереньках.
Вдруг Рене-Жан, подойдя к окну, поднял голову, потом опустил ее на грудь и забился в угол. Он заметил, что кто-то на него смотрит. Это был синий, солдат из лагеря, расположенного на плоскогорье; пользуясь перемирием, а может быть, отчасти и нарушая его, он отважился добраться до крутого склона обрыва, откуда была видна внутренность библиотеки. Заметив, что Рене-Жан спрятался, Гро-Алэн спрятался тоже, забившись в угол рядом с братом, а Жоржетта спряталась за них обоих. Так они стояли, не двигаясь, не произнося ни слова, а Жоржетта даже приложила пальчик к губам. Немного спустя Рене-Жан осмелел и высунул голову: солдат по-прежнему был тут. Рене-Жан быстро отпрянул от окна, и трое крошек не смели теперь даже дышать. Это длилось довольно долго. Наконец Жоржетте наскучило бояться, она расхрабрилась и выглянула в окно. Солдат ушел. Ребятишки снова принялись резвиться и играть.
Хотя Гро-Алэн был подражателем и почитателем Рене-Жана, у него имелся свой талант — находки. Брат и сестра вдруг заметили, что Гро-Алэн бодро гарцует по комнате, таща за собой маленькую четырехколесную тележку, которую он где-то откопал.
Эта кукольная тележка, забытая неизвестно кем и когда, десятки лет провалялась здесь в пыли по соседству с творениями гениев и бюстами мудрецов. Быть может, этой тележкой играл в детстве Говэн.
Не долго думая, Гро-Алэн превратил свою бечевку в кнут и начал громко щелкать; он был очень доволен собою. Таковы уж изобретатели. За неимением Америки неплохо открыть маленькую тележку. Так уж повелось издавна.
Но пришлось делиться своим открытием. Рене-Жан захотел превратиться в коня, а Жоржетта — в пассажира.
Не без труда она уселась в тележку. Рене-Жан впрягся в упряжку. Гро-Алэну досталась должность кучера.
Но оказалось, что кучер не особенно силен в своем деле, и коню пришлось обучать его кучерскому искусству.
Рене-Жан крикнул Гро-Алэну:
— Скажи: но-о!
— Но-о! — повторил Гро-Алэн.
Тележка опрокинулась. Жоржетта упала на пол. И ангелы тоже кричат. Жоржетта закричала.
Потом ей захотелось немножко поплакать.
— Мадемуазель, — сказал Рене-Жан, — вы уже взрослая.
— Взйосяя, — повторила Жоржетта.
И сознание, что она взрослая, смягчило боль падения.
Карнизы, проходившие под окнами, были очень широки; мало-помалу там скопился занесенный с верескового плоскогорья слой пыли, дожди превратили эту пыль в землю, ветер принес семена, и, уцепившись за жалкий клочок почвы, пробился первый росток ежевики. Ежевика оказалась из живучих, называемая в народе «лисьей». Сейчас, в августе, куст ежевики покрылся ягодами, и одна ветка вползла в окно библиотеки. Ветка свешивалась почти до самого пола.
Гро-Алэн, уже открывший бечевку, открывший затем тележку, открыл и ежевику. Он подошел к ветке.
Он сорвал ягодку и съел.
— Есть хочу, — сказал Рене-Жан.
Тут подоспела и Жоржетта, быстро продвигавшаяся с помощью колен и ладошек.
Втроем они обобрали и съели все ягоды. Дети опьянели от ежевики, измазались ее соком, и теперь три херувимчика, с ярко-красными пятнами на щеках и на подбородках, вдруг превратились в трех маленьких фавнов, что, несомненно, смутило бы Данте и восхитило бы Вергилия. Дети громко хохотали.
Иной раз колючки ежевики кололи им пальцы. Ничто не достается даром.
Жоржетта протянула Рене-Жану пальчик, на кончике которого алела капелька крови, и сказала, указывая на ежевику:
— Укусийа.
Гро-Алэн, тоже пострадавший от шипов, подозрительно взглянул на ветку и сказал:
— Это зверь!
— Нет, — возразил Рене-Жан, — это палка.
— Палки злые, — сказал Гро-Алэн.
Жоржетте опять захотелось плакать, но она засмеялась.
V
Тем временем Рене-Жан, возможно позавидовав открытиям младшего брата Гро-Алэна, замыслил поистине грандиозное предприятие. Продолжая рвать ягоды и не обращая внимания на шипы, коловшие ему пальцы, он время от времени поглядывал на аналой или, вернее, пюпитр, возвышавшийся посреди библиотеки одиноко, как монумент. На этом аналое лежал экземпляр «Евангелия от Варфоломея».
Это было великолепное и редчайшее in quarto. «Евангелие от Варфоломея» вышло в 1682 году в Кельне в типографии славного Блева, по-латыни Цезиуса, издателя Библии. «Варфоломей» появился на свет с помощью деревянных прессов и воловьих жил, отпечатали его не на голландской, а на чудесной арабской бумаге, которой так восхищался Эдризи и которая делается из шелка и хлопка и никогда не желтеет; переплели его в золоченую кожу и украсили серебряными застежками; заглавный лист и чистый лист в конце книги были из того пергамента, который парижские переплетчики поклялись покупать в зале Сен-Матюрена, и «нигде более». В книге имелось множество гравюр на дереве и на меди, а также географические карты нескольких стран; вначале был помещен протест гильдии печатников, грамота от торговцев и типографщиков против эдикта 1635 года, обложившего налогом «кожи, пиво, морскую рыбу и бумагу», а на обороте фронтисписа можно было прочесть посвящение Грифам, которые в Лионе были тем же, чем Эльзевиры в Амстердаме. Словом, в силу всех этих обстоятельств «Евангелие от Варфоломея» являлось столь же знаменитым и почти столь же редкостным, как московский «Апостол».
Книга и впрямь была красивая; вот почему Рене-Жан поглядывал на нее, пожалуй, чересчур пристально. Том был раскрыт как раз на той странице, где помещался большой эстамп, изображавший святого Варфоломея, несущего в руках содранную с него кожу. Снизу картинку тоже можно было рассмотреть. Когда вся ежевика была съедена, Рене-Жан уставился на книгу глазенками, исполненными погибельной любви, и Жоржетта, проследив направление его взгляда, тоже заметила гравюру и пролепетала: «Кайтинка!»
Это слово положило конец колебаниям Рене-Жана. И, к величайшему изумлению Гро-Алэна, он совершил нечто необыкновенное.
В углу библиотеки стоял тяжелый дубовый стул; Рене-Жан направился к стулу, ухватил его и, толкая перед собой, потащил к аналою. Когда стул очутился возле самого аналоя, он вскарабкался на сиденье и положил два крепких кулачка на открытую страницу.
Оказавшись на таких высотах, он почувствовал необходимость совершить нечто великое; он взял «кайтинку» за верхний угол и аккуратно разорвал; святой Варфоломей разодрался вкось, но Рене-Жан был в этом неповинен; в книге осталась вся левая часть гравюры с одним глазом старого апокрифического евангелиста и кусочком ореола над его головой; другую половину Варфоломея вместе с его снятой кожей брат преподнес Жоржетте. Жоржетта взяла святого и шепнула: «Дяденька».
— А мне? — вдруг завопил Гро-Алэн.
Первая вырванная страница подобна первой капле пролитой крови. Истребление уже неминуемо.
Рене-Жан перевернул страницу; за изображением святого следовал портрет его комментатора Пантениуса; Рене-Жан милостиво одарил Пантениусом Гро-Алэна.
Тем временем Жоржетта разорвала половинку святого на две половинки поменьше, потом обе маленькие половинки еще на четыре части; итак, историки с полным правом могут добавить, что со святого Варфоломея сначала содрали кожу в Армении, а затем его четвертовали в Бретани.
VI
Покончив с четвертованием, Жоржетта протянула к Рене-Жану ручонки и потребовала: «Еще!»
Вслед за святым и комментатором пошли богомерзкие портреты — портреты истолкователей. Первым по счету оказался Гавантус; Рене-Жан вырвал картинку и вручил Гавантуса Жоржетте.
За Гавантусом последовали все прочие истолкователи святого Варфоломея.
Одаривать — значит быть выше одариваемого. И Рене-Жан не оставил себе ничего, Гро-Алэн и Жоржетта смотрели на него снизу вверх; с него этого было достаточно; он довольствовался восхищением зрителей.
Рене-Жан, великодушный и неутомимый даритель, дал Гро-Алэну Фабрицио Пиньятелли, а Жоржетте — преподобного отца Стилтинга; он протянул Гро-Алэну Альфонса Тоста, а Жоржетте Cornelius a Lapide; Гро-Алэн получил Анри Аммона, а Жоржетта — преподобного отца Роберти и в придачу город Дуэ, где в 1619 году Аммон увидел свет. Гро-Алэну достался протест бумаготорговцев, а Жоржетта стала обладательницей посвящения Грифам. Оставались еще географические карты. Рене-Жан роздал и их. Эфиопию он преподнес Гро-Алэну, а Ликаонию — Жоржетте. После чего он сбросил книгу на пол.
Страшная минута! Гро-Алэн и Жоржетта с восторгом и ужасом увидели, как Рене-Жан, нахмурив брови, напружинился, сжал кулачонки и столкнул с аналоя огромный том. Трагическое зрелище являет собою великолепная старинная книга, повергнутая в прах. Тяжелый том, потеряв равновесие, повис на мгновение в воздухе, потом закачался, рухнул и распластался на полу — жалкий, разорванный, смятый, вывалившийся из переплета, с погнувшимися застежками. Счастье еще, что он не упал на ребятишек.
Они были ошеломлены, но невредимы. Не всегда авантюры завоевателей проходят столь гладко.
Такова судьба всякой славы — сначала много шуму, затем облако пыли.
Низвергнув книгу, Рене-Жан слез со стула.
Тут наступил миг ужаса и тишины; победа устрашает не только побежденного. Дети схватились за руки и стали поодаль, созерцая огромный растерзанный том.
Но после короткого раздумья Гро-Алэн решительно подошел и пнул книгу ногой.
Это было начало конца. Вкус к разрушению существует. Рене-Жан тоже пнул книгу ногой, Жоржетта тоже пнула, но от усилия не устояла на ногах и упала, вернее, села на пол; она воспользовалась этим, чтобы накинуться на святого Варфоломея снизу; последние остатки благоговения рассеялись; на книгу налетел Рене-Жан, на нее наскочил Гро-Алэн, и, забыв все на свете, радостно смеясь, торжествующие, беспощадные, розовощекие ангелочки-разрушители, пустив в ход ноги, руки, ногти, зубы, втроем набросились на беззащитного святого, кромсая страницы, с мясом вырывая закладки, царапая переплет, отдирая золоченую кожу, выковыривая серебряные застежки, комкая пергамент, истребляя царственные письмена.
Они уничтожили Армению, Иудею, Беневент, где покоятся останки святого, уничтожили Нафанаила, который, может быть, и есть святой Варфоломей, папу Желаза, который объявил апокрифическим Евангелие от Варфоломея-Нафанаила, уничтожили все гравюры, все географические карты, и эта безжалостная расправа над старинной книгой так увлекла их внимание, что они даже не заметили прошмыгнувшей мимо мышки.
Это был разгром.
Разодрать на части историю, легенду, науку, чудеса, подлинные или мнимые, церковную латынь, предрассудки, фанатизм, тайны, разорвать сверху донизу целую религию — такая работа под силу трем гигантам или, как видите, троим детям; в этих трудах прошло несколько часов, но цель была достигнута: от апостола Варфоломея не осталось и следа.
Когда все было кончено, когда была вырвана последняя страница, когда последний эстамп валялся во прахе, когда от книги остались лишь обрывки листов и гравюр, прилепившиеся к скелету переплета, Рене-Жан выпрямился во весь рост, оглядел пол, засыпанный клочками бумаги, и забил в ладоши.
Гро-Алэн тоже забил в ладоши.
Жоржетта подобрала с полу страничку, встала на цыпочки, оперлась на подоконник, приходившийся на уровне ее подбородка, и принялась разрывать лист на мелкие кусочки и бросать их за окно.
Рене-Жан и Гро-Алэн поспешили последовать ее примеру. Они подбирали с полу и рвали, снова подбирали и снова рвали страницы, в подражание Жоржетте; и старинная книга, которую истерзали, страница за страницей, крохотные, неугомонные пальчики, была уничтожена и развеяна по ветру. Жоржетта задумчиво смотрела, как кружатся в воздухе и улетают подхваченные ветром рои маленьких белых бумажек, и сказала:
— Бабоцьки!
Так казнь закончилась исчезновением в небесной лазури.
VII
Так вторично был предан смерти святой Варфоломей, который уже однажды принял мученическую кончину в 49 году по рождестве Христовом.
Под вечер жара стала невыносимой, самый воздух клонил ко сну, у Жоржетты начали слипаться глаза; Рене-Жан подошел к своей кроватке, вытащил набитый сеном мешок, заменявший матрасик, доволок его по полу до окна, вытянулся во весь рост и сказал: «Ляжем».
Гро-Алэн положил голову на Рене-Жана, Жоржетта положила голову на Гро-Алэна, и трое святотатцев заснули.
В открытые окна вливалось теплое дуновение; аромат полевых цветов, доносившийся из оврагов и с холмов, смешивался с дыханием вечера; мирные просторы звали к милосердию, все сияло, все умиротворяло, все любило, солнце посылало всему сущему свою ласку — свет; люди всеми порами впивали гармонию, источаемую беспредельным благоволением природы; в бесконечности было что-то материнское: мир есть извечно цветущее чудо, его огромность дополняется его же благостью; казалось, кто-то невидимый таинственными путями старается оградить слабые существа в их грозной борьбе с более сильными; а кругом все было прекрасно; великодушие природы равнялось ее великолепию. По дремавшим лугам и рекам роскошным муаром переливались свет и тени; дымка плыла вверх, становясь облаком, подобно тому как мечты становятся видениями; над Тургом, разрезая воздух крыльями, носились стаи птиц; ласточки заглядывали в окна библиотеки, будто прилетели сюда убедиться, не нарушен ли мирный сон детей. А они — полуголые амурчики — спали, прижавшись друг к другу, застыв в прелестных позах; они были само очарование и чистота — всем троим не было и девяти лет; им грезились райские сны, губы складывались в еле заметную улыбку, может быть, сам бог шептал им что-то на ушко: недаром на всех человеческих языках их зовут слабыми и благословенными созданиями и чтут их невинность; все кругом затихло, будто дыхание их нежных грудок было делом всей вселенной и к нему прислушивалась сама природа; не трепетал лист, не шуршала былинка; казалось, безбрежный звездный мир замер, боясь смутить ангельский сон трех смиренно спящих ангелочков; и возвышеннее всего было безмерное уважение самой природы к подобной малости.
Солнце заходило и уже почти коснулось линии горизонта. Вдруг этот покой нарушила вырвавшаяся из леса молния, за которой последовал страшный гром. Это выстрелили из пушки. Эхо подхватило грохот. Передаваясь от холма к холму, он превратился в грозные раскаты. И они разбудили Жоржетту.
Она присела, подняла пальчик, прислушалась и сказала:
— Пум!
Грохот стих, и вновь воцарилась тишина. Жоржетта опустила головку на плечо Гро-Алэна и снова мирно уснула.
Книга четвертая МАТЬ
I СМЕРТЬ ВЕЗУТ
Весь этот день мать брела куда-то по дорогам, даже не присев до самого вечера. Так повторялось изо дня в день — она шла куда глаза глядят, не останавливаясь, не отдыхая. Ибо короткий сон, вернее, забытье, в первом попавшемся углу не приносил отдыха, а те крохи, которые она проглатывала на ходу, наспех, как птица небесная, не утоляли голода. Она ела и спала лишь для того, чтобы не упасть замертво тут же на дороге.
Последнюю ночь она провела в заброшенном сарае: гражданская война плодит такие лачуги; в пустынном поле она заметила четыре стены, за распахнутой настежь дверью — кучу соломы, как раз в том углу, где еще сохранилась часть крыши. Она легла на эту солому, под этой крышей; она слышала, как под соломой возятся крысы, и видела, как между стропилами загораются звезды. Проспала она всего несколько часов, проснулась посреди ночи и снова пустилась в дорогу, чтобы успеть до жары пройти как можно больше. Тому, кто путешествует пешком в летнюю пору, полночь благоприятнее, чем полдень.
Она старалась не сбиться с маршрута, который указал ей крестьянин в Ванторте, то есть по возможности держалась запада. Если бы кто-нибудь дал себе труд прислушаться к ее неясному бормотанию, тот разобрал бы слово «Тург». Слово «Тург» да имена своих детей — больше она ничего теперь не помнила.
Бредя по дорогам, она размышляла. Думала о всех тех злоключениях, которые ей пришлось пережить; думала о тех муках, которыми ей пришлось перестрадать, о том, что пришлось безропотно перенести, о встречах, о подлости, об унижениях, о быстрой и бездумной сделке то ради ночлега, то ради куска хлеба, то просто ради того, чтобы указали дорогу. Бездомная женщина несчастнее бездомного мужчины хотя бы потому, что служит орудием наслаждения. Жуткое, нескончаемо долгое странствие! Впрочем, все ей было безразлично, лишь бы найти своих детей.
В тот день дорога вывела ее к какой-то деревеньке; заря только занималась; ночной мрак еще висел над домами; однако то тут, то там хлопала дверь, и из окон выглядывали любопытные лица. Вся деревня волновалась, словно потревоженный улей. И причиной этого был приближающийся грохот колес и лязг металла.
На деревенской площади, возле церкви, стояла в остолбенении кучка людей; они пристально глядели на что-то, что спускалось с вершины холма по дороге. Пять лошадей тащили на цепях, вместо обычных постромок, большую четырехколесную повозку. На повозке виднелась груда длинных балок, а посреди возвышалось что-то бесформенное, прикрытое сверху, словно саваном, куском парусины. Десять всадников ехали перед повозкой, десять других замыкали шествие. На всадниках были треуголки, и над плечом у каждого чуть поблескивало острие, по всей видимости, обнаженные сабли. Кортеж продвигался медленно, выделяясь на горизонте резким черным силуэтом. Черной казалась повозка, черными казались кони, черными казались всадники. А позади них чуть брезжила заря.
Процессия въехала в деревню и направилась к площади.
Тем временем уже рассвело, и теперь стала ясно видна спустившаяся с горы повозка и сопровождающие ее люди; кортеж напоминал шествие теней, ибо все молчали.
Всадники оказались жандармами. И за их плечами действительно торчали обнаженные сабли. Парусина была черная.
Несчастная скиталица-мать тоже вошла в деревню с противоположного ее конца; она присоединилась к группе крестьян как раз тогда, когда на площадь вступили жандармы, охранявшие повозку. Люди шушукались, о чем-то спрашивали друг друга, шепотом отвечали на вопросы:
— Что это такое?
— Гильотину везут.
— А откуда везут?
— Из Фужера.
— А куда везут?
— Не знаю. Говорят в какой-то замок рядом с Паринье.
— Паринье?
— Пусть себе везут куда угодно, лишь бы тут не задерживались.
Большая повозка со своим грузом, укрытым саваном, упряжка, жандармы, лязг цепей, молчание толпы, предрассветный сумрак — все это казалось призрачным.
Процессия пересекла площадь и выехала за околицу; деревушка лежала в лощине меж двух склонов; через четверть часа крестьяне, застывшие на площади, как каменные изваяния, вновь увидели зловещую повозку на вершине западного склона. Колеса подпрыгивали в колеях, цепи упряжки, раскачиваемые ветром, лязгали, блестели сабли; солнце поднималось над горизонтом. Но дорога круто свернула в сторону, и видение исчезло.
Как раз в это самое время Жоржетта проснулась в библиотеке рядом со спящими братьями и пролепетала «доброе утро» своим розовым ножкам.
II СМЕРТЬ ГОВОРИТ
Мать видела, как мимо нее промелькнул и исчез этот темный силуэт, но она ничего не поняла и даже не пыталась понять, ибо перед ее мысленным взором вставало иное видение — ее дети, исчезнувшие где-то во мраке.
Она тоже вышла из деревни, почти что вслед за проехавшей процессией, и пошла по той же дороге на некотором расстоянии от всадников, ехавших позади повозки. Вдруг она вспомнила, как кто-то сказал «гильотина»; «гильотина» — подумала она; дикарка Мишель Флешар не знала, что это такое, но внутреннее чутье подсказало ей истину; сама не понимая почему, она задрожала всем телом, ей показалось вдруг немыслимо страшным идти следом за этим, и она свернула влево, сошла с проселочной дороги и углубилась в чащу Фужерского заповедника.
Проблуждав некоторое время по лесу, она заметила на опушке колокольню, крыши деревни и направилась туда. Ее мучил голод.
В этой деревне, как и в ряде других, был расквартирован республиканский сторожевой отряд.
Она добралась до площади, где возвышалось здание мэрии.
И в этом селении тоже царили волнение и страх. Перед входом в мэрию у каменного крыльца толпился народ. На крыльцо вышел какой-то человек под эскортом солдат и развернул огромный лист бумаги. Справа от этого человека стоял барабанщик, а слева расклейщик объявлений с горшком клея и кистью.
На балкончике, расположенном над крыльцом, появился мэр в трехцветном шарфе, повязанном поверх крестьянской одежды.
Человек с объявлением в руках был глашатай.
К его перевязи была прикреплена сумка — знак того, что ему вменяется в обязанность обходить село за селом с различными оповещениями.
В ту самую минуту, когда Мишель Флешар приблизилась к крыльцу, глашатай развернул объявление и начал читать. Он громко провозгласил:
— «Французская республика, единая и неделимая».
Тут барабанщик отбил дробь. По толпе прошло движение. Кто-то снял с головы колпак; кто-то еще глубже нахлобучил на лоб шляпу. В те времена и в тех краях не составляло особого труда определить политические взгляды человека по его головному убору: в шляпе — роялист, в колпаке — республиканец. Невнятный ропот толпы смолк, все прислушались, и глашатай стал читать дальше:
— «…В силу приказов и полномочий, данных нам, делегатам, Комитетом общественного спасения…»
Снова раздалась барабанная дробь. Глашатай продолжал:
— «…и во исполнение декрета, изданного Конвентом и объявляющего вне закона всех мятежников, захваченных с оружием в руках, и карающего высшею мерой всякого, кто укрывает мятежников или способствует их побегу…»
Какой-то крестьянин вполголоса спросил соседа:
— Что это такое: высшая мера?
И сосед ответил:
— Не знаю.
Глашатай взмахнул бумагой и продолжал:
— «…Согласно статье семнадцатой закона от тридцатого апреля, облекающего неограниченной властью делегатов и их помощников, борющихся с мятежниками, объявляются вне закона лица…»
Он выдержал паузу и продолжал:
— «…имена и клички коих приводятся ниже…»
Все прислушались.
Голос глашатая гремел теперь как гром:
— «…Лантенак, разбойник…»
— Да это наш сеньор, — прошептал кто-то из крестьян.
И по толпе пробежал шепот:
— Наш сеньор!
Глашатай продолжал:
— «…Лантенак, бывший маркиз, разбойник. Иманус, разбойник…»
Двое крестьян исподтишка переглянулись:
— Гуж ле Брюан.
— Да это Синебой!
Глашатай читал дальше:
— «…Гран-Франкер, разбойник…»
Снова раздался шепот:
— Священник.
— Да, господин аббат Тюрмо.
— Приход его тут недалеко, около Шанеля; он священник.
— И разбойник, — добавил какой-то человек в колпаке.
А глашатай читал:
— «…Буануво, разбойник. Два брата Деревянные Копья, разбойники. Узар, разбойник…»
— Это господин де Келен, — пояснил какой-то крестьянин.
— «…Панье, разбойник…»
— Это господин Сефер.
— «…Плас-Нетт, разбойник…»
— Это господин Жамуа.
Глашатай продолжал чтение, не обращая внимания на комментарии слушателей.
— «…Гинуазо, разбойник. Шатенэ, кличка Роби, разбойник…»
Какой-то крестьянин шепнул другому:
— Гинуазо — еще его зовут Белобрысый, а Шатенэ из Сент-Уэна.
— «…Уанар, разбойник…» — выкрикивал глашатай.
В толпе зашумели:
— Он из Рюйе.
— Правильно, это Золотая Ветка.
— У него еще брата убили при Понторсоне.
— Того звали Уанар-Малоньер.
— Хороший был парень, всего девятнадцать минуло.
— А ну, тише! — крикнул глашатай. — Скоро уж конец. «…Бельвинь, разбойник. Ла Мюзет, разбойник. Круши Всех, разбойник. Любовинка, разбойник…»
Какой-то парень подтолкнул девушку локтем под бок. Девушка улыбнулась.
Глашатай заканчивал список:
— «…Зяблик, разбойник. Кот, разбойник…»
Крестьянин в толпе пояснил:
— Это Мулар.
— «…Табуз, разбойник…»
Другой добавил:
— А это Гоффр.
— Их, Гоффров, двое, — заметила женщина.
— Два сапога пара, — буркнул ей в ответ парень.
Глашатай тряхнул бумагой, а барабанщик пробил дробь.
Глашатай продолжал:
— «…Где бы ни были обнаружены все вышепоименованные, после установления их личности они будут немедленно преданы смертной казни…»
По толпе снова прошло движение.
А глашатай дочитал последние строки:
— «…Всякий, кто предоставит им убежище или поможет их бегству, будет предан военно-полевому суду и приговорен к смертной казни. Подписано…»
Толпа затаила дыхание.
— «…подписано: делегат Комитета общественного спасения Симурдэн».
— Священник, — сказал кто-то из крестьян.
— Бывший кюре из Паринье, — подтвердил другой.
А какой-то буржуа заметил:
— Вот вам, пожалуйста, Тюрмо и Симурдэн. Белый священник и синий священник.
— Оба черные, — сказал другой буржуа.
Мэр, стоявший на балкончике, приподнял шляпу и прокричал:
— Да здравствует Республика!
Барабанная дробь известила слушателей, что чтение еще не окончено. И в самом деле, глашатай поднял руку.
— Внимание, — крикнул он. — Вот еще последние четыре строчки правительственного объявления. Подписаны они командиром экспедиционного отряда Северного побережья, то есть командиром Говэном.
— Слушайте! — пронеслось по толпе.
И глашатай прочел:
— «…Под страхом смертной казни…»
Толпа притихла.
— «…запрещается оказывать, согласно вышеприведенному приказу, содействие и помощь девятнадцати вышепоименованным мятежникам, которые в настоящее время захвачены и осаждены в башне Тург».
— Как? — раздался голос.
То был женский голос. Голос матери.
III КРЕСТЬЯНЕ РОПЩУТ
Мишель Флешар смешалась с толпой. Она не слушала глашатая, но иногда, и не слушая, слышишь. Она услыхала слово «Тург» — и встрепенулась.
— Как? — спросила она. — В Турге?
На нее оглянулись. Она казалась в беспамятстве. Она была в рубище. Кто-то охнул:
— Вот уж и впрямь разбойница.
Какая-то крестьянка, державшая в руке корзину с лепешками из гречневой муки, подошла к Мишели и шепнула:
— Замолчите.
Мишель Флешар растерянно взглянула на крестьянку. Она опять ничего не поняла. Слово «Тург» молнией озарило ее сознание, и вновь все заволоклось мраком. Разве она не имеет права спросить? И почему все на нее так уставились?
Между тем барабанщик в последний раз отбил дробь, расклейщик приклеил к стене объявление, мэр удалился с балкончика, глашатай проследовал в соседнее селение, и толпа разбрелась по домам.
Только несколько человек задержались перед объявлением. Мишель Флешар присоединилась к ним.
Говорили о людях, чьи имена были в списке объявленных вне закона.
Перед объявлением стояли крестьяне и буржуа, иначе говоря — белые и синие.
Разглагольствовал какой-то крестьянин:
— Все равно всех не переловишь. Девятнадцать это и будет девятнадцать. Приу они не поймали, Бенжамена Мулена не поймали, Гупиля из прихода Андуйе не поймали.
— И Лориеля из Монжана не поймали, — подхватил другой.
Тут заговорили все разом:
— И Бриса Дени тоже.
— И Франсуа Дюдуэ.
— Да, он из Лаваля.
— И Гю из Лонэ-Вилье.
— И Грежи.
— И Пилона.
— И Фийеля.
— И Менисана.
— И Гегарре.
— И трех братьев Ложре.
— И господина Лешанделье из Пьервиля.
— Дурачье! — вдруг возмутился какой-то седовласый старик. — Поймали Лантенака, считай, всех поймали.
— Да они и Лантенака-то пока не поймали, — пробормотал кто-то из парней.
Старик возразил:
— Возьмут Лантенака — значит, саму душу возьмут. Умрет Лантенак — всей Вандее конец.
— Кто это такой — Лантенак? — спросил один из буржуа.
— Так, из бывших, — ответил другой.
А еще кто-то добавил:
— Из тех, кто женщин расстреливает.
Мишель Флешар услышала эти слова и сказала:
— Верно!
Все оглянулись в ее сторону.
А она добавила:
— Меня вот он расстрелял.
Это прозвучало странно; будто живая выдавала себя за мертвую. Все с недоверием уставились на нее.
Действительно, вид ее внушал тревогу: эта дрожь, трепет, звериный страх, — она была так напугана, что пугала других. В отчаянии женщины страшит именно ее беспомощность. Словно сама судьба толкает ее к краю бездны. Но крестьяне смотрят на все много проще. Кто-то в толпе буркнул:
— Уж не шпионка ли она?
— Да замолчите вы и уходите подобру-поздорову, — шепнула Мишели все та же крестьянка с корзинкой.
— Я ведь ничего плохого не делаю. Я только своих детей ищу.
Добрая крестьянка оглядела тех, кто глядел на Мишель Флешар, показала пальцем на лоб и, подмигнув ближайшим соседям, сказала:
— Разве не видите — юродивая.
Потом она отвела Мишель Флешар в сторону и дала ей гречневую лепешку.
Мишель, не поблагодарив, жадно начала есть.
— И впрямь юродивая, — рассудили крестьяне. — Ест, что твой зверь.
И толпа разбрелась. Люди расходились поодиночке.
Когда Мишель Флешар расправилась с лепешкой, она сказала крестьянке:
— Вот и хорошо, теперь я сыта. А где Тург?
— Опять она за свое! — воскликнула крестьянка.
— Мне непременно надо в Тург. Скажите, как пройти в Тург?
— Ни за что не скажу, — ответила крестьянка. — Чтобы вас там убили, так, что ли? Да я и сама толком не знаю. А вы вправду сумасшедшая! Послушайте меня, бедняжка, вы ведь еле на ногах стоите. Пойдемте ко мне, хоть отдохнете, а?
— Я не отдыхаю, — ответила мать.
— Ноги-то все в кровь разбила, — прошептала крестьянка.
А Мишель Флешар продолжала:
— Я ведь вам говорю, что у меня украли детей. Девочку и двух мальчиков. Я из леса иду, из землянки. Справьтесь обо мне у бродяги Тельмарша-Нищеброда или у человека, которого я в поле встретила. Нищеброд меня и вылечил. У меня кость какая-то сломалась. Все, что я сказала, правда, все так и было. А потом есть еще сержант Радуб. Можете у него спросить. Он скажет. Это он нас в лесу нашел. Троих. Я ведь вам говорю — трое детей. Старшенького зовут Рене-Жан. Я могу все доказать. Второго зовут Гро-Алэн, а младшую Жоржетта. Мой муж помер. Убили его. Он был батраком в Сискуаньяре. Вот я вижу, — вы добрая женщина. Покажите мне дорогу. Не сумасшедшая я, я мать. Я детей потеряла. Я ищу их. Вот и все. Откуда я иду — сама не знаю. Эту ночь в сарае спала, на соломе. А иду я в Тург — вот куда. Я не воровка. Сами видите, я правду говорю. Неужели же мне так никто и не поможет отыскать детей? Я не здешняя. Меня расстреляли, а где — я не знаю.
Крестьянка покачала головой и сказала:
— Послушайте меня, странница. Сейчас революция, времена такие, что не нужно зря болтать, чего не понимаешь. А то, гляди, вас арестуют.
— Где Тург? — воскликнула мать. — Сударыня, ради младенца Христа и пресвятой райской девы, прошу вас, сударыня, умоляю вас, заклинаю всем святым, скажите мне: как пройти в Тург?
Крестьянка рассердилась.
— Да не знаю я! А если бы и знала, не сказала бы. Плохое там место. Нельзя туда ходить.
— А я пойду, — ответила мать.
И она зашагала по дороге.
Крестьянка посмотрела ей вслед и проворчала:
— Есть-то ей надо.
Она догнала Мишель Флешар и сунула ей в руку гречневую лепешку:
— Хоть вечером перекусите.
Мишель Флешар молча взяла лепешку и пошла вперед, даже не обернувшись.
Она вышла за околицу. У последних домов деревни она увидела трех босоногих оборванных ребятишек. Она подбежала к ним.
— Две девочки и мальчик, — вздохнула она.
И, заметив, что ребятишки жадно смотрят на лепешку, она протянула ее им.
Дети взяли лепешку и испуганно бросились прочь.
Мишель Флешар углубилась в лес.
IV ОШИБКА
В тот же самый день еще до восхода солнца, в полумраке леса, на проселочной дороге, что ведет от Жавенэ в Лекусс, произошло следующее.
Как и все дороги в Бокаже, дорога из Жавенэ в Лекусс лежит меж двух высоких откосов. К тому же она извилистая: скорее овраг, нежели настоящая дорога. Ведет она из Витре, это ей выпала честь трясти на своих ухабах карету госпожи де Севиньи. По обеим сторонам стеной подымается живая изгородь. Нет лучше места для засады.
Этим утром, за час до того как Мишель Флешар, выйдя с другого конца леса, подошла к деревне и мимо нее промелькнула, словно зловещее видение, повозка под охраной жандармов, в лесной чаще, там, где жавенэйский проселок ответвляется от моста через Куэнон, копошились какие-то люди. Густые ветви скрывали их. Люди эти были крестьяне в широких пастушечьих плащах из грубой шерсти, в какую облекались в шестом веке бретонские короли, а в восемнадцатом — бретонские крестьяне. Люди эти были вооружены — кто карабином, кто дрекольем. Дрекольщики натаскали на полянку груду хвороста и сухого кругляка, так что в любую минуту можно было развести огонь. Карабинщики залегли в ожидании по обеим сторонам дороги. Тот, кто заглянул бы под листву, увидел бы пальцы на взведенных курках и дула карабинов, которые торчали сквозь природные бойницы, образованные сеткой сплетшихся ветвей. Это была засада. Все дула смотрели в сторону дороги, которая смутно белела в свете зари.
В предрассветной мгле негромко перекликались голоса:
— А точно ли ты знаешь?
— Да. Так говорят.
— Стало быть, именно здесь и провезут?
— Говорят, она где-то поблизости.
— Ничего, здесь и останется, дальше не уедет.
— Сжечь ее!
— А как же иначе, зря, что ли, нас три деревни собралось.
— А с охраной как быть?
— Охрану прикончим.
— Да этой ли дорогой она пойдет?
— Слыхать, этой.
— Стало быть, она из Витре идет?
— А почему бы и не из Витре?
— Ведь говорили, из Фужера.
— Из Фужера ли, из Витре ли, все едино, — от самого дьявола она едет.
— Что верно, то верно.
— Пускай обратно к дьяволу и убирается.
— Верно.
— Значит, она в Паринье едет?
— Выходит, что так.
— Не доехать ей.
— Не доехать.
— Ни за что не доехать!
— Тише вы!
И действительно, пора было замолчать, так как уже начинался рассвет.
Вдруг сидевшие в засаде крестьяне затаили дыхание: до их слуха донесся грохот колес и ржание лошадей. Осторожно раздвинув кусты, они увидели между высокими откосами дороги длинную повозку и вокруг нее конных стражников; на повозке лежало что-то громоздкое; весь отряд двигался прямо в лапы засаде.
— Она! — произнес какой-то крестьянин, по всей видимости, начальник.
— Она самая! — подтвердил один из дозорных. — И верховые при ней.
— Сколько их?
— Двенадцать.
— А говорили, будто двадцать.
— Дюжина или два десятка — убьем всех.
— Подождем, пока они поближе подъедут.
Вскоре из-за поворота показалась повозка, окруженная верховыми стражниками.
— Да здравствует король! — закричал вожак крестьянского отряда.
Раздался залп из сотни ружей.
Когда дым рассеялся, оказалось, что рассеялась и стража. Семь всадников лежали на земле, пять успели скрыться. Крестьяне бросились к повозке.
— Черт! — крикнул вожак. — Да никакая это не гильотина. Обыкновенная лестница.
И в самом деле, на повозке лежала длинная лестница.
Обе лошади были ранены, возчик убит шальной пулей.
— Ну, да все равно, — продолжал вожак, — раз лестницу под такой охраной везут, значит, тут что-то неспроста. И везли ее в сторону Паринье. Видно, для осады Турга.
— Сжечь лестницу! — завопили крестьяне.
И они сожгли лестницу.
А зловещая повозка, которую они поджидали здесь, проехала другой дорогой и находилась сейчас впереди в двух милях, в той самой деревушке, где при первых лучах солнца ее увидела Мишель Флешар.
V VOX IN DESERTO[413]
Отдав ребятишкам последний кусок хлеба, Мишель Флешар тронулась в путь — она шла куда глаза глядят, прямо через лес.
Раз никто не желал показать ей дорогу, что ж — она сама ее отыщет! Временами Мишель садилась отдохнуть, потом с трудом подымалась, потом снова садилась. Ее одолевала та недобрая усталость, которая сначала гнездится в каждом мускуле тела, затем поражает кости, — извечная усталость раба. Она и была рабой. Рабой своих пропавших детей. Их надо было отыскать. Каждая упущенная минута грозила им гибелью; на ком лежит подобная обязанность, не имеет никаких прав; даже перевести дыхание и то запрещено. Но мать слишком устала! Есть такая степень изнеможения, когда при каждом следующем шаге спрашиваешь себя: шагну, не шагну? Она шла с самой зари; теперь ей уже не попадались ни деревни, ни даже одинокие хижины. Сначала она направилась по верному пути, потом сбилась с пути и в конце концов затерялась среди неотличимо схожих друг с другом кустов. Приближалась ли она к цели? Скоро ли конец крестному ее пути? Она шла тернистой тропой и ощущала нечеловеческую усталость, предвестницу конца странствий. Ужели она упадет прямо здесь на землю и испустит дух? Вдруг ей показалось, что она не сделает больше ни шага; солнце клонилось к закату, в лесу было темно, тропинку поглотила густая трава, и мать остановилась в нерешительности. Только один у нее остался защитник — господь бог. Она крикнула, но никто не отозвался.
Она оглянулась вокруг, заметила среди ветвей просвет, направилась в ту сторону и вдруг очутилась на опушке леса.
Перед ней лежала узкая, как ров, теснина, на дне которой по каменистому ложу бежал прозрачный ручеек. Тут только она поняла, что ее мучит жажда. Она направилась к ручейку, стала на колени и напилась.
А опустившись на колени, заодно уж и помолилась богу.
Поднявшись, она огляделась в надежде увидеть дорогу.
Она перебралась через ручей.
За тесниной, насколько хватал глаз, расстилалось поросшее мелким кустарником плоскогорье, которое отлого подымалось по ту сторону ручейка и заслоняло горизонт. Лес был уединением, а плоскогорье — пустыней. В лесу за каждым кустом можно встретить живое существо; на плоскогорье взгляд напрасно искал признаков жизни. Только птицы, словно вспугнутые, выпархивали из вересковых зарослей.
Тогда, со страхом озирая бескрайнюю пустынную даль, чувствуя, что у нее мутится рассудок и подгибаются колени, обезумевшая от горя мать крикнула, обращаясь к пустыне, и странен был ее крик:
— Есть здесь кто-нибудь?
Она ждала ответа.
И ей ответили.
Раздался глухой и утробный глас: он шел откуда-то издалека, его подхватило и донесло сюда эхо; будто внезапно ухнул гром, а может быть, пушка, и, казалось, голос этот ответил на вопрос несчастной матери: «Да».
Потом все смолкло.
Мать поднялась, она приободрилась, значит, здесь есть кто-то; отныне она сможет обращаться к нему, говорить с ним; она напилась из ручья и помолилась; силы возвращались к ней, и она стала взбираться вверх — туда, откуда раздался глухой, но могучий зов.
Вдруг в самой глубине горизонта выросла высокая башня. Только эта башня и возвышалась среди одичалых полей; закатный багровый луч осветил ее. До башни оставалось еще не менее одного лье. А позади в предвечерней дымке смутным зеленым пятном вставал Фужерский лес.
Башня стояла как раз в той стороне, откуда до слуха матери донесся голос, прозвучавший как зов. Не из башни ли шел этот гром?
Мишель Флешар добралась до вершины плоскогорья; теперь перед ней расстилалась равнина.
Мать зашагала по направлению к башне.
VI ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
Час настал.
Неумолимая сила держала в своих руках силу безжалостную.
Лантенак был в руках Симурдэна.
Старый роялист, мятежник Лантенак попался в своем логове; он уже не мог ускользнуть; и Симурдэн решил, что маркиз будет казнен в своем же собственном замке, тут же на месте, на собственной своей земле и даже в своем собственном доме, пусть стены феодального жилища станут свидетелями того, как слетит с плеч голова феодала, и пусть урок этот не забудется.
Потому-то он и послал в Фужер за гильотиной. Мы только что видели ее в пути.
Убить Лантенака — значило убить Вандею; убить Вандею — значило спасти Францию. Симурдэн не колебался. Этот человек был в родной стихии, когда выполнял свой жестокий долг.
Маркиз обречен; на этот счет Симурдэн был спокоен, его тревожило другое. Их ждет, разумеется, кровавая схватка; возглавит ее Говэн и, чего доброго, бросится в самую гущу; в этом молодом полководце живет душа солдата; такие люди первыми кидаются врукопашную; а вдруг его убьют? Убьют Говэна, убьют его дитя! Единственное, что любит он, Симурдэн, на этой земле. До сего дня Говэну сопутствовала удача, но удача своенравна, Симурдэн трепетал. Странный выпал ему удел — он находился меж двух Говэнов, он жаждал смерти для одного и жаждал жизни для другого.
Пушечный выстрел, разбудивший Жоржетту в ее колыбельке и призвавший мать из глубин ее одиночества, имел не только эти последствия. То ли по случайности, то ли по прихоти наводчика ядро, которое должно было лишь предупредить врага, ударило в железную решетку, прикрывавшую и маскировавшую бойницу во втором ярусе башни, исковеркало ее и вырвало из стены. Осажденные не успели заделать новую брешь.
Вандейцы зря хвалились — боевых припасов у них оставалось в обрез. Положение их, повторяем, было куда плачевнее, чем предполагали нападающие. Будь у осажденных достаточно пороха, они взорвали бы Тург, самих себя, неприятеля — такова была их мечта; но все их запасы истощились. На каждого стрелка приходилось патронов по тридцати, если не меньше. Ружей, мушкетонов и пистолетов имелось в избытке, зато пуль не хватало. Вандейцы зарядили все ружья, чтобы вести непрерывный огонь; но как долго придется его вести? Требовалось одновременно поддерживать огонь и помнить, что уже нечем его поддерживать. В этом-то и заключалась трудность. К счастью, — если только бывает гибельное счастье, — бой неминуемо перейдет в рукопашную; сабля и кинжал заменят ружье. Придется колоть, а не стрелять. Придется действовать холодным оружием; только на этом и покоились все их надежды.
Изнутри башня казалась неуязвимой. В нижней зале, куда вела брешь, устроили редюит, вернее, баррикаду, возведением которой искусно руководил сам Лантенак; баррикада эта преграждала вход врагу. Позади редюита, на длинном столе, разложили заблаговременно заряженное оружие — пищали, мушкетоны, карабины, а также сабли, топоры и кинжалы. Так как не представлялось возможным воспользоваться для взрыва башни подземной темницей, маркиз приказал загородить дверь, ведущую в подвал. На втором ярусе башни, прямо над нижней залой, была расположена огромная круглая комната, куда попадали по узенькой винтовой лестнице; и здесь, как и в зале, стоял стол, весь заваленный оружием, так что стоило только протянуть руку и взять любое на выбор, — свет падал сюда из большой бойницы, с которой ядром только что сорвало железную решетку; из этой комнаты другая винтовая лестница вела в такую же круглую залу на третьем этаже, где находилась железная дверь, соединяющая башню с замком на мосту. Эту залу обычно называли «залой с железной дверью» или «зеркальной», ибо здесь по голым каменным стенам на ржавых гвоздях висели зеркала — причудливая уступка варварства изяществу. Верхние залы защищать было бесполезно, так что «зеркальная» являлась, следуя Манессону-Малле, непререкаемому авторитету в области фортификации, «последним убежищем, где осажденные сдаются врагу». Как мы уже говорили, задача заключалась в том, чтобы любой ценой помешать неприятелю сюда проникнуть.
Зала третьего этажа освещалась через бойницы; однако и сюда тоже внесли факел. Факел этот, вставленный в железную скобу, точно такую же, как и в нижнем помещении, собственноручно зажег Иманус, он же прикрепил рядом с факелом конец пропитанного серой шнура. Страшное усердие.
В глубине нижней залы, на длинных козлах расставили еду, словно в пещере Полифема, — огромные блюда с вареным рисом, похлебку из ржаной муки, рубленую телятину, пироги, компоты и кувшины с сидром. Ешь и пей, сколько душе угодно.
Пушечный выстрел поднял всех на ноги. Времени оставалось всего полчаса.
Взобравшись на верх башни, Иманус зорко следил за передвижением неприятеля. Лантенак приказал не открывать пока огня и дать штурмующим возможность подойти ближе. Он заключил:
— Их четыре с половиной тысячи человек. Убивать их на подступах к башне бесполезно. Убивайте их только здесь. Здесь мы добьемся равенства сил.
И добавил со смехом:
— Равенство, братство.
Условлено было, что, когда начнется движение противника, Иманус протрубит сигнал.
Осажденные молча ждали; кто стоял позади редюита, кто занял позицию на ступеньках винтовой лестницы, положив одну руку на курок мушкетона и зажав в другой четки.
Положение теперь прояснилось и сводилось к следующему.
Нападающим оставалось проникнуть под градом пуль в пролом, под градом пуль опрокинуть редюит, взять с бою три расположенные друг под другом залы, отвоевать ступеньку за ступенькой две винтовые лестницы; осажденным оставалось умереть.
VII ПЕРЕГОВОРЫ
Готовился к штурму башни и Говэн. Он отдавал последние распоряжения Симурдэну, который, как помнит читатель, не принимал участия в деле, так как должен был охранять плоскогорье, равно как и Гешану, которому передали командование над главной массой войск, остававшихся пока на опушке леса. Было решено, что и нижняя батарея, установленная в лесу, и верхняя, установленная на плоскогорье, откроют огонь лишь в том случае, если осажденные решатся на вылазку или предпримут попытку к бегству. За собой Говэн оставил командование отрядом, идущим на штурм. Это-то и тревожило Симурдэна.
Солнце только что закатилось.
Башня, возвышающаяся среди пустынных пространств, подобна кораблю в открытом море. Поэтому штурм ее напоминает морской бой. Это скорее абордаж, нежели атака. Пушки безмолвствуют. Ничего лишнего. Что даст обстрел стен в пятнадцать футов толщины? Борт пробит, одни пытаются пробраться в брешь, другие ее защищают, и тут уже в ход идут топоры, ножи, пистолеты, кулаки и зубы. Так развиваются события.
Говэн чувствовал, что иначе Тургом не овладеть. Нет кровопролитнее боя, чем бой лицом к лицу. И Говэн знал, как неприступна башня, ибо жил здесь ребенком. Он погрузился в глубокое раздумье.
Между тем Гешан, стоявший в нескольких шагах от командира, пристально глядел в подзорную трубу в сторону Паринье. Вдруг он воскликнул:
— А! Наконец-то!
Говэн встрепенулся:
— Что там такое, Гешан?
— Лестницу везут, командир.
— Спасательную лестницу?
— Да.
— Неужели до сих пор ее не привезли?
— Нет, командир. Я и сам уж забеспокоился. Нарочный, которого я отрядил в Жавенэ, давно возвратился.
— Знаю.
— Он сообщил, что обнаружил в Жавенэ лестницу нужной длины, что он ее реквизировал, велел погрузить на повозку, приставил к ней стражу — двенадцать верховых — и убедился, что повозка, верховые и лестница отбыли в Паринье. После чего он прискакал сюда.
— И доложил нам о своих действиях. Он добавил, что в повозку впрягли добрых коней и выехали в два часа утра, следовательно, должны быть здесь к заходу солнца. Все это я знаю. Ну, а дальше что?
— А дальше то, командир, что солнце садится, а повозки с лестницей еще нет.
— Да как же так? Ведь пора начинать штурм. Уже время. Если мы замешкаемся, осажденные решат, что мы струсили.
— Можно начинать, командир.
— Но ведь нужна лестница.
— Конечно, нужна.
— А у нас ее нет.
— Она есть.
— Как так?
— Не зря же я закричал: наконец-то! Вижу, повозки все нет и нет; тогда я взял подзорную трубу и стал смотреть на дорогу из Паринье в Тург и, к великой своей радости, заметил повозку и стражников при ней. Вот она спускается с откоса. Хотите посмотреть?
Говэн взял из рук Гешана подзорную трубу и поднес к глазам.
— Верно. Вот она. Правда, уже темнеет и плохо видно. Но охрану я вижу. Только знаете, Гешан, что-то людей больше, чем вы говорили.
— Да, что-то многовато.
— Они приблизительно за четверть лье отсюда.
— Лестница, командир, будет через четверть часа.
— Можно начинать штурм.
И в самом деле по дороге двигалась повозка, но не та, которую с таким нетерпением ждали в Турге.
Говэн обернулся и заметил сержанта Радуба, который стоял, вытянувшись по всей форме, опустив, как и положено по уставу, глаза.
— Что вам, сержант Радуб?
— Гражданин командир, мы, то есть солдаты батальона «Красный колпак», хотим вас просить об одной милости.
— О какой милости?
— Разрешите сложить голову в бою.
— А! — произнес Говэн.
— Что ж, будет на то ваша милость?
— Это… смотря по обстоятельствам, — ответил Говэн.
— Да как же так, гражданин командир. После Дольского дела уж слишком вы нас бережете. А нас ведь еще двенадцать человек.
— Ну и что же?
— Унизительно это для нас.
— Вы находитесь в резерве.
— А мы предпочитаем находиться в авангарде.
— Но вы понадобитесь мне позже, в конце операции, для решительного удара. Поэтому я вас и берегу.
— Слишком уж бережете.
— Ведь это все равно. Вы в строю. Идете в одной колонне со всеми.
— Идем, да сзади. А парижане вправе идти впереди.
— Я подумаю, сержант Радуб.
— Подумайте сейчас, гражданин командир. Случай уж очень подходящий. Нынче самый раз — свою голову сложить или чужую с плеч долой снести. Дело будет горячее. К башне Тург так просто не притронешься, руки обожжешь. Окажите милость — пустите нас первыми.
Сержант помолчал, покрутил ус и добавил взволнованным голосом:
— А кроме того, гражданин командир, в этой башне наши ребятки. Там наши дети, батальонные, трое наших малюток. И эта гнусная харя Грибуй — «В зад меня поцелуй», он же Синебой, он же Иманус, ну, словом, этот самый Гуж ле Брюан, этот Буж ле Грюан, этот Фуф ле Трюан, эта сатана треклятая, грозится наших детей погубить. Наших детей, наших крошек, командир. Да пусть хоть все громы небесные грянут, не допустим мы, чтобы с ними беда приключилась. Слышите, командир, не допустим. Вот сейчас, пока еще тихо, я взобрался на откос и посмотрел на них через окошко; они и верно там, их хорошо видно с плоскогорья, я их видел и, представьте, напугал малюток. Так вот, командир, если с ангельских их головенок хоть один волос упадет, клянусь вам всем святым, я, сержант Радуб, доберусь до потрохов отца предвечного. И вот что наш батальон заявляет: «Мы желаем спасти ребятишек или умрем все до одного». Это наше право, черт побери, наше право — умереть. А засим — привет и уважение.
Говэн протянул Радубу руку и сказал:
— Вы молодцы. Вы пойдете в первых рядах штурмующих. Я разделю вас на две группы. Шесть человек прикомандирую к передовому отряду, чтобы вести остальных, а пятерых к арьергарду, чтобы никто не смел отступить.
— Всеми двенадцатью командовать буду по-прежнему я?
— Конечно.
— Ну, спасибо, командир. Стало быть, я пойду впереди.
Радуб отдал честь и вернулся в строй.
Говэн вынул из кармана часы, шепнул несколько слов на ухо Гешану, и колонна нападающих начала строиться в боевом порядке.
VIII РЕЧЬ И РЫК
Тем временем Симурдэн, который еще не занял своего поста на плоскогорье и не отходил от Говэна, вдруг подошел к горнисту.
— Подай сигнал! — скомандовал он.
Горнист заиграл, ему ответил рожок.
И снова горн и рожок обменялись сигналами.
— Что такое? — спросил Говэн Гешана. — Что это Симурдэн задумал?
А Симурдэн уже шел к башне с белым платком в руках.
Приблизившись к ее подножию, он крикнул:
— Люди, засевшие в башне, знаете вы меня?
С вышки ответил чей-то голос — голос Имануса:
— Знаем.
Началась беседа, голос снизу спрашивал, сверху отвечал.
— Я посланец Республики.
— Ты бывший кюре из Паринье.
— Я делегат Комитета общественного спасения.
— Ты священник.
— Я представитель закона.
— Ты предатель.
— Я революционный комиссар.
— Ты расстрига.
— Я Симурдэн.
— Ты сатана.
— Вы меня знаете?
— Мы тебя ненавидим.
— Вам хотелось бы, чтобы я предался в ваши руки?
— Да мы все восемнадцать голову сложим, лишь бы твою с плеч снять.
— Вот и прекрасно, предаюсь в ваши руки.
На верху башни раздался дикий хохот и возглас:
— Иди!
В лагере воцарилась глубочайшая тишина — тишина ожидания.
Симурдэн продолжал:
— Но лишь при одном условии.
— Каком?
— Слушайте.
— Говори.
— Вы меня ненавидите?
— Ненавидим.
— А я вас люблю. Я ваш брат.
— Да ты Каин.
Симурдэн продолжал голосом громким и в то же время кротким:
— Оскорбляй, но выслушай. Я пришел к вам в качестве парламентария. Да, вы мои братья. Вы несчастные, заблудшие люди. Я ваш друг. Я говорю вам, как свет говорит с тьмой. А братство и есть свет. Да разве мы с вами не дети одной матери — нашей родины? Так слушайте же. Придет время, и вы поймете, или ваши дети поймут, или дети ваших детей поймут, что все, что творится ныне, свершается во имя законов, данных свыше, и что в революции проявляет себя воля бога. Пока не наступит то время, когда все умы, даже ваши, уразумеют истину и всяческий фанатизм, даже наш, исчезнет с лица земли, пока, повторяю, не воссияет этот великий свет, кто сжалится над вашей темнотой? Я сам пришел к вам, я предлагаю вам свою голову; больше того, протягиваю вам руку. Я как милости прошу: отнимите у меня жизнь, ибо я хочу спасти вас. Я наделен всеми полномочиями и могу выполнить то, что пообещаю. Наступила решительная минута; я делаю последнюю попытку. Да, с вами говорит гражданин, но в этом гражданине — тут вы не ошиблись — жив священнослужитель. Гражданин воюет с вамп, а священник молит вас. Выслушайте меня. У многих из вас жены и дети. Я беру на себя охрану ваших детей и жен. Я защищаю их от вас же самих. О братья мои…
— А ну-ка попроповедуй еще! — насмешливо крикнул Иманус.
Симурдэн продолжал:
— Братья мои, не допустите, чтобы пробил час отвратительной бойни. Близится миг кровопролитной схватки. Многие из нас, что стоят здесь перед вами, не увидят завтрашнего рассвета; да, многие из нас погибнут, но вы, вы умрете все. Так пощадите же самих себя. К чему проливать напрасно столько крови? К чему убивать стольких людей, когда можно убить всего двух?
— Двух? — переспросил Иманус.
— Да, двух.
— А кого?
— Лантенака и меня.
Симурдэн повысил голос:
— Два человека здесь лишние: Лантенак для нас, я для вас. Так вот что я вам предлагаю, и это спасет вашу жизнь: выдайте нам Лантенака и возьмите меня. Лантенак будет гильотинирован, а со мной сделаете все, что вам будет угодно.
— Поп, — заревел Иманус, — попадись только нам в руки, мы тебя живьем зажарим.
— Согласен, — ответил Симурдэн. И он продолжал: — Вы обречены на смерть в этой башне, а я предлагаю вам жизнь и свободу. Я несу вам спасение. Согласны?
Иманус захохотал:
— Ты не только негодяй, но и сумасшедший. Зачем ты нас беспокоишь зря? Кто тебя просил с нами разговаривать? Чтобы мы выдали маркиза? Чего ты хочешь?
— Его голову. А вам предлагаю…
— Свою шкуру. Ведь мы с тебя, как с паршивого пса, шкуру спустим, кюре Симурдэн. Но нет, не выйдет, твоя шкура против его головы не потянет. Убирайся.
— Бой будет ужасен. В последний раз говорю: подумайте хорошенько.
Пока шла эта мрачная беседа, каждое слово которой четко слышалось и внутри башни и в лесу, спустилась ночь. Маркиз де Лантенак молчал, предоставляя действовать другим. Военачальникам свойствен зловещий эгоизм. Это право тех, на ком лежит ответственность.
Иманус заговорил, заглушая слова Симурдэна:
— Люди, идущие на нас штурмом! Мы сообщили вам свои условия, они вам известны, и ничего мы менять не будем. Примите их, иначе раскаетесь. Согласны? Мы отдаем вам троих детей, которые находятся в замке, а вы выпускаете нас всех целыми и невредимыми.
— Всех, согласен, — ответил Симурдэн. — За исключением одного.
— Кого же?
— Лантенака!
— Нашего маркиза! Выдать вам маркиза! Ни за что на свете!
— Нам нужен Лантенак.
— Ни за что.
— Мы можем вести переговоры лишь при этом условии.
— Тогда начинайте.
Наступила тишина.
Иманус, протрубив сигнал сбора, сошел вниз; Лантенак взялся за шпагу; все девятнадцать осажденных в молчании зашли за редюит и опустились на колени; до них доносился мерный шаг передового отряда, продвигавшегося в темноте к башне. Шум все приближался; вдруг вандейцы угадали, что враг достиг самого пролома. Тогда мятежники, не подымаясь с колен, припали к бойницам, оставленным в редюите, вскинули к плечу ружья и мушкетоны, а Гран-Франкер, он же священник Тюрмо, выпрямился во весь свой рост и, держа в правой руке саблю, а в левой распятие, торжественно провозгласил:
— Во имя отца и сына и святого духа!
Осажденные дали залп, и бой начался.
IX ТИТАНЫ ПРОТИВ ГИГАНТОВ
Началось нечто неописуемо страшное.
Рукопашная в Турге превосходила все, что может представить себе человеческое воображение.
Чтобы дать о ней хоть слабое представление, пришлось бы вспомнить величественные картины единоборства у Эсхила или резню феодальных времен, те побоища «нож к ножу», которые происходили еще в XVII веке, когда наступающие проникали в крепость через пролом… Вспомнить те трагические схватки, о которых старик сержант из провинции Алентехо говорит: «Когда мины сделают свое дело, нападающие пойдут на штурм, опустив забрало, прикрываясь щитами и досками, обшитыми железом, вооруженные гранатами, они вытеснят врага из ретраншементов и редюитов, овладеют ими и продолжат неудержимое наступление».
Уже само место боя внушало ужас; битва разыгрывалась в проломе, который на военном языке зовется «подсводная брешь», ибо, если читатель помнит, стена треснула, но сквозного прохода не образовалось. Порох в данном случае сыграл роль бурава. Действие мины было столь сильно, что по стене прошла трещина, достигшая сорока футов высоты над местом взрыва, но это была лишь трещина, а единственное отверстие, которое отвечало своему назначению и позволяло проникнуть внутрь башни в нижнюю залу, напоминало скорее узкий след копья, нежели щель от удара топором.
Это был прокол на теле башни, глубокий шрам, похожий на горизонтально прорытый колодец или на извилистый коридор, идущий несколько вверх, некое подобие кишки, пропущенной через стену пятнадцатифутовой толщины, некий бесформенный цилиндр, где неприятеля ожидают препятствия, ловушки, взрывы: гранит здесь норовил разбить человеку лоб, щебень — засосать его по колено, а мрак — застлать ему глаза.
Перед штурмующими зияла черная арка, пасть бездны, ощерившейся острыми обломками камней, торчащими снизу и сверху, как зубы в гигантской челюсти; пожалуй, акулья пасть не так зубаста, как эта страшная пробоина. Надо было войти в эту дыру и выйти из нее живым.
Тут рвалась картечь, там преграждал путь редюит, — там, то есть в зале нижнего этажа.
Только в подземных галереях, где саперы, подводящие мину, встречаются с вражеским отрядом, ставящим контрмину, только в трюмах взятого на абордаж корабля, где идут в ход топоры, только там бой достигает такого накала. Битва в глубине рва — это предельная степень ужасного. Чудовищная рукопашная под нависающим над головою сводом. В ту самую минуту, когда первая волна нападающих заполнила пролом, редюит засверкал молниями и глухо, словно под землей, проворчал гром. Грому осады ответил гром обороны. На эхо отвечало эхо; раздался крик Говэна: «Вперед!» Потом крик Лантенака: «Держитесь стойко!» Потом крик Имануса: «Ко мне, земляки!» Потом лязг скрещивающихся сабель, и один за другим — залпы ружей, несущие смерть. Факел, воткнутый в трещину стены, бросал слабый свет на эту ужасную картину. Все смешалось, все было окутано красноватым мраком, попавший сюда человек сразу глох и слеп, глох от шума, слеп от дыма. Раненые, уже неспособные сражаться, лежали среди обломков; атакующие шагали по трупам, скользили в крови, доламывая сломанные кости, с пола доносился вой, и в ноги бойцов умирающие впивались зубами. Временами воцарялась тишина, еще более гнетущая, чем шум битвы. Грудь прижималась к груди, слышалось тяжелое дыхание, зубовный скрежет, предсмертный хрип, проклятья, и вновь все заглушалось раскатами грома. Из бреши струился ручеек крови, растекаясь по земле в ночном мраке. От темной лужи подымался пар.
Казалось, кровоточит сама башня — смертельно раненная великанша. Странно, но снаружи почти не было слышно отголосков боя. Ночь выдалась темная, над равниной и в лесу, подступавшем к башне, стояла зловещая тишина. Внутри был ад, снаружи безмолвие гробницы. Глухие звуки битвы, где люди уничтожали друг друга во мраке, мушкетные выстрелы, вопли, крики ярости — все эти шумы замирали под сводами, среди толщи стен; звуки слабели от недостатка воздуха, и ужас резни усугублялся удушьем. Но грохот битвы почти не доносился наружу. Дети мирно спали в библиотеке.
Ожесточение нарастало. Редюит держался стойко. Труднее всего опрокинуть именно такой редюит со входящим утлом. На стороне штурмующих было численное превосходство, зато на стороне осажденных — позиционное преимущество. Атакующие несли большой урон. Теснившаяся у подножия башни колонна республиканцев медленно просачивалась в зияющую брешь, укорачиваясь, как змея, вползающая в свою нору.
Говэн сплошь и рядом забывал о благоразумии, как то свойственно молодым полководцам, и, находясь в нижней зале, в самой гуще схватки, не обращал внимания на свистевшие вокруг пули. Добавим, что, подобно многим счастливцам, выходящим из боя без единой царапины, он верил в свою звезду.
Когда он обернулся, чтобы отдать приказание, раздался залп мушкетов, и при вспышке огня рядом с собой он увидел знакомое лицо.
— Симурдэн! — вскричал он. — Что вы здесь делаете?
В самом деле это был Симурдэн. Симурдэн ответил:
— Я хочу быть рядом с тобой.
— Но ведь вас убьют.
— А ты сам зачем сюда пришел?
— Но я здесь нужен. А вы нет.
— Раз ты здесь, я тоже должен быть здесь.
— Отнюдь нет, учитель.
— Да, дитя мое.
И Симурдэн остался рядом с Говэном.
На каменных плитах залы росла груда трупов.
Хотя редюит еще держался, было очевидно, что более сильный числом противник победит. Правда, нападающие шли без всякого прикрытия, а осажденные укрылись, и на одного убитого вандейца приходилось десять убитых республиканцев, зато у них на месте павшего бойца вырастал десяток новых. Ряды республиканцев множились, а ряды осажденных таяли.
Все девятнадцать осажденных находились позади редюита, здесь и сосредоточился бой. У них были убитые и раненые. С их стороны сражалось теперь не более пятнадцати человек. Один из самых свирепых вандейцев. Зяблик, был весь изувечен. Это был коренастый бретонец с курчавой шевелюрой, неугомонный и верткий коротышка. Ему выкололи глаз и раздробили челюсть. Но двигаться он еще мог. Он пополз вверх по винтовой лестнице и добрался до второго этажа, надеясь с молитвой отойти здесь к господу.
Он прислонился к стене, неподалеку от бойницы, и жадно вдыхал свежий воздух.
А внизу резня становилась все ожесточеннее. В минуту затишья, меж двух залпов, Симурдэн вдруг возвысил голос:
— Осажденные! Зачем дальше проливать кровь? Вы в наших руках. Сдавайтесь! Подумайте, ведь нас четыре с половиной тысячи против девятнадцати, другими словами, более двухсот на одного человека. Сдавайтесь!
— Прекратить эту комедию! — крикнул в ответ Лантенак.
И двадцать пуль ответили Симурдэну.
Верх редюита не доходил до свода, что давало осажденным возможность стрелять поверх редюита, зато нападающие могли взобраться на него.
— На приступ! — прокричал Говэн. — Есть охотники добровольно взобраться на редюит?
— Есть, — отозвался сержант Радуб.
X РАДУБ
При этих словах нападающие оцепенели от изумления. Радуб ворвался в пролом башни во главе колонны, шестым по счету; из шести человек, уцелевших от парижского батальона, четверо уже пали в бою. Закричав «есть», он, к удивлению присутствующих, и не подумал броситься к редюиту, а, наоборот, согнувшись, стал пробираться назад; скользя между ног своих товарищей, он добрался до устья бреши и вышел наружу. Неужели такой человек способен убежать с поля боя? Что все это значит?
Выйдя из-под свода, еще полуслепой от едкого дыма, Радуб протер глаза, словно желая прогнать прочь мрак и ужас, и при свете звезд оглядел стену башни. Потом удовлетворенно кивнул головой, словно говоря сам себе: «Да, я не ошибся».
Еще раньше Радуб заметил, что глубокая трещина, образовавшаяся после взрыва мины, шла вверх по стене вплоть до той бойницы второго яруса, в которую угодило ядро, повредив железную решетку и расширив отверстие. Наполовину вырванные из камня железные прутья свисали вниз, и теперь, пожалуй, человек мог проникнуть внутрь башни.
Человек мог проникнуть внутрь, но мог ли человек подняться? По трещине мог, но лишь при одном условии — стать кошкой.
Радуб ею стал. Он принадлежал к той породе людей, которых Пиндар именует «атлеты проворные». Можно быть старым воякой и не старым человеком; Радубу, бывшему рядовому французской гвардии, не исполнилось еще сорока лет. Это был Геркулес, наделенный ловкостью.
Радуб положил наземь мушкетон, снял кафтан и кожаное снаряжение, оставив при себе лишь два пистолета, которые он заткнул за пояс, и обнаженную саблю, которую он взял в зубы. Рукоятки пистолетов торчали из-за пояса.
Избавившись таким образом от всего лишнего, он под внимательным взглядом солдат, не успевших проникнуть в брешь, начал взбираться по камням, выступавшим по обоим краям трещины, будто по ступенькам лестницы. Отсутствие сапог на сей раз пошло на пользу, босая нога, не в пример обутой, легко цепляется за любой выступ; Радуб просовывал пальцы ног в малейшую расселину. Он подтягивался на руках и удерживался на весу, упираясь коленями в края трещины. Подъем был труден. Вообразите, что человеку пришлось бы лезть вверх по зубьям бесконечно длинной пилы. «Хорошо еще, — думал Радуб, — что в зале наверху никого нет, а то ни за что бы мне не взобраться!»
Ему предстояло преодолеть не менее сорока футов. По мере подъема трещина становилась все уже, рукоятки пистолетов цеплялись за камни, что затрудняло продвижение. И чем глубже становилась бездна, тем более неминуемым казалось падение.
Наконец он добрался до края бойницы; он раздвинул прутья покалеченной и вывороченной из стены решетки, с силой подтянулся, уперся коленом о карниз, схватился правой рукой за уцелевший обломок решетки, левой рукой — за другой обломок и приподнялся до половины бойницы, держа в зубах саблю и повиснув над бездной только на руках.
Ему оставалось перенести через край бойницы ногу, и он спустился бы в залу второго яруса.
Но вдруг в бойнице показалось лицо.
Во мраке Радуб увидел нечто страшное: перед ним возникла окровавленная маска с вырванным глазом и раздробленной челюстью.
И маска эта пристально глядела на него своим единственным зрачком.
Но у маски оказалось две руки; две эти руки поднялись из мрака и потянулись к Радубу; одна ловким движением вытащила у него из-за пояса оба пистолета, а другая вырвала из зубов саблю.
Радуб оказался безоружным. Его колено скользило по наклонному карнизу, руками он судорожно цеплялся за обломки решетки, с трудом удерживаясь на весу, а под ним зияла пропасть в сорок футов глубиной.
Эти руки и эта маска принадлежали Зяблику.
Задыхаясь от порохового дыма, поднимавшегося снизу, Зяблик кое-как дополз до бойницы: свежий воздух оживил его, ночная прохлада остановила кровь, сочившуюся из раны, и придала ему силы; вдруг в отверстие бойницы он увидел торс Радуба, а так как Радуб сжимал обеими руками прутья решетки и ему не было иного выбора, как рухнуть вниз или лишиться оружия, Зяблик, грозный и спокойный, вытащил у него из-за пояса пистолеты, а из зубов саблю.
Начинался неслыханный поединок. Поединок раненого с безоружным.
Казалось, победителем станет умирающий. Единственной пули было достаточно, чтобы сбросить Радуба в зиявшую под его ногами бездну.
К счастью для Радуба, Зяблик, держа оба пистолета в одной руке, не мог стрелять и вынужден был действовать саблей. Он ударил ею Радуба. Сабля рассекла плечо Радуба, но он был спасен.
Безоружный и тем не менее полный сил, Радуб, презрев удар, который, впрочем, не тронул кости, напрягся всем телом и впрыгнул в бойницу, выпустив из рук прутья решетки.
Теперь он очутился лицом к лицу с Зябликом, который отбросил саблю и схватил в каждую руку по пистолету.
Зяблик почти в упор целился с колен в Радуба, но ослабевшая рука задрожала, и он не успел спустить курок.
Радуб воспользовался этой передышкой и громко захохотал.
— А ну-ка, мордоворот, — закричал он, — уж не думаешь ли ты меня своим бифштексом запугать?.. А здорово, ей-богу, тебе личико освежевали.
Зяблик молча продолжал целиться.
Радуб не унимался.
— Не обессудь, но наша картечь тебе малость рыло подпортила. Бедный ты парень, гляди, как Беллона всю морду тебе поцарапала. А ну, стреляй, голубчик, стреляй скорее.
Раздался выстрел, пуля просвистела у самого виска Радуба и оторвала пол-уха. Зяблик поднял другую руку с пистолетом, но Радуб не дал ему времени прицелиться.
— И так уж я без уха остался, — закричал он. — Ты меня два раза ранил. Теперь мой черед.
И он бросился на врага, подбил снизу его руку так, что пистолет выстрелил в воздух, затем потянул вандейца за разбитую челюсть.
Зяблик взвыл от боли и потерял сознание.
Радуб перешагнул через бесчувственное тело, валявшееся поперек бойницы.
— А теперь потрудись выслушать мой ультиматум, — произнес он, — и не смей шелохнуться. Лежи здесь, злыдень ползучий. Сам понимаешь, нет мне сейчас времени с тобой возиться, добивать тебя. Ползай себе по земле, сколько твоей душе угодно, только с моим башмаком тебе компанию водить. А лучше умирай, вот это будет дело. Сам скоро поймешь, что твой поп тебе глупостей наобещал. Лети, мужичок, в райские кущи.
И он спрыгнул в залу второго этажа.
— Ни черта не видно, — буркнул он.
Зяблик судорожно забился и взревел в предсмертных муках. Радуб обернулся.
— Сделай милость, помолчи, гражданин холоп. Я больше в твои дела не мешаюсь. Презираю тебя и даже добивать не стану. Иди ты к черту!
Он в раздумье поскреб затылок, глядя на Зяблика:
— Что же мне теперь делать? Все это хорошо, но я остался без оружия. А мог целых два раза выстрелить. Ты меня обездолил, скотина! А тут еще дым этот, так глаза и ест.
И, случайно коснувшись раненого уха, он воскликнул: «Ой!»
Потом снова заговорил:
— Ну что, легче тебе оттого, что ты конфисковал у меня ухо? Хорошо еще, что все прочее цело, ухо — оно больше для украшения. Да еще плечо мне повредил, но это ничего. Помирай, мужичок; я тебя прощаю.
Он прислушался. Из залы доносился страшный гул. Бой достиг высшего накала.
— Там внизу дело идет на лад. Смотри ты, все еще кричат: «Да здравствует король!» Хоть и подыхают, а благородно.
Нога его задела за саблю, которую отбросил Зяблик. Радуб поднял ее с земли и обратился к вандейцу, который уже не шевелился, да и вряд ли был еще жив:
— Видишь ли, леший, для того дела, что я задумал, сабля мне ни к чему. А беру я ее только потому, что она мой старый друг. Вот пистолеты мне были бы нужны. Чтобы тебя, дикаря, черти подрали. Что же мне теперь делать? Куда я теперь гожусь?
Он стал пробираться через залу, стараясь хоть что-то разглядеть в темноте. Вдруг возле колонны, посреди комнаты, он заметил длинный стол, и на этом столе что-то тускло поблескивало. Радуб протянул руку. Он нащупал пищали, пистолеты, карабины, целый склад оружия, разложенного в строгом порядке; казалось, оно только и ждало руки бойца: это осажденные припасли себе оружие для второй фазы битвы. Словом, целый арсенал.
— Гляди-ка, какое богатство! — воскликнул Радуб.
И он бросился к оружию, не веря своим глазам.
Теперь он стал поистине грозен.
Рядом со столом, нагруженным оружием, Радуб увидел широко распахнутую дверь, ведущую на лестницу, которая соединяла этажи башни. Радуб отбросил саблю, схватил в каждую руку по двуствольному пистолету и выстрелил наудачу вниз, в пролет винтовой лестницы, потом взял мушкетон и выстрелил, затем схватил пищаль, заряженную крупной дробью, и тоже выстрелил. Выстрел из пищали, выпускавшей сразу пятнадцать свинцовых шариков, походил по звуку на залп картечи. Тогда Радуб, передохнув, оглушительным голосом крикнул в пролет лестницы: «Да здравствует Париж!»
И, схватив вторую пищаль, еще более крупного калибра, чем первая, он наставил ее дулом на лестницу и стал ждать.
В нижней зале началось неописуемое смятение. Такие минуты внезапного замешательства парализуют действия сопротивляющихся.
Две пули из трех залпов попали в цель: одна убила старшего из братьев Деревянные Копья, другая сразила Узара, иначе господина де Келена.
— Они наверху! — воскликнул маркиз.
Этот возглас решил судьбу редюита; защитники его, как стая испуганных птиц, бросились к винтовой лестнице. Маркиз подгонял отступающих.
— Скорее, скорее, — говорил он. — Сейчас бегство и есть проявление мужества. Подымемся на третий этаж! Там мы снова дадим бой!
Он покинул баррикаду последним.
Этот отважный поступок спас его от гибели.
Радуб, засевший на лестнице второго этажа, поджидал отступающих, держа палец на курке пищали. Вандейцы, первыми появившиеся из-за поворота лестницы, были сражены его пулями насмерть. Если бы в их числе был маркиз, он не миновал бы той же участи. Но прежде чем Радуб успел схватить заряженный мушкетон, уцелевшие вандейцы поднялись на третий этаж, а за ними неторопливо проследовал Лантенак. Вандейцы решили, что всю залу второго этажа занял неприятель, и потому, не останавливаясь, пробрались прямо на третий этаж, в зеркальную. Здесь была железная дверь, здесь был пропитанный серой шнур, здесь предстояло погибнуть или сдаться на милость победителя.
Говэн, не меньше чем вандейцы, удивленный выстрелами на лестнице, не знал, чему приписать эту неожиданную подмогу, но он не стал доискиваться причины; воспользовавшись благоприятной минутой, он во главе своих солдат перескочил через редюит и бросился за вандейцами к лестнице, подгоняя их вверх ударами шпаги.
На втором этаже он обнаружил Радуба.
Радуб отдал Говэну честь по всей форме и сказал:
— Сию секунду, командир. Это я наделал такой переполох. Вспомнил, как было в Доле, и повторил ваш тогдашний маневр. Зажал, так сказать, неприятеля меж двух огней.
— Что ж, ученик способный, — ответил, улыбаясь, Говэн.
Когда человек долгое время пробыл в неосвещенном помещении, глаза его постепенно привыкают к темноте и приобретают совиную зоркость; приглядевшись, Говэн заметил, что Радуб весь залит кровью.
— Да ты ранен, друг! — воскликнул он.
— Пустяки, командир, не стоит обращать внимания. Велика важность, одним ухом больше, одним меньше. Правда, меня и саблей хватили, да наплевать, — так, царапина. Волков бояться — в лес не ходить. Впрочем, тут не одна только моя кровь.
В зале второго этажа, отбитой Радубом у противника, устроили короткий привал. Принесли фонарь. Симурдэн подошел к Говэну. Они стали совещаться. И правда, было что обсудить. Нападающие так и не раскрыли тайны осажденных, не подозревали, что у вандейцев совсем мало боевых припасов; не знали они и того, что запасы пороха у врага приходят к концу; зала третьего этажа была последним оплотом осажденных; но нападающие могли предполагать, что лестница заминирована.
Одно было ясно — враг теперь не ускользнет из их рук. Уцелевшие в бою были как бы заперты в зеркальной. Лантенак попался в мышеловку.
Но раз так, можно было передохнуть и найти наилучшее решение. И без того уже ряды республиканцев поредели. Надо было действовать так, чтобы не понести большого урона в последней схватке.
Решительный приступ был сопряжен с немалым риском. Вполне может статься, что враг встретит их ожесточенным огнем.
Наступило затишье. Осаждающие, завладев двумя нижними этажами, ждали, когда командир даст сигнал к атаке. Говэн и Симурдэн держали совет. Радуб молча присутствовал при обсуждении.
Но вот он снова стал навытяжку и робко окликнул:
— Командир!
— Что тебе, Радуб?
— Заслужил я хоть небольшую награду?
— Конечно. Проси чего хочешь.
— Прошу разрешения идти первым.
Отказать ему было невозможно. Впрочем, он и не стал бы дожидаться разрешения.
XI ОБРЕЧЕННЫЕ
Пока в зале второго этажа шло совещание, на третьем спешно возводили баррикаду. Успех — это исступление, поражение — бешенство. Двум этажам башни предстояло схватиться в отчаянном поединке. Мысль о близкой победе пьянит. Второй этаж был окрылен надеждой, которую следовало бы признать самой могучей силой, движущей человеком, если бы не существовало отчаяния.
На третьем этаже царило отчаяние.
Отчаяние холодное, спокойное, мрачное.
Добравшись до залы третьего этажа — до последнего своего прибежища, дальше которого отступать было некуда, — осажденные первым делом загородили вход. Просто запереть двери было бы бесполезно, куда разумнее представлялось преградить лестницу. В подобных случаях любая преграда, позволяющая осажденным видеть противника и сражаться, надежнее закрытой двери.
Факел, прикрепленный Иманусом к стене возле пропитанного серой шнура, освещал лица вандейцев.
В зале третьего этажа стоял огромный, тяжелый дубовый сундук, в каких, до изобретения шкафов, наши предки хранили одежду и белье.
Осажденные подтащили сундук к лестнице и поставили его стоймя на самой верхней ступеньке. Размером он пришелся как раз по проему двери и плотно закупорил вход. Между сундуком и сводом осталось только узкое отверстие, через которое с трудом мог протиснуться человек, что давало в руки осажденным огромное преимущество, позволяя им разить одного наступающего за другим. Да и сомнительно было, что кто-нибудь отважится на такой шаг.
Забаррикадировав дверь, осажденные получили небольшую отсрочку.
Пересчитали бойцов.
Из девятнадцати человек осталось лишь семеро, в том числе Иманус. За исключением Имануса и маркиза, все остальные были ранены.
Впрочем, все пятеро раненых вели себя, как здоровые, ибо в пылу битвы любая рана, если только она не смертельна, не мешает бойцу двигаться и действовать; то были Шатенэ, он же Роби, Гинуазо, Уанар Золотая Ветка, Любовинка и Гран-Франкер. Все прочие погибли.
Боевые припасы иссякли. Пороховницы опустели. Вандейцы сосчитали оставшиеся пули. Сколько они, семеро, могут сделать выстрелов? Четыре.
Пришла минута, когда осталось только одно — пасть в бою. Они были прижаты к краю зияющей ужасной бездны. К самому ее краю.
Тем временем штурм возобновился, на этот раз его вели не столь стремительно, зато более уверенно. Слышно было, как осаждающие, поднимаясь по лестнице, выстукивают прикладами каждую ступеньку.
Бежать некуда. Через библиотеку? Но на плоскогорье стоят заряженные пушки и уже зажжены фитили. Через верхние залы? Но куда? Все ходы ведут на крышу. Правда, оттуда можно броситься вниз с вершины башни.
Семь уцелевших из этой легендарной банды понимали, что они попали в западню, откуда нет выхода, что они заключены среди толстых стен, которые охраняют, но и выдают их с головой врагу. Их еще не взяли в плен, однако они уже были пленниками.
Маркиз произнес громким голосом:
— Друзья мои, все кончено.
И, помолчав, он добавил:
— Гран-Франкер снова становится аббатом Тюрмо.
Вандейцы, перебирая четки, преклонили колена. Стук прикладов по ступенькам лестницы приближался.
Гран-Франкер, с залитым кровью лицом, так как пуля сорвала ему с черепа лоскут кожи, поднял правую руку, в которой он держал распятие. Маркиз, скептик в глубине души, преклонил колено.
— Пусть каждый из вас, — начал Гран-Франкер, — вслух исповедуется в грехах своих. Маркиз, начинайте.
Маркиз произнес:
— Убивал.
— Убивал, — промолвил Уанар.
— Убивал, — промолвил Гинуазо.
— Убивал, — промолвил Любовинка.
— Убивал, — промолвил Шатенэ.
— Убивал, — промолвил Иманус.
И Гран-Франкер возгласил:
— Во имя отца и сына и святого духа, отпускаю вам грехи ваши; мир вам.
— Аминь, — ответили хором шесть голосов.
Маркиз поднялся с колен.
— А теперь, — сказал он, — умрем.
— И убьем, — добавил Иманус.
Приклады уже били по сундуку, загораживающему вход.
— Обратитесь помыслами к богу, — сказал священник. — Отныне земные заботы для вас уже не существуют.
— Да, — подхватил маркиз, — мы в могиле.
Вандейцы склонили головы и стали бить себя в грудь. Лишь маркиз да священник стояли неподвижно. Все глаза были опущены, священник творил молитву, крестьяне творили молитву, маркиз был погружен в раздумье. Сундук зловеще гудел под ударами топора.
В эту минуту чей-то зычный голос внезапно прозвучал из темноты, из дальнего угла залы:
— Я ведь вам говорил, ваша светлость!
Все в изумлении обернулись.
В стене вдруг открылось отверстие.
Камень, искусно пригнанный к соседним камням, но не скрепленный с ними и вращающийся на двух стержнях, повернулся вокруг своей оси, как турникет, и открыл лазейку в стене. Камень свободно ходил в обе стороны, и за ним шли налево и направо два коридора, оба хоть и узкие, но достаточные для прохода поодиночке. В отверстие виднелись ступеньки винтовой лестницы. Из-за камня выглядывало чье-то лицо.
Маркиз узнал Гальмало.
XII СПАСИТЕЛЬ
— Это ты Гальмало?
— Я, ваша светлость. Как видите, камни иной раз все-таки вертятся, и отсюда можно бежать. Я пришел вовремя, но торопитесь. Через десять минут вы будете уже в чаще леса.
— Велико милосердие божье, — сказал священник.
— Бегите, ваша светлость, — прокричали все разом.
— Сначала вы, — ответил маркиз.
— Вы пойдете первым, ваша светлость, — сказал аббат Тюрмо.
— Последним.
И маркиз произнес сурово:
— Борьба великодушия здесь неуместна. У нас для этого нет времени. Вы ранены. Приказываю вам жить и уйти немедля. Спешите воспользоваться лазейкой. Спасибо, Гальмало.
— Стало быть, нам приходится расстаться, маркиз? — спросил аббат Тюрмо.
— Внизу мы, конечно, расстанемся. Бежать нужно всегда по одному.
— А вы, ваша светлость, изволите назначить место встречи?
— Да. На лужайке в лесу, около камня Говэнов. Знаете, где он?
— Знаем.
— Я завтра буду там ровно в полдень. Всем, кто может передвигаться, быть на месте.
— Будем.
— И мы снова качнем войну, — сказал маркиз.
Тем временем Гальмало, который стоял, опершись на вращающийся камень, вдруг заметил, что он больше не движется. Отверстие теперь уже не закрывалось.
— Торопитесь, ваша светлость, — повторил Гальмало. — Камень что-то не поддается. Открыть-то проход я открыл, а вот закрыть не могу.
И в самом деле, камень, который простоял неподвижно долгие годы, словно застыл в проеме. Невозможно было сдвинуть его с места.
— Ваша светлость, — продолжал Гальмало, — я надеялся закрыть проход, и синие, ворвавшись сюда, не обнаружили бы в зале ни души; пусть бы поломали себе голову, куда вы делись, уж не с дымом ли через трубу вылетели? А камень, гляди, упирается. Теперь враг заметит открытое отверстие и бросится за нами в погоню. Поэтому мешкать не годится. Скорее сюда.
Иманус положил руку на плечо Гальмало:
— Сколько времени, приятель, потребуется, чтобы пройти через эту лазейку и очутиться в лесу в полной безопасности?
— Тяжелораненых нет? — осведомился Гальмало.
Ему хором ответили:
— Нет.
— В таком случае, четверти часа хватит.
— Значит, — продолжал Иманус, — если враг не придет сюда еще четверть часа…
— Пусть тогда гонится за нами, — все равно не догонит.
— Но, — возразил маркиз, — они вернутся сюда через пять минут. Старый сундук не такая уж страшная для них помеха. Достаточно нескольких ударов прикладом. Четверть часа! А кто их задержит на эти четверть часа?..
— Я, — сказал Иманус.
— Ты, Гуж ле Брюан?
— Да, я, ваша светлость. Послушайте меня. Из шести человек пять раненых. А у меня даже царапины нет.
— И у меня тоже.
— Вы вождь, ваша светлость. А я солдат. Вождь и солдат — не одно и тоже.
— Знаю, у каждого из нас свой долг.
— Нет, ваша светлость, у нас с вами, то есть у меня и у вас, один долг — спасти вас.
Иманус повернулся к товарищам.
— Друзья, сейчас важно одно — преградить путь врагу и, по возможности, задержать преследование. Слушайте меня. Я в полной силе, я не потерял ни капли крови, я не ранен и поэтому выстою дольше, чем кто-либо другой. Уходите все. Оставьте мне оружие. Не беспокойтесь, я сумею пустить его в дело. Обещаю задержать неприятеля на добрые полчаса. Сколько у нас заряженных пистолетов?
— Четыре.
— Клади их все сюда, на пол.
Вандейцы повиновались.
— Вот и хорошо. Я остаюсь. Будет кому их встретить. А теперь бегите скорее.
В чрезвычайных обстоятельствах слова благодарности неуместны. Беглецы едва успели пожать Иманусу руку.
— До скорого свидания, — сказал маркиз.
— Нет, ваша светлость. Надеюсь, что свидание наше не скоро состоится: я здесь сложу голову.
Пропустив вперед раненых, беглецы поочередно прошли в проход. Пока передние спускались, маркиз вынул из записной карманной книжечки карандаш и написал несколько слов на вращающемся, отныне неподвижном, камне, уже не закрывавшем зияющий проход.
— Уходите, ваша светлость, вы последний остались, — сказал Гальмало.
С этими словами Гальмало стал спускаться по лестнице.
Маркиз последовал за ним.
Иманус остался один.
XIII ПАЛАЧ
Четыре заряженных пистолета вандейцы положили прямо на каменные плиты, так как в зеркальной не было паркета. Иманус взял из них два, по одному в каждую руку.
Затем он встал сбоку от двери, ведущей на лестницу, загороженный и полускрытый сундуком.
Нападающие, очевидно, боялись какого-то подвоха со стороны врага, они ждали взрыва, который может принести нежданную гибель в решительную минуту и победителю и побежденному. Насколько первый натиск прошел бурно, настолько последний был медлительным, осторожным. Солдаты Говэна не могли, а может быть, и не хотели с размаху разнести сундук; они разбили прикладом дно сундука, изрешетили крышку штыками и через эти отверстия пытались заглянуть в залу, прежде чем проникнуть туда. Сквозь эти щели пробивался свет фонарей, освещавших лестницу.
Иманус заметил, что к отверстию в днище сундука припал чей-то глаз. Он приставил пистолет прямо к дыре и нажал курок. Раздался выстрел, и торжествующий Иманус услыхал страшный вопль. Пуля, пройдя через глаз, пробила череп солдата, глядевшего в щель, и он свалился навзничь на ступеньках лестницы.
Наступающие в двух местах осторожно расширили отверстие между досками сундука и устроили две бойницы. Иманус воспользовался этим обстоятельством, просунул в отверстие руку и выстрелил из второго пистолета наудачу в самую гущу нападающих. Очевидно, пуля пошла рикошетом, так как послышались крики; должно быть, выстрелом Имануса ранило или убило трех-четырех человек; на лестнице раздался громкий топот сбегавших вниз людей.
Иманус отбросил два теперь уже ненужных ему пистолета и схватил два последних; затем, крепко зажав пистолеты в руке, он посмотрел в щелку.
Он убедился, что первые выстрелы не пропали даром.
Атакующие отошли вниз. На ступеньках корчились в предсмертных муках раненые; винтовая лестница позволяла видеть лишь три-четыре ступеньки.
Иманус ждал.
«Все-таки время выиграно», — подумал он.
Между тем он заметил, как какой-то человек осторожно ползет по ступенькам лестницы; в то же время над последней площадкой лестницы показалась голова солдата. Иманус прицелился и выстрелил. Раздался крик, солдат упал, и Иманус переложил из левой руки в правую последний оставшийся у него заряженный пистолет.
В это мгновенье он почувствовал страшную боль и дико взвыл в свою очередь. Сабля вонзилась ему прямо в живот. Рука, рука человека, который полз вверх по лестнице, просунулась во вторую бойницу, устроенную внизу сундука, и эта-то рука погрузила саблю в живот Имануса.
Рана была ужасна. Живот был распорот сверху донизу.
Но Иманус устоял. Он заскрежетал зубами и прошептал: «Ну ладно ж!»
Потом, шатаясь, едва передвигая ноги, он добрался до железной двери, положил пистолет на пол, схватил горящий факел и, поддерживая левой ладонью выпадающие внутренности, нагнулся и поджег пропитанный серой шнур.
Огонь в мгновение ока охватил шнур. Иманус выронил из рук факел, который не потух от падения, снова взял пистолет, рухнул ничком на каменные плиты пола и, приподняв голову, стал слабеющим дыханием раздувать фитиль.
Пламя, пробежав по шнуру, тут же исчезло под железной дверью и достигло замка.
Убедившись, что его гнусный замысел удался, гордясь своим злодеянием, быть может, более, нежели своей добродетелью, этот человек, за минуту до того бывший героем и ставший теперь просто убийцей, улыбнулся на пороге смерти.
— Попомнят они меня, — прошептал он. — Я отомстил. Пусть их дети поплатятся за наше дитя — за нашего короля, заточенного в Тампле.
XIV ИМАНУС ТОЖЕ УХОДИТ
В эту минуту раздался страшный грохот, под мощными ударами рухнул сундук, и в образовавшийся проход ворвался в зеркальную человек с саблей наголо.
— Это я, Радуб! А ну, выходи! Надоело мне ждать. Вот я и решился. Я тут одному сейчас распорол брюхо. А теперь выходи все. Идут за мной наши или не идут, а я уже здесь. Сколько вас тут?
Это действительно был Радуб, в единственном числе. После побоища, учиненного Иманусом на лестнице, Говэн, боясь наткнуться на скрытую мину, отвел своих людей и стал совещаться с Симурдэном.
Радуб, стоя с саблей наголо у порога, зорко вглядывался в полумрак зеркальной, еле освещенной пламенем потухающего факела, и снова повторил:
— Я тут один. А вас сколько?
Не дождавшись ответа, он двинулся вперед. Догоравший факел вдруг ярко вспыхнул, и последняя вспышка угасавшего пламени, которую можно назвать предсмертным вздохом света, осветила все уголки залы.
Радуб вдруг заметил маленькое зеркало, висевшее на стене в ряд с другим, подошел поближе, поглядел на свое залитое кровью лицо, на свое полуоторванное ухо и сказал:
— Здорово попортили фасад.
Потом, обернувшись, с удивлением убедился, что зала пуста.
— Да здесь никого нет! — закричал он. — В наличии ноль.
Его взгляд упал на повернутый камень, он заметил проход и позади него лестницу.
— Ага, понятно! Удрали… Сюда, товарищи! Идите скорее: они улизнули. Ушли, ускользнули, улетучились, убежали. Этот каменный кувшин оказался с трещиной. Вот через эту дыру они, канальи, и прошли. Попробуй-ка одолей Питта и Кобурга с их фокусами! Держи карман шире! Не иначе как сам черт им помог. Никого здесь нет!
Вдруг раздался пистолетный выстрел, пуля слегка задела локоть Радуба и сплющилась о камень стены.
— Вот как! Оказывается, здесь кто-то есть. Кто это пожелал мне уважение оказать?
— Я, — ответил чей-то голос.
Радуб вытянул шею и с трудом различил в полумраке какую-то темную массу, другими словами — распростертого на полу Имануса.
— Ага, — закричал Радуб. — Одного все-таки поймал. Все остальные убежали, зато тебе, голубчик, не уйти.
— Ты в этом уверен? — спросил Иманус.
Радуб сделал шаг вперед и остановился:
— Эй, человек, лежащий на полу, кто ты таков?
— Я хоть и лежащий, да смеюсь над вами, стоящими.
— Что это у тебя в правой руке?
— Пистолет.
— А в левой?
— Собственные потроха.
— Ты мой пленник.
— Плевать я на тебя хотел.
С этими словами Иманус потянулся к тлеющему шнуру, дунул на него из последних сил и умер.
Через несколько минут Говэн, Симурдэн и солдаты вошли в зеркальную. Они сразу увидели отверстие в стене. Обшарили все закоулки, обследовали лестницу — она выводила на дно оврага. Сомнения быть не могло — вандейцы спаслись бегством. Попробовали встряхнуть Имануса. Он был мертв. Говэн с фонарем в руке осмотрел камень, послуживший дверью беглецам; он давно слышал рассказы об этом вращающемся камне, но тоже считал их пустыми баснями. Исследуя камень, Говэн заметил на нем какую-то надпись, сделанную карандашом; приблизив к ней фонарь, он прочел следующие слова:
«До свиданья, виконт.
Лантенак».К Говэну подошел Гешан. Преследовать беглецов было бессмысленно — они успели скрыться, и скрыться надежно: весь край, каждый куст, каждый овраг, все чащи, любой крестьянин были за них и к их услугам. Кто же отыщет их в Фужерском лесу, когда весь Фужерский лес представляет собой огромный тайник? Что делать? Все приходилось начинать сызнова. Говэн и Гешан, не скрывая досады, обменивались своими соображениями.
Симурдэн молча и серьезно слушал их беседу.
— Кстати, Гешан, — вспомнил вдруг Говэн, — а где же лестница?
— Не привезли, командир.
— Как же так, ведь мы сами видели повозку под охраной конвоя.
Гешан ответил:
— На ней привезли не лестницу.
— А что же тогда привезли?
— Гильотину! — сказал Симурдэн.
XV НЕ СЛЕДУЕТ КЛАСТЬ В ОДИН КАРМАН ЧАСЫ И КЛЮЧ
Маркиз де Лантенак был не так уж далеко, как предполагали преследователи.
Тем не менее он находился в полной безопасности, вне пределов досягаемости.
Он шел следом за Гальмало.
Лестница, по которой они с Гальмало спустились вслед за другими беглецами, вела в узкий сводчатый коридор неподалеку от арок моста и рва. Коридор, в свою очередь, выводил в естественную глубокую расщелину, которая одним концом упиралась в овраг, а другим — в опушку леса. Непроницаемо густая зелень, среди которой извивалась расщелина, надежно укрывала ее от людских глаз. Здесь был в безопасности любой беглец. Достигши этой расщелины, он мог ужом проскользнуть в лес, и тут найти его было невозможно. Строители даже не потрудились замаскировать потайной выход, так как сама природа превосходно спрятала его в зарослях колючего кустарника.
Маркиз мог свободно уйти этим путем. Менять костюм ему было незачем. С первого дня своего прибытия в Бретань он носил крестьянское платье, считая, что его знатности ничто не может умалить.
Он только снял шляпу и бросил ее в кусты вместе с портупеей.
Когда Гальмало и маркиз выбрались из потайного хода в расщелину, пятеро их товарищей — Гинуазо, Уанар Золотая Ветка, Любовинка, Шатенэ и аббат Тюрмо уже скрылись.
— Птицы-то, как видно, упорхнули, — заметил Гальмало.
— Последуй и ты их примеру, — сказал маркиз.
— Значит, ваша светлость, вы желаете, чтобы я вас оставил?
— Конечно. Я тебе уже говорил. Бежать можно только поодиночке. Где пройдет один, там двое попадутся. Вдвоем мы только привлечем к себе внимание. Я тебя погублю, а ты погубишь меня.
— Ваша светлость, вы здешние места знаете?
— Да.
— Значит, встреча назначена у камня Говэнов, ваша светлость?
— Да, завтра. В полдень.
— Я приду. Все мы придем. — Гальмало помолчал. — Ах, ваша светлость, подумать только — мы вдвоем плыли с вами в открытом море, и я хотел вас убить, — я ведь не знал, что вы мой сеньор. Вы могли бы мне это сказать, да не сказали! Вот какой вы человек!
Маркиз прервал его:
— Англия! Больше помощи ждать неоткуда. Надо, чтобы через две недели англичане были во Франции.
— Я еще не успел вам, ваша светлость, отдать отчет. Я все ваши поручения выполнил.
— Поговорим об этом завтра.
— Слушаюсь. До завтра, ваша светлость.
— Погоди. Ты не голоден?
— Да как сказать? Я так торопился. Теперь уж и не помню, ел я нынче что-нибудь или нет.
Маркиз вынул из кармана плитку шоколада, разломил ее пополам, протянул одну половину Гальмало и сам откусил от другой.
— Ваша светлость, не заблудитесь, — сказал Гальмало, — направо будет ров, а налево — лес.
— Хорошо. А теперь оставь меня. Иди.
Гальмало повиновался. Вскоре он исчез во мраке. Сначала слышен был хруст веток под его ногами, потом все смолкло; несколько секунд спустя уже невозможно было отыскать его след. Вандейский Бокаж, ощетинившийся, густо заросший и неприступный, был славным пособником беглецов. Здесь человек даже не исчезал, а как бы растворялся без остатка. Именно эта способность противника мгновенно рассеиваться настораживала наши армии, и подчас они останавливались в нерешительности перед этой неизменно отступающей Вандеей, перед ее неправдоподобно проворной ратью.
Маркиз стоял неподвижно. Он принадлежал к той породе людей, которые умеют подавить в себе все чувства, но и он не смог сдержать волнения, вдыхая свежий воздух после запаха крови и резни. Знать, что ты спасся, после того как ты уже был на краю гибели, видеть перед собой свою разверстую могилу и вдруг оказаться в безопасности, вырваться из лап смерти и возвратиться к жизни — все это могло потрясти даже такого человека, как Лантенак; и хотя ему уже доводилось бывать в подобных переделках, он не мог оградить свой неприступный дух от мгновенного потрясения. Он не мог не сознаться себе, что он доволен. Но он быстро подавил это движение души, пожалуй, походившее на обыкновенную человеческую радость.
Он вытащил часы и нажал репетир. Который сейчас мог быть час?
К великому его удивлению, было всего десять. Когда человек только что пережил одно из тех грозных испытаний, где все поставлено на карту, он невольно поражается: как, неужели эти столь насыщенные минуты — не длиннее всех прочих? Пушечный выстрел, известивший о начале штурма, грянул незадолго до захода солнца, и через полчаса, то есть в восьмом часу, когда уже начало смеркаться, на Тург двинулась колонна республиканских войск. Следовательно, эта гигантская битва, начавшаяся в восемь часов, кончилась в десять. Вся эпопея длилась только сто двадцать минут. Иной раз трагические действия развертываются молниеносно. Катастрофы обладают удивительной способностью сводить часы к минутам.
Но, по здравому размышлению, следовало бы удивляться другому: целых два часа небольшая горстка людей сопротивлялась большому отряду, чуть ли не армии, — вот что было поразительным; эту битву девятнадцати против четырех тысяч никак нельзя было назвать краткой, а конец ее мгновенным.
Однако пора было двигаться в путь. Гальмало, конечно, успел уже уйти далеко, и маркиз рассудил, что нет никакой нужды оставаться здесь дольше. Он положил часы в карман, но не в тот, из которого их вынул, а в другой, так как убедился, что там лежит ключ от железной двери, врученный ему Иманусом, и побоялся, что от соприкосновения с тяжелым ключом стекло может разбиться; затем он направился вслед за прочими беглецами к лесу.
Но когда он уже повернул влево, ему вдруг показалось, что сквозь густой покров зелени пробился неяркий луч света.
Он обернулся и заметил, что заросли кустарника внезапно с поразительной четкостью выступили на фоне багрового неба, стал виден каждый листок, каждая веточка, а весь овраг залит светом. Он тронулся было обратно к замку, но тут же остановился: что бы там ни произошло, оказаться в освещенном месте бессмысленно, да и какое в конце концов ему до всего этого дело; поэтому он повернулся к тропинке, указанной ему Гальмало, и пошел в сторону леса.
Он уже вступил под шатер скрывавших его ветвей, как вдруг услышал где-то над своей головой страшный крик; крик, казалось, шел с плоскогорья, там, где оно переходило в овраг. Маркиз вскинул голову и остановился.
Книга пятая IN DAEMONE DЕUS[414]
I НАЙДЕНЫ, НО ПОТЕРЯНЫ
В тот миг, когда Мишель Флешар заметила башню, всю багровую в лучах заходящего солнца, она находилась от нее на расстоянии полутора лье. И хотя она с трудом передвигала ноги, эти полтора лье не испугали ее. Женщина слаба, но силы матери неиссякаемы. Она двинулась дальше.
Солнце село, спустился сумрак, потом и полный мрак; упорно шагая вперед, она услышала, как вдалеке на невидимой отсюда колокольне пробило восемь, затем девять часов. Должно быть, это отбивали часы на колокольне Паринье. Время от времени она останавливалась и прислушивалась к глухим ударам, которые, казалось, были смутным рокотом самой ночи.
И она все шла, ступая окровавленными ногами по колючкам и острым камням. Мать шла теперь на слабый свет, исходивший от башни, которая четко выступала из мрака, облитая таинственным мерцанием. И чем явственнее доносились удары, тем ярче вспыхивал свет, тут же сменявшийся мглою.
На широком плоскогорье, по которому брела Мишель Флешар, не было ни дерева, ни хижины, ничего, кроме травы и вереска; оно незаметно подымалось, и его прямые резкие очертания тянулись далеко-далеко, сливаясь на горизонте с темным, усеянным звездами небосводом. Путница шла с трудом, и лишь вид башни, ни на минуту не скрывавшейся из глаз, поддерживал ее силы.
Башня на ее глазах постепенно увеличивалась в размерах.
Глухие раскаты и белесые вспышки, вырывавшиеся из башни, как мы уже говорили, следовали друг за другом через определенные промежутки, ставя безутешную мать перед мучительной загадкой.
Вдруг все смолкло; стихли удары, потух свет; наступила глубокая тишина; какой-то зловещий покой окутал все вокруг.
Как раз в эту минуту Мишель Флешар достигла края плоскогорья.
Внизу лежал ров, дно которого скрывалось в бледной ночной мгле; чуть подальше, на верхней части плоскогорья, колеса, пушечные лафеты, брустверы, амбразуры указывали на месторасположение батареи, а прямо, еле освещенное тлеющими фитилями, вырисовывалось огромное здание, как бы высеченное из самого мрака, но мрака еще более густого, еще более черного, чем тот, что царил вокруг.
К зданию вел мост, арки которого своим основанием упирались в дно рва, а за мостом, примыкая к замку, темной, круглой громадой высилась башня, к которой из такого далека брела мать.
Огни факелов перебегали от окна к окну, и по доносившемуся из башни гулу голосов нетрудно было догадаться, что там внутри собралось множество людей, человеческие фигуры вырисовывались даже на самой вышке.
Возле батареи расположился лагерь; Мишель Флешар различала часовых, выставленных у палаток, но ее скрывала от них темнота и кустарник.
Она подошла к самому краю плоскогорья и очутилась так близко от моста, что, казалось, стоит только протянуть руку, чтобы коснуться его. Но ее отделял от моста глубокий ров. В темноте обозначались все три этажа замка, высившегося на мосту.
Сколько времени она простояла так — неизвестно, ибо время перестало существовать для нее; молча, не отрывая взора от страшного зрелища, смотрела она на зияющий под ногами ров и мрачное строение. Что это такое? Что там происходит? Да и Тург ли это? У нее закружилась голова, как будто она ждала чего-то и сама уже не знала, конец это пути или только начало его. Она с удивлением спрашивала себя, зачем она очутилась здесь.
Она глядела, она слушала.
Вдруг она перестала видеть что-либо. Завеса дыма встала между нею и тем, с чего она не спускала глаз. Она зажмурилась — так у нее защипало глаза. Но и под опущенными веками она видела багровый свет. И она снова открыла глаза.
Теперь уже не мрак ночи, а день окружал ее, но день безрадостный, день, порожденный пламенем. На глазах у матери начинался пожар.
Черное облако дыма стало вдруг пурпурным — внутри него пылало пламя, оно то исчезало, то вырывалось наружу неистовыми зигзагами, которые под стать лишь молниям и змеям.
Пламя, словно живой язык, высовывалось из черной пасти, вернее, из провала окна, за которым бушевал огонь. Окно, забранное железной решеткой, прутья которой уже раскалились докрасна, помещалось в ряду других окон нижнего этажа замка, построенного на мосту. Из всех окон здания теперь видно было лишь одно это окно. Все вокруг, даже плоскогорье, обволакивал дым, и только край оврага черной линией выделялся на фоне алого зарева.
Мишель Флешар в изумлении глядела на пожар. Клубы дыма подобны облаку, облако подобно грезе; уж не пригрезилось ли ей все это? Бежать прочь? Остаться здесь? Ей казалось, что она уже переступила порог реального мира.
Налетевший порыв ветра разодрал завесу дыма, и в разрыве внезапно открылась вся трагическая цитадель целиком — с башней, замком, мостом, ослепляющая, страшная, в великолепной позолоте пожара, игравшей на ней от подножия до кровли. При свете зловещего пламени Мишель Флешар увидела все.
Нижний этаж замка, построенный на мосту, пылал.
Пламя еще не коснулось двух верхних этажей, и они, казалось, были вознесены к небу в огненной корзине. С края плоскогорья, где стояла Мишель Флешар, можно было различить внутренность комнат в те краткие минуты, когда отступали огонь и дым. Все окна были открыты настежь.
В широкие окна второго этажа Мишель Флешар разглядела стоящие у стен шкафы и даже как будто книги, а прямо на полу, напротив одного из окон, какое-то темное пятно, вернее, кучку каких-то предметов, нечто напоминавшее гнездо или выводок птенцов, и это «нечто» временами шевелилось.
Она продолжала вглядываться.
Что это за комочек теней?
Мгновениями ей приходило в голову, что эти тени похожи на живые существа. Ее била лихорадка, она ничего не ела с самого утра, она шла пешком весь день без отдыха, она с трудом держалась на ногах; она чувствовала, что у нее начинается бред, и поэтому инстинктивно не доверяла самой себе; и все же она вглядывалась все пристальнее, не могла отвести взора от чего-то неподвижного, быть может, даже неодушевленного, что чернело на паркете залы, расположенной над горящей кордегардией.
Вдруг огонь, словно наделенный волей, послал длинный язык пламени в направлении сухого плюща, обвивавшего весь фасад замка, на который смотрела Мишель Флешар. Казалось, пламя только сейчас обнаружило эту сетку мертвых ветвей; сначала всего лишь одна искра жадно прильнула к ним и начала карабкаться по побегам плюща с той грозной быстротой, с какой бежит огонь по пороховой дорожке. В мгновение ока пламя достигло третьего этажа, и тогда оно сверху осветило внутренность второго. Резкий свет озарил комнату и выхватил из мрака три спящие крохотные фигурки.
Очаровательная группа! Прижавшись друг к другу, сплетясь ручками и ножками, спали спокойным детским сном и улыбались во сне три беленьких младенца.
Мать узнала своих детей.
Она испустила душераздирающий крик.
Только в материнском крике может звучать такое невыразимое отчаяние. Как дик и трогателен этот вопль! Когда его испускает женщина, кажется, что воет волчица, когда воет волчица, кажется, что стенает мать.
Крик Мишель Флешар был подобен вою. Гекуба взлаяла, — говорит Гомер.
Этот-то крик и достиг ушей маркиза де Лантенака.
И, как мы знаем, Лантенак остановился.
Он стоял между потайным ходом, через который его провел Гальмало, и рвом. Сквозь ветви кустарника, переплетавшиеся над его головой, он видел охваченный огнем мост, весь красный от зарева Тург и в просвете между ветвей заметил вверху, на противоположной стороне рва, на самом краю плоскогорья, напротив пылающего замка, где было светло как днем, жалкую и страшную фигуру женщины, склонившуюся над рвом.
Эта женщина и закричала так пронзительно.
Впрочем, сейчас то была уже не Мишель Флешар, то была Горгона. Сирые бывают сильными. Простая крестьянка превратилась в Эвмениду. Темная, невежественная, грубоватая поселянка вдруг поднялась до эпических высот отчаяния. Великие страдания мощно преобразуют души; эта мать была самим материнством; то, что вмещает в себя все человеческое, становится сверхчеловеческим. Она возникла здесь, на краю оврага, перед бушующим пламенем пожара, перед этим злодейством, как загробное видение; она выла, как зверь, но движения ее были движениями богини; ее скорбные уста слали проклятия, а лицо казалось огненной маской. Что сравнится в царственном величии со взором матери, застланным слезами, мечущим молнии; ее взгляд испепелял пожарище.
Маркиз прислушался. Поток ее жалоб низвергался вниз, прямо на него. Он слышал бессвязные речи, раздирающие душу выкрики, слова, подобные рыданиям:
— Ах, господи боже ты мой! Дети, дети! Ведь это мои дети! На помощь! Пожар! Пожар! Пожар! Значит, все вы разбойники? Неужели там никого нет? Сгорят, слышите, сгорят! Жоржетта, детки мои! Гро-Алэн, Рене-Жан! Да где же это видано! Кто запер там моих детей? Они ведь спят. Да нет, я с ума сошла. Разве такое бывает? Помогите!
Тем временем вокруг башни и на плоскогорье поднялось движение. Когда начался пожар, сбежался весь лагерь. Нападающие, только что встретившиеся с картечью, встретились теперь с огнем. Говэн, Симурдэн, Гешан отдавали приказания. Но что можно было сделать? Ручеек, бежавший по дну рва, совсем пересох, там не наберешь и десяти ведер воды. Всех охватил ужас. По краю плоскогорья толпились люди, обратив испуганные лица в сторону пожара.
Зрелище, открывшееся их взорам, было поистине страшным.
Люди смотрели и ничем не могли помочь.
Пламя, пробежав по веткам плюща, перекинулось в верхний этаж. Там ему нашлась пожива — целый чердак, набитый соломой. Теперь пылал чердак. Вокруг плясали языки пламени; ликование огня — ликование зловещее. Казалось, само зло раздувает этот костер. Словно чудовищный Иманус вдруг обернулся вихрем искр, слив свою жизнь со смертоносной жизнью огня, а его звериная душа стала душою пламени. Второй этаж, где помещалась библиотека, был еще не тронут огнем — толстые стены и высокие потолки отсрочили миг его вторжения, но роковая минута неотвратимо приближалась; его уже лизали языки пламени, подбиравшегося снизу, и ласкал огонь, бежавший сверху. Его уже коснулось неумолимое лобзание смерти. Внизу, в подвале, — огненная лава, наверху, под сводами, — пылающий костер; прогорит хоть в одном месте пол библиотеки — и все рухнет в огненную пучину; прогорит потолок — и все погребут под собой раскаленные угли. Рене-Жан, Гро-Алэн и Жоржетта еще не проснулись, они спали глубоким и безмятежным сном детства, и сквозь волны огня и дыма, то окутывавшие окна, то уносившиеся прочь, было видно, как в огненном гроте, в сиянии, равном сиянию метеора, мирно спят трое ребятишек, прелестные, как три младенца Иисуса, доверчиво заснувшие в аду; и тигр заплакал бы при виде этих лепестков розы в горниле огня, при виде этих детских колыбелек в могиле.
Мать в отчаянии ломала руки.
— Пожар! Пожар! Спасите! Да что же, вы все оглохли, что ли? Почему никто не спешит им на помощь? Там ведь моих детей жгут! Да помогите же, вон сколько вас тут! Я много дней шла, я две недели шла, и вот, когда я до них наконец добралась, видите, что случилось. Пожар! Спасите! Ангелочки ведь! Ведь это же ангелочки! Чем они провинились, невинные крошки? Собаку и ту пожалели бы. Детки мои, детки спят там. Жоржетта, вон сами посмотрите, разбросалась, маленькая, животик у нее голенький. Рене-Жан! Гро-Алэн! Ведь их Рене-Жан и Гро-Алэн зовут! Вы же видите, что я их мать. Что же это творится? Какие гнусные времена настали! Я шла дни и ночи. Даже еще сегодня утром я говорила с одной женщиной… На помощь! Спасите! Да это не люди, а чудовища какие-то! Злодеи! Ведь старшенькому-то всего пять лет, а меньшой двух нету. Вон смотрите, какие у них ножки — босенькие. Спят, святая дева Мария! Рука всевышнего вернула их мне, а рука сатаны отняла. Ведь сколько я шла! Дети мои, дети, я вскормила их собственным молоком!.. Да как же это?.. А я-то еще считала, что не будет хуже горя, если я их не найду! Сжальтесь надо мной! Верните мне моих детей! Посмотрите, ноги мои все в ссадинах, в крови, сколько я шла! На помощь! Ни за что не поверю, что люди дадут несчастным крошкам погибнуть в огне. На помощь, люди! На помощь! Да разве может такое на земле случиться? Ах, разбойники! Да что это за дом такой страшный? У меня украли детей, чтобы их убить. Иисусе милостивый, верни мне моих детей! Я все, все готова сделать, только бы их спасти. Не хочу, чтобы они умирали! На помощь! Спасите! Спасите! О, если б я знала, что им так суждено погибнуть, я бы самого бога убила!
Грозные мольбы матери покрывал громкий гул голосов, подымавшихся с плоскогорья и из оврага:
— Лестницу!
— Нет лестницы.
— Воды.
— Нет воды!
— В башне на третьем этаже есть дверь.
— Она железная.
— Так взломаем ее!
— До нее не достать.
А мать взывала с новой силой:
— Пожар! Спасите! Да торопитесь же вы! Скорее! Спасите или убейте меня. Мои дети! Мои дети! Ах, треклятый огонь, пусть их вынесут оттуда или пусть меня бросят в огонь.
И когда на мгновение утихал плач матери, слышалось деловитое потрескивание огня.
Маркиз опустил руку в карман и нащупал ключ от железной двери. Затем, пригнувшись, он снова вступил под своды подземелья, через которое выбрался на свободу, и пошел обратно к башне, откуда он только что бежал.
II ОТ КАМЕННОЙ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ ЖЕЛЕЗНОЙ
Целая армия, парализованная невозможностью действовать, четыре с половиной тысячи человек, бессильные спасти трех малюток, — таково было положение дел.
Лестницы действительно не оказалось; лестница, отправленная из Жавенэ, не дошла до места назначения; пламя ширилось, словно из кратера выливалась огненная лава; пытаться заглушить его, черпая воду из пересохшего ручейка, бегущего по дну рва, было столь же нелепо, как попытаться залить извержение вулкана стаканом воды.
Симурдэн, Гешан и Радуб спустились в ров; Говэн поднялся в залу, расположенную в третьем ярусе башни Тург, где находились вращающийся камень, прикрывавший потайной ход, и железная дверь, ведущая в библиотеку. Как раз здесь поджег Иманус пропитанный серою шнур, отсюда и распространилось по замку пламя.
Говэн привел с собой двадцать саперов. Оставалась единственная надежда — взломать железную дверь. Но она была закрыта наглухо.
Саперы для начала пустили в ход топоры. Топоры сломались. Кто-то из саперов заметил:
— Против этой двери любая сталь — стекло.
И верно, дверь была из кованого железа. Да еще обшита двойными металлическими полосами в три дюйма толщины.
Решили взять железные брусья и, подсунув их под дверь, налечь на них; железные брусья тоже сломались.
— Как спички, — заметил тот же сапер.
Говэн мрачно проговорил:
— Только ядром и можно пробить эту дверь. Попытаться разве вкатить сюда пушку?
— Не поможет! — сказал сапер.
Наступила минута уныния. Все в бессилии опустили руки. Побежденные, растерянные, молча смотрели на эту страшную железную дверь. В узенькую щелку под ней пробивался багровый отблеск. А за дверью бушевал огонь.
Страшный труп Имануса справлял здесь свою зловещую победу.
Еще несколько минут, и все пропало.
Что делать? Никакой надежды на спасение нет.
Глядя на отодвинутый камень, за которым зиял потайной ход, Говэн воскликнул в отчаянии:
— Но ведь маркиз де Лантенак ушел по этому ходу.
— И по нему же вернулся, — раздался чей-то голос.
И в каменной рамке потайного хода показалась седая голова.
Это был маркиз.
Многие годы Говэн не видел его так близко, как сейчас, и невольно отступил назад.
Да и все присутствующие замерли, окаменев в тех позах, в которых их застало неожиданное появление маркиза.
В руках маркиз держал огромный ключ; высокомерным взглядом он словно отодвинул от себя саперов, стоявших на его пути, подошел к железной двери, наклонился и вставил ключ в замочную скважину. Ключ заскрипел, дверь отворилась, за ней открылась огненная бездна. Маркиз вступил в нее.
Вступил твердой стопой, не склонив головы.
Все с трепетом следили за ним.
Не успел маркиз сделать несколько шагов по охваченной пламенем зале, как вдруг паркет, подточенный огнем, дрогнул под шагами человека и рухнул вниз, так что между дверью и маркизом легла пропасть. Но он даже не обернулся и продолжал идти вперед. Скоро он исчез в клубах дыма.
Больше ничего не было видно.
Удалось ли маркизу добраться до цели? Не разверзся ли под его ногами новый огнедышащий провал? Значит, единственное, что он может, — это погибнуть? Кто знает? Перед Говэном и саперами стояла сплошная стена дыма и огня. А по ту сторону ее был маркиз, живой или мертвый.
III ГДЕ ДЕТИ, КОТОРЫХ МЫ ВИДЕЛИ СПЯЩИМИ, ПРОСЫПАЮТСЯ
Тем временем дети все-таки открыли глаза.
Пламя, обходившее пока стороной библиотечную залу, окрашивало весь потолок в розоватые тона. Впервые дети видели такую странную зарю и внимательно глядели на нее. Жоржетта вся погрузилась в созерцание.
Пожар разворачивал перед ними все свое великолепие. Бесформенные клубы дыма, роскошно окрашенные в бархатисто-темные и пурпуровые цвета, превращались то в черного дракона, то в алую гидру. Искры, улетая вдаль, прочерчивали мрак, и казалось, что это гонятся друг за другом враждующие кометы. Огонь по своей природе расточителен: любой костер беспечно пускает на ветер целые алмазные россыпи, ведь не случайно алмаз — близкий родич углю. Стены третьего этажа местами прогорели, и из образовавшихся брешей огонь щедро сыпал в ров каскады драгоценных каменьев; солома и овес, пылавшие на чердаке, заструились из всех окон лавиной золотой пыли, зерна овса вдруг начинали сиять, как аметисты, а соломинки превращались в рубины.
— Кьясиво! — заявила Жоржетта.
Все трое ребятишек приподнялись.
— Ах! Они просыпаются! — закричала мать.
Рене-Жан встал на ноги, затем встал Гро-Алэн, затем поднялась Жоржетта.
Рене-Жан потянулся, подошел к окну и сказал:
— Мне жарко!
— Зяйко! — повторила Жоржетта.
Мать окликнула их:
— Дети! Рене! Алэн! Жоржетта!
Дети огляделись вокруг. Они старались понять. Там, где взрослым владеет страх, ребенком владеет любопытство. Кто легко удивляется, пугается с трудом; неведение полно отваги. Дети так не заслуживают ада, что даже при виде пламени преисподней пришли бы в восторг.
Мать крикнула снова:
— Рене! Алэн! Жоржетта!
Рене-Жан обернулся; голос привлек его внимание; у детей короткая память, зато вспоминают они быстрее взрослых; все их прошлое — вчерашний день; Рене-Жан увидел мать, счел ее появление вполне естественным, а так как кругом творились какие-то странные вещи, он хоть и смутно, но почувствовал необходимость в чьей-то поддержке и крикнул:
— Мама!
— Мама! — повторил Гро-Алэн.
— Мам! — повторила Жоржетта. И протянула к матери ручонки.
Мать закричала раздирающим голосом:
— Мои дети!
Все трое подбежали к окну; к счастью, пламя бушевало с противоположной стороны.
— Ой, как жарко, — сказал Рене-Жан. И добавил: — Жжется!
Он стал искать глазами свою мать.
— Мама, иди сюда.
— Мам, иди! — повторила Жоржетта.
Мать с разметавшимися по плечам волосами, в разодранном платье, с окровавленными ногами бросилась, не помня себя, вниз по откосу рва, цепляясь за ветки кустарника. Там стояли Симурдэн с Гешаном, и тут внизу, во рву, они были столь же беспомощны, как Говэн наверху, в зеркальной зале. Солдаты, в отчаянии от собственной бесполезности, теснились вокруг них. Жара была непереносимая, но никто этого не ощущал. Они учли все — наклон обрыва у моста, высоту арок, расположение этажей и окон, недоступных для человека, а также и необходимость действовать быстро. Но как преодолеть три этажа? Нет никакой возможности туда добраться. Весь в поту и крови, подбежал раненый Радуб — сабля рассекла ему плечо, пуля оторвала ухо; он увидел Мишель Флешар.
— Эге! — сказал он. — Расстрелянная, вы, значит, воскресли?
— Дети! — вопила мать.
— Правильно, — ответил Радуб, — сейчас не время заниматься привидениями.
И он начал карабкаться на мост. Увы, попытка оказалась безуспешной. Обломав о каменную стену все ногти, он поднялся лишь на небольшую высоту; устои моста были гладкие, как ладонь, без трещинки, без выступа; камни были подогнаны, как в новой кладке, и Радуб сорвался. Пожар продолжал беспощадно бушевать; в пламенеющем квадрате окна ясно виднелись три светлые головки. Тогда Радуб погрозил кулаком небу и, впившись в него взором, словно ища там виновника, произнес:
— Так вот как ты себя ведешь, милосердный господь!
Мать упала на колени и, охватив руками каменный устой моста, молила:
— Смилуйтесь!
Потрескивание горящих балок сопровождалось шипением огня. Стекла в библиотечных шкафах лопались и со звоном падали на пол. Было ясно, что перекрытия замка сдают. Не в силах человека было предотвратить катастрофу. Еще минута, и все рухнет. Ждать оставалось одного — страшной развязки. А тоненькие голоса звали: «Мама, мама!» Ужас достиг предела.
Вдруг в окне, по соседству с тем, возле которого стояли дети, на пурпуровом фоне пламени возникла высокая человеческая фигура.
Все подняли вверх головы, все впились взглядом в окно. Какой-то человек был там, наверху, какой-то человек проник в библиотечную залу, какой-то человек вошел в самое пекло. На фоне огня его фигура выделялась резким черным силуэтом, только волосы были седые. Все узнали маркиза де Лантенака.
Он исчез, затем появился вновь.
Грозный старик высунулся из окна, держа в руках длинную лестницу.
Это была та самая спасательная лестница, которую заблаговременно убрали в библиотеку, положили у стены, а маркиз подтащил ее к окну. Он схватил лестницу за конец, с завидной легкостью атлета перекинул ее через оконницу и стал осторожно спускать вниз, на дно рва. Радуб, стоявший во рву, не помня себя от радости, протянул руки, принял лестницу и закричал:
— Да здравствует Республика!
Маркиз ответил:
— Да здравствует король!
— Кричи все, что тебе угодно, любые глупости кричи. Все равно ты сам господь бог, — проворчал Радуб.
Лестницу приставили к стене; теперь горящая зала и земля были соединены; двадцать человек во главе с Радубом бросились к лестнице и в мгновение ока заняли все перекладины снизу доверху, наподобие каменщиков, которые передают вверх на стройку или спускают вниз кирпичи. На деревянной лестнице выросла вторая живая лестница из человеческих тел. Радуб, взобравшийся на самую верхнюю ступеньку, оказался у окна, лицом к лицу с пламенем.
Солдаты маленькой армии, волнуемые самыми разнообразными чувствами, теснились кто в зарослях вереска, кто на откосах рва, кто на плоскогорье, а кто и на вышке башни.
Маркиз опять исчез, затем показался в окне, держа на руках ребенка.
Его приветствовали оглушительными рукоплесканиями.
Маркиз схватил первого, кто подвернулся ему под руку. Это оказался Гро-Алэн.
Гро-Алэн закричал:
— Боюсь!
Маркиз передал Гро-Алэна Радубу, который в свою очередь передал его солдату, стоявшему ниже, а тот таким же образом передал следующему; и пока перепуганный, плачущий Гро-Алэн переходил из рук в руки, маркиз снова исчез и через секунду появился у окна, держа на руках Рене-Жана, который плакал, отбивался и успел ударить Радуба, когда маркиз протянул ему малыша.
Маркиз в третий раз скрылся в зале, куда уже ворвалось пламя. Там оставалась одна Жоржетта. Лантенак подошел к ней. Она улыбнулась. И этот человек, будто высеченный из гранита, почувствовал вдруг, что глаза его увлажнились. Он спросил:
— Как тебя зовут?
— Зойзета, — ответила она.
Маркиз взял Жоржетту на руки, она все улыбалась; и в ту минуту, когда Радуб уже принимал малютку из рук маркиза, душа этого старика, столь высокомерного и столь мрачного, внезапно озарилась восторгом перед детской невинностью, и он поцеловал ребенка.
— Вот она, наша крошка! — кричали солдаты. Жоржетту тем же путем под восхищенные крики снесли с лестницы, и она очутилась на земле. Люди хлопали в ладоши, стучали ногами; седые гренадеры плакали, а она улыбалась им.
Мать стояла внизу у лестницы, задыхаясь от волнения, уже ничего не сознавая, опьяненная тем, что произошло, разом вознесенная из преисподней в рай. Избыток радости по-своему ранит сердце. Она протянула руки, схватила сначала Гро-Алэна, затем Рене-Жана, наконец Жоржетту, осыпала их поцелуями, потом захохотала диким смехом и лишилась чувств.
Со всех концов слышались громкие крики:
— Все спасены!
И впрямь все, кроме старика, были спасены.
Но никто не думал о нем, возможно и сам он тоже.
Несколько мгновений он задумчиво стоял на подоконнике, словно ждал, чтобы огонь сказал свое последнее слово. Потом не торопясь перешагнул через подоконник и, не оборачиваясь, медленно и величаво, прямой и словно застывший, стал спускаться по лестнице, спиной к бушующему пламени, среди общего молчания, торжественно, как призрак. Те, кто еще замешкался на лестнице, быстро скатывались вниз, все почувствовали трепет и расступились в священном ужасе перед этим человеком, будто перед сверхъестественным видением. А он тем временем медленно спускался в подстерегавший его мрак; они отступали, а он приближался к ним; ничто не дрогнуло на его бледном, словно из мрамора изваянном лице; в его застывшем, как у призрака, взгляде не промелькнуло ни искорки; при каждом шаге, который приближал его к людям, смотревшим на него из темноты, он казался выше, лестница сотрясалась и скрипела под его тяжелой пятой, — казалось, это статуя командора вновь сходит в свою гробницу.
Когда маркиз спустился, когда он достиг последней ступеньки и уже поставил ногу на землю, чья-то рука легла на его плечо. Он обернулся.
— Я арестую тебя, — сказал Симурдэн.
— Я одобряю тебя, — сказал Лантенак.
Книга шестая ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НАЧИНАЕТСЯ БИТВА
I ЛАНТЕНАК В ПЛЕНУ
И в самом деле маркиз спустился в могильный склеп.
Его увели.
Подземный каземат, расположенный под нижним ярусом башни Тург, был тут же открыт под строгим надзором самого Симурдэна; туда внесли лампу, кувшин с водой, каравай солдатского хлеба, бросили на пол охапку соломы, и меньше чем через четверть часа после того, как рука священника схватила маркиза, за Лантенаком захлопнулась дверь.
Затем Симурдэн отправился к Говэну; в это время где-то далеко, в Паринье, на колокольне пробило одиннадцать часов; Симурдэн обратился к Говэну:
— Завтра я соберу военно-полевой суд. Ты в нем участвовать не будешь. Ты — Говэн, и Лантенак — Говэн. Вы слишком близкая родня, и ты не можешь быть судьей; я сам порицаю Филиппа Эгалитэ за то, что он судил Капета. Военно-полевой суд соберется в следующем составе: от офицеров — Гешан, от унтер-офицеров — сержант Радуб, а я буду председательствовать. Все это тебя больше не касается. Мы будем придерживаться декрета, изданного Конвентом, и ограничимся лишь тем, что установим личность маркиза де Лантенака. Завтра военно-полевой суд, послезавтра — гильотина. Вандея мертва.
Говэн не ответил ни слова, и Симурдэн, озабоченный важной миссией, которая ему предстояла, отошел прочь. Нужно было назначить время и место казни. Подобно Лекиньо в Гранвиле, подобно Тальену в Бордо, подобно Шалье в Лионе, подобно Сен-Жюсту в Страсбурге, Симурдэн имел привычку, считавшуюся похвальной, лично присутствовать при казнях; судья должен был видеть работу палача; террор девяносто третьего года перенял этот обычай у французских парламентов и испанской инквизиции.
Говэн тоже был озабочен.
Холодный ветер дул со стороны леса. Говэн, передав Гешану командование лагерем, удалился в свою палатку, которая стояла на лугу у лесной опушки близ башни Тург; он взял свой плащ с капюшоном и закутался в него. Плащ этот, по республиканской моде, скупой на украшения, был обшит простым галуном, что указывало на высокий чин. Говэн вышел из палатки и долго ходил по лугу, обагренному кровью, так как здесь началась схватка. Он был один. Пожар все еще продолжался, но на него уже не обращали внимания; Радуб возился с ребятишками и матерью, пожалуй, не уступая ей в материнском усердии; замок уже догорал, саперы довершали дело огня, солдаты рыли могилы, хоронили убитых, перевязывали раненых, разбирали редюит, очищали залы и лестницы от трупов, наводили порядок на месте побоища, сметали прочь зловещий хлам победы — словом, с военной сноровкой и быстротой занялись тем, что было бы справедливо назвать генеральной уборкой после битвы. Говэн не видел ничего.
Погруженный в свои мысли, он рассеянно скользнул взглядом по черному пролому башни, где по приказу Симурдэна был выставлен удвоенный караул.
Этот пролом — в ночном мраке вырисовывались его очертания — находился приблизительно шагах в двухстах от луга, где Говэн надеялся укрыться от людей. Он видел эту черную пасть. Через нее начался штурм три часа тому назад; через нее Говэн проник в башню; за ней открывался нижний ярус с редюитом; из нижней залы дверь вела в темницу, куда был брошен маркиз. Караул, стоявший у пролома, охранял именно эту темницу.
В то время как его взгляд угадывал неясные очертания пролома, в ушах его, будто похоронный звон, звучали слова: «Завтра военно-полевой суд, послезавтра — гильотина».
Хотя пожар удалось обуздать, хотя солдаты вылили на огонь всю воду, которую только удалось раздобыть, пламя не желало сдаваться без боя и время от времени еще выбрасывало багровые языки; слышно было, как трещат потолки и с грохотом рушатся перекрытия; тогда взмывал вверх целый вихрь огненных искр, словно кто-то встряхивал горящим факелом; яркий отблеск света на мгновение озарял небосклон, а тень от башни Тург, став вдруг гигантской, протягивалась до самого леса.
Говэн медленно шагал взад и вперед во мраке перед черным зевом пролома. Иногда он, сцепив пальцы, закидывал руки за голову, прикрытую капюшоном. Он думал.
II ГОВЭН В РАЗДУМЬЕ
Мысль Говэна впервые проникала в такие глубины.
На его глазах произошла неслыханная перемена.
Маркиз де Лантенак вдруг преобразился.
Говэн был свидетелем этого преображения.
Никогда бы он не поверил, что сплетение обстоятельств, пусть самых невероятных, может привести к подобным результатам. Никогда, даже во сне, ему не пригрезилось бы ничего подобного. То непредвиденное, что высокомерно играет человеком, овладело Говэном и не выпускало его из своих когтей. Говэн видел, что невозможное стало реальным, видимым, осязаемым, неизбежным, неумолимым.
Что думал об этом он сам, Говэн?
Теперь уже нельзя уклоняться; надо делать выводы.
Перед ним поставлен вопрос, и он не смеет бежать от него.
Кем поставлен?
Событиями.
Да и не только одними событиями.
Коль скоро события, которые суть величина переменная, ставят перед нами вопрос, то справедливость, величина постоянная, понуждает нас отвечать.
За тучами, которые отбрасывают на нас черную тень, есть звезда, которая бросает нам свой свет.
Мы равно не можем избежать и этой тени, и этого света.
Говэна допрашивали.
Допрашивал кто-то.
Кто-то грозный.
Его совесть.
Говэн чувствовал, как все в нем заколебалось. Его решения самые твердые, обеты самые святые, выводы самые непреложные — все это вдруг рушилось в самых глубинах его воли.
Бывают великие потрясения души.
И чем больше он размышлял над всем виденным, тем сильнее становилось его смятение.
Республиканец Говэн верил, что он достиг — да он и впрямь достиг — абсолюта. Но вдруг перед ним только что открылся высший абсолют.
Выше абсолюта революционного стоит абсолют человеческий.
То, что произошло, нельзя скинуть со счетов; случилось нечто весьма важное, и Говэн сам был участником случившегося; был внутри его, не мог оказаться вне; пусть Симурдэн говорит: «Тебя это не касается», — он все равно чувствовал нечто сходное с тем, что должно испытывать дерево в ту минуту, когда его рубят под корень.
У каждого человека есть жизненная основа; потрясение этой основы вызывает глубокое смятение; Говэн испытывал такое смятение.
Он сжимал обеими руками голову, словно надеясь, что сейчас хлынет из нее свет истины. Разобраться в том, что произошло, было делом нелегким. Свести сложное к простому всегда очень трудно; перед Говэном как бы был начертан столбец грозных цифр, и предстояло подвести итог, итог слагаемых, данных судьбою, — есть от чего закружиться голове. Но он старался собраться с мыслями, силился дать себе самому отчет в происшедшем, сломить внутреннее сопротивление, восстановить ход событий.
Он выстраивал их одно за другим.
Кому не доводилось хоть раз в жизни, в чрезвычайных обстоятельствах, отчитываться перед собой и спрашивать у себя, каким путем идти — будь то вперед или назад?
Говэн только что был свидетелем чуда.
Пока на земле шла битва, шла битва и на небесах.
Битва добра против зла.
Было побеждено сердце, наводившее ужас.
Если учесть, что в этом человеке было столько дурного — необузданная жестокость, заблуждения, нравственная слепота, злое упрямство, надменность, эгоизм, — то с ним поистине произошло чудо.
Победа человечности над человеком.
Человечность победила бесчеловечность.
С помощью чего была одержана эта победа? Каким образом? Как удалось сразить этого колосса злобы и ненависти? Какое оружие было употреблено против него? Пушка, ружья? Нет, — колыбель.
Говэна как будто осенило. В разгар гражданской войны, в неистовом полыхании вражды и мести, в самый мрачный и самый яростный час схватки, когда преступление алеет пожаром, а ненависть чернеет мраком, в минуту борьбы, где все становится оружием, когда битва столь трагична, что люди уже не знают, где справедливость, где честность, где правда, — вдруг в это самое время Неведомое — таинственный наставник душ — проливает свой извечный свет, перед которым бледнеют человеческие зори и ночи человеческие.
Лик истины внезапно воссиял из бездны над мрачным поединком меж ложным и относительным.
Неожиданно проявила себя сила слабых.
На глазах у всех три жалких крохотных существа, трое неразумных брошенных сироток, что-то лепечущих, чему-то улыбающихся, восторжествовали, хотя против них было все — гражданская война, закон возмездия, неумолимая логика расправы, убийство, резня, братоубийство, ярость, злоба, все фурии ада; на глазах у всех пожар, который вел к жесточайшему преступлению, отступил и сдался; на глазах у всех были расстроены и пресечены злодейские замыслы; на глазах у всех старинная феодальная жестокость, старинное неумолимое высокомерие, пресловутая неизбежность войн, государственные соображения, надменное предубеждение озлобленной старости — все рассыпалось прахом перед невинным взором младенцев, которые почти и не жили еще. И это естественно, ибо те, кто мало жил, не успели еще сделать зла, они — сама справедливость, сама истина, сама чистота, и великий сонм ангелов небесных живет в душе младенцев.
Зрелище поучительное, наставление, урок. Неистовые ратники безжалостной войны вдруг увидели, как перед лицом всех злодеяний, всех посягательств, всяческого фанатизма, всех убийств, перед лицом мести, раздувающей костер вражды, и смерти, шествующей с факелом в руке, над легионом преступлений подымалась всемогущая сила — невинность.
И невинность победила. Каждый вправе был сказать: «Нет, гражданской войны не существует, не существует варварства, не существует ненависти, не существует преступления, не существует мрака; чтобы одолеть все эти призраки, достаточно было утренней зари — детства».
Никогда еще, ни в одной битве, так явственно не проступал лик сатаны и лик бога.
И ареной этой битвы была человеческая совесть.
Совесть Лантенака.
Теперь началась вторая битва, еще более яростная и, может быть, еще более важная, и ареной ее была тоже совесть человека.
Совесть Говэна.
Человек — какое же это необъятное поле битвы!
Мы отданы во власть богов, чудовищ, гигантов, чье имя — наши мысли.
Часто эти страшные бойцы растаптывают своей пятой нашу душу.
Говэн размышлял.
Маркизу де Лантенаку, окруженному, запертому, обреченному, объявленному вне закона, затравленному, как дикий зверь на арене цирка, зажатому, как гвоздь в тисках, осажденному в его убежище, которому суждено было стать его тюрьмою, замурованному в стене из железа и огня, все же удалось ускользнуть. Произошло чудо — он скрылся. Он совершил побег, то есть сделал то, что требует в такой войне высшего искусства. Он снова стал хозяином леса и мог укрыться в нем, хозяином Вандеи — и мог продолжать войну, хозяином мрака — и исчезнуть во мраке. Он снова стал грозным и вездесущим, стал зловещим скитальцем, вожаком невидимок, главой подземных обитателей леса, владыкой Бокажа. Говэн добился победы, но Лантенак добился свободы. Лантенак был уже в полной безопасности, был волен идти в любом направлении, выбрать любое убежище из тысячи. Он вновь становился неуловимым, неуязвимым, недосягаемым. Лев попался в западню, но вырвался на волю.
И вот он вернулся.
Маркиз де Лантенак по собственной воле, в внезапном порыве, никем не понуждаемый, покинул верный мрак леса, лишился свободы и пошел навстречу неминуемой гибели, и пошел без страха. В первый раз Говэн увидел его, когда он бросился навстречу пламени, рискуя жизнью, и второй раз — когда он спускался по лестнице, которую своими руками отдал врагу, по той лестнице, что принесла спасение другим, а ему принесла гибель.
Почему он пошел на это?
Чтобы спасти троих детей.
Что его ждет, этого человека?
Гильотина.
Итак, этот человек ради трех маленьких ребятишек — своих детей? — нет; своих внуков? — нет; даже не детей своего сословия — ради трех крохотных ребятишек, которых он почти и не видел, трех найденышей, трех никому не известных босоногих оборвышей, ради них он, дворянин, он, вельможа, он, старик, только что спасшийся, только что вырвавшийся на свободу, он, победитель, ибо его побег есть победа, поставил на карту все, все загубил, рискуя всем, и, спасая трех ребятишек, гордо отдал врагу свою голову, склонив перед ним свое доселе грозное, а теперь царственное чело.
А что собирались сделать?
Принять его жертву.
Маркиз де Лантенак должен был пожертвовать или своей, или чужой жизнью; не колеблясь в страшном выборе, он выбрал для себя смерть.
И с этим выбором согласились. Согласились его убить.
Такова награда за героизм!
Ответить на акт великодушия актом варварства!
Так унизить Революцию!
Так умалить Республику!
В то время как этот старик, проникнутый предрассудками, поборник рабства, вдруг преображается, возвращаясь в лоно человечности, — они, носители избавления и свободы, неужели они так и не вырвутся из рутины гражданской войны, не отвергнут кровопролития, братоубийства?
Неужели высокий закон всепрощения, самоотречения, искупления, самопожертвования существует лишь для защитников неправого дела и не существует для воинов правды?
Как? Отказаться от борьбы великодушия? Примириться с таким поражением? Будучи более сильными — стать более слабыми, будучи победителями — стать убийцами, дать богатую пищу молве, которая не преминет разнести, что на стороне монархии — спасители детей, а на стороне Республики — убийцы стариков!
На глазах у всех этот закаленный солдат, этот могучий восьмидесятилетний старик, этот безоружный боец, даже не взятый честно в плен, а схваченный за шиворот в тот самый миг, когда он совершил благородный поступок, старик, сам позволивший связать себя по рукам и ногам, хотя на челе его еще не высох пот от трудов величественного самопожертвования, этот старец взойдет по ступеням эшафота, как восходят к славе. И голову его, вокруг которой витают, моля о пощаде, невинные ангельские души трех спасенных им младенцев, положат под нож, и казнь его покроет позором палачей, ибо люди увидят улыбку на устах этого человека и краску стыда на лике Республики.
И все это должно свершиться в присутствии его, Говэна, военачальника!
И он, который может помешать этому, он отстранится! И он сочтет себя удовлетворенным высокомерно брошенной фразой: «Тебя это уже не касается!» И голос совести не подскажет ему, что в подобных обстоятельствах бездействие — то же соучастие! И он не вспомнит о том, что в столь важном акте участвуют двое: тот, кто действует, и тот, кто не препятствует действию, и что тот, кто не препятствует, худший из двух, ибо он трус!
Но не сам ли он обещал эту смерть? Он, Говэн, милосердный Говэн, разве не объявил он, что милосердие не распространяется на Лантенака и что он предаст Лантенака в руки Симурдэна?
Да, он в долгу у Симурдэна, он обещал ему эту голову. Что ж, он платит свой долг. Вот и все.
Но та ли это голова, что прежде?
До сегодняшнего дня Говэн видел в Лантенаке лишь варвара с мечом в руках, фанатического защитника престола и феодализма, истребителя пленных, кровавого убийцу — порождение войны. И этого Лантенака он не боялся; этого палача он отдал бы палачу; этот неумолимый не умолил бы Говэна. Ничего не могло быть легче; путь, намеченный заранее, был зловеще прост, все было предрешено: тот, кто убивает, — того убьют; оставалось только следовать, не уклоняясь, этой до ужаса прямолинейной логике. Внезапно эта прямая линия прервалась, неожиданный поворот открыл иные горизонты, вдруг произошла метаморфоза. На сцену вышел Лантенак в новом облике. Чудовище обернулось героем, больше чем героем — человеком. Больше чем просто человеком — человеком с благородным сердцем. Перед Говэном был уже не прежний ненавистный убийца, а спаситель. Говэна захлестнуло потоками небесного света. Лантенак сразил его своим благодеянием.
Могло ли преображение Лантенака не преобразить Говэна? Как? И этот свет не зажжет ответного света? Человек прошлого пойдет вперед, а человек будущего назад? Этот варвар, этот защитник суеверий воспарит ввысь, внезапно окрыленный, и сверху будет взирать, как влачится в грязи и мраке человек идеала! Говэн поползет по проторенным колеям жестокости, а Лантенак вознесется к неведомым вершинам!
И еще одно.
Узы родства!
Кровь, которую он прольет, — ибо позволить пролить кровь все равно что самому пролить ее, — разве это не его, не Говэна кровь? Родной дед Говэна умер, но двоюродный дед жив. И этот двоюродный дед зовется маркиз де Лантенак. И разве не восстанет из гроба старший брат, чтобы воспрепятствовать младшему сойти в могильный мрак? Разве не накажет он своему внуку с уважением взирать на этот нимб серебряных кудрей, подобных тем, что обрамляли чело старшего брата? И разве не сверкнет, будто молния, между Говэном и Лантенаком негодующий взор призрака?
Разве цель революции — извратить природу человека? Разве она свершилась лишь для того, чтобы разбивать семейные узы, душить все человеческое? Ведь восемьдесят девятый год поднялся над землей, чтобы утвердить эти непреложные истины, а отнюдь не затем, чтобы их отрицать. Разрушить все бастилии — значит освободить человечество; уничтожить феодализм — значит заново создать семью. Виновник наших дней — начало всяческого авторитета и его хранитель, и нет поэтому власти выше родительской, отсюда законность власти пчелиной матки, которая выводит свой рой: будучи матерью, она становится королевой; отсюда вся бессмысленность власти короля-человека, который, не будучи отцом, не может быть властелином, отсюда — свержение монархии; отсюда — Республика. А что такое Республика? Это семья, это человечество, это революция. Революция — есть пришествие народа; а ведь по сути Народ — это Человек.
Теперь, когда Лантенак вернулся в лоно человечества, следовало решить, вернется ли он, Говэн, в лоно семьи.
Теперь следовало решить, соединятся ли дед и внук, озаренные единым светом, или же тот шаг вперед, который сделал дед, вызовет отступление внука.
Это и было предметом того страстного спора, который вел Говэн с собственной совестью, и решение, казалось, напрашивалось само собой: спасти Лантенака.
— Да… А Франция?
Тут головоломная задача оборачивалась иной стороной.
А Франция? Франция при последнем издыхании; Франция, отданная врагу, беззащитная, безоружная Франция! Даже ров не отделяет ее от неприятеля — Германия перешла Рейн; она не ограждена более стеной — Италия перешагнула через Альпы, а Испания через Пиренеи. Ей осталось одно — бескрайняя бездна, океан. Ее заступница — пучина. Она может еще опереться на этот щит, она, великанша, призвав в соратники море, может сразиться с землей. И тогда она неодолима. Но, увы, даже этого выхода у нее нет. Океан больше не принадлежит ей. В этом океане есть Англия. Правда, Англия не знает, как его перешагнуть. Но вот нашелся человек, который хочет перебросить ей мост, который протягивает ей руку, человек, который кричит Питту, Крэгу, Корнуэлсу, Дундасу, кричит этим пиратам: «Сюда!» — человек, который взывает: «Англия, возьми Францию!» И человек этот — маркиз де Лантенак.
Этот человек в нашей власти. После трех месяцев погони, преследований, ожесточенной охоты он наконец пойман. Длань революции опустилась на Каина; рука девяносто третьего года крепко держит за шиворот роялистского убийцу; по таинственному предначертанию свыше, которое вмешивается во все людские деяния, этот отцеубийца ждет теперь кары в фамильном замке, в их фамильной темнице; феодал заключен в феодальное узилище; камни его собственного замка возопили против него и поглотили его; того, кто хотел предать свою родину, предал его родной дом. Сам господь бог явно способствовал этому. Пробил назначенный час; революция взяла в плен врага всего общества; отныне он не может сражаться, не может бороться, не может вредить; в этой Вандее, где тысячи рук, он, и только он, был мозгом; умрет он, умрет и гражданская война; теперь он пойман; счастливая и трагическая развязка; после долгих месяцев бойни и резни он здесь, этот человек, который убивал, и настал его черед умереть.
Так неужели же у кого-нибудь подымется рука спасти его?
Симурдэн, другими словами сам девяносто третий год, крепко держал Лантенака, другими словами монархию. Так неужели найдется человек, который пожелал бы вырвать из стальных тисков эту добычу? Лантенак, воплощение того груза бедствий, что именуется прошлым, маркиз де Лантенак в могиле, тяжелые врата вечности захлопнулись за ним; и вдруг кто-то живой подойдет и отодвинет засов; этот преступник против всего общества уже мертв, вместе с ним умерли мятеж, братоубийство, зверская война, вдруг кто-то пожелает воскресить их!
О, какой насмешкой осклабится этот череп!
И с каким удовлетворением промолвит этот призрак: «Прекрасно, я снова жив, слышите вы, глупцы!»
И с каким рвением возьмется он вновь за свое гнусное дело! С какой радостью вновь окунется неумолимый Лантенак в пучину ненависти и войны! И уже завтра мы увидим пылающие хижины, убитых пленников, приконченных раненых, расстрелянных женщин!
Да полно, уж не переоценивает ли сам Говэн так завороживший его добрый поступок старика?
Трое детей были обречены на гибель: Лантенак их спас.
Но кто обрек их на гибель?
Разве не тот же Лантенак?
Кто поставил их колыбельки среди пламени пожара?
Разве не Иманус?
А кто такой Иманус?
Правая рука маркиза.
За действия подчиненного отвечает начальник.
Следовательно, и поджигатель и убийца — сам Лантенак.
Что же он сделал такого необыкновенного?
Просто не довершил начатого. Не более.
Замыслив преступление, он отступил. Ужаснулся самого себя. Вопль матери разбудил дремавшую под спудом извечную человеческую жалость, хранительницу всего живого, что есть в каждой душе, даже в самой роковой. Услышав крик, он возвратился в замок. Из мрака, где он погряз, он обернулся к дневному свету. Совершив преступное деяние, он сам расстроил свои козни. Вот и вся его заслуга: не остался чудовищем до конца.
И за такую малость вернуть ему все! Вернуть просторы, поля, равнины, воздух, свет дня, вернуть лес, который он превратит в разбойничье логово, вернуть свободу, которую он отдаст на служение рабству; вернуть жизнь, которую он отдает на служение смерти!
А если попытаться убедить его, попробовать вступить в сговор с этой высокомерной душой, обещать ему жизнь на определенных условиях, потребовать, чтобы в обмен на свободу он отказался впредь от вражды и мятежа, — какой непоправимой ошибкой был бы такой дар! Это даст ему огромное преимущество, и ответ его прозвучит как пощечина: с каким презрением воскликнет он: «Позор — это ваш удел! Убейте меня!»
Когда имеешь дело с таким человеком, есть всего два выхода: или убить его, или вернуть ему свободу. Он не знает середины; он способен и на низкий поступок, и на высокое самопожертвование; он одновременно и орел и бездна. Странная Душа.
Убить его? Какая мука! Дать ему свободу? Какая ответственность!
Пощадив Лантенака, им пришлось бы начинать в Вандее все сначала: гидра остается гидрой, пока ей не срубят последнюю голову. В мгновение ока, с быстротой метеора, пламя, затихшее с исчезновением этого человека, возгорелось бы вновь. Лантенак не угомонится до тех пор, пока не приведет в исполнение свой гнусный замысел — придавить республику, словно могильным камнем, монархией, а Францию — Англией. Спасти Лантенака — значило принести в жертву Францию; жизнь Лантенака — это гибель тысяч и тысяч ни в чем не повинных существ: мужчин, женщин, детей, захваченных водоворотом гражданской войны; это высадка англичан, отступление революции, разграбленные города, истерзанный народ, залитая кровью Бретань — добыча, вновь попавшая в когти хищника. И в сознании Говэна, в свете противостоящих друг другу истин, в неверном свете сомнений, начинал брезжить и становился все яснее вопрос — выпускать ли тигра на волю?
И снова Говэн приходил к первоначальному рассуждению; камень Сизифа, который не что иное, как борьба человека с самим собой, снова скатывался вниз: значит, Лантенак тигр?
Может быть, раньше он и был тигром, ну а теперь? Мысль, пройдя по головокружительной спирали, возвращается к своим истокам, вот почему рассуждения Говэна были подобны свивающейся кольцом змее. В самом деле, можно ли, вникнув в суть дела, отрицать самоотречение Лантенака, его стоическую самоотверженность, его великолепное бескорыстие? Как, под угрозой разверстой пасти гражданской войны проявить человечность! Как, в споре низких истин провозгласить высшую истину! Доказать, что выше монархий, выше революций, выше всех земных дел — способность человеческой души к всеобъемлющей нежности, долг сильного покровительствовать слабому, долг спасшегося помочь спастись погибающему, долг каждого старца по-отечески печься о младенцах! Доказать все эти блистательные истины и доказать их ценой собственной головы! Как, стать полководцем и отказаться от своего стратегического замысла, от битв, от возмездия! Как, будучи роялистом, взять весы, поместить на одну их чашу французского короля, монархию, насчитывающую пятнадцать веков, старые законы, их восстановление, старое общество, его воскрешение, а на другую — трех безвестных крестьянских ребятишек и обнаружить вдруг, что король, трон, скипетр и пятнадцать веков монархии куда легковеснее, чем жизнь трех невинных существ! Как, неужели все это пустяки! Как, неужели, совершивший это был и останется тигром и должен впредь быть травим, как хищник! Нет, нет и нет! Не может быть чудовищем человек, озаривший небесным отблеском добра пучину гражданских войн! Меченосец превратился в светоносца! Сатана, владыка преисподней, вдруг стал светозарным Люцифером. Лантенак, жертвуя собой, искупил все свои злодеяния; губя свое тело, он спас свою душу; он заслужил прощение грехов; он сам подписал себе помилование. Разве не существует право прощать самому себе? Отныне он достоин уважения.
Лантенак доказал, что он способен совершить необычайное. Теперь очередь была за Говэном.
Теперь Говэну предстояло ответить на этот вызов.
Борьба добрых и злых страстей разыгрывалась сейчас над миром, порождая хаос. Восторжествовав над этим хаосом, Лантенак взял под защиту идею человечности; теперь Говэну надлежало сделать то же с идеей семьи.
Как же поступит он?
Неужели он обманет доверие творца? Нет. И он прошептал еле слышно: «Спасу Лантенака».
Ну что ж! Спасай! Иди помогай англичанам в их замыслах! Стань перебежчиком! Перейди на сторону врага! Спаси Лантенака и предай Францию!
Говэн затрепетал.
Твое решение не есть решение, мечтатель! И Говэн видел во мраке зловещую улыбку сфинкса.
Положение Говэна как бы ставило его на грозном перекрестке трех дорог, где сходились и сталкивались три истины, находящиеся в борении, и где мерились взглядом три самые высокие идеи, исповедуемые человеком: человечность, семья, родина.
Каждый из этих голосов вещал в свой черед, и каждый вещал истину. Как выбрать? Казалось, каждый в свой черед находил звено, соединяющее мудрость и справедливость, и говорил: «Поступи так». Надо ли так поступать? Да. Нет. Рассудок твердил одно, чувство говорило другое; и советы их противоречили друг другу. Рассудок — это всего лишь разум, а чувство — нередко сама совесть; первое исходит от человека, а второе — свыше.
Вот почему чувство не столь ясно, как разум, но более мощно.
И все же какая сила заключена в неумолимости разума!
Говэн был в нерешительности.
Жестокие колебания.
Две бездны открывались перед Говэном. Погубить маркиза? Или спасти его? И надо было броситься в одну из этих бездн.
Какая из этих двух пучин звалась долгом?
III ПЛАЩ КОМАНДИРА
А ведь вопрос шел как раз о долге.
В зловещем свете вставал этот долг перед Симурдэном, и в грозном — перед Говэном.
Простой для одного; сложный, многоликий, мучительный для другого.
Пробило полночь, затем час.
Говэн незаметно для себя приблизился к пасти пролома. Затухавшее пожарище бросало теперь лишь неяркие отсветы.
Те же отсветы падали на плоскогорье, по ту сторону башни, и оно то становилось отчетливо видным, то исчезало, когда клубы дыма заволакивали огонь. Эти вспышки вдруг оживавшего пламени, сменявшиеся внезапной темнотой, искажали размеры и очертания предметов, придавали часовым, стоявшим у входа в лагерь, вид призраков. Говэн, поглощенный своими думами, рассеянно следил за этой игрой; то дым исчезал в вспышках пламени, то пламя исчезало в клубах дыма. И в том, что происходило перед его глазами — в этом появлении и исчезновении света, — было нечто сходное с тем, что творилось в его мыслях, где также то появлялась, то исчезала истина.
Вдруг меж двух огромных клубов дыма, из полуугасшего пожарища, пронеслась пылающая головня, ярко осветила вершину плоскогорья и окрасила в багрянец темный силуэт повозки. Говэн взглянул на эту повозку; вокруг нее стояли всадники в жандармских треуголках. Он вспомнил, что эту самую повозку они с Гешаном видели в подзорную трубу несколько часов назад, еще до заката. Какие-то люди, забравшись на повозку, видимо, разгружали ее. Они снимали оттуда что-то, должно быть, очень тяжелое и издававшее по временам металлический лязг; трудно было сказать, что это такое; больше всего это, пожалуй, походило на плотничьи леса; два солдата сошли с повозки и опустили на землю ящик, в котором, судя по его форме, лежал какой-то треугольный предмет. Головня потухла, все вновь погрузилось во мрак. Говэн стоял в раздумье, пристально всматриваясь в темноту и стараясь понять, что там происходит.
А там зажигались фонари, суетились люди, но ночная мгла скрадывала очертания предметов, и снизу, с противоположной стороны рва, трудно было разглядеть, что делается на плоскогорье.
Оттуда доносились голоса, но слова сливались в нестройный гул. То и дело слышались удары по дереву. Временами раздавался металлический визг, словно точили косу.
Пробило два часа.
Говэн медленно, неохотно, как это бывает, когда делаешь шаг вперед, чтобы тут же отступить назад, направился к бреши. Когда он приблизился, часовой в потемках разглядел его командирский плащ с галунами и взял на караул. Говэн проник в залу нижнего яруса, превращенную в кордегардию. К балке под сводами прицепили фонарь. Его слабого света хватало ровно настолько, чтобы пройти по зале, не наступая на лежавших на соломе солдат, большинство из которых уже спали.
Они лежали здесь на том самом месте, где еще несколько часов назад дрались с врагом; пол, усеянный осколками картечи, которую не удосужились вымести, вряд ли мог служить особенно удобным ложем; но люди утомились и теперь отдыхали. Эта зала еще так недавно была ареной ужасов; здесь начался штурм башни, здесь раздавались вой, рычание, скрежет, удары, здесь убивали, здесь испускали дух; много солдат упало бездыханными на этот пол, где мирно почивали сейчас их товарищи; солома, служившая постелью для спящих, впитала кровь их соратников; сейчас все кончилось, кровь перестала литься, сабли были насухо вытерты, мертвецы были мертвецами, а живые спали мирным сном. Такова война. К тому же на всех нас, быть может, завтра снизойдет тот же сон.
При появлении Говэна кое-кто из спящих проснулся и приподнялся, и среди прочих офицер, начальник караула. Говэн указал ему на дверь темницы.
— Откройте, — промолвил он.
Тот отодвинул засовы, дверь открылась.
Говэн вошел в темницу.
Дверь за ним захлопнулась.
Книга седьмая ФЕОДАЛИЗМ И РЕВОЛЮЦИЯ
I СТАРШИЙ РОДИЧ
На полу каземата, выложенном плитами, стояла лампа около четырехугольной отдушины, пробитой в своде каменного мешка.
Тут же рядом на плитах пола виднелся кувшин с водой, солдатский паек хлеба и охапка соломы. Каземат был высечен прямо в скале, и если бы узнику пришла дикая мысль поджечь солому, он только впустую потерял бы время: тюрьма все равно бы не загорелась, а узник наверняка задохся бы.
Когда Говэн открыл дверь, маркиз шагал из угла в угол — так хищник в неволе мечется по клетке.
Услышав скрип отворившейся и захлопнувшейся двери, старик поднял голову, и лампа, стоявшая на полу, как раз между Говэном и маркизом, ярко осветила их лица.
Они взглянули друг на друга, и такова была сила их взгляда, что оба застыли на месте.
Наконец маркиз разразился хохотом и воскликнул:
— Добро пожаловать, сударь! Вот уже много лет, как я не имел счастья вас видеть. Но вы все же соизволили ко мне пожаловать. От души благодарю. Я как раз не прочь поболтать немного. Признаться, я уже начал скучать. Ваши друзья зря теряют время: установление личности, военно-полевой суд — только излишние проволочки. Я бы действовал гораздо быстрее. Я здесь у себя дома. Соблаговолите войти. Ну, что же вы мне скажете обо всем, что творится? Оригинально, не правда ли? Жили-были король и королева, король был король, королева была Франция. Отрубили королю голову, а королеву выдали за Робеспьера; от этого господина и этой дамы родилась дочь, которую нарекли «гильотина» и с которой, если не ошибаюсь, мне завтра суждено свести знакомство. Заранее восхищен. Равно как и встречей с вами. Для чего вы явились сюда? Вас, возможно, повысили в чине, назначили палачом? Если это просто дружеский визит — я тронут. Вы, виконт, должно быть, уже забыли, что такое настоящий дворянин. Так вот он перед вами — это я. Смотрите хорошенько. Зрелище любопытное: верит в бога, верит в традиции, верит в семью, верит в предков, верит в благой пример отцов, верит в преданность, в честность, в долг по отношению к своему государю, уважает старые законы, добродетель, справедливость — и этот человек с наслаждением приказал бы расстрелять вас. Садитесь, сделайте милость. Придется, правда, сесть на пол — в этой гостиной нет кресел, но тот, кто живет в грязи, может сидеть и на земле. Я отнюдь не желаю обидеть вас своими словами, ибо то, что мы зовем грязью, вы зовете нацией. Надеюсь, вы не потребуете, чтобы я провозгласил: Свобода, Равенство, Братство? Мы находимся с вами в одной из комнат моего собственного дома; некогда сеньоры сажали сюда смердов; ныне смерды сажают сюда сеньоров. И вот эти-то нелепости называются революцией. Если не ошибаюсь, через тридцать шесть часов мне отрубят голову. Я не досадую на это обстоятельство, но люди вежливые прислали бы мне мою табакерку, которую я обронил в зеркальной, где вы играли ребенком, а я качал вас у себя на коленях. Я. сейчас, сударь, сообщу вам нечто: вас зовут Говэн, и по странной игре случая в ваших жилах течет благородная кровь, та же, черт побери, что и в моих, и именно эта кровь сделала меня человеком чести, а вас негодяем. Каждому свое. Вы скажете, что это не ваша вина. И не моя. Ей-богу же, человек становится преступником, сам того не замечая. Это зависит от того, кто каким воздухом дышит; в такие времена, как наши, никто не отвечает за свои поступки. Революция — большая плутовка в отношении всех и вся, и все ваши великие преступники просто дети. Экие глупцы! Начать хотя бы с вас. Примите мое восхищение. Да, я вами восхищаюсь. Помилуйте, юноша прекрасного рода, могущий занимать государственные посты, человек, в чьих жилах течет великолепная старинная кровь, достойная быть пролитой за великолепные дела, виконт, владелец вот этой самой Тур-Говэн, бретонский принц, в будущем герцог и пэр Франции по праву наследования, — другими словами, имеющий все, чего только может пожелать на земле мало-мальски разумный человек, предпочел стать тем, что он есть сейчас, и посему враги считают его злодеем, а друзья — глупцом. Соблаговолите, кстати, засвидетельствовать аббату Симурдэну мое почтение.
Маркиз говорил непринужденным, миролюбивым тоном, ничего не подчеркивая, как и положено человеку светскому, серые его глаза смотрели спокойно, а руки были засунуты в карманы куртки. Он помолчал, глубоко вздохнул и заговорил снова:
— Не хочу скрывать — я делал все, чтобы вас убить. Я сам, собственной рукой трижды наводил на вас пушку. Не совсем учтиво, не спорю, но воображать, что на войне враг старается доставить нам удовольствие, — значит исходить из ложных соображений. Ибо мы, дорогой мой племянник, мы с вами воюем. Все предано огню и мечу. Ведь убили же короля. Прекрасные времена!
Он снова замолчал, потом начал:
— И ничего бы этого не произошло, если бы в свое время вздернули Вольтера и сослали Руссо на галеры. Ох, уж эти мне умники! Истый бич. А теперь, скажите честно, в чем вы можете упрекнуть монархию? Правда, аббата Пюселя сослали в его аббатство Корбиньи, но его не торопили и разрешили ему ехать в любом экипаже, какой ему заблагорассудится выбрать; а что касается господина Титона, который, с вашего разрешения, был отчаянным дебоширом и не прочь был заглянуть в веселое заведение, отправляясь смотреть чудеса диакона Париса, то этого Титона перевели из Венсенского замка в замок Гам в Пикардии, признаться откровенно, довольно неприятное место. Вот и все обвинения… Как же, помню, я тоже возмущался в свое время: был таким же глупцом, как и вы.
Маркиз притронулся к карману, словно нащупывая табакерку, и продолжал:
— Но только не таким злобным. Мы говорили, чтобы говорить. Случалось, что бунтовали парламенты; а потом появились на сцене господа философы и, вместо того чтобы сжечь самих авторов, сожгли их сочинения, а тут еще начались все эти придворные интриги, вмешались эти ротозеи Тюрго, Кенэй, Мальзерб, физиократы и прочее и прочее, и пошла свара. Все началось с писак и рифмоплетов. Ах, «Энциклопедия»! Ах, Дидро! Ах, д’Аламбер! Вот уж жалкие бездельники! Даже человек королевской крови, сам прусский король, и тот попался на их удочку! Я всех этих писак прибрал бы к рукам. Да, мы чинили суд и расправу! Вот, полюбуйтесь, здесь на стене следы колес, употребляемых для четвертования! Мы шутить не любили. Нет, нет, только не писаки! Пока есть Вольтеры, будут и Мараты. Пока есть бумагомаратели, переводящие бумагу, будут и мерзавцы, которые убивают; пока есть чернила, будут черные дела, пока человек держит в пятерне гусиное перо, легкомыслие и глупость будут порождать жестокость. Книги творят преступления. Слово химера имеет двойной смысл — оно означает мечту и оно же означает чудовище. Каким только вздором не тешат людей! Что это вы твердите о ваших правах? Права человека! Права народа! Да все это яйца выеденного не стоит: все это глупости и выдумка, прямая бессмыслица! Когда я, например, говорю: Авуаза, сестра Конана Второго, принесла в приданое графство Бретонское супругу своему Гоэлю, графу Нантскому и Корнуэльскому, трон коего унаследовал Алэн Железная Перчатка, дядя Берты, той, что сочеталась законным браком с Алэном Черным, владельцем земель и замка Рош-сюр-Ион, и была матерью Конана Младшего, прадеда Ги, или Говэна де Туар, то есть нашего предка, — я говорю вещи бесспорные, — вот оно — право. Но ваши оборванцы, ваши плуты, ваша голытьба, они-то о каких правах толкуют? О богоубийстве и цареубийстве. Что за мерзость! Ах, негодяи! Как это не прискорбно для вас, сударь, но в ваших жилах течет благородная бретонская кровь; мы с вами оба происходим от Говэна де Туар; нашим с вами предком был великий герцог де Монбазон, который получил звание пэра Франции и был пожалован орденской цепью; он взял штурмом Тур, был ранен при Арке и скончался на восемьдесят шестом году жизни в чине обер-егермейстера в своем замке Кузьер в Турине. Я мог бы вам назвать также и герцога Лодюнуа, сына госпожи де ла Гарнаш, Клода де Лорена, герцога де Шеврез, и Анри де Ленонкура, и Франсуазу де Лаваль-Буадоффен. Но к чему? Вам, сударь, угодно быть идиотом, вам не терпится стать ровней моему конюху. Знайте же, я был уже стариком, когда вы лежали в колыбели. Я вытирал вам нос, сопляк, и сейчас я тоже утру вам нос. Вы как-то ухитрились расти и в то же время мельчать. С тех пор, что мы с вами не виделись, мы шли каждый своей дорогой: я — дорогой чести, а вы — в противоположном направлении. Не знаю, чем все это кончится, но господа ваши друзья — жалкие людишки. О, все это прекрасно, согласен, прогресс умопомрачительный, — еще бы! У нас солдат, уличенный в пьянстве, должен был три дня сряду выпивать перед фронтом штоф чистой воды, — это суровое, видите ли, наказание вы отменили; теперь у вас есть максимум, есть Конвент, епископ Гобель, господин Шомет и господин Эбер, и вы яростно уничтожаете все прошлое, начиная с Бастилии и кончая календарем, где святых вы заменили овощами. Ну что ж, господа граждане, будьте хозяевами, берите в руки бразды правления, располагайтесь как дома, не стесняйтесь. Но как бы вы ни изощрялись, религия все равно останется религией, и того обстоятельства, что монархия пятнадцать веков освещала нашу историю, вам не зачеркнуть, как не зачеркнуть и того, что старое дворянство, даже обезглавленное, все равно выше вас. А что касается ваших споров об исторических правах королевских династий, то ведь это же смеха достойно. Хильперик в конце концов был лишь простым монахом и звался Даниэль; и не кто иной, как Рэнфруа породил Хильперика, чтобы досадить Карлу Мартелу; все это мы знаем не хуже вас. Да разве в этом дело? Дело в том, чтобы быть великим королевством, быть старой Францией, быть превосходно устроенным государством, где почитаются священными, во-первых, особа монарха-самодержца, затем принцы, затем королевская гвардия, охраняющая с оружием в руках нашу страну на суше и на море, затем артиллерия, затем высшие правители и главные контролеры по финансам, затем королевские судьи и судьи низшие, затем чиновничество, взимающее подати и налоги, и наконец — три департамента королевской полиции. Вот что называется прекрасным и образцовым устройством, а вы разрушили его. Вы, жалкие невежды, вы уничтожили наши провинции, так и не поняв, чем они были. Гений Франции вобрал в себя гений всего континента, и каждая из провинций Франции представляла одну из добродетелей Европы; германская честность была представлена в Пикардии; великодушие Швеции — в Шампани; голландское трудолюбие — в Бургундии; польская энергия — в Лангедоке; испанская гордость — в Гаскони; итальянская мудрость — в Провансе; греческая смекалка — в Нормандии; швейцарская верность — в Дофинэ. А вы ничего этого не знали; вы все сломали, разбили, разнесли в щепы, уничтожили с равнодушием скотов. Ах, вы не желаете иметь аристократию? Что ж, больше ее у вас не будет. Вы еще пожалеете о ней. У вас не будет отныне рыцарей, не будет героев. Прощай былое величие Франции! Покажите мне нынешнего Асса. Все вы трясетесь за свою шкуру. Не видать вам больше рыцарей, как те, что сражались при Фонтенуа и сначала приветствовали противника, а затем лишь убивали его; не видать вам воинов, подобных тем, что шли на штурм Лериды в шелковых чулках, не видать вам таких битв, где плюмажи кавалеристов проносились словно метеоры; вы пропащий народ, вы еще испытаете самое страшное из бедствий — иноземное владычество; если Аларих Второй воскреснет, он не встретит достойного противника в лице Хлодвига; если воскреснет Абдеран, он не встретит достойного противника в лице Карла Мартела; если вернутся саксонцы, они не встретят больше Пепина; не будет у вас великих сражений: ни Аньяделя, ни Рокруа, ни Ленса, ни Стаффорда, ни Нервинда, ни Штейнкерка, ни Марсайля, ни Року, ни Лоуфельда, ни Магона; не видать вам ни Франциска Первого при Марьиньяне, ни Филиппа-Августа при Бувине, который одной рукой захватил в плен Рено, графа Булонского, а другой — Феррана, графа Фландрского. У вас будет Азенкур, но не будет кавалера Баквилля, великого знаменосца, который, завернувшись в знамя, дал себя так убить! Ну что ж, действуйте. Будьте новыми людьми. Мельчайте.
Маркиз помолчал немного и добавил:
— Но предоставьте нам быть великими. Убивайте королей, убивайте дворян, убивайте священников, разоряйте, разрушайте, режьте, топчите, попирайте своим сапогом древние установления, низвергайте троны, опрокидывайте алтари, свергайте бога и отплясывайте на развалинах — это ваше дело. На то вы изменники и трусы, неспособные ни на преданность, ни на жертвы. Я кончил. А теперь, виконт, прикажите гильотинировать меня. Честь имею выразить вам свое нижайшее почтение.
И он добавил:
— Да, я сказал вам много правды! Но что мне до того. Я мертв.
— Вы свободны! — сказал Говэн.
Говэн подошел к маркизу, снял с себя плащ, набросил на плечи старика и надвинул капюшон ему на глаза. Оба Говэна были одного роста.
— Что ты делаешь?! — воскликнул маркиз.
Говэн, не отвечая, крикнул:
— Лейтенант, откройте дверь.
Дверь открылась.
Говэн крикнул:
— Потрудитесь запереть за мной дверь.
И он вытолкнул вперед оцепеневшего от неожиданности маркиза.
В низкой зале, превращенной в кордегардию, горел, если помнит читатель, лишь один фонарь, еле-еле озарявший помещение своим неверным светом. При этом тусклом освещении солдаты, которые еще бодрствовали, увидели, как мимо них проследовал, направляясь к выходу, высокий человек в плаще, с низко надвинутым капюшоном, обшитым офицерским галуном; они отдали офицеру честь, и он исчез.
Маркиз медленно пересек кордегардию, прошел через пролом, стукнувшись раза два о выступы камней, и выбрался из башни.
Часовой, решив, что перед ним Говэн, взял на караул.
Когда Лантенак очутился на свободе, когда он ощутил под ногами луговую траву, увидел в двухстах шагах перед собой опушку леса, а там впереди просторы, почуял ночную свежесть, свободу, жизнь, он остановился и с минуту простоял неподвижно, как человек, который от неожиданности действует словно не по своей воле: увидев случайно открытую дверь, он выходит и вот теперь размышляет, правильно ли он поступил или нет, колеблется, идти ли дальше, и в последний раз проверяет ход своих мыслей. Потом, словно стряхнув с себя глубокую задумчивость, Лантенак приподнял руку, звонко прищелкнул пальцами и произнес: «Н-да!»
И исчез.
Железная дверь захлопнулась. Говэн остался в темнице.
II ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ СУД
В ту пору военно-полевые суды не имели еще точно установленного кодекса. Дюма в Законодательном собрании наметил первоначальный проект военного судопроизводства, переработанный позже Тало в Совете пятисот, но окончательный военно-полевой кодекс появился лишь в годы Империи. Заметим, кстати, что именно во времена Империи был введен порядок, по которому при вынесении решения голоса должны были подаваться, начиная с низших чинов. При революции такого закона не существовало.
В девяносто третьем году председатель военно-полевого суда воплощал в своем лице чуть ли не весь состав трибунала, он сам назначал членов суда, устанавливал порядок подачи голосов по чинам и самую систему голосования; словом, был не только судьей, но и полновластным хозяином суда.
По мысли Симурдэна, заседание трибунала должно было происходить в той самой нижней зале башни, где раньше помещался редюит, а сейчас устроили кордегардию. Он старался сократить путь от темницы до суда и путь от суда до эшафота.
В полдень, согласно его приказу, открылся суд в следующей обстановке: три соломенных стула, простой сосновый стол, два подсвечника с зажженными свечами, перед столом табурет.
Стулья предназначались для судей, а табурет для подсудимого. По обоим концам стола стояли еще два табурета — один для комиссара-аудитора, которым назначили полкового каптенармуса, другой для секретаря, которым назначили капрала.
На столе были приготовлены: палочка красного сургуча, медная печать Республики, две чернильницы, папки с чистой бумагой и два развернутых печатных оповещения — одно, объявлявшее Лантенака вне закона, другое с декретом Конвента.
За стулом, стоявшим посредине, поставили несколько трехцветных знамен; в те времена суровой простоты декорум был несложен, и не потребовалось много времени, чтобы превратить кордегардию в залу суда.
Стул, стоявший посредине и предназначенный для председателя суда, помещался как раз напротив двери в темницу.
В качестве публики — солдаты.
Два жандарма охраняли скамью подсудимых.
Симурдэн занял средний стул, по правую его руку сидел капитан Гешан — первый судья, по левую сержант Радуб — второй судья.
Симурдэн был в форме — в шляпе с трехцветной кокардой, с саблей на боку и с двумя пистолетами за поясом. Ярко-красный шрам от недавно зажившей раны придавал ему грозный вид.
Радуб решился наконец сделать перевязку. Он обмотал голову носовым платком, на котором медленно проступало кровавое пятно.
В полдень заседание суда еще не было открыто, перед столом стоял вестовой, а лошадь его ржала во дворе. Симурдэн писал. Писал следующие строки:
«Гражданам членам Комитета общественного спасения.
Лантенак взят. Завтра он будет казнен».
Ниже он поставил число и подпись, сложил и запечатал депешу и вручил ее вестовому, который тут же удалился.
Закончив писать, Симурдэн произнес громким голосом:
— Откройте темницу.
Два жандарма отодвинули засов, открыли дверь и вошли в каземат.
Симурдэн вскинул голову, сложил на груди руки и, глядя на дверь, крикнул:
— Введите арестованного.
Под сводом открытой двери появились два жандарма и между ними какой-то человек.
Это был Говэн.
Симурдэн задрожал.
— Говэн! — воскликнул он.
И добавил:
— Я велел привести арестованного.
— Это я, — сказал Говэн.
— Ты?
— Я.
— А Лантенак?
— Он на свободе.
— На свободе?
— Да.
— Бежал?
— Бежал.
Симурдэн пробормотал дрожащим голосом:
— Верно, ведь замок его, он знает здесь все лазейки. Должно быть, темница сообщается с каким-нибудь потайным ходом, я обязан был это предусмотреть… Он нашел возможность скрыться, для этого ему не понадобилось посторонней помощи.
— Ему помогли, — сказал Говэн.
— Помогли бежать?
— Да.
— Кто помог?
— Я.
— Ты?
— Я.
— Ты бредишь.
— Я вошел в темницу, я был наедине с заключенным, я снял свой плащ, я набросил свой плащ ему на плечи, я надвинул ему капюшон на лоб, он вышел вместо меня, я остался вместо него и стою здесь перед вами.
— Ты не мог этого сделать.
— Я сделал это.
— Это немыслимо.
— Это так.
— Немедленно привести сюда Лантенака.
— Его там нет. Солдаты, увидев на нем командирский плащ, приняли его за меня и пропустили. Было еще темно.
— Ты сошел с ума.
— Я говорю то, что есть.
Воцарилось молчание. Затем Симурдэн произнес, запинаясь:
— В таком случае ты заслуживаешь…
— Смерти, — закончил Говэн.
Симурдэн побледнел как мертвец. Он застыл на месте, словно сраженный ударом молнии. Казалось, он не дышит. Крупные капли пота заблестели на его лбу.
Вдруг окрепшим голосом он произнес:
— Жандармы, пусть обвиняемый сядет!
Говэн опустился на табурет.
Симурдэн скомандовал жандармам:
— Сабли наголо.
Эта фраза произносилась в суде в тех случаях, когда обвиняемому угрожала смертная казнь.
Жандармы обнажили сабли.
Симурдэн заговорил теперь своим обычным голосом.
— Подсудимый, — сказал он, — встаньте.
Он больше не говорил Говэну «ты».
III ГОЛОСОВАНИЕ
Говэн поднялся.
— Ваше имя? — спросил Симурдэн.
Говэн ответил:
— Говэн.
Симурдэн продолжал допрос:
— Кто вы такой?
— Командир экспедиционного отряда Северного побережья.
— Не состоите ли вы в родстве или в связи с бежавшим?
— Я его внучатный племянник.
— Вам известен декрет Конвента?
— Вот он лежит у вас на столе.
— Что вы скажете по поводу этого декрета?
— Что я скрепил его своей подписью, что я приказал выполнять его неукоснительно и что по моему приказанию было написано объявление, под которым стоит мое имя.
— Выберите себе защитника.
— Я сам буду себя защищать.
— Слово предоставляется вам.
Симурдэн вновь обрел свое бесстрастие. Но только бесстрастность эта походила более на равнодушие скалы, чем на спокойствие человека.
Говэн с минуту молчал, словно собираясь с мыслями.
Симурдэн повторил:
— Что вы можете сказать в свою защиту?
Говэн медленно поднял голову и, не глядя вокруг, начал:
— Вот что: одно заслонило от меня другое; один добрый поступок, совершенный на моих глазах, скрыл от меня сотни поступков злодейских; этот старик, эти дети, — они встали между мной и моим долгом. Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленников, добитых раненых, расстрелянных женщин, я забыл о Франции, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен. Из моих слов может показаться, что я свидетельствую против себя, — это не так. Я говорю в свою защиту. Когда преступник сознает свою вину, он спасает единственное, что стоит спасти, — свою честь.
— Это все? — спросил Симурдэн. — Все, что вы можете сказать в свою защиту?
— Могу добавить лишь одно: будучи командиром, я обязан был подавать пример. В свою очередь и вы, будучи судьями, обязаны подать пример.
— Какой пример вы имеете в виду?
— Мою смерть.
— Вы находите ее справедливой?
— И необходимой.
— Садитесь.
Каптенармус, он же комиссар-аудитор, поднялся с места и зачитал сначала приказ, объявляющий вне закона бывшего маркиза де Лантенака, затем декрет Конвента, согласно которому каждый, способствовавший побегу пленного мятежника, подлежит смертной казни. В заключение он огласил несколько строк, приписанных внизу печатного текста декрета, в которых «под угрозой смертной казни» запрещалось оказывать «какое-либо содействие или помощь» вышеупомянутому мятежнику и стояла подпись: «Командир экспедиционного отряда: Говэн».
Закончив чтение, комиссар-аудитор сел.
Симурдэн скрестил на груди руки и произнес:
— Подсудимый, слушайте внимательно. Публика, слушайте, смотрите и сохраняйте молчание. Перед вами закон. Сейчас будет произведено голосование. Приговор будет вынесен простым большинством голосов. Каждый судья выскажет свое мнение вслух, в присутствии обвиняемого, правосудию нечего таиться. — И, помолчав, он добавил: — Слово предоставляется первому судье. Говорите, капитан Гешан.
Казалось, капитан Гешан не видит ни Симурдэна, ни Говэна. Он не подымал опущенных век, скрывавших выражение его глаз, и не сводил пристального взгляда с приказа, лежавшего на столе, он смотрел на него, как смотрит человек на разверзшуюся перед ним бездну. Он сказал:
— Закон ясен. Судья больше и в то же время меньше, чем человек: он меньше, чем человек, ибо у него не должно быть сердца; и он больше, чем человек, ибо в руке его меч. В четыреста четырнадцатом году до рождества Христова римский полководец Манлий обрек на смерть родного сына, чьим преступлением было лишь то, что он одержал победу, не испросив разрешения отца. Нарушение дисциплины требовало кары. В нашем случае нарушен закон, а закон еще выше дисциплины. Порыв милосердия вновь поставил под удар родину. Иной раз милосердие может обратиться в преступление. Командир Говэн помог бежать мятежнику Лантенаку. Говэн виновен. Я голосую за смертную казнь.
— Занесите в протокол, писец, — сказал Симурдэн.
Писец записал: «Капитан Гешан: смерть».
Говэн произнес громким голосом:
— Гешан, вы проголосовали правильно, и я благодарю вас.
Симурдэн продолжал:
— Слово предоставляется второму судье. Слово имеет сержант Радуб.
Радуб поднялся с места, повернулся к подсудимому и отдал ему честь. Потом он прокричал:
— Если уж на то пошло, гильотинируйте меня. Потому что я, черт побери, даю честное слово, я сам хотел бы сделать то, что сделал старик, и то, что сделал мой командир. Когда я увидел, как старик бросился прямо в огонь, — а ему восемьдесят лет, — чтобы спасти трех крошек, я тут же подумал: «Ну, молодец дед!» А когда я узнал, что наш командир спас этого старика от вашей окаянной гильотины, я — тысяча чертей! — так подумал: «Вас, командир, нужно произвести в генералы, вы настоящий человек, и если бы от меня зависело, будь я неладен, я бы вам дал крест Святого Людовика, если бы еще были кресты, если бы еще были святые и если бы еще были Людовики». Да неужели мы все стали безмозглыми дураками? Если ради этого мы выиграли битву при Жемапе, битву под Вальми, битву при Флерюсе и битву при Ватиньи, тогда прямо так и скажите. Как! Вот уже четыре месяца наш командир Говэн гонит всю эту роялистскую сволочь, будто стадо баранов, и защищает Республику с саблей в руках, выигрывает битву под Долем, — а тут надо мозгами пораскинуть. И вы, имея такого человека, все делаете, чтобы его потерять и не то что в генералы не производите, а еще задумали ему голову отрубить! Да я вам прямо скажу, лучше уж броситься с Нового моста. А вам, гражданин Говэн, я вот что скажу, не будь вы моим командиром, а, предположим, моим капралом, я бы прямо так и заявил: «Ну и глупостей вы здесь наговорили!» Старик хорошо сделал, что спас детей, вы хорошо сделали, что спасли старика, и если посылать людей на гильотину за то, что они делают хорошие дела, — так пусть все идет к чертовой матери, тут уж я ничего не понимаю!.. Значит, и дальше так пойдет? Да скажите же мне, что все это неправда! Вот я сейчас себя ущипну, может, мне это только сон привиделся? Может, я проснусь? Ничего не понимаю. Выходит, что старик должен был допустить, чтобы крошки сгорели заживо, выходит, что наш командир должен был позволить отрубить старику голову. Нет, уж лучше гильотинируйте меня. Мне оно будет приятнее. Вы только подумайте: ведь если б крошки погибли, батальон «Красный колпак» был бы опозорен. Этого, что ли, хотели? Тогда уж давайте прямо перегрызем друг другу глотки. Я тоже в политике разбираюсь не хуже, чем вы все, я состоял в клубе секции Пик. Черт возьми! Неужели мы окончательно озверели! Я говорю так, как понимаю. Не нравится мне, когда творятся такие дела, — прямо ума не приложишь, что происходит. Тогда какого дьявола мы под пули лезли? Для того, выходит, чтобы нашего командира убивали? Нет, нет, Лизетта, — прошу, как говорится, прощения. Коман-дира нашего в обиду не дадим! Мне мой командир нужен! Я его сегодня еще сильнее люблю, чем вчера. Посылать его на гильотину! Да это же просто людей смешить! Нет, нет, этого мы не допустим. Я выслушал все, что вы тут плели. Говорите, что хотите. А я говорю — этому не бывать.
И Радуб сел. Рана его открылась. Струйка крови показалась из-под повязки, прикрывавшей полуоторванное ухо, и поползла вдоль шеи.
Симурдэн повернулся к Радубу.
— Вы подаете голос за оправдание подсудимого?
— Я голосую, — ответил Радуб, — за то, чтобы его произвели в генералы.
— Я вас спрашиваю, вы подаете голос за его оправдание?
— Я подаю голос за то, чтобы его сделали первым человеком в Республике.
— Сержант Радуб, голосуете вы за то, чтобы командир Говэн был оправдан или нет?
— Я голосую за то, чтобы вместо него отрубили голову мне.
— Следовательно, за оправдание, — сказал Симурдэн. — Занесите в протокол, писец.
Писец написал: «Сержант Радуб: оправдать».
После чего писец сказал:
— Один голос за смертную казнь. Один голос за оправдание. Голоса разделились.
Теперь голосовать должен был Симурдэн.
Он поднялся с места, снял шляпу и положил ее на стол.
Мертвенная бледность сошла с его лица, оно приняло землистый оттенок.
Если бы все присутствующие на заседании суда вдруг очутились в гробу, то и тогда бы в зале не могло быть тише.
Симурдэн торжественно провозгласил твердым и суровым голосом:
— Обвиняемый Говэн, дело слушанием закончено. Именем Республики военно-полевой суд большинством двух голосов против одного…
Он замолчал, словно собирался с мыслями. Что заставляло его колебаться? Смерть? Жизнь? Все затаили дыхание. Симурдэн продолжал:
— …приговаривает вас к смертной казни.
Лицо его исказила мука зловещего торжества… Должно быть, такая же устрашающая улыбка искривила уста Иакова, когда во мраке он поборол ангела и заставил его благословить себя.
Но этот мгновенный отблеск тут же угас. Лицо Симурдэна вновь застыло, словно мрамор, он надел шляпу и добавил:
— Говэн, вы будете казнены завтра, на рассвете.
Говэн поднялся, отдал поклон и сказал:
— Я благодарю суд.
— Уведите осужденного, — приказал Симурдэн.
Симурдэн махнул рукой, дверь отворилась, темница поглотила Говэна, и дверь захлопнулась. Два жандарма с саблями наголо встали по обе ее стороны.
Пришлось на руках вынести Радуба — он потерял сознание.
IV СИМУРДЭН-СУДЬЯ СТАНОВИТСЯ СИМУРДЭНОМ-УЧИТЕЛЕМ
Военный лагерь — то же осиное гнездо, особенно во времена революции. Жало гражданского гнева, которое таится в душе каждого солдата, слишком легко и охотно появляется наружу, поразив насмерть врага, оно не постесняется уязвить и своего военачальника. Доблестный отряд, владевший Тургом, жужжал на разные лады; сначала, когда прошел слух о том, что Лантенак на свободе, недовольство обратилось против командира Говэна. Когда из темницы, где полагалось сидеть взаперти Лантенаку, вывели Говэна, словно электрический разряд прошел по зале суда, и через минуту весть о происшествии облетела лагерь. В маленькой армии поднялся ропот. «Сейчас они судят Говэна, — говорили солдаты, — но это только для отвода глаз. Знаем мы этих бывших и попов. Сначала виконт спас маркиза, а теперь священник помилует аристократа!» Когда же разнесся слух о том, что Говэн приговорен к смертной казни, снова поднялся ропот: «Молодец Говэн! Вот командир у нас так командир! Молод годами, а герой! Что ж, что он виконт, если он при том честный республиканец, — в этом двойная заслуга! Как?! Казнить его, освободителя Понторсона, Вильдье, Понт-о-Бо?! Победителя при Доле и Турге?! Да ведь с ним мы непобедимы! Да ведь он меч республики в Вандее! Казнить человека, который нагнал страху на шуанов и вот уже пять месяцев исправляет все те глупости, что наделал Лешель с присными! И Симурдэн еще смеет приговаривать его к смертной казни! А за что? За то, что он спас старика, который спас трех детей! Чтобы поп убивал солдата? Этого еще не хватало!»
Так ворчали солдаты этого победоносного и растревоженного отряда. Глухой гнев подымался против Симурдэна. Четыре тысячи человек против одного — какая же это на первый взгляд сила! Но нет, это не сила. Четыре тысячи человек были толпой. А Симурдэн был волей. Каждый знал, что стоит Симурдэну нахмурить брови — и вся армия придет в повиновение. В те суровые времена, если за спиной человека подымалась тень Комитета общественного спасения, этого было достаточно, чтобы он стал грозой, и проклятия сами собой переходили в приглушенный ропот, а ропот в молчание. Был ли ропот или нет, Симурдэн распоряжался судьбой Говэна, равно как и судьбою всех остальных. Каждый понимал, что просить бесполезно, что Симурдэн будет повиноваться только своей совести, а ее нечеловеческий глас был слышен ему одному. Все зависело от него. То, что он решил в качестве военного судьи, мог перерешить он один в качестве гражданского делегата. Только он один мог миловать. Он был наделен чрезвычайными полномочиями: мановением руки он мог дать Говэну свободу; он был полновластным хозяином над жизнью и смертью; он повелевал гильотиной. В эту трагическую минуту он воплощал верховную власть, данную человеку.
Оставалось только одно — ждать.
Тем временем наступила ночь.
V В ТЕМНИЦЕ
Зала, где отправляли правосудие, вновь превратилась в кордегардию; караулы, как и накануне суда, удвоили; два жандарма стояли на страже перед запертой дверью темницы.
В полночь какой-то человек с фонарем в руках прошел через кордегардию; он назвал себя и приказал отпереть двери темницы. Это был Симурдэн.
Он переступил порог, оставив дверь полуоткрытой.
В подземелье было тихо и темно. Симурдэн сделал шаг, поставил фонарь наземь и остановился. Во мраке слышалось ровное дыхание спящего человека. Симурдэн задумчиво вслушался в этот мирный звук.
Говэн лежал в глубине каземата на охапке соломы. Это его дыхание доносилось до Симурдэна. Он спал глубоким сном.
Стараясь не шуметь, Симурдэн подошел поближе и долго смотрел на Говэна; мать, склонившаяся над спящим младенцем, не глядит на него таким невыразимо нежным взглядом. Это, очевидно, было сильнее самого Симурдэна; он как-то по-детски прикрыл глаза кулаками и несколько мгновений стоял неподвижно. Потом он опустился на колени, бережно приподнял руку Говэна и прижался к ней губами.
Спящий пошевелился. Он открыл глаза, удивленно посмотрел вокруг, как озирается внезапно проснувшийся человек.
Свет фонаря слабо освещал подземелье. Говэн узнал Симурдэна.
— А, — сказал он, — это вы, учитель!
И, помолчав, добавил:
— А мне приснилось, что смерть целует мне руку.
Симурдэн вздрогнул, как порой вздрагивает человек, когда внезапно на него нахлынет волна разноречивых чувств; подчас эта волна так бурлива и высока, что грозит загасить душу. Но слова не шли из глубины сердца Симурдэна. Он мог выговорить лишь одно: «Говэн!»
И они поглядели друг на друга. Глаза Симурдэна горели тем нестерпимым пламенем, от которого сохнут слезы, губы Говэна морщила кроткая улыбка.
Говэн приподнялся на локте и заговорил:
— Вот этот рубец на вашем лице — он от удара сабли, который предназначался мне, а вы приняли его на себя. Еще вчера вы были в самой гуще схватки — рядом со мной и ради меня. Если бы провидение не послало вас к моей колыбели, где бы я был? Блуждал бы в потемках. Если у меня есть понятие долга, то лишь благодаря вам. Я родился связанным. Предрассудки — те же путы, вы освободили меня от них, вы дали мне взрасти свободно, и из того, кто уже в младенчестве был мумией, вы сделали живое дитя. Вы зажгли свет разума в том, кто без вас оставался бы убогим недоноском. Без вас я рос бы карликом. Только благодаря вам я живу и мыслю. Без вас я бы стал сеньором, а вы сделали из меня гражданина; я остался бы только гражданином, но вы сделали из меня мыслящее существо; вы подготовили меня к земной жизни, а душу мою — к жизни небесной. Вы вручили мне ключ истины, чтобы я познал человеческий удел, и ключ света, чтобы я мог приобщиться к неземному уделу. Учитель мой, благодарю вас. Ведь это вы создали меня.
Симурдэн присел на солому рядом с Говэном и сказал:
— Я пришел поужинать с тобой.
Говэн разломил краюху черного хлеба и протянул ее Симурдэну. Симурдэн взял кусок; потом Говэн подал ему кувшин с водой.
— Пей сначала ты, — сказал Симурдэн.
Говэн отпил и передал кувшин Симурдэну. Говэн отхлебнул только глоток. Симурдэн пил долго и жадно.
Так они и ужинали: Говэн ел, а Симурдэн пил — верный признак душевного спокойствия одного и лихорадочного волнения другого.
Какая-то пугающая безмятежность царила в подземной темнице. Учитель и ученик беседовали.
— Назревают великие события, — говорил Говэн. — То, что совершает ныне революция, полно таинственного смысла. За видимыми деяниями есть деяния невидимые. И одно скрывает от наших глаз другое. Видимое деяние — жестоко, деяние невидимое — величественно. Сейчас я различаю это особенно ясно. Это удивительно и прекрасно. Нам пришлось лепить из старой глины. Отсюда этот необычайный девяносто третий год. Идет великая стройка. Над лесами варварства подымается храм цивилизации.
— Да, — ответил Симурдэн. — Временное исчезнет, останется непреходящее. А непреходящее — это право и долг, идущие рука об руку, это прогрессивный и пропорциональный налог, обязательная воинская повинность, равенство, прямой, без отклонений, путь, и превыше всего самая прямая из линий — закон. Республика абсолюта.
— Я предпочитаю республику идеала, — заметил Говэн.
Он замолк, затем продолжал:
— Скажите, учитель, среди всего упомянутого вами найдется ли место для преданности, самопожертвования, самоотречения, взаимного великодушного доброжелательства, любви? Добиться всеобщего равновесия — хорошо, добиться всеобщей гармонии — лучше. Ведь лира выше весов. Ваша республика взвешивает, отмеряет и направляет человека; моя возносит его в безбрежную лазурь. Вот где разница между тюрьмой и орлом.
— Ты заплутался среди облаков.
— А вы — в расчетах.
— Не пустая ли мечта эта гармония?
— Но без мечты нет и математики.
— Я хотел бы, чтобы творцом человека был Эвклид.
— А я, — сказал Говэн, — предпочел бы в этой роли Гомера.
Суровая улыбка появилась на губах Симурдэна, словно он желал удержать на земле душу Говэна.
— Поэзия! Не верь поэтам!
— Да, я уже много раз слышал это. Не верь дыханию ветра, не верь солнечным лучам, не верь ароматам, не верь цветам, не верь красоте созвездий.
— Всем этим человека не накормишь.
— Кто знает? Идея — та же пища. Мыслить — значит питать себя.
— Поменьше абстракций. Республика — это дважды два четыре. Когда я дам каждому, что ему положено…
— Тогда вам придется еще добавить то, что ему не положено.
— Что ты под этим подразумеваешь?
— Я подразумеваю те поистине огромные взаимные уступки, которые каждый обязан делать всем и все должны делать каждому, так как в этом основа общественной жизни.
— Вне незыблемого права нет ничего.
— Вне его — все.
— Я вижу лишь правосудие.
— А я смотрю выше.
— Что же может быть выше правосудия?
— Справедливость.
Минутами они замолкали, словно мимо проплывали лучи света.
Симурдэн продолжал:
— Выразись яснее, если можешь.
— Охотно. Вы хотите обязательной воинской повинности. Но против кого? Против других же людей. А я, я вообще не хочу никакой воинской повинности. Я хочу мира. Вы хотите помогать беднякам, а я хочу, чтобы нищета была уничтожена совсем. Вы хотите ввести пропорциональный налог. А я не хочу никаких налогов. Я хочу, чтобы общественные расходы были сведены к простейшим формам и оплачивались бы из избытка общественных средств.
— Что же, по-твоему, надо для этого сделать?
— А вот что: первым делом уничтожьте всяческий паразитизм — паразитизм священника, паразитизм судьи, паразитизм солдата. Затем употребите с пользой ваши богатства; теперь вы спускаете туки в сточную канаву, внесите их в борозду. Три четверти наших земель не возделаны, подымите целину во всей Франции, используйте пустующие пастбища, поделите все общинные земли. Пусть каждый человек получит землю, пусть каждый клочок земли получит хозяина. Этим вы повысите общественное производство во сто крат. Франция в наше время может дать крестьянину мясо лишь четыре раза в год; возделав все свои земли, она накормит триста миллионов человек — всю Европу. Сумейте использовать природу, великую помощницу, которой вы пренебрегаете. Заставьте работать на себя даже легчайшее дуновение ветра, все водопады, все магнетические токи. Земной шар изрезан сетью подземных артерий, в них происходит чудесное обращение воды, масел, огня; вскройте же эти земные жилы, и пусть оттуда для ваших водоемов потечет вода, потечет масло для ваших ламп, огонь для ваших очагов. Поразмыслите над игрой морских волн, над приливами и отливами, над непрестанным движением моря. Что такое океан? Необъятная, но впустую пропадающая сила. Как же глупа наша земля! Не воспользоваться мощью океана!
— Ты весь во власти мечты.
— Нет, я во власти реальности.
Говэн добавил:
— А женщина? Какую вы ей предоставляете роль?
— Ту, что ей свойственна, — ответил Симурдэн. — Роль служанки мужчины.
— Согласен. Но при одном условии.
— Каком?
— Пусть тогда и мужчина будет слугой женщины.
— Что ты говоришь? — воскликнул Симурдэн. — Мужчина — слуга женщины! Да никогда! Мужчина — господин. Я признаю лишь одну самодержавную власть — власть мужчины у домашнего очага. Мужчина у себя дома король.
— Согласен. Но при одном условии.
— Каком?
— Пусть тогда и женщина будет королевой в своей семье.
— Иными словами, ты требуешь для мужчины и для женщины…
— Равенства.
— Равенства? Что ты говоришь! Два таких различных существа…
— Я сказал «равенство». Я не сказал «тождество».
Вновь воцарилось молчание, словно два эти ума, метавшие друг в друга молнии, на минуту заключили перемирие. Симурдэн нарушил его первым:
— А ребенок? Кому ты отдашь ребенка?
— Сначала отцу, от которого он зачат, потом матери, которая носила его под сердцем, потом учителю, который его воспитает, потом городу, который сделает из него мужа, потом родине — высшей из матерей, потом человечеству — великому родителю.
— Ты ничего не говоришь о боге.
— Каждая из этих ступеней: отец, мать, учитель, город, родина, человечество — все они ступени лестницы, ведущей к богу.
Симурдэн молчал, а Говэн говорил:
— Когда человек достигнет верхней ступени лестницы, он придет к богу. Бог откроется человеку, и человек войдет в его лоно.
Симурдэн махнул рукой, словно желая предостеречь друга.
— Говэн, вернись на землю. Мы хотим осуществить возможное.
— Не сделайте для начала его невозможным.
— Возможное всегда осуществимо.
— Нет, не всегда. Если грубо отшвырнуть утопию, ее можно убить. Есть ли что-нибудь более хрупкое, чем яйцо?
— Но и утопию нужно сначала обуздать, возложить на нее ярмо действительности и ввести в рамки реального. Абстрактная идея должна превратиться в идею конкретную; пусть она потеряет в красоте, зато приобретет в полезности; пусть будет не столь широкой, зато станет вернее. Необходимо, чтобы право входило в закон, и когда право становится законом, оно становится абсолютом. Вот что я называю возможным.
— Возможное гораздо шире.
— Ну, вот ты снова начал мечтать.
— Возможное — это таинственная птица, извечно парящая над нами.
— Значит, нужно ее поймать.
— Но только живую.
Говэн продолжал:
— Моя мысль проста: всегда вперед. Если бы бог хотел, чтобы человек пятился назад, он поместил бы глаза на затылке. Так будем же всегда смотреть в сторону зари, расцвета, рождения. Падение отгнившего поощряет то, что начинает жить. Треск старого рухнувшего дерева — призыв к молодому деревцу. Пусть каждый век свершит свое деяние, ныне гражданское, завтра человеческое. Ныне стоит вопрос о праве, завтра встанет вопрос о заработной плате. Слова «заработная плата» и «право» в конечном счете означают одно и то же. Жизнь человека должна быть оплачена; давая человеку жизнь, бог берет на себя обязательство перед ним; право — это прирожденная плата; заработная плата — это приобретенное право.
Говэн говорил проникновенно, как пророк. Симурдэн слушал. Они поменялись ролями, и теперь, казалось, ученик стал учителем.
Симурдэн прошептал:
— Уж очень ты скор.
— Что поделаешь! Приходится поторапливаться, — с улыбкой ответил Говэн. — Учитель, вот в чем разница между нашими двумя утопиями. Вы хотите обязательной для всех казармы, я хочу школы. Вы мечтаете о человеке-солдате, я мечтаю о человеке-гражданине. Вы хотите грозного человека, а я — мыслящего. Вы основываете республику меча, я хотел бы основать…
Он помолчал.
— Я хотел бы основать республику духа.
Симурдэн, глядя на черные плиты пола, спросил:
— А пока что ты хочешь?
— Того, что есть.
— Следовательно, ты оправдываешь настоящий момент?
— Да.
— Почему?
— Потому что это гроза. А гроза всегда знает, что делает. Сжигая один дуб, она оздоравливает весь лес. Цивилизация была заражена чумой; нынешний могучий ветер несет ей исцеление. Возможно, он не особенно церемонится. Но может ли он действовать иначе? Ведь слишком много надо вымести грязи. Зная, как ужасны миазмы, я понимаю ярость урагана.
Говэн продолжал:
— А впрочем, что мне бури, когда у меня есть компас. Что мне бояться страшных событий, раз у меня есть совесть.
И он добавил тем низким голосом, который звучит торжественно:
— Есть некто, чьей воле нельзя чинить препятствия.
— Кто же это? — спросил Симурдэн.
Говэн указал пальцем ввысь. Симурдэн проследил взглядом его движение, и ему почудилось, что сквозь каменные своды темницы он прозревает звездное небо.
Они снова замолчали.
Наконец Симурдэн сказал:
— Ты выходишь за пределы реального общества. Я уже говорил тебе — это не область возможного, это мечта.
— Это цель. А иначе зачем людям общество? Живите в природе. Будьте дикарями. Таити, на ваш взгляд, рай, но только в этом раю нет места для мысли. А по мне, куда лучше мыслящий ад, нежели безмозглый рай. Да нет, при чем здесь ад! Будем людьми, обществом людей. Возвысимся над природой. Именно так. Если человек ничего не привносит в природу, зачем же покидать ее лоно? Удовлетворитесь тогда работой, как муравьи, и медом — как пчелы. Будьте рабочей пчелой, а не мыслящей владычицей улья. Если вы привносите хоть что-то в природу, вы тем самым неизбежно возвышаетесь над ней; привносить — значит увеличивать; увеличивать — значит расти. Общество — та же природа, но природа улучшенная. Я хочу того, чего нет у пчел в улье, чего нет у муравьев в муравейнике: мне нужны памятники зодчества, искусство, поэзия, герои, гении. Вечно гнуть спину под бременем тяжкой ноши — неужели таков человеческий закон? Нет, нет и нет, довольно париев, довольно рабов, довольно каторжников, довольно отверженных!
Я хочу, чтобы все в человеке стало символом цивилизации и образцом прогресса; для ума я хочу свободы, для сердца — равенства, для души — братства. Нет! Прочь ярмо! Человек создан не для того, чтобы влачить цепи, а для того, чтобы расправить крылья. Пусть сгинут люди-ужи. Я хочу, чтобы куколка стала бабочкой, хочу, чтобы земляной червь превратился в живой крылатый цветок и вспорхнул ввысь. Я хочу…
Он остановился. Глаза его блестели. Губы беззвучно шевелились. Он что-то шептал про себя.
Дверь темницы так и не закрыли. Какие-то невнятные шумы проникали снаружи в подземелье. Слышалось далекое пение горна, очевидно, играли зорю; потом раздался стук прикладов о землю — это сменился караул; потом возле башни, сколько можно было судить из темницы, послышалось какое-то движение, словно перетаскивали и сваливали доски и бревна; раздались глухие и прерывистые удары — должно быть, перестук молотков.
Симурдэн, бледный как полотно, вслушивался в эти звуки. Говэн не слышал ничего. Он все больше уходил в свои мечты. Казалось даже, что он не дышит, с таким напряженным вниманием всматривался он в прекрасное видение, возникшее перед его глазами. Все его существо пронизывал сладостный трепет. Свет зари, зажегшийся в его зрачках, разгорался все ярче.
Так прошло несколько минут. Симурдэн спросил:
— О чем ты думаешь?
— О будущем, — ответил Говэн.
И он снова погрузился в мечты. Симурдэн поднялся с соломенного ложа, где они сидели бок о бок. Говэн даже не заметил этого. Симурдэн, не отрывая взгляда от своего задумавшегося ученика, медленно отступил к двери и вышел.
Дверь темницы захлопнулась.
VI ТЕМ ВРЕМЕНЕМ СОЛНЦЕ ВЗОШЛО
В небе занималась заря.
Одновременно с рассветом на плоскогорье Тург, выше Фужерского леса, появилось нечто странное, неподвижное, загадочное и незнакомое небесным птицам.
Появилось здесь за ночь. Скорее выросло, чем было построено. Силуэт, вырисовывавшийся на фоне неба прямыми и жесткими линиями, издали напоминал букву древнееврейского алфавита или один из египетских иероглифов, с помощью которых была начертана одна из загадок древности.
Первая мысль, которую вызывал этот предмет, была мысль о его ненужности. Он стоял среди цветущего вереска. Невольно возникал вопрос: каково его назначение? Затем глядевшего охватывал трепет. Это сооружение напоминало помост, установленный на четырех столбах. На одном краю помоста были укреплены стоймя еще два столба, соединенные поверху перекладиной, к которой был подвешен треугольник, казавшийся черным на фоне утренней лазури. К другому краю помоста вела лестница. Внизу между двумя столбами прямо под треугольником можно было различить две доски, образующие вертикальную раздвижную раму, посреди которой имелось круглое отверстие, равное по диаметру размерам человеческой шеи. Верхняя часть рамы скользила на пазах, так что не составляло труда ее опустить или поднять. Сейчас обе части рамы, которые при соединении образовывали посредине круглое отверстие, были раздвинуты. У подножия двух столбов с перекладиной, к которой был прикреплен треугольник, виднелась доска, легко вращающаяся на шарнирах и походившая на обыкновенную доску качелей. Рядом с этой доской стояла продолговатая корзина, а между двух столбов впереди, на краю помоста, вторая корзина — квадратная. Она была выкрашена в красный цвет. Все сооружение было деревянное, за исключением металлического треугольника. Чувствовалось, что оно возведено руками человека, — таким оно было безобразным, жалким и ничтожным; и в то же время возвести его не погнушались бы и духи зла — таким оно было ужасным.
Это уродливое сооружение было гильотиной.
Напротив нее, всего в нескольких шагах по ту сторону рва, возвышалось другое чудище — Тург. Каменное чудовище как будто дополняло чудище деревянное. Заметим кстати: стоит человеку коснуться дерева или камня, как и дерево и камень уже перестают быть деревом и камнем, а перенимают нечто от человека. Здание — это догма, машина — это идея.
Тургская башня была роковым итогом прошлого, который в Париже именовался Бастилией, в Англии — Лондонской башней, в Германии — Шпильбергом, в Испании — Эскуриалом, в Москве — Кремлем, в Риме — замком св. Ангела.
В Турге было воплощено целых пятнадцать столетий: все средневековье, вассалы, крепостничество, феодализм, а в гильотине — только один год — девяносто третий; и эти двенадцать месяцев весили не меньше, чем пятнадцать веков.
Башня Тург — это была монархия; гильотина — это была революция.
Трагическое сопоставление.
С одной стороны — долги, с другой — расплата. С одной стороны — сложнейший лабиринт средневековья: крепостной и помещик, раб и хозяин, простолюдин и вельможа, лоскутное законодательство, обраставшее обычаями, судья и священник, действующие заодно, бесчисленные путы, поборы казны, подати сеньору, соляной налог, закрепощение, подушная подать, прерогативы, предрассудки, всяческий фанатизм, королевские милости, скипетр, трон, произвол, божественное право; с другой стороны — нечто простое: нож гильотины.
С одной стороны — узел; с другой — топор.
Долгие века башня Тург простояла в одиночестве среди пустынных лесов. Из ее устрашающих бойниц на голову врага лилось кипящее масло, горящая смола и расплавленный свинец; ее подземелья, усыпанные человеческими костями, ее застенки для четвертования были ареной неслыханных трагедий; мрачной громадой возвышалась она над этим лесом; пятнадцать веков укрытая лесной сенью, она вкушала грозный покой, на много миль вокруг она была единственной владычицей, единственным кумиром и единственным пугалом; она царила, она была само варварство, варварство самодержавное, — и вдруг прямо перед ней, словно дразня ее, возникло что-то, нет, не что-то, а кто-то столь же ужасный, как она сама, — возникла гильотина.
Иной раз кажется, что камень тоже видит своим загадочным оком. Статуя наблюдает, башня подкарауливает, фасад здания взирает. Башня Тург словно приглядывалась к гильотине.
Она будто пыталась понять, спрашивала себя: «Что это здесь такое?»
Странное сооружение, оно как бы выросло из-под земли.
И впрямь оно выросло из-под земли.
Проклятая земля породила зловещее древо. Из этой земли, щедро политой потоками пота, слез, крови, из этой земли, изрезанной сотнями рвов, могил, тайников, подземных ходов, из этой земли, где тлели кости многих и многих мертвецов, принявших все виды смерти, измышленной всеми тиранами, из этой земли, скрывавшей столько гибельных бездн, схоронившей в себе столько злодеяний, ставших роковым посевом, — из недр этой земли в назначенный срок выросла эта незнакомка, эта мстительница, эта жестокая машина, подъявшая меч, и девяносто третий год сказал старому миру: «Я здесь».
Гильотина с полным правом могла сказать башне: «Я твоя дщерь».
И в то же время башня предугадывала (ведь подобные роковые громады живут своей сокрытой жизнью), что гильотина убьет ее.
Башня Тург робела перед возникшим перед ней грозным видением. Да, она словно испытывала страх. Это страшилище, эта каменная громада была величественна и гнусна, но плаха с треугольником была хуже. Развенчанное всемогущество трепетало перед всемогуществом новоявленным. Историческое преступление взирало на историческое возмездие. Былое насилие тягалось с сегодняшним насилием; старинная крепость, старинная темница, старинное обиталище сеньоров, в стенах которого звучали вопли пытаемых, это сооружение, предназначенное для войн и убийств, ныне непригодное ни для жилья, ни для осад, опозоренная, поруганная, развенчанная груда камней, столь же ненужная, как куча золы, мерзкий и величественный труп, эта хранительница зверских ужасов минувших столетий смотрела, как наступает грозная, но живая година. Вчерашний день трепетал перед сегодняшним днем; жестокая старина лицезрела новое страшилище и склонялась перед ним; то, что стало ничем, глядело сумрачным оком на то, что стало ужасом; видение всматривалось в призрак.
Природа безжалостна; она не желает перед лицом людской мерзости поступаться своими цветами, своей музыкой, своими благоуханиями и своими лучами; она подавляет человека контрастом божественной красоты и социального уродства; она не щадит его, подчеркивая яркость крылышка бабочки, очарование соловьиной трели, и человек в разгар убийства, в разгар мщения, в разгар варварской бойни осужден взирать на эти святыни; ему не скрыться от укора, который шлет ему отовсюду благость вселенной и неумолимая безмятежность небесной лазури. Видно, так надо, чтобы все безобразие человеческих законов выступало во всей своей неприглядной наготе среди вечной красоты мира. Человек крушит и ломает, человек опустошает, человек убивает; а лето — все то же лето, лилия — все та же лилия, звезда — все та же звезда.
Никогда еще в ясном небе не занимался такой чудесный рассвет, как в то летнее утро. Теплый ветерок шевелил заросли вереска, клочья тумана лениво цеплялись за сучья дерев. Фужерский лес, весь наполненный свежим дыханием ручейков, словно огромная кадильница с благовониями, дымился под первыми лучами солнца; синева небес, белоснежные облачка, прозрачная гладь вод, вся гамма цветов от аквамарина до изумруда, купы деревьев, по-братски переплетшихся ветвями, ковер трав, широкие равнины — все было исполнено той чистоты, которую природа создает в извечное назидание человеку. Среди этой мирной картины, словно напоказ, выставляло себя мерзкое людское бесстыдство; среди мирной картины виднелись друг против друга крепость и эшафот, орудие войны и орудие казни, образ кровожадных веков и обагренной кровью минуты, ночная сова прошлого и летучая мышь, возникшая в предрассветном сумраке будущего. И перед лицом цветущей, благоуханной, любвеобильной и прекрасной природы сияющие небеса, заливая светом зари башню Тург и гильотину, казалось, говорили людям: «Смотрите, вот что делаю я и что делаете вы».
Такое страшное применение находит себе иной раз солнечный свет.
Это зрелище имело своих зрителей.
Четыре тысячи человек, составлявшие экспедиционный отряд, стояли в боевом строю на плоскогорье. Шеренги солдат окружали гильотину с трех сторон, образуя геометрическую фигуру или, вернее, букву «Е»; батарея, расположенная в центре длинной ее стороны, служила для этого «Е» перпендикулярной черточкой. Казалось, что выкрашенное в красный цвет сооружение заключено меж трех фронтов битвы, отгорожено живой стеной, доходившей с двух сторон до самого края плоскогорья; четвертая сторона была открыта, здесь проходил ров, за которым высилась башня.
Таким образом, получился как бы вытянутый прямоугольник, середину которого занимал эшафот. По мере того как разгоралась заря, тень от гильотины, лежавшая на траве, все укорачивалась.
Канониры стояли с зажженными факелами возле своих орудий.
Из оврага подымался тонкий синеватый дымок — там дотлевал пожар, уничтоживший мост.
Дымок заволакивал Тургскую башню, не скрадывая ее очертаний, вышка ее по-прежнему царила над всей округой. Башня была отделена от гильотины лишь шириною рва. Стоя на эшафоте и на вышке, люди могли бы свободно переговариваться.
На площадку вышки поставили судейский стол, стул и прикрепили позади трехцветные знамена. Заря разгоралась за Тургом, в ее лучах черная громада башни четко выступала на фоне порозовевшего неба, а на верху башни виднелся силуэт человека, — скрестив руки, он неподвижно сидел на стуле, осененном знаменами.
Этот человек был Симурдэн. Как и накануне, на нем была одежда гражданского делегата, шляпа с трехцветной кокардой, сабля на боку и пистолеты за поясом.
Он молчал. Молчали все. Солдаты стояли, приставив ружья к ноге и не поднимая глаз. Каждый касался локтем соседа, но никто не произнес ни слова. В памяти людей вставали картины войны — бесчисленные схватки, бесстрашное движение цепи с ружьями наперевес, толпы разъяренных крестьян, рассеянных их пальбой, взятые крепости, выигранные сражения, победы, — и теперь им казалось, что былая слава оборачивается позором. Грудь каждого сжимало мрачное ожидание. Все глаза были прикованы к палачу, расхаживавшему по высокому помосту гильотины. Свет разгоравшегося дня охватил полнеба.
Вдруг до толпы донесся тот приглушенный звук, который издают барабаны, обернутые крепом. Похоронная дробь с каждой минутой становилась громче; ряды раздвинулись, и вступившее в это каре шествие направилось к эшафоту.
Впереди — барабанщики в черном, затем рота гренадеров с ружьями, обращенными дулом вниз, затем взвод жандармов с саблями наголо, затем осужденный — Говэн.
Говэн шел свободно. Ему не связали веревками ни рук, ни ног. Он был в походной форме и при шпаге.
Шествие замыкал второй взвод конвоиров.
Лицо Говэна еще хранило след мечтательной радости, которая зажглась в его глазах в ту минуту, когда он сказал Симурдэну: «Я думаю о будущем». Несказанно прекрасна и возвышенна была эта улыбка, так и не сошедшая с его уст.
Подойдя к роковому помосту, он бросил взгляд на вершину башни. Гильотину он даже не удостоил взглядом.
Он знал, что Симурдэн сочтет своим долгом лично присутствовать при казни. Он искал его глазами. И нашел.
Симурдэн был бледен и холоден. Стоявшие рядом с ним люди не могли уловить его дыхания.
Увидев Говэна, он даже не вздрогнул.
Тем временем Говэн шел к гильотине.
Он шел и все смотрел на Симурдэна, и Симурдэн смотрел на него. Казалось, Симурдэн ищет поддержки в его взгляде.
Говэн приблизился к подножью эшафота. Он поднялся на помост. Офицер, командовавший конвоем, последовал за ним. Говэн отстегнул шпагу и передал ее офицеру; затем снял галстук и отдал его палачу.
Он был подобен видению. Никогда еще он не был так прекрасен. Ветер играл темными кудрями, — в ту пору мужчины не стриглись так коротко, как в наши дни. Его шея блистала женственной белизной, а во взгляде было нечто героическое и высокое, напоминавшее взгляд архангела. И здесь, на эшафоте, он продолжал мечтать. Лобное место тоже вершина, и Говэн стоял на ней, выпрямившись во весь рост, величавый и спокойный. Солнечные лучи ореолом окружали его чело.
Полагалось, однако, связать казнимого. Палач подошел с веревкой в руке.
Но тут, видя, что их молодого командира сейчас положат под нож, солдаты не выдержали, закаленные сердца воинов переполнились горечью. Послышалось то, что редко доводится слышать, — рыдание войска. Раздались крики: «Помиловать! Помиловать!» Некоторые падали на колени, бросив наземь оружие, протягивали руки к вершине башни, где сидел Симурдэн. Какой-то гренадер, указывая на гильотину, воскликнул: «А замена разрешается? Я готов!»
Все в каком-то исступлении кричали: «Помиловать! Помиловать!» Даже львы, услышав эти крики, дрогнули бы в ужасе, ибо страшна солдатская слеза.
Палач остановился в нерешительности.
Тогда с вершины башни раздался властный голос, и все услышали зловещие слова, как тихо ни были они произнесены:
— Пусть исполнится закон.
Все узнали этот неумолимый голос. Это говорил Симурдэн. И войско затрепетало.
Палач больше не колебался. Он подошел к Говэну, держа в руках веревку.
— Подождите, — сказал Говэн.
Он повернулся лицом к Симурдэну и послал ему правой, еще свободной рукой прощальный привет, затем дал себя связать.
И, уже связанный, он сказал палачу:
— Простите, еще минутку.
Он крикнул:
— Да здравствует Республика!
Потом его положили на доску, прекрасную и гордую голову охватил позорный ошейник, палач осторожно приподнял на затылке волосы, затем нажал пружину, стальной треугольник пришел в движение и заскользил вниз, сначала медленно, потом быстрее, и все услышали непередаваемо мерзкий звук.
В ту самую минуту раздался другой звук. На удар секиры отозвался выстрел пистолета. Симурдэн выхватил один из двух пистолетов, заткнутых за пояс, и в то самое мгновение, когда голова Говэна скатилась в корзину, Симурдэн выстрелил себе в сердце. Струя крови хлынула изо рта, он упал мертвым.
Две души, две трагические сестры, отлетели вместе, и та, что была мраком, слилась с той, что была светом.
ЭРНАНИ Перевод Вс. А. Рождественского
ПРЕДИСЛОВИЕ
Несколько недель тому назад автор этой драмы писал по поводу ранней смерти одного поэта:
«В наше время литературных схваток и бурь кого должны мы жалеть — тех, кто умирает, или тех, кто сражается? Конечно, грустно видеть, как уходит от нас двадцатилетний поэт, как разбивается лира, как гибнет будущее юного существа; но разве покой не есть также благо? Не дозволено ли тем, вокруг кого беспрерывно скопляются клевета, оскорбления, ненависть, зависть, тайные происки и подлое предательство; всем честным людям, против которых ведется бесчестная война; самоотверженным людям, желающим, в сущности, только обогатить свою родину еще одной свободой — свободой искусства и разума; трудолюбивым людям, мирно продолжающим свой добросовестный труд и, с одной стороны, терзаемым гнусными махинациями цензуры и полиции, а с другой стороны — слишком часто испытывающим на себе неблагодарность тех самых умов, для которых они работают, — не позволительно ли им с завистью оглядываться порой на тех, кто пал позади них и спит в могиле? „Invideo, — сказал Лютер на кладбище Вормса, — invideo, quia quiescunt“[415].
Но что из того? Будем мужаться, молодежь! Каким бы тяжким ни делали нам настоящее, будущее будет прекрасно.
Романтизм, так часто неверно понимаемый, есть, в сущности говоря, — и таково правильное его понимание, если рассматривать его только с воинствующей стороны, — либерализм в литературе. Эта истина усвоена почти всеми здравомыслящими людьми, а их немало; и скоро, — ибо дело далеко уже подвинулось вперед, — либерализм в литературе будет не менее популярен, чем либерализм в политике. Свобода искусства, свобода общества — вот та двойная цель, к которой должны единодушно стремиться все последовательные и логично мыслящие умы; вот то двойное знамя, под которым объединяется, за исключением очень немногих людей (они еще поймут), вся нынешняя молодежь, такая стойкая и терпеливая; а вместе с нею — возглавляя ее — и весь цвет предшествовавшего нам поколения, все эти мудрые старики, признавшие, — когда прошел первый момент недоверия и ознакомления, — что то, что делают их сыновья, есть следствие того, что некогда делали они сами, и что литературная свобода — дочь свободы политической. Этот принцип есть принцип века, и он восторжествует.
Сколько бы ни объединялись разные ультраконсерваторы — классики и монархисты — в своем стремлении целиком восстановить старый режим как в обществе, так и в литературе, всякий прогресс в стране, всякий успех в развитии умов, всякий шаг свободы будут опрокидывать их сооружения. И в конечном итоге их сопротивление окажется полезным. В революции всякое движение есть движение вперед. Истина и свобода обладают тем удивительным свойством, что все совершаемое как для них, так и против них одинаково служит им на пользу. После стольких подвигов, совершенных нашими отцами на наших глазах, мы освободились от старой социальной формы; как же нам не освободиться и от старой поэтической формы? Новому народу нужно новое искусство. Отдавая дань восхищения литературе эпохи Людовика XIV, так хорошо приноровленной к его монархии, нынешняя Франция, Франция XIX века, которой Мирабо дал свободу[416], а Наполеон — могущество, сумеет, конечно, создать свою собственную, особую национальную литературу»[417].
Да простят автору этой драмы, что он цитирует самого себя: его слова так мало обладают свойством запечатлеваться в умах, что ему часто нужно повторять их. Впрочем, в наши дни, может быть, и уместно снова предложить вниманию читателей эти две воспроизведенные выше страницы. Не потому, чтобы эта драма сколько-нибудь заслуживала прекрасное наименование нового искусства или новой поэзии, вовсе нет; но потому, что принцип свободы в литературе сделал сейчас шаг вперед; потому, что сейчас совершился прогресс, не в искусстве, — эта драма — вещь слишком незначительная, — но в публике; потому, что, по крайней мере в этом отношении, осуществилась сейчас часть предсказаний, которые автор дерзнул сделать выше.
Было в самом деле рискованно так внезапно переменить аудиторию, вынести на сцену искания, доверявшиеся до сих пор только бумаге, которая все терпит; публика, читающая книги, очень отличается от публики, посещающей спектакли, и можно было опасаться, что вторая отвергнет то, что приняла первая. Этого не случилось. Принцип литературной свободы, уже понятый читающим и мыслящим миром, был в столь же полной мере усвоен огромной, жадной только до впечатлений искусства толпой, наводняющей каждый вечер театры Парижа. Этот громкий и мощный голос народа, напоминающий глас божий, повелевает впредь, чтобы у поэзии был тот же девиз, что и у политики: терпимость и свобода.
Теперь пусть явится поэт! Для него есть публика.
Что же касается этой свободы, то публика требует, чтобы она была такая, какой она должна быть, чтобы она сочеталась в государстве с порядком, в литературе — с искусством. Свобода обладает свойственной ей мудростью, без которой она не полна. Пусть старые правила д’Обиньяка умирают вместе со старым обычным правом Кюжаса[418], — в добрый час; пусть на смену придворной литературе явится литература народная, — это еще лучше, но главное — пусть в основе всех этих новшеств лежит внутренний смысл. Пусть принцип свободы делает свое дело, но пусть он делает его хорошо. В литературе, как и в обществе, не должно быть ни этикета, ни анархии — только законы. Ни красных каблуков, ни красных колпаков.
Вот чего требует публика, и она права. Мы же, из уважения к этой публике, так не по заслугам снисходительно принявшей наш опыт, предлагаем ей теперь эту драму в том виде, как она была представлена. Придет, быть может, время опубликовать ее в том виде, как она была задумана автором, с указанием и объяснением тех изменений, которым она подверглась ради постановки. Эти критические подробности, быть может, не лишены интереса и поучительны, но теперь они показались бы мелочными; раз свобода искусства признана и главный вопрос разрешен, к чему останавливаться на вопросах второстепенных? Мы, впрочем, вернемся к ним когда-нибудь и поговорим также весьма подробно о драматической цензуре, разоблачая се с помощью доводов и фактов; о цензуре, которая является единственным препятствием к свободе театра теперь, когда нет больше препятствий со стороны публики. Мы попытаемся, на свой страх и риск, из преданности всему тому, что касается искусства, обрисовать тысячи злоупотреблений этой мелочной инквизиции духа, имеющей, подобно той, церковной инквизиции, своих тайных судей, своих палачей в масках, свои пытки, свои членовредительства, свои смертные казни. Мы разорвем, если представится возможность, эти полицейские путы, которые, к стыду нашему, еще стесняют театр в XIX веке.
Сейчас уместны только признательность и изъявления благодарности. Автор приносит свою благодарность публике и делает это от всей души. Его произведение, плод не таланта, а добросовестности и свободы, великодушно защищалось публикой от многих нападок, ибо публика тоже всегда добросовестна и свободна. Воздадим же благодарность и ей, и той могучей молодежи, которая оказала помощь и благосклонный прием произведению чистосердечного и независимого, как она, молодого человека! Он работает главным образом для нее, ибо высокая честь — получить одобрение этой избранной части молодежи, умной, логично мыслящей, последовательной, по-настоящему либеральной и в литературе и в политике, — благородного поколения, которое не отказывается открытыми глазами взирать на истину и широко просвещаться.
Что касается самого произведения, то автор не будет о нем говорить. Он принимает критические замечания, которые делались по поводу этой пьесы, как самые суровые, так и самые благожелательные, потому что из всех них можно извлечь пользу. Автор не дерзает льстить себя надеждой, что все зрители сразу же поняли эту драму, подлинным ключом к которой является «Romancero general»[419]. Он просил бы лиц, которых, быть может, возмутила эта драма, перечитать «Сида», «Дона Санчо», «Никомеда»[420] или, проще сказать, всего Корнеля и всего Мольера, наших великих и превосходных поэтов. Это чтение, — если только они заранее учтут, насколько неизмеримо ниже художественное дарование автора «Эрнани», — может быть, сделает их более снисходительными к некоторым сторонам формы или содержания его драмы, которые могли покоробить их. Вообще же еще не настало, быть может, время судить об авторе. «Эрнани» — лишь первый камень здания, которое существует в законченном виде пока что лишь в голове автора, а между тем лишь совокупность его частей может сообщить некоторую ценность этой драме. Быть может, когда-нибудь одобрят пришедшую автору на ум фантазию приделать, подобно архитектору города Буржа, почти мавританскую дверь к своему готическому собору.
Пока же сделанное им очень незначительно, — он это знает. Если бы ему даны были время и силы довершить свое творение! Оно будет иметь цену лишь в том случае, если будет доведено до конца. Автор не принадлежит к числу тех поэтов-избранников, которые могут, не опасаясь забвения, умереть или остановиться, прежде чем они закончат начатое ими; он не из тех, что остаются великими, даже не завершив своего произведения, счастливцев, о которых можно сказать то, что сказал Вергилий о первых очертаниях будущего Карфагена:
Pendent opera interrupta, minaeque Murorum ingentes![421] 9 марта 1830 г.ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Эрнани.
Дон Карлос.
Дон Руй Гомес де Сильва.
Донья Соль де Сильва.
Король Богемский.
Герцог Баварский.
Герцог Готский.
Герцог Люцельбургский.
Дон Санчо.
Дон Матиас.
Дон Рикардо.
Дон Гарси Суарес.
Дон Франсиско.
Дон Хуан де Аро.
Дон Педро Гусман де Аро,
Дон Хиль Тельес Хирон.
Донья Хосефа Дуарте.
Горец.
Якес, паж.
Дама.
Придверник.
Первый, Второй, Третий — заговорщики.
Заговорщики Священной лиги, немцы и испанцы; горцы, вельможи, солдаты, пажи, народ.
Испания. 1519.
Действие первое КОРОЛЬ
Сарагоса. Спальня. Ночь. На столе горит лампа.
Явление первое
Донья Хосефа Дуарте, старуха, вся в черном, в юбке, обшитой стеклярусом по моде времен Изабеллы Католической[422], дон Карлос.
Донья Хосефа
(Одна. Задергивает темно-красные портьеры у окна и приводит в порядок сдвинутые кресла. В потайную дверь направо стучат. Она прислушивается. Стучат еще раз.)
Как! Это он! уже!Новый стук.
За дверью потайной Он ждет.Стучат еще раз.
Скорей открыть!(Открывает маленькую потайную дверь.)
Входит дон Карлос. Лицо его скрыто плащом, шляпа надвинута до бровей.
Донья Хосефа
Привет, красавец мой!(Вводит его в комнату. Он распахивает плащ, под которым видна богатая одежда из шелка и бархата по кастильской моде 1519 года. Она заглядывает ему под шляпу и отшатывается в изумлении.)
Как! Не Эрнани вы? На помощь! Наважденье! Пожар!Дон Карлос
(хватая ее за руку)
Два слова лишь — и ты мертва, дуэнья!(Пристально смотрит на нее. Она в ужасе замолкает.)
Ведь я у доньи Соль? Она, как говорят, Невеста герцога Пастранья. Он богат. Он дядя ей. Он стар. Но сердцу девы кроткой Мил кто-то без усов и даже без бородки. На зависть всем другим, у старца за спиной, С возлюбленным она проводит час, другой. Смотри. Я знаю все.Она молчит. Он трясет ее за руку.
Ты отвечать готова?Донья Хосефа
Вы запретили мне сказать хотя б два слова.Дон Карлос
Скажи лишь «да» иль «нет» — мне надобно одно. Ты служишь донье Соль?Донья Хосефа
Да. Что же?Дон Карлос
Все равно. Старик в отсутствии? Скорей! Ты видишь, жду я…Донья Хосефа
Да.Дон Карлос
Молодого ждет она?Донья Хосефа
Да.Дон Карлос
Пусть умру я!Донья Хосефа
Да.Дон Карлос
И свиданье здесь, дуэнья, быть должно?Донья Хосефа
Да.Дон Карлос
Спрячь меня.Донья Хосефа
Вас?Дон Карлос
Да.Донья Хосефа
Зачем?Дон Карлос
Не все ль равно?Донья Хосефа
Вас спрятать?Дон Карлос
Здесь!Донья Хосефа
Нет! Нет!Дон Карлос
(вынимая из-за пояса кинжал и кошелек)
Извольте выбрать сами: Кинжала лезвие — иль кошелек с деньгами.Донья Хосефа
(берет кошелек)
Вы, видно, дьявол.Дон Карлос
Да, дуэнья.Донья Хосефа
(открывает узкий шкаф, вделанный в стену)
Вот сюда!Дон Карлос
(осматривает шкаф)
Как, в ящик?Донья Хосефа
(закрывая шкаф)
Хоть бы так. Ну что ж, согласны?Дон Карлос
(открывая дверцу)
Да!(Вновь осматривая шкаф.)
Скажи, из этого почтенного сарая Берешь ты помело, на шабаш улетая?(С трудом протискивается в шкаф.)
Уф!Донья Хосефа
(в ужасе всплескивая руками)
Здесь мужчина! О!Дон Карлос
(в еще раскрытом шкафу)
Не женщину же тут Ждет госпожа твоя!Донья Хосефа
Мой бог! Сюда идут! То донья Соль. Да, да! Сеньор, без промедленья…(Закрывает дверцу шкафа.)
Дон Карлос
(из глубины шкафа)
Лишь слово — и навек ты замолчишь, дуэнья!Донья Хосефа
(одна)
Кто этот человек? Исус! Что делать с ним? Лишь я и госпожа во всем дворце не спим. А, впрочем, что нам в том? Другой придет ведь тоже; Есть шпага у него, и небо нам поможет Уйти от дьявола.(Взвешивая в руке кошелек.)
Но этот все ж не вор!Входит донья Соль, вся в белом. Донья Хосефа прячет кошелек.
Явление второе
Донья Хосефа, дон Карлос, спрятанный, донья Соль, потом Эрнани.
Донья Соль
Хосефа!Донья Хосефа
Госпожа!Донья Соль
Боюсь. До этих пор Эрнани медлит…Шаги у потайной двери.
Он! Ах, ждать такая мука! Открой ему скорей, не дожидаясь стука.Хосефа открывает маленькую дверь. Входит Эрнани. На нем длинный плащ и большая шляпа; под плащом — одежда арагонского горца: серая ткань, кожаный панцирь, шпага, кинжал и рог за поясом.
Донья Соль
(бросается ему навстречу)
Эрнани!Эрнани
Донья Соль! Опять я вижу вас; И голос этот ваш, что говорит сейчас. Жить вдалеке от вас — для сердца горше яда. Чтоб всех других забыть, мне вас, о друг мой, надо!Донья Соль
(трогает его одежду)
Ваш плащ совсем намок. Вы были под дождем?Эрнани
Не знаю.Донья Соль
До костей продрогли!Эрнани
Что мне в том?Донья Соль
Снимите же свой плащ.Эрнани
Скажите, дорогая, — Когда вы вечером ложитесь, засыпая, Спокойной, чистою, и сон, сойдя на вас, Касается перстом невинных уст и глаз, — Вам ангел ничего не шепчет о несчастном, Кого забыли все и кто вас любит страстно?Донья Соль
Как запоздали вы, сеньор! Но, боже мой, Дрожите вы…Эрнани
Нет, я пылаю пред тобой. Когда у нас в груди клокочет страсти пламя, А сердце ширится и полнится громами, — Что нам гроза небес под проливным дождем, С которой сходят в дол и молнии и гром?Донья Соль
(освобождая его от плаща)
Отдайте шпагу мне и плащ свой вместе с нею.Эрнани
(кладя руку на эфес шпаги)
Нет! Не расстанусь я с подругою своею. О донья Соль, старик, супруг грядущий ваш, Не помешает нам?Донья Соль
Час этот будет наш!Эрнани
Я счастлив! Вправе все такой судьбой гордиться: За взятый счастья час всей жизнью расплатиться. Мой ангел! Что мне час? Чтоб с вами быть вдвоем, И жизни мало мне и вечности потом!Донья Соль
Эрнани!Эрнани
(с горечью)
Счастлив я минутою случайной. Как вор, дрожащий вор замок ломает тайный, Так вынужден я красть, у старца за спиной, Час песен и бесед и взор мгновенный твой. Вот счастие мое! А твой старик лукавый, Бросая мне лишь час, всю жизнь берет по праву.Донья Соль
Эрнани!(Бросая плащ на руки дуэнье.)
Плащ возьми и влагу отряхни.(Садится и делает знак Эрнани занять место возле нее.)
Садитесь!Эрнани
(не слушая ее)
Старца нет, и в замке мы одни.Донья Соль
(улыбаясь)
О, как прекрасны вы!Эрнани
Одни!Донья Соль
Моя отрада, Не думайте о нем.Эрнани
Мой ангел, горше ада Мне мысль о старике. Он мужем будет вам, И вы покорствовать должны его устам. Не думать? Боже мой!Донья Соль
И это вас волнует? Как дядя, как отец, он в лоб меня целует.Эрнани
Нет! Как возлюбленный, как муж, ревнивец злой! Ведь ныне вашею владеет он судьбой. Лишенный разума, растративший все силы, На склоне старости, в предчувствии могилы, Стремится он к любви и — призрак ледяной — Вступает с девой в брак, безумец, весь седой, Когда он руку вам протягивает смело, Уж смерть его рукой другою овладела. И нашей смеет он препятствовать любви! Ложись, о старец, в гроб, могильщика зови! Кто выдумал тот брак? Вас принуждают силой!Донья Соль
Король, сказали мне.Эрнани
Король! Отец мой милый Казнен его отцом, лег под его топор. Ах, пусть немало лет уже прошло с тех пор, — Чтоб мертвецу отмстить, его жене и сыну, Я ненависть вовек от сердца не отрину. Но мертвый в счет нейдет. Ребенком клялся я, Что сына за отца постигнет месть моя. О Карлос, я тебя ищу, король Кастилий[423], Мы двух семейств вражде начало положили. Отцы вели вражду едва ль не тридцать лет, Не зная жалости. И пусть теперь их нет, Все ж ненависть живет, не зная примиренья. Остались сыновья — месть ищет продолженья. Ах, это ты, король, задумал этот брак! Тем лучше: счеты мы с тобой сведем, мой враг.Донья Соль
Меня страшите вы.Эрнани
Неся печать проклятья, Казалось бы, себя сам должен устрашать я. Старик, которому вас в жены дать хотят, Де Сильва, дядя ваш, — он герцог, он богат, Он арагонский граф, он высший гранд Кастильи; И — юности взамен — вы столько б получили Парчи, и золота, и дорогих камней, Что затмевать могли б всю роскошь королей, А по рождению, богатству, чести, славе И с королевами равняться были б вправе, — Вот что вам предстоит. А я… я беден, наг, Мои владенья — лес, мой дом — глухой овраг. Но герб иметь и сам я мог бы знаменитый, Кровавой ржавчиной, как ныне, не покрытый, Высокие права на славу и почет, Что в складках траурных скрывает эшафот. Настанет день — права, врученные отвагой, Из ножен дедовских я выхвачу со шпагой. Пока же от небес принять мне суждено Лишь воздух, воду, свет — то, что и всем дано. Иль герцог, или я — другого нет исхода. Брак и неволя с ним — или со мной свобода!Донья Соль
Пойду за вами я…Эрнани
Скитаться по лесам, Средь тех, чьи имена известны палачам, Чей меч и чьи сердца не знают притупленья, Но в чьей крови живет одна лишь жажда мщенья. Жизнь средь изгнанников ужель вас не страшит? Известно ведь, что я в глазах властей — бандит. В то время как меня Испания изгнала, В своих глухих лесах, в ущельях и провалах, Среди своих вершин, где лишь орлу летать, Мне Каталония явилась, словно мать. Средь горцев вырос я, свободных и суровых, — Три тысячи из них всегда прийти готовы На помощь мне, едва я затрублю в свой рог. Вам страшно? Знайте же, что впредь готовит рок: Со мною жить в лесах, средь диких скал скитаться С людьми, которые как чудища нам снятся, Все, все подозревать — глаза, шаги, лучи; Спать на сырой траве, пить из ручья; в ночи Вдруг слышать, первенца в руках своих качая, Как свищет у виска мушкета пуля злая; Быть изгнанной, как я, и, если час придет, Как я, вослед отцу, взойти на эшафот.Донья Соль
Пойду за вами я.Эрнани
Но герцог славен, знатен, На имени отца он не имеет пятен. Он может все. Вам даст он со своей рукой Богатства, титулы…Донья Соль
Так завтра в путь ночной! Не возражайте, нет! Что герцог мне, зачем он? Эрнани, с вами я. Вы ангел мой иль демон, Не знаю… Я рабой везде за вами вслед Пойду, куда б ни шли. Останетесь иль нет — Я с вами. Почему? И спрашивать не буду. Я видеть вас хочу — опять, везде, повсюду, — И видеть вновь и вновь. Едва ваш шаг замрет — И сердце у меня свой замедляет ход. Когда вас нет со мной, то я не существую; Но лишь уловит слух ту поступь молодую, Я вспоминаю вдруг, вся радостью дыша, Что я живу, что мне возвращена душа.Эрнани
(сжимая ее в объятиях)
Мой ангел!Донья Соль
Завтра же, с людьми, вооруженным, Я в полночь буду ждать вас под своим балконом. Стучите трижды.Эрнани
Но… вы поняли иль нет, Кто я?Донья Соль
Мне все равно. Иду за вами вслед.Эрнани
Нет! Коль хотите вы идти со мною рядом, Узнайте имя, род, укрытые нарядом Эрнани, пастуха. Он тайну мне хранил. Бандит вам по сердцу? Изгнанник будет мил!Дон Карлос
(с шумом распахивая дверцу шкафа)
Я вижу, в болтовне вы опытны и ловки. А мне легко ль сидеть в проклятой мышеловке?Изумленный Эрнани отступает назад. Донья Соль с криком ищет убежища в его объятиях, устремив на дон Карлоса испуганный взор.
Эрнани
(кладя руку на эфес шпаги)
Кто этот человек?Донья Соль
На помощь!Эрнани
Подождем! Молчите, донья Соль: ваш крик разбудит дом. Когда я возле вас, души моей отрада, Мне кажется, иной защиты вам не надо.(Дон Карлосу.)
Что делали вы здесь?Дон Карлос
Я? Видно по всему, Не мчался на коне сквозь грозовую тьму.Эрнани
Кто, оскорбив других, смеется, тот невольно Себе готовит смерть.Дон Карлос
Ах, вот как? Нет, довольно! Что притворяться нам? Вы влюблены — и вот Вы здесь проводите все ночи напролет. Ну что ж, влюблен и я. Мне хочется воочью Узнать, кто к донье Соль влезал в окошко ночью, Когда я у дверей страдал.Эрнани
Чтоб кончить спор, Вы там и выйдете, где я вошел, сеньор!Дон Карлос
Посмотрим! Я и сам горю любовью страстной. Не поделиться ль нам? У доньи Соль прекрасной Так много доброты и нрав ее так тих, Что сердца нежного ей хватит на двоих. Свиданья жаждущий, душой летящий к раю, Сюда я вместо вас был впущен, полагаю, И, спрятанный в шкафу, все слышал — что скрывать? Но было тесно мне и трудно там дышать. К тому же весь измял я свой колет французский. Я вышел вон…Эрнани
Клинку вдруг стало в ножнах узко, — Он тоже выйдет вон.Дон Карлос
(отвешивая поклон)
Ну что ж, я принял роль.Эрнани
(обнажая шпагу)
Вперед!Дон Карлос тоже обнажает шпагу.
Донья Соль
(бросаясь между ними)
Эрнани! Ах!Дон Карлос
Не бойтесь, донья Соль.Эрнани
(дон Карлосу)
Кто вы такой?Дон Карлос
А вы? Скажите ваше имя.Эрнани
То имя я храню меж тайнами моими, Чтобы другой в свой час услышать сразу мог Его — в своих ушах, а в сердце — мой клинок!Дон Карлос
Но кто же тот, другой?Эрнани
Другой? Не все ль равно вам? Вперед! Скрестим клинки!Скрещивают шпаги. Донья Соль, дрожа от страха, падает в кресло. Слышно, как стучат в дверь.
Донья Соль
(в ужасе поднимается)
Стучится кто-то снова.Эрнани
(донье Хосефе)
Кто там?Донья Хосефа
(донье Соль)
О госпожа! Кто ожидать бы мог? То герцог, дядя ваш…Донья Соль
(всплескивает руками)
Мой дядя! Видит бог, Погибла я.Донья Хосефа
(бросая взгляд вокруг)
Исус! Кто там еще? За шпаги Взялись. Нет, не ждала такой я передряги…Оба противника вкладывают шпаги в ножны. Дон Карлос заворачивается в плащ и опускает шляпу на глаза. Стучат.
Эрнани
Что делать?Стучат.
Голос снаружи
Донья Соль, откройте мне!Эрнани
Нет, нет!Донья Хосефа
(доставая четки)
Святой Иаков! Ах! Избави нас от бед!Стучат снова.
Эрнани
(показывая дон Карлосу на шкаф)
Укроемся!Дон Карлос
В шкафу?Эрнани
Ну да. Прошу покорно, — Есть место для двоих.Дон Карлос
Не слишком ли просторно?Эрнани
(показывая на потайную дверь)
Бежим!Дон Карлос
Прощайте! Я остаться здесь хочу.Эрнани
О гром и молния! За все вам отплачу!(Донье Соль.)
Что, если вход закрыть?Дон Карлос
(донье Хосефе)
Откройте дверь! Ну что же?Эрнани
Что он сказал?Дон Карлос
(донье Хосефе, полной изумления)
Скорей. Откройте же!Непрерывный стук.
Донья Хосефа, дрожа, открывает дверь.
Донья Соль
О боже!Явление третье
Те же, дон Руй Гомес де Сильва; у него белая борода, седые волосы, он весь в черном. Слуги с факелами.
Дон Руй Гомес
Мужчины в комнате племянницы моей! И ночью! Вот предлог для шума и огней.(Донье Соль.)
Святой Хуан! Клянусь, в девическом покое Нас трое в этот час. И лишних ровно двое.(Двум молодым людям.)
Зачем вы оба здесь, сеньоры, в поздний час? Пока Бернард и Сид не покидали нас[424], Они, Испании герои и Кастилий, Умели старцев чтить и честь девиц хранили. Им, сильным, был их меч не так тяжел, как вам Плащи из бархата с узором по краям. Седины стариков те люди чтили строго, Просили для любви благословенья бога, Предательство кляли и, то храня, что есть, Умели отстоять наследственную честь. И жен они себе без пятен выбирали В наряде боевом, пред всеми, в шумном зале. А что касается всех этих молодцов, Что ночью, крадучись, чужой позорят кров, Предпочитают тьму для похождений грязных И за спиной мужей ввергают жен в соблазны, — Я убежден, что Сид столь дерзкий произвол Примерно б наказал и подлостью бы счел; И чтобы знали все, как обойтись с бродягой, Попрал бы герб его, плашмя ударив шпагой. Вот как бы поступил — о стыд души моей! — Герой былых веков с героем наших дней! Что надобно вам здесь? Пора бы вам признаться, Что вы над стариком готовы издеваться, Что юности смешон Саморы вождь седой! Уж если б кто и мог смеяться надо мной, То уж совсем не вы…Эрнани
О герцог!Дон Руй Гомес
Нет, ни слова! Что нужно вам еще? Кинжал есть у любого, Охоты, празднества, борзые, сокола, Гитары, песнь любви, когда луна светла, Береты с перьями, расшитые камзолы, Пиры, езда верхом, смех юности веселой, — А скука вас гнетет. Нужна вам каждый миг Игрушка — ею стал для вас теперь старик. Игрушка сломана, и все ж — клянусь я словом — Сам бог обломками велит швырнуть в лицо вам! За мной!Эрнани
О герцог!Дон Руй Гомес
Нет! Все следуйте за мной! Сеньоры, видно, вам по сердцу смех такой. Здесь есть сокровище — честь девушки невинной, Честь женщины, и в ней честь всей семьи старинной. Племянницу свою люблю я, и она Сменить свое кольцо моим кольцом должна. Она нежна, чиста, достойна уваженья. И что ж! Едва на миг покину я владенья, — Руй Гомес, герцог, граф де Сильва, — как уж вор Бесчестит мой очаг, готовит мне позор. Назад, бездушные! Ведь ваших рук касанье Позорит наших жен!.. Я поли негодованья. Скажите, чем еще прельщает вас мой дом?(Срывает с груди золотую цепь.)
Глумитесь, хохоча, над Золотым руном!(Срывает шляпу.)
Седины рвите мне и смейтесь надо мною, Хвалитесь завтра же пред уличной толпою, Что из насильников презренных ни один Не осквернил еще нигде таких седин.Донья Соль
О герцог!Дон Руй Гомес
(слугам)
Все сюда! На помощь! Что ж вы стали? Секиру мне, кинжал, клинок толедской стали!(Обоим юношам.)
За мной!Дон Карлос
(выступая вперед)
О герцог, нас иные ждут дела. Смерть императора от нас отозвала. Максимилиана нет[425], властитель мертв германский.Дон Руй Гомес
Смеетесь вы?Дон Карлос отбрасывает плащ и открывает лицо, спрятанное под шляпой.
Король!Донья Соль
Король!Эрнани
(с горящими глазами)
Король испанский!Дон Карлос
(с достоинством)
Да, Карлос я. А ты — о, как ты бледен стал!(К дон Руй Гомесу.)
Мой дед венчанный мертв. Едва лишь я узнал О том, как тотчас же, не тратя ни мгновенья, Я поспешил к тебе спросить совета, мненья, В ночи, тайком от всех, чтоб знать никто не мог. Так просто все, и нет причины для тревог.Дон Руй Гомес знаком отсылает слуг. Он приближается к дон Карлосу. Донья Соль смотрит на короля со страхом и удивлением. Эрнани, держась в отдалении, не спускает с нею сверкающих глаз.
Дон Руй Гомес
Зачем же сразу дверь мне не была открыта?Дон Карлос
Зачем? Но ведь с тобой явилась эта свита. Я тайных от тебя, мой граф, искал услуг И делать не хотел их достояньем слуг.Дон Руй Гомес
Простите, мой король… Ваш вид…Дон Карлос
Исполнен веры, Назначил я тебя правителем Фигеры. Кого ж прикажешь мне поставить над тобой?Дон Руй Гомес
Простите…Дон Карлос
Хорошо, порыв прощаю твой. Да, император мертв.Дон Руй Гомес
Вы деда потеряли Любимого…Дон Карлос
О да, исполнен я печали.Дон Руй Гомес
Преемник кто?Дон Карлос
Франциск[426] хотел бы стать им. Но Саксонский герцог в спор уж с ним вступил давно.Дон Руй Гомес
Где ж избиратели сойдутся для решенья?Дон Карлос
Во Франкфурт съедутся, иль в Ахен, без сомненья. Иль в Шпейер.Дон Руй Гомес
Мой король! Мечтали ль вы когда Об императорской короне?Дон Карлос
О, всегда!Дон Руй Гомес
За вами все права.Дон Карлос
Я знаю.Дон Руй Гомес
Ваш родитель Великим герцогом австрийским был. Правитель Империи, ваш дед, для вас оставил трон, Когда пурпурный плащ сменил на саван он.Дон Карлос
Я Гента гражданин[427].Дон Руй Гомес
Когда я был моложе, Я деда вашего не раз встречал. О боже, Как быстро век прошел! Как пусто все кругом! Все императорской дышало властью в нем.Дон Карлос
Рим за меня!Дон Руй Гомес
Был тверд, не зная дум тиранских, И крепко голову нес на плечах германских.(Преклонив колено, целует руку короля.)
Но как мне жалко вас! Так деда потерять!Дон Карлос
А папа хочет взять Сицилию опять. Сицилии нельзя имперским стать владеньем! Чтоб он не обошел меня благословеньем, Я возвращу ему Неаполь, а потом Посмотрим, сладит ли он с царственным орлом!Дон Руй Гомес
С какою радостью, став ветераном трона, Ваш дед увидел бы, как к вам идет корона. Он императором — все плачем мы над ним! — Был христианнейшим, великим и простым.Дон Карлос
Святой отец хитер. Сицилия? Пустое! Подвесок, островок, забытый средь прибоя, Лоскут, притянутый на ниточке живой К Испании моей и все же ей чужой. «Зачем, дражайший сын, вам остров тот горбатый? Он на империи казался бы заплатой. Чтоб он не портил вид — его мы отстрижем». «Пусть так, святой отец, но только дело в том, Что из кусков таких, когда господь поможет, Прибавлю я земли к империи, быть может, Чтоб там, где у меня соседи вырвут клок, Я этим островом дыру заштопать мог».Дон Руй Гомес
Утешьтесь, государь! Ваш дед — в селеньях рая, Где он предстанет нам, весь святостью сияя.Дон Карлос
Король Франциск упрям, лукав, честолюбив. Максимилиана нет — и ждет он, устремив Взор на империю. Чего он ищет страстно? Иль мало для него и Франции прекрасной? Сказал Людовику мой дед на склоне дней[428]: «Будь я сам бог-отец, имей двух сыновей, Мой старший стал бы бог, меньшой — король французский!»(Герцогу.)
Отважится ль Франциск пойти тропою узкой!Дон Руй Гомес
Он многих побеждал.Дон Карлос
Порядок здесь иной: По булле, избранным не может быть чужой[429].Дон Руй Гомес
Как сын Испании, вы тоже недостойны.Дон Карлос
Я Гента гражданин!Дон Руй Гомес
Как показали войны, Король Франциск велик и мужествен в бою.Дон Карлос
Я жду — орел слетит на голову мою И крылья развернет!Дон Руй Гомес
Латинских фраз убранство Вам ведомо, король?Дон Карлос
Не очень.Дон Руй Гомес
Но дворянство В Германии весьма заботится о нем.Дон Карлос
Я обойдусь одним испанским языком. Когда ведущий речь глядит вперед отважно, Его наречие, поверь, не так уж важно. Спешу во Фландрию! Мой друг, корона нам Имперская нужна. Король французский сам Стремится к ней. Но я опережу все сроки. Итак, не медля — в путь!Дон Руй Гомес
Но можно ль в путь далекий Лететь, когда у нас в горах со всех сторон Столь дерзостным кишит разбоем Арагон?Дон Карлос
Я Аркосу велю рассеять эту банду.Дон Руй Гомес
Велите заодно принять его команду И атаману их…Дон Карлос
Но кто же он такой?Дон Руй Гомес
Не знаю. Говорят, умен и тверд душой.Дон Карлос
Пустое! Рыщет он по галисийским скалам, И справиться бы с ним я мог отрядом малым.Дон Руй Гомес
Так ложен слух о том, что где-то близко он?Дон Карлос
О да! Сегодня мне ты дашь приют.Дон Руй Гомес
Польщен И горд.(Зовет слуг.)
Мой гость — король! Чтоб все готово было!Входят слуги с факелами. Герцог приказывает им стать в два ряда до двери в глубине сцены. В это время донья Соль медленно подходит к Эрнани. Король следит за ними.
Донья Соль
(тихо, к Эрнани)
Так завтра, под окном и в полночь, о мой милый! Сигнал — тройной удар.Эрнани
(тихо)
Да, завтра.Дон Карлос
(в сторону)
Завтра, да!(Громко, донье Соль, к которой он с галантностью идет навстречу.)
Сеньора, провожать готов я вас всегда.(Доводит ее до двери.)
Донья Соль выходит.
Эрнани
(поднося руку к рукояти кинжала, спрятанного у него на груди)
О добрый мой клинок!Дон Карлос
(возвращаясь, говорит сам с собой)
Он прежней полн отваги.(Отводит Эрнани в сторону.)
Я оказал вам честь, коснувшись вашей шпаги. Мне подозрительны, сеньор, ваш вид и речь. Но я, король, хочу обманом пренебречь. Спасайтесь. Вы моим неведеньем укрыты.Дон Руй Гомес
(возвращаясь и указывая на Эрнани)
Кто это?Дон Карлос
Спутник мой. Из королевской свиты.Выходят в сопровождении слуг с факелами. Герцог предшествует королю со свечой в руке.
Явление четвертое
Эрнани
(один)
Из свиты короля? Ты прав. Да будет так! Я стану день и ночь следить твой каждый шаг. В руке зажав кинжал, пойду, как пес, по следу. Мой род твой гонит род, предчувствуя победу. К тому же ты теперь соперник мой. Лишь миг — Любовь иль ненависть? — вопрос во мне возник, Но с доньей Соль тебя вместить душа не может. В любви забыл я гнев, который сердце гложет; И если сам о нем напомнил ты — изволь, Я буду помнить все, что нужно мне, король. Мне к твердому пора переходить решенью. Пусть на весах любовь даст перевес отмщенью. Из свиты я твоей? Ты прав, властитель мой, О, ни один слуга, хранящий твой покой, Приспешник дворянин, угодливый придворный, Бесстыдный льстец, лакей, до низости покорный, Дворцовый верный пес, бредущий по пятам, Не будет так служить, как я служил бы сам! Что нужно от тебя дворянам двух Кастилий? Чтоб дали титул им, гремушку нацепили, Из золота овцу — благоволенья знак! Мне мало этого, я не такой простак. Нужна мне от тебя не эта честь пустая — Нужны душа и плоть, вся кровь твоя живая, Все то, что бешеный я мстительный кинжал, Ворочаясь в груди, из глубины б достал. Спеши! Я вслед пойду. Недаром голос мести Мне шепчет на ухо: мы всюду будем вместе. Иди! Я за тобой. Весь — зренье, слух, я сам Скольжу, за шагом шаг, неслышно по пятам. Ты на пирах своих, все вкруг окинув взглядом, Узнаешь тень мою таинственную рядом, А ночью, о король, раскрыв глаза, не раз Увидишь над собой свет неотступных глаз.(Выходит через потайную дверь.)
Действие второе РАЗБОЙНИК
Сарагоса. Двор перед домом Сильвы. Налево высокие стены дворца с окном, выходящим на балкон. Под окном небольшая дверь. Направо, в глубине, дома и улицы. Ночь. Тут и там на фасадах строений редкие освещенные окна.
Явление первое
Дон Карлос; дон Санчо Санчес де Суньига, граф де Монтерей; дон Матиас Сентурион, маркиз д’Альмуньян; дон Рикардо де Рохас, граф де Касапальма. Они входят все четверо, с дон Карлосом во главе. Шляпы опущены на глаза. Все закутаны в длинные плащи, полы которых приподняты шпагой.
Дон Карлос
(разглядывая балкон)
Вот дверь, балкон… И мне уже покоя нет.(Указывая на неосвещенное окно.)
Там все еще темно.(Поглядывает на другие, освещенные окна.)
Повсюду в окнах свет, Где мне не нужен он; а где всего нужнее — Там нет его!Дон Санчо
Король, докончим о злодее. И вы позволили ему уйти?Дон Карлос
Что в том?Дон Матиас
Он у разбойников был, верно, вожаком?Дон Карлос
О, кто бы ни был он — их вождь иль подчиненный, — Как будто сам король, стоял он непреклонный.Дон Санчо
Зовут его?Дон Карлос
(устремив взор на окно)
Фернан… Нет, «и» в конце стоит.Дон Санчо
Эрнани?Дон Карлос
Да.Дон Санчо
То он!Дон Матиас
Эрнани! И бандит И вождь.Дон Санчо
(королю)
Что говорил он, вихрем чувств объятый?Дон Карлос
(не спуская глаз с окна)
Не знаю. Слушать мне мешал тот шкаф проклятый.Дон Санчо
Зачем же он ушел, коль был в руках у вас?Дон Карлос
(горделиво оборачивается и смотрит ему в лицо)
Вы короля спросить осмелились сейчас?Оба придворных молча отступают.
К тому ж мечты мои в ином вращались круге: Я думал не о нем, а о его подруге. Я так в нее влюблен! Глаза ее — лучи; Два зеркала, друзья; два факела в ночи. Из повести любви я слышал два-три слова: «Я жду вас завтра, в час безмолвия ночного». Но это — главное. Я прямо восхищен! Когда разбойник сам, земной презрев закон, Грабительствует здесь, как то вошло в привычку, Бесшумно из гнезда я похищаю птичку.Дон Рикардо
Вам следует, король, чтоб дело завершить, Голубку взять себе, а коршуна убить.Дон Карлос
(дону Рикардо)
Совет достойный, граф. Но много ль вы хотите?Дон Рикардо
(отвешивает глубокий поклон)
Когда я граф уже, что мне еще дадите?Дон Санчо
(живо)
То шутка.Дон Рикардо
(дону Санчо)
Графом был я назван.Дон Карлос
(дону Санчо)
Вы опять!(Дону Рикардо.)
Да! Титул к вам упал. Вы можете поднять.Дон Рикардо
(кланяясь снова)
Благодарю.Дон Санчо
(дон Матиасу)
Ах, граф! Поистине нежданный…Король прогуливается в глубине, с нетерпением посматривая на освещенные окна. Оба придворных беседуют на авансцене.
Дон Матиас
(дону Санчо)
Что сделает король с голубкою желанной?Дон Санчо
(недоброжелательно взглянув на дон Матиаса)
Графини титул даст, украсит ею двор; И будет сын ее — король.Дон Матиас
С каких же пор Побочный сын — король? Мой милый граф, доныне Не знал я королей, рожденных от графини.Дон Санчо
Но будет ей тогда маркизы титул дан.Дон Матиас
Побочных сыновей хранят для чуждых стран — Как вице-королей. И в том их назначенье.Дон Карлос выходит на авансцену.
Дон Карлос
(бросая гневный взгляд на все освещенные окна)
Глядят, как будто мы внушаем подозренье. О, наконец-то два погасли! В добрый час. Как время тянется мучительно для нас! Когда бы шло оно поспешными шагами!Дон Санчо
Вот так мы ждем всегда пред вашими дверями.Дон Карлос
И так томить народ у вас заведено.Последнее освещенное окно гаснет.
Погас последний свет.(Поворачивается к балкону доньи Соль, все еще погруженному во мрак.)
Проклятое окно! Когда же вспыхнешь ты? Ведь все покрыто тьмою. О донья Соль, явись сияющей звездою!(Дону Рикардо.)
Уж полночь.Дон Рикардо
Полночь, да.Дон Карлос
Нам надобно спешить. Другой уже идет; он близко, может быть.Окно доньи Соль освещается. Видно, как тень проходит по озаренным окнам.
Эй, факел мне, друзья! В окошке вижу тень я. О, никогда я так не ждал зари рожденья! Пора. Дадим сигнал, который ждет она: Тройной удар рукой. Сейчас вы у окна Увидите ее. Но сборище такое Внушить ей может страх. Уйдите в тень все трое, Следите за другим. Влюбленных мы, друзья, Разделим. Вам — бандит, мне — дама. Речь моя Ясна?Дон Рикардо
О да.Дон Карлос
Коль он придет, вы из засады Кольните шпагою в начале серенады. Пока очнется он, вздыхая глубоко, Я даму унесу, мы будем далеко. Щадите жизнь его. Он юноша отважный. К тому ж убийство — грех, и грех, конечно, важный.Оба сеньора, кланяясь, уходят. Дон Карлос смотрит им вслед; затем ударяет в ладоши, выдерживая паузы. При втором ударе окно растворяется, и донья Соль, в белом, выходит на балкон.
Явление второе
Дон Карлос, донья Соль.
Донья Соль
(на балконе)
Эрнани, это вы?Дон Карлос
(в сторону)
О дьявол! Буду нем!(Снова ударяет в ладоши.)
Донья Соль
Сейчас.(Закрывает окно, в котором гаснет свет; немного погодя открывается маленькая дверь, и со светильником в руке появляется донья Соль. На ее плечах плащ.)
Эрнани!Дон Карлос надвигает шляпу на глаза и быстро направляется к ней. Донья Соль роняет светильник.
Нет, и шаг не тот совсем.(Хочет уйти обратно. Дон Карлос, подбежав, хватает ее за руку.)
Дон Карлос
О донья Соль!Донья Соль
Чужой и голос. О несчастье!Дон Карлос
Где голос ты найдешь, такой согретый страстью? Влюбленный пред тобой. Влюбленный — и король.Донья Соль
Король!Дон Карлос
Тебе весь мир отдам я, донья Соль! Не отвергай меня; ведь я, в любви безмерной, Король — властитель твой, и Карлос — раб твой верный.Донья Соль
(пытаясь вырваться из его объятий)
Эрнани! Помоги!Дон Карлос
Забудь напрасный страх. Не у бандита ты — у короля в руках.Донья Соль
Разбойник — это вы: подобны вы злодею. Ах, я за вас сейчас, о государь, краснею, Так это — подвигов бессмертные лучи: Похитить женщину насилием в ночи? Он лучше во сто крат. Когда б по божьей воле Здесь по достоинству распределялись роли, Иначе бы судьба сплетала свой узор: Эрнани был бы принц, а вы, король мой, — вор.Дон Карлос
(пытаясь ее обнять)
Сеньора!Донья Соль
Мой отец был графом, вы забыли.Дон Карлос
Я дам вам герцогство.Донья Соль
(отталкивая его)
Когда б скромней вы были!(Отступая назад.)
Что может общего, дон Карлос, быть у нас? Отец мой проливал нередко кровь за вас, И стать любовницей с той кровью чистой, алой Нельзя мне; а ее для королевы — мало.Дон Карлос
Принцесса!..Донья Соль
О король! Несите тем, чей род Уже лишен всего, и пыл свой и почет, Меня ж вы не должны преследовать упрямо. Не только женщина для вас я, но и дама.Дон Карлос
Делите имя, трон со мною много лет; Супругой будьте мне, императрицей…Донья Соль
Нет! Меня не соблазнить. Скажу вам без обмана(Пришлось бы все узнать вам поздно или рано) —
Люблю Эрнани я. Что почести и трон? Жизнь кочевую с ним, грозящий нам закон, И голод, и нужду, и долгие скитанья, Опасность что ни шаг, лишения, страданья, Изгнание, войну, тревогу нищих дней Не отдала бы я за пурпур королей.Дон Карлос
О, как он счастлив!Донья Соль
Он? Бедняк, беглец, гонимый!Дон Карлос
Беглец и нищий — да, но вами столь любимый! Я одинок. А он — с ним ангел каждый час. Вам ненавистен я?Донья Соль
Да, не люблю я вас.Дон Карлос
(хватает ее грубо)
Прекрасно. Любите иль нет — мне безразлично. Идем. Принудить вас сумею я отлично. Идем. Я так хочу. Иль даром, наконец, Ношу я Индии, Испании венец?Донья Соль
(отбиваясь)
О, сжальтесь же, сеньор! Вы так велики ныне, Вы наш король; и вам маркизы, герцогини Готовы всем служить. Среди придворных дам Захочет каждая любовь доверить вам. Удел же беглеца — гоненья и насилье. У вас есть Арагон, Наварра и Кастилья, Леон и Мурсия с десятком областей, Вся Фландрия, весь мир индийский средь морей. Дерзнуть на вас — никто отваги не находит. Средь стран, подвластных вам, и солнце не заходит. Так неужель у вас поднимется рука Отнять последнее, что есть, у бедняка?(Кидается на колени; он пытается увлечь ее за собой.)
Дон Карлос
Идем, идем со мной одной дорогой в мире. Из всех Испаний ты — их у меня четыре, — Что хочешь, выбирай![430]Она пытается вырваться из его объятий.
Донья Соль
Чтоб этот смыть позор, Одно у вас хочу я взять: кинжал, сеньор!(Хватает его поясной кинжал. Он выпускает ее и отшатывается.)
Приблизьтесь! Хоть на шаг!Дон Карлос
Так вот вы как? Прекрасно! Недаром любите мятежника вы страстно.(Хочет сделать шаг; она заносит кинжал.)
Донья Соль
Сначала вас убью, потом себя.Он снова отступает. Она оборачивается.
Сюда, Эрнани!Дон Карлос
Замолчи!Донья Соль
(с поднятым кинжалом)
Рука моя тверда.Дон Карлос
Сеньора, не снесу упрямство я такое. Чтобы заставить вас, со мной еще здесь трое.Эрнани
(внезапно появляясь за его спиной)
Забыли одного!Король оборачивается и видит Эрнани, стоящего за ним в тени, со скрещенными руками под длинным плащом, в широкополой шляпе, не скрывающей лица. Донья Соль вскрикивает, бежит к Эрнани и заключает его в объятия.
Явление третье
Дон Карлос, донья Соль, Эрнани.
Эрнани
(недвижный, со скрещенными руками, устремив на короля сверкающий взор)
Хотел бы, — знает бог, — Увидеть я его не здесь, у ваших ног.Донья Соль
Спасите от него!Эрнани
Не бойтесь, дорогая, Я здесь.Дон Карлос
Но где ж друзья? Где стража городская? Пустить разбойника, врага страны моей!(Зовет.)
Сеньоры, где вы?Эрнани
Где? В руках моих друзей. Чем могут вам помочь бессильные три шпаги? На трех — нас шестьдесят, исполненных отваги, И всех вас четырех один заменит мой. Так лучше спор вдвоем нам кончить меж собой. Вы эту девушку насильно взять решили, Неосторожны вы, сеньор король Кастилий, И подлы!Дон Карлос
(презрительно улыбаясь)
Слушайте, не вам, сеньор бандит, Учить меня!Эрнани
Ого! Какой сердитый вид! Я не король, но я, услышав оскорбленье, От гнева вровень с ним расту в одно мгновенье, И краска на моем челе тогда страшней, Чем перья и гербы на шлемах королей. Напрасно вас сейчас надежда обольщает.(Хватает его за руку.)
Да знаете ли вы, кто руку вам сжимает? Отец ваш моего казнил былой порой. Я ненавижу вас — вы взяли титул мой! Я ненавижу вас — одну мы любим оба! Я ненавижу вас, я вас кляну до гроба!Дон Карлос
Прекрасно.Эрнани
Но сейчас моя умолкла месть. В душе один порыв, одно желанье есть — То донья Соль. Ее одну ищу — и что же? На похищение здесь наглое похоже! Я здесь увидел вас. Вы на моем пути. Опасней вам, сеньор, минуты не найти. Дон Карлос, схвачен ты — и в собственной засаде. Где помощь? Как бежать? Ты здесь, в моей ограде, Один, — и выходы врагами заперты. Что делать?Дон Карлос
(надменно)
Спрашивать меня дерзаешь ты?Эрнани
Ну что ж, я не хочу быть мстителем безвестным! Да завершится месть ударом смелым, честным. И жизнь свою лишь мне ты одному отдашь. Готовься!(Выхватывает шпагу.)
Дон Карлос
Я король, я повелитель ваш. Удар, но не дуэль,Эрнани
Сеньор, вот это славно! Забыл ты, что клинки скрестили мы недавно?Дон Карлос
Вы правы. Я тогда не знал, как вас зовут; Не знали вы, кто я. Теперь — напрасный труд. Вы знаете меня, я — вас, и превосходно.Эрнани
Допустим.Дон Карлос
Не дуэль. Разите, коль угодно.Эрнани
Нет, имя короля меня не бросит в дрожь. Готов к защите ты?Дон Карлос
Ну убивайте. Что ж? Иль думаете вы, разбойничьи отряды, Что можно в городах вам грабить без пощады?Эрнани отшатывается. Дон Карлос устремляет на него орлиный взгляд.
Что вас, отмеченных убийством, грабежом, Мы честными людьми отныне назовем? Что, жертвы низости, по вызову отваги Клинки мы освятим ударом нашей шпаги? Нет! Вы преступники, и кровь вас всех гнетет. Дуэль вам не к лицу. Убейте так… Вперед!Эрнани в мрачной задумчивости трогает эфес своей шпаги, потом внезапно оборачивается к королю и ломает клинок о камень.
Эрнани
Иди!Король поворачивается к нему вполоборота и бросает на него надменный взгляд.
Ждет встреча нас когда-нибудь другая. Иди!Дон Карлос
Что ж! Возвращусь, минуты не теряя, Законный ваш король, я в герцогский дворец И правосудию отдам вас наконец. Вы вне закона?Эрнани
Да.Дон Карлос
Я так и знал. Прекрасно. Отныне вы мне враг, мятежный и опасный. Предупреждаю: вас не пощадит закон; Я в черный список вас внесу.Эрнани
Я уж внесен Давно.Дон Карлос
Прекрасно!Эрнани
Я уйду из стран испанских Во Францию.Дон Карлос
Но я — с короною германской — Империи врагом сочту вас.Эрнани
Что мне в том? Мир остальной широк, и я свободен в нем. Есть много мест, где ты достать меня не в силах.Дон Карлос
Мир будет весь моим…Эрнани
Тогда исход — могила.Дон Карлос
Мятеж я раздавлю — и мне не страшен враг.Эрнани
Хромает часто месть; у ней неспешный шаг, Но все ж она идет.Дон Карлос
(с презрительной усмешкой)
Ну и красотка! Счастье Разбойник ей сулит!Эрнани
(снова с загоревшимся взором)
В моей ты все же власти! О кесарь будущий, сейчас ты слаб и хил, — Зачем напоминать, что я тебя схватил, Что стоит только мне зажать кулак свой дерзкий, Чтоб был убит в яйце и твой орел имперский?Дон Карлос
Попробуй.Эрнани
Уходи!(Снимает плащ и набрасывает его на плечи короля.)
Беги в плаще моем; Иначе, я боюсь, тебя пырнут ножом. Король заворачивается в плащ. Спокойно уходи. Я отложил отмщенье. В других, но не во мне найдешь ты уваженье.Дон Карлос
Так говорить со мной посмели вы, сеньор, Что не дождаться вам пощады с этих пор!(Уходит.)
Явление четвертое
Эрнани, донья Соль.
Донья Соль
(берет Эрнани за руку)
Теперь бежим скорей!Эрнани
(ласково ее отстраняя)
Нам надобно, подруга, В несчастии его покрепче верить в друга И не идти назад, а быть во всем сродни Душе его и с ней сплетать до смерти дни, — Вот мысль, достойная того, кто чист душою. Но, видит бог, чтоб жить мне радостью такою, Чтоб унести, сокрыть в пещере средь ветвей Красу, которая пленяет королей, Чтоб донья Соль ушла со мной, была моею, Чтоб взять у ней всю жизнь, свою судьбу слить с нею, Безжалостно увлечь на путь нужды, забот, — Нет больше времени. Уж близок эшафот!Донья Соль
Что слышу я?Эрнани
Король, принявший оскорбленье, Сейчас придет платить мне карой за прощенье. Он во дворце уже; сейчас он, о мой друг, Зовет приспешников, сбирает стражу, слуг, Придворных, палачей…Донья Соль
Эрнани! В этом месте Нельзя вам больше быть. Бежим скорее вместе!Эрнани
Как вместе? Никогда! Бежать уж поздно нам. О донья Соль! Когда предстала ты очам — Вся счастье, доброта и вся любви сиянье, — Я мог еще тебе, бедняк, чья жизнь — изгнанье, Дать горы, лес, ручьи и разделить с тобой Свой хлеб изгнанника, приют убогий свой — Из молодого мха и свежих веток ложе… Но страшный эшафот делить с тобой! О боже! Он — мне лишь одному.Донья Соль
Но вместе быть всегда Вы обещали мне.Эрнани
(падая на колени)
Мой ангел! В час, когда К нам смерть уже идет и близится упорно Развязка мрачная судьбы, такой же черной, — Рожденный в горести бедняк, чья колыбель — В крови, кто светлых дней еще не знал досель, Чья жизнь — глухая ночь, я сам в минуты эти Скажу, что никого счастливей нет на свете, Затем, что вами я любим, что жребий мой, Презренный, проклятый, почтили вы слезой.Донья Соль
(склоняясь к нему)
Эрнани!Эрнани
Мой удел благословен отныне; Он мне явил цветок над пропастью в стремнине.(Поднимается.)
Не только вам одной сказал все это я, — Внимает в небе мне предвечный судия.Донья Соль
Возьми меня с собой.Эрнани
Но это преступленье — Сорвав цветок, увлечь его с собой в паденье. Я им дышал хоть миг — и счастлив был судьбой. Другому жизнь отдай, надломленную мной. Будь старику женой. Не льщусь мечтой ревнивой. Я возвращаюсь в ночь. Забудь — и стань счастливой.Донья Соль
Нет, я пойду с тобой — среди лесов, стремнин Делить твою судьбу.Эрнани
(сжимая ее в объятиях)
Пусть я уйду один.(Судорожным движением вырывается из ее объятий.)
Донья Соль
(горестно всплескивая руками)
Эрнани, ты бежишь? О, горе одинокой! Отдать всю жизнь — и быть отвергнутой жестоко И после всей любви и горести такой Блаженства не иметь хоть умереть с тобой!Эрнани
Я изгнан, осужден! Я обречен судьбою…Донья Соль
Как бессердечны вы!Эрнани
(возвращаясь)
Я остаюсь с тобою. Ты хочешь этого? Я здесь. Иди сюда! Я остаюсь с тобой — надолго, навсегда. Забудем все.(Садится на каменную скамью.)
Присядь на этот камень белый. Слепят меня очей твоих горящих стрелы. О, спой мне песенку, что пела ты порой, Когда твой черный взгляд в ночи сверкал слезой! Мы будем счастливы. Полна до края чаша. Забудем все вокруг; минута эта — наша. О, говори, мой друг! Ведь так приятно нам Любить и всей душой внимать любви словам — Вдвоем, вдали от всех. Какое обаянье — В безмолвии ночном внимать любви признанья! Здесь, на твоей груди, я так забыться рад… О счастье! О любовь, о донья Соль!Звон дальних колоколов.
Донья Соль
(в ужасе встает)
Набат! Ты слышишь? Там набат!Эрнани
(все еще на коленях)
Как! Он тебя тревожит? То свадьбы нашей звон.Колокольный звон усиливается. Смутный гул; факелы и свечи во всех окнах, на всех крышах, во всех улицах.
Донья Соль
Вставай, беги! О боже! Вся Сарагоса здесь!Эрнани
(слегка приподнимаясь)
То факелы в честь нас.Донья Соль
То свадьба средь могил. То свадьба в смертный час.Лязг оружия, крики.
Эрнани
(садясь на каменную скамью)
Заснем.Горец
(вбегая со шпагой в руке)
Сеньор! Сеньор! Там сбиры и алькады. Во весь опор летят на площадь кавалькады. Спасайтесь, господин!Эрнани встает.
Донья Соль
(бледнея)
О да, беги во тьму!Горец
На помощь!Эрнани
(горцу)
Я готов. Прекрасно.Глухие голоса за сценой
Смерть ему!Эрнани
(горцу)
Дай шпагу!(Донье Соль.)
Ну, прощай.Донья Соль
Ах, я всему виною! Куда же ты?(Показывая на маленькую дверь.)
Идем. Я здесь тебя укрою.Эрнани
Как! А мои друзья?Шум и крики.
Донья Соль
Любимый! Жизнь моя! Мне страшно.(Удерживая Эрнани.)
Коль умрешь, умру с тобой и я.Эрнани
(держа ее в объятиях)
Дай поцелуй.Донья Соль
Мой муж! Эрнани мой! О боже!Эрнани
(целует ее в лоб)
Наш первый поцелуй.Донья Соль
Последний он, быть может.Эрнани убегает. Донья Соль опускается на скамью.
Действие третье СТАРИК
Замок де Сильвы в горах Арагона. Фамильная портретная галерея. Большой зал, украшенный портретами в пышных рамах, с герцогскими коронами и позолоченными гербами. В глубине высокая готическая дверь. В простенках между портретами набор оружия различных веков.
Явление первое
Донья Соль, в белом, стоит у стола, дон Руй Гомес де Сильва сидит в высоком герцогском кресле, сделанном из дуба.
Дон Руй Гомес
Сегодня наконец! Сегодня, в час ночной, Не дядя я, а муж, о герцогиня, твой. Ведь я прощен? Я был неправ перед тобою; Я заставлял тебя бледнеть, краснеть порою; Я слишком был ревнив и на сужденья скор, — Ведь опровергнуть ты могла мой приговор. О, как обманчив глаз! Как мы несправедливы! Пускай я видел сам тех юношей счастливых, — Что в том? Не должен был я верить и глазам. Но что поделаешь? Уж слишком стар я сам.Донья Соль
(спокойно и надменно)
Оставьте! Вам никто не делает упрека.Дон Руй Гомес
Нет, все же я неправ. С такой душой высокой Измены не таят. Я знаю, донья Соль, Что в жилах у тебя испанской крови соль.Донья Соль
О да, та кровь всегда чиста и благородна: Все убедятся в том.Дон Руй Гомес
(встает и подходит к ней)
Послушай. Не свободна Душа моя, когда в тебя я так влюблен На склоне дней. Я зол, ревнив — таков закон, — И красота в других и юности цветенье Мне причиняют страх, внушают подозренье. Завидуя другим, я сам стыжусь порой. Судьба — насмешница: в любви, уже седой, Но жгущей сердце нам столь пламенно и смело, Наш дух и юн и свеж, хотя бессильно тело. Пред юным пастухом, — покуда мы идем, Он с песней звонкою, я с сумрачным челом, Он в зелени лугов, я в темном старом парке, — Я говорю себе: о, что все башни, арки Владений герцогских? Я б тотчас отдал их, Как и свои поля с дубами рощ густых, Свои стада овец, бредущие в долины, Свой титул, древний род и все свои руины, Всех предков доблестных из рода моего — За домик пастуха, за молодость его. Он в смоляных кудрях, и взор его так ясен, Похож на твой; и ты сказала б: «Он прекрасен». Что думать обо мне? Я стар уж — что скрывать! Хотя и Сильва я, чем стал бы я пленять? Все это ясно мне. Вот видишь, как люблю я! Весь мир я отдал бы за молодость такую. Напрасные мечты! Мне — свежесть юных сил? Нет, раньше я, чем ты, приду в страну могил.Донья Соль
Кто знает?..Дон Руй Гомес
И поверь — все эти кавалеры Являют не любовь, не сердце, а манеры. Полюбит девушка такого всей душой, — Ей — смерть, ему же смех. Их пестрокрылый рой Напоминает птиц окраской, воркованьем, Любовью, как перо, подверженной линяньям. Пускай у стариков сил меньше, взор темней, — Надежней их крыло и лучше, хоть тусклей. Мы любим преданно. Что тяжкий шаг, седины? Чело изрыто, но на сердце нет морщины. Но коль старик влюблен, щади его любовь! У сердца нет седин, и в нем живая кровь. О нет, любовь моя не искрится, играя, Как бусы из стекла, — в ней сила есть иная: Отцовство, дружба, честь; и сам я тверд душой, Как кресел дедовских тяжелый дуб резной. Я так тебя люблю! Душой, к тебе летящей, Люблю, как любят день, на небо восходящий, Как любят нежность роз, как любят звезд чертог. С тобою быть все дни, ловить след милых ног, Узреть чело твое и взгляда совершенство — Вот счастье для меня, вот вечное блаженство!Донья Соль
Увы!Дон Руй Гомес
К тому же мир обычай чтит такой: Оканчивая жизнь, старик полуживой, Уже склонившийся над мрамором могилы, С невинным ангелом, с голубкой сизокрылой, Остаток делит дней, и бодрствует она Над жалкой старостью, что в ночь идти должна. Вот благородный долг, вот дело высшей чести, Прямой порыв, когда, живя со старцем вместе, Шлешь утешение ему на склоне дней, Быть может, без любви, но всей душой своей. О, будь мне ангелом с душою девы нежной, Чтоб я, старик, свой пыл, отныне безнадежный, Остаток жалких дней мог разделить с тобой — Как с нежной дочерью, как с любящей сестрой.Донья Соль
Не знаю, кто из нас скорей придет к могиле, Сеньор; и не всегда, покорны юной силе, Мы жить хотим. Увы! Так часто говорят: Здесь медлят старики, а юные спешат. И угасает взор, глубокой тьмой покрытый, Как темный ров могил, что придавили плиты.Дон Руй Гомес
О мысли мрачные! К чему на сердце тень, Дитя, в такой святой, такой веселый день? Но время все течет. Мы говорим час целый, А вам уже пора одеться для капеллы. Скорей! Где ваш убор? Теряю счет часам. Где свадебный наряд?Донья Соль
Что торопиться нам?Дон Руй Гомес
Пора!Входит паж.
Что скажешь, паж?Паж
Сеньор, стучит в ворота Какой-то пилигрим, иль нищий, или кто-то Другой, прося впустить.Дон Руй Гомес
О, кто бы ни был он, Приносит счастье гость, от бури огражден. Впустить его! Скажи, что нового на свете? Где вождь разбойников, занявший чащи эти, Наполнивший страну столь дерзким мятежом?Паж
Эрнани? С тем, кого зовем мы горным львом, Покончено!Донья Соль
(в сторону)
Мой бог!Дон Руй Гомес
(пажу)
Как?Паж
Одержал победу Король. За ним сейчас он сам спешит по следу. Оценен в тысячу эскудо он; и я Уверен — он убит.Донья Соль
(в сторону)
Он умер без меня, Эрнани!..Дон Руй Гомес
Умер он? О дева пресвятая! Отныне счастье к нам приходит, дорогая. Где светлый ваш убор? Как счастлив я, как рад! Двойное празднество.Донья Соль
(в сторону)
О траурный наряд!(Выходит.)
Дон Руй Гомес
(пажу)
Снеси ей мой ларец, мой дар души влюбленной.(Вновь опускается в свое кресло.)
Пускай нарядною предстанет, как мадонна, Чтоб спорил взор ее с убором дорогим И чтоб в восторге пал пред нею пилигрим… Там, кстати, ждет один, войти сюда не смея, — Вели его впустить, проси сюда скорее!Паж кланяется и выходит.
Заставить гостя ждать — нехорошо.Дверь в глубине открывается. Входит Эрнани, переодетый пилигримом. Герцог встает и идет ему навстречу.
Явление второе
Эрнани останавливается на пороге.
Дон Руй Гомес
Сеньор…Эрнани
Мир дому вашему!Дон Руй Гомес
(делая приветственный жест)
Ты гость мой с этих пор. Привет!Эрнани проходит. Герцог садится.
Ты пилигрим?Эрнани
(кланяясь)
Да.Дон Руй Гомес
Шел ты, без сомненья, Через Армильяс?Эрнани
Нет, не в этом направленье. Там бой кипит сейчас.Дон Руй Гомес
С мятежниками бой, Не правда ль?Эрнани
Может быть.Дон Руй Гомес
Эрнани, их герой… Что сталось с ним, тебе известно?Эрнани
Нет. Он кто же?Дон Руй Гомес
Его не знаешь ты? Тем хуже. Не похоже, Чтоб ты награду взял. Эрнани — это тот Мятежник, чья вина давно возмездья ждет. В Мадриде будет он, увидишь сам, качаться.Эрнани
Я не туда.Дон Руй Гомес
А он мог каждому достаться.Эрнани
(в сторону)
Посмотрим.Дон Руй Гомес
Но куда ты держишь путь?Эрнани
Сеньор, Я в Сарагосу путь держу.Дон Руй Гомес
В святой собор? Иль по обету в храм к мадонне?Эрнани
Да, к мадонне.Дон Руй Гомес
Пиларской?Эрнани
Да.Дон Руй Гомес
Кого такой обет не тронет?.. Обещанное мы должны отдать святым. А после занят ты намереньем каким? Увидеть трон ее — вот все твои желанья?Эрнани
Да, видеть я хочу священных свеч пыланье, Мадонну, в глубине, под сводами колонн, Ее златой венец, ее слепящий трон, А после я вернусь.Дон Руй Гомес
Скажи мне имя, званье. Я — Руй де Сильва.Эрнани
(колеблясь)
Но…Дон Руй Гомес
Ну что ж, храни молчанье, Коль хочешь. Здесь никто не спросит, как зовут. Ночлега ищешь ты?Эрнани
Да, герцог.Дон Руй Гомес
Будь же тут Как дома. Мир с тобой. Не должен ты смущаться. А что до имени, то «гостем» будешь зваться. О, кто бы ни был ты, переступи порог: И дьявол — гость, когда его нам шлет сам бог.В глубине распахивается двустворчатая дверь. Входит донья Соль, в свадебном наряде. Сзади нее пажи, слуги и две прислужницы, несущие на бархатной подушке серебряный чеканный ларец, который они ставят на стол. В ларце — драгоценности: герцогская корона, браслеты, жемчуг вперемежку с бриллиантами. Эрнани, пораженный, почти задыхающийся, смотрит горящими глазами на донью Соль, не слушая, что говорит герцог.
Явление третье
Те же, донья Соль, пажи, слуги, прислужницы.
Дон Руй Гомес
(продолжая)
Моя мадонна здесь. Склонись в мольбе пред нею — И счастье обретешь.(Предлагает руку донье Соль, по-прежнему бледной и задумчивой.)
О нежный друг, скорее Идем! Но где ж кольцо, венок цветов живых?..Эрнани
(громовым голосом)
Кто тысячу монет взять хочет золотых?Все в изумлении оборачиваются. Он разрывает балахон пилигрима, бросает его к ногам и предстает пред всеми в наряде горца.
Эрнани я!Донья Соль
(в сторону, радостно)
Он жив!Эрнани
(слугам)
Я тот, кого повсюду Вы ищете…(Герцогу.)
А вы уж думали, что буду Я Дьего звать себя? Эрнани — имя мне! Изгнанник я — и нет почетнее в стране Другого имени. Вот голова, какою Вам можно оплатить свой пир. Я много стою!(Слугам.)
Я вам ее дарю. Для вас — богатство в ней. Вяжите руки мне, вяжите поскорей. Иль нет, — к чему? — меня уж вяжет цепь другая Навек…Донья Соль
(в сторону)
О боже мой!Дон Руй Гомес
О дева пресвятая, Мой гость сошел с ума!Эрнани
Ваш гость — разбойник, враг!Донья Соль
Не слушайте его!Эрнани
Поверьте, это так!Дон Руй Гомес
Как! Тысяча монет? Такая сумма!.. Боже… Ручаться мне нельзя за слуг моих…Эрнани
Так что же? Тем лучше, хоть один найдется пусть средь них.(Слугам.)
Продайте же меня.Дон Руй Гомес
(пытаясь принудить его к молчанию)
Молчите. Слов таких Не должно слышать им.Эрнани
Друзья, вот случай верный: Изгнанник я, бунтарь, разбойник беспримерный, — Эрнани!Дон Руй Гомес
Замолчи!Эрнани
Эрнани!Донья Соль
(слабеющим голосом шепчет ему)
Замолчи!Эрнани
(вполоборота к донье Соль)
Здесь свадьба! Но и я хочу своей свечи. Меня невеста ждет.(Герцогу.)
Она не так прекрасна, Как ваша, но меня она все ж любит страстно; И Смерть зовут ее.(Слугам.)
Скорее! Что же вы?Донья Соль
(тихо)
О небо!Эрнани
(слугам)
Золото — оценка головы.Дон Руй Гомес
Он — дьявол!Эрнани
(молодому слуге)
Эй, сюда! Вот золото, с которым Из жалкого слуги ты можешь стать сеньором.(К слугам, которые медлят.)
Ну что ж? Дрожите вы? О, как мне не везет!Дон Руй Гомес
Брат! Тронувший тебя сам от меня падет. Пусть сам Эрнани ты, пусть полон ты коварства И пусть за жизнь твою нам предлагают царство, — Ты все-таки мой гость. Тебя хранит мой дом От Карла самого — ведь ты мне дан творцом. За жизнь твою себя отдам я на закланье…(Донье Соль.)
Племянница моя, уж близок час венчанья, — Идите же к себе. Чтоб замок крепче стал, Ворота на запор.(Выходит, слуги следуют за ним.)
Эрнани
(с отчаянием смотрит на свой лишенный оружия пояс)
О, если б хоть кинжал!После ухода герцога донья Соль делает несколько шагов, чтобы последовать за своими прислужницами, но останавливается и, как только они выходят, с тревогой подходит к Эрнани.
Явление четвертое
Эрнани, донья Соль.
Эрнани останавливает холодный и как бы небрежный взгляд на свадебных драгоценностях, разложенных на столе, затем он покачивает головой, и глаза его загораются.
Эрнани
Я поздравляю вас! Все эти украшенья Внушают мне восторг, приводят в восхищенье!(Подходит к ларцу.)
Прекрасное кольцо — камней так ярок свет, Колье сработано отменно, и браслет Изваян так хитро, — но все же не хитрее, Чем вы, таящая бесчестные затеи!(Снова рассматривает ларец.)
И что ж вы отдали взамен за весь убор? Немножечко любви? Не правда ль, сущий вздор? О боже, так предать! И жить, стыда не зная!(Разглядывая ларец.)
Иль жемчуг тот фальшив, иль то подделка злая, — Медь вместо золота, сапфир, где блеска нет, Брильянты ложные, колец обманный свет? Ах, если это так, — как тот убор, отныне Ты сердцем лжешь своим, как надо герцогине!(Возвращается к ларцу.)
Нет, здесь все подлинно, все — роскоши печать; Одной ногой в гробу, он не посмел бы лгать. Все есть:(перебирает одну за другой драгоценности ларца)
колье, кольцо, алмазные подвески, Корона герцогинь в сиянии и блеске… О, как его любовь почтительна, нежна! Подарку нет цены!Донья Соль
(подходит к ларцу, роется в нем и вынимает кинжал)
Вы не дошли до дна. Кинжал у короля мне помогла мадонна Отнять, когда он мне сулил богатства трона. Неблагодарный! Я отвергла трон для вас.Эрнани
(падая к ее ногам)
К ногам твоим упав, из огорченных глаз Я слезы осушу; я за твои страданья Отдам всю кровь свою и все свое дыханье!Донья Соль
(растроганная)
Эрнани, я люблю, прощаю, я полна Любовью к вам, лишь к вам.Эрнани
Прощает мне она И любит! Кто бы мог, услышав оскорбленья, Подобные моим, мне даровать прощенье? О, как бы я хотел, когда бы только мог, Коснуться, ангел мой, хоть следа милых ног!Донья Соль
Друг!Эрнани
Ненавидеть ты должна меня. Но все же Скажи мне: «Я люблю». Что этих слов дороже Для сердца в горести? Из женских уст порой Лишь слово нужно нам, чтоб вновь ожить душой.Донья Соль
(погруженная в свои мысли, не слушая его)
Считать любовь мою такой непостоянной!.. Ужель уверен он, скиталец безымянный, Что сердце женщины, где он один живет, Лишеньям вместе с ним богатство предпочтет?Эрнани
Увы, я клевещу! И на твоем я месте «Довольно!» — крикнул бы безумцу, в жажде мести Тебя клянущему, — все лишь затем, что он То гневом яростным, то страстью ослеплен. Скажи мне: «Уходи!» Жестока будь со мною — Я все приму затем, что ты нежна душою, Что терпелива ты, что не гнала ты прочь. Я зол, и жизнь твою моя б чернила ночь; Твоя ж душа чиста, дух светел, непокорен, И виновата ль ты, что я так зол и черен? Стань герцога женой! И добр и знатен он, Ольмеда — мать его, он Алькалой рожден. О, будь богата с ним, живи с ним в добром счастье! А я… ты знаешь, друг, что не в моей уж власти Достойно одарить тебя. Что б я принес С собой в приданое? Кровь иль потоки слез, Изгнанье, цепи, смерть, жизнь в страхе, вне закона, — Вот дар мой, вот колье, вот брачная корона! О, ни один супруг не даст жене своей Таких жемчужных бус — из горя и скорбей. Стань старика женой! Он будет горд судьбою. Нет, кто б поверить мог!.. С голубкою такою, Изгнанник, рядом я. И кто бы, видя нас, Тебя — спокойною, меня — в мой грозный час, Тебя — цветок, в ночи безгорестно растущий, Меня — ладью средь скал под бурею ревущей, Сказал, что в этот час дорога нам одна! Прав сотворивший мир: не мне ты суждена. Тебя ль своей судьбе отдам я беспокойной? Душой, что я украл, владеет пусть достойный. Согласья на любовь господь нам не давал. Сказав, что так судьба велела, я солгал. К тому же месть, любовь — окончатся со мною. И вот иду я прочь с двойной своей мечтою: Не в силах ни карать, ни страсть тебе внушить; Для мести призванный, могу я лишь любить. Прости!.. Оставь меня… Вот два моих желанья. Не отвергай их, нет! Я шлю их в миг прощанья. Тебе — вся жизнь, мне — смерть. Не знаю, почему Со мной в могильную идти ты хочешь тьму.Донья Соль
Жестокий!Эрнани
Арагон и ты, Эстремадура! На все, что делаю, судьба взирает хмуро. Я ваших взял сынов, я за себя — увы! — Заставил биться их — и вот они мертвы. То были самые храбрейшие в Кастилье; Они лежат в горах, где пули их сразили, Отважно, на спине, лицом в небесный свод, Чтоб видеть небо вновь, лишь бог их позовет. Вот то, что сделал я тому, кто был со мною. Ужель такого ты пленяешься судьбою? Пусть герцог, пусть сам ад, пусть даже сам король — Все лучше для тебя, чем я… О донья Соль! Нет друга у меня, который мной гордится. Покинут всеми я. Так пусть судьба свершится; Я должен быть один. Оставь меня совсем, Не делай из любви религии. Зачем? Молю тебя, беги! Ты думаешь, быть может, Что я один из тех, кого мечта тревожит, Кто к цели избранной бестрепетно идет? О нет! Я темный рок, я страшных сил полет! Я порождение слепой и мрачной тайны, Я дух, родившийся из тьмы необычайной, Иду невесть куда; и слушать обречен Дыхание стихий, безумных сил закон. Все ниже, ниже путь. Прервать нельзя движенья; А если оглянусь, усталый, на мгновенье, Я слышу вновь: «Иди!» И пропасть так страшна. В ней отсвет крови есть; она озарена Ужасным пламенем; в нее готов упасть я. Все гибнет вкруг меня; я приношу несчастье… Беги же прочь! Сойди с дороги роковой, — Тебе невольно зло я принесу с собой.Донья Соль
О боже!Эрнани
Демон мной владеет, дух постылый. Он всемогущ, но дать мне счастье он не в силах. Ты — счастье: значит, ты — пусть страстью мы горим — Не можешь стать моей. Будь счастлива с другим! О, если бы судьба, в своем стремленье странном, Послала счастье мне! Нет, было б то обманом, Будь герцогу женой.Донья Соль
Иль не довольно вам? Разбили сердце мне и рвете пополам. Нет, вы не любите меня!Эрнани
О дорогая! Ты — тот костер, где я сейчас живу, пылая. Но должен я бежать. О, не вини меня!Донья Соль
Нет, вас я не виню. Но все ж погибну я.Эрнани
Смерть! Смерть из-за меня! Нет, я того не стою, К чему?Донья Соль
(не в силах сдержать рыданья)
Что я могу?(Падает в кресло.)
Эрнани
(садясь возле нее)
Твой взор горит слезою. Я этому виной. И кто мне отомстит? Ведь ты меня простишь? Душа не так болит, Когда в очах твоих я вижу слез дрожанье, Туманящее взор, исполненный сверканья. Мертвы мои друзья. Мне душу полнит мрак. Прости. Хочу любить, и сам не знаю как, И все же я люблю глубоко, всей душою. Не плачь! Давай умрем! Будь целый мир со мною, — Тебе б я дал его! Но я сражен судьбой.Донья Соль
(кидаясь ему на шею)
О, как прекрасен ты, лев благородный мой! Люблю!Эрнани
Когда б любовь, блаженство нам даруя, Могла б и смерть нам дать!Донья Соль
О, как тебя люблю я! Властитель мой! Люблю! Я вся теперь твоя!Эрнани
(припав головой к ее плечу)
С какой бы радостью кинжал твой встретил я!Донья Соль
(умоляющим голосом)
Ах, не боитесь вы, что вас сам бог накажет За эту речь?Эрнани
(прильнув к ее груди)
Ну что ж? Пусть он нас прежде свяжет. Ты хочешь этого? Я сделал все, что мог.В тесных объятиях, они глядят в глаза друг другу, ничего не видя, не слыша, целиком уйдя в созерцание друг друга. Через дверь в глубине входит дон Руй Гомес. Он видит их и, остолбенев, останавливается на пороге.
Явление пятое
Эрнани, донья Соль, дон Руй Гомес.
Дон Руй Гомес
(недвижный, скрестив руки на груди, стоит в дверях)
Так вот кого пустил к себе я на порог!Донья Соль
О небо! Герцог!Оба оборачиваются, как бы пробужденные внезапным толчком.
Дон Руй Гомес
Вот чем платят мне отныне! «Старик, иди взгляни, крепки ль твои твердыни, Ворота заперты ль, на башенных зубцах Стоит ли день и ночь охрана на часах, По росту отыщи себе вооруженье, Подставь свой дряхлый стан под тяготы сраженья — Сполна оплатится доверчивость твоя, И то, что ты мне дал, верну с избытком я». О небо! Я шестой десяток доживаю; Что значит бешенство разбойников — я знаю; Не раз ночной порой, свой выхватив клинок, Я в бегство обратить бродяг полночных мог; Убийц, изменников с собой я видел рядом И слуг, хозяину несущих кубок с ядом, И тех, кто без молитв предсмертных умирал; Знал Борджа, Сфорцу я и Лютера встречал, — Но все ж такого я не видел преступленья[431]: Здесь гость хозяину наносит оскорбленье! Был не таков мой век. Такой измены вид Вдруг старца ужасом в дверях окаменит, И он, под тяжестью ужасного страданья, Как надмогильное застынет изваянье. Испанцы, мавры! Как такой злодей живет!(Поднимает глаза и обводит взором висящие по стенам портреты.)
О Сильва, слушайте! О доблестный мой род! Прости, что пред тобой я, гневом ослепленный, Гостеприимства мог на миг забыть законы.Эрнани
(поднимаясь)
О герцог!Дон Руй Гомес
Замолчи!(Делает три шага вперед и разглядывает поочередно все портреты рода Сильва.)
Вы, предки! Прям ваш взгляд; Вам небо видимо, и знаете вы ад. Скажите, кто же он, тот человек, — откуда? То не Эрнани, нет: предатель он, Иуда! О, дайте наконец, я вас молю, ответ!(Скрестив руки на груди.)
Могло ль подобное случиться с вами? Нет!Эрнани
О герцог!Дон Руй Гомес
(по-прежнему обращаясь к портретам)
Видите? Он говорит, бесчестный! Что замышляет он, о предки, вам известно, — Не слушайте его. Обманщик он и ждет, Что кровь рука моя в своем жилье прольет, Что я таю в груди, забыв веленья чести, Как в день семи голов[432], одну лишь жажду мести. Себя изгнанником сочтя, меня опять Не Сильва — Ларою осмелится он звать. Он скажет, что он гость и мой и ваш, сеньоры… О предки! Гневные не отвращайте взоры, Но рассудите нас.Эрнани
О Сильва! Коль могло Столь благородное явиться нам чело, Столь сердце чистое, ум смелый и глубокий, Так это вы, сеньор, хозяин мой высокий! Я, говорящий здесь, виновен, я смущен. Что я могу сказать, когда я осужден? Да, я хотел украсть жену твою, — о боже! — Бесчестьем запятнать твое хотел я ложе. Всю кровь, что есть во мне, — пролей ее клинком И, осушив его, не думай ни о чем.Донья Соль
Виновна я, не он! Лишь мне готовьте мщенье!Эрнани
Молчите, донья Соль! Вот лучшее мгновенье. Оно мое, мое! Нельзя его отнять. Я должен герцогу здесь многое сказать. О герцог, в смертный час я клятвою старинной Клянусь: виновен я, а донья Соль невинна. Вот все. Виновен я, она чиста! Ты б мог Вернуть доверье ей, мне — в грудь вонзить клинок. Да, можешь бросить ты в дверях мой труп кровавый И вымыть пол. Пусть так! Ведь ты имеешь право.Донья Соль
Ах, я всему виной. Люблю его…Дон Руй Гомес, вздрогнув, оборачивается и вперяет в донью Соль ужасающий взгляд. Она бросается к его ногам.
Он мой! Да, я люблю его.Дон Руй Гомес
Вы любите?(К Эрнани.)
Постой!Звук рожков за сценой. Входит паж.
Что там за шум?Паж
Сеньор, то сам король с толпою Несметною стрелков, при нем герольд с трубою.Донья Соль
Король! Удар судьбы!Паж
(герцогу)
Спросил он, почему Ворота заперты.Дон Руй Гомес
Король? Открыть ему!Паж, поклонившись, выходит.
Донья Соль
Погиб он!Дон Руй Гомес подходит к раме одного из портретов — своего собственного, — который висит с края налево, и нажимает пружину. Портрет поворачивается, как дверь, и обнаруживает тайник, находящийся за ним в стене. Затем герцог оборачивается к Эрнани.
Дон Руй Гомес
Спрячься здесь скорей.Эрнани
Моей судьбою Теперь владеешь ты. И этой головою. Я пленник твой.(Входит в тайник.)
Дон Руй Гомес снова нажимает пружину, и портрет возвращается на прежнее место.
Донья Соль
Молю за жизнь его, сеньор!Паж
(входя)
Его величество король!Донья Соль быстро опускает вуаль. Двери распахиваются настежь. Входит дон Карлос в военной одежде, сопровождаемый толпою дворян, вооруженных, как и он. За ними солдаты с протазанами, аркебузами и арбалетами.
Явление шестое
Дон Руй Гомес, донья Соль под вуалью, дон Карлос, свита.
Дон Карлос приближается медленными шагами; левая рука его на эфесе шпаги, правая — на груди. Он устремляет на старого герцога взгляд, полный подозрения и гнева. Герцог идет к нему навстречу и приветствует его глубоким поклоном. Молчание. Все ждут, охваченные ужасом. Наконец король, подойдя вплотную к герцогу, быстро поднимает голову.
Дон Карлос
С каких же пор, Кузен мой, вход сюда ты держишь загражденным? Клянусь, давно считал я меч твой притупленным И в час, когда к тебе я шел, не ожидал Найти в руках твоих сверкающий кинжал!Дон Руй Гомес хочет говорить; король продолжает, сделав повелительный жест.
Не странно ли гореть столь юношеским пылом? В тюрбанах, что ли, мы? Зовусь я Боабдилом Иль Магометом, да? Зачем, скажи мне, ты Решетку опустил и поднял все мосты?Дон Руй Гомес
(склоняясь перед ним)
Сеньор…Дон Карлос
(своим дворянам)
Забрав ключи, займите все проходы!Два офицера выходят. Несколько других устанавливают солдат в три ряда по залу от короля до главного входа. Дон Карлос оборачивается к герцогу.
А! Воскресили вы былых восстаний годы? Так, герцог мой, себя ведете вы со мной? Ну что ж, я, как король, ответ вам дам прямой. Я горы перейду и сам, закован в латы, Дворянство задушу средь гнезд его зубчатых.Дон Руй Гомес
(выпрямляясь)
Король, тебе верны все Сильва…Дон Карлос
(прерывая его)
Что хитрить? Ответь, иль башни я велю — все десять — срыть. Костер погашен — да, но искра догорает. Бандиты умерли — вождь жив. Его скрывает Де Сильва, герцог мой. Эрнани, дерзкий вор, Мятежник, — у тебя, здесь, в замке?Дон Руй Гомес
О сеньор, То правда.Дон Карлос
Хорошо. И головой своею Ответит он иль ты!Дон Руй Гомес
Я возражать не смею. Пусть будет так.Донья Соль закрывает лицо руками и падает в кресло.
Дон Карлос
(смягченный)
Готов на жертву ты? Вперед! Ищите пленника.Герцог, скрестив руки, опускает голову и некоторое время остается погруженным в раздумье. Король и донья Соль молча наблюдают за ним, обуреваемые противоположными чувствами. Наконец герцог поднимает голову, идет к королю и, взяв за руку, медленными шагами подводит его к самому древнему из портретов, которым начинается их ряд, справа от зрителя.
Дон Руй Гомес
(показывая королю на старый портрет)
Из рода Сильва вот — Старейший, пращур мой, герой, большое имя. Дон Сильвий, тот, что был три раза консул в Риме.(Переходя к следующему портрету.)
Вот здесь дон Гальсеран де Сильва — Сид второй! В соборе Торо он, в гробнице золотой; Средь тысячи свечей горит над ним корона. От подати в сто дев он спас народ Леона.(Идет дальше.)
Дон Блас, что сам себя изгнал во цвете лет За то, что королю неправый дал совет.(Идет дальше.)
Кристобаль. В битвы час, когда под Эскалоной Дон Санчо, наш король, чей шлем, столь оперенный, Приманкой был врагам, сказал: «Спаси меня!» — Он шлем его надел и дал ему коня.(Идет дальше.)
Дон Хорхе. Выкупил когда-то из неволи Рамиро-короля.Дон Карлос
(скрестив руки, оглядывает его с головы до ног)
Дивлюсь я вам все боле, Дон Руй!Дон Руй Гомес
(идет дальше)
Вот Гомес Руй. В делах он вознесен. Сант-Яго был магистр и Калатравы он[433]. Кто тяжесть вынес бы его вооружений? Он триста взял знамен, он триста вел сражений. Он трону подарил Монтриль, Хаэн, Суэц И умер в нищете. Склонитесь наконец!(Отвешивает поклон.)
Король слушает его с возрастающим нетерпением и гневом.
Хиль, сын его, с душой и верной и суровой: Всех королевских слов его надежней слово.(Идет дальше.)
Гаспар! Мендосы кровь и Сильвы слились в нем. Со всем дворянством мы соседствуем родством. Страшась нас, Сандоваль не раз роднился с нами; Манрике, Лара нам завидуют веками, И враг наш Аленкастр. Наш род пятой своей Уперся в герцогов, главою — в королей.Дон Карлос
Вы насмехаетесь.Дон Руй Гомес
(переходя к следующим портретам)
Дон Васкес, прозван — Умный. Дон Хайме — Сильный, тот, что в храбрости безумной Замета с маврами сдержал своей рукой. Но я иду к другим, и лучшим.(Заметив гневный жест короля, пропускает ряд портретов и переходит к трем последним, слева от зрителей.)
Прадед мой! Жил шесть десятков лет, держать умея слово, Хотя бы дал жиду…(Подходит к предпоследнему.)
Вот старика седого Портрет — то мой отец. Герой последний он. Когда был маврами захвачен граф Хирон, Шестьсот взяв воинов, отважный и суровый, Он поскакал вослед, чтоб с друга сбить оковы. Из камня изваять Хирона он велел И взял его с собой и средь враждебных стрел Клялся не отступать, покуда этот камень Чела не отвратит, не дрогнет пред врагами. Он бился, победил, из плена друга спас.Дон Карлос
Мой пленник!Дон Руй Гомес
С ним наш род высокий не угас. Все скажут: «Вот они, герои поколений, Де Сильва, храбрецы!»Дон Карлос
Скорее! Где мой пленник!Дон Руй Гомес низко склоняется перед королем, берет его за руку и подводит к последнему портрету, который служит дверью в тайник, где скрыт Эрнани. Донья Соль следит за герцогом взором, исполненным тревоги. Присутствующие молча ждут.
Дон Руй Гомес
Вот мой портрет. Король, благодарю вас. Вы Хотите, чтоб он стал посмешищем молвы? «Изменник был рожден высокою семьею, И гостя своего он продал с головою!»Радость доньи Соль. Движение среди присутствующих. Король удаляется в гневе. Но вдруг останавливается и несколько мгновений остается погруженным в молчание: губы его дрожат, взгляд пылает.
Дон Карлос
Твой замок гнусен мне, и он пойдет на слом!Дон Руй Гомес
Но буду я за все вознагражден потом.Дон Карлос
Велю я башни срыть в знак королевской мести, И станет конопля расти на этом месте.Дон Руй Гомес
Пусть лучше коноплей покроется оно, Чем мне на имени своем носить пятно.(К портретам.)
Не правда ль, предки?Дон Карлос
Ты ответить головою Мне, герцог, обещал…Дон Руй Гомес
Иль той, или другою.(К портретам.)
Не правда ль, предки?(Показывая на свою голову.)
Вот вам голова моя.(Королю.)
Возьмите!Дон Карлос
Хорошо. Но все ж обманут я. Мне нужно голову иную, молодую, Чтоб мертвой взять ее за кудри. А такую?.. Палач напрасно бы волос на ней искал: Для пятерни его ты слишком гладок стал.Дон Руй Гомес
Молчите, о король! Честь ею не забыта. Она ценней для вас, чем голова бандита. Вам Сильва не нужны? С каких же это пор?Дон Карлос
Отдай Эрнани нам!Дон Руй Гомес
По совести, сеньор, Нет!Дон Карлос
(своей свите)
Обыщите всё! Все башни, закоулки, Подвалы, погреба.Дон Руй Гомес
Но камень замка гулкий Надежен, как я сам. И нам двоим позволь Ту тайну ото всех хранить.Дон Карлос
Я твой король!Дон Руй Гомес
Пусть станет замок мой добычей разрушенья, — Я смерть в нем обрету, но не скажу.Дон Карлос
Моленья Напрасны. Где бандит? Ты хочешь, чтоб отнял Я голову твою и замок?Дон Руй Гомес
Я сказал.Дон Карлос
Мне не одна уже нужна теперь, а обе.(К герцогу Алькала.)
Возьмите герцога!Донья Соль
(сорвав с себя вуаль, бросается между королем, герцогом и стражей)
Король, в столь дикой злобе Вы отвратительны!Дон Карлос
Что вижу? Донья Соль?Донья Соль
Нет, не испанское в вас сердце, мой король.Дон Карлос
(смущенный)
Не слишком ли сейчас вы к королю суровы?(Приближается к донье Соль, тихо.)
Сюда я из-за вас пришел, на все готовый. От вас один мне путь — иль в ад, иль к небесам. Когда не любят нас, легко стать злыми нам! Когда бы только взор ко мне вы устремили, Великим бы я стал, я стал бы львом Кастильи! Но в тигра превратил меня ваш дерзкий гнев: Молчите — это тигр ревет, рассвирепев.Донья Соль бросает на него взгляд. Он отвешивает поклон.
Но все ж покорен я!(Обращаясь к герцогу.)
Тебя, кузен, я знаю: Велений чести я в тебе не отвергаю. Будь верен гостю ты, неверен королю. Я лучше: я тебе прощение дарю. Невесту только я возьму себе залогом.Дон Руй Гомес
Да? Только?Донья Соль
(пораженная)
Как, меня?Дон Карлос
Да, вас!Дон Руй Гомес
Ну что ж, не много! Вот милость высшая! Вот благородства путь! Он голову щадит, но мне терзает грудь. Прощенье!Дон Карлос
Выбирай меж нею и злодеем. Одно из двух.Дон Руй Гомес
Король, мы возражать не смеем.Карлос приближается к донье Соль и хочет ее увести с собой. Она ищет защиты у дон Руй Гомеса.
Донья Соль
Спасите, о сеньор!(Останавливается, про себя.)
Ах, как несчастна я! Кровь дяди, кровь его… Нет, может быть, моя!(Королю.)
Иду за вами вслед.Дон Карлос
(в сторону)
Да, мысль была прекрасна! И прекословить мне она уже не властна!Донья Соль медленными шагами подходит к ларцу, где спрятаны ее драгоценности, и, открыв его, берет оттуда кинжал, который прячет у себя на груди. Дон Карлос подходит к ней и предлагает руку.
Дон Карлос
(донье Соль)
Что взяли вы?Донья Соль
Пустяк.Дон Карлос
Кольцо или браслет?Донья Соль
Да.Дон Карлос
(улыбаясь)
Я узнаю.Донья Соль
Да.(Подает ему руку и готовится следовать за ним.)
Дон Руй Гомес, остававшийся, по-видимому, погруженным в свои мысли, оборачивается и делает несколько шагов.
Дон Руй Гомес
Земля! Небесный свет! Как бессердечен он, властитель мой надменный! На помощь! Рушьте всё! Рассыпьтесь прахом, стены!(Подбегает к королю.)
Оставьте мне ее! Я ею жив одной!Дон Карлос
(отпускает руку доньи Соль)
Так выдай пленника!Герцог опускает голову, словно во власти ужасной нерешительности; затем он поднимает взор к портретам и простирает к ним руки.
Дон Руй Гомес
О, сжальтесь надо мной!(Делает шаг к тайнику.)
Донья Соль с тревогой следит за ним взглядом. Он обращается к портретам.
И не смотрите так. Я подойти не смею.(Подходит, шатаясь, к своему портрету, затем еще раз оборачивается к королю.)
Ты хочешь?Дон Карлос
Да!Герцог протягивает дрожащую руку к пружине.
Донья Соль
Ах!Дон Руй Гомес
Нет!(Бросается на колени перед королем)
Я жизни не жалею.Дон Карлос
Ее!Дон Руй Гомес
(поднимаясь)
Возьми ж ее! Все лучше, чем позор.Дон Карлос
(берет за руку дрожащую донью Соль)
Прощай.Дон Руй Гомес
Мы свидимся…(Провожает взглядом короля, который медленно уходит с доньей Соль; затем кладет руку на рукоять своего кинжала.)
Храни вас бог, сеньор!(Возвращается на авансцену задыхаясь, ничего не видя и не слыша. Взор его устремлен в пространство, руки скрещены на груди, которая судорожно вздымается.)
Король выходит с доньей Соль, и вся свита следует за ним попарно, торжественно, каждый соответственно своему рангу. Выходящие вельможи обмениваются тихими словами.
Дон Руй Гомес
(в сторону)
Король, уходишь ты, лицо твое сияет; И верность грудь мою отныне покидает.(Поднимает глаза, оглядывается по сторонам и видит, что остался один. Подбегает к стене, снимает две висящие там шпаги, сравнивает их длину и кладет на стол. Сделав это, возвращается к портрету и нажимает пружину. Тайник открывается.)
Явление седьмое
Дон Руй Гомес, Эрнани.
Дон Руй Гомес
Ну!Эрнани появляется в дверях тайника. Дон Руй Гомес указывает ему на две шпаги, лежащие на столе.
Выбирай! Король уже покинул дом, Пора с тобою нам поговорить вдвоем. Бери! И поскорей! Иль взять рука страшится?Эрнани
Дуэль? Нет, не могу, старик, с тобою биться.Дон Руй Гомес
Вот как? Боишься ты? Не ровня мне? Мой бог! Что в том? Противника, с клинком скрестив клинок, Я равным делаю, весь гневом пламенея.Эрнани
Старик…Дон Руй Гомес
Убей меня иль сам умри скорее!Эрнани
Умру. Ты спас меня — и жизнь свою, мой враг, Я отдаю тебе. Возьми ее…Дон Руй Гомес
Ах, так?(К портретам.)
Он хочет смерти сам.(К Эрнани.)
Молись без промедленья.Эрнани
Тебе я шлю сейчас последнее моленье!Дон Руй Гомес
Шли небу.Эрнани
Нет, тебе! Я жизнь тебе отдал. Рази! Все хорошо — меч, шпага иль кинжал! Но сжалься над душой несчастною моею — Пред тем как я умру, дай повидаться с нею!Дон Руй Гомес
С ней повидаться?Эрнани
Да, услышать в смертный час Хоть голос доньи Соль — увы, в последний раз!Дон Руй Гомес
Ее услышать?Эрнани
Да. Ревнуешь ты, я знаю. Послушай, жизнь моя уже подходит к краю. Прости. Когда нельзя увидеть мне ее, Услышать дай, — и я уйду в небытие. Лишь голос услыхать! Пойми мое желанье. С какою радостью я испущу дыханье, Когда моя душа, которой жизни нет, Ее души в очах увидит нежный свет. Ни слова не скажу я, верь, твоей невесте. Убей меня потом.Дон Руй Гомес
(показывая на тайник с еще открытой дверью)
О небо! В этом месте, Которое всегда так глухо, так мертво, Ужель не слышал ты?..Эрнани
Не слышал ничего.Дон Руй Гомес
Тебя или ее хотел взять тот, кто губит…Эрнани
Кто ж взял ее?Дон Руй Гомес
Король.Эрнани
Старик, ее он любит!Дон Руй Гомес
Как!Эрнани
Он ее увез! Он — враг и нам и ей.Дон Руй Гомес
Проклятие! Вперед! Вассалы! На коней! В погоню!Эрнани
Хочешь ты догнать скорей злодея? Но юности рука найдет его вернее. Я твой. Я отдал жизнь тебе, старик. Позволь Отмстить за честь твою, отмстить за донью Соль. Есть право у меня делить твое отмщенье — У ног твоих молю на это разрешенья. Поскачем вслед за ним. Я — твой и меч и нож. Дай мстить мне за тебя. Потом меня убьешь.Дон Руй Гомес
Потом, что захочу, я сделаю с тобою?Эрнани
Да!Дон Руй Гомес
Чем клянешься ты?Эрнани
Отцовской головою.Дон Руй Гомес
А вспомнить это все захочешь ли ты сам?Эрнани
(протягивая ему рог, который он снимает со своего пояса)
Послушай, вот мой рог. Что б ни предстало нам, Когда б ты ни решил, в каком бы ни был месте, Раз день уже настал для этой страшной мести, Для гибели моей — труби в мой рог тотчас. Я твой.Дон Руй Гомес
(протягивает ему руку)
Дай руку мне.Они обмениваются рукопожатием.
(Обращается к портретам.)
Все слышали вы нас!Действие четвертое ГРОБНИЦА. AXEH
Подземелье гробницы Карла Великого в Ахене. Высокие ломбардские своды. Широкие и низкие колонны с романскими арками и капителями из цветов и птиц. Направо гробница Карла Великого с маленькой полукруглой бронзовой дверью. Единственный светильник, подвешенный к замку свода, освещает надпись: «Karolus Magnus»[434]. Ночь. Глубины подземелья не видно. Взор теряется в сводах, лестницах, колоннах, тонущих во мраке.
Явление первое
Дон Карлос; дон Рикардо де Рохас, граф де Касапальма, с фонарем в руке. Длинные плащи, шляпы с опущенными полями.
Дон Рикардо
(со шляпой в руке)
Здесь!Дон Карлос
Лиги сборища проходят в этом месте! Здесь всех их в кулаке держать я буду вместе. Что ж, трирский выборщик, в пещере столь глухой Ты место лиге дал? Удачен выбор твой! Всем гнусным замыслам нужны свои подвалы; Над плитами всегда легко точить кинжалы. Большая ждет игра. В ней ставка — жизнь моя[435]. Убийцы! Чья возьмет — еще не знаю я. Для дела гнусного под кровом черной ночи Прекрасно выбран склеп. Вам — к смерти путь короче.(Дону Рикардо.)
Далёко ли идет подземный этот ход?Дон Рикардо
До самой крепости.Дон Карлос
Нам, кажется, везет.Дон Рикардо
С другой же стороны примкнул он к церкви старой, — Зовется Альтенгейм.Дон Карлос
Рудольф убил Лотара В том месте. Лиги цель должна мне быть ясна. Какие у тебя есть в списке имена?Дон Рикардо
Есть Гота.Дон Карлос
Знаю я, о чем он так хлопочет: Он императором германца видеть хочет.Дон Рикардо
И Гогенбург.Дон Карлос
А он — клянусь своей душой! — С Франциском хочет ад, отвергнув рай со мной!Дон Рикардо
Дон Хиль Тельес Хирон.Дон Карлос
Кастилия и Дева! Изменник! Моего не избежит он гнева!Дон Рикардо
Есть слух, что у жены застал вас как-то он В тот день, когда он сам испанский стал барон. Чтоб отомстить за честь, собрал он всю отвагу.Дон Карлос
И на Испанию не медля поднял шпагу. Кто в списке есть еще?Дон Рикардо
С другими занесен Епископ Васкес. Там один из первых он.Дон Карлос
Что ж, тоже за жену он захотел отмщенья?Дон Рикардо
Есть Лара, дон Гусман; он жаждал награжденья — Был вами обойден.Дон Карлос
Цепь знака моего На горло хочет он? Дадим ему его.Дон Рикардо
Есть герцог Люцельбург. Он грезит дни и ночи…Дон Карлос
Его столь длинный рост мы сделаем короче.Дон Рикардо
Есть Аро — хочет он Асторгу,Дон Карлос
Сто чертей! Все Аро делались добычей палачей!Дон Рикардо
Всё.Дон Карлос
Тут недостает… Граф, перечти скорее, Ты назвал семь голов. Мой счет куда полнее. Я только купленных бандитов не назвал Из Трира, Франции…Дон Карлос
Бродяги, чей кинжал, Готовый засверкать столь мстительно и колко, Влечется к золоту, как к полюсу иголка!Дон Рикардо
Но двое новых есть; отвага в них видна И дерзость: молодой и старый.Дон Карлос
Имена?Дон Рикардо недоуменно пожимает плечами.
А возраст?Дон Рикардо
Двадцать лет тому, кто юн.Дон Карлос
О боже!Дон Рикардо
А старцу — шестьдесят.Дон Карлос
Один еще не дожил, Другой свой прожил век. Ну что же? Я хочу Помочь обязанность исполнить палачу. Изменников щадить не хочет меч мой правый: Всегда на смену он придет секире ржавой. Он императорский мой пурпур отсечет, Чтоб пышной мантией украсить эшафот. Но буду ль избран я?Дон Рикардо
Совет свое сужденье Выносит в этот час.Дон Карлос
Я полн недоуменья. Франциск ли, Фридрих ли Саксонский, что лукав И прозван Мудрецом? Пожалуй, Лютер прав: Все к худшему идет. О делатели славы! Лишь злата доводы ваш любит род лукавый! Саксонец — еретик, граф Палатинский глуп, А примас[436] Трира зол и на разврат не скуп. Богемец — за меня и гессенские принцы; Но все они малы, как земли их провинций. О, молодых глупцов и старцев злых совет! Короны? Много их. Но головы? Их нет. Пигмеи! Ваш совет, где мудрость вся иссякла, Я мог бы завязать в свой львиный плащ Геракла! А если пурпур снять, то в каждом короле Не больше разума, чем в жалком Трибуле[437]. Три голоса нужны мне, друг мой! Как приманку, Я отдал бы свой Гент, Толедо, Саламанку За три их голоса. Ты видишь, друг, готов Я ради этих трех мне нужных голосов Дать часть из Фландрии, одну из двух Кастилий, — Но только чтоб назад мы их потом отбили!Дон Рикардо отвешивает королю глубокий поклон и надевает шляпу.
Как! Шляпу ты надел?Дон Рикардо
Я назван был на «ты»[438] —(снова кланяясь)
Я стал испанский гранд.Дон Карлос
(в сторону)
О жалкие мечты! Тщеславье, пустота! Продажные отродья! Им все бы выгода, грядущие угодья! На лестницах моих не стоит ничего Им крошки подбирать величья моего!(Задумывается.)
Бог, император? Да. Святой отец? Признаю. Но герцог?.. Но король какой-то?..Дон Рикардо
Полагаю, Что вашу светлость ждет избранье.Дон Карлос
(в сторону)
Светлость — я? Мне не везет ни в чем. Всё в сане короля.Дон Рикардо
(в сторону)
Он избран или нет — я все же гранд испанский.Дон Карлос
Но как узнаем мы, кто властелин германский? Каких сигналов ждать нам с башенных вершин?Дон Рикардо
Ждать пушечной пальбы. Саксонский — залп один; Два выстрела — Франциск; три — Карлоса избранье.Дон Карлос
О, эта донья Соль! Души моей страданье! Коль изберут меня — скажите ей скорей. Быть может, цезарем и я понравлюсь ей!Дон Рикардо
(улыбаясь)
Король, вы так добры!Дон Карлос
(надменно его обрывая)
А ты молчи до срока! Я не сказал того, что я таю глубоко. Когда узнаем мы решенье?Дон Рикардо
До зари; Ждать час, не более.Дон Карлос
Три голоса! Лишь три! Но дерзкий заговор раздавим мы сначала, А там решим, как мне та мантия пристала.(Считает по пальцам и топает ногой.)
Три голоса нужны! И есть они у них! Агриппа все расчел. Среди светил ночных Тринадцать ярких звезд в небесном океане Плывут к моей звезде, ей радуясь заране. Имперский троп за мной! Слух все же разнесен: Франциску Жан Тритем[439] предрек такой же трон. О, я бы предпочел, коль впрямь я трона стою, Оружьем подкрепить пророчество такое! Все предсказания столь тонких мудрецов Верней находят цель без всяких лишних слов, Лишь только армия, где пушки есть и пики, Пехота, всадники, фанфары, трубы, клики, Указывает путь хромающей судьбе И бабкой служит ей в предродовой борьбе. Так кто же прав из них: Тритем или Корнелий? Лишь тот, кто с армией идет упорно к цели, Кто правоту свою оружием крепит, Кому помочь готов ландскнехт или бандит, — Вот те, что выпрямить должны ошибки рока, Кроя события по прихоти пророка. Несчастные глупцы! Надменно взор подняв, Стремясь к владычеству, они твердят: я прав! У них есть пушек строй, чье дымное дыханье Способно города снести до основанья, Солдаты, корабли, — и вы убеждены: Они свое возьмут насилием войны. О нет! Покорные земных судеб закону, Что к пропасти скорей приводит нас, чем к трону, Они, чуть сделав шаг, сомнения рабы, Пытаясь разгадать намеренья судьбы, Не верят уж себе и в странном колебанье Искать у колдуна стремятся указанья!(Дону Рикардо.)
Иди. Моих врагов сейчас назначен сбор. Да, ключ от склепа где?Дон Рикардо
(передавая ключ королю)
Подумайте, сеньор, О графе Лимбургском, начальнике охраны. Он дал мне этот ключ, он ваш сторонник рьяный.Дон Карлос
(отпуская его)
Иди же, сделай все, что сказано.Дон Рикардо
(кланяясь)
Всегда Готов я вам служить.Дон Карлос
Три раза выстрел? Да?Дон Рикардо кланяется и уходит. Дон Карлос, оставшись один, погружается в глубокую задумчивость. Руки его скрещены на груди, голова опущена; затем он выпрямляется и подходит к гробнице.
Явление второе
Дон Карлос, один.
Дон Карлос
Прости, великий Карл! Средь сводов одиноких Есть место лишь для слов суровых и высоких. С негодованием ты б слушал над собой Докучных наших фраз честолюбивый строй. Великий Карл, ты здесь! Как мрачная гробница, Величием твоим полна, не разлетится? Ты в самом деле здесь, привыкший созидать! О, как ты можешь здесь во весь свой рост лежать? Какое зрелище — Европа, что тобою Оставлена такой могучей и большою! Она — как здание, где наверху стоят Лишь два избранника, царей поправших ряд. Все страны, герцогства, все царства, маркизаты Идут из рода в род и по наследству взяты. Народ же цезаря творит и папу сам, А случай к случаю ведет их по векам. Вот равновесие, вот что порядком стало. Плащ избирателя и пурпур кардинала, Священный сей синклит, причина всех тревог, — Лишь видимость одна, а миром правит бог. В потребности времен рождается идея: Она растет, живет, все строя, всем владея, Вот — человек она, сердца к себе влечет, И в страхе короли ей зажимают рот; Вот — входит в их конклав, сенат или собранье, И видят короли — не знавшая признанья, Она царит уже, она растет во мгле С державою в руке, с тиарой на челе. Да, цезарь с папой — всё. Да, всё, что есть на свете, — Иль в них, иль через них. И в полном тайны свете Стоят они; и бог, по милости своей, Обрек их пиршеству народы и царей, За стол их усадил под полным грома небом, Чтоб целый мир служить им мог насущным хлебом. Вдвоем сидят они; в их власти шар земной, Они порядок в нем блюдут своей косой. Всё — им. И короли в дверях, полны смущенья, Вдыхают запах блюд, глядят на угощенья И, зависти полны к тому, что видят тут, Чтоб лучше разглядеть, на цыпочки встают. Под ними мир лежит, как лестница крутая. Один царит, рубя, другой — лишь разрушая. Власть — первый, истина — второй. И заключен Смысл жизни только в них. Они — себе закон. Когда идут — равны, едины в мире целом, Один весь в пурпуре, другой в покрове белом. Так цезарь с папою — две части божества. Со страхом шар земной приемлет их права. Быть императором! Как близко чую власть я! А вдруг не суждено мне стать им? О несчастье! Да, как он счастлив был, здесь спящий человек! И как он был велик — в прекрасный давний век! Власть императора и папы нерушима. Они превыше всех. Живут в них оба Рима[440]. Таинственный союз их вяжет меж собой; Они слепили мир и стали в нем душой. Народы и царей расплавив, как в горниле, Европу новую они для нас отлили, Прибавив в этот сплав могуществом своим Ту бронзу, что векам оставил Древний. Рим. Завидная судьба! И все ж — конец, могила! К какой же малости пришла вся эта сила! Быть императором, быть принцем, королем, Законом быть земли и быть ее мечом, В Германии стоять гигантом, слыша клики, Быть новым Цезарем, быть Карлом, быть Великим, Страшнее Аттилы, славней, чем Ганнибал, Огромным, словно мир, — чтоб здесь ты прахом стал! Желай могущества, чтоб лечь таким же прахом, Как император лег! Покрой всю землю страхом И славой, строй, крепи свой мир в избытке сил, Но не мечтай сказать: «Я все уже свершил!» Ввысь здание веди своими же руками; Но знай, что от него останется лишь камень Могильный с надписью, завещанной векам, Чтобы дитя ее читало по складам. Как ни прекрасна цель, живет в вас гордость злая, — Она уходит в смерть. О власть, власть мировая! Уже я близок к ней. Ее касаюсь я, И что-то шепчет мне: «Она уже твоя!» Ах, если б было так! Встать твердо, без сомнений, Над миром государств, идущих как ступени, И своду быть замком, и видеть под собой Земных властителей вниз уходящий строй; Пятою попирать всех королей, под ними Всех феодалов, всех, кто гордо носит имя Бургграфа, герцога иль дожа, кто почтён Епископским жезлом, кто граф или барон, А ниже — мелюзгу, плебеев в общей груде, Тех там, на дне, кого зовем мы просто «люди»… А люди — это толп дыханье, моря вой, Немолчный гул и плач, крик, горький смех порой, Стенания, что сон земли тревожат старой И в уши королей врываются фанфарой; Да, люди — города, деревни, башен ряд И с высоты церквей растущий вширь набат.(Задумывается.)
Опора нации, народ, терпя обиды, Выносит на плечах всю тяжесть пирамиды; Живые волны сам, колеблет средь зыбей Ее величие подвижностью своей, Сдвигает с места все; на гранях вознесенных. Как жалкую скамью, так потрясает троны, Что короли, забыв раздоры, войн каприз, Вздымают к небу взор. Смотрите лучше вниз! Народ! То океан. Всечасное волненье: Брось что-нибудь в него — и все придет в движенье. Баюкает гроба и рушит троны он, И редко в нем король прекрасным отражен. Ведь если заглянуть поглубже в те потемки, — Увидишь не одной империи обломки, Кладбище кораблей, опущенных во тьму И больше никогда неведомых ему. И этим управлять! Коль выпадет избранье, Ты, слабый человек, высот достигнешь зданья. А пропасть — под ногой… О, только б в этот час Величием таким не ослепило глаз! О пирамида стен, внизу которой море! Вершина так узка, ступне неверной — горе! За что ж держаться мне? Что, если, ослабев, Услышу под собой земли растущий гнев, Ее живущих недр движенье, содроганье? Что делать, коль дадут мне шар тот в обладанье? Смогу ль его поднять? Под тяжестью не пасть? Быть императором? И так трудна мне власть… Нет, нужно быть иным, чтоб, не смутясь душою, Свой дух соразмерять с удачею такою. Но я? Великим быть? О, кто мои мечты Направит, укрепит?(Падает на колени перед гробницей.)
Да, Карл Великий, ты! О, так как ты решил, наперекор преградам, Что мы сейчас стоять должны с тобою рядом, Наполни грудь мою, из сумрака могил, Величием своим, порывом гордых сил! Дай мир постигнуть мне, но с зоркостью своею. Он мал, но я его коснуться все ж не смею. Столпотворения мне покажи черед, Что ввысь от пастуха до цезаря идет, Где каждый, горд собой на собственной ступени, Глядит на низшего в насмешливом презренье. Открой мне тайну жить, царить и побеждать! Скажи, что лучше гнать врагов, чем их прощать. Ведь так? Коль может вдруг во тьме своей гробницы Героя тень от гроз подземных пробудиться И, камень отвалив, что ей налег на грудь, Огромной молнией в смятенный мир сверкнуть, — Когда уж нет тебя, Германии владыки, — Скажи, возможно ль что свершить мне, Карл Великий? Скажи, хотя б твое дыхание могло, Сорвавши гроба дверь, разбить мое чело! Позволь мне одному в твой склеп стопой несмелой Войти и увидать твой лик окаменелый. Не отметай меня дыханием своим; На ложе каменном привстань. Поговорим! Хотя бы ты сказал и голосом и взглядом О том, что душу нам мертвит могильным хладом, — Я выслушаю все, — лишь не слепи меня Сверканьем вечного в твоей могиле дня! Но если промолчишь, позволь тогда смиренно Взирать на череп твой, вместилище вселенной. Позволь измерить мне величие твое — Всех выше дел земных твое небытие. Когда не тень твоя, пусть прах мне скажет слово!(Вставляет ключ в замок.)
Войдем!(Колеблется.)
О небо! Вдруг прошепчет он сурово, Вдруг встанет и пойдет, высокий и прямой, И выйду я на свет с седою головой! Но все ж — войдем!Слышны шаги.
Кто там, в гробнице одинокой, Такого мертвеца тревожит сон глубокий? И в этот час!Шаги приближаются.
Ах, да! Меня убить хотят! Войдем!(Открывает дверь гробницы и, войдя внутрь, притворяет ее за собой.)
Тихо ступая, входят несколько человек, закутанных в плащи, в шляпах, опущенных на глаза.
Явление третье
Заговорщики.
Они входят один за другим, пожимают друг другу руки и обмениваются шепотом несколькими словами.
Первый
(с зажженным факелом в руке)
Ad augusta.Второй
Per angusta.[441]Первый
Хранят Святые нас!Третий
И те, кто мертв.Первый
И небо даже.В темноте слышатся шаги.
Кто там?Голос во тьме
Ad augusta.Второй
Per angusta.Входят новые заговорщики. Опять слышатся шаги.
Первый
На страже Нам надо быть.Третий
Кто там?Голос во тьме
Ad augusta. Я свой.Третий
Входи скорей.Входят новые заговорщики. Они обмениваются знаками с присутствующими.
Первый
Ну вот. Все в сборе. Гота, твой Почин. Друзья мои, тьма просит освещенья.Заговорщики рассаживаются полукругом на могильных плитах. Первый из них обходит остальных, и каждый от его факела зажигает свечу, которую держит потом перед собой. Затем тот, кто был с факелом, молча садится в середине полукруга на гробницу, которая выше других.
Герцог Гота
(вставая)
Король испанский Карл, нам чуждый по рожденью, К святой империи стремится.Первый
Он умрет!Герцог Гота
(бросает свою свечу на землю и топчет ее ногой)
Такой же для него в свой час конец придет!Все
Да будет так!Первый
Смерть!Герцог Гота
Смерть!Все
Пусть служит ей приманкой!Дон Хуан де Аро
Германцем был отец.Герцог Люцельбургский
А мать была испанкой.Герцог Гота
Уж не испанец он, не немец он для нас. Смерть!Один из заговорщиков
Если же ему имперский трон сейчас Дадут?Первый
Они? Ему?Дон Xиль Тельес Хирон
Он не увидит трона. Отрубим голову, а с ней падет корона.Первый
Священный трон заняв, он сделаться бы мог Священнейшим, кого единый судит бог!Герцог Гота
Нет, раньше, встретив смерть, простится он с мечтами.Первый
Его не изберут!Все
Не будет править нами.Первый
Так сколько нужно рук, чтоб пал он с тех вершин?Все
Одна.Первый
И сколько же ударов в грудь?Все
Один.Первый
Кто нанесет его?Все
Мы все.Первый
Час воздаянья! Там трон творят, а мы — свершители закланья. По жребию…Заговорщики пишут свои имена на листках, складывают их и один за другим бросают в одну из могильных урн.
Молись!Все становятся на колени. Затем первый встает.
Пусть с богом он идет, — Разит, как римлянин, и, как еврей, умрет! Пусть не страшат его колеса, дыба, клещи, Пусть гимн поет в тисках средь факелов зловещих Убив, пусть встретит смерть недрогнувшей душой, — Исполнит долг свой.(Вынимает жребий из урны.)
Все
Кто?Первый
(громким голосом)
Эрнани!Эрнани
(выступая вперед из толпы заговорщиков)
Жребий мой! Мой враг в моих руках. Я мести ждал, о боже, Так долго!Дон Руй Гомес
(протискивается сквозь толпу и отводит Эрнани в сторону)
Уступи удар мне.Эрнани
Он дороже Мне жизни! И пускай не мучит зависть вас. Ведь счастие ко мне приходит в первый раз!Дон Руй Гомес
Ты нищ. Я дам тебе и замки, и владенья, И тысячи крестьян, и земли, и селенья, Чтоб ты один удар сейчас мне уступил.Эрнани
Нет!Герцог Гота
Для него, старик, не обретешь ты сил. Ты слаб!Дон Руй Гомес
Я духом тверд, пусть руки слабы стали. По ржавчине ножон ты судишь о кинжале.(К Эрнани.)
Ты мне принадлежишь!Эрнани
Я — вам. Но мне — мой враг.Дон Руй Гомес
Послушай, друг, твой рог я возвращаю…Эрнани
(колеблясь)
Как! Ты возвращаешь жизнь? Нет! Я хочу отмщенья! То небом решено — и нет мне отступленья. То мщенье за отца… иль больше — видит бог! Ее ты мне вернешь?Дон Руй Гомес
Я возвращаю рог.Эрнани
Нет.Дон Руй Гомес
Взвесь мои слова!Эрнани
Добычу должен взять я.Дон Руй Гомес
Ты счастье взял мое — прими ж теперь проклятье!(Снова затыкает рог за пояс.)
Первый
(к Эрнани)
Брат! Прежде, чем его почтут избраньем там, Ты должен Карлоса сегодня…Эрнани
Знаю сам! Его столкнуть смогу я в область тьмы и тлена.Первый
Пусть на изменника падет его измена, И бог поможет нам! Пусть каждый граф, барон Заменит мстителя, коли погибнет он! Друг друга заменять клянемся без изъятья, — И Карлос пусть умрет.Все
(вынимая шпаги)
Клянемся!Герцог Гота
(к первому)
Чем же, братья?Дон Руй Гомес
(берет свою шпагу за острие и поднимает ее над головой)
Клянемся все крестом!Все
(поднимая свои шпаги)
Пусть он в грехе умрет!Слышен отдаленный пушечный выстрел. Все замирают в молчании. Дверь гробницы приоткрывается, и дон Карлос, бледный, появляется на пороге. Второй выстрел. Третий выстрел. Дон Карлос распахивает дверь настежь и, не сделав ни шага, остается на пороге.
Явление четвертое
Заговорщики, дон Карлос; потом дон Рикардо, вельможи и стража; король Богемский, герцог Баварский, потом донья Соль.
Дон Карлос
Сеньоры, что же вы? Вас император ждет.Все факелы разом гаснут. Глубокое молчание. Король делает шаг в темноту, настолько густую, что в ней с трудом можно различить неподвижных и онемевших заговорщиков.
Молчание и ночь! Вы, мрака порожденье, Иль думаете вы, что это сновиденье, Что всех я вас приму среди теней ночных За изваяния на плитах гробовых? Нет, камни не ведут такие разговоры. И все же вам поднять свои придется взоры. Карл Пятый здесь стоит — разите же скорей! Как, вы не смеете? Вам и не быть смелей. Десятком факелов вы своды озаряли; Мне стоило дохнуть — и все они пропали. Смотрите, в вашем я испуганном кругу Их много погасил, но больше их зажгу!(Ударяет железным ключом в бронзовую дверь склепа.)
При этом звуке все пространство подземелья наполняется солдатами с факелами и алебардами. Впереди их герцог Алькала и маркиз Альмуньян.
Ко мне, о соколы! Здесь и гнездо и птица.(Заговорщикам.)
Свой свет зажгу и я. Могила озарится. Смотрите!(Солдатам.)
Вот сюда. Они в руках у нас.Эрнани
(глядя на солдат)
Один, без стражи, был он лучше, чем сейчас. Великим Карлом встал он предо мной сначала, — Теперь лишь Пятый Карл.Дон Карлос
(Герцогу Алькала.)
Мой коннетабль, Алькала!(Маркизу Альмуньяну.)
Кастильи адмирал! Обезоружьте их!Заговорщики окружены и обезоружены.
Дон Рикардо
(вбегая, отвешивает поклон до земли)
О император мой!Дон Карлос
Алькад дворцов моих!Дон Рикардо
(кланяясь снова)
Два избирателя, полны благоговенья, Вам принести свое приходят поздравленье.Дон Карлос
Впусти их.(Тихо, дону Рикардо.)
Донья Соль!Рикардо кланяется и выходит. С факелами и фанфарами появляются король Богемский и герцог Баварский, оба в парче, с коронами на головах. Многочисленная свита германских вельмож несет имперское знамя — двуглавый орел с гербом Испании на груди. Солдаты расступаются и, выстроившись шеренгой, дают проход к императору двум избирателям, которые склоняются перед ним. Он приветствует их, приподняв шляпу.
Герцог Баварский
Священны вы сейчас, Карл, император наш! Теперь в руках у вас Весь мир — и Римская Мы в корона[442]. Кто б из властителей желал иного трона? Сначала Фридрих был Саксонский наречен. Сочтя достойным вас, отрекся тотчас он. Король, примите же корону и державу! Империя сейчас венчает вас по праву, Дает порфиру, меч. Вас выше в мире нет.Дон Карлос
Я, возвратясь, приду благодарить совет. Кузен Баварский мой, я рад, что ты со мною. Как, брат Богемский, вам обязан я — не скрою.Король Богемский
Карл! Дружбой связаны мы были вековой, Отец — с твоим отцом и деды меж собой. Ты юн, ты на пути, всегда враждой объятом, — Ты хочешь, буду я тебе средь братьев братом? Я с детства знал тебя и не могу забыть…Дон Карлос
(прерывая его)
Король Богемии, нельзя ль скромнее быть?(Протягивает руку для поцелуя сначала ему, потом герцогу Баварскому, затем отпускает обоих избирателей, которые отвешивают ему низкий поклон.)
Идите же!Оба избирателя выходят вместе со своей свитой.
Толпа
Виват!Дон Карлос
(в сторону)
Сбылось! Мне трон достался! Я император, да, раз Фридрих отказался!Входит донья Соль, сопровождаемая доном Рикардо.
Донья Соль
Здесь император! Он! Что вижу! Жизнь моя, Эрнани!Эрнани
Донья Соль!Дон Руй Гомес
(рядом с Эрнани, тихо)
И не замечен я…Донья Соль бежит к Эрнани. Взглядом, полным недоверия, он заставляет ее отшатнуться.
Эрнани
Сеньора!Донья Соль
(выхватывая кинжал, спрятанный на груди)
Тот кинжал со мной.Эрнани
(протягивая ей руки)
О дорогая!Дон Карлос
Молчите все!(Заговорщикам.)
А, вы притихли, ожидая? Сейчас большой урок мной будет миру дан. О Лара, Гота — вы, сыны высоких стран, Что делали вы здесь?Эрнани
(делая шаг вперед)
Скажу без колебанья, — Нам нечего скрывать, не трудно нам признанье. Мы Валтасаровы слова пришли писать[443],(вынимает кинжал и рассекает им воздух)
Дать Кесарю все то, что должно отдавать.Дон Карлос
Довольно!(Дон Руй Гомесу.)
Сильва, ты?Дон Руй Гомес
Двоим нам места мало.Эрнани
(оборачиваясь к заговорщикам)
Власть, наши головы — всё жизнь ему послала.(Императору.)
Когда-то горностай носили вы с трудом, Но пурпур к вам идет: кровь не видна на нем.Дон Карлос
(дон Руй Гомесу)
О Сильва, мой кузен, в коварстве неуклонном Не заслужили вы, чтоб дольше быть бароном! Вы изменили мне, вам герб ошибкой дан.Дон Руй Гомес
Родриго-королем граф создан Хулиан.Дон Карлос
(герцогу Алькала)
Берите только тех, кто носит чести имя; А прочих…Дон Руй Гомес, герцог Люцельбургский, герцог Гота, дон Хуан де Аро, дон Гусман де Лара, дон Тельес Хирон, барон Гогенбург отделяются от группы заговорщиков, среди которых остается Эрнани. По знаку герцога Алькала стража тесно их окружает.
Донья Соль
(в сторону)
Он спасен!Эрнани
(выступая вперед из группы заговорщиков)
Меня считайте с ними. Когда взнесен топор, то я, пастух простой, Могу со знатными равняться здесь виной! Чтоб быть на уровне секиры, их разящей, Сейчас во весь свой рост я встану настоящий. Бог скипетр дал тебе. Меня же сделал он Сегорбы герцогом, Кардоны; я рожден Маркизом Монруа и графом Альбатера; Да, я виконт де Гор — здесь честь моя и вера; Принц Арагонский я; в изгнанье я рожден, Сын изгнанный отца, который был казнен Твоею волею, о Карл, король Кастилий! Преградой меж собой мы мщенье положили: У вас был эшафот, у нас стальной кинжал. Рожденный герцогом, я здесь бандитом стал. Но так как тщетно я точил о скалы шпагу И закалял в ручьях своих клинков отвагу, —(покрывает голову шляпой, к другим заговорщикам)
Накройтесь; гранды мы!Все испанцы покрывают головы.
(Карлосу.)
С покрытой головой У нас есть право пасть на плахе пред тобой.(К пленникам.)
Я, Сильва, Лара, ваш по праву рода, чести, — Хуан Арагонский я; я, графы, с вами вместе.(Свите короля и страже.)
Хуан Арагонский я! Король! О палачи, Расширьте эшафот. Точите все мечи!(Присоединяется к арестованным вельможам.)
Донья Соль
О небо!Дон Карлос
Я забыл, что есть вражда меж нами.Эрнани
Но тот, кто оскорблен, хранит ее годами. Обида — пусть о ней обидчик позабыл — В обиженной груди рождает прежний пыл.Дон Карлос
Но я властитель твой, я сын отцов, что были Грозой твоим отцам и часто их казнили.Донья Соль
(бросаясь на колени перед императором)
Прощенье, властелин! Молю вас всей душой! Пусть с ним умру и я! Возлюбленный он мой, Супруг мой. Им одним дышу я. Что за муки! О, если б нас убить могли вы без разлуки! Я здесь у ваших ног, я умоляю вас! Как вам империя, мне дорог он сейчас! Прощенье!Дон Карлос пристально смотрит на нее.
Что за мысль во взгляде вашем стынет?Дон Карлос
Что ж! Альбатеры цвет, Сегорбы герцогиня, Маркиза Монруа, — вставайте, донья Соль!(Эрнани.)
Все имена, Хуан!Эрнани
Кто говорит? Король?Дон Карлос
Нет, император.Донья Соль
(поднимаясь)
О!Дон Карлос
(показывая на нее Эрнани)
Вот, герцог, вам супруга!Эрнани
(обращая взор к небу, заключает донью Соль в свои объятия)
О небо!Дон Карлос
(дон Руй Гомесу)
Мой кузен, они любить друг друга Достойны. Сильвы честь не снизит Арагон.Дон Руй Гомес
(мрачно)
Не честь моя скорбит.Эрнани
(глядя с любовью на донью Соль, обнимает ее)
С врагом я примирен!(Отбрасывает кинжал.)
Дон Руй Гомес
(про себя, глядя на обоих)
Дать волю гневу? Нет! Безумное желанье! Они лишь оскорбят твой возраст состраданьем. Сгорай без пламени, от всех страданье скрой, Будь тверд, чтоб не могли смеяться над тобой!Донья Соль
(в объятиях Эрнани)
О герцог мой!Эрнани
В душе — одной любви сиянье.Донья Соль
О счастье!Дон Карлос
(положив руку на грудь, про себя)
Погаси, душа, свое пыланье, Пусть разума теперь царит холодный свет. Взамен любовных дум, которых больше нет, Германия со мной, и Гент мой, и Кастилья.(Устремив взор на свое знамя.)
Я император, я орел, простерший крылья; В груди своей несу не сердце — щит с гербом.Эрнани
Вы Кесарь!Дон Карлос
(к Эрнани)
Дон Хуан, достоин ты во всем Того, чем славен род.(Показывая на донью Соль.)
И девушки прелестной. Склонись!Эрнани преклоняет колени. Дон Карлос, сняв с себя цепь Золотого руна[444], надевает ее ему на шею.
Прими мой дар.(Обнажив шпагу, ударяет его три раза по плечу.)
Служи мне, герцог, честно! Вот званье рыцаря теперь тебе дано!(Подняв его, заключает в свои объятия.)
С тобой иная цепь, и лучшее Руно, Какого нет со мной, — пусть я наследник Рима, — Объятье женщины, что любит и любима. Ты счастье обретешь, я — лишь имперский трон.(К заговорщикам.)
Имен не помню я. Месть, ненависть, закон — Я все хочу забыть. Я всем дарю прощенье! Вот то, что миру я сказал бы в поученье. За Карлом Первым, чей был королевский трон, Карл Пятый следует, и император он. В глазах Европы всей величество в короне Не сирота в слезах — империя на троне!Заговорщики
(падают на колени)
Да здравствует наш Карл!Дон Руй Гомес
(дон Карлосу)
Один я ни при чем.Дон Карлос
И я!Дон Руй Гомес
(в сторону)
Я с ним не схож. Я в мщенье тверд моем!Эрнани
Кто всех нас изменил?Все
(солдаты, заговорщики, вельможи)
Дружней поднимем клики В честь Карла Пятого.Дон Карлос
(обращаясь к гробнице)
Не я, а Карл Великий! Оставьте нас вдвоем.Все уходят.
Явление пятое
Дон Карлос, один.
Дон Карлос
(преклоняет колено перед гробницей)
Доволен ли ты мной? От королевских уз свободен я душой? Скажи, сумел ли я уйти от жизни старой? Соединил свой шлем я с римскою тиарой? На мировую власть имею ль право я? Уверен ли мой шаг? Пряма ль тропа моя Средь варварских руин, которую со славой Ты проложил для нас стопою величавой? От твоего ль огня я факел засветил? Твой голос понял ли, встающий из могил? Ах, я совсем один перед величьем власти. Я миром окружен, где воют, бьются страсти: Уплаты ищет Рим, пора смирить датчан, Франциск, Венеция, там Лютер, Сулейман[445], Там тысячи клинков во мраке ждут чего-то. Ловушки, западни, враги, враги без счета, Десяток стран, что страх внушают королям. И этим хаосом я должен править сам! Я спрашивал тебя: в чем тайна управленья, С чего начать? И ты ответил мне: «С прощенья!»Действие пятое СВАДЬБА
Сарагоса. Терраса арагонского дворца. В глубине балюстрада лестницы, теряющаяся в саду. Направо и налево две двери, выходящие на террасу, которую в глубине сцены замыкает балюстрада с двумя рядами мавританских аркад; сквозь них видны дворцовый парк, фонтаны в тени деревьев, боскеты с блуждающими среди них фонариками и в глубине — готические и арабские вышки освещенного дворца. Ночь. Слышны отдаленные фанфары. Маски, домино, рассыпанные тут и там, время от времени поодиночке или группами проходят по террасе. На авансцене группа молодых вельмож, с масками в руках, смеется и шумно разговаривает.
Явление первое
Дон Санчо де Суньига, граф де Монтерей; дон Матиас Сентурион, маркиз д’Альмуньян; дон Рикардо де Рохас, граф де Касапальма; дон Франсиско де Сотомайор, граф де Велалькасар; дон Гарси Суарес де Карбахаль, граф де Пеньяльвер.
Дон Гарси
О счастья светлый день! Да здравствует невеста!Дон Матиас
(смотрит с балкона)
Вся Сарагоса здесь. На улицах нет места.Дон Гарси
При свете факелов нет свадьбы веселей, Нет ночи сладостней, влюбленных нет милей!Дон Матиас
Всё император наш!Дон Санчо
Когда в ночном покое Для хитростей любви с ним вместе шли мы двое, Кто мог бы нам сказать, чем кончится игра?Дон Рикардо
(прерывая его)
Я был там.(Другим.)
Слушайте. Все рассказать пора. Три сердца пылкие: король, бандит, придворный, Одною женщиной плененные, упорно Стремились к ней — и кто ж из них достиг побед? Бандит!Дон Франсиско
Но странного, мне кажется, здесь нет. И счастье, и любовь, куда ни кинешь взоры, — Взлет меченых костей. Выигрывают воры!Дон Рикардо
Достиг богатства я среди чужих услад. Сначала граф и гранд, потом в дворце алькад. Я даром времени не потерял, признаться.Дон Санчо
Старались королю вы чаще попадаться — Вот тайна.Дон Рикардо
Никому не уступал я прав.Дон Гарси
И жили вы всегда за счет его забав.Дон Матиас
А старый герцог где? Ступил на край могилы?Дон Санчо
Маркиз, не смейтесь так! Он полон гордой силы. Он донью Соль любил. Он шесть десятков лет Был черен волосом — и стал за сутки сед.Дон Гарси
Но в Сарагосе здесь его уж не видали?Дон Санчо
Ужели гроб ему поставить в брачной зале?Дон Франсиско
А император наш?Дон Санчо
Сегодня грустен он; Ведь Лютер на него всегда наводит сон.Дон Рикардо
О Лютер! Вечно он предмет забот и скуки! С тремя солдатами его бы взял я в руки!Дон Матиас
И Сулейман его тревожит…Дон Гарси
Сулейман! Что Лютер, что Нептун, что царь подземных стран! Зачем мне все они? Ведь женщины прекрасны, Так весел маскарад, и я шучу всечасно.Дон Санчо
Вся в этом суть.Дон Рикардо
Он прав. Я сам уже не тот. Когда день празднества порою подойдет, Чуть маску нацепил — и голова другая. Вот странно!Дон Санчо
(тихо, дон Матиасу)
Если б жил он, маски не снимая!Дон Франсиско
(показывая на правую дверь)
Не это ль комната супругов молодых?Дон Гарси
(кивает головой)
Сейчас они пройдут.Дон Франсиско
И мы увидим их?Дон Гарси
О да!Дон Франсиско
Пусть будет так. Невеста так прекрасна!Дон Рикардо
А император добр. Эрнани — враг опасный, И — с Золотым руном! С невестою! Прощен! Будь император я, давно лежал бы он На ложе из камней, она б — в шелках лежала.Дон Санчо
(тихо, дон Матиасу)
О, если б мне его пронзить клинком кинжала! Из грубой мишуры его создатель сшил; Одеждою он граф, умом он альгвасил.Дон Рикардо
(приближаясь)
О чем вы?Дон Матиас
(тихо, дону Санчо)
Здесь, мой граф, не место ссоре жаркой.(Дону Рикардо.)
Он мне читал сонет, написанный Петраркой.Дон Гарси
Заметили ли вы, сеньоры, меж кустов, Меж роз и юных дев, меж платьев всех цветов Тот призрак в домино над балюстрадой сада, Что траурным пятном стоит средь маскарада?Дон Рикардо
Да, черт возьми!Дон Гарси
Кто он?Дон Рикардо
Когда я угадал, То — дон Пранкасио, наш славный адмирал.Дон Франсиско
Нет!Дон Гарси
Маски он не снял.Дон Франсиско
Он этого не хочет. То — герцог Сома; он о славе лишь хлопочет И жаждет взор привлечь.Дон Рикардо
О нет!Дон Гарси
Кто б это был? Под маской! Тише, он!Черное домино медленно проходит по террасе в глубине сцены. Все оборачиваются и следят за ним глазами, чего оно, по-видимому, не замечает.
Дон Санчо
Когда жильцы могил Выходят, вот их шаг…Дон Гарси
(подбегает к Черному домино)
Стой, маска!Черное домино оборачивается. Гарси отступает.
Между нами, Сеньоры: у него в глазах сверкнуло пламя!Дон Санчо
Коль дьявол он, я с ним поговорю.(Направляется к Черному домино, которое стоит неподвижно.)
Сквозь сад Идешь из ада ты?Маска
Нет, не из ада — в ад!(Продолжает свой путь и исчезает за перилами лестницы.)
Все с ужасом следят за нею.
Дон Матиас
Могильной мрачностью слова его звучали.Дон Гарси
Что страшно в час иной, смешно на карнавале.Дон Санчо
Плохая шутка!Дон Гарси
Что ж! Коль это сатана Пришел смотреть наш пляс, — пока нам жизнь дана, Мы будем танцевать!Дон Санчо
Смеется он над нами.Дон Матиас
Узнаем завтра всё.Дон Санчо
(Дон Матиасу)
Нет, посмотрите сами, Что сделал он сейчас?Дон Матиас
(подойдя к балюстраде)
Сошел, угрюм и нем, — И больше ничего.Дон Санчо
Забавно!(Задумчиво.)
Не совсем.Дон Гарси
(проходящей мимо даме)
Маркиза, танец мой?(Кланяется ей и предлагает руку.)
Дама
О граф, когда мы вместе, За нами муж следит и думает о мести.Дон Гарси
Вот лишний повод нам быть вместе. Он же рад, Что дело есть ему. Идемте.Дама подает ему руку, и они уходят.
Дон Санчо
(задумчиво)
Странный взгляд У этой маски был.Дон Матиас
Они идут. Вниманье!Входят Эрнани и донья Соль, под руку. Донья Соль в пышном свадебном наряде; Эрнани в черном бархате с ног до головы, с цепью Золотого руна на шее. Позади них — толпа масок, дам и сеньоров, образующих свиту. Два богато одетых пажа следуют за ними, четыре негра предшествуют им. Присутствующие выстраиваются в ряд и приветствуют их поклонами. Фанфары.
Явление второе
Те же, Эрнани, донья Соль, свита.
Эрнани
(приветствуя всех)
Друзья мои!Дон Рикардо
(подходя и кланяясь)
Ты в нас рождаешь ликованье!Дон Франсиско
(любуясь доньей Соль)
Святой Иаков! Он Венеру вводит в дом!Дон Матиас
Какая ждет их ночь вслед за подобным днем!Дон Франсиско
(показывая дон Матиасу на брачные покои)
Какие будут там лобзания и речи! Стать феей, видеть все — как дверь закрылась, свечи Погасли, — что милей?Дон Санчо
(дон Матиасу)
Уж поздно. Мы идем?Все приветствуют новобрачных и выходят — одни через дверь, другие по лестнице в глубине сцены.
Эрнани
(провожая их)
Пускай хранит вас бог!Дон Санчо
(выходя последним, жмет ему руку)
Будь счастлив!(Выходит.)
Эрнани и донья Соль остаются одни. Шум шагов и голоса удаляются, потом замолкают. В начале следующей сцены постепенно умолкают фанфары и гаснут одни за другими удаляющиеся огни. Понемногу наступают молчание и ночь.
Явление третье
Эрнани, донья Соль.
Донья Соль
Мы вдвоем! Ушли.Эрнани
(пытаясь привлечь ее в свои объятия)
Моя любовь!Донья Соль
(краснеет и отступает)
Сейчас… ночной порою…Эрнани
Мой ангел, ночь пришла, и вместе мы с тобою.Донья Соль
О, как устала я! Не правда ль, дорогой, Все это празднество души мрачит покой?Эрнани
Да, счастье, милый друг, нам не легко бывает. Лишь в бронзовых сердцах оно свой след врезает. Восторг страшит его, плетя гирлянды роз; В его улыбке смех, а также близость слез.Донья Соль
Твоя ж улыбка — день!Эрнани пытается увлечь ее к двери. Она краснеет.
О, подожди немного!Эрнани
Ах, я твой верный раб! Нет, не гляди так строго! Все будь по-твоему. Я не хочу просить. Ты над собой властна. Как скажешь, так и быть. Когда захочешь ты, я петь, смеяться стану. Душа моя горит. Скажи «смирись!» вулкану, — И он закроет зев, что был пылать готов, Покрыв бока свои ковром живых цветов. Везувий стал рабом, для нежных чувств забавой, И можешь ты не знать, что грудь в нем дышит лавой. Цветов твой хочет взор? Прекрасно! Пусть кипит Гроза в его груди, — но будет зелен вид.Донья Соль
Со слабой женщиной вы стали добрым, милым, Эрнани, сердца друг!Эрнани
Что в имени постылом? Не называй меня Эрнани! Что мне в нем?! Ты вспоминаешь то, что сам считал я сном. Я знаю, жил такой Эрнани, и, бывало, Бесстрашный взор его сверкал клинком кинжала; Изгнанником он жил в ночной тиши, средь скал, И только слово «месть» вокруг себя читал; Проклятье вслед за ним влачилось по стремнине. Эрнани больше нет! И я люблю отныне Лишь песню соловья, леса, цветущий луг. Принц Арагонский я и доньи Соль супруг! Я счастлив!Донья Соль
Счастлива и я!Эрнани
Какое дело До тряпок мне, что я у входа сбросил смело? В давно покинутый я возвратился зал. Небесный херувим меня у двери ждал. Из праха я воздвиг разбитые колонны, Зажег огонь, раскрыл ряд окон запыленных И вырвал на дворе растущую траву. Восторгом, радостью и счастьем я живу. Пусть замки мне вернут, где раньше предки жили, И пусть с почетом я войду в совет Кастилий. Иди ко мне на грудь с пылающим лицом. Пускай оставят нас! Забудем все кругом, Я нем, я ослеплен, вновь жить я начинаю. Все стер я, все забыл. Безумье? Ум? Не знаю. Люблю вас! Вы моя! Душа моя полна!Донья Соль
(рассматривает цепь на его шее)
На черном бархате горит огонь Руна!Эрнани
Украшен и король цепочкой был такою.Донья Соль
Не замечала я. Была к нему слепою. А бархат или шелк — не все ли мне равно? Лишь на твоей груди заметно мне Руно. Ты благороден, горд, сеньор мой!Он хочет увлечь ее.
Лишь мгновенье Постой! Ты видишь, друг, я плачу от волненья. Смотри, какая ночь!(Идет к балюстраде.)
Мой герцог, подожди, Дай мне взглянуть вокруг, услышать ночь в груди! Погасли все огни, все звуки карнавала. Здесь только ночь и мы. Блаженство нас объяло. Не кажется ль тебе — природа в тихий час Со счастья нашего не сводит нежных глаз? Луна на небесах, погружена в мечтанье, Как мы, вдыхает тьму и роз благоуханье. Смотри, огней уж нет. Повсюду тишина. Лишь подымается задумчиво луна. Пока ты говорил, лучи ее дрожали И с голосом твоим мне в сердце проникали. Спокойной я была, веселой, милый мой, И умереть в тот миг хотела бы с тобой!Эрнани
Несешь забвение ты голосом прелестным! Он кажется таким далеким и небесным. Как путник в челноке, теченьем увлечен, Скользит по воле струй, когда закат зажжен, И берегов следит кудрявых очертанья, Так весь я погружен душой в твои мечтанья.Донья Соль
Уж слишком тихо все, и слишком мрак глубок. Хотел бы ты звезды увидеть огонек? Иль голос услыхать, и нежащий и странный, Летящий издали?Эрнани
(с улыбкой)
О друг непостоянный! Ты только что бежать хотела от людей!Донья Соль
От бала, да! Но там, где птицы средь полей, Где соловей в тени томится песней страстной Иль флейта вдалеке!.. О, с музыкой прекрасной Нисходит в душу мир — и, как небесный хор, Встают в ней голоса и рвутся на простор. Ах, если б услыхать…В ночи слышен звук далекого рога.
Эрнани
(содрогаясь, про себя)
О горе!..Донья Соль
Ангел сам исполнил все мечтанья, Твой добрый ангел, друг.Эрнани
(с горечью)
Мой ангел!Снова звук рога.
(В сторону.)
Вот опять!Донья Соль
Могла ли, дон Хуан, я рог ваш не узнать?Эрнани
Не правда ль?Донья Соль
Это вы — участник серенады Такой прелестной?Эрнани
Как?Донья Соль
О, эти маскарады! Люблю я дальний рог, поющий в тьме лесной! Он ваш и мне знаком, как голос дорогой.Рог слышен снова.
Эрнани
(про себя)
Там бродит злобный тигр и шлет свое рычанье.Донья Соль
То рога вашего, о дон Хуан, звучанье.Эрнани
(поднимается с выражением ужаса на лице)
Эрнани называй меня! Эрнани я! Вновь с этим именем слита душа моя.Донья Соль
(дрожа)
Что слышу я!Эрнани
Старик!Донья Соль
Как мрачны ваши очи! Что с вами?Эрнани
Там старик смеется в мраке ночи. Иль вы не видите?Донья Соль
Ты бредишь? Что с тобой? Какой старик?Эрнани
Старик!Донья Соль
О милый, милый мой, Что в сердце ты таишь, скажи мне, умоляю, Скажи!Эрнани
Но я клялся…Донья Соль
Клялся?Она тревожно следит за всеми его движениями. Внезапно он останавливается и проводит рукой по лбу.
Эрнани
(в сторону)
Как быть, не знаю… Нет, пощажу ее.(Громко.)
Что говорил я? Нет!Донья Соль
Вы говорили мне…Эрнани
Нет… Это был лишь бред. Я болен, может быть… Нет, не страшись, не надо.Донья Соль
Что делать? Чем помочь? Служить тебе я рада.Рог звучит снова.
Эрнани
(в сторону)
Зовет! Я клятву дал! Зовет!(Ищет на поясе свой меч и кинжал.)
Ах, где кинжал? Конец, всему конец!Донья Соль
О, как ты бледен стал!Эрнани
То рана старая, огнем былым пылая, Открылась…(В сторону.)
Пусть уйдет она.(Громко.)
О дорогая, Послушай, где ларец, что я носил с собой В дни горя и нужды?Донья Соль
Я знаю, милый мой. Что делать мне, скажи.Эрнани
Там есть флакон стеклянный, Где налит эликсир, целить способный раны, Дай мне его скорей!Донья Соль
Иду, иду, мой друг.(Уходит в дверь, ведущую в брачные покои.)
Явление четвертое
Эрнани, один.
Эрнани
О, как я счастлив был! Как стал несчастен вдруг! Уж пишут на стене мне роковое слово, И вновь судьба глядит в лицо мое сурово!(Впадает в глубокую, мучительную задумчивость, затем вздрагивает.)
Так! Но замолкло все. Шагов не слышно там. Когда б то было сном!На верхней ступени лестницы появляется Черное домино.
Эрнани останавливается, словно оцепенев.
Явление пятое
Эрнани, Маска.
Маска
«Что б ни предстало нам, Когда б ты ни решил, в каком бы ни был месте, Раз день уже настал для этой страшной мести, Для гибели моей, — труби в мой рог тотчас. Я — твой». Жильцы могил тогда слыхали нас. Ну что же? Ты готов?Эрнани
(тихо)
То — он!Маска
Пришел к тебе я, В твой дом, сказать, что срок уже настал. Скорее! Ты медлишь!Эрнани
Хорошо. На мне твоя печать. Что должен сделать я?Маска
Ты можешь выбирать — Кинжал иль этот яд. Я все принес с собою. Мы вместе выйдем.Эрнани
Да.Маска
Молись.Эрнани
Я тверд душою.Маска
Твой выбор?Эрнани
Яд.Маска
Пусть так! Скорей дай руку. Вот!(Подает Эрнани флакон. Тот берет его, побледнев.)
Пей!Эрнани подносит флакон к губам, затем отшатывается.
Эрнани
Подожди, молю! Пускай заря взойдет! Коль сердце есть в тебе и нежных чувств отрада… Не привиденье ты, не выходец из ада, Не проклятый мертвец, не демон, — и следа Клейма ты не несешь со словом «никогда»; Коль знаешь счастья ты полет неудержимый — Любить, быть молодым, жениться на любимой, Коль женщина с тобой блаженства знала дрожь, — До завтра дай мне жить! А завтра ты придешь!Маска
Все «завтра», «завтра»… Нет! Срок этот — слишком дальний. Сегодня же ты звон услышишь погребальный. Зачем мне ночь терять? А если я умру — Кто жизнь твою возьмет, как нужно, поутру? Мне одному идти в могилу? Путь нам вместе.Эрнани
Нет, демон, не с тобой. Я этой дикой мести Не признаю.Маска
Ах, так? Я понял все вполне! Ужели так ничем ты и не клялся мне? А голова отца? Ты позабыл, конечно? О да, ты мог забыть: ведь юность так беспечна.Эрнани
Отец! О мой отец!.. Теряю разум я.Маска
Ты клятве изменил; черна душа твоя.Эрнани
О!..Маска
Коль в Испании нет ничего святого И старых грандов сын уже не держит слова,(делает шаг, чтобы уйти)
Прощай!Эрнани
Не уходи!Маска
Тогда…Эрнани
О злой старик, Уйти теперь, когда я вижу счастья лик!..Донья Соль возвращается, не замечая Маски, которая стоит в глубине сцены.
Явление шестое
Те же, донья Соль.
Донья Соль
Я не нашла ларца!Эрнани
(в сторону)
Она! Она! О боже, В какой ужасный миг!Донья Соль
Что с ним? Его тревожит Мой голос! Что в руке твоей? Блуждает взгляд! Что держишь ты в руке, скажи мне?Домино сбрасывает капюшон. Донья Соль, вскрикнув, узнает дон Руй Гомеса.
Это яд!Эрнани
О боже!Донья Соль
(к Эрнани)
О, скажи, какой ты тайной связан? Что от меня скрывал?Эрнани
Молчать я был обязан. Жизнь мною отдана тому, кем я спасен, И Сильве долг платить обязан Арагон.Донья Соль
Вы не его, а мой! Отныне жизнью, кровью Вы связаны со мной.(Дон Руй Гомесу.)
Да, я сильна любовью. Я защищу его, кто б на пути ни стал!Дон Руй Гомес
(оставаясь неподвижным)
Коль можешь, защищай. Но все ж он клятву дал.Донья Соль
То правда?Эрнани
Я клялся.Донья Соль
Нет, нет, ты, без сомненья, Свободен от нее! То бред был, ослепленье!Дон Руй Гомес
Идем!Эрнани хочет идти. Донья Соль пытается его удержать.
Эрнани
Оставь! Уйти я должен с ним сейчас. Ему я слово дал. Отец мой слышит нас.Донья Соль
(дон Руй Гомесу)
Уж лучше вам отнять тигренка у тигрицы, Чем у меня того, с кем жизнь успела слиться! Вы знаете ль, кто я? Жалела я всегда И вашу седину, и дряхлые года; Была я девушкой невинной и покорной, Но гневом и слезой сверкает взгляд мой черный.(Выхватывает кинжал, спрятанный на груди.)
Вы видите кинжал? Бесчувственный старик, Иль уж не страшен взгляд, что в сердце вам проник? Смотрите же, дон Руй! Из одного мы рода. Вы — дядя мне. Но пусть у нас одна природа — Супруга моего коснуться я не дам.(Отбрасывает кинжал и падает перед герцогом на колени.)
Ах, я у ваших ног! Явите милость нам! Прощенье, о сеньор! Я женщина, слаба я, Теряю силы я, насилью уступая, Молю пощады я у ваших ног, в пыли! О, если б сжалиться над нами вы могли!Дон Руй Гомес
Что слышу, донья Соль?Донья Соль
О, сжальтесь! Мы в Кастильи Все резки на словах. Когда б вы всё забыли, Вернули мне его! Ведь не были вы злым! Пощады! Вы меня убейте вместе с ним! Я так его люблю!Дон Руй Гомес
Да, слишком!Эрнани
Эти слезы…Донья Соль
Нет, нет, я не хочу, чтоб те сбылись угрозы, Чтоб умер ты. Нет! Нет!(Дон Руй Гомесу.)
Он будет невредим — И вас я полюблю, быть может.Дон Руй Гомес
Вслед за ним? Остатками любви и дружбою небрежной Хотите вы смирить порыв страстей мятежный?(Показывая на Эрнани.)
Он лишь один вам мил! И счастлив он вполне. А я? Иль, мните вы, приятна жалость мне? Все будет у него: любовь, душа, корона. Вам на меня взглянуть позволив благосклонно, Он может, чтоб мою тем успокоить грудь, Вам слово разрешить несчастному шепнуть, Бродяге, что ему уж надоел немало, С презрением плеснет остатки из бокала. Бесчестие! Позор! Нет, надобно кончать. Ну, пей!Эрнани
Я слово дал. Хочу его сдержать.Дон Руй Гомес
Скорей!Эрнани подносит флакон к губам Донья Соль силой отводит его руку
Донья Соль
О, подожди! Внемлите мне вы оба.Дон Руй Гомес
Нет, ждать я не могу. Уж он стоит у гроба.Донья Соль
Мгновенье, о сеньор! Как жестоки сейчас Вы оба! Слушайте, что я хочу от вас. Мгновенье — вот и все, что женщине здесь надо. Позвольте же сказать, что для души отрада, Что в сердце у нее! О, дайте же сказать!Дон Руй Гомес
(к Эрнани)
Я тороплюсь.Донья Соль
Зачем так сердце мне терзать? Что сделала я вам?Эрнани
Ах, плач ее — терзанье!Донья Соль
(снова удерживая его руку)
Мне многое сказать вам надо на прощанье.Дон Руй Гомес
(к Эрнани)
Пора!Донья Соль
(повиснув на руке Эрнани)
О дон Хуан, излиться дай душой И делай все тогда, что хочешь…(Вырывает у него флакон.)
Мой он, мой!(Высоко поднимает флакон перед взорами Эрнани и изумленного старика.)
Дон Руй Гомес
Когда две женщины решают дело чести, Нам мужество искать в другом уж нужно месте. Поклялся хорошо ты головой отца, — Пойду к нему, чтоб он узнал все до конца! Прощай!(Делает несколько шагов к выходу, Эрнани удерживает его.)
Эрнани
Остановись!(Донье Соль.)
Мне ль отступить с позором? Мне ль быть обманщиком, изменником и вором? Иль хочешь, чтоб я шел, куда глаза глядят, С клеймом на лбу моем? Отдай, верни мне яд, Верни его — молю всем сердцем, всею страстью!Донья Соль
(мрачно)
Ты хочешь?(Пьет из флакона.)
Пей теперь!Дон Руй Гомес
(в сторону)
Как? И она? Несчастье!Донья Соль
(возвращает Эрнани наполовину опорожненный флакон)
Возьми его.Эрнани
(дон Руй Гомесу)
Старик, смотри, как ты жесток!Донья Соль
О милый, для тебя тут есть еще глоток!Эрнани
(берет флакон)
Ах!Донья Соль
Ты бы ничего мне не оставил в склянке, Не знаешь сердца ты супруги-христианки, Не знаешь страсти той, в чьих жилах Сильвы кровь, Я первой выпила. Пей ты, моя любовь! Пей, если хочешь…Эрнани
О, что слышу я, несчастный!Донья Соль
Ты этого хотел.Эрнани
Но эта смерть ужасна!Донья Соль
Нет, нет!Эрнани
Но этот яд — прямой к могиле путь.Донья Соль
Не вместе ли должны мы в эту ночь заснуть? А где — не все ль равно?Эрнани
За клятвопреступленье Вот месть твоя, отец!(Подносит флакон к губам.)
Донья Соль
О, страшные мученья! Отбрось скорей флакон! Ах, я схожу с ума! Остановись, Хуан! В той склянке смерть сама! Дракон, стоглавый яд, в какой-то дикой страсти Растет в груди моей, мне сердце рвет на части! О, можно ль так страдать? Весь ад в душе моей! Ах, что со мной сейчас? Огонь! Огонь! Не пей! Нет, ты не вынесешь!Эрнани
(дон Руй Гомесу)
Ты — порожденье ада! Ужели для нее другого нету яда?(Пьет и отбрасывает флакон.)
Донья Соль
Что сделал ты?Эрнани
А ты?Донья Соль
О милый мой, приди В объятия мои!Садятся рядом.
Ты слышишь боль в груди?Эрнани
Нет.Донья Соль
Это свадьбы час. Блаженств ночных начало. Не слишком ли бледна я для невесты стала?Эрнани
Ах!Дон Руй Гомес
Час судьбы пробил.Эрнани
Горит вся грудь моя! Страдает донья Соль — и это вижу я!Донья Соль
Мне лучше, милый мой! Сейчас мы без усилья, Чтоб вместе нам лететь, свои расправим крылья. Вдвоем мы ринемся к иной, большой стране. О, обними меня.Обнимаются.
Дон Руй Гомес
Проклятие на мне!Эрнани
(слабеющим голосом)
Благодарю судьбу за весь мой путь прекрасный В изгнанье, средь врагов, в ночи, всегда опасной, За то, что в час, когда я жизнью утомлен, Здесь, на твоей груди, мне послан этот сон!Дон Руй Гомес
Как счастливы они!Эрнани
(все более слабеющим голосом)
Мне ночь легла на очи. Страдаешь ты?Донья Соль
(таким же угасающим голосом)
Нет, нет.Эрнани
Ты видишь свет средь ночи?Донья Соль
Где?Эрнани
(со вздохом)
Вот…(Падает.)
Дон Руй Гомес
(поднимает его голову, которая вновь падает)
Он мертв.Донья Соль
Он мертв? О нет! Он крепким сном Заснул! О мой супруг! Как хорошо вдвоем! Мы оба здесь легли. То свадьбы нашей ложе.(Угасающим голосом.)
Зачем его будить, сеньор де Сильва? Боже, Он так устал сейчас…(Поворачивает к себе лицо Эрнани.)
Взгляни, любовь моя! Вот так… в мои глаза…(Падает.)
Дон Руй Гомес
Мертва! И проклят я!(Убивает себя.)
СТИХОТВОРЕНИЯ
ОДЫ И БАЛЛАДЫ
ИСТОРИЯ Перевод П. Антокольского
Железный голос.
ВергилийI
В судьбе племен людских, в их непрестанной смене Есть рифы тайные, как в бездне темных вод. Тот безнадежно слеп, кто в беге поколений Лишь бури разглядел да волн круговорот. Над бурями царит могучее дыханье, Во мраке грозовом небесный луч горит. И в кликах праздничных, и в смертном содроганье Таинственная речь не тщетно говорит. И разные века, что братья исполины, Различны участью, но в замыслах близки, По разному пути идут к мете единой, И пламенем одним горят их маяки.II
О муза! Нет времен, нет в будущем предела, Куда б она очей своих не подняла. И столько дней прошло, столетий пролетело, — Лишь зыбь мгновенная по вечности прошла. Так знайте, палачи, — вы, жертвы, знайте твердо, Повсюду пронесет она бессмертный свет — В глубины мрачных бездн, к снегам вершины гордой, Воздвигнет храм в краю, где и гробницы нет. И пальмы отдает героям в униженье, И нарушает строй победных колесниц, И грезит, и в ее младом воображенье Горят империи, поверженные ниц. К развалинам дворцов, к разрушенным соборам, Чтоб услыхать ее, сберутся времена. И словно пленника, покрытого позором, Влечет прошедшее к грядущему она. Так, собирая след крушений в океане, Следит во всех морях упорного пловца И видит все зараз на дальнем расстоянье — Могилу первую и колыбель конца. 1823ЗАВЕРШЕНИЕ Перевод В. Левика
Ubi defuit orbis[446].
I
Так — я перелистал историю народов! Все есть в той книге — скорбь, величье, блеск походов. И дух мой трепетал при смене царств и лет, Когда скрывала тьма мужей великих лица, Гремя, откидывалась медная страница И век злодеев шел вослед. Теперь ту книгу мы закроем — не пора ли! В надежде пламенной мы сфинкса вопрошали — Немое чудище в личине божества, Но разве разрешит его загадку лира? Лишь кровью и огнем он в летописи мира Заносит темные слова.II
И кто поймет их смысл? Искатель правды смелый, Усни, усни, поэт, над лирой онемелой! К чему нести на торг заветной думы плод? Зачем ты пел, скажи, то гневно, то уныло?.. Пытливой мысли нужно было В движенье увидать народ. Дух революции я вызвал беспокойный? Но хаос надобен, чтоб мир воздвигнуть стройный, Я слышал некий глас в безмолвии ночном, И я воззвал к толпе, чтобы могучим словом Век отошедший с веком новым Соединить одним звеном. Народ внимающий необходим поэту — Он должен жечь сердца, будить, вести их к свету, Он должен видеть мир бескрайный пред собой, Он к небу воспарил, раскрыв крыла впервые, И что ж — он как в родной стихии Над бездной моря голубой! Он мощь обрел свою. Взмахнув крылом могучим, То волн коснется он, то унесется к тучам, В любой предел стремит безудержный полет. Он в вихре кружится, как буря, чужд покою, Ногою став на смерч, рукою Поддерживая небосвод! 26 мая 1828 г.ФЕЯ Перевод Э. Линецкой
И королева Маб ко мне явилась тенью.
Когда мы спим, она низводит к нам виденья.
Эм. Дешан. «Ромео и Джульетта» Будь то Урганда иль Моргана, — Но я люблю, когда во сне, Вся из прозрачного тумана, Склоняет фея стебель стана Ко мне в полночной тишине. Под лютни рокот соловьиный Она поет мне песни те, Что встарь сложили паладины, — И я вас вижу, исполины, В могучей вашей красоте. Она за все, что есть святого, Велит сражаться до конца, Велит сжимать в руке суровой Меч рыцаря, к боям готовый, И арфу звучную певца. В глуши, где я брожу часами, Она, мой вездесущий друг, Своими нежными руками Луч света превращает в пламя И в голос превращает звук. Она, укрывшись в речке горной, О чем-то шепчет мне тайком, И белый аист, ей покорный, Со шпиля колокольни черной Меня приветствует крылом. Она у печки раскаленной Сидит со мною в поздний час, Когда на нас из тьмы бездонной Глядит, мигая утомленно, Звезды зеленоватый глаз. Влечет видений хороводы, Когда блуждаю меж руин, И эхо сотрясает своды, Как будто там грохочут воды, Подобные волнам стремнин. Когда в ночи томят заботы, Она, незрима и легка, Приносит мне покой дремоты, И слышу я то шум охоты, То зов далекого рожка. Будь то Урганда иль Моргана, Но я люблю, когда во сне, Вся из прозрачного тумана, Склоняет фея стебель стана Ко мне в полночной тишине. 1824СИЛЬФ Перевод И. Озеровой
Гроза обрушилась, шутя,
На беззащитное дитя.
— Откройте, — крикнул он, — я голый!
Лафонтен. «Подражание Анакреону» «Ты, что жадному взору в окне освещенном Вдруг предстала сильфидой в смирении скромном, Отвори мне! Темнеет, я страхом объят! Бледных призраков полночь ведет небосклоном, Дарит душам покойников странный наряд! Дева! Я не из тех пилигримов печальных, Что рассказы заводят о странствиях дальних, Не из тех паладинов, опасных для дев, Чей воинственный клич откликается в спальнях, Будит слуг и пажей, благодарность презрев. Нет копья у меня или палицы быстрой, Нет волос смоляных, бороды серебристой, Скромных четок, меча всемогущего нет. Если дуну отважно я в рог богатырский, Только шепот игривый раздастся в ответ. Я лишь маленький сильф, я дитя мирозданья, Сын весны, первозданного утра сиянье, Я огонь в очаге, если вьюга метет, Дух рассветной росы, поцелуй расставанья И невидимый житель прозрачных высот. Нынче вечером двое счастливых шептали О любви, о горенье, о вечном начале. Я услышал взволнованный их разговор, Их объятья мне накрепко крылья связали, Ночь пришла — а свободы все нет до сих пор. Слишком поздно! Уже моя роза закрылась! Сыну дня окажи ты великую милость — Дай до завтра в постели твоей отдохнуть! Я не буду шуметь, чтобы ты не смутилась, Много места не надо — подвинься чуть-чуть. Мои братья уходят в цветущие чащи, Открывают им лилии сладкие чаши, Травы в чистой росе, как в вечерних слезах. Но куда же бежать мне? Дыханье все чаще: Ни цветов на лугах, ни лучей в небесах! Умоляю, услышь! Ночи темные эти Ловят маленьких сильфов в незримые сети, К белым призракам, к черным виденьям влекут… Сколько сов обитает в гробницах на свете! Сколько ястребов замки в ночи стерегут! Близок час, когда все мертвецы в исступленье Пляшут в немощной ночи при лунном свеченье. Безобразный вампир, полуночный кошмар, Раздвигает бестрепетной дланью каменья И могиле приносит могильщика в дар. Скоро карлик, весь черный от дыма и пепла, Снова спустится в бездну бездонного пекла, Огонек промелькнет над стеной камыша, И сольются, чтоб в страхе природа ослепла, Саламандры огонь и Ундины душа[447]. Ну, а если мертвец, чтоб от скуки отвлечься, Средь костей побелевших велит мне улечься?! Иль, над страхом смеясь, остановит спирит, Мне прикажет от мирных полетов отречься, В тайной башне мечты и порывы смирит?! Так открой же окно мне, покуда не поздно, Не вели мне отыскивать старые гнезда И вторжением ящериц мирных смущать! Ну, открой же! Глаза у меня, словно звезды, И признанья умею я нежно шептать. Я красив! Если б ты хоть разок поглядела, Как трепещет крыло мое хрупко и смело! Я, как лилия, бел, я прозрачнее слез! Из-за ласки моей и лучистого тела Даже ссоры бывают порою у роз! Я хочу, чтоб сказало тебе сновиденье (Это знает сильфида), что тщетны сравненья: Безобразна колибри, убог мотылек, Когда я, как король, облетаю владенья, — Из дворца во дворец и с цветка на цветок. Как мне холодно! Тщетно молю о тепле я… Если б мог за ночлег предложить, не жалея, Я тебе мой цветок и росинку мою! Нет, мне смерть суждена. Я богатств не имею, — Их у солнца беру и ему отдаю. Но укрою тебя я во сне небывалом Шарфом ангела, феи лесной покрывалом, Ночь твою освещу обаянием дня. Будет сон этот нового счастья началом, От молитвы к любви твою душу маня. Но напрасно стекло мои вздохи туманят… Ты боишься, что зов мой коварно обманет, Что укрылся поклонник за ложью речей?! Разве слабый обманывать слабого станет? Я прозрачен, но тени пугаюсь своей!» Он рыдал. И тогда заскрипели засовы, Нежный шепот ответил нездешнему зову. На балконе готическом дама видна… Мы не знаем, кого удостоила крова, — Сильфу или мужчине открыла она! 1823ВЕЛИКАН Перевод И. Озеровой
Даже облака в недоступном небе боятся, что я последую за моими врагами в их лоно…
Мутанабби[448] О воины! Рожден я был средь галлов смелых. И Рейн переступал мой пращур, как ручей. Меня купала мать в морях обледенелых, И колыбель была из шкур медведей белых, Поверженных отцом, сильнейшим из мужей. Отец мой был силён! Но возраст сгорбил спину, На лоб морщинистый легла седая прядь. Он слаб, он стар! Увы, близка его кончина… И трудно вырвать дуб и вытесать дубину, Чтобы дрожащий шаг в дороге поддержать. Я заменю отца! Хотя умрет он вскоре, Он завещал мне лук, и дротик, и быков. Я по следам отца пойду, осилив горе, И если дуну я на дальний лес со взгорья, — Дыханием сломлю столетний дух стволов. Став отроком едва, я на альпийских кручах Торил себе тропу в нагроможденье скал, И голова моя тогда терялась в тучах, И часто я следил полет орлов могучих, И с голубых небес их прямо в руки брал. Перекрывало гром в грозу мое дыханье, Гасило молнии извилистый полет. Когда резвился кит в бескрайнем океане, Я ждал у берега моей законной дани И доставал кита, создав водоворот. Ударом удалым учился настигать я Акулу в глубине и ястреба вдали, Медведю смерть несли жестокие объятья, Ломала рысь клыки, но лишь рвала мне платье, — Мне причинить вреда укусы не могли. Но отрочества мне прискучили забавы, И устремлен теперь я к мужеству войны. Проклятья плачущих, победный запах славы И воины мои с оружием кровавым, Как пробужденья клич, сегодня мне нужны. Во мгле пороховой, в горячке рукопашной Всё, словно вихрь, войска сметают пред собой, А я встаю один, огромный, бесшабашный, И, как баклан в волну врезается бесстрашный, Ныряю смело я в кровавый, мутный бой. Потом иду, как жнец среди колосьев спелых, И остаюсь один в поверженных рядах. Доспехи — словно воск для великанов смелых, И голый мой кулак легко пробить сумел их, Как узловатый дуб в уверенных руках. Я так силен, что в бой иду без снаряженья, Одетые в металл, мне воины смешны. Из ясеня копье не знает пораженья, И волокут быки мой шлем без напряженья, Когда они в ярмо попарно впряжены. Ненужных лестниц я не строю для осады, Я просто цепи рву у крепостных мостов, Кулак мой, как таран, легко крушит преграды; Когда в пылу борьбы мне ров засыпать надо, Обламываю я ограды городов. Но, как для жертв моих, и мой черед настанет… О воины! Мой труп не бросьте воронью! Пусть гордый горный кряж моей могилой станет. Когда же на хребты здесь чужестранец глянет, Не сможет разглядеть средь многих гор — мою. Март 1825 г.ПОСЛУШАЙ-КА, МАДЛЕН Перевод И. Озеровой
Любите же меня, покуда вы прекрасны.
Ронсар Послушай-ка, прекрасная Мадлен! Сегодня день весенних перемен — Зима с утра покинула равнины. Ты в рощу приходи, и снова вдаль Нас позовет врачующий печаль Звук рога, вечно новый и старинный. Приди! Мне снова кажется, Мадлен, Что, уничтожив зимний белый плен, Весна оттенки пробуждает в розах… Так хочет угодить тебе весна: На вереск ночью вытрясла она Цветное платье, вымытое в росах. О, если б я овечкой стал, Мадлен, Чтобы затихнуть у твоих колен, Когда коснутся белой шерсти руки! О, если б я летящей птицей стал, Чтоб в бездне неба я затрепетал, Призыва твоего услышав звуки. Когда б я был отшельником, Мадлен, Ко мне бы ты явилась в Томбелен Для исповеди и для покаянья, Свои уста приблизила б ко мне, Шепча в благочестивой тишине Про грех вчерашний девичьи признанья. О, если бы я получил, Мадлен, Глаз мотылька моим глазам взамен, То в темноте я стал бы страстно-зорким, И билось бы нескромное крыло В прозрачное, но прочное стекло Твою красу скрывающей каморки. Когда выходит грудь твоя, Мадлен, Из плена крепостных корсетных стен, А черный бархат разомкнет объятья, — Стесняясь неприкрытой наготы, Торопишься простосердечно ты На правду зеркала набросить платье. О, если б захотела ты, Мадлен, Ты воцарилась бы, как сюзерен, Над преданностью слуг, пажей, вассалов. В твоей молельне, радующей глаз, Скрывал бы камни шелк или атлас, Пышнее, чем убранство тронных залов. О, если б захотела ты, Мадлен, То не вербена или цикламен Тогда твою бы шляпку украшали, Тогда носила бы корону ты, И вечные жемчужные цветы На ней бы никогда не увядали. О, если б захотела ты, Мадлен, Дворец бы дал на хижину в обмен Я — граф Роже, я — раб твоей причуды. Но если хочешь, буду пастухом, Вдвоем с тобою в шалаше глухом, Как во дворце, я вечно счастлив буду. 14 сентября 1825 г.ОХОТА БУРГГРАФА Перевод М. Донского
…А старый фавн меж тем
смеялся в старом гроте.
Сегре[449] Старый бургграф с сенешалем у гроба Оба. «Готфрид святой, ты для нас господин Один. В наших лесах уже нету былого Лова; Если охотничьих дашь нам побед, — Обет Ныне даю почитать твои мощи. Мощи Дай своему, о лежащий в гробу, Рабу! Рог подарю тебе кости слоновой. Новый Склеп возведу с драгоценной плитой Литой. Будет у гроба всегда для поминок Инок; Сам средь монашьих паду власяниц Я ниц!» В склепе сыром выступает из мрака Рака. Знает бургграф, что избавит обет От бед. Солнце на небе высоко пылает. Лает Свора борзых: их не кормят псари С зари. «Паж, пусть печется получше о конях Конюх. Всыпать в кошель не забыл ты монет?» «О нет!» «Полно вам, бросьте вы карты и кости, Гости! Выберет каждый немедля пусть лук У слуг. Вас в своем замке задумал собрать я, Братья, Чтоб вам охотничье сердце рожок Ожег!» Чаши и кубки выносят на блюде Люди. Вот поварята и повар седой С едой. Графу ременный стянул наколенник Ленник; Паж поправляет алмазный аграф, А граф В рог затрубил, созывая отважных: Важных Графов имперских и бедных дворян. Он рьян! С башни графиня рукой белоснежной Нежной Машет лукаво. Вокруг госпожи — Пажи. Мост на цепях опустили драбанты. Банты Ветер срывает с беретов и грив, Игрив. Мчитесь, спасаясь от рыцарской длани, Лани! Бойтесь, косули, тугой тетивы И вы! Скачут охотники. Вдруг — к их смятенью — Тенью Стройный олень промелькнул, где кусты Густы. «Гончих спустите по красному зверю! Верю — Псы нам покажут свою быстроту! Ату! Ловчие, вы удивитесь награде! Ради Дичи такой ничего, сенешаль, Не жаль! Нимфа, владычица мира лесного, Снова Мы в твоем царстве. Не будь к нам строга, — Рога Зверя своим волхованием тайным Дай нам! Дай, мать охотников, дай, сестра фей, Трофей!» Вихрем несется скакун андалузский. Узкий Бархатный душит бургграфа камзол. Он зол. Графские псы самому королю бы Любы. Дать может волку-грабителю бой Любой. Мощны их лапы, свирепы их морды. Орды Мчат, чтоб, оскаливши бешено пасть, Напасть. Рощи, прощайте! Прощайте, лужайки! Шайке Яростной нужно оленя сгубить, Убить. Мчится олень, свою резвость удвоя. Воя, Псы настигают… Отстали на пядь Опять. Граф разъярен. Он скакать велит слугам Лугом. Сам же он лесом несется, гоня Коня. Мнут на лугах скакуны Калатравы Травы. Топчет охота, гремя и пыля, Поля. Тяжко храпят от безумной погони Кони. Вот покатился с конем паладин Один. Лес! Беглецу путь открой ты к спасенью! Сенью Свежих ветвей, где царит соловей, Овей! Гончих собак поредела густая Стая: Сбились иные, почуяв лису В лесу. Рыщут они средь кустов и бурьяна Рьяно. Скоро они след, оставленный тут, Найдут. Зверь убегает от стаи рычащей Чащей. Рвут ему сучья бока и живот. И вот — Озеро видит в лесу он дремучем. Мучим Жаждою, жадно пьет воду олень. О, лень! Здесь ты царила: склонялись, ленивы, Ивы, Речка прозрачная, как из стекла, Текла… Лай, улюлюканье, криков и смеха Эхо, — Где лишь услышать могли шелест вы Листвы. Лес оглашен звуком рога знакомым. Комом Сжался олень: его ужас прожег. Прыжок, — Ив расступились зеленые своды. В воды Прянул олень. Водоем здесь глубок. Клубок Псов, потерявших от ярости разум, Разом — В воду за ним… Это смерти порог. О, рог! Эхо разносит звук рога победный. Бедный Зверь, это гибели грозный пророк! О, рог! Видишь ли ты, что тебя окружили, Или Ищешь еще ты к спасенью дорог? О, рог! Руки тверды у стрелка и жестоко Око. Целит в тебя он, стянув лук тугой Дугой. К берегу зверь подплывает усталый. Алой Кровью окрашен, травы стал покров Багров. К стонам их жертвы охотников глухо Ухо. Что же, толпа палачей, обнажи Ножи! Кто же вонзит ему в сердце кинжала Жало? Первым по праву, бургграф-государь, Ударь! Вам будет знатный, с бургграфом кто дружен, Ужин. Ждет уже в замке, сеньор и вассал, Вас зал. Будут о подвигах петь менестрели. Трели Флейт и гобоев там будут греметь И медь. Но торжествует убийца твой рано: Рана И у него — его честь сражена. Жена, С мужем скучая суровым и старым, Даром Время не тратит. Смеются над ним Одним Двое: графиня и юноша вместе. Мести Радуйся, бедный олень: у врага — Рога!ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ[450] Перевод А. Голембы
И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли.
«Бытие»I
Видали ль тучу вы, чья глубь как ночь черна? В ней бледность — алостью блестящей сменена, В ней сумрак молниями вспорот; Все кажется: летит, бореями гоним, Одетый в грохоты и раскаленный дым, Пылающий мятежный город! К хребтам прильнет она иль к зыбям там, внизу? Иль это дьяволы на огненном возу Летят, куда влечет стихия? О, ужас бедствия! Ужель в годину гроз Испустит молнию таинственный хаос Подобьем огненного змия?II
Моря! Везде моря! Пространство без границ, Нигде опоры нет крылам усталых птиц, Везде гривастые личины Зелено-синих волн в безумье неземном: Куда хватает глаз — все ходит ходуном Над смутным обликом пучины! Порою сквозь волны причудливый изгиб Мерцают плавники непостижимых рыб, С лазурью сплетены живою; Бурунные стада, и пенное руно, И солнце — бронзовым щитом вознесено В голубизну над синевою. «Должна ль я осушить моря с моих высот?» «О, нет!» И туча длит свой огненный полет.III
Залив в обрамлении горном, Зеркальная гладь глубины; Здесь буйволы людям покорны, Здесь песни весельем полны. Живут здесь, вольны и суровы, Охотники и рыболовы, — Цветасты шатров их покровы, А копья и стрелы — грозны! Привольно живется на свете Им, детям любви и добра, — Танцуют кочевники эти Вокруг золотого костра. Так отроки, девы, мужчины Здесь пляшут, не зная кручины, А пламя меняет личины, Как дивных мечтаний игра! Там девы смуглы и прекрасны, Как сумрак, что их обласкал; Улыбки их зыблются властно В мерцании медных зеркал. Там руки красавиц ленивых Верблюдиц доят терпеливых; Там, темные пальцы облив их, Молочный ручей засверкал! Там женщины, словно наяды, Ныряют, не зная стыда. Бродяги, пришельцы, номады, Откуда пришли вы сюда? Там голос кимвалов струится, Там яростно ржут кобылицы И слиться со ржаньем стремится Рокочущих волн череда. И облако, на миг застыв в своем пути, Вдруг вопрошает: «Здесь?» В ответ звучит: «Лети!»IV
Египет! В золоте колосьев он простер Своих богатых нив пестреющий ковер, Равнина там равнину множит; Там воды севера безмерны и свежи, Песчаный зной сковал там юга рубежи, Два моря эту сушу гложут. Там создал человек три вечные горы. От взора алчного скрывают их шатры Под мрамором — нетленность праха. И от златых песков до острых их вершин Восходят к небесам ступени в шесть аршин, Шаги гигантского размаха. Здесь розовеет сфинкс, здесь мраморный божок Бдит, чтобы жгучий вихрь, песчаный вихрь — не мог Обжечь их веки в исступленье. Здесь в гавань шествуют большие корабли, И город-исполин здесь, на краю земли, Омыл гранитные колени. Порою здесь мычит убийственный самум, И слышится порой негромкий щебня шум Под крокодильими ногами. А обелиски здесь полосками рябят, Тигровой шкурою, — когда глядит закат В Нил, испещренный островами. Закат. Безветрие. В зеркальной глубине Блаженно отражен мерцающий в огне Шар — весь из золота живого; В румяности небес и в синеве морской Два солнца царственных уходят на покой, Готовы расточиться снова. «Не здесь ли?» — «Нет, не здесь! Ищи!» И в мире гор Смятенье: потрясен синеющий Фавор.V
Песчаные просторы, Угрюмая тоска, Блуждающие горы Сыпучего песка, Что, бурею гонимы, Плывут, неутомимы, Текут, неистощимы, Как знойная река. Лишь, словно отзвук мира, В песков священный стан Порою из Офира Вступает караван. И мраморным удавом По гребням желтоглавым И по сожженным травам Ползет в мираж-туман. В безводном океане Взывает к небу плоть: Его пределы-грани Определил Господь. Он реет над пустыней, Чей воздух в дымке синей Костер — слепой гордыней Стремится проколоть! «Должна ль я в озеро пустыню превратить?» «Нет! — молвит горний глас, — велю я дальше плыть!»VI
Громадой башенной пески разворотив, Вот возникает вдруг, как исполинский риф, Угрюмый облик Вавилона. Свидетель жалкого ничтожества людей, Окутал тенью он безмерною своей Четыре гордых горных склона. Здесь лишь развалины угрюмые теперь, Но там, где ветер длил мелодию потерь, Там своды небо подпирали, Там улей был людской, и, смерти вопреки, Там Вавилон вознес над всей землей витки Своей чудовищной спирали! Здесь лестницы росли, карабкаясь в зенит, Здесь горы ближние казались ниже плит; По циклопическим ступеням, В сплетенье ярусов, в борьбе гранитных масс, Вздымалось здание, пугающее глаз Пирамидальным завихреньем! Слонов гигантских взлет гранитный умалил! Казался ящеркой громадный крокодил Тем, кто вверху прильнул к карнизу; А пальмы, взросшие на башенном челе, Кивая зрителям, стоявшим на земле, Былинками казались снизу! Возрос безумный лес под сенью крутизны, В проломы древних стен гигантские слоны Проходят чередою мерной, Их сводов не задев, — и вновь уходят прочь. А грифы и орлы витают день и ночь Над этой пасекой безмерной. И туча молвит вновь: «Казнить?» И ей в ответ Всевышний: «Вдаль лети! Еще не время, нет!»VII
Но вот два города неведомых и странных Спят, беспробудно спят в густых ночных туманах Под наслоеньями дремотных облаков, Со всем, что живо в них, — с семьей своих богов. Уснули люди в них и смолкли колесницы, Над ними лунный свет тревожно серебрится, И предстают очам, заворожённым вдруг, Пилястры, лестницы и гордый акведук; И предстают очам в том мире полутемном Слоны гранитные под куполом огромным: Соитий мерзостных бестрепетный итог, Уродцы-чудища спят у слоновьих ног. Висячие сады, в живых цветах аркады, Деревья черные и резвых волн каскады, И в пышных капищах, меж изразцовых плит, Сонм яшмовых божков — быкоголовых — спит; И храм, где тяжела из цельной глыбы крыша, Где боги бодрствуют, все видя и все слыша, Бронзоголовые, они в полночный час Не поднимают глаз и не смыкают глаз. Палаты пышные и темные аллеи, Где призраки порой являются, белея; И арки, и мосты, и стены, чей повтор Приковывает взгляд и поражает взор! Вот в сумрачную высь, как грузные колоссы, Вплывают здания — угрюмые утесы; Но тысячами звезд мерцает горний сад Над грузным скопищем чудовищных громад, — И звездный небосвод пылает, чист и ярок, Сквозь кружево земных тысячекратных арок. О, эти города соблазнов адских всех! О, эти торжища неслыханных утех! Под кровлей каждою усладам блуда внемля, Двойною язвою они позорят землю! Однако дремлет все: в презренных городах Каких-то факелов мятется робкий взмах: То пира прежнего разгульная утрата, Полупогасшие светильники разврата! Изгибы грозных стен иль башни-сторожа, В воде отражены, спят, под луной дрожа; И в сутеми равнин — в час поздний или ранний — Лобзаний лепеты и шелесты дыханий, И губы городов, избывших жар дневной, Бормочут ласково в сетях любви земной! И ветер затаил под сенью сикоморы Благоухания Содома и Гоморры! Но туча черная свершить готова суд, И голос горний ей вещает: «Это тут!»VIII
Взмывают из тучи Зарницы, что жгучи, Их пламень пунцов! И серные волны Бьют, ярости полны, В ступени дворцов, И огнь рыжеглавый Шлет отблеск кровавый, Как гибели зов! Содом и Гоморра! Над гнилью позора Взмыл купол огня! Искуплены тучей И серою жгучей Ваш блуд и возня! И молнии сами Смеются над вами, Клинками звеня! Испуганы люди, Погрязшие в блуде, И падают ниц! Валятся колоссы, Сцепились колеса Златых колесниц! И толпы в смятенье: Огня исступленье Не знает границ! Кичливы и странны, Летят истуканы С надменных твердынь. Мрут люди под шаткой Обрушенной кладкой В рассветную синь; От стен огневейных, Людской муравейник, Испуганно хлынь! От серного ливня, От гневного бивня Укрыться куда? Всё пламя сметает, — В нем вьется и тает Крыш плоских гряда! И в бликах мгновенных На плитах и стенах Ярится беда! Под каждою искрой Вздымается быстрый И властный огонь: Прозрачный и ясный, Безмерно прекрасный, Разнузданный конь! И бронзовый идол Из пламени выдал Живую ладонь! Забывшие бога Вопят близ чертога, Обличья сокрыв! Вдруг зелень и алость Во тьме заметалась Меж сернистых грив! И стены и лоно — Как хамелеона Чешуй перелив! Здесь в корчах утраты Порфиры, агаты, Надгробий туман, — И тяжкий, нескладный Кумир кровожадный — Набо-истукан! День в пламени жарком По стенам и аркам Плутает, багрян! Зря маги их, зорки, Влекут на пригорки Злых идолов жуть, И жрец их великий Все тщится туникой Огнь серный задуть! Вновь волны, упрямы, Вздымают их храмы На гневную грудь! А чуть в отдаленье Уносит стремленье Разгневанных вод Палаты гордыни, И, сбившись в теснине, Рыдает народ, И стены квартала Дробятся устало И тают, как лед! На берег греховный Жрец прибыл верховный: Пылает река! Тиара зарделась, Потом загорелась, Как огнь маяка! Сорвал ее старый, Но вместе с тиарой Сгорает рука! Народ изумленный, Огнем ослепленный, Смятеньем объят! Две гавани мертвых, Где волны — в когортах Огнистых громад! Где люди трепещут, Увидев, как блещет Разбуженный ад!IX
Подобно узнику, что со стены острожной Глядит, как блещет меч над жалкой головой, Томился Вавилон в миг казни непреложный, Двух алчных городов сообщник роковой. Всем слышен был раскат таинственного гула В том мрачном городе за цепью дальних гор, — Всем, вплоть до мертвецов во мгле подземных нор: Весь потрясенный мир казнь эта ужаснула!X
Безжалостный огонь! Огня коварный плен: Никто не смог бежать из этих подлых стен, — В отчаянье вздымая руки, Вопили, жалкие, — взывала к небу плоть, — И вопрошали все: чей мстительный господь Обрек их на такие муки? Сей огнь божественный, сей гневный огнь живой Повис как грозный меч над каждой головой — Над всею воющей оравой! Взывают, мерзкие, к божкам своих проказ, Но гневный вихрь плюет в зрачки гранитных глаз Своею огненною лавой! Так истребила всё пожара крутоверть, Людей и пажити — всё поглотила смерть! И самый след существованья Господь карающий огнем испепелил; И вихрь неведомый в ту полночь изменил Хребтов окрестных очертанья. А нынче пальма там взирает со скалы: Унылая, кладет на крылья душной мглы Свои желтеющие листья. И там, где грешные роились города, Былого зеркалом — спит озеро из льда, Дымясь под жертвенною высью! Октябрь 1828 г.ЭНТУЗИАЗМ Перевод А. Ревича
Смелее, юноша! Вперед!
Андре Шенье Прощайте! Час настал! Нас Греция зовет! За боль твою и кровь, страдающий парод, Платить придется басурманам! Свобода! Кровь за кровь! Друзья мои, пора! Тюрбан обвил чело! И сабля у бедра! Уже оседлан конь! Пора нам! Когда? Сегодня же! Наш срок определен. По коням! Рысью марш! И на корабль — в Тулон! Нам крылья бы — и мы у цели! Хотя бы часть полка нам прежнего собрать, И оттоманский тигр, завидев нашу рать, Умчится прочь резвей газели! Командуй же, Фавье![451] Исполни эту роль! Ты строй умел водить, как ни один король! Мастак в делах такого рода, Ты тенью римлянина среди греков стань! Испытанный солдат, в твою вложили длань Судьбу несчастного народа! Французские штыки и весь оркестр войны — Орудья и картечь, стряхните ваши сны! Пора! Вы слишком долго спали! Воспряньте, скакуны, чей топот словно гром, Ружье и пистолет с оттянутым курком И сабли из упругой стали! Скорей увидеть бой! Скорее в первый ряд! Туда, где всадники турецкие летят На всполошенный строй пехоты, Где сталь дамасская над гривой скакуна Сверкнет — и голова бойца отсечена! Смелей!.. Поэт, поэт! Ну что ты? Конечно, где уж нам сражаться на войне? Меж старцев и детей сегодня место мне. Дрожу от вздоха непогоды, Как лист березовый в осенней желтизне, Летящий на ветру, скользящий по волне. Как сон, мои проходят годы. Весь мир — моя мечта: луга, холмы, леса. Весь день мне слышатся свирелей голоса И мирный шум дубов старинных. Когда в долины мгла вечерняя ползет, Люблю глядеть в стекло озерных светлых вод, Где тучи плавают в глубинах. Люблю одетую в туман, как в пелену, Луну багровую. И светлую луну У облака на самой кромке. На ферме полночью люблю скрипучий бег Закутанных во тьму нагруженных телег, Когда их лай встречает громкий. 1827ПЛЕННИЦА Перевод А. Ревича
Щебет птиц был благозвучен, как стихи.
Саади. «Гюлистан» В краю моей неволи Мила мне эта даль, Маисовое поле, Волны морской печаль И ярких звезд мильоны. Но стены непреклонны, И замер страж бессонный, Чьей сабли светит сталь. На что мне евнух старый? Я и сама б могла Настроить лад гитары, Глядеться в зеркала. Без грусти бы ушла я К полям родного края, Где, юношам внимая, Была я весела. И все-таки на юге Светло душе моей, В окно не рвутся вьюги, И летний дождь теплей. Здесь все подобно чуду, И светляки повсюду На зависть изумруду Горят среди стеблей. У Смирны лик царицы, Ее наряд богат, И весен вереницы На зов ее летят, И, как соцветья в чаще, Архипелаг манящий На синеве блестящей Притягивает взгляд. Мне нравятся мечети И флаги в вышине, Игрушечные эти Милы домишки мне, И любо мне украдкой Мечте предаться сладкой, За занавеской шаткой Качаясь на слоне. Здесь, в сказочном серале Душе моей слышны Глухие звуки дали, Неясные, как сны. Быть может, это джинны, Покинув дол пустынный, Свели в напев единый Все вздохи тишины? Люблю я запах пряный, Заполонивший дом, И шепот неустанный Деревьев за окном, И всплеск струи студеной Под пальмовою кроной, И минарет — колонной, И аиста на нем. Как весело над лугом Кружится пляска дев, И сладостен подругам Испанский мой напев, Их круг струится зыбкий, Их смех нежнее скрипки, И светятся улыбки В тени густых дерев. Но мне всего дороже, Вдыхая бриз ночной, Сидеть в мечтах на ложе, Глядеть в простор морской, Где свет луны лучистый Лежит на глади чистой, Как веер серебристый, Колеблемый волной. 7 июля 1828 г.ЛУННЫЙ СВЕТ Перевод А. Ревича
Благосклонно молчанье луны.
Вергилий Играет лунный свет на гребнях бурных вод. В раскрытое окно струится ветер свежий. Султанша смотрит в ночь, где море вдоль прибрежий И среди черных скал седой узор плетет. Гитара под рукой затихла. И ни звука. Но что там вдалеке?.. Какой-то всплеск иль зов? Возможно, тишину уснувших островов Тревожит веслами тяжелая фелука? А может быть, баклан ныряет под волну, Весь в брызгах, весь дождем осыпан серебристым? А может, пролетел какой-то джинн со свистом И глыбы старых стен обрушил в глубину? Ну что у стен дворца так волны возмутило? Нет, это не баклан, обрызганный волной, Не камни древние, не шумных весел строй, Несущих парусник, когда висят ветрила. Тяжелые мешки, откуда плач плывет. Их море приняло в свои объятья смело. Там что-то двигалось, похожее на тело… Играет лунный свет на гребнях бурных вод. 2 сентября 1828 г.ЧАДРА Перевод Г. Шенгели
Молилась ли ты на ночь, Дездемона?
ШекспирСестра
Что, братья, стало нынче с вами? Легла забота на чело, И, точно траурное пламя — Глаза сверкают тяжело; Вы пояса почти сорвали И много раз, видала я, Наполовину обнажали Своих кинжалов лезвия.Старший брат
Не подымалась ли вчера чадра твоя?Сестра
О, я из бани возвращалась, Из бани возвращалась я, От глаз гяуров укрывалась, Лицо в густой чадре тая; Но душны наши паланкины, Я от жары изнемогла И лишь на миг, на миг единый, Лишь край чадры приподняла.Второй брат
А там мужчина был? глядел из-за угла?Сестра
Да… кажется… но дерзким взглядом Меня коснуться он не мог!.. Вы шепчетесь? Вы встали рядом! Ужель меня постигнет рок? Вам крови надо? О, за что же? Клянусь, меня не видел он! Ужель сестру убить без дрожи Жестокий вам велит закон?Третий брат
Гляди: он весь в крови — закатный небосклон!Сестра
Нет, пощадите! Умоляю! Ах! в грудь — четыре лезвия! Я вам колени обнимаю! Чадра моя, чадра моя!.. О, поддержите! Нету силы! По пальцам — крови жаркий бег! Темно в глазах… чадра могилы Спустилась у бессильных век.Четвертый брат
И этой не поднять тебе чадры вовек! 1 сентября 1828 г.КУПАЛЬЩИЦА ЗАРА Перевод Е. Полонской
Лучи на лик ее сквозь ветви темной чащи
Бросали тень листвы, от ветра шелестящей.
Альфред де Виньи Зара в прелести ленивой Шаловливо Раскачалась в гамаке Над бассейном с влагой чистой, Серебристой, Взятой в горном ручейке. С гамака склонясь к холодной Глади водной, Как над зеркалом живым, Дева с тайным изумленьем Отраженьем Восхищается своим. Каждый раз, как челн послушный Свой воздушный Совершает легкий путь, Возникают на мгновенье В отраженье Ножка белая и грудь. Осторожно, но отважно Холод влажный Зара ножкою толкнет: Отраженье покачнется — Засмеется Зара, чуя холод вод. Спрячься под листвою темной, Гость нескромный! Омовенье совершив, Выйдет Зара молодая, Вся нагая, Грудь ладонями прикрыв. Как прекрасное виденье, Остановится, — но вдруг На мгновенье Затрепещет влажным телом — И несмело Озирается вокруг. Вот она стоит под ивой И пугливо Ловит слухом ветерок, Пролетит ли шмель над нею — Вспыхнет, рдея, Как гранатовый цветок. Видишь все, что закрывало Покрывало, В голубых ее глазах Словно искры пробегают, — Так играют Звезды в синих небесах. Отряхнулась, и, как слезы С листьев розы, Дождь по телу пробежал, Словно жемчуг драгоценный На колена С белой шеи вдруг упал. Но ленивица лукава И забавы Не желает прерывать, Над водой прозрачной рея, Все быстрее Начинает напевать: «Если б я была султаншей Или ханшей, Я не мылась бы в пруде, А в купальне золоченой, Возле трона, В амброй пахнущей воде. В сетке шелковой, атласной Ежечасно Я летала бы, как пух, На тахтах спала богатых, В ароматах, Чтоб захватывало дух. В ручейке с волною зыбкой Юркой рыбкой Я б резвилась поутру, Не боясь, что кто-то может Потревожить, Подсмотреть мою игру. Пусть рискует головою, Кто со мною Познакомиться готов, — Встретит сабли стражей черных, Мне покорных, И свирепых гайдуков! Я смогу без наставлений В милой лени Бросить где-нибудь в углу Пару вышитых сандалий, Чтоб лежали Вместе с платьем на полу». Так, по-царски наслаждаясь, Колыхаясь Над водою взад-вперед, Попрыгунья позабыла Быстрокрылый Вечный времени полет. Ливень брызг она небрежно Ножкой нежной Посылает на песок, Где свернулся змейкой черной Весь узорный Позабытый поясок. Между тем ее подружки Друг за дружкой Направляются в поля; Вот их ветреная стая, Пробегая, Песню завела, шаля. И летит через ограды Винограда Вместе с песенкой упрек: «Стыдно девушке ленивой, Нерадивой, Что не встала к жатве в срок!» Июль 1828 г.ОЖИДАНИЕ Перевод А. Ревича
Esperaba desesperada[452].
Взбирайся, белочка, по сучьям. Не бойся, лезь по веткам к тучам, На дуб высокий — к небесам. Ты, аист, обитатель крыши, Взлети скорей к церковной нише, Оттуда к звоннице и выше — На крепость, к башенным зубцам. Покинь гнездо, орел могучий, Взлети над каменною кручей Туда, где вечный снег и лед. Проснись и ты на ложе мшистом И, как всегда, в рассвете мглистом Взмой, жаворонок, с громким свистом, Лети в голубизну высот! Теперь, когда под вами крона, Крутые стены бастиона, Скалистый склон, земной простор, Взгляните! Вам видны туманы, Перо на шляпе, конь буланый? Быть может, это мой желанный Летит ко мне во весь опор? 1 июня 1828 г.РЫЖАЯ НУРМАГАЛЬ Перевод Г. Шенгели
Нет такого дикого зверя, которого там не было бы.
Хуан Лоренсо Сегура де Асторга[453] Меж черных скал холма крутого, Ты видишь, — роща залегла; Она топорщится сурово, Как завиток руна густого Между крутых рогов козла. Там, в темноте сырой и мглистой, Таятся тигры, там рычат Шакал и леопард пятнистый, Гиены выводок нечистый И львица, спрятавшая львят. Там чудища — отрядом целым: Там василиск, мечтая, ждет, Лежит бревном оцепенелым Удав и рядом — с тучным телом, С огромным брюхом — бегемот. Там змеи, грифы с шеей голой И павианов мерзкий круг — Свистят, шипят, жужжат, как пчелы, И лопоухий слон тяжелый Ломает на ходу бамбук. Там каждой место есть химере; В лесу — рев, топот, вой и скок: Кишат бесчисленные звери, И слышен рык в любой пещере, В любом кусте горит зрачок. Но я смелей пошел бы в горы, В лес этот дикий, в эту даль, Чем к ней, чьи безмятежны взоры, Чей добр и нежен лепет скорый, — Чем к этой рыжей Нурмагаль! 25 ноября 1828 г.ДЖИННЫ Перевод Г. Шенгели
Как журавлиный клин летит на юг
С унылой песней в высоте нагорной,
Так предо мной, стеная, несся круг
Теней, гонимых вьюгой необорной.
Данте[454] Порт сонный, Ночной, Плененный Стеной; Безмолвны, Спят волны, — И полный Покой. Странный ропот Взвился вдруг. Ночи шепот, Мрака звук, Точно пенье И моленье Душ в кипенье Вечных мук. Звук новый льется, Бренчит звонок: То пляс уродца, Веселый скок. Он мрак дурачит, В волнах маячит, По гребням скачет, Встав на носок. Громче рокот шумный, Смутных гулов хор. То звонит безумно Проклятый собор. То толпы смятённой Грохот непреклонный, Что во тьме бездонной Разбудил простор. О боже! Голос гроба! То джинны!.. Адский вой! Бежим скорее оба По лестнице крутой! Фонарь мой загасило, И тень через перила Метнулась и застыла На потолке змеей. Стая джиннов! В небе мглистом Заклубясь, на всем скаку Тисы рвут свирепым свистом, Кувыркаясь на суку. Этих тварей рой летучий, Пролетая тесной кучей, Кажется зловещей тучей С беглой молньей на боку. Химер, вампиров и драконов Слетались мерзкие полки. Дрожат от воплей и от стонов Старинных комнат потолки. Все балки, стен и крыш основы Сломаться каждый миг готовы, И двери ржавые засовы Из камня рвут свои крюки. Вопль бездны! Вой! Исчадия могилы! Ужасный рой, из пасти бурь вспорхнув, Вдруг рушится на дом с безумной силой. Всё бьют крылом, вонзают в стены клюв. Дом весь дрожит, качается и стонет, И кажется, что вихрь его наклонит, И оторвет, и, точно лист, погонит, Помчит его, в свой черный смерч втянув. Пророк! Укрой меня рукою Твоей от демонов ночных, — И я главой паду седою У алтарей твоих святых. Дай, чтобы стены крепки были, Противостали адской силе, Дай, чтобы когти черных крылий Сломились у окон моих! Пролетели! Стаей черной Вьются там, на берегу, Не пробив стены упорной, Не поддавшейся врагу. Воздух все же полон праха, Цепь еще звенит с размаха, И дубы дрожат от страха, Вихрем согнуты в дугу! Шум крыл нетопыриных В просторах без границ, В распахнутых равнинах Слабее писка птиц; Иль кажется: цикада Стрекочет в недрах сада Или крупинки града Скользят вдоль черепиц. Этот лепет слабый — Точно ветерок; Так, когда арабы Трубят в дальний рог, — Дали, все безвестней, Млеют нежной песней, И дитя чудесней Грезит долгий срок. Исчадий ада Быстрей полет: Вернуться надо Под адский свод; Звучанье роя Сейчас такое, Как звук прибоя Незримых вод. Ропот смутен, Ослабев; Бесприютен Волн напев; То — о грешной В тьме кромешной Плач утешный Чистых дев. Мрак слышит Ночной, Как дышит Прибой, И вскоре В просторе И в море Покой. 28 августа 1828 г.ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
ПРЕЗРЕНИЕ Перевод П. Антокольского
Я против всех, и все против меня.
«Романс об Арьясе»I
Кто знает, как много работы бесчестной, Отчаянной зависти, лжи повсеместной, Глухой неприязни за каждым углом, Как умные люди исполнены дури, Какие безумствуют черные бури Вкруг этого юноши с ясным челом! Он мимо идет. А меж тем уже рядом Сплетенные змеи с погибельным ядом, И друг изменяет, и ближний солжет, И заговор зреет, и, прячась в засаде, Готов уже кто-то накинуться сзади, — Но юноша смотрит вперед. А если души чья-то брань и коснется, Крыло его пламенем гневным рванется, Внезапная молния ринется в тьму, — Но прежде чем вырвется лава наружу, Но прежде чем руки прибегнут к оружью, Он сам усмехнется и скажет: «К чему?» Он вспомнит, лишь стоит в былое вглядеться, Свободу и юность, отчизну и детство, И лиру, и сцену в гирляндах огней, И Наполеона, что был нам кумиром, И многих, покуда не понятых миром, Властителей будущих дней.II
Ну что же, завистники! Слепо и тщетно Теснитесь вкруг гения стаей несметной! Раскаянья нет. Перемирия нет. Начните сначала! Удвойте старанья! Победой своей наслаждайтесь заране! Поет и не слышит и грезит поэт. Все ваши стенанья и вопли глухие Ничто перед силой творящей стихии. Хор славы не слажен и многоголос. И демонов крики, и ангелов пенье, — Все это — на площади людной скрипенье VНесчастных каретных колес. Он вас и не знает. Он скажет, пожалуй, Что летом кузнечикам петь надлежало, Что розам шипы отрастила весна, Что он и кузнечика не уничтожит, Что, кажется, роза в Бенгалии может Цвести без шипов, да не пахнет она. Да что разбираться! — Друзья ли, враги ли, Любой успокоится в тесной могиле. Души вдохновенной не тронут уже Ни лавры, ни трон, ни победные клики. Любое венчанье земного владыки Поэт презирает в душе. До хрипа кричали вы, — нет ему дела. Ведь горькая пена кормы не задела. Ступайте, не помнит он ваших имен. Трясли его зданье, губили работу, Дошли до одышки, до смертного пота, — Не знает о вашей усталости он.III
Захочет, — и вашим ученым писакам Одним только взглядом, одним только знаком Их выклики в глотку вобьет, Придет и смешает их скопище грубо, Как ветер морской, и, куда ему любо, В далекую даль унесет. Несчетные полчища ваши в смятенье. Он всех покрывает одной своей тенью, Одним мановеньем ресниц, Одним дуновением с горной вершины Сметает он крохотный танец мышиный, И всех повергает он ниц. Светильники, ярко горящие в храме, Кумиры в цветах над ночными пирами, Очаг ваш, хранящий огонь, Ваш блеск, если даже других ослепит он, — Все меркнет от искры, что выбьет копытом Его пролетающий конь. 26 апреля 1830 г.* * *
«Впустите всех детей. О, кто сказать посмеет…» Перевод А. Ахматовой
Sinite parvules venire ad me.
Iesus[455] Впустите всех детей. О, кто сказать посмеет, Что резвый детский смех лазурный шар развеет, Мной сотворенный в тишине? Друзья, кто вам сказал, что игры их и крики Тревожат гордых муз божественные лики? Бегите, малыши, ко мне! Резвитесь вкруг меня, кричите и пляшите! Мне взор ваш заблестит, как в полдень луч в зените. Ваш голос труд мой усладит. Ведь в мире, где живем без радости и света, Лишь детский звонкий смех, звуча в душе поэта, Глубинный хор не заглушит. Гонители детей! Вам разве неизвестно, Что каждый, в хоровод детей войдя чудесный, Душой становится нежней? Иль мните, что боюсь увидеть пред собою Сквозь творческие сны, где кровь течет рекою, Головки светлые детей? Сознайтесь! Может быть, настолько вы безумны, Что вам теперь милей, чем этот гомон шумный, Дом опустелый и немой? Детей моих отнять? Осудит жалость это, — Улыбка детская нужна душе поэта, Как светоч темноте ночной! Не говорите мне, что крик детей веселый Наитий заглушит священные глаголы, Что песню шепчет тишина… Ах! что мне, муза, дар поэзии и слава! Бессмертье ваше — тлен, тщеславная забава, — Простая радость мне нужна. И я не жду добра от жребия такого, — Зачем мне вечно петь для отзвука пустого, И для тщеславных петь забав, И горечь пить одну, и скуку, и томленье, И искупать весь день ночные сновиденья, Могиле славу завещав! Куда милее мне в кругу семейном радость, Веселье детское и мирной жизни сладость; Пусть слава и стихи мои Исчезнут, смущены домашней кутерьмою, Как перед школьников ватагой озорною Взлетают к небу воробьи! О нет! Среди детей ничто не увядает, И лютик, радуясь, быстрее раскрывает Свой золотистый лепесток, Свежей баллады слог, и на крылах могучих Взмывают оды ввысь, парят в гремящих тучах Отряды величавых строк. Стихи средь детских игр — и звонче и нетленней, Благоуханный гимн цветет, как сад весенний, А вы, что умерли душой, Поверьте мне, друзья, стихам на этом свете Поэзию дают резвящиеся дети, Как зори поят луг росой. Сбегайтесь, дети! Вам — и дом, и сад зеленый! Ломайте и полы, и стены, и балконы! И вечером и по утрам Носитесь радостно, как полевые пчелы, Помчится песнь моя и с ней мой дух веселый По вашим молодым следам! Есть нежные сердца, к житейскому глухие, Им сродны голоса и звуки золотые, Те, что услышаны в тиши, Обрывки яркие симфонии могучей, В ней гул морских валов и листьев рой летучий, Святая музыка души. Каков бы ни был мир грядущих поколений, И нужно ль вспоминать или искать забвений, Карает иль прощает бог, — Я жить хочу всегда с моей мечтой на свете, Но только в доме том, где обитают дети, Чтоб гомон их я слышать мог. И если ту страну увижу в жизни снова, Страну, чье возлюбил я царственное слово, Чьи скалы радуют меня, Где в детстве видел я полки Наполеона, Сады Валенсии и крепости Леона, Испания — страна моя! О, если посещу я снова край старинный, Где римский акведук протянут над долиной, Где древни призраки дворцов, — Пусть вновь везут меня под сводом золоченым Повозок, что всегда полны сребристым звоном Веселых круглых бубенцов. 11 мая 1830 г.* * *
«Когда мой фолиант, что на ночь я листаю…» Перевод Инны Шафаренко
Куда мне путь направить?
Байрон Когда мой фолиант, что на ночь я листаю, Иль повседневные домашние дела, Иль шум людской толпы, в котором смутно тают То чей-то смех, то крик, то ропот, то хвала, Иль суетных забот пустое мельтешенье, Заполнившее ход обычных, серых дней, Окутав пеленой мое воображенье, Надолго скроют свет от глаз души моей, Она, соскучившись и гневно топнув ножкой, Вдруг убегает прочь, беспечна и легка, Но всякий раз — одной и тою же дорожкой, — Как конь, который сам привозит седока; Она бежит туда, где под ветвистым кленом Средь бликов солнечных и птичьих голосов На ветке ждет мечта — и за щитом зеленым С ней вместе прячется в густой тени лесов. 27 июня 1830 г.* * *
«Порой, когда все спит, я в тихом созерцанье…» Перевод Инны Шафаренко
Порой, когда все спит, я в тихом созерцанье Под синим куполом, струящим звезд мерцанье, Сижу и слушаю неясный шум ночной… Часы летят, меня крылами задевая, А я, забыв о них, смотрю, как цепь живая Созвездий и планет кружится надо мной; За пляской дальних солнц слежу, слежу глазами, И верю: для меня горит лучей их пламя, Их тайный смысл понять мне одному дано. О, пусть я только тень в унылой жизни бренной, Но в этот дивный миг я — властелин вселенной И в небе для меня сиянье зажжено! Ноябрь 1829 г.* * *
«Друзья, скажу еще два слова — и потом…»[456] Перевод Э. Линецкой
Плачь, добродетель, если я умру!
Андре Шенье Без грусти навсегда закрою этот том. Похвалят ли его или начнут глумиться? Не все ль равно ключу, куда струя помчится? И мне, глядящему в грядущие года, Не все ли мне равно, в какую даль, куда Дыханье осени умчит остатки лета — И сорванный листок, и вольный стих поэта? Да, я пока еще в расцвете лет и сил. Хотя раздумья плуг уже избороздил Морщинами мой лоб, горячий и усталый, — Желаний я еще изведаю немало, Немало потружусь. В мой краткий срок земной Неполных тридцать раз встречался я с весной. Я временем своим рожден! И заблужденья В минувшие года туманили мне зренье. Теперь, когда совсем повязка спала с глаз, Свобода, родина, я верю только в вас! Я угнетение глубоко ненавижу, Поэтому, когда я слышу или вижу, Что где-то на земле судьбу свою клянет Кровавым королем истерзанный народ; Что смертоносными турецкими ножами Убита Греция, покинутая нами; Что некогда живой, веселый Лиссабон На пытку страшную тираном обречен;[457] Что над Ирландией распятой — ворон вьется;[458] Что в лапах герцога, хрипя, Модена бьется;[459] Что Дрезден борется с ничтожным королем;[460] Что сызнова Мадрид объят глубоким сном;[461] Что крепко заперта Германия в темницу; Что Вена скипетром, как палицей, грозится И жертвой падает венецианский лев,[462] А все кругом молчат, от страха онемев; Что в дрему погружен Неаполь;[463] что Альбани Катона заменил;[464] что властвует в Милане Тупой, бессмысленный австрийский произвол; Что под ярмом бредет бельгийский лев, как вол;[465] Что царский ставленник над мертвою Варшавой Творит жестокую, постыдную расправу И гробовой покров затаптывает в грязь, Над телом девственным кощунственно глумясь, — Тогда я грозно шлю проклятия владыкам, Погрязшим в грабежах, в крови, в разврате диком! Я знаю, что поэт — их судия святой, Что муза гневная могучею рукой Их может пригвоздить негодованьем к трону, В ошейник превратив позорную корону, Что огненным клеймом отметить может их На веки вечные поэта вольный стих! Да, муза посвятить себя должна народу! И забываю я любовь, семью, природу, И появляется, всесильна и грозна, У лиры медная, гремящая струна! Ноябрь 1831 г.ПЕСНИ СУМЕРЕК
ПИРЫ И ПРАЗДНЕСТВА Перевод В. Бугаевского
Огромен зал. Столу нет ни конца, ни края. Здесь празднества идут, и, вечно возникая, Волшебный длится пир, сияющий игрой Бокалов, серебра, посуды золотой. За пиршественный стол лишь мудрый не садится, Зато отыщешь там все возрасты, все лица: И воинов-рубак суровые черты, Юнцов безусых, дев лилейной красоты, Лепечущих детей и стариков брюзжащих, Томимых голодом и с жадностью едящих; И всех жаднее те, чей рот уже прогнил, И те, кто и зубов еще не отточил. Султаны, кивера, победные знамена, Орлы двуглавые, лев с золотой короной, И россыпь звездная на ржавчине щита, Рой пчел на багреце и лилий чистота, Шевроны и мечи, цепей и копий груды — Все то, что на гербах начертано причудой, — Крылатый леопард, серебряный грифон, — Все в пляске кружится, цепляясь за плафон, И, арабесками к ногам гостей спускаясь, Бесстыдно к чашам льнет, нектаром упиваясь. Полотнища флажков спадают с потолка К сидящим за столом, чтоб легче ветерка Коснуться их волос, — так ласточка крылами Касается травы, порхая над лугами. И все поет, звучит и светится вокруг, В магический клубок сплетая свет и звук. Летит в лазурь небес гул празднества нестройный… Венки, гирлянды роз… Воздвигнуть трон достойный Пирующий спешит тщеславью своему, И, цепью страшною прикованный к нему, Уйти бы рад иной, да цепь все тяжелее, — И крепче всех гостей хозяин скован ею. Всесильная любовь, которая подчас В титанов иль в богов преображает нас И в дивном пламени своем, смешав дыханье Мужчин и женщин, плоть приводит в содроганье; И похоть — оргий дочь, чей взор, сжигая кровь, Бессильно гаснет днем, чтоб ночью вспыхнуть вновь; Охоты бешенство, зеленые просторы, Призывный клич рогов, псари и гончих своры, Альковы, где шелка, кедр, бархат, анемон Вновь будят чувственность и отгоняют сон, Чтоб, женщину раздев, затейливые игры Могли вы с ней вести на мягкой шкуре тигра; Дворцы надменные, безумные дворцы — Чьей наглой роскошью пленяются глупцы, И парки, где вдали за дымкой синеватой Средь нежной зелени мелькает мрамор статуй, Где рядом с тополем раскинул ветви вяз, Где струны над прудом звучат в вечерний час; Стыдливость красоты, сдающейся без боя, Честь судей, что ведут торг истиной святою, Восторги зрителей, смиренных жалкий страх, Высокомерье тех, кто держит власть в руках, И зарево войны, волненья и тревоги Походов и боев; полип тысяченогий — Пехота, что идет, все повергая ниц, Разноголосый гул огромнейших столиц И все, чем армии и города затмили Лазурный свод небес, — дым, гарь и клубы пыли; И чудо из чудес, Левиафан-бюджет, С утробой, вздувшейся от множества монет, И золотом из ран своих кровоточащий, Но вечно жаждущий и новых жертв просящий, — Вот яства дивные, которые вокруг На блюдах золотых разносят сотни слуг. Но яства новые, внизу, в подвале черном, В лаборатории своей, склонясь над горном, Готовит для гостей искусною рукой Угрюмый чародей, зовущийся Судьбой. Хоть вечно требует каприз амфитриона Все новых блюд и яств, но, ими пресыщённый, Не знает гость иной, чего б еще поесть; Тут для пирующих один советчик есть — Их совесть или то, что совестью зовется. Она их зоркий гид, но так уже ведется, Что няньки будущих владык и королей Глаза во время игр выкалывают ей. Так вот избранники, властители вселенной, Чья жизнь полна чудес и счастье неизменно. Вот празднество богов… Как дивно все кругом, Как сладко все пьянит на пиршестве таком, Как в этой роскоши, скользя мгновенной тенью, Обворожают вас волшебные виденья, Как озаряет смех, что льется без конца, Блаженной радостью счастливые сердца. Как жадный взор спешит полнее насладиться Всем, что пылает здесь, сверкает и струится. Но вдруг в тот час, когда хмельные струны лир Вас, кажется, забыть заставили весь мир, Когда уже весь зал — со слугами, гостями — Стал факелом живым, пылающим цветами, И льется музыка все звонче и сильней, — Увы, когда уже достигнут апогей Разгула пьяного и только и осталось, Чтоб это сборище еще поиздевалось Над мерзнущей внизу толпою бедняков, — Вдруг с лестницы летит невнятный шум шагов, Там кто-то близится, стоит у входа в залу — Нежданный гость, хоть ждать его и надлежало. Не закрывать дверей… Пошире их открыть… Кто путь пришедшему посмеет преградить! С ним спорить нечего… Там смерть или изгнанье, Могила черная иль горести скитаний! Приходит смерть с косой, изгнанье держит плеть, Но призрак не дает себя и разглядеть. И, затмевая все огромной страшной тенью, По залу он идет, притихшему в смятенье, И, мигом отыскав добычу средь гостей, — Подчас из тех, кто был в тот вечер всех пьяней, — Уносит прочь ее с примолкнувшего пира, Не дав ей даже с губ стереть остатки жира. 29 августа 1832 г.КАНАРИСУ[466] Перевод П. Антокольского
Как легко мы забыли, Канарис, тебя! Мчится время, про новую славу трубя. Так актер заставляет рыдать иль смеяться, Так господь вдохновляет любого паяца: Так, явившись в революционные дни, Люди подвигом дышат, гиганты они, Но, швыряя светильник свой яркий иль чадный, Одинаково скроются в мрак беспощадный. Меркнут их имена средь житейских сует. И пока не появится сильный поэт, Создающий вселенную словом единым, Чтоб вернуть ореол этим славным сединам, — Их не помнит никто, а толпа, что вчера, Повстречав их на площади, выла «ура», Если кто-нибудь те имена произносит, «Ты о ком говоришь?» — удивленная спросит. Мы забыли тебя. Твоя слава прошла. Есть у нас и шумней и крупнее дела, Но ни песен, ни дружбы былой, ни почтенья Для твоей затерявшейся в памяти тени. По складам буржуа твое имя прочтет. Твой Meмнон онемел[467], солнце не рассветет. Мы недавно кричали: «О слава! О греки! О Афины!..» — мы лили чернильные реки В честь героя Канариса, в честь божества. Опускается занавес пышный. Едва Отпылало для нас твое славное дело, Имя стерлось, другое умом завладело. Нет ни греков-героев, ни лавров для них. Мы нашли на востоке героев иных. Не послужат тебе ежедневно хвалами Журналисты, любое гасящие пламя, — Журналистам-циклопам который уж раз Одиссей выжигает единственный глаз. Просыпалась печать что ни утро, бывало, Разрушала она, что вчера создавала, Вновь державной десницей ковала успех, Справедливому делу — железный доспех. Мы забыли. А ты, — разве ты оглянулся, Когда вольный простор пред тобой развернулся? У тебя есть корабль и ночная звезда, Есть и ветер, попутный и добрый всегда, Есть надежда на случай и на приключенье, Да к далеким путям молодое влеченье, К вечной смене причалов, событий и мест, Есть веселый отъезд и веселый приезд, Чувство гордой свободы и жизни тревожной. Так на парусном бриге с оснасткой надежной Ты узнаешь излучины синих дорог. Так пускай же в какой-то негаданный срок Океан, разгрызающий скалы и стены, Убаюкает бриг белой кипенью пены; Так пускай ураган, накликающий тьму, Взмахом молнийных крыльев ударит в корму! У тебя остаются и небо и море, Молодые орлы, что царят на просторе, Беззакатное солнце на весь круглый год, Беспредельные дали, родной небосвод. Остается язык, несказанно певучий, Ныне влившийся в хор итальянских созвучий, — Адриатики вечно живой водоем, Где Гомер или Данте поют о своем. Остается сокровище также иное — Боевой ятаган, да ружье нарезное, Да штаны из холста, да еще тебе дан Красный бархатный, золотом шитый кафтан. Мчится бриг, рассекает он пенную влагу, Гордый близостью к славному архипелагу. Остается тебе, удивительный грек, Разглядеть за туманами мраморный брег Иль тропинку, что жмется к прибрежным откосам. Да крестьянку, лениво бредущую с возом, Погоняя прутом своих кротких быков, Словно вышла она из далеких веков, Дочь Гомера, одна из богинь исполинских, Что изваяны на барельефах эгинских. Октябрь 1832 г.НАПИСАНО НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ КНИГИ ПЕТРАРКИ Перевод М. Талова
Когда в моей душе, любовью озаренной, — О Лауры певец![468] любовник просветленный! — Вдали от холода вседневной суеты Рождает мысль моя волшебные цветы, Тогда беру твой том, зажженный вдохновеньем, В котором об руку с священным исступленьем Покорность предстает с улыбкой роковой; Стихи твои, журча, кристальною волной, Капризно льющейся по отмели песчаной, Звучат поэзией любви благоуханной! Учитель! К твоему ключу спешу опять — Твой стих таинственный и сладостный впитать. Сокровище любви, цветок, на радость музе Благоухающий, как в старину в Воклюзе[469], Где через пять веков, с улыбкой на устах, Я, прочитав его, молюсь тебе в мечтах. Вдали от городских сует и мрачных оргий Твои элегии, стыдливые восторги, Как девы нежные с застенчивой душой, Мелькают предо мной прекрасной чередой, Храня в изваянных сонетах, как в амфорах, Твой дивный стиль и с ним — метафор свежий ворох! 14 октября 1835 г.ЛУЧИ И ТЕНИ
ПРИЗВАНИЕ ПОЭТА (Фрагменты) Перевод Инны Шафаренко
Зачем, певец, толпе крикливой Несешь ты свой бесценный дар? Натуре тонкой и стыдливой Не место средь гражданских свар; В их атмосфере зараженной Огонь, поэзией зажженный, Дымит и гаснет, не дыша, И вянет в толкотне и гаме, Как луг, истоптанный ногами, Незащищенная душа. Ужель, мечтатель, не пугает Тебя шум битвы роковой, В тот час, когда король вступает С народом в беспощадный бой? Зачем в смятении великом Внимаешь ты их злобным кликам, Учитель, сеятель, поэт? Ты, весь принадлежащий богу, Зачем вступаешь на дорогу, Где суета, где веры нет? Пускай твой голос, чистый, ясный, Вольется в мелодичный хор; Раскройся, как цветок прекрасный, Под солнцем средь пустынных гор; Ищи свободы и покоя Там, где стихает все мирское, Где нет ни злобы, ни вражды; Вдали от всех, в тиши безлюдной, Услышишь зов природы чудный. Увидишь светлый взор звезды. Пускай в лесах, на побережьях Звенит твой гимн, восторга полн, Вбирая лепет листьев свежих И легкий плеск лазурных волн… Там, в сладостном уединенье, Тебя коснется вдохновенье! Оставь ничтожных, злых людей! Лови небесных сфер звучанье И помни: лира — мирозданье, Поэт — божественный Орфей! Беги от бурь, шумящих в мире, И пусть убогая земля, Плывущая в межзвездной шири Без компаса и без руля, Тебя лишь издали тревожит; Так, зная, что помочь не может, В грозу, средь ночи, рыболов Дрожит под утлым кровом дома, Услышав скрип, удары грома И стоны в грохоте валов. — Увы! — Певец им отвечает, — Люблю я воды и леса; Мне песни часто напевают Их радостные голоса… Нет зла в животных и растеньях, Природа-мать в своих твореньях И совершенна и щедра; Под солнцем, средь тепла и света Расцветшая душа поэта Горит желанием добра… О, лик природы светлоокий! Блажен, кто может слиться с ней! Но в век опасный и жестокий Должны мы жить среди людей. Ведь мысль и знанье — это сила! Природа мудро сотворила Для птиц — густую тень ветвей, Для трав — ручей, бегущий в чаще, Для уст иссохших — мед пьянящий И для слепых — поводырей! Трудиться и служить собратьям Наш долг в такие времена. Постыдно было бы сказать им: «Я ухожу, — борьба трудна!» Позор тому, кто в дни лихие, Когда народная стихия Бурлит, когда страна в огне, В сторонку отойти стремится И безмятежно петь, как птица Поет над розой при луне! В дни, омраченные раздором, Любовью к людям одержим, Поэт своим духовным взором Провидит путь ко дням иным, И он, в служении высоком Святым подобный и пророкам, Чураясь низменных забот, Не слыша ни похвал, ни брани, Как яркий факел в мощной длани, Им свет грядущего несет. Он видит блеск, от прочих скрытый, — Сиянье будущих миров… И пусть над ним смеется сытый, Самовлюбленный острослов, Пусть тот, кто мелок и корыстен, Твердит десятки пошлых истин, Его за рвение коря, — Он твердо обращает очи Туда, где над завесой ночи Восходит ясная заря.. .
Создатель золотых утопий, Он знает, что наступит миг, — И он, как проводник из топи, Питомцев выведет своих Туда, где справедливость правит, Где все честны и не лукавят, Где люди — братья испокон, Где зависть никого не гложет, Где сильный слабому поможет И нерушим добра закон.. .
А ты, Утопия святая, — Основа всех благих основ, — Прочь удались от краснобая, Твой осквернившего покров! Твоей звездою освещенный, Он вел вперед, но, развращенный Корыстью, продал свой порыв И в вожделенье безобразном Поддался низменным соблазнам, О человечестве забыв; Гордыней мелкой обуянный, Он клад науки разменял На вероломный, окаянный, Всех растлевающий металл И по стезе неверной, зыбкой, Скрыв стыд за лживою улыбкой Жреца, предавшего свой храм, Свернул на скользкий путь разврата И отдал все, что было свято, На поругание и срам. Прочь от писак с пером продажным, С душой, прогнившею насквозь, За мзду готовых с видом важным Все толковать и вкривь и вкось; Они объяты опьяненьем, Но любят вспомнить с умиленьем Дни юношеской чистоты, — И смеют эти лицедеи К возвышенной, святой идее Тянуть нечистые персты!. .
Прочь от суровых моралистов, От тех, кто днем, средь важных лиц, В борьбе за нравственность неистов, А ночь проводит у блудниц; Бедняг, что на углах ночуют, Он укоряет и бичует, Рисуя им благую цель, А им — бороться не под силу: Пред ними выбор — лечь в могилу Иль жить, но — лечь к нему в постель! Беги от горлопанов хлестких! Изображая бунтарей, Они вопят на перекрестках, Чтоб в людях разбудить зверей. Лелея лишь свою персону, То черни льстят они, то — трону, С расчетом делая дела, И их притворное горенье, Как отсыревшие поленья, Чадит, но не дает тепла. О, если б были все такими В юдоли этой — видит бог, — Тогда б поэт, живя меж ними, Ни мыслить, ни творить не мог! Он схоронил бы все надежды, Он, в клочья разорвав одежды, Главу бы пеплом посыпал И, ожидая вечной ночи, В отчаянье, смеживши очи, «О, горе, горе!» — восклицал.. .
Но нет! Творец в своей безмерной, Неизреченной доброте Не возвратит нас в век пещерный, Не даст погибнуть в темноте! Ведь солнце с теплыми лучами, Под вечер прячась за горами, Не гаснет все же до конца, И теплятся во мгле безбрежной Луч света на вершине снежной, Луч мысли на челе певца!_____
Итак, мужайтесь все, кто страждет, Кого тревоги давит гнет, Кто избавленья ближних жаждет, Но справедливости не ждет! Не унывайте, молодые, Считая, что рассвет далек, Что утвердились дни худые На бесконечно долгий срок!. .
Все, потерпевшие крушенье И уцелевшие в волнах, Крепитесь, веруйте в спасенье, Уймите дрожь, умерьте страх!. .
Мужайтесь! Пусть клубятся тучи, Пусть жуток непроглядный мрак, — Его рассеет вихрь могучий, Сверкнет спасительный маяк! Утихнет шторм; над гладким морем Проглянет ясный небосвод… Восстаньте, сгорбленные горем! Да будет день! Смелей вперед!_____
Народы, слушайте поэта! Во тьме безвременья лишь он Способен видеть проблеск света, Небесной искрой озарен. Он различает и зимою, Под заснежённою землею, Зерно, что к лету даст росток; Как морю, ветру, лесу, полю, Ему, свою диктуя волю, Все тайны открывает бог. Он, словно сквозь терновник колкий, Сквозь град насмешек и острот, Сбирая бережно осколки Традиций вековых, идет; Из тех бесхитростных традиций Все благородное родится, Все честное, что в людях есть; То, что народ растил веками, В былое уходя корнями, Несет нам будущего весть. Поэт, как солнце, излучая Сияние души своей, Страданья людям облегчая, Их исцеляет от скорбей. Поэт предвидит путь вселенной; Он светоч истины нетленной Несет лачугам и дворцам, И этот светоч благородный Звездою служит путеводной И королям и мудрецам. 25 марта — 1 апреля 1839 г.* * *
«Как в дремлющих прудах среди лесной глуши…» Перевод Е. Полонской
Как в дремлющих прудах среди лесной глуши, Так видим мы порой на дне людской души И ясную лазурь, где проплывают тучи, Где солнца луч скользит, беспечный и летучий, И тину черную, где мрак угрюмо спит, Где злобных змей клубок невнятно шелестит. 7 мая 1839 г.УСПОКОИТЕЛЬНАЯ КАРТИНА Перевод Инны Шафаренко
Весь мир поет, жужжит, сияет: Паук, прядильщик и портной, Тюльпанов лепестки скрепляет Тончайшей сеткой кружевной; В пруду кишит букашек стая, На них большая стрекоза, Лазурью крылышек блистая, Таращит круглые глаза; Льнет роза к нежному бутону, От страсти пламенной ала, А на ветвях поют влюбленно В закатном свете два щегла, Как будто воспевают птицы Творца, чья легкая рука Окрасила в кармин ресницы Для неба — синего зрачка; В лесу лосенок несмышленый Играет, расшалившись вдруг; Броней тяжелой, золоченой На плюше мха сверкает жук; Луна до ночи в небе встала, Как выздоровевший больной, Ее глаза, как два опала, Покрыты томной пеленой; Пчела над лютиком резвится, От меда сладкого пьяна, А пашня дышит, шевелится, — В ней прорастают семена! И все живет, и все играет — Луч солнца на коньках домов, Тень, что по речке пробегает, Синь неба, прозелень холмов, На склонах мак и клевер красный… Природа, полная любви, Мне говорит с улыбкой ясной: Не бойся, человек, живи!К Л Перевод А. Ахматовой
С тростинкой хрупкою надежды наши схожи, Дитя мое, в руках господних наши дни, Всей нашей жизни нить в суровой власти божьей, Прервется нить — и где веселия огни? Ведь колыбель и смерти ложе, — От века на земле сродни. Я некогда впивал душою ослепленной Чистейшие лучи моих грядущих дней, Звезду на небесах, над морем Альциону И пламенный цветок среди лесных теней. Виденья этой грезы сонной Исчезли из души моей. И если близ тебя, дитя, рыдает кто-то, Не спрашивай его, зачем он слезы льет, — Ведь плакать радостно, когда томит забота, Когда несчастного жестокий рок гнетет. Слеза всегда смывает что-то И утешение несет. 2 июня 1839 г.OCEANO NOX[470] Перевод В. Брюсова
Сен-Валери-на-Сомме
Вас сколько, моряки, вас сколько, капитаны, Что плыли весело в неведомые страны, В тех далях голубых осталось навсегда! Исчезло сколько вас, — жестокий, грустный жребий! В бездонной глубине при беспросветном небе Навек вас погребла незрячая вода! Как часто путь назад не мог найти к отчизне Весь экипаж судна! Страницы многих жизней Шторм вырывал и их бросал по волнам вмиг! Вовек нам не узнать судьбы их в мгле туманной. Но каждая волна неслась с добычей бранной: Матроса та влекла, а та — разбитый бриг. И никому не знать, что сталось с вашим телом, Несчастные! Оно, по сумрачным пределам Влачася, черепом о грани камней бьет. А сколько умерло, единой грезой живших, Отцов и матерей, часами стороживших На берегу — возврат того, кто не придет! Порой, по вечерам, ведут о вас беседы, Присев на якорях, и юноши и деды И ваши имена опять твердят, смешав Со смехом, песнями, с рассказами о шквале И с поцелуем тех, кого не целовали, — Тогда как спите вы в лесу подводных трав. Мечтают: «Где они? На острове безвестном, Быть может, царствуют, расставшись с кругом тесным Для лучших стран?» Потом — и имена в туман Уходят, как тела ушли на дно бесследно, И Время стелет тень над вашей тенью бледной, — Забвенье темное на темный океан. Вас забывают все — с тем, чтоб не вспомнить снова: Свой плуг есть у того, свой челн есть у другого! И только в ночь, когда шторм правит торжество, Порой еще твердит о вас вдова седая, Устав вас ожидать и пепел разгребая Пустого очага и сердца своего. Когда же и ее закроет смерть ресницы, Вас некому назвать! — ни камню у гробницы На узком кладбище, пугающем мечту, Ни иве, что листы роняет над могилой, Ни даже песенке, наивной и унылой, Что нищий пропоет на сгорбленном мосту! Где все, погибшие под голос непогоды? О, много горестных у вас рассказов, воды (Им внемлют матери, колена преклонив!), Их вы поете нам, взнося свой вал мятежный, — И потому у вас все песни безнадежны, Когда вы катите к нам вечером прилив! Июль 1836 г.ИЮНЬСКИЕ НОЧИ Перевод Инны Шафаренко
Как летом темноты недолог промежуток! Пьянящий запах трав вздымается с полей, В струистых сумерках наш сон пуглив и чуток, — Сквозь дрему слышу я дыханье тополей; На звездном пологе — темней густая крона, Прозрачна синь небес до самого утра, И робкая заря, бродя у небосклона, Тихонько ждет, когда придет ее пора. 28 сентября 1837 г.ВОЗМЕЗДИЕ
НАРОДУ Перевод Г. Шенгели
Безмерный океан с тобою схож, народ! И кротким может быть и грозным облик вод; В нем есть величие покоя и движенья; Его смиряет луч и зыблет дуновенье; Он — то гармония, то хриплый рев и гром; Чудовища живут в раздолье голубом; В нем созревает смерч; в нем тайные пучины, Откуда и смельчак не выплыл ни единый; На нем как щепочка любой колосс земли; Как ты — насильников, крушит он корабли; Как разум над тобой, над ним маяк сверкает; Он — бог весть почему — то губит, то ласкает; Его прибой — на слух как будто стук мечей — Зловещим грохотом звучит во тьме ночей, И мнится, океан, — как ты, людское море, — Сегодня зарычав, все разворотит вскоре, Меча на берег вал, как бы металл меча; Он Афродите гимн поет, ей вслед плеща; Его огромный диск, его лазурь густая Полночных звезд полны, как зеркало блистая; В нем сила грубая, но нежность в ней сквозит; Он, расколов утес, травинку пощадит; Как ты, к вершинам он порою пеной прянет; Но он — заметь, народ! — вовеки не обманет Того, кто с берега, задумчив и пытлив, Глядит в него и ждет, чтоб начался прилив. Джерси, 23 февраля* * *
«С тех пор, как справедливость пала…» Перевод Е. Полонской
С тех пор, как справедливость пала, И преступленье власть забрало, И попраны права людей, И смелые молчат упорно, А на столбах — указ позорный, Бесчестье родины моей; Республика отцовской славы, О Пантеон золотоглавый, Встающий в синей вышине! С тех пор, как вор стыда не знает, Империю провозглашает В афишах на твоей стене; С тех пор, как стали все бездушны И только ползают послушно, Забыв и совесть, и закон, И все прекрасное на свете, И то, что скажут наши дети, И тех, кто пал и погребен, — С тех пор люблю тебя, изгнанье! Венчай мне голову, страданье! О бедность гордая, привет! Пусть ветер бьет в мой дом убогий И траур сядет на пороге, Как спутник горести и бед. Себя несчастьем проверяю И, улыбаясь, вас встречаю В тени безвестности, любя, Честь, вера, скромность обихода, Тебя, изгнанница свобода, И, верность ссыльная, тебя! Люблю тебя, уединенный Джерсейский остров, защищенный Британским старым вольным львом, И черных вод твоих приливы, И пашущий морские нивы Корабль, и след за кораблем. Люблю смотреть, о глубь морская, Как чайка, жемчуг отряхая, В тебе купает край крыла, Исчезнет под волной огромной И вынырнет из пасти темной, Как чистый дух из бездны зла. Люблю твой пик остроконечный, Где внемлю песне моря вечной (Ее, как совесть, не унять), И кажется, в пучине мглистой Не волны бьют о брег скалистый, А над убитым плачет мать. Джерси, декабрь 1852 г.ИСКУПЛЕНИЕ (Фрагменты) Перевод М. Кудинова
I
Шел снег. Он нес с собой разгром и пораженье. Впервые голову склонил орел сражений. За императором брели его войска, А позади была горящая Москва. Шел снег. Обрушила зима свои лавины. За белизной равнин вновь белые равнины. Знамена брошены. От инея бела, Как стадо, армия великая брела. Ни флангов не было, ни центра — все смешалось. Одно прибежище для раненых осталось — Под брюхом мертвых лошадей. И по утрам Горнисты на посту, прижав свой горн к губам, Не поднимали бивуак; они в молчанье Стояли: превратил мороз их в изваянья. Шел снег. И, падая, нес ядра и картечь; И, пережившие так много битв и сечь, Вдруг чувствовали страх седые гренадеры. Шел снег, все время шел! На снежные просторы Обрушивался вихрь, и не было вокруг Ни хлеба, ни жилья — лишь безысходность мук. Не люди смертные с живой душой и телом — Немые призраки брели в тумане белом, Процессия теней под черным небом шла. Пустыня страшная, где царствовала мгла, Безмолвной мстительницей им в глаза глядела. И падал, падал снег. Свое он делал дело: Для этой армии он белый саван ткал. Был каждый одинок и каждый смерти ждал. — Удастся ль выйти нам из царства лютой стужи? Враги — Мороз и Царь. Из двух Мороз был хуже. Бросали пушки на дороге, чтобы сжечь Лафеты. Замерзал решившийся прилечь. Трагический кортеж пустыня пожирала; И если б снежное сорвали покрывало, Под ним увидели б уснувшие полки. Аттилы пробил час! Взят Ганнибал в тиски! Калеки, беглецы, носилки, пушки, кони Смешались на мосту, спасаясь от погони. Пять тысяч спать легли, проснулись пятьдесят. Ней, удостоенный почета и наград, Был жалок: на него напали три казака. Все ночи напролет: «Стой! Кто идет? Атака!» У отступающих оружье отобрав, Бросались призраки на них, свой дикий нрав В порыве яростном и дерзком проявляя И криком коршунов округу наполняя. Тонула армия в ночи, забывшей сон. Был император там, все это видел он. Как дерево под топором, он возвышался: На великана, что под бурей не склонялся, Обрушилась беда, зловещий дровосек, И, топором ее израненный навек, Взирал на ветви он, упавшие на землю, И содрогался весь, глухим ударам внемля. Никто не мог сказать, что завтра будет жив. А между тем в ту ночь, палатку окружив И полководца тень на полотне увидя, Все те, кто смерти ждал, был на судьбу в обиде Не за себя, а за него: так велика Была к нему любовь. И страшная тоска Вдруг овладела им. Исход борьбы кровавой Постигнув, бога он призвал. Любимец славы Дрожал, был бледен он, и взор его погас, Он чувствовал, что искупленья пробил час, Что за какой-то грех обрушились удары. «О бог войны, скажи: настало время кары?» — Воскликнул он в ночи и услыхал ответ. Тот, кто невидим был, сказал во мраке: «Нет!»II
О Ватерлоо! Ватерлоо! Словно волны, Попавшие в сосуд, уже до верху полный, — Так батальоны смерть смешали на твоей Арене средь холмов, долин, лесов, полей. Европа с Францией сошлись. О столкновенье Кровавое! И нет надежды на спасенье; Героям изменив, бежит победа прочь, И горько плачу я, не в силах им помочь; Затем, что в том бою они велики были, Бойцы, которые всю землю покорили И Альпы перешли и Рейн, а королей Заставили дрожать пред славою своей. Ночь близилась. Шел бой, тяжелый, непреклонный. Уже почти была в руках Наполеона Победа близкая: вел наступленье он И видел, что прижат был к лесу Веллингтон. В подзорную трубу глядел любимец славы. Великий страшный бой и слева шел и справа. Вдруг радостью объят, забыв сраженья пыл, «Груши!» — воскликнул он. Увы, то Блюхер был. Надежда в тот же миг переменила знамя, Сраженье разрослось, как воющее пламя, Каре под ядрами английских батарей Погружено в хаос. Крик гибнущих людей С равнины несся ввысь. Кровавая равнина Пылала словно горн, как адская пучина, И падали в нее разбитые полки. Тамбур-мажоры, как под ветром колоски, Склонялись до земли и больше не вставали, Виднелись на телах следы свинца и стали. Резня ужасная! Миг роковой! И вот Приказ последний император отдает, На гвардию свою он обращает взоры: Надежды нет другой и нет другой опоры. «Пустите гвардию в сраженье!» — он вскричал. И гренадеров всколыхнулся грозный вал, Уланы двинулись, драгуны, кирасиры, Повелевающие громом канониры, В блестящих касках, с палашами до земли, Все те, кто Фридлянд знал, кто помнил Риволи, Поняв, что смерть их ждет на празднестве великом, Все божество свое приветствовали криком. Затем они пошли в сраженье. Впереди Играла музыка. Гнев не кипел в груди. Спокойно шли, смеясь над вражеской картечью, И были встречены пылающею печью. Увы! Наполеон за гвардией своей Следивший пристально, увидел шквал огней, Который на нее из пушек извергался, И полк разгромленный в пучину погружался, И таяли его железные полки, Как свечи таяли. Держа в руках клинки, Они величественно к гибели шагали. Спокойно спите! Смерть вы храбро повстречали. Смотрела армия в смятенье, как беда Полки гвардейские косила. И тогда, Вдруг вопль отчаянный издав среди смятенья, Испуганная великанша, Пораженье, В лохмотья превратив полотнища знамен И храбрости лишив храбрейший батальон, Из праха начала расти неодолимо, Подобно призраку из пламени и дыма. И страхом искажен был Пораженья лик. «Спасайтесь!» — слышался его ужасный крик. «Спасайтесь!» — о позор! — все закричали разом. Смертельно бледные, почти теряя разум, Средь опрокинутых фургонов, по телам Людей поверженных бежали по полям, В овраги скатывались, прятались в сарае, Бросая кивера, оружие бросая. Под прусской саблею испытанный боец Кричал, и плакал, и дрожал. И наконец Все то, что армией великой называлось, Как подожженный стог, развеялось, распалось. Увы! Бежали те, кто сам любую рать, Кто всю вселенную мог в бегство обращать. Промчалось сорок лет, другие минут сроки, Но уголок земли, зловещий, одинокий, Равнина, где стряслась великая беда, Гигантов бегство не забудет никогда. Глядел Наполеон, как льются словно реки Бегущие полки, и снова в человеке Зашевелился червь сомненья и тоски, И к небу человек воззвал: «Мои полки Разбиты, власть моя лежит на смертном ложе. Так, значит, вот оно возмездие, о боже?» И в пушечном дыму, который застил свет, Услышал голос он. Сказал тот голос: «Нет!» Джерси, 30 ноября 1852 г.ПЕСЕНКА Перевод Г. Шенгели
Его величие блистало Пятнадцать лет; Его победа поднимала На свой лафет; Сверкал в его глубоком взгляде Рок королей. Ты ж обезьяной скачешь сзади, Пигмей, пигмей! Наполеон, спокойно-бледный, Сам в битву шел; За ним сквозь канонаду медный Летел орел; И он ступил на мост Аркольский Пятой своей. Вот деньги — грабь их лапой скользкой, Пигмей, пигмей! Столицы с ним от страсти млели; Рукой побед Он разрывал их цитадели — Как бы корсет. Сдались его веселой силе Сто крепостей! А у тебя лишь девки были, Пигмей, пигмей! Он шел, таинственный прохожий, Сквозь гул времен, Держа и гром, и лавр, и вожжи Земных племен. Он пьян был небывалой славой Под звон мечей. Вот кровь: смочи твой рот кровавый, Пигмей, пигмей! Когда он пал и отдал миру Былой покой, Сам океан в его порфиру Плеснул волной, И он исчез, как дух громадный Среди зыбей. А ты в грязи утонешь смрадной, Пигмей, пигмей! Джерси, сентябрь 1853 г.ULTIMA VERBA[471] Перевод М. Донского
Убита совесть! Он, довольный черным делом, С усмешкой торжества склонился к мертвецу. Кощунственно глумясь над бездыханным телом, Он оскорбляет труп ударом по лицу. Коснея в бездне лжи, стяжательства и блуда, Судья ждет подкупов, священник — синекур, И бога своего, как некогда Иуда, В Париже в наши дни вновь продает Сибур.[472] Гнусавят нам попы: «Покорствуйте! На троне Избранник господа и курии святой». Когда они поют, меж набожных ладоней Нетрудно разглядеть зажатый золотой. На троне — негодяй! Пусть он помазан папой, Он дьявольским клеймом отмечен с давних пор. Державу он схватил одною хищной лапой, Сжимает он в другой палаческий топор. Ничем не дорожа, попрал паяц кровавый Долг, добродетель, честь, достоинство церквей; От власти опьянев, он пурпур нашей славы Постыдно запятнал блевотиной своей. Но если мой народ в бессовестном обмане Погрязнет, — может быть, и это впереди, — И если, отказав в приюте, англичане Изгнаннику шепнут: «Нам страшно, уходи!» Когда отринут все, чтоб угодить тирану; Когда помчит судьба меня, как лист сухой; Когда скитаться я от двери к двери стану С изодранной в клочки, как рубище, душой; Когда пески пустынь и в небесах светила — Все будет против нас, отверженных гоня; Когда, предав, как все, трусливая могила Откажется укрыть от недругов меня, — Не поколеблюсь я! Я побежден не буду! Моих не видеть слез тебе, враждебный мир. Со мною вы всегда, со мною вы повсюду — Отчизна, мой алтарь! Свобода, мой кумир! Соратники мои, мы цели величавой, Республике верны, и наша крепнет связь. Все, что теперь грязнят, — я увенчаю славой, Все то, что ныне чтут, — я ниспровергну в грязь. Во вретище своем, под пеплом униженья, Греметь я буду: «Нет!» — как яростный набат. Пусть в Лувре ты теперь; но предвещаю день я, Когда тебя сведут в тюремный каземат. К позорному столбу вас пригвождаю ныне, Продажные вожди обманутой толпы! Я верен вам навек, опальные святыни, Вы — стойкости моей гранитные столпы. О Франция! Пока в восторге самовластья Кривляется злодей со свитой подлецов, Тебя мне не видать, край горести и счастья, Гнездо моей любви и склеп моих отцов. Не видеть берегов мне Франции любимой; Тяжка моя печаль, но так велит мне долг, Я на чужой земле, бездомный и гонимый, Но мой не сломлен дух, и гнев мой не умолк. Изгнание свое я с мужеством приемлю, Хоть не видать ему ни края, ни конца, И если силы зла всю завоюют землю И закрадется страх в бесстрашные сердца, Я буду и тогда республики солдатом! Меж тысячи бойцов — я непоколебим; В десятке смельчаков я стану в строй десятым; Останется один — клянусь, я буду им! Джерси, 14 декабряПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ ВО ФРАНЦИЮ[473] Перевод М. Лозинского
Сейчас, когда сам бог, быть может, беден властью, Кто предречет, Направит колесо к невзгоде или к счастью Свой оборот? И что затаено в твоей руке бесстрастной, Незримый рок? Позорный мрак и ночь, или звездой прекрасной Сверкнет восток? В туманном будущем смесились два удела — Добро и зло. Придет ли Аустерлиц? Империя созрела Для Ватерло. Я возвращусь к тебе, о мой Париж, в ограду Священных стен. Мой дар изгнанника, души моей лампаду, Прими взамен. И так как в этот час тебе нужны все руки На всякий труд, Пока грозит нам тигр снаружи, а гадюки Грозят вот тут; И так как то, к чему стремились наши деды, Наш век попрал; И так как смерть равна для всех, а для победы Никто не мал; И так как произвол встает денницей черной, Объемля твердь, И нам дано избрать душою непокорной Честь или смерть; И так как льется кровь, и так как пламя блещет, Зовя к борьбе, И малодушие бледнеет и трепещет, — Спешу к тебе! Когда насильники на нас идут походом И давят нас, Не власти я хочу, но быть с моим народом В опасный час. Когда враги пришли на нашей ниве кровной Тебя топтать, Я преклоняюсь ниц перед тобой, греховной, Отчизна-мать! Кляня их полчища с их черными орлами, Спесь их дружин, Хочу страдать с тобой, твоими жить скорбями. Твой верный сын. Благоговейно чтя твое святое горе, Твою беду, К твоим стопам, в слезах и с пламенем во взоре, Я припаду. Ты знаешь, Франция, что я всегда был верен Твоей судьбе, Я думал и мечтал, в изгнании затерян, Лишь о тебе. Пришедшему из тьмы, ты место дашь мне снова В семье своей, И, под зловещий смех разгула площадного Тупых людей, Ты мне не запретишь тебя лелеять взором, Боготворя Непобедимый лик отчизны, на котором Горит заря. В былые дни безумств, где радостно блистает Кто сердцем пуст, Как будто, пламенем охваченный, сгорает Иссохший куст, Когда, о мой Париж, хмелея легкой славой, Шальной богач, Ты шел и ты плясал, поверив лжи лукавой Своих удач, Когда в твоих стенах гремели бубны пира И звонкий рог, — Я из тебя ушел, как некогда из Тира Ушел пророк. Когда Лютецию преобразил в Гоморру Ее тиран, Угрюмый, я бежал к пустынному простору, На океан. Там, скорбно слушая твой неумолчный грохот, Твой смутный бред, В ответ на этот блеск, и пение, и хохот Я молвил: нет! Но в час, когда к тебе вторгается Аттила С своей ордой, Когда весь мир кругом крушит слепая сила, — Я снова твой! О родина, когда тебя влачат во прахе, О мать моя, В одних цепях с тобой идти, шагая к плахе, Хочу и я. И вот спешу к тебе, спешу туда, где, воя, Разит картечь, Чтоб на твоей стене стоять в пожаре боя Иль мертвым лечь. О Франция, когда надежда новой жизни Горит во мгле, Дозволь изгнаннику почить в своей отчизне, В твоей земле! Брюссель, 31 августа 1870 г.СОЗЕРЦАНИЯ
СТАРАЯ ПЕСНЯ О МОЛОДЫХ ДНЯХ Перевод М. Кудинова
Покой мой Роза не смущала… В лесу гуляли мы вдвоем, Я рассуждал о чем-то вяло, Теперь не помню уж о чем. Идя рассеянно с ней рядом, Я толковал о том, о сем, А Роза спрашивала взглядом: «И это все? А что потом?» Росинки жемчугом горели, Лес предлагал тенистый кров, Все соловьи для Розы пели, Я слушал пение дроздов. Шестнадцать мне. Я строгих правил. Ей двадцать лет. Полна огня. Хор соловьиный Розу славил, Дроздами был освистан я. Увидев ягоду на ветке, К ней руки протянула вдруг, Но, хмурый и лишенный сметки, Я белизны не видел рук. Сверкали и журчали воды На мягких бархатистых мхах, И ласковые сны природы Таились в сумрачных лесах. Сняв туфли, Роза по колено Вошла в струящийся поток, Но, с нею рядом неизменно, Не замечал я голых ног. Не знал, что ей сказать, и, маясь, Лесною брел за ней тропой; Она шла к дому, улыбаясь И подавляя вздох порой. И, выходя из леса, к людям, Я понял; нет ее милей. Она сказала: «Что ж! Забудем…» С тех пор я думал лишь о ней. Париж, июнь 1831 г.ДЕТСТВО Перевод М. Кудинова
Ребенок песню пел. Лежала мать в постели, Агонизируя… Пел беззаботно он. Над ней парила смерть, чьи крылья шелестели, И песню слышал я, и слышал хриплый стон. Ребенку от роду пять лет в ту пору было. Смеялся он и пел, играя у окна; Невдалеке от той, кого болезнь душила, Весь день он пел, а мать всю ночь не знала сна. Уснула наконец: удары смерти метки; И где она жила, поет ребенок там… Страданье — это плод. На слишком слабой ветке Не позволяет бог расти таким плодам. Париж, январь 1835 г.* * *
«Когда б мои стихи, как птицы…» Перевод М. Кудинова
Когда б мои стихи, как птицы, Могли бы крыльями взмахнуть, Они вспорхнули б со страницы И отыскали бы к вам путь. Когда б они крылаты были, Как феи, что хранят ваш дом, Они бы распростерли крылья Над вашим мирным очагом. Они над вами бы парили, К вам возвращаясь вновь и вновь, Когда б они имели крылья, Имели крылья, как любовь. Париж, март 18…ПЕСЕНКА Перевод А. Корсуна
Вам нечего сказать мне, право, — Зачем же встреч со мной искать? Зачем так нежно и лукаво Меня улыбкою смущать? Вам нечего сказать мне, право, — Зачем же встреч со мной искать? Вам не в чем мне тайком признаться, — Зачем тогда бродить со мной, Зачем руки моей касаться, Томясь неведомой мечтой? Вам не в чем мне тайком признаться, — Зачем тогда бродить со мной? Вам, видно, скучен я? Но сами Зачем спешите вы ко мне? Как радостно и страшно с вами Встречаться вновь наедине!.. Вам, видно, скучен я? Но сами Зачем спешите вы ко мне? Май 18…ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ Перевод М. Кудинова
Вечерний ветер, чье дыханье нас ласкало, Принес нам запахи цветов долин и гор; Уснули птицы; мгла простерла покрывало, И ваша юность, как весна благоухала, И ярче звезд ночных ваш загорался взор. Я тихо говорил. В торжественном молчанье Душа запела вдруг, о чем не знаю сам. Я видел пред собой и вас и мирозданье И звездам говорил: даруйте ей сиянье, И говорил глазам: любовь даруйте нам. Май 18…* * *
«Ты, словно птица, трепетала…» Перевод М. Кудинова
Ты, словно птица, трепетала, И был стройнее тростника Твой стан, который обвивала Моя рука. Молчали мы, смотря, как вечер Мглой наполняет небосвод, И означала наша встреча Любви приход. В моей ночи со мною рядом Был ангел света и огня, И этот ангел звездным взглядом Слепил меня. Лес Фонтенбло, июль 18…* * *
«Вздыхает с грустью прежней…» Перевод М. Кудинова
Вздыхает с грустью прежней Свирель в тиши садов… Нет песни безмятежней, Чем песня пастухов. Стал ветер дуть сильнее, Тростник склонился ниц… Нет песни веселее, Чем песня ранних птиц. Будь счастлива! Чудесней День ото дня живи… Нет в мире лучше песни, Чем песня о любви. Метц, август 18…* * *
«Мне хорошо знаком обычай…» Перевод М. Кудинова
Мне хорошо знаком обычай Кричать на всех углах о том, Что есть в небытии величье И думать надо лишь о нем; Обычай прославлять сраженья, Блеск и сверкание клинков, Войну, героев, разрушенья, Мглы опустившийся покров; И восхищаться колесницей, Где колесо одно — Помпей, Другое — Цезарь, что стремится Навстречу участи своей. О, эти битвы при Фарсале И все Нероны всех веков, Нероны, чьи войска взметали Прах мертвецов до облаков! Их прославляют неизменно, О их величии трубя, Хоть все они — морская пена, Что океаном мнит себя. В них продолжают верить слепо, Как верят в блеск и гром фанфар, И в камни пирамид, и в склепы, И в разгоревшийся пожар. Но мне, о мирные аллеи, Но мне, о ветра тихий вздох, Бог певчих птиц куда милее, Чем грозных полководцев бог! Мой ангел, мне под этой сенью, Где нас хранит любовь с тобой, Не бог грозы и исступленья, Влекущий батальоны в бой, Не бог грохочущих орудий И пуль, разящих наугад, Не бог пожаров и безлюдья, А добрый бог милей в сто крат. Он нам любить повелевает И в любящее сердце сам Поэмы первый стих влагает, Даря последний небесам. Его птенцов заботят крылья, Когда взлететь приходит срок, И есть ли зёрна в изобилье У перепелок и сорок. Он для поющего Орфея Мирок, что полон скрытых сил, Мирок, в котором правят феи, В апрельских почках сохранил. Он все предусмотрел заране, Чтобы весной до самых звезд Едва заметное сиянье Лилось из всех поющих гнезд. Взгляни: хоть блещет наша слава Во всем, что создавали мы, И пантеоны величаво Из вековой выходят тьмы; Хоть есть у нас мечи и храмы И свой Хеопс и Вавилон И есть дворцы, мечты и драмы И склепов беспробудный сон, — Так мало б в жизни мы имели, Так был бы наш удел суров, Когда б господь и в самом деле Любви лишил нас и цветов! Шелль, сентябрь 18…* * *
«Он так ей говорил: Когда бы мы смогли…» Перевод М. Кудинова
Он так ей говорил: «Когда бы мы смогли, Вдыхая запахи разбуженной земли И словно опьянев от тихого экстаза, Все связи с городом порвать, уехать сразу, Покинув грустный обезумевший Париж, Тогда, неважно где, искать покой и тишь Отправились бы мы вдали от царства злобы, Искать тот уголок, где обрели б мы оба Лужайку и цветы, и скромный дом, и лес, И одиночество, и синеву небес, И песню птицы под окном, и тени сада, И что еще тогда, скажи, нам было б надо?» Июль 18…НАДПИСЬ НА ЭКЗЕМПЛЯРЕ «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» Перевод Бенедикта Лившица
Однажды вечером, переходя дорогу, Я встретил путника; он в консульскую тогу, Казалось, был одет; в лучах последних дня Он замер призраком и, бросив на меня Блестящий взор, чья глубь, я чувствовал, бездонна, Сказал мне: — Знаешь ли, я был во время оно Высокой, горизонт заполнившей горой; Затем, преодолев сей пленной жизни строй, По лестнице существ пройдя еще ступень, я Священным дубом стал; в час жертвоприношенья Я шумы странные струил в немую синь; Потом родился львом, мечтал среди пустынь, И ночи сумрачной я слал свой рев из прерий; Теперь — я человек; я — Данте Алигьери. Июль 1843 г.СТАТУЯ Перевод М. Донского
Когда клонился Рим к закату своему, Готовясь отойти в небытие, во тьму, Вослед за царствами Востока; Когда он цезарей устал сажать на трон, Когда, пресыщенный, стал равнодушен он Ко всем неистовствам порока; Когда, как древний Тир, он стал богат и слаб И, гордый некогда, простерся, словно раб, Перед распутным властелином; Когда на склоне дней стал евнухом титан, Когда он, золотом, вином и кровью пьян, Сменил Катона Тигеллином[474], — Тогда в сердца людей вселился черный страх, А указующий на небеса монах В пустыню звал сестер и братий. И шли столетия, а обреченный мир Безрадостно справлял свой нечестивый пир Среди стенаний и проклятий. И Похоть, Зависть, Гнев, Гордыня, Алчность, Лень, Чревоугодие, как траурная тень, Окутали земные дали; Семь черных демонов во тьме глухой ночи Парили над землей, и в тучах их мечи, Подобно молниям, сверкали. Один лишь Ювенал[475], суров, неумолим, Восстал как судия и на развратный Рим Обрушил свой глагол железный. Вот статуя его. Взглянул он на Содом — И в ужасе застыл, встав соляным столпом[476] Над разверзающейся бездной. Февраль 1843 г.* * *
«Скупая, чахлая, иссохшая земля…» Перевод П. Антокольского
Скупая, чахлая, иссохшая земля, Где люди трудятся, сердец не веселя, Чтоб получить в обмен на кротость и упорство Горсть зерен иль муки для их лепешки черствой; Навеки заперты среди бесплодных нив Большие города, что, руки заломив, Ждут милосердия и мира, жаждут веры; Там нищий и богач надменны выше меры; Там ненависть в сердцах, там смерть, слепая тварь, Казнит невинного и лучшего, как встарь; А там снега вершин за маревом туманным, Где стыд и правота живут в ладу с карманом; Любая из страстей рождает столько бед, И столько волчьих стай в чащобе жрет обед; Там — засуха и зной, тут — северная вьюга; Там океаны рвут добычу друг у друга, Полны гудящих мачт, обрушенных во тьму; Материки дрожат, тревожатся в дыму, И с чадным факелом рычит война повсюду, И, села превратив в пылающую груду, Народы к гибели стремятся чередой… И это на небе становится звездой! Октябрь 1840 г.ЭПИТАФИЯ Перевод М. Кудинова
Смеялся он и пел, ребенок этот милый. Природа, о зачем его ты взять решила? Имея столько звезд, смеющихся во мгле, Имея столько птиц, что распевают звонко, Зачем взяла ты вдруг у матери ребенка И спрятала его среди цветов в земле? Увы! От этого богаче ты не стала, Не стала веселей… Ты даже и не знала, Что сердцу матери так много значил он И что его уход — великих мук причина. То сердце, как и ты, — бездонная пучина, Но в пустоте ее — одни лишь боль и стон. Май 1843 г.* * *
«В минуты первые я как безумец был…» Перевод М. Кудинова
В минуты первые я как безумец был,[477] И слезы горькие три дня подряд я лил. Вы, у кого господь надежду отнял тоже, Вы, потерявшие то, что всего дороже, Отцы и матери, терзались ли вы так? Хотел я голову разбить себе, чтоб мрак Сознанье погасил… Потом я взбунтовался. Глазам не веря, я глядел и предавался То возмущению, то скорби… Я твердил: «Возможно ль, чтоб господь такое допустил И стало б на земле отчаянье всевластно?» Казалось мне, что сон увидел я ужасный, Что не могла она покинуть всё и всех, Что рядом в комнате ее раздастся смех, Что смерти не было и не было потери И что она сейчас откроет эти двери… О сколько раз я говорил себе: «Молчи! Она тебя звала, звенят в дверях ключи, Лишь подними глаза — и встретишься с ней взглядом: Она ведь не ушла, она здесь где-то рядом». Джерси, Марин-Террас, 4 сентября 1852 г.* * *
«Когда мы вместе обитали…» Перевод М. Кудинова
Когда мы вместе обитали В краю холмистом прошлых дней, Где лес шумел, синели дали И рядом с домом пел ручей, Ей десять лет в ту пору было, Мне тридцать минуло едва… О, сколько свежести таила, Как пахла на лугах трава! Работа легкой мне казалась, Сверкало небо, как венец, И сердце счастьем наполнялось, Когда звала она: «Отец!» Как часто, в мысли погруженный, Я слышал звонкий голосок И, светом взгляда озаренный, От всех печалей был далек. Принцессы вид она имела, Когда мы вместе шли гулять, Цветы срывала то и дело, Мечтала бедным помогать. Когда ж мечта ее сбывалась, Она от всех таилась глаз… О, многим ли из нас случалось Творить добро не напоказ? По вечерам со мною рядом Присесть к столу ее влекло; Не дорожа своим нарядом, К нам бились мотыльки в стекло. В ее речах был звук свирели, Ей были ангелы сродни, На мир глаза ее смотрели, И не умели лгать они. Я жил еще на свете мало, Когда, дарована судьбой, Она моей зарею стала, Моею утренней звездой. О, как луна в небесной сини Всходила, улыбаясь нам! Как мы бродили по долине! Как бегали мы по лесам! А после, возвращаясь к дому, Где огонек мерцал в окне, Мы шли дорогою знакомой, Прислушиваясь к тишине. Мы шли с горящими глазами, И был ее мне лепет мил. Я душу детскую словами Проникновенными лепил. Как взгляд ее тогда был светел! Как мне хотелось ей помочь! Все это, словно тень иль ветер, Мелькнуло и умчалось прочь… Вилькье, 4 сентября 1845 г.* * *
«Живешь, беседуешь, на облака взираешь…» Перевод М. Кудинова
Живешь, беседуешь, на облака взираешь, Порою Данте и Вергилия читаешь, Садишься иногда в наемный экипаж И едешь за город, где воздух и пейзаж Тебя в хорошее приводят настроенье; Случайный женский взгляд в душе твоей волненье Рождает; пенье птиц тебя влечет в поля; Ты любишь, ты любим… Счастливей короля Ты просыпаешься, ты окружен семьею, Тебя целует мать, ты говоришь с сестрою, За утренним столом тебя газеты ждут; Твой наполняют день любовь, надежды, труд; Бушует жизнь вокруг, тебя порою раня, Бросаешь ты слова в бурлящее собранье; Пред целью избранной, перед судьбой своей Ты мал и ты велик, ты слаб и всех сильней, Ты повелитель бурь, волна в житейском море, И все меняется, и радость ждет и горе, Ты падаешь, встаешь, упорствуя в борьбе… А после тишина: приходит смерть к тебе. 11 июля 1846 г., возвращаясь с кладбища* * *
«Я завтра на заре, когда светлеют дали…» Перевод М. Кудинова
Я завтра на заре, когда светлеют дали, Отправлюсь в путь. Ты ждешь, я знаю, ждешь меня! Пойду через леса, поникшие в печали, Быть от тебя вдали не в силах больше я. И буду я идти, в раздумье погруженный, Не слыша ничего, не видя листьев дрожь; Никем не узнанный, усталый и согбенный, Я не замечу дня, что будет с ночью схож; Не гляну на закат, чьей золотою кровью Вдали окрасятся полотна парусов, И наконец придя к тебе, у изголовья Твоей могилы положу букет цветов. 3 сентября 1847 г.СЛОВА НАД ДЮНАМИ Перевод М. Кудинова
Теперь, когда к концу подходит жизнь моя И дело близко к завершенью, Когда разверстую могилу вижу я И грусть за мною ходит тенью; И в глубине небес, где я парил в мечтах, Я вижу вихрь, который ныне Мгновенья прошлые, развеянные в прах, Влачит среди ночной пустыни; Когда я говорю: «День торжества придет», А завтра кажется все ложью, — Я к берегу иду: печаль меня гнетет, Душа моя объята дрожью. Смотрю я, как вдали, над горною грядой И над долиною зеленой, Клок облака летит, летит к стране другой, Вися под клювом аквилона. Я слышу ветра зов и плеск прибрежных волн, Я слышу, как сгребают сено, И сравниваю я, задумчивости полн, Мгновенность с тем, что неизменно. Порою я ложусь на редкую траву, Которая покрыла дюны, И жду, когда луна в ночную синеву Зловеще взор свой бросит лунный. Она всплывает ввысь, пронзив лучом своим Пучину без конца и края, И одиноко друг на друга мы глядим, Она — сверкая, я — страдая. Куда они ушли, мечты угасших дней? Кто знает боль мою и горе? И сохранил ли я свет юности моей В своем завороженном взоре? Я одинок. Душа усталости полна. Я звал — никто мне не ответил. О волны! Может быть, я тоже лишь волна? Не вздох ли ветра я, о ветер? Увижу ли я то, что в прошлом так любил, Иль ночь все это поглотила? Быть может, призрак я, бродящий средь могил? Быть может, вся земля — могила? Или иссякли жизнь, надежда и любовь? Я жду, прошу и умоляю, Последней капли жду и потому-то вновь Пустые урны наклоняю. О, как на прошлое нам тяжело смотреть! Как память нам тревожит сердце! Вблизи я чувствую, как холодна ты, смерть, Засов, чернеющий на дверце. И, в мысли погружен, я слышу ветра вздох, Плеск волн я слышу вечно юных… Как лето ласково! Цветет чертополох, Синея на прибрежных дюнах. 5 августа 1854 г., в годовщину моего прибытия на ДжерсиMUGITISQUE ВОUМ[478] Перевод Бенедикта Лившица
Мычание волов в Вергилиевы годы На склоне дня среди безоблачной природы Иль в час, когда рассвет, с полей прогнавши мрак, Волнами льет росу, ты говорило так: — Луга, наполнитесь травою! Зрейте, нивы! Пусть свой убор земля колеблет горделивый И жатву воспоет средь злата хлебных рек! Живите: камень, куст, и скот, и человек! В закатный час, когда в траве, уже багряной, Деревья черные, поднявшись над поляной, На дальний косогор, как призраки, ползут И смуглый селянин, дневной окончив труд, Идет в свой дом, где зрит над кровлей струйку дыма, Пусть жажда встретиться с подругою любимой, Пускай желание прижать к груди дитя, Вчера лишь на руках шалившее, шутя, Растут в его душе, как удлиненье тени! Предметы! Существа! Живите в легкой смене, Цветя улыбками, без страха, без числа! Покойся, человек! Будь мирен, сон вола! Живите! Множьтеся! Бросайте всюду семя! Пускай, куда ни глянь, почувствуется всеми, При входе ли в дома, под цвелью ли болот, В ночном ли трепете, объявшем небосвод, — Порыв безудержный любить: в траве ль зеленой, В пруде ль, в пещере ли, в просеке ль оголенной, Любить всегда, везде, любить, что хватит сил, Под безмятежностью темно-златых светил. Заставьте трепетать уста, крыла и воздух, Сердцебиения любви, забывшей роздых! Лобзанье вечное пускай лежит на всем, И миром, счастием, надеждой и добром, Плоды небесные, падите вниз, на землю! Так говорили вы, и, как Вергилий, внемлю Я вашим голосам торжественным, волы, И нежит лебедя — вода, скалу — валы, Березу — ветерок и человека — небо… О, естество! О, тень! О, пропасти Эреба![479] Марин-Террас, июль 1855 г.ВИДЕНИЕ Перевод М. Кудинова
Я видел ангела: возник он предо мною, И буря на море сменилась тишиною, И, словно онемев, гроза умчалась прочь… «Зачем явился ты сюда в такую ночь?» — Спросил я у него, и ангел мне ответил: «Взять душу у тебя»… И я тогда заметил, Что был он женщиной, и страшно стало мне. «Но ты ведь улетишь! — вскричал я в тишине.— А с чем останусь я?» Он мне в ответ ни слова. Померкли небеса. И вопрошал я снова: «Куда с моей душой держать ты будешь путь?» Он продолжал молчать… «Великодушен будь! Скажи, ты жизнь иль смерть?» — воскликнул я, стеная, И над моей душой сгустилась мгла ночная, И ангел черным стал, но темный лик его Прекрасен был, как день, как света торжество. «Любовь я!» — он сказал, и за его плечами Сквозь крылья видел я светил небесных пламя. Джерси, сентябрь 1855 г.ПОЭТУ, ПОСЛАВШЕМУ МНЕ ОРЛИНОЕ ПЕРО Перевод В. Портнова
Да, этот день мне придал веры! Благословляю звездный час, Когда я в шуме будней серых Расслышал вечной славы глас. В глухом углу, вдали от света, Не кланяясь, я вдруг обрел То, что слетело с уст поэта, Что уронил с небес орел. В знак торжества над миром косным Венчали лоб открытый мой Орел — пером победоносным, Поэт — сердечною строфой. Я лучший дар сыщу едва ли, Привет мой вам, перо и стих! Вы в синем небе побывали, Вы жили в тучах грозовых! 11 декабряНОЧНОЕ СТРАНСТВИЕ Перевод М. Кудинова
Не зная, спорят; утверждают, отвергая. Как башня гулкая — религия любая. Что строит жрец один — другой сметает прочь. Когда в зловещую торжественную ночь Бить в вечный колокол храм каждый начинает, Он звуки разные из меди исторгает. Никто не знает ни теченья, ни глубин; Безумен экипаж: матросы как один Слепому кормчему готовы подчиниться. Едва от дикости ушли, едва границы Достигли варварства, переступив черту, Что беспросветную, глухую черноту От черноты иной, чуть лучшей, отделяет, Едва увидели, что человек мечтает, Надеется и ждет, — как прошлое тотчас Уже пытается схватить за пятки нас: Оно не двигаться повелевает людям. Сократ нам говорит: «Идти вперед мы будем!» И говорит Христос: «Идем!» А под конец, На небе встретившись, апостол и мудрец Друг друга с грустью вопрошают почему-то: «Вкус уксуса какой?» — «А как на вкус цикута?»[480] Решив, что человек и злобен и хитер, Порою Сатана свой благосклонный взор Бросает на него; мы видим ада знаки; Наукою зовем блуждание во мраке; Пучиной мрачною всегда окружены, Взираем на нее, равно устрашены И тем, что тонет в ней, и тем, что вверх всплывает… Прогресс? Он колесо, которое сметает Кого-то на пути, и кажется порой, Что скрыто зло во всем, что все грозит бедой. С законом спорит преступление без страха; Кинжалы говорят, им отвечает плаха; Не понимая ни истоков, ни причин, В тумане голода мы слышим, как в ночи Невежество, смеясь, вдруг сотрясает воздух. Правдивы ли цветы? И есть ли правда в звездах? Я отвечаю «да!». Ты отвечаешь «нет!». Не верь, Адам, не верь. Смешались мрак и свет: В ребенке, в женщине есть мглы ночной частица; О нашем будущем мы спорим, нам не спится; И человек то в жар, то в холод погружен: Пересекая беспредельность, видит он Самум, и хаос, и сугробы. Все в тумане! Сверкают молнии во мгле его страданий; И говорит Руссо: «Ввысь человек идет». «Вниз, — говорит де Местр, — он вниз идет»… [481] И вот Корабль чудовищный, корабль неоснащенный По морю звездному плывет, и наши стоны И наши горести он обречен нести, Плывет огромный шар и не свернет с пути. И небо мрачное, где происходит это, Вдруг озаряется, мы видим дрожь рассвета, Судьбы светлеет лик, и ощущаем мы, Что каждый новый миг уносит нас из тьмы. Марин-Террас, октябрь 1855 г.* * *
«Разверст могильный зев… Он всюду: за спиною…» Перевод В. Шора
Разверст могильный зев… Он всюду: за спиною, Над головой, у ног… Гигантскою стеною Пред нами ночь стоит, нема; И звезды двух Ковшей, Стрельца, Кассиопеи — Булыжники на дне зияющей траншеи… О, яма Вечности! О, тьма! Я видел сон: ко мне явился некий гений; Он молвил: — Я орел, летящий из-под сени Иных небес; я их предел Покинул, чтоб узреть чужих светил сиянье, И для того пространств чудовищных зиянье Бестрепетно преодолел. Когда пересекал я жуткие просторы, Где непроглядной мглы нагромоздились горы, Я скорбен был и думал так: «Всей тьмы достанет ли для страшного колодца? И может ли провал, в котором мысль мятется, Вместить в себя весь этот мрак?» И хоть я дотянул до твоего порога, Но в сердце у меня смятенье и тревога… Скажи мне — ведь орел ты сам, — Страшит ли и тебя безмерная утроба? И я ответствовал: — Увы, мы черви оба, Но только из различных ям. У дольмена в Корбьере, июнь 1855 г.ПЕСНИ УЛИЦ И ЛЕСОВ
«Когда все вишни мы доели…» Перевод Бенедикта Лившица
Когда все вишни мы доели, Она насупилась в углу. — Я предпочла бы карамели. Как надоел мне твой Сен-Клу! Еще бы — жажда! Пару ягод Как тут не съесть? Но погляди: Я, верно, не отмою за год Ни рта, ни пальцев! Уходи! Под колотушки и угрозы Я слушал эту дребедень. Июнь! Июль! Лучи и розы! Поет лазурь, и молкнет тень. Прелестную смиряя буку, Сквозь град попреков и острот Я ей обтер цветами руку И поцелуем — алый рот. 12 июля 1859 г.GENIO LIВRI[482] Перевод В. Шора
О чудный гений, ты, который Встаешь из недр моей души! Светлы безбрежные просторы… Сорвать оковы поспеши! Все стили слей, смешай все краски, Te Deum[483] с дифирамбом сплавь, В церквах устрой в честь Вакха пляски, И всех богов равно прославь; Будь древним греком и французом; Труби в рожок, чтоб встал с колен Пегас, согнувшийся под грузом, Что на него взвалил Беркен[484]. С акантом сопряги лиану; Пусть жрец с аббатом пьют крюшон; Пусть любит царь Давид Диану, Вирсавию же — Актеон. Пусть свяжут нити паутины, Где рифм трепещет мошкара, И нос разгневанной Афины, И плешь апостола Петра. Как Марион смеется звонко И фавна дразнит, погляди; Пентезилею-амазонку В кафе поужинать своди. Все охвати мечтою шалой, Будь жаден, по свету кружи… Дружи с Горацием, пожалуй, — Лишь с Кампистроном не дружи[485]. Эллады красоту живую, Библейских нравов простоту В искусстве воскреси, рисуя Сверкающую наготу. Вглядись в поток страстей горячий; Все предписания забудь И школьных правил пруд стоячий До дна бесстрашно взбаламуть! Лагарп и Буало надутый[486] Нагородили чепухи… Так сокрушай же их редуты — Александринские стихи! Пчелиной полон будь заботы: Лети в душистые луга, Имей для друга мед и соты И злое жало для врага. Воюй с риторикой пустою, Но здравомыслие цени. Осла оседлывай порою И Санчо Пансо будь сродни. Не хуже Дельф античных, право, Парижский пригород Медан, И, как Аякс, достоин славы Лихой солдат Фанфан-Тюльпан; А пастухам эклог уместно Вблизи Сен-Клу пасти свой скот; Тут ритм стиха тяжеловесный В задорный танец перейдет. Ворону, Ветошь, Хрюшку, Тряпку[487] В Версале встретив летним днем, Протягивай галантно лапку Монаршим дочкам четырем. Не отвергай любовь царицы, Живи с блистательной Нинон, Не бойся даже опуститься До замарашки Марготон. Веселый, озорной, мятежный, Пой обо всем, соединив Мелодию кифары нежной И бойкий плясовой мотив. Пусть в книге, словно в роще пышной, Вскипает соловьиный пыл; Пусть в ней нигде не будет слышно Биения стесненных крыл. Ты можешь делать что угодно, Лишь с правдой не вступай в разлад: И пусть твои стихи свободно, Как стаи ласточек, летят. Стремись к тому, чтобы в гостиных Природе ты не изменял, Чтоб сонм богов в твоих картинах Небесный отсвет сохранял; И чтоб в лугах твоей эклоги По сочной и густой траве Уверенно ступали боги С босой Венерой во главе; Чтоб запах свежего салата Обрадовал в твоих стихах Того, кто сочинил когда-то Для гастрономов альманах; И чтоб в поэме отражались, Как в озере, скопленья звезд; И чтоб травинки в ней казались Пригодными для птичьих гнезд; Чтоб лик Психеи был овеян Дыханьем пламенным твоим; И чтоб твой стих, знаток кофеен, Навек избыл их чад и дым. 10 июля* * *
«Колоколен ли перепевы…» Перевод В. Давиденковой
Колоколен ли перепевы, От набата ль гудит земля… Нет мне дела до королевы, Нет мне дела до короля. Позабыл я, покаюсь ныне, Горделив ли сеньора вид, И кюре наш — он по-латыни Иль по-гречески говорит. Слез иль смеха пора настала, Или гнездам пришел сезон, Только вот что верно, пожалуй, — Только верно, что я влюблен. Ах, о чем я, Жанна, мечтаю? О прелестной ножке твоей, Что, как птичка, легко мелькая, Перепрыгнуть спешит ручей. Ах, о чем я вздыхаю, Жанна? Да о том, что, как приворот, Незаметная нить неустанно К вам в усадьбу меня влечет. Что пугает меня ужасно? То, что в сердце бедном моем Создаешь ты и полдень ясный, И ненастную ночь с дождем. И еще мне забавным стало — Что на юбке пестрой твоей Незаметный цветочек малый Мне небесных светил милей. 19 января 1859 г.ГРОЗНЫЙ ГОД
ГОРЕ[488] Перевод П. Антокольского
Шарль, мой любимый сын! Тебя со мною нет. Ничто не вечно. Все изменит. Ты расплываешься, и незакатный свет Всю землю сумраком оденет. Мой вечер наступил в час утра твоего. О, как любили мы друг друга! Да, человек творит и верит в торжество Непрочно сделанного круга. Да, человек живет, не мешкает в пути, И вот у спуска рокового Внезапно чувствует, как холодна в горсти Щепотка пепла гробового. Я был изгнанником. Я двадцать лет блуждал В чужих морях с разбитой жизнью, Прощенья не просил и милости не ждал: Бог отнял у меня отчизну. И вот последнее — вы двое, сын и дочь, Одни остались мне сегодня. Все дальше я иду, все безнадежней ночь. Бог у меня любимых отнял. Подобно Иову[489], я наконец отверг Неравный спор и бесполезный. И то, что принял я за восхожденье вверх, На деле оказалось бездной. Осталась истина. Пускай она слепа. Я и слепую принимаю. Осталась горькая, но гордая тропа, — По крайней мере, хоть прямая. 3 июня 1871 г.ПОХОРОНЫ Перевод Ю. Корнеева
Рокочет барабан, склоняются знамена, И от Бастилии до сумрачного склона Того холма, где спят прошедшие века Под кипарисами, шумящими слегка, Стоит, в печальное раздумье погруженный, Двумя шпалерами народ вооруженный. Меж ними движутся отец и мертвый сын. Был смел, прекрасен, бодр еще вчера один; Другой — старик; ему стесняет грудь рыданье; И легионы им салютуют в молчанье. Как в нежности своей величествен народ! О, город-солнце! Пусть захватчик у ворот, Пусть кровь твоя сейчас течет ручьем багряным, Ты вновь, как командор, придешь на пир к тиранам, И оргию царей смутит твой грозный лик. О мой Париж, вдвойне ты кажешься велик, Когда печаль простых людей тобою чтима. Как радостно узнать, что сердце есть у Рима, Что в Спарте есть душа и что над всей землей Париж возвысился своею добротой! Герой и праведник, народ не бранной славой — Любовью победил. О, город величавый, Заколебалось все в тот день. Страна, дрожа, Внимала жадному рычанью мятежа. Разверзлась пред тобой зловещая могила, Что не один народ великий поглотила, И восхищался он, чей сын лежал в гробу, Увидя, что опять готов ты на борьбу, Что, обездоленный, ты счастье дал вселенной. Старик, он был отец и сын одновременно: Он городу был сын, а мертвецу — отец. Пусть юный, доблестный и пламенный боец, Стоящий в этот миг у гробового входа, Всегда в себе несет бессмертный дух народа! Его ты дал ему, народ, в прощальный час. Пускай душа борца не позабудет нас И, бороздя эфир свободными крылами, Священную борьбу продолжит вместе с нами. Кто на земле был прав, тот прав и в небесах. Умершие, как мы, участвуют в боях И мечут в мир свои невидимые стрелы То ради доброго, то ради злого дела. Мертвец — всегда меж нас. Усопший и живой Равно идут путем, начертанным судьбой. Могила — не конец, а только продолженье; Смерть — не падение, а взлет и возвышенье. Мы поднимаемся, как птица к небесам, Туда, где новый долг приуготован нам, Где польза и добро сольют свои усилья; Утрачивая тень, мы обретаем крылья! О сын мой, Франции отдай себя сполна В пучинах той любви, что «богом» названа! Не засыпает дух в конце пути земного, Свой труд в иных мирах он продолжает снова, Но делает его прекрасней во сто крат. Мы только ставим цель, а небеса творят. По смерти станем мы сильнее, больше, шире: Атлеты на земле — архангелы в эфире, Живя, мы стеснены в стенах земной тюрьмы, Но в бесконечности растем свободно мы. Освободив себя от плотского обличья, Душа является во всем своем величье. Иди, мой сын! И тьму, как факел, освети! В могилу без границ бестрепетно взлети! Будь Франции слугой, затем что пред тобою Теперь раздернут мрак, нависший над страною. Что истина идет за вечностью вослед, Что там, где ночь для нас, тебе сияет свет. Париж, 18 марта* * *
«О, время страшное! Среди его смятенья…» Перевод М. Донского
О, время страшное! Среди его смятенья, Где явью стал кошмар и былью — наважденья, Простерта мысль моя, и шествуют по ней Событья, громоздясь все выше и черней. Идут, идут часы проклятой вереницей, Диктуя мне дневник страница за страницей. Чудовищные дни рождает Грозный Год; Так ад плодит химер, которых бездна ждет. Встают исчадья зла с кровавыми глазами, И, прежде чем пропасть, железными когтями Они мне сердце рвут, и топчут лапы их Суровый, горестный, истерзанный мой стих. И если б вы теперь мне в душу поглядели, Где яростные дни и скорбные недели Оставили следы, — подумали бы вы: Здесь только что прошли стопою тяжкой львы. Апрель 1871 г.* * *
«За баррикадами, на улице пустой…» Перевод П. Антокольского
За баррикадами, на улице пустой, Омытой кровью жертв, и грешной и святой, Был схвачен мальчуган одиннадцатилетний. — Ты тоже коммунар? — Да, сударь, не последний! — Что ж! — капитан решил. — Конец для всех — расстрел. Жди, очередь дойдет! — И мальчуган смотрел На вспышки выстрелов, на смерть борцов и братьев. Внезапно он сказал, отваги не утратив: — Позвольте матери часы мне отнести! — Сбежишь? — Нет, возвращусь! — Ага, как ни верти, Ты струсил, сорванец! Где дом твой? — У фонтана.— И возвратиться он поклялся капитану. — Ну живо, черт с тобой! Уловка не тонка! — Расхохотался взвод над бегством паренька. С хрипеньем гибнущих смешался смех победный. Но смех умолк, когда внезапно мальчик бледный Предстал им, гордости суровой не тая, Сам подошел к стене и крикнул: — Вот и я! — И устыдилась смерть, и был отпущен пленный. Дитя! Пусть ураган, бушуя во вселенной, Смешал добро со злом, с героем подлеца, — Что двинуло тебя сражаться до конца? Невинная душа была душой прекрасной. Два шага сделал ты над бездною ужасной: Шаг к матери один и на расстрел — второй. Был взрослый посрамлен, а мальчик был герой. К ответственности звать тебя никто не вправе. Но утренним лучам, ребяческой забаве, Всей жизни будущей, свободе и весне — Ты предпочел прийти к друзьям и встать к стене, И слава вечная тебя поцеловала. В античной Греции поклонники, бывало, На меди резали героев имена И прославляли их земные племена. Парижский сорванец, и ты из той породы! И там, где синие под солнцем блещут воды, Ты мог бы отдохнуть у каменных вершин, И дева юная, свой опустив кувшин И мощных буйволов забыв у водопоя, Смущенно издали следила б за тобою. Вианден, 27 июняСУД НАД РЕВОЛЮЦИЕЙ Перевод Г. Шенгели
Когда уселись вы у пышного стола И революция к барьеру подошла, Дика и яростна, пугая сов полночных, Та революция, что марабу восточных И западных попов, факиров, дервишей Без церемонии всех прогнала взашей, — Гнев, судьи, обнял вас. Действительно, отныне Рой пап и королей исчез, как тень пустыни: В них паразитов мы узнали и солдат; По бледным лицам их сны ужаса скользят; И вы, о трибунал, полны негодованьем! Ужасно! Черный лес весь наводнен страданьем; Окончились пиры прожорливых ночей; Мир сумрака хрипит в агонии своей; Ужасно: рассвело! Нетопыри ночные Ослепли, и хорьки блуждают, чуть живые; Червь утерял свой блеск; заплакала лиса; Зверье, привыкшее опустошать леса И гнезда разорять во мраке, еле дышит; Невозмутимый лес рыданье волчье слышит; Гонимых призраков отчаялась семья; И если этот блеск направит острия На крылья воронов, что в страхе в небо взмыли, — Вампир от голода умрет в своей могиле… Свет пожирает мглу, пронзает мрак, — смотри!.. Вы, судьи, судите пришествие зари! 14 ноября 1871 г.ИСКУССТВО БЫТЬ ДЕДОМ
ВЕЧЕРНЕЕ Перевод Л. Пеньковского
Сыроватый туман, вересняк сероватый. К водопою отправилось стадо быков. И внезапно на черную шерсть облаков Лунный диск пробивается светлой заплатой. Я не помню когда, я не помню, где он На волынке поигрывал, дядя Ивон. Путник шествует. Степь так темна, неприютна. Тень ложится вперед, сзади стелется тень, Но на западе — свет, на востоке — все день, Так — ни то и ни се. И луна светит мутно. Я не помню когда, я не помню, где он На волынке поигрывал, дядя Ивон. Ткет паук паутину. Сидит на чурбане Вислогубая ведьма, тряся головой. Замерцал на болотных огнях домовой Золотою тычинкою в красном тюльпане. Я не помню когда, я не помню, где он На волынке поигрывал, дядя Ивон. Пляшет утлая шхуна в бушующем море, Гнутся мачты, и сорваны все невода; Ветер буйствует. Вот они тонут! Беда! Крики, вопли. Никто не поможет их горю. Я не помню когда, я не помню, где он На волынке поигрывал, дядя Ивон. Где-то вспыхнул костер, озаряя багрово Обветшалый погост на пригорке… Где ты Умудрился, господь, столько взять черноты Для скорбящих сердец и для мрака ночного? Я не помню когда, я не помню, где он На волынке поигрывал, дядя Ивон. На отлогих песках серебристые пятна. Опустился орлан на обрыв меловой. Слышит старый пастух улюлюканье, вой, Видит — черти летают туда и обратно. Я не помню когда, я не помню, где он На волынке поигрывал, дядя Ивон. Дым стоит над трубой пышно-серым султаном. Дровосек возвращается с ношей своей. Слышно, как, заглушая журчащий ручей, Ветви длинные он волочит по бурьянам, Я не помню когда, я не помню, где он На волынке поигрывал, дядя Ивон. Бродят волки, бессонные от голодовки, И струится река, и бегут облака. За окном светит лампа. Вокруг камелька Малышей розоватые сбились головки. Я не помню когда, я не помню, где он На волынке поигрывал, дядя Ивон. 5 августа 1859 г.ЖАННА СПИТ Перевод А. Арго
Спит Жанна мирным сном до утренних лучей, Сжимая палец мой ручонкою своей! Я берегу ее и между тем читаю Благочестивые журналы, где от краю До краю мне грозят, где говорят о том, Чтобы немедленно отправить в желтый дом Читателей моих, где некто со слезами Зовет желающих побить меня камнями; Писания мои — сосуд с кромешным злом, В них сотни черных змей переплелись узлом; Тот говорит, что я из ада мог явиться; Тот зрит антихриста во мне, а тот боится, Как бы в глухом лесу не встретиться со мной, Тот мне подносит яд. «Пей!» — мне кричит другой. Я разорил весь Лувр, я учинял расстрелы, Я нищих подбивал на хищные разделы, Парижским заревом горит мое чело, Я гнусен, мерзок, зол, но, коль на то пошло, Я мог бы стать иным необычайно быстро, Когда б тиран меня пожаловал в министры! Я отравитель! Я убийца! Мелкий вор! — Так оглушительный жужжит мне в уши хор, Неукоснительно грозя мне казнью лютой… А Жанна между тем спокойно спит, как будто Без слов мне говорит: «Будь весел, не робей!» И руку жмет мою ручонкою своей! 2 декабря 1873 г.ПЕПИТА[490] Перевод Инны Шафаренко
Давнишнюю припомнил быль я! Ну, рифма, — дай мне имена! Ее ведь звали Инезилья? — Нет, Пепою звалась она! Как будто ей связали крылья, В полете рифма не вольна: Я повторяю: Инезилья! — Пепита! — мне твердит она. Сколь властно прошлое над нами! Пепита… Все, что позади, Как море, теплыми волнами Колышется в моей груди, Всплывает то, что было скрыто… Я вижу детство и отца… Его сопровождала свита, И жили мы в стенах дворца… В Испании, столь сердцу милой, Однажды в ранний час, весной, — А мне тогда лет восемь было, — Пепита встретилась со мной И молвила с улыбкой чинной: «Я — Пепа!», — поклонившись мне. Я почитал себя мужчиной Там, в завоеванной стране… Ее шиньон был в тонкой сетке С каскадом золотых монет, И в пламенных кудрях кокетки Струился золотистый свет; Под солнечным лучом блистали Жакета бархат голубой, Муар на юбке цвета стали И шаль с каймою кружевной. Дитя — но женщина… И Пепе Не покориться я не мог: Сковали душу мне, как цепи, Одетый в бархат локоток, Янтарное колье на шее, Куст роз под стрельчатым окном… Пред ней дрожал я, цепенея, Как жалкий птенчик пред орлом. И каждый день к ее балкону, В часы, когда алел закат, Являлись нищий и влюбленный — Бездомный старец и солдат. Пока один надутым франтом Под окнами печатал шаг, Другой надтреснутым дискантом Молил о нескольких грошах. Она же — пусть уловку эту Ханжи суровые простят, — Бросала нищему монету, Влюбленному — лукавый взгляд, И оба удалялись вскоре, Равно довольные судьбой, Влюбленный с торжеством во взоре, Старик — неся два су с собой, А я, стоявший у окошка, Не видя их, — так был я мал, — Не знал, что сам влюблен немножко, И, что смешон, не понимал… «Давай поженимся!» — сказала Шалунья как-то мне шутя, — В поклонники она избрала Жандарма, а в мужья — дитя. Смущенный, сам себя не слыша, Я что-то ей пролепетал… Она шепнула строго: «Тише!» — Но пыл мой только жарче стал… А рядом, во дворце, где в зале От витражей полутемно, Солдаты в домино играли И пили старое вино.ЧЕТЫРЕ ВИХРЯ ДУХА
НАПИСАНО НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ КНИГИ ЖОЗЕФА ДЕ МЕСТРА Перевод Ю. Корнеева
Зловещий храм, сооруженный В защиту беззаконных прав! По этой плоскости наклонной Алтарь скатился, бойней став. Строитель жуткого собора, Лелея умысел двойной, Поставил рядом два притвора: Для света и для мглы ночной. Но этот свет солжет и минет; Его мерцанье — та же мгла, И над ПарижемРим раскинет Нетопыриные крыла[491]. Философ, полный жаждой мести, Своим логическим умом Измыслил некий Реймс[492], где вместе Сидят два зверя за столом. Хотя обличья их несхожи: Один — блестящ, другой — урод, Но каждый плоть народа гложет И кровь народа алчно пьет. Два иерарха, два придела: В одном венчает королей Бональд, в другом де Местр умело Канонизует палачей.[493] Для тирании нет границы — Ее поддерживает страх. На тронах стынет багряница, Стекающая с черных плах.ЛЕГЕНДА ВЕКОВ
СОВЕСТЬ[494] Перевод М. Кудинова
С женою и детьми, покрыт звериной шкурой, Под проливным дождем, взлохмаченный и хмурый, Бежал от лика Иеговы Каин прочь; И прибыл наконец, когда спустилась ночь, К подножию горы, где полные печали Измученные сыновья ему сказали: «Мы здесь уляжемся на землю и заснем». Но Каин спать не мог: он думал, а потом Вверх посмотрел и там, в глубинах небосвода, Глаза увидел вдруг, не скрыла непогода Их взора. На него тот взор был устремлен. «Путь пройден небольшой!» — дрожа воскликнул он. И, разбудив жену и сыновей, он снова Возглавил их побег. Не говоря ни слова, Шел тридцать дней подряд и тридцать шел ночей, От шума вздрагивал, не расправлял плечей; Боясь взглянуть назад, он шел, с пространством споря, Без сна и отдыха. И вот на берег моря, В край, названный потом Ассуром, он пришел. «Здесь остановимся, — сказал он. — Я нашел Себе убежище, достигнув края света». И в небо мрачное он глянул, молвив это, И увидал глаза в бездонной глубине. Охвачен дрожью, закричал он: «Дайте мне Укрыться где-нибудь!» И сыновья в печали Смотрели на него и головой качали. Иавалу, отцу тех, кто живет в шатрах, Раскидывая их в пустыне и песках, Так Каин приказал: «Здесь натяни полотна!» И возвели шатер с его стеной неплотной, Камнями придавив полотнища к земле. «Ты видишь что-нибудь?» — спросила в полумгле Дочь сыновей его, ребенок нежный Цилла. «Глаза! — ответил он. — Мне жизнь моя постыла». Иувал, предок тех, кто в барабаны бьет И с гуслями в руках по улице бредет, Воскликнул: «Я могу соорудить иное!» Он Каина укрыл за бронзовой стеною. И Каин вновь сказал: «Глаза! Опять глаза!» «Мы крепость возведем, — Енох ему сказал.— Построим город, цитадель и много башен. Никто не подойдет — так будет город страшен. И все ворота в нем закроем на засов». И Тувалкаин, этот предок кузнецов, Стал город воздвигать ужасный, как проклятье. Покуда строил он, все остальные братья Прочь гнали тех, кто смел приблизиться к стенам, Глаза выкалывали им, а по ночам Из лука целились, пуская в звезды стрелы. Не полотно шатров — гранит рукой умелой Был поднят к небесам. Все плиты меж собой Связали намертво железною скобой, И толщина стены горе не уступала, И тень от башен тьмой равнину наполняла, И на вратах был знак: «Вход богу воспрещен». Когда ж увидели, что труд их завершен, То в башню каменную предка поместили. Он мрачно в ней сидел и так ответил Цилле, Спросившей у него, исчезли ли глаза: «Нет! Здесь они опять». А сыновьям сказал: «Хочу я под землей, как мертвецы в могиле, Укрыться навсегда, чтоб обо мне забыли И чтобы ничего не видеть мне вовек». Могилу вырыли. Спустился человек Под своды мрачные — он не считал ступени И в полной темноте уселся на сиденье. Потом прислушался. Не слышно ничего. Он был один. Глаза… смотрели на него.НАДПИСЬ[495] (X век до P. X.) Перевод В. Рогова
Я Меша, Кема сын[496], могуч и венценосен. Я чащу вырубил столетних черных сосен И город в Африке воздвиг, Ваал-Меон, Двумя надежными стенами обнесен, И рек: тюрьма грозит владеющему домом, Который не снабжен проточным водоемом, Чтоб в пору зимнюю двухмесячных дождей Могли стада коров, овец, козлов, свиней, Что к пастбищам гурьбой идут при зное мая, Быть в городской черте, ее не покидая. Там я врата возвел, там башню я возвел. Я за Астарту в бой победоносный шел[497], И Кем, Астарты муж, отец мой, всех грознее, Со мной Гад-Омри гнал, владыку Иудеи[498]. Ароэр я воздвиг, несокрушимый град — Там башню я возвел, возвел твердыню врат. Меня за доброту народы все хвалили, Подвластны мне, царю, Дибона[499] рати были, Что с песней гибель пьют, когда нужда есть в том, И цедят кровь орла с верблюжьим молоком. Судья и царь, я шел, мне лился на знамена Свет Кема, Бела свет, Астарты и Дагона — Сиянье четырех властительных светил. Из Ура к Тиру я подземный ход прорыл, Я Нево стал царем, вершины благородной, Лишь то я совершал, что небесам угодно. И ныне в склепе я смежил навеки взор, Но камень будет вам святыней с этих пор, Сжигайте же бетель перед моей могилой: Ведь это мощь моя всех в Нево истребила[500], Все стаи воронов я вволю накормил, Я рынки голыми рабынями забил, Четыреста слонов добычу мне влачили, Все дети малые распяты мною были, Десницей я во тьму смёл злые племена И городам вернул былые имена. 17 июля 1870 г.КАССАНДРА[501] Перевод В. Рогова
Аргос. Перед дворцом.
Кассандра на колеснице. Клитемнестра. Хор.
Хор
Пред нами дочь царя, чей город — груда тлена. Как только довелось вкусить ей горечь плена, Она все клонит взор и уст не разожмет. Ни мрамор Пароса, ни Фулы чистый лед Не холодней ее, недвижной, бессловесной. Знать то о будущем, что смертному безвестно, — Сей дар внушил ей бог, пугающий, немой. Зловещий Аполлон, что полнит, скрытый тьмой, Додону шелестом и звоном лирным Фивы, Дал ясность мрачную троянке несчастливой. Она увидеть ход грядущего смогла; Отмщенья отсвет лег на гладь ее чела; Царевной, пифией, и жрицей, и рабыней Пришлось ей быть — удел, невиданный доныне! В квадриге узница сидит и не встает. Вслед пленным воинам глядит, смеясь, народ, Босым, измученным — их подгоняют пики, — И немота страшна, хотя забавны крики.Клитемнестра
Эй, женщина, вставай. Ты не в стране своей.Хор
Царица говорит. О, будь покорна ей.Клитемнестра
Спеши. Тебя ль мне ждать? С тебя взыщу я строго, Я выхода царя жду ныне у чертога. Быть может, ты понять не в силах наш язык? Что ж, если за море к тебе он не проник В далекую страну, где ты взята добычей, Ответь мне знаками — то варваров обычай.Хор
О, если б знать язык, родной ее краям! Такое же она внушает чувство нам, Как разъяренный зверь, безжалостный и грубый.Клитемнестра
Я больше не могу. Сковал ей ужас губы. О Трое, скорбная, все думает она: Чтоб трепет испытать, на долгий срок должна Покрыться, как плащом, кровавой пеной дева.Хор
Склонись перед судьбой. Я не питаю гнева. Сойди. Тебя зовет цепей тяжелых звон.Кассандра
О небо и земля! О боги! Аполлон!Аполлон Локсий
(во тьме)
Я здесь. Еще узришь ты зарево большое: Пыланье Аргоса, ответ сгоревшей Трое. 7 ноября 1876 г.ПЕСНЬ СОФОКЛА ПРИ САЛАМИНЕ[502] Перевод В. Рогова
Достиг я возраста эфеба[503], Шестнадцати лазурных лет; Война, владычица Эреба, Чей клич — суровый вестник бед, Иду к тебе в ночи беззвездной! И пусть у Ксеркса больше сил, Я твой для славы, битвы грозной И смерти; но молить решил Тебя, в чьем взоре вспышки гнева, Кому пребудет меч слугой: Да будет избрана мне дева Твоей зловещею рукой, Та, что смеется безмятежно, Не ведая житейских гроз, Та, что на мир взирает нежно И чьи сосцы — бутоны роз. Мой черен рок, но я от юной Мук не узнаю никогда — Так благотворна для Нептуна Рассвета яркая звезда. Я крепко обниму ей плечи… О, дай мне сердца жар излить! Готов я пасть на поле сечи — Успеть бы только полюбить. 4 января 1876 г.ПОМОЩЬ МАЙОРИАНУ, ПРЕТЕНДЕНТУ НА ИМПЕРАТОРСКИЙ ПРЕСТОЛ Перевод В. Рогова
Германия. Лес. Сумерки. Лагерь.
Майориан у бойницы. Все пространство до горизонта заполнено несметной ордой.
Человек из орды
Ты хочешь помощи, Майориан. Прими.Майориан
А кто здесь?Человек
Океан, составленный людьми.Майориан
А кто вам вождь?Человек
Никто.Майориан
Вас кто-то угнетает?Человек
Да, жажда с голодом.Майориан
А кто вы?Человек
Кто шагает По всем краям земли сквозь темень и грома.Майориан
Отчизна ваша?Человек
Ночь.Майориан
А имя ваше?Человек
Тьма.Майориан
Строй ваших колесниц я вижу на равнине?Человек
Ничтожная их часть перед тобою ныне. То, что скопилось тут, — наш головной отряд. Увидит разом всех один лишь божий взгляд.Майориан
Чего ж вы на земле желаете?Человек
Скитаться.Майориан
До вашего числа возможно ль досчитаться?Человек
Да.Майориан
Нашего орла увидеть рати всей — Какой вам будет срок потребен?Человек
Восемь дней.Майориан
Что нужно вам?Человек
Тебе мы нашу мощь предложим. Из ничего создать мы государя можем.Майориан
Вас Цезарь одолел.Человек
Кто, Цезарь?Майориан
Вашу рать, Уверен я, Дентат смог в битве разметать.Человек
Об этом ты спроси скелет Дентата белый.Майориан
Сприкс вас погнал.Человек
Смешно.Майориан
Побил вас Цимбер смелый.Человек
У кой-кого из нас побит стальной шелом — И только.Майориан
Кто ж сюда пригнал вас?Человек
Ветер, гром, Дождь с градом, ураган, ненастье грозовое, Неистовство стихий — не что-нибудь живое. Сильней нас ничего не знает этот свет. Пред богом робки мы, пред человеком — нет. Нам нужен в мире край, где можем жить раздольно. Нам обещай его — и мы с тобой. Довольно. За нас ты? Мир. А нет — готов к сраженью будь.Майориан
Я страшен вам?Человек
Ничем.Майориан
Известен вам?Человек
Чуть-чуть.Майориан
Что я для вас?Человек
Ничто. Так, человек из Рима.Майориан
Чего ж хотите вы?Человек
Земля необозрима, Цель — в бесконечности, и нам всю жизнь идти Туда, где зарево сияет нам в пути, — И там лишь завершит поход свой наша сила.Майориан
А ты, что говоришь, как звать тебя?Человек
Аттила[504]. 6 января 1860 г.ЦАРЬ ПЕРСИИ Перевод М. Кудинова
Царь Персии себя охраной окружил. Жил в Исфагани он, в Тифлисе летом жил. Родных своих страшась, он на тропинках сада Расставил часовых из верного отряда. Однажды в том саду взяла его тоска, И вышел в поле он, и встретил старика, Который стадо пас, был юный сын с ним рядом. «Как звать тебя, скажи?» — царь смерил старца взглядом. «Карам, — ответил тот, песнь оборвав свою.— Живу я в хижине, стоящей на краю Ущелья. Вот мой сын, и он моя отрада. Поэтому пою, когда пасем мы стадо, Пою, как пел Гафиз и как теперь поет Саади, радующий песнями народ». Пока он говорил, царь слушал и дивился. А юноша пастух перед отцом склонился И нежно руку у него поцеловал. «Сын, любящий отца! Как странно!» — царь сказал.* * *
«Свидетель Архилох тому, что средь Афин…» Перевод В. Рогова
Свидетель Архилох[505] тому, что средь Афин, Охвачен ужасом, сказал судья один: «Уйду приют искать в безлюдье. Прогнил Ареопаг[506], и страх — владыка дням! Закройтесь, небеса! Здесь чужд закон правам И судьям чуждо правосудье!» То видел Цицерон: один центурион, Меч бросив, Цезарю промолвил: «Гистрион, Твои заветные стремленья Мне ясны. Армия — прислужница твоя, Не я лишь. Нет, тебе не подошел бы я Как исполнитель преступленья». О гений-пария, Макиавелли злой, Ты помнишь, как вскричал апостол пред тобой: «Стыд! Папа над людьми глумится. Он Сатану избрал союзником своим, И агнца твоего теперь, Иерусалим, Сжирает римская волчица». Позора океан глубок, и нет в нем дна, Людская совесть им навек поглощена И скрыта непроглядной мглою, Но на мгновение заметить может взгляд, Как из свирепых волн, что хлещут и гремят, Всплывет утопленник порою. 9 июня 1870 г.СТРАНСТВУЮЩИЕ РЫЦАРИ Перевод М. Кудинова
Скитались рыцари когда-то по земле. Мелькнув перед толпой, как молния во мгле, Они невольный страх на лицах оставляли И оставляли свет там, где они блуждали. В глухие времена бесчестья и стыда, Когда царили гнет, и траур, и беда, Они, посланцы справедливости и чести, Прошли, карая зло, разя порок на месте. Бежали прочь от них измена и обман, И прятался разбой, и бледен был тиран, Бесчеловечность с беззаконьем отступали Пред неподкупным магистратом грозной стали; Тому, кто зло творил, одна из этих рук, Из мрака вынырнув, несла погибель вдруг. Так воле вопреки людей, что рядом жили, Они суд высшей справедливости вершили, Господни рыцари шли за нее на бой В любом углу земли, везде и в час любой. Горел их свет в ночи, он был защитой хижин И был защитой тех, кто беден и унижен, Их свет был справедлив и мрачны лица их. Но, ими защищен от алчных и от злых, Народ присутствию их радовался мало: Ведь одиночество всегда толпу смущало, Внушают страх все те, кто в мысли погружен, Кто продолжает путь, когда со всех сторон Вой ветра слышится, и на лесной дороге Дождь хлещет по лицу, и ночь полна тревоги. Забрало опустив, объяты немотой, Как призраки, они прошли перед толпой, И гребни шлемов их над миром возвышались. Но кто они? Зачем из мрака вдруг являлись? И шла о них молва: они вершат свой суд И, покарав порок, вновь скроются, уйдут, Как сновидение, они неуловимы… Наездник черный! Пешеход неутомимый! Везде, где при огне сверкала сталь их лат, Где появлялись вдруг, поставив наугад Копье свое к стене, в углу укромном зала, Везде, где тень их пред глазами возникала, Там люди чувствовали ужас дальних стран, Леса мерещились им, бурный океан И смерть, бредущая на близком расстоянье От тех, кто странствует. Казалось, что в дыханье Их боевых коней таится шум лесов. Один лишь ветер знал, где их очаг и кров. Вот этот странник, не король ли он Бретани? Бродил он по горам или в речном тумане? Сражался с маврами иль племя покорил, Чьи крики дикие тревожат сонный Нил? Какой им город взят или спасен? Какое Чудовище истреблено его рукою? Не все их имена смыл времени поток: Бернаром звался тот, другой себя нарек Лаиром… В памяти все эти исполины Будили отзвук битв в пустынях Палестины[507]; Барон неведомый был в Индии царем; Знамена, рев трубы, великих схваток гром, Сраженья, боги, властелины, эпопея Всплывали в сумраке, над их мечами рея, Напоминали о неведомых краях, О дальних странах, о волшебных городах, Сверкавших золотом, зарытых в мглу по пояс, Напоминали Тир, Солим, Гелиополис… Одни шли с севера, явились с юга те; Была у каждого эмблема на щите, Куда слетелись геральдические птицы. Долг начертал их путь, не знающий границы. Торжественна была их поступь, гул шагов Сливался с вечностью, звуча во мгле веков; Но из такой они пришли безбрежной дали, Что часто ужас окружающим внушали, И отсвет мрачных горизонтов на гербах У смолкнувшей толпы будил невольный страх.ПЕСНЯ КОРАБЕЛЬНЫХ МАСТЕРОВ Перевод П. Антокольского
На боевой оснастке флота Сверкает наша позолота. Над прозеленью волн крутых Разгуливает ветер шалый. Природа с тенью свет смешала В несчетных бликах золотых. Шквал бешено и прихотливо Ломает линию прилива. Случайность на море царит. Куда ни глянь — игра повсюду. Подобен призрачному чуду Наш раззолоченный бушприт. Волна грозит ему изменой, Но блещет золото надменно — Изделье нашей мастерской. Оно само мишень для молний, Но взор вперяет, гнева полный, В седой туман, в простор морской. Король взимает дань двойную. Султан, несчетных жен ревнуя, Добычи новой не лишен, — Сегодня на галдящем рынке Рабынь скупил он по старинке, Всех без разбора, нагишом. Белы или чернее сажи Красавицы на распродаже, Все, из каких угодно стран, Товаром станут окаянным. Так входят в сделку с океаном Работорговец и тиран. У деспота и урагана, У молнии и ятагана Хозяйство исподволь растет. Здесь отдыха ни у кого нет: Шторм непрестанно волны гонит, Царь подданных своих гнетет. А мы любым владыкам служим, Поем, трудясь над их оружьем. Эмир, в глазах твоих свинец, — Меж тем как в песне нашей честной, Как в гнездышке, в листве древесной, Трепещет маленький птенец. Природа-мать спокойно дышит И колыбель свою колышет И пестует чужих детей. Пусть наша песня дальше льется, А в ней невольно отдается И гул громов, и стон смертей. Мы лавры с пальмами подарим Владычественным государям, — Но им не задержать зато Ни звездного круговращенья, Ни штормового возмущенья, — Там не подвластно им ничто. Богат цветеньем знойный полдень, Он женской прелестью наполнен, — Здесь вечный праздник, вечный смех, Там от борзых бегут олени… Но мир вблизи и в отдаленье Ханжей отпугивает всех. И если надобно султанам Жить в опьяненье непрестанном, Пускай выходят из игры В разгар грехов, в цвету желаний. Но есть в лесу у каждой лани Темно-зеленых мхов ковры. Любой подъем с пареньем связан. Любой огонь затлеть обязан, Могила ищет старика. Над пляской волн, над пеньем бури, Над зыбким зеркалом лазури Ползут часы, летят века. Красавицы ныряют в волны, Хмельным броженьем, жженьем полный, Мир очарован сам собой. Сверкает море в лунных бликах. Так отражен на смертных ликах Небесный купол голубой. На золотых бортах галерных Ты шесть десятков весел мерных Движенью вечному обрек. Они легко взлетают к высям. Но каждый взмах весла зависим От каторжников четырех.* * *
«Поэт — вселенная, что в человеке скрыта…» Перевод В. Рогова
Поэт — вселенная, что в человеке скрыта. В мозгу у Плавта — Рим, рокочущий сердито; Слепой и царственный, увидел Мэонид, Пренебрегая тьмой, что взор его мрачит, Калхаса, Гектора, Патрокла и Ахилла; Терзанья Прометей терпел в душе Эсхила; Рабле вместил свой век; та истина ясна: Все, все мыслители в любые времена, Благословенные певцы-визионеры, Шекспиры щедрые, обильные Гомеры, Вынашивали плод, подобно матерям: Одним рожден был Лир, другим же — царь Приам, Да, каждым гением порождено немало. В пустыню их влекло; в душе у них сияла Бессмертная лазурь, где вечны свет и смех; Порою же тревог, что угнетают всех, Квадриги громовой им слышалось движенье. Поэтов-мудрецов венчало озаренье. Им ясно было все, что зрели пред собой: Для Архилоха был опорой ямб хромой[508], Услышал Еврипид стенания инцеста[509]. В себе нашел Мольер печального Альцеста[510], В нем был Арнольф[511] с женой, как сыч и стрекоза, И хохот шутовской, и мудрости слеза. С Кихотом речи вел Сервантес, бледный, нежный; Внял Иов, что шептал Денница, дух мятежный; Дант мыслью пронизал великой бездны мрак; Пляс фавнов на лугу узнал Гораций Флакк, А Марло разглядел под сенью черной чащи Бесовский шабаш[512], вихрь, неистово бурлящий. От первых дней поэт для мирозданья свят, Когда видения вокруг него парят. Ему трава мягка, пещера не угрюма; Пан топчет мох при нем, не поднимая шума; Когда природы сын мечтами обуян, Она следит за ним; коль есть в лесу капкан, Возьмет его рукав куст на краю тропинки И скажет: «Нет, туда ты не ходи!» Барвинки Трепещут под ногой; по зарослям лесным Возникнет голос вдруг и, еле различим, Прошепчет: «Вот Макбет с Шекспиром! С Беатриче Дант! Это Дон Жуан с Мольером!» Гомон птичий Умолкнет, сникнет плющ, колючки скрыть готов Терновник жалящий, безмолвный строй дубов Дорогу даст, чтоб шли в беседе под ветвями Великие умы с великими тенями.ПЕТРАРКА Перевод А. Ибрагимова
Тебя уж нет. Но вновь я вижу образ твой То в небесах ночных, то днем — в листве густой. Вовек духовное не помрачится око. Я погружен во тьму. Но в этой тьме глубокой Еще ясней твоя звезда. И мать и ты — Вы обе на меня глядите с высоты… Где красота твоя блистательная ныне! Лаура! Отзовись! Где ты, в какой пустыне? Люблю тебя. Люблю. Жизнь без любви пуста. Когда волшебное «люблю» твердят уста И разливается по нашим жилам пламя, Мы, смертные, равны с бессмертными богами. Бесценнейший из всех даров любви — навек Ушедших видеть вновь, из-под закрытых век, Их возвращать к себе, томящихся в изгнанье, Чтоб снова вспыхнуло угасшее сиянье. Не правда ли, ты здесь, со мною, как всегда? Глаз отвечает: «Нет», а сердце молвит: «Да».НОВЫЕ ДАЛИ Перевод А. Ахматовой
Гомер поэтом был. И в эти времена Всем миром правила владычица-война. Уверен, в бой стремясь, был каждый юный воин, Что смерти доблестной и славной он достоин. Что боги лучшего тогда могли послать, Чем саван, чтобы Рим в сражениях спасать, Иль гроб прославленный у врат Лакедемона? На подвиг отрок шел за отчие законы, Спеша опередить других идущих в бой, Им угрожавший всем кончиной роковой. Но смерть со славою, как дивный дар, манила, Улисс угадывал за прялкою Ахилла[513], Тот платье девичье, рыча, с себя срывал, И восклицали все: — Пред нами вождь предстал! — Ахилла грозный лик средь рокового боя Стал маской царственной для каждого героя. Был смертоносный меч, как друг, мужчине мил, И коршун яростный над музою кружил, В сражении за ней он следовал повсюду, И пела муза та лишь тел безгласных груду. Тигрица-божество, ты, воплощенье зла, Ты черной тучею над Грецией плыла; В глухом отчаянье ты к небесам взывала, Твердя: — Убей, убей, умри, убей — все мало! — И конь чудовищный ярился под тобой. По ветру волосы — ты врезывалась в бой Героев, и богов могучих, и титанов. Ты зажигала ад в рядах враждебных станов, Герою меч дала, сумела научить, Как Гектора вкруг стен безжалостно влачить[514]. Меж тем как смертное копье еще свистело. И кровь бойца лилась, и остывало тело, И череп урною могильною зиял, И дротик плащ ночной богини разрывал, И черная змея на грудь ее всползала, И битва на Олимп в бессмертный сонм вступала, — Был голос музы той неумолим и строг, И обагряла кровь у губ прекрасный рог. Палатки, башни, дым, изрубленные латы, И стоны раненых, и чей-то шлем пернатый, И вихорь колесниц, и труб военных вой — Все было в стройный гимн превращено тобой. А ныне муза — мир… И стан ее воздушный Объятьем не теснит, сверкая, панцирь душный. Поэт кричит войне: — Умри ты, злая тень! — И манит за собой людей в цветущий день. И из его стихов, везде звучащих звонко, Блестя, слеза падет на розу, на ребенка; Из окрыленных строф звезд возникает рой, И почки на ветвях уже шумят листвой, И все его мечты — как свет зари прекрасной; Поют его уста и ласково и ясно. Напрасно ты грозишь зловещей похвальбой, Ты, злое прошлое. Покончено с тобой! Уже в могиле ты. Известно людям стало: Те козни мерзкие, что ты во мгле сплетала, Истлели; и войны мы больше не хотим; И братьям помогать мы примемся своим, Чтоб подлость искупить, содеянную нами. Свою судьбу творим своими же руками. И вот, изгнанник, я без устали тружусь, Чтоб человек сказал: — Я больше не боюсь. Надежды полон я, не помню мрачной бури. Из сердца вынут страх, и тонет взор в лазури. 10 июня 1850 — 11 февраля 1877 г.1851. — ВЫБОР Перевод В. Рогова
Однажды мне Позор и Смерть предстали вместе Порою сумерек в лесном проклятом месте. Под ветром бурая ерошилась трава. У Смерти мертвый конь шагал едва-едва, Был язвами покрыт смердящий конь Позора. К нам крики воронья неслись над гребнем бора. Позор мне молвил: «Я Утехою зовусь. Держу я к счастью путь. Иди за мной, не трусь. Чертоги, пиршества, попы, шуты, уроды, Смех торжествующий, что сотрясает своды, Мешки с пиастрами, шелк, пурпур королей, Покорных женщин рой, которых нет милей, И парков рай ночной, где звезд всесильны чары. И славы знаменья, победные фанфары, Что Счастье возвестит ликующей трубой, — Тебя все это ждет. Иди же вслед за мной». И я ему в ответ сказал: «Твой конь зловонен». Смерть молвила: «Я — Долг. И путь мой неуклонен К могиле. Бедствия и горе впереди». Я попросил: «Меня с собою посади». И там, где виден бог сквозь мрачную завесу, Мы вместе в темноте скитаемся по лесу. 30 октября 1859 г.ЛЮДИ МИРА — ЛЮДЯМ ВОЙНЫ Перевод Ю. Корнеева
«К вам, кто порабощал несметные народы, К вам, Александры, к вам, охотники Нимроды[515], К вам, Цезарь, Тамерлан, Чингис, Аларих[516], Кир[517], Кто с колыбели нес войну и гибель в мир, К вам, кто к триумфам шел победными шагами И, как апрель луга душистыми цветами, Усеял трупами песок дорог земных, Кто восхищал людей, уничтожая их, — Мы, кто вокруг могил стоит зловещей ратью, Мы, ваши черные, уродливые братья, Монахи, клирики, жрецы, взываем к вам, Послушайте. Увы, и наш заветный храм, И ваш дворец равно рассудком с бою взяты. Мы были, как и вы, всесильными когда-то, И мы, подобно вам, с угрозой на челе, Как ловчий по лесу, блуждая по земле, Во имя господа ослушников карали. Мы, папы, даже вас, царей, подчас смиряли. Аттила, Борджа[518] — вы могуществом равны. Вам — скипетры, а нам панагии даны. За нами — идолы, за вами — легионы. Пускай блистательней горят на вас короны, Но мы опасней вас в смирении своем: Рычите громче вы, а мы быстрей ползем. Смертельней наш укус, чем ваш удар тяжелый. Мы — злоба Боссюэ и фанатизм Лойолы[519]. Наш узкий лоб одет тиарой золотой. Сикст Пятый, Александр Второй, Урбан Восьмой, Дикат, еретиков пытавший без пощады, Сильвестр Второй, Анит, Кайафа[520], Торквемада[521], Чья мрачная душа гордыней налита, Иуда, выпивший кровавый пот Христа, Аутодафе и страх, застенок и темница — Все это мы. На нас пылает багряница, Пурпуровым огнем сжигая жизнь вокруг. Богами, как и вы, казались мы. Но вдруг Нам пасть несытую сдавил намордник узкий: Рукой за глотку нас поймал народ французский, И революции неуязвимый дух, Насмешлив, дерзостен, к укусам нашим глух, Вверг нас, священников, и вас, царей, в оковы, Бесстрашно развенчав и разгромив сурово Вертеп религии и цитадель меча. В тюрьму загнали нас ударами бича, Как укротители, Дантоны и Вольтеры. На нас, кто мир держал в узле войны и веры, Отныне Франция узду надела. Но Через решетчатое узкое окно Мы, братья, вам кричим, что мы полны надежды, Что солнце черное должно взойти, как прежде, Вселенную лучом свирепым осветя; Что прошлое — веков зловещее дитя, — Как воскрешенный труп, из колыбели встанет И с хрипом мстительным опять на землю прянет. Гроб — колыбель его, и ночь — его заря. Уже в зияющих воротах алтаря, Как сумрачный цветок, кадило засверкало. Уже взывает Рим, подняв свое забрало: „Умолкни, человек! Все лжет в юдоли сей!“ И переходит в рык поток его речей. Грядет желанный день, когда, расправив крылья, Личину права вновь с себя сорвет насилье, Нерон и Петр людей двойным ярмом согнут[522], Базар и храм на „ты“ друг друга звать начнут. Ваш трон упрочится, и, как в былые годы, На волю выйдем мы, закрепостив народы. Мы на крестах распнем свободные умы. Все станет догмою, и будем править мы. Войною станет все, — вы будете вождями. Тираны-короли с попами-палачами Железною пятой придавят мир опять. И вновь увидит он, как будут оживать В кошмарах нового жестокости былого. И вновь построим мы из сумрака ночного Тот храм, чтоб Ложь собрать вокруг себя могла б Ошую — цезарей и одесную — пап. Мы постепенно тьму сгущаем над землею, Чтоб, властвуя уже над детскою душою, Когтями цепкими грядущее схватить. Благословляем мы, когда хотим убить. Стекает не елей — густая кровь с кропила. Сутана ваш доспех, воители, затмила. Все сокрушает наш безмерный гром, и с ним Орудий ваших вой, конечно, несравним. Опять забил набат святой и грозной ночи Варфоломеевской. Все ближе он грохочет, И зов его звучит страшней и тяжелей, Чем трубы на войну идущих королей. Вам нас не превзойти ни в ужасах, ни в злобе: Ведь вы — всего лишь меч, а мы — покров на гробе. За вами лишь тела раздавленных лежат, А мы и для живых устраиваем ад. И все ж нерасторжим союз жреца с солдатом; Мы всё себе вернем, сражаясь с вами рядом. Уже засов тюрьмы, где мы заключены, Неслышно приоткрыт рукою Сатаны. На мириады душ мы скоро прыгнем жадно. Мы отвоюем мир». Так, ночью непроглядной, Пока, забыв о всем, мы предаемся снам, Из клетки тигров зов несется в клетку к львам.БЕДНЯКИ Перевод М. Кудинова
I
Ночь. Хижина бедна, но заперта надежно. Среди сгустившихся теней увидеть можно, Как что-то радужное светится слегка. Видны развешенные сети рыбака. На полке кухонная утварь чуть мерцает. За занавескою, что до полу свисает, Широкая кровать. И тут же, рядом с ней, На лавки старые положен для детей Матрас. Пять малышей спят на матрасе этом. В камине бодрствует огонь и алым светом Мать озаряет их: она погружена В молитву. Женщина печальна и бледна. А за стеною океан, покрытый пеной, Своим рыданьем наполняет неизменно Ночь, ветер, и туман, и черный небосвод.II
Муж в море. С детских лет сраженье он ведет С пучиной грозною, сулящей смерть и горе, Пусть ураган и дождь — он должен выйти в море, Чтоб накормить детей. По вечерам, когда К ступеням пирса поднимается вода, Один на паруснике в море он уходит. Тем временем жена в порядок сеть приводит, Сшивает паруса, следит за очагом, На ужин варит суп из рыбы, а потом, Спать уложив детей, творит в ночи молитву. Муж в море. Парусник вступает с бездной в битву. Уходит человек все дальше — дальше в ночь. Случись беда — никто не сможет им помочь. Среди подводных скал, близ их незримой кровли, Есть место страшное, но не сыскать для ловли Богаче места: там, среди скалистых глыб, Нашлось пристанище для серебристых рыб. Но это — крохотная точка в океане. И ночью, в декабре, средь грозных волн, в тумане, Чтобы ее в пустыне водной отыскать, Как надо точно силу ветра рассчитать! Как надо хорошо знать прихоти течений! Вдоль борта змеи волн несутся в исступленье, Пучина корчится и разевает пасть, И стоном ужаса ей отвечает снасть. О Дженни думает рыбак в ночи туманной. Все помыслы ее с ним рядом постоянно. Так мысленно они встречаются в ночи.III
И Дженни молится и слышит, как кричит, Носясь над скалами, кричит морская птица, Как стонет океан; и наяву ей снится Обрушившийся вал, разбитый в щепы челн И гибнущий моряк во власти гневных волн. Заключены в футляр, как в вены кровь людская, Часы стенные бьют, без устали бросая В таинственную мглу минуты, дни, года, И означает их биение всегда Игру неведомой, неодолимой силы, И колыбели крик, и тишину могилы. А Дженни думает: «Что делать, боже мой?» Разуты малыши и летом и зимой. Какая нищета! Здесь хлеб едят ячменный… За дверью океан грохочет неизменно. Бьет тяжкий молот волн о наковальню скал, И кажется порой, что беспощадный шквал, Как искры очага, развеять звезды хочет; Ночь непроглядная безумствует, хохочет, Пускается танцовщицей веселой в пляс, Ночь, в сумрак и туман закутавшись до глаз И уподобившись разбойнику-злодею, Хватает парусник и с ношею своею Несется к скалам вдруг, и чувствует моряк, Как разверзается пред ним пучины мрак, Который крик его последний поглощает. В его сознании в последний миг всплывает Кольцо железное на пристани родной. Виденья мрачные пред Дженни чередой Проходят. Страшно ей. Сдавило грудь рыданье.IV
О жены рыбаков! Как тяжело сознанье, Что муж, отец и сын, все те, кто дорог так, — Во власти хаоса; что самый лютый враг, Разбушевавшаяся грозная стихия, Играет жизнью их; что, ко всему глухие, На них бросаются, как звери, стаи волн; Что ветер, ярости неизъяснимой полн, Сечет и хлещет их и видеть им мешает; Что, может быть, сейчас им гибель угрожает, И где они — никто не ведает о том; И чтобы выстоять в сражении морском, Чтоб схватку выдержать с могуществом пучины, Им дан кусок доски и дан кусок холстины… И женщины бегут к бушующим волнам И молят океан: «Верни, верни их нам!» Увы! Какой ответ стихия дать им может? Всегда страшащая, она их страхи множит. Еще сильней тоска сдавила Дженни грудь. Муж в море. Он один. О помощи забудь. Скорей бы дети подросли, отцу подмога! Но вырастут они — и возрастет тревога; Он в море их возьмет, и, плача, скажет мать: «О, лучше бы детьми мне видеть их опять!»V
Она берет фонарь и плащ. Пора настала Взглянуть на океан, на волны у причала, Не стало ли светать, не видно ль вдалеке Огня на мачте. В путь! И с фонарем в руке Выходит из дому она. Еще не веет Прохладой утренней, и в море не белеет Та полоса, где мгла от волн отделена. В предутреннем дожде особенно мрачна Природа. Потому так медлит день родиться. Нигде зажженный свет из окон не струится. Она идет во тьме. И но дороге вдруг Одна из самых развалившихся лачуг, Чернея в темноте, пред нею возникает. Ни света, ни огня. И ветер открывает И закрывает вновь трепещущую дверь, В соломе грязной копошится, словно зверь, И крышу ветхую трясет, протяжно воя. «Да, — Дженни думает, — с живущей здесь вдовою Давно не виделась я. Муж мне говорил, Что хворь какая-то ее лишила сил». Она стучит в окно. Никто ей не ответил. Ее слегка знобит. «Какой холодный ветер! А женщина больна. Нет хлеба у детей. Хоть двое у нее — вдове куда трудней!» И Дженни вновь стучит: «Откликнитесь, соседка!» Молчание в ответ. «Такое встретишь редко, Чтоб так был крепок сон… Не дозовусь никак». И в это время дверь, ведущая во мрак, Со скрипом мрачным перед Дженни распахнулась, Как будто жалость в ней, в бесчувственной, проснулась.VI
В дом женщина вошла. Фонарь в руке ее Печально осветил безмолвное жилье. Сочилась с потолка вода, и то и дело Вниз капли падали. А в глубине чернело То, что внушало страх и вызывало дрожь: Труп в глубине лежал. Он был совсем не схож С той, что всегда слыла веселою и сильной; Как призрак нищеты, он в полумгле могильной Возник и был разут, взлохмачен, изможден. Шла долгая борьба. Теперь являет он Конец сражения. У мертвой пожелтело Лицо застывшее; и, покидая тело, Душа разверзла ей уста в последний миг, Чтоб вечность слышала ее предсмертный крик. А близ кровати, на которой мать лежала, Стояла колыбель, и жизнь в ней трепетала: Во сне два крохотных созданья — брат с сестрой Ворочались. Их мать, конец предвидя свой, Накинула на них платок и покрывало, С себя их сняв: она лишь одного желала, Чтоб холод разбудить не мог ее детей, Когда холодная склонится смерть над ней.VII
Как сладко спят они в дрожащей колыбели! Их личики от сна чуть-чуть порозовели. Пусть даже трубный глас на Страшный суд зовет, Он не разбудит их, двух маленьких сирот, И страха нет у них перед судьей суровым. А за порогом дождь мир оглашает ревом, И капли падают сквозь щели в потолке На мертвое лицо; слезами по щеке Они стекают, эти капли дождевые. И волны бьют в набат, как существа живые. С тоской внимает мгле умерший человек. Когда душа и плоть разлучены навек, То кажется порой, что душу ищет тело, Что странный диалог звучит во тьме несмело — Глаза и губы меж собою говорят: «Дыханье ваше где?» — «Ответьте, где ваш взгляд?» Увы! Любите жизнь, в полях цветы срывайте, Танцуйте, радуйтесь, бокалы наполняйте, — Как воды всех ручьев поглотит океан, Так каждый светлый миг, что человеку дан, Улыбки, празднества, приятное соседство, И радость матери, и беззаботность детства, И песни, и любовь — всё волею судьбы Поглотят мрачные холодные гробы.VIII
Покинув страшный дом с умершею вдовою, Что под плащом несет, что взять могла с собою Оттуда Дженни? Почему она спешит? Чего волнуется? Откуда этот вид Обеспокоенный? Назад взглянуть не смея, Зачем торопится так с ношею своею? И, прибежав домой, что спрятала она За занавескою? Чем Дженни смущена?IX
Уж начало светать, белее стали скалы. На табуретку у кровати сев устало, Была она бледна, лежал на сердце гнет, Казалось, что ее раскаянье грызет. И говорила так она сама с собою Под непрерывный гул свирепого прибоя: «О, господи, мой муж! Ну что он скажет мне? Его упреки заслужила я вполне. Работа, пятеро детей, и не хватало Ему других забот! И так их разве мало, Чтоб я еще одну взвалила на него? Прибьет меня — скажу: ты прав. Ну для чего Я поступила так? Вот он идет. О боже! Нет, просто дверь скрипит… И как боюсь я все же С ним встретиться сейчас. Его все нет и нет!» У Дженни на лице лежал печали след, Взор омрачали ей раздумий горьких тени, И, погруженная в пучину треволнений, Не слышала она, как за окном возник В тумане утреннем бакланов мрачный крик, Как плещется прилив, как ветер разыгрался… И вдруг открылась дверь и в хижину ворвался Свет утренний, и с ним вступает на порог Рыбак. Он держит сеть в руках. Он весь продрог. Но улыбается и восклицает: «Дженни!»X
«О, наконец-то ты!» И вот через мгновенье Она к своей груди прижала рыбака, И гладит мокрое лицо ее рука, Лицо, где доброта душевная сияет При свете очага, который озаряет Его черты… Затем начался разговор. «Не повезло, жена! Ведь море — словно вор». «Как ловля нынче шла?» — «Нельзя придумать хуже». «И было холодно?» — «Окоченел от стужи. Вернулся я ни с чем. И сеть свою порвал. Сам дьявол, кажется, вселился в этот шквал. Какая ночь была! И лодка то и дело Как будто в бездну опрокинуться хотела. А ты что делала? Как время провела?» Смущенье женщины скрывала полумгла. «Что делала? Мой бог! Сама не знаю толком. Я шила… Слушала, как ветер воет волком. И было страшно мне». — «Да, трудная зима». Тут Дженни, побледнев, как будто в чем сама Виновною была, сказала: «Между прочим, Соседка умерла… Возможно, прошлой ночью, Когда ты занят был работою своей. Оставила она двух маленьких детей, Мальчишку с девочкой: она едва лопочет, Малыш на двух ногах ходить еще не хочет. Их мать была совсем задавлена нуждой…» Рыбак задумался. Потом он головой Тряхнул и, шлем стянув, в котором ночь проплавал, Его забросил в темный угол: «Ах ты, дьявол! Их пятеро у нас. А если семь? Беда! И так уж в год плохой случалось не всегда Нам лечь поужинав. Что предпринять мы сможем? Нет, не моя вина. С самим решеньем божьим Могу ли спорить я? И в силах ли понять, Зачем у малышей решил он мать отнять? Не очень я учен, чтобы осмыслить это. Величиной с кулак — и лаской не согреты Два этих существа. Ну, как тут быть, жена? По-моему, сходить за ними ты должна. Забрать от мертвой надо их, по крайней мере. Не ветер к нам стучит — их мать стоит у двери И молит взять детей. Потом по вечерам Пускай уж семеро лезть на колени к нам Начнут: у нас для них различия не будет. Бог, видя семерых, должно быть, не забудет, Что надо их кормить, что стало больше ртов. Он добрый и пошлет хороший нам улов. Работать за двоих я буду… Значит, ясно: За ними ты пойдешь. В чем дело? Не согласна?» И Дженни так ему ответила: «Взгляни За занавеску, дорогой мой. Там они!»ВСЕ СТРУНЫ ЛИРЫ
«Пятнадцать сотен лет во мраке жил народ…» Перевод Инны Шафаренко
Пятнадцать сотен лет во мраке жил народ, И старый мир, над ним свой утверждая гнет, Стоял средневековой башней. Но возмущения поднялся грозный вал, Железный сжав кулак, народ-тиран восстал, Удар — и рухнул мир вчерашний! И Революция в крестьянских башмаках, Ступая тяжело, с дубиною в руках, Пришла, раздвинув строй столетий, Сияя торжеством, от ран кровоточа… Народ стряхнул ярмо с могучего плеча, — И грянул Девяносто Третий!* * *
«Один среди лесов, высокой полон думы…» Перевод Инны Шафаренко
Один среди лесов, высокой полон думы, Идешь, и за тобой бегут лесные шумы; И птицы и ручьи глядят тебе вослед. Задумчивых дерев тенистые вершины Поют вокруг тебя все тот же гимн единый. Что и душа твоя поет тебе, поэт. 7 июля 1846 г.* * *
«Словечко модное содержит ваш жаргон…» Перевод В. Шора
Словечко модное содержит ваш жаргон; Вы оглашаете им Ганг и Орегон; Оно звучит везде — от Нила до Тибета: Цивилизация… Что значит слово это? Прислушайтесь: о том расскажет вам весь мир, Взгляните на Капштадт, Мельбурн, Бомбей, Каир, На Новый Орлеан. Весь свет «цивилизуя», Приносите ему вы лихорадку злую. Спугнув с лесных озер задумчивых дриад, Природы девственной вы топчете наряд; Несчастных дикарей из хижин выгоняя, Преследуете вы, как будто гончих стая, Детей, что влюблены в прекрасный мир в цвету; Всю первозданную земную красоту Хотите истребить, чтоб завладел пустыней Ущербный человек с безмерною гордыней. Он хуже дикаря: циничен, жаден, зол; Иною наготой он безобразно гол; Как бога, доллар чтит; не молнии и грому, Не солнцу служит он, но слитку золотому. Свободным мнит себя — и продает рабов: Свобода требует невольничьих торгов! Вы хвалитесь, творя расправу с дикарями: — Сметем мы шалаши, заменим их дворцами. Мы человечеству несем с собою свет! Вот наши города — чего в них только нет: Отели, поезда, театры, парки, доки… Так что же из того, что мы порой жестоки? — Кричите вы: — Прогресс! Кто это создал? Мы! — И, осквернив леса, священные холмы, Вы золото сыскать в земном стремитесь лоне, Спускаете собак за неграми в погоне. Здесь львом был человек — червем стал ныне он. А древний томагавк револьвером сменен.ПОСЛЕДНИЙ СНОП
КУЗНЕЦЫ Перевод М. Донского
Взгляни, вон кузница, и там — два силача В багровых отсветах пылающего горна. Как искры сыплются! Не плющат ли сплеча Два демона звезду на наковальне черной? Над чем же трудятся два мрачных кузнеца? То гордый ли клинок иль скромный лемех плуга? Прислушивается к их молоту округа: Он пробуждает дух и веселит сердца. Куют ли меч они или куют орало, Железо мирное иль боевую сталь, — Они работают! Над ними солнце встало, Раскинулась вокруг сияющая даль. 31 октября 1840 г. Дорога из Д’Эперне в Шато-ТьериПРИМЕЧАНИЯ Александр Молок, Сельма Брахман
Девяносто третий год
«Девяносто третий год» — одно из самых значительных произведений Виктора Гюго. Этот роман представляет собой широкое художественное полотно, на котором яркими красками изображены события и деятели, участники и противники великого революционного переворота конца XVIII века, ликвидировавшего прогнившие феодальные порядки во Франции и открывшего новую главу в ее истории, а отчасти и в истории других стран. «Она недаром называется великой, — писал В. И. Ленин о первой французской буржуазной революции. — Для своего класса, для которого она работала, для буржуазии, она сделала так много, что весь XIX век, тот век, который дал цивилизацию и культуру всему человечеству, прошел под знаком французской революции»[523].
Многие выдающиеся мастера слова — в том числе Анатоль Франс, Ромен Роллан, Чарльз Диккенс — изобразили в своих произведениях грандиозную историческую драму 1789–1794 годов. Но, быть может, никому из них не удалось дать такую широкую картину эпохи, такое потрясающее по своей силе изображение событий, какое привлекает читателей в романе Гюго. Объясняется это прежде всего тем, что Гюго был современником и очевидцем четырех революций (1830, 1848, 1870 и 1871 гг.), что он являлся активным участником борьбы за утверждение республиканского строя во Франции. А борьба эта развернулась в 70-х годах, как раз тогда, когда создавался роман «Девяносто третий год».
Замысел романа появился у Гюго в начале 1863 года. «Я задумал большое произведение, — писал он тогда. — Я колеблюсь перед громадностью задачи, которая в то же время меня привлекает… Это 93-й год».
Находясь в эмиграции, Гюго внимательно следил за тем, что происходило во Франции. Он тщательно изучал документы и литературу по истории Франции эпохи революции 1789–1794 годов. Писатель проделал огромную подготовительную работу; сохранилось множество папок с историческими материалами (заметками, выписками из документов, копиями), которые Гюго собирал и изучал, подготовляя роман об этой эпохе. Сведения о ней он черпал преимущественно из трудов буржуазно-демократического направления: из книги Луи Блана «Французская революция», из «Истории Робеспьера» Эрнеста Амеля, из трудов Мишле и других прогрессивных историков. Однако ему осталась, по-видимому, неизвестна книга Бужара о Марате, появившаяся в 1866 году.
Гюго начал писать роман 16 декабря 1872 года и закончил его 9 июня 1873 года. Роман был издан в 1874 году.
Выход в свет этого произведения совпал с обострением политической обстановки во Франции, вызванным происками крайних реакционеров, стремившихся восстановить монархический строй и привести к власти династию Бурбонов, которую поддерживали крупные помещики, высшее католическое духовенство, реакционное офицерство и верхушка буржуазии.
Гюго принял активное участие в борьбе прогрессивных сил против планов монархической реставрации. Он боролся против них и в своих речах в Национальном собрании, и в своих литературных произведениях. Роман о 1793 годе — самом трудном и вместе с тем самом славном годе французской революции — всем своим содержанием, всей своей направленностью служил делу защиты республиканского строя, делу борьбы против приверженцев новой реставрации. Реакционная критика сразу же почувствовала это и потому так враждебно встретила роман Гюго. «В „Девяносто третьем годе“, — с неприкрытым негодованием писал в газете „Ла Пресс“ от 1 марта 1874 года критик Лескюр, — чувствуется дыхание революционного демона, которым теперь вдохновляется поэт; видно, как над романом реет знамя социальных требований… не белое или трехцветное, а красное знамя».
Лескюр был, разумеется, неправ, изображая Гюго сторонником красного знамени — знамени пролетарской революции, знамени Парижской коммуны. Известно, что писатель не понял великих освободительных задач и целей Коммуны. Но известно и то, что Гюго сурово осуждал дикие жестокости версальской военщины, ее кровавую расправу с трудящимися Парижа, что он энергично боролся за амнистию коммунарам.
Заслуга Гюго состоит в том, что в своем романе, проникнутом духом свободолюбия и гуманности, он стремился показать величие революционного переворота конца XVIII века, бесстрашие и героизм французского революционного народа, стойко защищавшего свою родину и от контрреволюционных мятежников, и от иностранных интервентов. Прославляя мужество французских революционеров конца XVIII века, их патриотическую преданность, Гюго клеймил изменников родины — дворян-эмигрантов, которые ради восстановления своих былых привилегий предавали свою страну ее злейшим врагам. Патриотический пафос, которым проникнут «Девяносто третий год», оказался не по нутру версальским реакционерам, пошедшим на прямой сговор с германскими милитаристами для совместной борьбы против парижских коммунаров, доблестных защитников свободы и независимости Франции.
Писатель резко клеймит контрреволюционных мятежников, как врагов прогресса, как изменников родине. Какими ничтожными и ограниченными людьми выглядят действующие в романе эмигранты — граф дю Буабертло, шевалье де Ла Вьевиль. Они твердо убеждены в том, что революция произошла из-за пустяков, что через месяц они вступят в Париж победителями, что восстановление феодально-абсолютистского строя «спасет» Францию. Однако даже они вынуждены признать, что «принцы не хотят драться» и что без активной поддержки со стороны Англии и других монархических держав французские монархисты ничего не добьются. Вождь монархистов маркиз де Лантенак (под этим именем выведен один из руководителей вандейского мятежа граф де Пюизэ, мемуары которого использованы в романе) изображен как тип явно отрицательный. Это — законченный представитель «старого режима», злобный и фанатичный враг революционного народа, идущий на прямое предательство национальных интересов Франции ради спасения социальных привилегий дворянской аристократии. Сознавая, что одних вандейцев недостаточно для борьбы с революцией, Лантенак призывает в свою страну английских интервентов, готов отдать им часть французского побережья. Именно за это больше всего и осуждает его Гюго. Описывая гибель английского корабля «Клеймор», шедшего к берегам Франции, чтобы высадить там Лантенака, писатель отмечает, что, хотя «Клеймор» погиб так же мужественно, как и французский республиканский корабль «Мститель» (он пошел ко дну в битве с английской эскадрой 1 июня 1794 года), слава не выпала на его долю. «Нельзя быть героем, сражаясь против своей отчизны», — справедливо замечает Гюго.
Один из самых волнующих образов романа — это образ Симурдэна. Симурдэн — комиссар отряда Говэна, бывший священник, в прошлом воспитатель молодого аристократа. Этот аскетически суровый и непреклонный революционер списан с натуры. Среди деятелей французской революции были и такие люди, вышедшие из рядов низшего духовенства. Достаточно вспомнить священника Жака Ру, одного из наиболее ярких представителей группы «бешеных», мужественно защищавших интересы городской бедноты, рабочего класса; достаточно вспомнить монаха Дюкенуа, одного из «последних якобинцев», заколовшего себя кинжалом после того, как судьи восторжествовавшей контрреволюции вынесли ему смертный приговор. Симурдэн убежден в необходимости беспощадной расправы с врагами революции. Чувство гражданского долга, сознание своей ответственности перед народом заставляют Симурдэна гильотинировать того, кого он любит, как родного сына. Но, выполнив свой долг, Симурдэн оказался не в силах пережить смерть Говэна и в момент его казни покончил с собой. Образ стойкого комиссара Конвента, разумеется, проигрывает от этого, оказывается менее цельным.
Для Гюго и его идеалистического мышления этот эпизод, которым заканчивается роман, весьма характерен. В этом трагическом эпизоде отчетливо обнаруживается противоречивость взглядов Гюго на революционный террор. Писатель оправдывает его лишь как временное, преходящее явление, допустимое лишь в обстановке ожесточенной гражданской войны. В дальнейшем, полагает Гюго, допустимы одни только методы милосердия.
Глубоко реалистичен образ матроса Гальмало — темного, невежественного, суеверного крестьянина, слепо верящего в бога и короля. Именно такова была основная масса вандейцев, которых дворянам и священникам так легко удалось поднять против Республики.
Особого упоминания заслуживает фигура нищего и бродяги Тельмарша. Тельмарш весьма невысокого мнения о «старом режиме», представителем которого является Лантенак; этот нищий крестьянин, живущий в землянке и питающийся каштанами, помнит, что до революции простых людей вешали ни за что ни про что; несмотря на это, он осуждает казнь короля, хотя и затрудняется сказать, почему этого не следовало делать. Он признает, что антагонизм между бедными и богатыми является источником всех происходящих на земле переворотов, но заявляет, что не может разобраться, где настоящая правда, и фаталистически замечает: «Я в это не вмешиваюсь. События они и есть события… Знаю только, что, раз есть долг, — надо его уплатить. Вот и все». Зная, что за выдачу Лантенака обещано огромное денежное вознаграждение, этот умирающий с голоду нищий спасает маркиза, укрывая его в своей землянке. «Мы ведь теперь с вами братья, ваша светлость, — говорит он. — Я прошу кусок хлеба, вы просите жизни. Оба мы теперь нищие».
Впрочем, суровая правда классовой борьбы вскоре разбивает иллюзии Тельмарша: он был убежден, что делает доброе дело, спасая человека, которого травили как хищного зверя, и вот оказывается, что по приказу этого человека расстреливают пленных, убивают женщин. С ужасом убеждается Тельмарш, что он совершил ошибку, укрыв Лантенака от республиканских властей.
Большой творческой удачей Гюго в романе «Девяносто третий год» следует признать мастерское описание жизни Парижа в период якобинской диктатуры, основанное на изучении разнообразных исторических источников. В этих главах романа, заполненных множеством интересных фактов и деталей, живо чувствуются биение пульса революции, патриотический подъем народных масс, энергия революционного правительства якобинцев. Несмотря па огромные экономические трудности, несмотря на контрреволюционные заговоры и мятежи в провинции, несмотря на обостренное положение на фронтах, «Париж Сен-Жюста», как называет Гюго столицу Франции 1793 года, не падал духом. «Лавиной шли добровольцы, предлагавшие родине свою жизнь. Каждая улица выставляла батальон. Проплывали знамена округов, на каждом был начертан свой девиз».
Никто из историков, писателей, мемуаристов, писавших о французской революции, не дал такого яркого изображения Конвента, какое мы находим в романе «Девяносто третий год». Прекрасное знание исторического материала позволило Гюго дать меткие, хотя и предельно сжатые, характеристики наиболее видных деятелей Конвента как из партии монтаньяров, так и из партии жирондистов. Разумеется, не все эти характеристики исторически верны: некоторые из них (особенно это относится к характеристике левых якобинцев) явно тенденциозны и несправедливы.
Знаменитая сцена беседы Робеспьера, Дантона и Марата в кабачке на Павлиньей улице свидетельствует о том, как тщательно изучал Гюго детали событий (даже мельчайшие), а также характеры этих виднейших деятелей революции. Впрочем, не всех трех. Если Робеспьер и Дантон обрисованы в общем исторически верно, то этого никак нельзя сказать о Марате. Даже описание наружности Друга Народа, как любовно называли Марата простые люди Парижа, выдает неприязненное отношение к нему Гюго, типичное почти для всех буржуазных деятелей. Это описание искажает действительный физический облик Марата, каким мы знаем его из воспоминаний объективно настроенных современников.
Нельзя согласиться и с общей характеристикой, которую дает Гюго членам Конвента: «Когорта героев, стадо трусов». Этой характеристике противоречит та высокая оценка исторического значения Конвента, которую здесь же дал сам писатель: «Воинский стан человечества… атакуемый всеми темными силами, сторожевой огонь осажденной армии идей, неоглядный бивуак умов, раскинувшийся на краю бездны».
Подводя итог деятельности Конвента, Гюго перечисляет проведенные им демократические преобразования, подчеркивает проявленную им кипучую энергию (11 210 декретов!). При этом он явно переоценивает результаты деятельности Конвента, не замечает антипролетарской направленности многих его декретов (как, например, закона о всеобщем максимуме цен, устанавливавшего и предельные ставки заработной платы), приписывает Конвенту издание декрета о праве на труд, что не соответствует исторической правде, утверждает, что Конвент провозгласил «все высшие принципы». Переоценка парламентаризма и буржуазно-демократических свобод, свойственная вообще Гюго, отчетливо чувствуется в этом прославлении Конвента.
Следует заметить, что революционная решительность Конвента 1793–1794 годов и якобинской диктатуры в целом подчеркивается и в трудах классиков марксизма. «…чтобы быть конвентом, — писал в 1917 году В. И. Ленин, — для этого надо сметь, уметь, иметь силу наносить беспощадные удары контрреволюции, а не соглашаться с нею. Для этого надо, чтобы власть была в руках самого передового, самого решительного, самого революционного для данной эпохи класса»[524]. Но одновременно классики марксизма отмечали и классовую ограниченность французской революции, которая, освободив народ от цепей феодализма, надела на него новые цепи — цепи капитализма.
Буржуазная по своему объективному содержанию, по своим историческим задачам, французская революция конца XVIII века была демократической по своим движущим силам. Роль народных масс в событиях этой революции, в ее развитии по восходящей линии была чрезвычайно велика; «…буржуа на этот раз, как и всегда, были слишком трусливы, чтобы отстаивать свои собственные интересы, — указывает Энгельс (в письме к Каутскому от 20 февраля 1889 года), — …начиная с Бастилии, плебс должен был выполнять за них всю работу… без его вмешательства 14 июля, с 5–6 октября до 10 августа. 2 сентября и т. д. ancien regime[525] неизменно одерживал бы победу над буржуазией, коалиция в союзе с двором подавила бы революцию… таким образом, только эти плебеи и совершили революцию»[526].
Решающая роль народных масс и тесная связь с ними органов якобинской диктатуры хорошо показаны в романе Гюго. «Народ следил за Конвентом через свое открытое окно — трибуны для публики, но когда это окно оказывалось слишком узким, он распахивал дверь и в зал вливалась улица». Заседания Конвента беспрестанно прерывались появлением депутаций от народа с приветствиями, петициями, дарами. Описывая эти сцены, Гюго подчеркивает, что обычно они носили дружелюбный характер, происходили в обстановке братания. «Впрочем, не всегда обходилось так мирно, и Анрио в таких случаях приказывал ставить у входа в Тюильрийский дворец жаровни, на которых накаливали пушечные ядра». Так было, заметим, только один раз — 2 июня 1793 года, когда сорок тысяч вооруженных жителей народных кварталов окружили здание Конвента, навели на него пушки, потребовали и добились декрета об исключении и аресте двадцати двух депутатов-жирондистов и двух министров, принадлежавших к той же партии.
Все симпатии автора романа «Девяносто третий год» принадлежат простым людям Франции вроде сержанта Радуба, крестьянина по происхождению, беззаветно храброго бойца республиканской армии, человека, наделенного огромной человечностью и душевным благородством. Таких Радубов было много во французских революционных войсках, победоносно отражавших натиск вражеских армий и удары контрреволюционных мятежников. Однако Гюго не вскрывает социально-экономических причин (полная ликвидация феодализма, переход к свободной крестьянской собственности на землю и т. д.), обеспечивших эти блестящие победы, которые потрясли всю Европу.
Придавая такое большое значение роли народных масс, а также руководящих исторических деятелей, Гюго видел, однако, в революции действие стихийных сил, не зависящих от воли людей. «Революция, — утверждает он, — есть дело Неведомого… Революция… форма той имманентной силы, которая теснит нас со всех сторон и которую мы зовем Необходимостью… То, чему положено свершиться, — свершится, то, что должно разразиться, — разразится». Эта чисто фаталистическая концепция исторического процесса весьма характерна для Гюго как писателя буржуазно-демократического направления. Но фатализм сочетается у Гюго с оптимизмом, с глубокой верой в прогресс человечества. «Над революциями, — заявляет он, — как звездное небо над грозами, сияют Истина и Справедливость».
Идеалистическое мировоззрение Гюго и его политическая позиция как буржуазного демократа, далекого от социалистической идеологии рабочего класса, чуждого ей, определили слабые стороны этого романа, обусловили имеющиеся в нем принципиальные недостатки.
И все же «Девяносто третий год» представляет собой выдающееся, монументальное произведение, наиболее сильное среди произведений мировой художественной литературы, посвященной бурному революционному перевороту конца XVIII века.
Александр Иванович МолокЭрнани
Романтическая драма «Эрнани» была написана в августе-сентябре 1829 года, как бы в ответ на запрещение цензурой предыдущей драмы Виктора Гюго «Марион Делорм». 25 февраля 1830 года «Эрнани» появился на сцене театра «Комеди Франсез». В том же году драма была издана в сценическом варианте, а в первоначальной авторской редакции — в 1836 году.
В напряженной атмосфере кануна июльской революции постановка «Эрнани» явилась политической демонстрацией, и это предопределило шумный успех пьесы. В предисловии к «Эрнани» Гюго открыто объявил свой романтизм «либерализмом в литературе», а в самой драме изобразил отверженного официальным обществом человека трагическим героем и соперником короля.
Постановка «Эрнани» на сцене театра, освященного вековой традицией классицизма, была воспринята современниками как дерзкий вызов общественному мнению в литературных вопросах. Она сыграла важную роль в литературно-театральной борьбе тех лет, вылившись в решительное столкновение двух направлений в искусстве: реакционного в ту пору классицизма и демократического романтизма. Как и в «Марион Делорм» (июнь 1829 г.), Гюго стремился применить в «Эрнани» новаторские принципы романтического театра, провозглашенные им еще в предисловии к драме «Кромвель» (1827). Выбор сюжета не из античной истории или мифологии, а из средневекового прошлого, с выведением на сцене крупных исторических личностей, стремление передать «колорит места и времени» (то есть национальное своеобразие, политическую и социальную обстановку эпохи, черты ее быта и нравов), совмещение в пьесе трагического и комического, нарушение обязательных для классицизма «единств места и времени», а главное, изображение в отрицательном свете высших сословий и выдвижение на первый план демократического героя — все эти принципиальные новшества характерны не только для «Эрнани», но и для драматургии Гюго в целом,
«Эрнани» — драма историческая только по именам некоторых действующих лиц и по историческим событиям, служащим фоном для вымышленного сюжета. По существу же это, как было и с «Марион Делорм», — произведение политически злободневное. Правда, обличение монархического произвола ограничивается здесь первыми тремя актами и исчезает в последних двух; безнравственный и деспотичный король превращается вдруг в умного и справедливого императора, и герой примиряется с ним; наконец, гонимый отщепенец Эрнани оказывается грандом Испании. Политически компромиссный характер драмы явился отражением монархических иллюзий молодого Гюго, который накануне июльской революции возлагал большие надежды на смену династии во Франции. Нечеткость идейной позиции автора определила и некоторые художественные особенности пьесы. Уже Бальзак сурово осудил в ней сюжетные натяжки, неправдоподобие иных ситуаций, а также непоследовательность характера главного героя, вся «непримиримость» которого «рушится при первом дуновении милости» со стороны короля. Но современники увидели в «Эрнани» прежде всего прославление бунта — бунта личности против общественной несправедливости; они были ошеломлены новаторством формы, свободой стиха, живописностью, страстным гуманизмом первой романтической драмы Гюго, поставленной на сцене.
Действие «Эрнани» происходит в Испании начала XVI века, в период, названный Марксом «эпохой образования великих монархий, которые повсюду воздвиглись на развалинах враждовавших между собой феодальных классов: аристократии и городов»[527]. В пьесе изображен испанский король Карл I (впоследствии, в качестве германского императора, именовавшийся Карлом V), правление которого (1516–1556) знаменовало собою окончательное торжество испанского абсолютизма. Карл I ликвидировал феодальные вольности, жестоко подавил восстания городов (комунерос), расширил колониальные владения Испании в Старом и Новом свете.
Как сын австрийского эрцгерцога, Карл, после смерти деда своего, германского императора Максимилиана, притязал на императорский престол и добился его в 1519 году, путем подкупа князей-избирателей. Став властителем огромной, могущественной и богатой державы, в пределах которой «никогда не заходило солнце», он строил фантастические планы всемирной дворянской монархии, истощил казну завоевательными походами, подавлял все освободительные движения в Европе. В силу исторических условий испанский абсолютизм не сделался, как у других европейских народов, центром государственного и национального объединения всей страны. Держава Карла V скоро распалась, и со второй половины XVI века в Испании начался глубокий экономический и политический кризис, приведший к победе феодально-католической реакции. Тяжело переживая крушение своих планов мирового господства, Карл V в 1556 году отрекся от престола и умер в монастыре.
Стихотворения
В настоящий том включены избранные стихотворения из основных поэтических сборников Виктора Гюго. Сборники представлены в хронологической последовательности. Внутри сборников сохранено авторское расположение отдельных стихотворений. В случае, когда стихотворение датировано в рукописи, авторская дата воспроизводится; Виктор Гюго нередко включал во вновь издаваемые сборники стихи двадцати и даже тридцатилетней давности.
ОДЫ И БАЛЛАДЫ
В этот первый сборник поэзии Гюго вошли стихотворения, написанные им в 1817–1828 годах. Сборник издавался начиная с 1822 года несколько раз в разном составе: «Оды и другие стихотворения» (1822), «Новые оды» (1824), «Оды и баллады» (1826) н дополненное издание под тем же заглавием (1828). Присоединение к одам живописных романтических баллад было первым серьезным шагом молодого поэта на пути поэтического новаторства. Он расширяет тематику стихотворений, обращается к запретным для классицизма историческим периодам («Охота бургграфа»), к образам народной фантазии («Фея», «Сильф»), к живой природе. Он ломает традиционный александрийский стих, вводит вольные размеры, виртуозные ритмы и рифмы, обогащает поэтический словарь за счет разговорной речи; условная торжественность классической оды уступает место разнообразным краскам и звукам реального мира.
ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
Сборник был впервые опубликован в январе 1829 года. Создавая живописные картины Востока, поэт не просто следовал романтическому принципу «местного колорита»; его стихотворения отмечены серьезным интересом к жизни народа, стремлением проникнуть в их национальное и культурное своеобразие. Гюго изучал по подстрочным переводам особенности стиха и образную систему арабских и персидских поэтов, восхищался испанскими народными романсами, малайской любовной песенкой. В качестве приложения к «Восточным мотивам» Гюго выписывает особенно поразившие его фрагменты восточной поэзии, называя их «горстью драгоценных камней, наугад выхваченных из великих россыпей Востока». Значительная часть стихотворений «Восточных мотивов» посвящена греческой освободительной войне против турецкого ига (1821–1829) и ее героям-патриотам, изображенным с горячим сочувствием.
ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ
Сборник, в который вошли стихотворения 1828–1831 годов, вышел в свет, в напряженной политической атмосфере, 1 декабря 1831 года. Начиная с июльской революции 1830 года в Париже не прекращались народные волнения: разгром в феврале 1831 года одной из церквей и дворца парижского архиепископа, политические волнения в апреле — июле, возобновившиеся 16 сентября при известии о подавлении польского восстания; стачка и вооруженное восстание лионских ткачей в конце ноября — вот та обстановка, в которой создавалась поэзия В. Гюго начала 30-х годов. Активное отношение к событиям общественной жизни побудило его прибавить «к своей лире медную струну» — включить в уже приготовленный к печати стихотворный сборник политическую лирику, которую Гюго предполагал издать отдельной книгой.
ПЕСНИ СУМЕРЕК
Сборник опубликован в октябре 1835 года. Социально-обличительные стихотворения соседствуют в нем со светлой лирикой, рисующей гармонические образы природы и искусства.
ЛУЧИ И ТЕНИ
Сборник «Лучи и тени», объединяющий стихи главным образом 1839–1840 годов, вышел в свет в мае 1840 года. Гюго отходит здесь от общественной тематики предыдущих лет, вместо нее появляются философские размышления, воспоминания детства, мотивы умиротворенности и покоя. «Тени» — социальное зло — противопоставляются «лучам» — гармонической природе и светлым сторонам человеческой натуры («Как в дремлющих прудах…»), — в которых поэт черпает веру в общественный прогресс и счастливое будущее. В этот сборник Гюго помещает свой поэтический манифест — «Призвание поэта», где искусство рассматривается как «путеводная звезда» человечества, а поэт — как «апостол истины».
ВОЗМЕЗДИЕ
«Возмездие» — цикл политической лирики Гюго, созданный в изгнании, на острове Джерси в 1852–1853 годах и направленный против реакционного режима Второй империи; эта книга подчинена единому стройному плану и может рассматриваться как поэма. «Возмездие» было впервые опубликовано в Брюсселе (цензурный вариант с купюрами) и одновременно в Женеве и Нью-Йорке (полный текст). Оба издания относятся ко второй половине ноября 1853 года. Во Францию «Возмездие» ввозилось нелегально. Только после падения Наполеона III и возвращения Виктора Гюго во Францию смогла быть осуществлена публикация поэмы на родине ее автора (Париж, 20 октября 1870 г.).
СОЗЕРЦАНИЯ
В сборник «Созерцания» вошли стихотворения и лирические поэмы, созданные Гюго на протяжении двадцатилетия (1830–1850 гг.). Сборник был опубликован в 1856 году в двух книгах: «Тогда» и «Теперь». В стихотворениях «Созерцаний» поэтический гений Гюго достиг своего наивысшего расцвета. Тематика сборника необычайно разнообразна: тут и философские раздумья о судьбах человечества и всего мироздания, и картины социальной несправедливости, и личные драмы поэта, и тревожные мысли о родине, и образы природы, которая уже не столь идиллична, как в ранних стихах Гюго, а полна скрытого напряжения и борьбы. Но наряду с этим в сборнике имеется много светлых стихотворений, воспевающих юность и любовь. Вера поэта в человека и в жизнь всегда побеждает.
ПЕСНИ УЛИЦ И ЛЕСОВ
Сборник опубликован в 1865 году и разделен на две книги: «Юность» и «Мудрость». В первой книге собраны преимущественно стихотворения легкой, шутливой интонации; во второй — более углубленная любовная лирика и стихотворения на гражданские темы. Поэт, но его словам, как бы «сравнивает начало пути с его концом, свежий гомон утра — с мирной тишиной вечера, ранние иллюзии — с поздним опытом жизни». Стихи этого сборника с безыскусной простотой раскрывают поэзию реальной жизни простого человека: здесь рисуются незатейливые развлечения парижского пригорода, сельские празднества, ликующие картины весенней природы, образы крестьянина, гризетки, юноши студента. Гюго следует демократической традиции песенной лирики Беранже, но вместе с тем не свободен от влияния идиллической поэзии античности — творчества Феокрита и Вергилия, причем нередко мифологические образы иронически переосмысляются.
ГРОЗНЫЙ ГОД
Этот сборник состоит из стихотворений, отразивших события франко-прусской войны и Парижской коммуны. Большая часть их создавалась в течение «грозного» 1870/71 г. в виде своеобразного поэтического дневника — как непосредственный отклик на события дня. Книга вышла в свет в 1872 году. Она разделена на части соответственно месяцам года. Располагая стихи внутри книги, Гюго следовал требованиям ее поэтической структуры и не считался с фактической датой написания того или иного стихотворения.
ИСКУССТВО БЫТЬ ДЕДОМ
В эту книгу вошли стихотворения, главным образом связанные с личной жизнью поэта Сборник был опубликован в 1877 году и посвящен внукам Виктора Гюго, Жоржу и Жанне.
ЧЕТЫРЕ ВИХРЯ ДУХА
Эта книга стихотворений вышла в свет в 1882 году, но почти все включенные в нее произведения написаны в период изгнания и по мотивам и гневной обличительной интонации примыкают к «Возмездию» и другим образцам гражданской поэзии Гюго 1850–1870 годов. Книга состоит из четырех циклов стихотворений, которые поэт назвал сатирическими, лирическими, драматическими и эпическими. В «Четыре вихря духа» включена поэма «Революция», которая не могла быть опубликована в момент ее написания (1857) по цензурным соображениям.
ЛЕГЕНДА ВЕКОВ
Так озаглавлен грандиозный лирико-эпический цикл Виктора Гюго, состоящий из трех серий (опубликованы последовательно в 1859, 1877 и 1883 гг.). Во многих десятках поэм и стихотворений «Легенды веков» перед читателем проходит, облеченная в романтические образы, расцвеченные всеми красками буйной фантазии Гюго, история человечества, понятая как борьба народов против кровавых деспотов, против зла и несправедливости. В финале перед духовным взором поэта встает видение светлого будущего.
ВСЕ СТРУНЫ ЛИРЫ
Сборник составлялся Виктором Гюго в последние годы его жизни и объединяет стихотворения разных периодов творчества поэта. Вышел в свет уже после смерти Виктора Гюго (первые две серии — в 1888 г., третья серия — в 1893 г.).
ПОСЛЕДНИЙ СНОП
Эта книга не составлялась самим поэтом; она была издана в 1902 году к столетию со дня рождения Виктора Гюго.
Сельма Рубеновна БрахманИЛЛЮСТРАЦИИ
Рисунок 1. Виктор Гюго
Рисунок 2. Виктор Гюго в Реймсе. С картины Алло. 1825
Рисунок 3. Виктор Гюго. Литография А. Девериа. 1829
Рисунок 4. Восточная фантазия. Рисунок Виктора Гюго. 1831
Рисунок 5. Сооружение баррикады 29 июля 1830 года. Литография Белланже
Рисунок 6. Париж. Улица Медицинской школы. Литография Лемерсье, 1835
Рисунок 7. Виктор Гюго с сыном Франсуа-Виктором. С картины А. Де Шатийона, 1836
Рисунок 8. Вступление Виктора Гюго во Французскую академию (1841). С картины Г. Вожеля
Рисунок 9. Революция февраля 1848 года в Париже. Литография Прюша (деталь)
Рисунок 10. Смерть Эрнани. Литография Г. Барона
Рисунок 11. Рейнский пейзаж. Рисунок Виктора Гюго
Рисунок 12. Последний совет бывших министров (февраль 1848 года). Литография. Художник неизвестен
Рисунок 13. Фронтиспис к книге «Легенда веков». Рисунок Виктора Гюго
Рисунок 14. Виктор Гюго в Отвиль-Хаузе. С картины Жоржа Гюго
Рисунок 15. Толпа приветствует Виктора Гюго в Бордо. 15 февраля 1871 года. Гравюра. Художник неизвестен
Рисунок 16. Салон Виктора Гюго на улице Клиши. Гравюра по рисунку А. Мари. 1875
Рисунок 17. Виктор Гюго — борец за амнистию. Карикатура А. Жилля. 1879
Примечания
1
Ф. М. Достоевский. Собр. соч., т. 13. М.-Л., 1930, с. 526.
(обратно)2
Перевод В. Брюсова.
(обратно)3
Сантерр Антуан-Жозеф (1752–1809) — деятель французской революции, якобинец, пользовавшийся большой популярностью в Сент-Антуанском предместье, принимал активное участие в борьбе против вандейских мятежников.
(обратно)4
Жемап — бельгийский город; в битве при Жемапе 6 ноября 1792 г. французские республиканские войска одержали блестящую победу над австрийскими войсками, следствием чего явилось занятие французскими войсками всей Бельгии.
(обратно)5
Вальми — французское село; в битве при Вальми 20 сентября 1792 г. австро-прусские войска, шедшие на Париж с целью задушить революцию, были отброшены французскими революционными войсками и вынуждены были начать отступление. Битва при Вальми означала перелом в войне между революционной Францией и коалицией европейских монархов.
(обратно)6
Гойе Луи-Жером (1746–1830) — французский политический деятель и адвокат, член Законодательного собрания, член правительства Директории; после переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.
(обратно)7
Бушотт Жан-Батист-Ноэль (1754–1840) — деятель французской революции, якобинец, военный министр в 1793–1794 гг. Проявил большую энергию в организации дела снабжения революционных войск продовольствием и боеприпасами.
(обратно)8
Клебер Жан-Батист (1753–1800) — французский генерал, участник войн конца XVIII в.; участвовал в борьбе с вандейцами. Был убит в Египте во время переговоров об эвакуации оттуда французских войск.
(обратно)9
Граф д’Артуа (1757–1836) — французский принц из династии Бурбонов, брат Людовика XVI. Через два дня после падения Бастилии бежал за границу; руководил изменническими действиями дворян-эмигрантов. В 1814 г., после свержения наполеоновской империи, возвратился во Францию. В 1824 г., после смерти своего брата Людовика XVIII, стал королем Франции под именем Карла X. Проводил политику защиты интересов наиболее реакционных слоев дворянства и высшего католического духовенства. Такая политика вызвала рост общественного недовольства в стране. Июльская революция 1830 г. свергла Карла X. Он бежал за границу, где и умер.
(обратно)10
Герцог Йоркский (1763–1827) — второй сын английского короля Георга III. Во время войны европейской коалиции против революционной Франции командовал английскими войсками в Голландии; потерпел поражение и в 1794 г. отплыл обратно в Англию. Неудачей окончились и действия английских войск под его командованием в 1799 г. Бездарный полководец, но весьма честолюбивый и корыстолюбивый человек.
(обратно)11
Приер (из департамента Марны) Пьер-Луи (1756–1827) — деятель французской революции XVIII в., якобинец; был членом Учредительного собрания, членом Конвента и Комитета общественного спасения; в качестве комиссара Конвента проявил большую энергию в борьбе с вандейскими мятежниками.
(обратно)12
Тремуйль Антуан-Филипп, князь де Тальмон — французский генерал, выходец из старинного дворянского рода, в начале революции эмигрировал, затем возвратился во Францию и присоединился к вандейцам. В 1794 г. был арестован и казнен.
(обратно)13
Роганы — старинный французский дворянский род, владевший огромными поместьями в Бретани. Представители фамилии Роганов носили княжеский титул и находились в родстве с французской королевской династией Бурбонов.
(обратно)14
Д’Эльбе — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)15
Лескюр, де — один из главных руководителей вандейских мятежников.
(обратно)16
Боншан Шарль, де — один из главных руководителей вандейских мятежников; умер от ран, полученных в бою (1793).
(обратно)17
Ларошжакелен Анри, де — крупный помещик-дворянин в Бретани; был одним из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)18
Катлино — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)19
Стоффле Никола (1751–1796) — один из главных предводителей вандейских мятежников; отличался зверской жестокостью в обращении с пленными республиканцами; был расстрелян по приговору военного суда.
(обратно)20
Шаретт де ла Контри Франсуа-Атаназ (1763–1796) — один из главных руководителей вандейского мятежа; крайне жестоко расправлялся с пленными республиканцами; был взят в плен и расстрелян.
(обратно)21
Гастон — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)22
Паш Жан-Никола (1746–1823) — деятель французской революции конца XVIII в., жирондист, а позже якобинец, одно время был военным министром, затем мэром Парижа, сыграл видную роль в установлении якобинской диктатуры. После ее крушения отошел от политической деятельности.
(обратно)23
Жоли — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)24
Брут Марк Юний (85–42 гг. до н. э.) — древнеримский политический деятель, защитник интересов земельной аристократии, руководил заговором против Цезаря и его убийством (в 44 г.).
(обратно)25
Санкюлоты — термин, служивший для обозначения активных участников французской революции конца XVIII в., выходцев из простого народа. Слово санкюлот происходит от французских слов sans (без) и culotte (короткие бархатные штаны, которые носили только дворяне и богачи; бедняки носили длинные панталоны из грубой материи).
(обратно)26
Граф де Канкло — французский генерал, участник войн конца XVIII в. между Францией и европейской коалицией.
(обратно)27
Виконт де Миранда — французский генерал, участник войн конца XVIII в. между Францией и европейской коалицией.
(обратно)28
Виконт де Богарне — французский генерал, участник войн конца XVIII в. между Францией и европейской коалицией; был казнен в 1793 г. по обвинению в измене.
(обратно)29
Маркиз де Кюстин — французский генерал, участник войн конца XVIII в., был казнен в 1793 г. по обвинению в сдаче крепости Майнц войскам коалиции.
(обратно)30
Герцог Бирон — французский генерал, участник войн конца XVIII в. между Францией и европейской коалицией.
(обратно)31
Герцог Шартрский Луи-Филипп (1776–1850) — старший сын герцога Филиппа Орлеанского, родственника короля Людовика XVI; в первые годы французской революции прикидывался из честолюбивых побуждений сторонником революции, отрекся от своего титула и принял фамилию Эгалитэ (то есть Равенство), участвовал в сражениях французской республиканской армии против войск европейской коалиции. В 1793 г. принял участие в контрреволюционном заговоре генерала-изменника Дюмурье; после разоблачения этого заговора бежал за границу; в 1814 г. возвратился во Францию. После июльской революции 1830 г. стал королем под именем Луи-Филиппа. Февральская революция 1848 г. свергла его с престола.
(обратно)32
Эгалитэ Филипп (1744–1794) — отец предыдущего, герцог Филипп Орлеанский, принявший фамилию Эгалитэ (то есть Равенство), вступивший в Якобинский клуб и ставший членом Конвента. Прикидывался убежденным якобинцем, голосовал за казнь Людовика XVI. Впоследствии истинное лицо Филиппа Эгалитэ и его честолюбивые замыслы были разоблачены, и он был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)33
Ларуари, маркиз де — один из главных вожаков вандейских мятежников.
(обратно)34
Дю Дрене — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)35
Куси — епископ Ла Рошели, один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)36
Бопуаль Сент-Олэр — епископ Пуатье, один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)37
Мерси — епископ Люсона, один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)38
Гийо де Фольвиль — епископ Дольский, один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)39
«Монитер» — так называлась французская правительственная газета, издававшаяся с 1789 по 1868 г. Позже она была переименована в «Журналь офисьель».
(обратно)40
Уиндхэм Уильям (1750–1810) — английский политический деятель, принадлежал к партии вигов и одно время был сторонником парламентской реформы. В дальнейшем перешел в лагерь крайней реакции, был военным министром в кабинете Питта-младшего, ярого врага революционной Франции.
(обратно)41
Гуд Самюэль (1724–1816) — английский адмирал, с 1786 г. Лорд адмиралтейства; во время войны с революционной Францией командовал английским флотом в Средиземном море, захватил Тулон, вообще активно поддерживал французскую контрреволюцию.
(обратно)42
Дьези, шевалье де (младший) — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)43
Паррен — французский генерал, принимал участие в борьбе против вандейских мятежников.
(обратно)44
Орудие войны (лат.).
(обратно)45
Сила и мужество (лат.).
(обратно)46
Валазе Шарль-Элеонор (1751–1793) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист, во время якобинской диктатуры был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)47
«Архивы морского министерства». Состояние флота на март 1793 года. (Прим. автора.)
(обратно)48
Гупиль де Префельн (умер в 1801 г.) — французский политический деятель, депутат Генеральных штатов, умеренный либерал. В 1795 г. был избран членом Совета старейшин, позже был его председателем.
(обратно)49
Фротте Луи, граф де (1755–1800) — французский помещик-монархист, один из главных вожаков контрреволюционных мятежников в Нормандии в конце XVIII в.; был взят в плен, предан суду и расстрелян.
(обратно)50
Рошкотт Фортюне-Гюйом, граф де (1769–1798) — французский помещик-монархист, командовал одним из отрядов вандейских мятежников; был арестован, предан суду и казнен.
(обратно)51
Дюбуа-Ги — один из вожаков вандейских мятежников.
(обратно)52
Тюрпэн — один из вожаков вандейских мятежников.
(обратно)53
Карно Лазар (1753–1823) — видный деятель французской революции XVIII в.; член Законодательного собрания, член Конвента и Комитета общественного спасения. Проявил огромную активность в деле обороны революционной Франции от войск интервентов (современники прозвали его «организатором победы»). В 1815 г. после второй реставрации Бурбонов он был изгнан из Франции; умер в Магдебурге (в Пруссии).
(обратно)54
Имеет уши, но не услышит (лат.).
(обратно)55
«Закон о подозрительных» — был принят Конвентом 17 сентября 1793 г. Этот закон предписывал местным органам власти следить за действиями людей, ненадежных в политическом отношении, заключать их в тюрьму и предавать суду Революционного трибунала. Этот закон, изданный по требованию народных масс, сыграл большую роль в борьбе против контрреволюционных элементов.
(обратно)56
Франклин Вениамин (1706–1790) — видный американский публицист, политический деятель и ученый (физик); принимал активное участие в войне за независимость в Северной Америке (1775–1783), был дипломатическим представителем США в Париже и добился заключения союза между Францией и США против Англии.
(обратно)57
Руссо Жан-Жак (1712–1778) — французский писатель и философ, один из виднейших просветителей XVIII в., выдвигавший в своих трудах («Об общественном договоре» и др.) идею народовластия. Демократические теории Руссо сыграли крупную роль в идейной подготовке французской революции XVIII века.
(обратно)58
Марат Жан-Поль (1743–1793) — один из виднейших деятелей французской революции, врач и публицист; член Конвента, один из руководителей Якобинского клуба, редактор газеты «Друг народа»; пользовался огромной популярностью в народных массах. 13 июля 1793 г. был злодейски убит контрреволюционными заговорщиками.
(обратно)59
Многим на пользу бьет его струя! (лат.)
(обратно)60
Питу Луи-Анж (1769–1828) — французский писатель-монархист, автор песенок контрреволюционного содержания; не раз подвергался аресту и ссылке.
(обратно)61
Дюпле Морис (1738–1820) — владелец столярной мастерской в Париже, на улице Сент-Оноре, член Якобинского клуба, горячий сторонник Робеспьера, который жил в доме Дюпле во время революции и был помолвлен с его дочерью. После контрреволюционного переворота 9 термидора Дюпле был арестован и предан суду, но оправдан.
(обратно)62
Вуллан Жан-Анри (1751–1801) — деятель французской революции, адвокат. Был членом Учредительного собрания и членом Конвента; явился одним из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора.
(обратно)63
Монфлабер, маркиз де — французский политический деятель конца XVIII в., прикидывавшийся убежденным республиканцем и присвоивший себе прозвище Десятое Августа (день свержения монархии во Франции в результате народного восстания 10 августа 1792 г.).
(обратно)64
Фрерон Станислав-Луи-Мари (1754–1802) — французский политический деятель и публицист, член Конвента; будучи комиссаром в Тулоне, он совершил много излишних жестокостей; одновременно нажил большое состояние взятками и хищениями; опасаясь разоблачений, способствовал свержению якобинской диктатуры, позже был одним из вожаков термидорианской реакции.
(обратно)65
Фукье-Тенвиль (1746–1795) — деятель французской революции, якобинец, был общественным обвинителем при Революционном трибунале в Париже; после переворота 9 термидора был арестован, а затем казнен.
(обратно)66
Дюбуа-Крансэ (1747–1814) — деятель французской революции, был членом Учредительного собрания и членом Конвента, якобинец; в качестве комиссара Конвента проявил большую энергию в борьбе с контрреволюционными мятежниками и иностранными интервентами.
(обратно)67
Давид Жак-Луи (1748–1825) — знаменитый французский художник, участник революции конца XVIII в., одно время близко стоявший к якобинцам. Широкую известность получила его картина, изображающая убитого Марата в ванне. Впоследствии Давид перешел на сторону Наполеона, получил от него титул барона и звание придворного художника.
(обратно)68
Мерсье Луи-Себастьен (1740–1814) — французский писатель, публицист и драматург демократического направления; незадолго до революции опубликовал «Картины Парижа» (в 12-ти томах), в которых ярко изобразил быт и нравы парижского общества, нищету трудящихся масс.
(обратно)69
Сен-Жюст Луи-Антуан Флорель, де (1767–1794) — один из виднейших деятелей французской революции XVIII в., член Конвента и Комитета общественного спасения, друг Робеспьера; после контрреволюционного переворота 9 термидора был казнен.
(обратно)70
Тальен Жан-Ламбер (1767–1820) — деятель французской революции, член Конвента; будучи комиссаром в Бордо, нажил огромное состояние взятками и хищениями; был одним из организаторов контрреволюционного переворота 9 термидора.
(обратно)71
Регентство — период правления во Франции герцога Филиппа Орлеанского (1715–1723), ставшего регентом после смерти короля Людовика XIV (до совершеннолетия Людовика XV). Распущенность и расточительность двора, а также неудачные банковские операции привели к полному расстройству государственных финансов и совершенно дискредитировали регента, а вместе с ним и всю династию Бурбонов.
(обратно)72
Директория — правительство французской республики, заменившее Конвент после его роспуска в октябре 1795 г.; состояло из 5 членов (директоров) и существовало с ноября 1795 г. по ноябрь 1799 г.; выражало интересы крупной буржуазии («новых богачей», биржевых дельцов). Директория вела реакционную внутреннюю и захватническую внешнюю политику. Государственный переворот 18 брюмера покончил с режимом Директории и установил бонапартистский режим.
(обратно)73
Тримальхион — персонаж сатирического произведения древнеримского писателя Петрония (I в.) «Сатирикон»; тип богатого выскочки, обжоры и циника.
(обратно)74
«Старый кордельер» — газета, которую издавал в Париже Камилл Демулен, представитель правого крыла якобинцев (дантонистов); после казни дантонистов газета была закрыта.
(обратно)75
Жокрис — литературный персонаж, тип глупца, выведенный во французских комедиях конца XVIII и начала XIX в.
(обратно)76
Мирабо Оноре-Габриэль, граф (1749–1791) — французский политический деятель и публицист, выдающийся оратор, один из вожаков «третьего сословия» в Генеральных штатах 1789 года. Впоследствии был подкуплен королевским двором.
(обратно)77
Бобеш — французский уличный актер и певец начала XIX в.
(обратно)78
Фермопилы — горный проход из Фессалии в среднюю Грецию. Здесь в 480 г. до н. э. семь тысяч греков под командой царя Спарты Леонида героически оборонялись против стотысячного персидского войска.
(обратно)79
Варле Жан (родился в 1764 г., год смерти неизвестен) — деятель французской революции, один из руководителей группы «бешеных», выражавшей интересы трудящейся бедноты; принимал активное участие в борьбе против жирондистов, критиковал политику якобинцев, пропагандировал эгалитарные (уравнительные) идеи.
(обратно)80
Гюффруа Арман-Бенуа-Жозеф (1742–1801) — французский политический деятель и публицист, член Конвента.
(обратно)81
Епископат — организация левых якобинцев, тесно связанная с плебейскими массами Парижа; помещалась в бывшем здании парижского епископства.
(обратно)82
Гара́ Доминик-Жозеф (1749–1833) — деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, был министром иностранных дел, а затем министром внутренних дел; во время якобинской диктатуры был дважды арестован. Был сенатором и графом наполеоновской империи; после реставрации Бурбонов отошел от политической деятельности.
(обратно)83
Герцог Брауншвейгский — немецкий владетельный князь и одновременно генерал прусской армии, В 1792 г. был главнокомандующим австро-прусских войск, вторгшихся во Францию с целью восстановления в ней дореволюционных порядков. В битве при Вальми (20 сентября) интервенты были разбиты и отброшены.
(обратно)84
Жиронда — партия буржуазных республиканцев во время французской революции, выражавшая интересы крупной торгово-промышленной буржуазии; название ее объясняется тем, что наиболее видные представители этой партии были выбраны в Законодательное собрание, а затем в Конвент от департамента Жиронды. Жирондисты занимали господствующее положение в Конвенте до народного выступления 31 мая — 2 июня 1793 г., которое привело к власти якобинцев.
(обратно)85
Инар Анри-Максимен (1758–1825) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; впоследствии получил от Наполеона титул барона.
(обратно)86
Гоншон Антуан — французский генерал, участвовавший в борьбе против вандейских мятежников; умер в 1794 г.
(обратно)87
Фурнье Клод, по прозвищу Фурнье Американец (1745–1823) — деятель французской революции, якобинец; не раз подвергался аресту и ссылке.
(обратно)88
Анрио Франсуа (1761–1794) — деятель французской революции, якобинец; был начальником парижской национальной гвардии; принимал активное участие в борьбе против жирондистов. После переворота 9 термидора был казнен вместе с Робеспьером.
(обратно)89
Ларейни Никола-Габриэль, де (1625–1709) — французский государственный деятель, начальник полиции при Людовике XIV, отличался большой жестокостью.
(обратно)90
«Отец Дюшен» («Пэр Дюшен») — название одной из самых популярных демократических газет, издававшихся во время французской революции. Газета выходила с 1790 по 1794 г. под редакцией левого якобинца Эбера (всего вышло 385 номеров).
(обратно)91
Шнейдер Эйлож (1756–1794) — деятель французской революции XVIII в., родом из Германии, епископ, снявший с себя сан. На посту общественного обвинителя при революционном трибунале департамента Нижнего Рейна проявлял излишнюю жестокость, за что был смещен, арестован и казнен.
(обратно)92
Данжу Жан-Пьер (1760–1832) — деятель французской революции XVIII в., член Конвента, якобинец.
(обратно)93
Ламбаль Мария-Терезия-Луиза, принцесса де (1749–1792) — родственница французской королевской семьи, приближенная королевы Марии-Антуанетты; после свержения монархии была арестована за участие в контрреволюционных заговорах и связь с иностранными дворами и казнена.
(обратно)94
Бернонвиль Пьер, маркиз де (1752–1821) — французский генерал, в 1793 г. был военным министром: впоследствии был сенатором и графом наполеоновской империи; после реставрации Бурбонов получил звание маршала и титул маркиза.
(обратно)95
Моморо Антуан-Франсуа (1756–1794) — деятель французской революции, книготорговец и типограф, член Клуба кордельеров, примыкал к левому крылу якобинцев (эбертисты); был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)96
Гусман (1752–1794) — деятель французской революции, испанец по происхождению; играл видную роль в борьбе против жирондистов; был казнен вместе с Дантоном и дантонистами.
(обратно)97
Эбер Жак-Рене (1757–1794) — деятель французской революции, левый якобинец; в 1790–1794 гг. издавал газету «Отец Дюшен». Добивался усиления революционного террора, более решительной борьбы со спекулянтами, закрытия всех церквей Против Эбера и его сторонников (эбертистов) выступили и робеспьеристы и дантонисты. 24 марта 1794 г. Эбер и некоторые другие левые якобинцы были казнены по обвинению в заговоре против якобинского революционного правительства.
(обратно)98
Дантон Жорж-Жак (1759–1794) — один из виднейших деятелей французской революции XVIII в., талантливый оратор. Сыграл выдающуюся роль в 1792 г. в борьбе против нашествия австро-прусских интервентов. Был членом Конвента. Впоследствии возглавил правое крыло якобинцев, выражавших интересы «новых богачей». Был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)99
Лютер Мартин (1483–1546) — немецкий богослов, основатель протестантизма (лютеранства) в Германии; выразитель интересов бюргерства и либеральной части дворянства; к движению народных масс относился отрицательно.
(обратно)100
Работы Паллуа (лат.).
(обратно)101
Шарлотта Корде (1773–1793) — французская дворянка, связанная с жирондистами. 13 июля 1793 г. из политических побуждений вероломно убила Марата. Была казнена по приговору Революционного трибунала.
(обратно)102
Громогласно клянутся тенями (лат.).
(обратно)103
Ромм Жильбер (1750–1795) — французский философ-просветитель; одно время жил в России в качестве воспитателя молодого графа П. А. Строганова; был членом Законодательного собрания и членом Конвента; после подавления народного восстания в Париже в мае 1795 г. был приговорен к смертной казни и покончил с собой ударом ножа.
(обратно)104
Серван Жозеф (1741–1808) — французский генерал и политический деятель; в начале революции был одно время военным министром; после перехода власти в руки якобинцев был арестован и заключен в тюрьму за близость к жирондистам. Впоследствии был восстановлен в звании генерала и занимал ряд видных постов в военном ведомстве.
(обратно)105
Дюмурье Шарль-Франсуа (1739–1823) — французский генерал, участник Семилетней войны, в 1792 г. командовал центральной армией, действовавшей против войск коалиции, и одержал ряд побед. Но в апреле 1793 г. составил заговор с целью восстановления монархии. Заговор был раскрыт, после чего Дюмурье, изменив родине, бежал в Австрию, а оттуда в Англию, где и поселился, живя на средства английского правительства.
(обратно)106
Нервинд — село в Бельгии, близ которого 18 марта 1793 г. французские войска под начальством Дюмурье были разбиты австрийскими войсками, которыми командовал герцог Кобургский. Это поражение имело тяжелые последствия для революционной Франции.
(обратно)107
Рабо Сент-Этьен Жан-Поль (1743–1793) — французский политический деятель, публицист, священник (протестантский пастор в Ниме), член Учредительного собрания, а затем член Конвента, жирондист; был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)108
Монтескью, герцог де (1756–1832) — французский политический деятель, конституционный монархист, был членом Учредительного собрания, затем эмигрировал; после падения наполеоновской империи в 1814 г. был членом временного правительства и содействовал реставрации Бурбонов.
(обратно)109
Вюрмсер Дагоберт-Сигизмунд (1724–1797) — австрийский генерал, родом из Эльзаса, сначала служил во французской армии, потом перешел на службу Австрии. Участвовал в Семилетней войне; в 1793–1796 гг. участвовал в войнах против Франции. Потерпел сокрушительное поражение в Италии в 1796 г. в боях против французских войск, которыми командовал Наполеон Бонапарт.
(обратно)110
Менье — французский генерал, участник войн революционной Франции против европейской коалиции, отличился при обороне Майнца в 1793 г.
(обратно)111
Дарвиль — французский генерал времен революции конца XVIII в.; демократы подозревали его в измене.
(обратно)112
Мутон — французский генерал, участник войн конца XVIII в. и начала XIX в.
(обратно)113
Валанс Сирюс-Мари-Александр, граф де (1757–1822) — французский генерал, участвовал в войне революционной Франции против европейской коалиции, но в 1793 г. эмигрировал. Возвратившись во Францию в 1800 г., принял участие во многих наполеоновских походах. В период реставрации Бурбонов был членом палаты пэров.
(обратно)114
Нэйи, граф де — французский генерал времен революции XVIII в.; демократы подозревали его в измене.
(обратно)115
Стенжель Анри — французский генерал, участник войн конца XVIII в., принимал участие в борьбе против вандейских мятежников, был убит в сражении при Мондови (1796) в Италии.
(обратно)116
Лану Рене-Жозеф, де (1740–1793) — французский генерал. В 1793 г. был казнен по приговору Революционного трибунала по обвинению в измене (в связи с поражением, которое понесли его войска в бою с войсками коалиции).
(обратно)117
Лигонье — французский генерал, участник войн конца XVIII в., был казнен по приговору Революционного трибунала по обвинению в измене.
(обратно)118
Мену Жак-Франсуа, де (1750–1810) — французский генерал и политический деятель, участник войн против Вандеи, подавил народное восстание в Париже в мае 1795 г., участвовал в египетском походе Наполеона. В период империи был французским наместником в Пьемонте, а затем в Венеции.
(обратно)119
Диллон Артюр, граф (1750–1794) — французский генерал, участник войн конца XVIII в., монархист, был казнен по подозрению в измене.
(обратно)120
Фридрих Второй (1740–1786) — прусский король. Вел политику так называемого «просвещенного абсолютизма»: защищая интересы помещиков-крепостников, проводил и некоторые, впрочем весьма ограниченные, реформы, не затрагивавшие феодальных порядков. В области внешней политики проводил захватнические войны, направленные на расширение территории Пруссии за счет других немецких государств; во время Семилетней войны (1756–1763) потерпел ряд тяжелых поражений, в результате которых русские войска заняли Берлин (1760 г.).
(обратно)121
Бриссо Жан-Пьер (1754–1793) — деятель французской революции, вождь партии жирондистов, издавал газету «Французский патриот», член Законодательного собрания. В Конвенте боролся против якобинцев, добивался роспуска Парижской Коммуны, отвергал требования масс о борьбе против спекуляции. Был казнен но приговору Революционного трибунала.
(обратно)122
Дидро Дени (1713–1784) — крупнейший французский философ-материалист, писатель и теоретик искусства, просветитель, глава энциклопедистов.
(обратно)123
Ассигнаты — бумажные деньги, выпускавшиеся во время французской революции и быстро падавшие в цене вследствие спекуляции и нехватки товаров.
(обратно)124
Шазо Жан-Франсуа-Симон (1747–1818) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента.
(обратно)125
Петион Жером (1756–1794) — деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, один из вожаков партии жирондистов; после событий 31 мая — 2 июня 1793 г. был исключен из состава Конвента, бежал в провинцию и там покончил жизнь самоубийством.
(обратно)126
Керсэн Арман-Ги-Симон, граф де (1742–1793) — французский политический деятель и морской офицер; был членом Законодательного собрания и членом Конвента; арестован и казнен по обвинению в тайных связях с королевским двором.
(обратно)127
Мортон-Шабрийян Жак-Анри, де (1750–1793) — французский генерал, участник войны за независимость в Северной Америке и войны революционной Франции против коалиции европейских монархов; умер на посту коменданта крепости Дуэ.
(обратно)128
Дюфриш-Валазе Шарль (1751–1793) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист, был приговорен к смертной казни Революционным трибуналом, покончил жизнь самоубийством.
(обратно)129
Банвиль, де — французский генерал, участник войн конца XVIII в., был казнен по обвинению в измене (1794 г.).
(обратно)130
Жансоннэ Арман (1758–1793) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист, был арестован и казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)131
Лидон Бернар-Франсуа (1752–1793) — деятель французской революции, член Конвента, близкий к жирондистам; был арестован и покончил жизнь самоубийством.
(обратно)132
Шамбон Антуан-Бенуа — деятель французской революции, член Конвента; жирондист; после перехода власти в руки якобинцев бежал из Парижа; в 1793 г. был убит.
(обратно)133
Лендэ Жан-Батист-Робер (1749–1825) — видный деятель французской революции XVIII в., член Законодательного собрания, а потом Конвента, якобинец; был членом Комитета общественного спасения, в котором руководил продовольственным делом. За участие в заговоре Бабёфа был арестован, но затем оправдан. После захвата власти Наполеоном отказался от политической деятельности; во время реставрации Бурбонов был изгнан из Франции.
(обратно)134
Нарбонн (точнее, Нарбон-Лара) Луи, граф де (1755–1813) — французский генерал и политический деятель, в начале революции был некоторое время военным министром. После свержения монархии эмигрировал в Англию. Возвратился во Францию после переворота 18 брюмера; исполнял ряд дипломатических поручений правительства Наполеона.
(обратно)135
Малуэ Пьер-Виктор (1740–1814) — французский политический деятель. Во время революции конца XVIII в. основал монархический «Клуб беспристрастных». После свержения монархии эмигрировал. Возвратился во Францию в период Консульства. В 1814 г., после реставрации Бурбонов, был назначен морским министром.
(обратно)136
Луве де Кувре Жан-Батист (1760–1797) — французский писатель, автор знаменитого в свое время романа «Похождения кавалера Фоблаза». Во время революции был членом Законодательного собрания, а затем Конвента, примыкал к жирондистам. После перехода власти в руки якобинцев бежал из Парижа; вернулся в Конвент после крушения якобинской диктатуры.
(обратно)137
Кобург. — Имеется в виду австрийский генерал, герцог Кобургский, командовавший войсками европейской коалиции, которые действовали против революционной Франции.
(обратно)138
Клермон-Тоннер Станислав, граф де (1747–1792) — французский политический деятель, член Учредительного собрания, конституционный монархист, основатель «Клуба беспристрастных». Выступал против демократического движения и в день свержения монархии (10 августа 1792 г.) был убит.
(обратно)139
Клод Фоше (1744–1793) — деятель французской революции XVIII в., демократический публицист, один из руководителей «Социального кружка»; впоследствии сблизился с жирондистами и был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)140
Прюдом Луи-Мари (1752–1830) — французский журналист буржуазно-демократического направления, автор многочисленных политических памфлетов и брошюр, редактор влиятельной газеты «Парижские революции».
(обратно)141
И так далее (лат.).
(обратно)142
Тренк Фридрих, барон (1726–1794) — прусский офицер, перешедший затем на службу России, потом Австрии, провел десять лет в тюрьме, куда он был заточен по приказу Фридриха II; типичный авантюрист, он переезжал из одной страны в другую, предлагая свои услуги то одному, то другому правительству. В 1793 г. он был арестован в Париже по подозрению в шпионаже (в пользу Пруссии) и в 1794 г. казнен.
(обратно)143
Шенье Андре (1762–1794) — французский поэт и публицист, был казнен по приговору Революционного трибунала за свою контрреволюционную деятельность (за прославление Шарлотты Корде, убийцы Марата, за связь с монархистами).
(обратно)144
Пайан — деятель французской революции, якобинец, после крушения якобинской диктатуры был казнен.
(обратно)145
Кофиналь Жан-Батист (1754–1794) — деятель французской революции, якобинец, заместитель председателя Революционного трибунала; после крушения якобинской диктатуры был казнен.
(обратно)146
Кутон Жорж-Огюст (1755–1794) — деятель французской революции, член Законодательного собрания, член Конвента и Комитета общественного спасения, якобинец; после переворота 9 термидора был казнен.
(обратно)147
Барбару Шарль-Жак (1767–1794) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист; после событий 31 мая — 2 июня 1793 г. бежал из Парижа в провинцию, где пытался поднять контрреволюционный мятеж.
(обратно)148
Тридцать первое мая. — Имеется в виду выступление народных масс Парижа 31 мая — 2 июня 1793 г., окруживших здание Конвента и потребовавших исключения и ареста депутатов-жирондистов. Под давлением вооруженного народа Конвент принял соответствующие решения. С этого момента власть перешла в руки якобинцев.
(обратно)149
Лакруа Жан-Мишель (1751–1820) — деятель французской революции, член Конвента, близкий к жирондистам; был арестован за протест против событий 31 мая — 2 июня 1793 г.; после переворота 9 термидора был освобожден и возвращен в Конвент.
(обратно)150
Мори Жан-Сифрен (1746–1817) — французский политический деятель, ярый реакционер, аббат и депутат от духовенства в Генеральных штатах 1789 г.; в 1791 г. эмигрировал, в 1794 г. получил от папы звание кардинала. В 1804 г. примкнул к Наполеону, в 1810–1814 гг. управлял парижской епархией. После реставрации Бурбонов эмигрировал.
(обратно)151
Казалес Жак-Антуан-Мари, де (1758–1805) — французский политический деятель, ярый монархист, член Учредительного собрания; эмигрировал в 1791 г., служил в английском флоте; возвратившись во Францию, отошел от политической деятельности.
(обратно)152
Сийес Эмманюэль-Жозеф (1748–1836) — французский политический деятель, член Учредительного собрания, играл видную роль в начале революции как один из главных вожаков «третьего сословия». Был членом правительства Директории, способствовал перевороту 18 брюмера; во время Империи стал сенатором и получил звание графа. Во время реставрации Бурбонов был изгнан из Франции; вернулся лишь после июльской революции 1830 г.
(обратно)153
Ролан Жак-Мари (1734–1793) — член Конвента, жирондист, один из главарей этой партии; после событий 31 мая — 2 июня 1793 г. бежал из Парижа и покончил жизнь самоубийством.
(обратно)154
Силлери Шарль-Алексис, маркиз де (1737–1793) — французский генерал и политический деятель, был членом Учредительного собрания и членом Конвента; был арестован и казнен за связь с герцогом Орлеанским (Эгалитэ) и другими контрреволюционными заговорщиками.
(обратно)155
Бюзо Франсуа-Никола-Леонор (1760–1794) — деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, жирондист; после перехода власти в руки якобинцев бежал из Парижа, поднял контрреволюционный мятеж в департаменте Эр; после подавления мятежа покончил жизнь самоубийством.
(обратно)156
Саладэн Жан-Батист-Мишель (умер в 1813 г.) — деятель французской революции, адвокат и судья; был членом Законодательного собрания и членом Конвента; был арестован во время якобинской диктатуры; после переворота 9 термидора был освобожден. В последующие годы примыкал к монархистам. После переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.
(обратно)157
Ласурс Марк-Давид (1763–1793) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)158
Леба Филипп-Франсуа-Жозеф (1764–1794) — деятель французской революции, якобинец, член Конвента и комиссар, близкий друг Сен-Жюста; был казнен после переворота 9 термидора.
(обратно)159
Дамьен Робер-Франсуа (1715–1757) — покушался на короля Людовика XV, желая отомстить ему за бедственное положение народных масс. Был подвергнут жестоким пыткам и казнен.
(обратно)160
Лежандр Луи (1752–1797) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец; впоследствии был одним из вожаков термидорианской контрреволюции.
(обратно)161
Четвертое августа. — Имеется в виду ночное заседание Учредительного собрания 4 августа 1789 г., па котором было принято решение о ликвидации феодальных повинностей; решение это было принято с целью остановить дальнейшее развитие крестьянских восстаний; на деле отменены были тогда только личные повинности крестьян, а так называемые реальные повинности, наиболее тяжелые, подлежали выкупу (на крайне невыгодных для крестьян условиях). Полностью и притом безвозмездно феодальные повинности были отменены лишь якобинским Конвентом (по закону 17 июля 1793 г.).
(обратно)162
Десятое августа. — Имеется в виду народное восстание в Париже 10 августа 1792 г., приведшее к свержению монархии и провозглашению республики.
(обратно)163
Сентябрьские события. — Имеется в виду казнь нескольких тысяч заключенных контрреволюционеров (преимущественно дворян и священников), совершенная в начале сентября 1792 г. народными массами, которыми руководили левые якобинцы. Казнь эта была совершена с целью расстроить заговор контрреволюционеров, рассчитывавших на помощь австро-прусских войск, которые приближались в то время к Парижу.
(обратно)164
Двадцать первое января. — Имеется в виду день 21 января 1793 г., когда по приговору Конвента был казнен свергнутый и уличенный в измене король Людовик XVI.
(обратно)165
Монморен Арман-Марк, граф де (1746–1792) — французский политический деятель, был министром иностранных дел в 1789–1791 гг., ярый враг революции; в 1792 г. был арестован и казнен.
(обратно)166
Шестое октября. — Имеется в виду народное выступление 6 октября 1789 г., вылившееся в поход на Версаль, расстроившее планы контрреволюции и заставившее королевский двор перебраться в Париж.
(обратно)167
Двадцатое июня. — Имеется в виду демонстрация 20 июня 1792 г. в Париже, организованная жирондистами с целью предотвратить революционное восстание и свержение монархии. Демонстрация эта лишь ненадолго отсрочила падение монархии, которое произошло в результате восстания 10 августа 1792 г.
(обратно)168
Анахарсис Клоотс (1755–1794) — деятель французской революции, философ и публицист, выходец из Германии; был членом Конвента, примыкал к левому крылу якобинцев; выдвигал авантюристский план продолжения войны до полной победы республиканских принципов во всей Европе. Был предан суду Революционного трибунала по подозрению в связях с агентами иностранных держав и казнен.
(обратно)169
Бабёф Гракх (1760–1797) — видный деятель французской революции, организатор и теоретик «Заговора равных», ставившего своей целью свержение реакционного правительства Директории и создание революционного правительства, которое должно было осуществить переход к новому общественному строю — коммунизму. Коммунизм Бабёфа и его сторонников (бабувистов) был утопическим. Бабёф не понимал ведущей роли рабочего класса в социальной революции и уделял главное внимание аграрному вопросу. Заговор не получил поддержки широких масс, и Бабёф был казнен.
(обратно)170
Дону Пьер-Клод-Франсуа (1761–1840) — деятель французской революции, член Конвента; был арестован за протест против исключения жирондистов; после переворота 9 термидора был освобожден и возвращен в Конвент. В период Директории был депутатом; во время Консульства и Империи стоял в стороне от политической жизни; во время Реставрации и Июльской монархии был членом палаты депутатов, в которой примыкал к умеренным либералам.
(обратно)171
Лендэ Робер-Тома (1743–1823) — деятель французской революции; священник, а позже епископ, член Учредительного собрания и член Конвента, якобинец. Позже был членом Совета старейшин; впоследствии отошел от политической деятельности.
(обратно)172
Масье Жан-Батист (1743–1818) — деятель французской революции, епископ, был членом Учредительного собрания и членом Конвента, сложил с себя духовный сан; был комиссаром Конвента в ряде департаментов.
(обратно)173
Вожуа — деятель французской революции, выходец из духовенства (старший викарий парижского архиепископа); был членом революционного комитета, руководившего восстанием 10 августа 1792 г.
(обратно)174
Шабо Франсуа (1756–1794) — деятель французской революции, бывший монах, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец, был казнен по обвинению в финансовых спекуляциях.
(обратно)175
Жерль (иначе Дом Жерль) Кристоф-Антуан (1740–1805) — французский политический деятель, монах; был депутатом Генеральных штатов; впоследствии возглавлял одну религиозную секту.
(обратно)176
Зал для игры в мяч — в здании манежа в Версале. Здесь 17 июня 1789 г. депутаты Генеральных штатов, принадлежавшие к третьему сословию, провозгласили себя Национальным собранием и постановили не расходиться до тех пор, пока не выработают конституции.
(обратно)177
Одран Ив-Мари (1741–1800) — деятель французской революции, аббат; был членом Законодательного собрания и членом Конвента; убит бандой роялистов.
(обратно)178
Гутт Жан-Луи (1740–1794) — французский политический деятель и епископ, депутат Генеральных штатов; был казнен в период якобинской диктатуры за контрреволюционную пропаганду.
(обратно)179
Грегуар Анри (1750–1831) — французский политический деятель, священник, а позже епископ. В Конвенте одним из первых внес предложение о провозглашении Республики, был членом Совета пятисот, затем членом Законодательного корпуса и сенатором наполеоновской империи. Во время Реставрации был членом палаты депутатов и примыкал к умеренному крылу либеральной оппозиции.
(обратно)180
Колло д’Эрбуа Жан-Мари (1749–1796) — деятель французской революции, актер и драматург, член Конвента, якобинец, был комиссаром в ряде департаментов. Содействовал перевороту 9 термидора, но во время термидорианской реакции был арестован и сослан; умер в ссылке.
(обратно)181
Ришелье Луи-Франсуа-Арман, герцог де (1696–1788) — французский генерал (племянник знаменитого кардинала Ришелье), участвовал в войне Франции с Англией (так называемой Ганноверской войне) в XVIII в.
(обратно)182
Дюссо Жан-Жозеф (1769–1824) — французский публицист и историк либерально-буржуазного направления.
(обратно)183
Гесс Карл — немецкий князь (из рода герцогов Гессенских); одно время поселился в Париже и разыгрывал из себя якобинца.
(обратно)184
Монто Луи-Мари-Бон, маркиз де (1754–1824) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец; во время термидорианской реакции был подвергнут преследованиям; после реставрации Бурбонов был изгнан из Франции, но позже амнистирован.
(обратно)185
Вилат Иоахим (1768–1795) — деятель французской революции, якобинец, член Революционного трибунала; после контрреволюционного переворота 9 термидора был казнен.
(обратно)186
Антоннель Пьер-Антуан, маркиз (1747–1817) — французский политический деятель, буржуазно-демократический публицист и экономист; был членом Законодательного собрания и Революционного трибунала; участвовал в заговоре Бабёфа, был судим, но оправдан.
(обратно)187
Дампьер Огюст-Анри-Мари, де (1756–1793) — французский генерал, участник войн революционной Франции против коалиции европейских монархов; был убит в бою.
(обратно)188
Борепэр — французский генерал, участник войн между Францией и европейской коалицией, застрелившийся при сдаче крепости Верден прусским войскам в 1792 г.
(обратно)189
Кондорсе Марк-Жан-Антуан-Никола, маркиз де (1743–1794) — деятель французской революции, видный ученый (математик), философ-просветитель и публицист, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; был арестован и покончил жизнь самоубийством.
(обратно)190
Гракхи Тиберий (163–132 гг. до н. э.) и Гай (153–121 гг. до н. э.) — политические деятели Древнего Рима, пытались провести аграрную реформу, имевшую целью наделение мелких крестьян государственной землей. Законопроект, составленный в этом духе Тиберием Гракхом, встретил ожесточенное сопротивление со стороны аристократической партии; группа сенаторов убила Тиберия. Его младший брат Гай Гракх провел некоторые демократические реформы в интересах городских и сельских плебеев. Во время восстания он был убит. При всей ограниченности братьев Гракхов их проекты и реформы имели прогрессивное значение.
(обратно)191
Лешель — французский генерал, участвовал в войне против вандейских мятежников, одержал ряд побед над ними, позже был взят в плен вандейцами и умер в тюрьме.
(обратно)192
Нужен Лешель, чтобы взобраться на Шаретта (франц.).
(обратно)193
Филиппо Пьер-Никола́ (1756–1794) — деятель французской революции, был членом Конвента и его комиссаром в ряде департаментов; был казнен вместе с Дантоном и некоторыми другими дантонистами.
(обратно)194
Алкье Шарль-Жан-Мари (1752–1826) — деятель французской революции, был членом Учредительного собрания и членом Конвента; в период Директории был членом Совета старейшин; позже занимал дипломатические посты в различных странах.
(обратно)195
Симонна Эврар — молодая парижская работница, подруга Марата, деятельно помогавшая ему в издании и распространении его газеты «Друг народа». В период бонапартистского режима подвергалась полицейским преследованиям (одно время была арестована).
(обратно)196
21 сентября. — Имеется в виду 21 сентября 1792 г. — день провозглашения Республики Национальным Конвентом.
(обратно)197
Возвращение короля из Варенна. — Имеется в виду задержание Людовика XVI и его семьи, бежавших из Парижа 21 июня 1791 г. с целью возглавить контрреволюционные войска и отряды эмигрантов и повести их на Париж для восстановления дореволюционных порядков. Заговор потерпел неудачу вследствие бдительности народных масс. В г. Варенне (недалеко от границы) король был узнан, задержан и возвращен в Париж. Но Учредительное собрание отвергло требование революционных групп и демократических клубов о низложении Людовика XVI, республиканская демонстрация на Марсовом поле была расстреляна войсками.
(обратно)198
Совет старейшин — верхняя палата Законодательного корпуса во Франции в период Директории (1795–1799); название объясняется тем, что членом Совета старейшин мог быть только человек, достигший 40 лет. Нижняя палата называлась Советом пятисот (он насчитывал 500 членов).
(обратно)199
18 брюмера. — Имеется в виду государственный переворот 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), положивший конец правительству Директории и приведший к установлению режима военно-буржуазной диктатуры Наполеона. Переворот был организован крупной буржуазией, стремившейся к установлению твердой власти, и совершен войсками, участвовавшими в захватнических походах в Египет и в Италию.
(обратно)200
Персье — французский архитектор конца XVIII в.
(обратно)201
Гаран-Кулон Жан-Филипп (1748–1816) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, позже был членом Совета пятисот, получил от Наполеона звание сенатора и титул графа.
(обратно)202
Лепеллетье де Сен-Фаржо Луи-Мишель (1760–1793) — деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, якобинец; был убит 20 января 1793 г. роялистом Пари за то, что голосовал за казнь Людовика XVI.
(обратно)203
«Декларация прав человека» — один из важнейших документов французской революции, была принята Учредительным собранием 27 августа 1789 г. Декларация провозглашала, что каждый человек имеет право на свободу, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. Буржуазно-демократические принципы Декларации были нарушены Учредительным собранием, которое выработало в 1791 г. конституцию, лишавшую широкие слои населения избирательных прав.
(обратно)204
Ликторский пучок — эмблема ликторов, служителей высших должностных лиц в Древнем Риме; ликтор нес перед ними пучки прутьев и топор.
(обратно)205
Ликург — легендарный царь и законодатель, которому древние писатели приписывают реформы, определившие общественно-политический строй Спарты.
(обратно)206
Солон (ок. 638 — ок. 558 гг. до н. э.) — древнегреческий политический деятель, реформатор. В 595 г. до н э. провел важные реформы, видоизменившие общественно-политический строй Афин (уничтожение долговых обязательств, кодификация гражданского права, разделение граждан на четыре класса и т. д.). Реформы Солона были направлены против засилия древних аристократических родов.
(обратно)207
Платон (ок. 427 — ок. 347 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, живший в Афинах в период крушения рабовладельческой демократии, автор многочисленных произведений, написанных в защиту рабовладельческого строя.
(обратно)208
Вадье Марк-Гильом-Алексис (1736–1828) — деятель французской революции, был членом Законодательного собрания, членом Конвента и Комитета общественной безопасности; принял участие в перевороте 9 термидора; после второй реставрации Бурбонов был изгнан из Франции и умер за границей (в Бельгии).
(обратно)209
Каррье Жан-Батист (1756–1794) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец, исполнял обязанности комиссара в ряде департаментов; за излишнюю жестокость, проявленную им в расправе с контрреволюционными элементами, он был отозван якобинским правительством; впоследствии был комиссаром Конвента в Бресте, принимал участие в борьбе против вандейцев, после переворота 9 термидора был арестован, а затем казнен.
(обратно)210
Леньело Жозеф-Франсуа (1752–1829) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец, был комиссаром в Бресте, принимал участие в борьбе против вандейцев; после переворота 9 термидора был арестован, но затем освобожден.
(обратно)211
Гора — партия монтаньяров (якобинцев) в Конвенте 1792–1795 гг.; название этой партии объясняется тем. что ее члены сидели на верхних скамьях зала заседаний.
(обратно)212
Кервелеган Огюстен-Бернар Франсуа (1748–1825) — деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, жирондист, был арестован 2 июня 1793 г., но бежал в Бретань; после переворота 9 термидора был возвращен в Конвент, участвовал в подавлении народного восстания в Париже в мае 1795 г.; позже был членом Совета старейшин, а затем членом Законодательного корпуса наполеоновской империи.
(обратно)213
Гюаде Маргерит-Эли (1755–1794) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; 2 июня 1793 г. бежал из Парижа, был арестован и казнен.
(обратно)214
Салль Жан-Батист (1759–1794) — деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, жирондист; 2 июня 1793 г. бежал из Парижа в Бретань, а затем в Бордо; был арестован и казнен.
(обратно)215
Лоз-Дюперре — деятель французской революции, член Конвента, жирондист.
(обратно)216
Кинет Никола́-Мари (1762–1821) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, был близок к якобинцам, исполнял обязанности комиссара в ряде департаментов; был арестован и провел несколько лет в тюрьме в Австрии; позже был членом Совета пятисот, министром внутренних дел; получил звание барона наполеоновской империи, был членом Временного правительства 1815 г.; позже был изгнан из Франции (за то, что в 1793 г. голосовал за казнь Людовика XVI), эмигрировал в США; умер в Бельгии.
(обратно)217
Камюс Арман-Гастон (1740–1804) — деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента, был арестован изменником генералом Дюмурье, выдан австрийским властям и заключен в тюрьму; позже был членом Совета пятисот, отказался присягнуть наполеоновскому режиму.
(обратно)218
Парис Франсуа, де (1690–1727) — французский церковный деятель, известный своей благотворительностью; ему приписывались всевозможные чудеса.
(обратно)219
Камилл Демулен (1760–1794) — деятель французской революции, активный участник штурма Бастилии, член Конвента, дантонист, требовал ослабления революционного террора, был казнен вместе с Дантоном.
(обратно)220
Дюпон Жак-Луи, по прозвищу Жакоб (1755–1823) — деятель французской революции, священник и преподаватель; был членом Законодательного собрания и членом Конвента, вышел в отставку в 1794 г. по болезни.
(обратно)221
Ланжюинэ Жан-Дени (1755–1827) — французский политический деятель, член Учредительного собрания и член Конвента, жирондист, в период якобинской диктатуры скрывался, впоследствии был возвращен в Конвент; был членом Совета старейшин, затем сенатором и графом наполеоновской империи; в период Реставрации был членом палаты пэров, в которой примыкал к умеренно-либеральной оппозиции.
(обратно)222
Дюкос Жан-Франсуа (1765–1793) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; был казнен за то, что протестовал против исключения жирондистов.
(обратно)223
Буайе-Фонфред Жан-Батист (1766–1793) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист, был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)224
Ребекки Франсуа-Трофим (1744–1794) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист; после перехода власти в руки якобинцев бежал в Марсель и там покончил жизнь самоубийством.
(обратно)225
Ришо Гиацинт (1757–1822) — деятель французской революции, член Конвента, был комиссаром в ряде департаментов; позже был членом Совета пятисот; в дальнейшем большой политической роли не играл.
(обратно)226
Бирото Жан-Бонавантюр-Блэз-Иларион (1758–1793) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист; был арестован 2 июня 1793 г., но бежал в Лион, а затем в Бордо, где присоединился к контрреволюционному мятежу; был арестован и казнен.
(обратно)227
Виже Луи-Жан-Батист-Этьенн (1768–1820) — французский поэт и драматург, автор ряда бытовых комедий.
(обратно)228
Гораций (65–8 гг. до н. э.) — знаменитый древнеримский поэт, автор многочисленных од и сатир.
(обратно)229
Понтекулан Луи-Гюстав, граф де (1764–1853) — французский политический деятель, член Конвента, в котором примыкал к жирондистам, затем член Совета пятисот; префект и сенатор наполеоновской империи, член палаты пэров в период Реставрации; после революции 1848 г. отошел от политической деятельности.
(обратно)230
Марбоз Франсуа (1739–1825) — деятель французской революции, епископ, был членом Конвента, из которого был исключен за то, что подписал протест против осуждения жирондистов; после переворота 9 термидора был возвращен в Конвент; позже был членом Совета пятисот.
(обратно)231
Сен-Мартен Франсуа-Жером (1744–1814) — деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента; позже член Совета пятисот, депутат Законодательного корпуса наполеоновской империи.
(обратно)232
Буало Жак (1751–1793) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист; был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)233
Бертран Антуан (1749–1816) — деятель французской революции, член Конвента, член Совета старейшин, а затем Совета пятисот.
(обратно)234
Лестер-Бове Бенуа (1750–1793) — деятель французской революции, член Конвента; подписал протест против исключения жирондистов; принял участие в контрреволюционном мятеже на юге Франции; был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)235
Лесаж Дени-Туссен (1758–1796) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист, в период якобинской диктатуры скрывался; после переворота 9 термидора был возвращен в Конвент.
(обратно)236
Гомэр Жан-Эмэ (1745–1805) — деятель французской революции, священник; был членом Конвента; был арестован вместе с жирондистами, но затем освобожден; позже был членом Совета пятисот.
(обратно)237
Гардьен Жан-Франсуа-Мартен (1755–1793) — деятель французской революции, член Конвента, примыкал к фракции Равнины; был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)238
Мэнвьель Пьер (1764–1793) — деятель французской революции, член Конвента, близкий к жирондистам; был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)239
Дюплантье Жак-Поль (1764–1814) — деятель французской революции, член Конвента, близкий к жирондистам; после их исключения из Конвента вышел в отставку; позже был членом Совета пятисот; после переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.
(обратно)240
Лаказ Жак (1752–1793) — деятель французской революции, член Конвента, подписал протест против исключения жирондистов и был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)241
Антибуль Шарль-Луи (1752–1793) — деятель французской революции, член Конвента, близкий к жирондистам; был казнен вместе с ними.
(обратно)242
Верньо Пьер-Викторньен (1753–1793) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, жирондист; был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)243
Мерлен (из г. Тионвиля) Антуан-Кристоф (1762–1833) — деятель французской революции, был членом Законодательного собрания и членом Конвента, якобинец; исполнял обязанности комиссара в борьбе с войсками коалиции и с вандейскими мятежниками. Впоследствии примкнул к заговору против якобинской диктатуры. В период термидорианской реакции был членом Совета пятисот, но вскоре отошел от политической деятельности.
(обратно)244
Субрани Пьер-Амабль, де (1752–1795) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, левый якобинец, после подавления народного восстания в Париже в мае 1795 г. был приговорен к смертной казни и покончил жизнь самоубийством.
(обратно)245
Лебон Гюисманс-Франсуа-Жозеф (1765–1795) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец; после крушения якобинской диктатуры был казнен.
(обратно)246
Билло-Варенн Жак-Никола (1756–1819) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец; после контрреволюционного переворота 9 термидора был сослан в Кайенну; умер в изгнании.
(обратно)247
Фабр д’Эглантин Филипп-Франсуа-Назар (1759–1794) — французский поэт, драматург, политический деятель, член Конвента, якобинец; автор нового, республиканского календаря, введенного в октябре 1793 г.; примыкал к группе дантонистов; был казнен вместе с Дантоном.
(обратно)248
Руже де Лиль Клод-Жозеф (1760–1836) — французский офицер, поэт, создатель патриотического гимна «Марсельеза» (1792) и множества революционных и военных песен.
(обратно)249
Манюэль Луи-Пьер (1751–1793) — деятель французской революции, был прокурором Парижской Коммуны, а затем членом Конвента, из которого вышел в знак протеста против казня бывшего короля. Был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)250
Гужон Жак-Мари-Клод-Александр (1766–1795) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец. После подавления народного восстания в Париже в мае 1795 г, был (вместе с другими «последними якобинцами») арестован и приговорен к смертной казни; покончил жизнь самоубийством.
(обратно)251
Рюль Филипп-Жак (1737–1795) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец; во время термидорианской реакции был арестован и покончил жизнь самоубийством.
(обратно)252
Фуше Жозеф (1759–1820) — французский политический деятель, беспринципный и аморальный карьерист. Был членом Конвента и его комиссаром в ряде департаментов, где проявил крайнюю жестокость, за что был отозван и исключен из Якобинского клуба. Принял участие в подготовке переворота 9 термидора. Будучи министром полиции при Директории, предал это правительство и содействовал установлению бонапартистской диктатуры. Получил от Наполеона звание сенатора, титул герцога Отрантского и пост министра полиции. Изменил Наполеону и способствовал реставрации Бурбонов. Умер в изгнании.
(обратно)253
Камбулас — деятель французской революции, член Конвента, левый якобинец.
(обратно)254
Гильотен Жозеф-Иньяс (1738–1814) — французский политический деятель и врач, член Учредительного собрания, якобинец; изобрел гильотину.
(обратно)255
Клуб фельянов — один из политических клубов времен французской революции, заседал в здании бывшего монастыря ордена фельянов, или фельянтинцев (отсюда его название). Клуб этот был организацией умеренной либеральной буржуазии.
(обратно)256
Жаго Грегуар-Мари (1750–1838) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец, во время Директории был арестован, но затем освобожден; после переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.
(обратно)257
Жавог Клод (1759–1796) — деятель французской революции, член Конвента, левый якобинец, был комиссаром в ряде департаментов; после раскрытия заговора Бабёфа был арестован и казнен.
(обратно)258
Осселэн Шарль-Никола (1754–1794) — деятель французской революции, член Конвента, примыкал к якобинцам. В 1794 г. был арестован и казнен по обвинению в укрывательстве контрреволюционеров.
(обратно)259
Бантаболь Пьер-Луи (1756–1798) — деятель французской революции, член Конвента, а затем член Совета пятисот; сначала примыкал к якобинцам, но впоследствии отошел от них.
(обратно)260
Робер Пьер-Франсуа-Жозеф (1762–1826) — деятель французской революции, демократический публицист, член Клуба кордельеров. Был членом Конвента; умер в изгнании.
(обратно)261
Кералио Луиза-Фелисите (1758–1821) — французская писательница либерального направления, жена Робера.
(обратно)262
Амар Жан-Пьер-Андре (1755–1816) — деятель французской революции, якобинец, член Конвента, комиссар Конвента в ряде департаментов, член Комитета общественной безопасности; во время термидорианской реакции был арестован, но затем освобожден; арестованный позже по делу Бабёфа, был освобожден. В дальнейшем отошел от политической деятельности.
(обратно)263
Руйе Жан-Паскаль (1761–1819) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, был комиссаром в ряде департаментов, был одним из вожаков термидорианской реакции, позже членом Совета пятисот. Во время реставрации Бурбонов был изгнан из Франции.
(обратно)264
Шенье Мари-Жозеф (1764–1811) — автор ряда революционных песен, поэт и драматург; деятель французской революции, член Конвента, якобинец; после переворота 9 термидора превратился в реакционера; был членом Совета пятисот.
(обратно)265
Панис Этьен-Жан (1757–1832) — деятель французской революции, якобинец, член Конвента.
(обратно)266
Шарантон — больница для умалишенных близ Парижа.
(обратно)267
Прайд — деятель английской революции XVII в., полковник английской армии, руководил по приказу Кромвеля чисткой Долгого парламента (6 декабря 1648 г.) от реакционно-монархических элементов. За этим последовали казнь Карла I и провозглашение Республики.
(обратно)268
Шалье Мари-Жозеф (1747–1793) — деятель французской революции, левый якобинец, вождь рабочих и бедноты Лиона, был казнен во время контрреволюционного переворота в Лионе.
(обратно)269
Женисье — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)270
Бурдон Леонар (1754–1807) — деятель французской революции, играл видную роль в восстании 10 августа 1792 г., член Конвента, якобинец, был комиссаром Конвента в Орлеане; участвовал в перевороте 9 термидора, однако после переворота был арестован, но затем освобожден. При Директории занимал некоторые второстепенные посты; в период Империи был начальником военных госпиталей.
(обратно)271
Топсан — деятель французской революции, член Конвента, морской офицер.
(обратно)272
Гупильо де Фонтенэ Жан-Франсуа (1755–1823) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, был комиссаром Конвента в Вандее; в 1816 г. был изгнан из Франции реакционным правительством Бурбонов; умер в изгнании.
(обратно)273
Лоран Лекуантр (1742–1805) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, был одним из организаторов переворота 9 термидора, позже был арестован, затем освобожден; был членом Совета пятисот, после переворота 18 брюмера отошел от политической деятельности.
(обратно)274
Дюгем Пьер-Жозеф (1758–1807) — деятель французской революции, врач, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец, был комиссаром Конвента в ряде департаментов и членом Комитета общественной безопасности; содействовал перевороту 9 термидора, но затем подвергся преследованиям. Позже занимал медицинские посты в армии.
(обратно)275
Сержан Антуан-Франсуа (1751–1847) — деятель французской революции, скульптор; был членом Конвента и членом его Комитета народного просвещения; после переворота 18 брюмера был арестован; впоследствии отошел от политической деятельности.
(обратно)276
Лекуантр-Пюираво Мишель-Матье (1764–1827) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, был комиссаром Конвента в Вандее и в некоторых других департаментах; был членом Совета пятисот; занимал некоторые посты в период консульства и империи; после второй реставрации Бурбонов был изгнан.
(обратно)277
Лендэ Жан-Батист-Робер (1746–1825) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец, член Комитета общественного спасения, был комиссаром Конвента в ряде департаментов, где проявил большую энергию; во время термидорианской реакции был арестован; был членом Совета пятисот; после переворота 9 термидора отошел от политической деятельности.
(обратно)278
Лебеф — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)279
Томас Пэйн (1737–1809) — английский публицист и политический деятель буржуазно-радикального направления. В 1776 г. опубликовал брошюру «Здравый смысл», которая сыграла большую роль в войне за независимость США. В 1791–1792 гг. издал книгу «Права человека», в которой восхвалял идеи французской революции. Переехал во Францию, где был избран членом Конвента.
(обратно)280
Ровер Жозеф (1748–1798) — деятель французской революции, выходец из дворянской аристократии, человек беспринципный и неустойчивый; член Законодательного собрания, затем член Конвента и Комитета общественной безопасности. Будучи комиссаром Конвента в провинции, преследовал демократов и занимался хищениями; участвовал в подготовке переворота 9 термидора; был арестован за связь с роялистами; позднее был членом Совета пятисот.
(обратно)281
Шарлье Луи-Жозеф (1754–1797) — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)282
Тальен Жак-Ламбер (1767–1820) — деятель французской революции, член Конвента; будучи комиссаром Конвента в Бордо, использовал служебное положение для личного обогащения, за что был исключен из Якобинского клуба. Принимал активное участие в перевороте 9 термидора; был одним из вожаков термидорианской реакции. В последние годы жизни отошел от политической деятельности.
(обратно)283
Термидорианец — участник переворота 9 термидора; 9 термидора (27 июля 1794 г.) — день контрреволюционного переворота, который положил конец существованию якобинской диктатуры и привел к казни вождей якобинцев. Буржуазная контрреволюция, которая началась в этот день, известна в истории под названием термидорианской (июль 1794 г. — октябрь 1795 г.). После роспуска термидорианского Конвента власть перешла к правительству Директории.
(обратно)284
Камбасерес Жан-Жак-Режи (1753–1824) — французский политический деятель, член Конвента, впоследствии был вторым консулом, а затем архиканцлером и князем наполеоновской империи.
(обратно)285
Лапланш — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)286
Тюрьо — деятель французской революции, член Конвента, якобинец.
(обратно)287
Бурдон из Уазы, Франсуа-Луи (умер в 1797 г.) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец, позже примкнул к противникам якобинской диктатуры и был одним из вожаков переворота 9 термидора (современники обвиняли его в том, что он нажил большое состояние на спекуляциях). В 1797 г. был арестован за контрреволюционную деятельность и сослан; умер в ссылке.
(обратно)288
Фэйо — деятель французской революции, член Конвента, якобинец.
(обратно)289
Таво Луи-Жозеф (1767–1830) — деятель французской революции, был членом Конвента, а позже членом Трибуната и Законодательного корпуса. После реставрации Бурбонов был изгнан из Франции.
(обратно)290
Вернье — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)291
Ревбель Жан-Франсуа (1747–1807) — деятель французской революции, был членом Учредительного собрания, членом Конвента, членом Директории и членом Совета пятисот. В период наполеоновского господства подвергался преследованиям за свои республиканские убеждения.
(обратно)292
Бурбот Пьер (1763–1795) — деятель французской революции, член Конвента, левый якобинец, исполнял обязанности комиссара в Вандее. После подавления прериальского восстания (май 1795 г.) был приговорен к смертной казни и пытался покончить жизнь самоубийством.
(обратно)293
Гимберто — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)294
Жард-Панвилье — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)295
Лекарпантье Жан-Батист (1760–1828) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец, принимал активное участие в качестве комиссара Конвента в борьбе против вандейского мятежа. После крушения якобинской диктатуры был арестован, позже освобожден. В 1819 г. был заключен в тюрьму, где и умер.
(обратно)296
Робержо Клод (1753–1799) — французский политический деятель, был членом Конвента, затем членом Совета пятисот и послом Французской республики в Гамбурге. Во время конгресса в Раштадте, созванного для переговоров о мире между Францией и Австрией, был вероломно убит (вместе с другим французским делегатом — Бонье) австрийскими солдатами.
(обратно)297
Левассер (из департамента Сарты) Рене (1747–1834) — деятель французской революции конца XVIII века, член Конвента, якобинец. Оставил исторические мемуары, которые были изданы в эмиграции (в Бельгии). Эти мемуары использовал К. Маркс в статье «Борьба якобинцев с жирондистами». После июльской революции 1830 г. Левассер возвратился во Францию.
(обратно)298
Ревершон Жак (1746–1828) — деятель французской революции, был членом Законодательного собрания, членом Конвента, членом Совета пятисот и членом Совета старейшин. Был одно время председателем Клуба якобинцев и секретарем Комитета общественной безопасности. После крушения якобинской диктатуры примкнул к термидорианцам. В период наполеоновского господства отошел от политической деятельности. После реставрации Бурбонов был изгнан из Франции; умер в Швейцарии.
(обратно)299
Мор (1761–1795) — деятель французской резолюции, член Конвента, якобинец, исполнял обязанности комиссара в Шампани; после подавления прериальского восстания покончил с собой, чтобы избежать суда.
(обратно)300
Бернар де Сент Адриан-Антуан (1750–1819) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, якобинец, исполнял обязанности комиссара в ряде департаментов; в 1795 г. был арестован; в 1816 г. изгнан из Франции.
(обратно)301
Шарль Ришар — деятель французской революции, был членом Конвента, в котором примыкал к правому крылу якобинцев (дантонистам).
(обратно)302
Лекинио Жозеф-Мари (1740–1813) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец, проявил большую энергию на посту комиссара в Вандее; после контрреволюционного переворота 9 термидора был арестован, но затем освобожден.
(обратно)303
Болото — так именовали современники фракцию Конвента, которая составляла ею большинство и поддерживала сначала жирондистов, потом якобинцев; фракция эта выражала интересы средних слоев буржуазии и зажиточного крестьянства; название «болото» укрепилось за этой фракцией оттого, что члены ее сидели на нижних скамьях зала заседаний.
(обратно)304
Дебри Жан-Антуан-Жозеф (1760–1834) — деятель французской революции, член Законодательного собрания, а затем член Конвента, якобинец; впоследствии примкнул к лагерю реакции, был префектом Первой империи; в 1816 г. был изгнан из Франции правительством Реставрации; после июльской революции 1830 г. возвратился на родину.
(обратно)305
Лаканаль Жозеф (1762–1845) — деятель французской революции, член Конвента и председатель его Комитета просвещения; проявил большую энергию в реорганизации дела народного образования. После второй реставрации был изгнан из Франции; вернулся на родину в 1832 г.
(обратно)306
Лантенас — деятель французской революции, член Конвента, занимавшийся вопросами начального обучения в школах.
(обратно)307
Ревельер-Лепо Луи-Мари (1753–1824) — французский политический деятель и ученый (ботаник). Был членом Учредительного собрания и членом Конвента, примыкал к жирондистам; позже был членом правительства Директории.
(обратно)308
Гюитон-Морво Луи-Бернар (1737–1816) — видный французский ученый (химик) и политический деятель; был членом Законодательного собрания, а затем членом Конвента и Комитета общественного спасения; содействовал своими научными знаниями укреплению обороноспособности революционной Франции в ее борьбе против европейской коалиции.
(обратно)309
Жан-Бон-Сент-Андре (1749–1813) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец, руководил в Комитете общественного спасения реорганизацией флота. В период Директории выполнял разные дипломатические поручения; был префектом ряда департаментов в период Консульства и Империи.
(обратно)310
Шапп — французский инженер, разработавший проект использования привязных аэростатов для целей военной разведки.
(обратно)311
Дюбоэ — деятель французской революции, член Конвента, занимавшийся приведением в порядок архивов.
(обратно)312
Коран-Фюстье — деятель французской революции, член Конвента, разрабатывавший проекты создания анатомического кабинета и музея естествознания.
(обратно)313
Гюйомар — деятель французской революции, член Конвента, занимавшийся разработкой плана речного судоходства и постройки плотин на реке Шельде.
(обратно)314
Безар — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)315
Рубенс Петер-Пауль (1577–1640) — знаменитый фламандский художник.
(обратно)316
Майль, Дельмас, Прожан, Калес, Эйраль, Жюльен, Дезаби — деятели французской революции, члены Конвента от департамента Верхней Гаронны, которые первыми произнесли приговор Людовику XVI; все они высказались за казнь свергнутого короля.
(обратно)317
Паганель Пьер (1745–1826) — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)318
Рафрон де Труйе Никола (1723–1801) — французский политический деятель, член Конвента, якобинец, после переворота 9 термидора примкнул к термидорианцам.
(обратно)319
Огюстен-Бон Робеспьер (1763–1794) — младший брат знаменитого вождя якобинцев, член Конвента; после переворота 9 термидора был казнен.
(обратно)320
Фусседуар — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)321
Бернарден де Сен-Пьер Жак-Анри (1737–1814) — французский писатель, естествоиспытатель и политический деятель. В литературе принадлежал к школе так называемого сентиментализма. Большой популярностью в буржуазно-демократических кругах пользовался его роман «Павел и Виргиния», написанный под влиянием идей Руссо.
(обратно)322
Лавиконтри Луи-Тома (1746–1809) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец, одно время был членом Комитета общественной безопасности; после переворота 9 термидора отошел от политической деятельности.
(обратно)323
Шатонеф-Рандон — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)324
Гийярден Луи (1758–1816) — деятель французской революции, член Учредительного собрания и член Конвента; был комиссаром Конвента при Мозельской и Рейнской армиях, а затем в западных областях Франции. В период Директории, Консульства и Империи не играл большой политической роли. В 1816 г. был изгнан из Франции, умер в изгнании.
(обратно)325
Жантиль — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)326
Карл Первый — английский король из династии Стюартов; во время буржуазной революции XVII века был свергнут и казнен (30 января 1649 г.).
(обратно)327
Кромвель Оливер (1599–1658) — вождь английской буржуазной революции XVII века, выдвинулся как генерал во время гражданской войны; в декабре 1653 г. был провозглашен лордом-протектором Англии и с этого времени правил фактически как диктатор; выражал интересы крупной буржуазии и нового дворянства; сурово подавлял революционные выступления народных масс.
(обратно)328
Банкаль (дез Иссар) Жак-Анри (1750–1826) — деятель французской революции, член Конвента, примыкал к фракции Болота; два года провел в плену в Австрии; позже был членом Совета пятисот.
(обратно)329
Альбуис — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)330
Занджиакоми — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)331
Дюшатель — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)332
Шенар, Нарбонн, Вальер — французские артисты (певцы) времен французской революции.
(обратно)333
Базир Клод (1764–1794) — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, примыкал к правому крылу якобинцев, возглавлявшемуся Дантоном, и был казнен вместе с ним (по обвинению в связях с крупными спекулянтами).
(обратно)334
Армонвиль Жан-Батист (1756–1808) — деятель французской революции, член Конвента (единственный рабочий среди его членов), якобинец. После свержения якобинской диктатуры вернулся к своей профессии ткача.
(обратно)335
Ламуретт Адриан (1742–1794) — деятель французской революции, конституционный монархист, епископ, добивавшийся примирения враждующих партий на основе взаимного всепрощения и братания («Ламуреттов поцелуй»).
(обратно)336
Легарди (из департамента Морбигана) — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)337
Барер Бертран (1755–1841) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец, после переворота 9 термидора был осужден на изгнание, но затем помилован. Во время реставрации Бурбонов снова был изгнан из Франции. Революция 1830 г. дала ему возможность вернуться во Францию.
(обратно)338
Оратория — один из политических клубов времен французской революции, объединявший умеренных либералов.
(обратно)339
Шатонеф — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)340
Лакло. — Имеется в виду французский писатель, публицист и политический деятель времен французской революции Шодерло де Лакло (1741–1803), автор романа «Опасные связи».
(обратно)341
Эро де Сешель Мари-Жан (1760–1794) — деятель французской революции, член Законодательного собрания, член Конвента, член Комитета общественного спасения, автор конституции 1793 г. Примыкал к правому крылу якобинцев, возглавлявшемуся Дантоном, и был казнен вместе с ним.
(обратно)342
Гамон Франсуа-Жозеф — деятель французской революции, член Законодательного собрания и член Конвента, близкий к жирондистам; уехал в Швейцарию, чтобы избежать преследований со стороны якобинских властей; в период термидорианской реакции возвратился во Францию и снова занял свое место в Конвенте. В последующие годы большой политической роли не играл.
(обратно)343
Лалуа — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)344
Гобель Жан-Батист-Жозеф (1727–1794) — деятель французской революции, член Учредительного собрания, был близок к якобинцам; в конце 1793 г. публично снял с себя сан епископа; был казнен по приговору Революционного трибунала за принадлежность к оппозиционной фракции эбертистов-шометтистов.
(обратно)345
Леконт Пьер (1745–1795) — деятель французской революции, член Конвента, комиссар в ряде департаментов; был убит во время народного восстания в мае 1795 г.
(обратно)346
Буасси д’Англа Франсуа-Антуан (1756–1826) — французский политический деятель, адвокат и литератор, член Учредительного собрания и член Конвента, в котором примыкал к Болоту. Был одним из вожаков термидорианской контрреволюции. Впоследствии был сенатором наполеоновской империи и получил титул графа. После реставрации Бурбонов стал членом палаты пэров.
(обратно)347
Дюпра Жан (1760–1793) — деятель французской революции, член Конвента, жирондист, был арестован и казнен. Его брат, Луи Дюпра, поссорился с ним. обвинив в покушении на его жизнь.
(обратно)348
Одуэн Жан-Пьер (1764–1808) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец, член Совета пятисот, позже занимал различные административные и дипломатические посты.
(обратно)349
Рюан Пьер-Шарль (1750–1808) — деятель французской революции, член Конвента, якобинец, был комиссаром в ряде департаментов; после подавления народного восстания в Париже в апреле 1795 г. был арестован, но затем освобожден. После этого он отошел от политической деятельности.
(обратно)350
Буонарроти Филипп (1761–1837) — итальянский и французский революционер, уроженец Корсики, в 1792 г. переселился во Францию; якобинец, активный участник заговора Бабёфа и ею историк (в 1828 г. он опубликовал книгу «История заговора равных»).
(обратно)351
Фельяны (иначе: фельянтинцы) — политическая партия во время французской революции, выражавшая интересы умеренно-либеральной верхушки буржуазии; название этой партии объясняется тем, что ее главной опорой являлся клуб, заседавший в бывшем монастыре ордена фельянов (или фельянтинцев).
(обратно)352
Модерантисты (умеренные) — так называли во время французской революции жирондистов и других представителей правых партий.
(обратно)353
Террористы — так контрреволюционеры называли якобинцев.
(обратно)354
Прюнель (Прюнель-Льер) Лемар-Жозеф (1748–1828) — деятель французской революции, член Конвента.
(обратно)355
Виллар Ноэль-Габриэль-Люк (1748–1826) — деятель французской революции, член Конвента, епископ, сложивший свой сан в 1793 г.; позже был сенатором наполеоновской империи.
(обратно)356
Бутру Лоран (1757–1816) — деятель французской революции, член Конвента, позже член Совета пятисот.
(обратно)357
Тибодо Антуан-Клэр (1765–1854) — французский политический деятель, член Конвента, примыкал к Болоту; позже был членом Совета пятисот; во время наполеоновского режима был префектом, членом Государственного совета; после реставрации Бурбонов был изгнан из Франции; после июльской революции возвратился на родину; во время Второй империи получил звание сенатора.
(обратно)358
«Монитер», т. XIX, с. 81. (Прим. автора.)
(обратно)359
Массад, Трюллар, Нион, Марсе, Паррен, Мильер — комиссары Конвента в провинции, принимавшие участие в борьбе против контрреволюционных мятежей в 1793–1794 гг.
(обратно)360
Сенека Луций Анней (родился ок. 54 г. до н. э. — умер ок. 39 г. н. э.) — знаменитый древнеримский философ, историк и литератор; покончил с собой по приказу императора Нерона, заподозрившего его в заговоре против правительства.
(обратно)361
Пюизэ Жозеф, граф де (1754–1827) — французский офицер-монархист, один из главных руководителей вандейского мятежа, оставил мемуары.
(обратно)362
Фокар — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)363
Кельты — группа племен, близких друг к другу по языку и материальной культуре, обитавших в течение долгого времени в Западной Европе, на территории от среднего течения Рейна и верховьев Дуная до Роны. Впоследствии они переселились во Францию и заняли Бретань и Бельгию, северную часть Испании, Англию и Ирландию, позже — часть Италии и некоторые другие области Европы, а также Малой Азии. Во всех занятых ими областях кельты постепенно сливались с жившими там народами. В Северной Италии, Северной Испании и Галлии (Франции и Бельгии), после покорения этих областей римлянами, кельты романизировались и утратили свой язык.
(обратно)364
Камбиз — второй царь Древней Персии (Ирана), сын Кира, покорил Африку. С дикой жестокостью расправлялся со своими врагами. Покончил жизнь самоубийством.
(обратно)365
Вестерман — французский генерал, участник войн против европейской коалиции и борьбы против вандейских мятежников.
(обратно)366
Друиды — название жрецов у древних кельтов.
(обратно)367
Тевтат — один из главных богов у древних кельтов (бог войны).
(обратно)368
Цезарь Гай Юлий (100–44 гг. до н. э.) — политический деятель, полководец и историк в Древнем Риме; захватив государственную власть, правил в качестве диктатора; был убит группой заговорщиков-сенаторов, выражавших интересы высшей земельной знати.
(обратно)369
Пьер Моклерк — герцог бретонский (1213–1237), неоднократно восстававший против королевской власти ради сохранения политической автономии Бретани. Потерпев поражение, вынужден был передать управление Бретанью своему сыну. Участвовал в крестовом походе Людовика IX и был вместе с ним взят в плен. Умер в 1250 г.
(обратно)370
Блуа — древний французский графский род, владевший большими землями в Бретани; впоследствии владения этого рода перешли к роду герцогов Шатильон; последний потомок этого рода продал свои владения герцогу Людовику Орлеанскому (1391 г.). При короле Людовике XII территория Блуа была присоединена к землям короны.
(обратно)371
Монфор Симон, де (1206–1265) — английский политический деятель, в 1263–1265 гг. правил Англией в качестве протектора. При нем впервые в Англии был создан парламент, в который были допущены и представители городов.
(обратно)372
Рене II, виконт де Роган (1550–1586) — французский аристократ, участник гражданских войн XVI века, командовал войсками гугенотов в крепости Ла-Рошаль.
(обратно)373
Севинье Мари, маркиза де (1626–1696) — известная французская писательница; ее письма к дочери представляют собой ценный исторический источник.
(обратно)374
Троглодиты — общее название народов и племен древности, стоявших на крайне низком культурном уровне, живших в землянках и пещерах.
(обратно)375
Гугеноты — название протестантов (кальвинистов) во Франции, утвердившееся с 50-х годов XVI в.; главной опорой их являлись некоторые группы дворянства и некоторые слои торговой буржуазии, а также часть крестьянства (особенно на юге). Борясь за свободу вероисповедания, гугеноты боролись и против королевского абсолютизма, жестоко расправлявшегося с ними.
(обратно)376
Тайефер — один из вожаков вандейских мятежников.
(обратно)377
Гуж ле Брюан — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)378
Куртилье — один из вожаков вандейских мятежников.
(обратно)379
Господин Жак — прозвище одного из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)380
Бернар де Вильнев — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)381
Шарль де Буагарди — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)382
Шальбос — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)383
Кокро — один из вожаков вандейских мятежников.
(обратно)384
Боэтиду — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)385
Пюизэ. Т. II, с. 35. (Прим. автора.)
(обратно)386
Ределер (Азли) — один из предводителей вандейских мятежников.
(обратно)387
Сапино, де (1736–1793) — один из главных предводителей вандейских мятежников, был убит в бою; среди руководителей мятежа был и его племянник, Шарль-Анри де Сапино (1760–1829).
(обратно)388
Сепо Мари-Поль-Александр, виконт де (1769–1821) — один из главных руководителей вандейских мятежников.
(обратно)389
Тристан Отшельник — один из вожаков вандейских мятежников.
(обратно)390
Аббат Бернье — один из вожаков вандейских мятежников.
(обратно)391
Форэ — один из вожаков вандейских мятежников.
(обратно)392
Шуп — один из вожаков вандейских мятежников.
(обратно)393
Нансиа — один из агентов французской дворянской эмиграции конца XVIII и начала XIX в.
(обратно)394
Мелине Франсуа (1738–1793) — французский политический деятель и промышленник, был членом Конвента, в котором примыкал к жирондистам.
(обратно)395
Пюизэ. Т. II, с. 35. (Прим. автора.)
(обратно)396
Дюгесклен Бертран (1314–1380) — видный французский военачальник, выходец из бретонского дворянства, отличился своей храбростью во время Столетней войны между Францией и Англией.
(обратно)397
Роже Мулинье — один из вожаков вандейских мятежников.
(обратно)398
Шевалье де Бовилье — один из вожаков вандейских мятежников.
(обратно)399
Вимпфен Феликс, барон де (1745–1814) — французский генерал и политический деятель, участник войн второй половины XVIII в. Во время гражданской войны 1793–1794 гг. командовал армией, созданной жирондистами для борьбы против якобинской диктатуры. После того как эта армия была разбита войсками Конвента, Вимпфен скрывался вплоть до переворота 18 брюмера.
(обратно)400
Федералисты — так якобинцы называли жирондистов за то, что они стремились ослабить политическую централизацию Франции и противопоставляли Парижу, центру революции, провинциальные города (особенно Южной и Западной Франции), на которые они стремились опереться в борьбе против якобинской диктатуры.
(обратно)401
Ла Лозер — деятель французской революции, член Конвента, жирондист.
(обратно)402
Горса Антуан-Жозеф (1751–1793) — деятель французской революции, публицист; был членом Конвента, примыкал к жирондистам; вел ожесточенную борьбу против Марата; пытался поднять Нормандию и Бретань против якобинской диктатуры; был казнен по приговору Революционного трибунала.
(обратно)403
Мейян — деятель французской революции, член Конвента, жирондист.
(обратно)404
Дюшатель — деятель французской революции, член Конвента, жирондист.
(обратно)405
Вильгельм Телль — согласно народной легенде начала XIV в., швейцарский крестьянин, отказавшийся поклониться шляпе австрийского эрцгерцога, повешенной на площади города Альторфа. В наказание за это императорский наместник Гесслер приказал ему стрелять в яблоко, положенное на голову его сына; Вильгельм Телль сбил яблоко, не задев головы сына. Заключенный в тюрьму, он бежал из нее, подстерег Гесслера и убил его.
(обратно)406
Сократ (ок. 469–399 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, считавший, что главной задачей познания является самопознание, и признававший тремя основными добродетелями умеренность (знание, как обуздывать страсти), храбрость (знание, как преодолевать опасность) и справедливость (знание, как соблюдать божественные и человеческие законы).
(обратно)407
Никола́ Рапэн (1540–1608) — французский поэт и политический деятель, одно время был правителем Бретани и отстаивал ее самостоятельность от центральной (королевской) власти.
(обратно)408
Франсуа де Лану (1531–1591) — французский военачальник и политический деятель; один из руководителей партии гугенотов; участник гражданских войн XVI в.; выходец из Бретани, пользовался большим влиянием в этой провинции.
(обратно)409
Больше чем гражданская война (лат.).
(обратно)410
Своими глазами видел вчера дьявола (старофранц.).
(обратно)411
Скорбящая (лат.).
(обратно)412
Святой Варнава повелел серпу жать траву (лат.).
(обратно)413
Глас в пустыне (лат.).
(обратно)414
В демоне — бог (лат.).
(обратно)415
Я завидую, — завидую, потому что они покоятся (лат.).
(обратно)416
…Мирабо дал свободу… — Граф Оноре-Габриэль де Мирабо (1749–1791) — один из видных деятелей начального этапа французской революции 1789–1793 гг. (см. прим. к стр. 118). Гюго переоценивал его роль для революции в целом.
(обратно)417
«Письмо к издателям стихотворений Доваля».
(обратно)418
Пусть старые правила д’Обиньяка умирают вместе со старым обычным правом Кюжаса… — Аббат д’Обиньяк в своей книге «Практика театра» (1669) один из первых во Франции сформулировал правило «трех единств» (места, времени, действия), неуклонно соблюдавшееся в драматургии классицизма. Жак Кюжас (XVI в.) — французский ученый-юрист, считавшийся крупнейшим авторитетом в области римского права.
(обратно)419
«Полный сборник романсов» (исп.).
(обратно)420
…«Romancero» («Романсеро»)… «Сида», «Дона Санчо», «Никомеда»… — «Романсеро» — сборник испанских народных песен («романсов»), изданный впервые в XVI в.; он послужил одним из источников сюжета корнелевской трагедии «Сид» (1636) и вдохновил Виктора Гюго на некоторые его произведения. «Дон Санчо Арагонский» (1650) и «Никомед» (1651) — трагедии Корнеля.
(обратно)421
Прервались повсюду работы, брошена, крепость стоит!.. (лат.) — «Энеида» Вергилия, IV, 88–89.
(обратно)422
…по моде времен Изабеллы Католической — то есть по устаревшей моде; испанская королева Изабелла Католическая царствовала в 1475–1504 гг., тогда как действие «Эрнани» происходит в 1519 г.
(обратно)423
…король Кастилий… — Различались две Кастилии: Старая (северная) и Новая (южная). Названия эти сохранились и после того, как обе эти области административно слились между собой, войдя в состав общенационального испанского государства.
(обратно)424
Пока Бернард и Сид не покидали нас… — Бернадо дель Карпио и Сид — легендарные национальные герои Испании, борцы за свободу родины, носители идеалов чести и душевного благородства.
(обратно)425
Максимилиана нет… — Речь идет о деде Карла I.
(обратно)426
Франциск. — Имеется в виду французский король Франциск I (1494–1547), который, как и курфюрст саксонский Фридрих III Мудрый (1463–1525), был соперником Карла I в борьбе за императорскую корону.
(обратно)427
Я Гента гражданин. — Карл I родился во Фландрии, в городе Генте, где и получил воспитание.
(обратно)428
Сказал Людовику мой дед… — Имеется в виду французский король Людовик XII.
(обратно)429
По булле, избранным не может быть чужой. — Так называемая «Золотая булла» (1356) императора Карла IV, с целью устранить вмешательство пап в избрание германского императора, устанавливала, что избирателями должны быть лишь крупнейшие светские и духовные князья немецких земель.
(обратно)430
…ношу я Индии… венец?.. Из всех Испаний ты — их у меня четыре, — что хочешь выбирай! — В начале XVI в. в состав испанской державы входили: Испания, Южная Италия (включая Сицилию), Нидерланды и владения в Южной Америке, которая тогда называлась Индией.
(обратно)431
…знал Борджа, Сфорцу я и Лютера встречал, — но все ж такого я не видел преступленья… — Миланский герцог Лодовико Сфорца (1451–1508) и Цезарь Борджа (1474–1507), незаконный сын папы Александра VI Борджа, были широко известны своими предательствами, насилиями и убийствами. Мартин Лютер (1483–1546), основатель немецкого протестантизма, в глазах правоверного католика дона Руй Гомеса является воплощением ереси и безнравственности.
(обратно)432
…как в день семи голов… — По средневековому народному сказанию, семеро братьев, благородных юношей из кастильского рода Лара, были предательски завлечены своим дядей в засаду и убиты маврами. Позже сводный брат погибших, Мударра, отомстил за них предателю. Это предание о «Семи инфантах Лары» составило сюжет эпической поэмы и многих романсов.
(обратно)433
Сант-Яго был магистр и Калатравы… — Сант-Яго и Калатрава — два рыцарских ордена, основанных в XII в. в Испании преимущественно для борьбы с захватившими многие земли страны маврами.
(обратно)434
Карл Великий (лат.).
(обратно)435
В ней ставка — жизнь моя. — Намерение участников Лиги убить Карла I — вымысел Гюго.
(обратно)436
Примас — почетный титул некоторых архиепископов, имевших особый авторитет и права.
(обратно)437
Трибуле — придворный шут французских королей Людовика XI и Франциска I, упоминаемый в хрониках того времени и в книге Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», где он назван «глупомудрым». Гюго сделал этот персонаж героем своей драмы «Король забавляется» (1832).
(обратно)438
Я назван был на «ты»… — Обращение на «ты» со стороны короля, как выражение особой близости, было исключительной привилегией грандов Испании, так же как право находиться в присутствии короля с покрытой головой.
(обратно)439
Жан Тритем (или Тритемий, ум. в 1518 г.) — немецкий историк и богослов, занимавшийся также магией. Упомянутый ниже Корнелий Агриппа из Неттесгейма (ум. в 1535 г.) — немецкий алхимик, натурфилософ и медик.
(обратно)440
Живут в них оба Рима — то есть могущество античного императорского Рима и нового папского Рима.
(обратно)441
К трону. — Узкими путями (лат.).
(обратно)442
…весь мир — и Римская священная корона. — «Священная Римская империя германской нации» была основана еще в X в. как союз папской и императорской власти при фактическом подчинении лапы германскому императору. Последний претендовал на роль «светского главы всего христианского мира», почему его империя и называлась «священной».
(обратно)443
Мы Валтасаровы слова пришли писать… — Согласно библейской легенде, последний вавилонский царь Валтасар, осажденный персами в своем дворце, устроил пир, во время которого невидимая рука начертала на стене огненные слова, возвещавшие гибель царя и его царства. В ту же ночь пророчество исполнилось.
(обратно)444
Золотое руно — орден, введенный в Испании Карлом V, золотая цепь с подвешенным к ней изображением барана.
(обратно)445
…уплаты ищет Рим, пора смирить датчан, Франциск, Венеция, там Лютер, Сулейман… — Карлу V действительно пришлось сразу же после избрания его императором вступить в борьбу с многочисленными противниками — с папой, требовавшим непомерных церковных податей, с Лютером, подрывавшим устои католицизма, с датским королем Христианом II, поддерживавшим протестантизм, с французским королем Франциском I — главным его политическим антагонистом в Европе, с купеческим государством Венецией — опаснейшим конкурентом в торговле со странами Средиземноморского бассейна. Борьба Карла V с турецким султаном Сулейманом II относится к более позднему времени.
(обратно)446
Там, где кончается мир (лат.).
(обратно)447
…Саламандры огонь и Ундины душа. — По представлениям средневековых алхимиков. Саламандра — это дух, обитающий в огне. Ундина — фольклорный образ, водяная дева.
(обратно)448
Мутанабби (915–965) — арабский поэт, панегирист и сатирик.
(обратно)449
Сегре Жан, де (1624–1701) — французский поэт, автор пасторальных «Эклог».
(обратно)450
Небесный огонь. — Согласно библейскому сказанию, города Содом и Гоморра, в наказание за разврат и пороки, были сожжены огнем и серой, пролитыми на них с неба богом.
(обратно)451
Командуй же, Фавье! — Фавье Шарль-Никола (1773–1855) французский генерал, связанный с республиканцами-карбонариями. Эмигрировал из монархической Франции в Лондон, собрал там трехтысячный отряд французов-добровольцев и отправился с ними в Грецию на помощь освободительному движению.
(обратно)452
Без надежды надеялась (исп.).
(обратно)453
Хуан Лоренсо Сегура де Асторга. — Очевидно, имеется в виду маркиз де Асторга, один из авторов «Кансионеро» — сборника испанских народных песен, изданного в Валенсии в 1511 г.
(обратно)454
Перевод М. Лозинского.
(обратно)455
Пустите приходить ко мне детей. — Иисус (лат.).
(обратно)456
«Друзья, скажу еще два слова…» — В этом стихотворении дается картина разгула реакции в Европе в 1815–1830 гг., после организации Священного союза европейских держав для борьбы с революционным и национально-освободительным движением.
(обратно)457
…Лиссабон на пытку страшную тираном обречен… — В 1823 г. войска Священного союза жестоко подавили буржуазно-демократическое движение в Португалии, где с начала XIX в. не прекращалась борьба против монархии, инквизиции и национального порабощения сперва Францией, потом Англией.
(обратно)458
…что над Ирландией распятой — ворон вьется… — После необычайно жестокого подавления восстаний 1798 и 1803 гг. Ирландия окончательно потеряла национальную независимость, была присоединена к Великобритании и доведена английской колониальной политикой до крайней нищеты и разорения.
(обратно)459
…что в лапах герцога, хрипя, Модена бьется… — В 1831 г. в итальянском городе Модене произошло народное восстание против ненавистного австрийского гнета. Эрцгерцог Франц IV бежал в Австрию, но вскоре восстание было потоплено в крови.
(обратно)460
…что Дрезден борется с ничтожным королем… — Под впечатлением французской июльской революции в 1831 г. произошло восстание в Саксонии; народ Дрездена сжег здание полиции; саксонский король вынужден был обещать конституцию.
(обратно)461
…что сызнова Мадрид объят глубоким сном… — По распоряжению Веронского конгресса Священного союза стотысячная французская армия была брошена на подавление испанской революции 1820 г.; в 1823 г. она вторглась в Испанию, заняла Мадрид, и начался кровавый террор. Абсолютизм был восстановлен.
(обратно)462
…и жертвой падает венецианский лев… — Купеческая республика Венеция, когда-то богатая и могущественная, попала в 1815 г., как и вся Италия, под австрийское иго. На гербе Венеции было изображение крылатого льва.
(обратно)463
…что в дрему погружен Неаполь… — Республиканское восстание 1820 г. в Неаполе, возглавленное тайным обществом карбонариев, было подавлено в марте 1821 г. австрийскими войсками, которые восстановили на юге Италии абсолютизм.
(обратно)464
…Альбани Катона заменил… — Кардинал Джузеппе Альбани, папский легат в Болонье, был известен кровавым подавлением болонского республиканского восстания 1831–1832 гг.; Марк Порций Катон Младший (95–46 гг. до н. э.), древнеримский трибун, боровшийся против Цезаря, лишил себя жизни, не желая пережить падения республики.
(обратно)465
…что под ярмом бредет бельгийский лев, как вол… — В 1815 г. Священный союз отдал Бельгию под власть Голландии, присоединив ее к Нидерландскому королевству, (В 1830–1831 гг. Бельгия добилась независимости.)
(обратно)466
Канарису. — Канарис Константин (1790–1877) — капитан на судах греческого флота, один из выдающихся деятелей освободительной войны против турецкого ига. Во главе нескольких храбрецов Канарис подплывал на брандере к турецким кораблям и поджигал их: в 1822 г. сжег адмиральский корабль турок и принудил их флот отступить от греческих островов, в 1824 г. таким же образом спас остров Самос, в 1825 г. пытался сжечь союзный туркам египетский флот. Греческий народ поднес Канарису лавровый венок.
(обратно)467
Твой Мемнон онемел… — Мемнон — персонаж античной мифологии, сын гиганта Тифона и богини утренней зари Авроры. По преданию, его колоссальная статуя близ Фив, при первом прикосновении луча солнца, издавала мелодичные звуки, как бы приветствуя мать свою — зарю.
(обратно)468
О Лауры певец!.. — Сонеты Франческо Петрарки (1304–1374) обращены к героине его любовной лирики Лауре.
(обратно)469
Воклюз — городок на юге Франции, близ Авиньона, где одно время жил Петрарка.
(обратно)470
[Встает] с океана ночь (лат.). — Конец 250-го стиха книги второй «Энеиды» Вергилия («Движется между тем небосвод, с океана встает ночь»).
(обратно)471
Последнее слово (лат.).
(обратно)472
…и бога своего… вновь продает Сибур. — Сибур Мари-Доминик-Огюст (1792–1857) с 1848 г. был архиепископом Парижским. Поддержал Луи-Бонапарта.
(обратно)473
Перед возвращением во Францию. — Гюго вернулся во Францию, после девятнадцатилетнего изгнания, 5 сентября 1870 г., в момент крушения Второй империи, когда прусские войска подходили к Парижу. Стихотворение «Перед возвращением во Францию», написанное 31 августа, было опубликовано в качестве поэтического предисловия к первому парижскому изданию «Возмездия».
(обратно)474
…сменил Катона Тигеллином… — Катон — см. прим. к стр. 555. Тигеллин Софроний (I в.) — временщик римского императора Нерона, был участником его оргий, отличался крайней жестокостью; считается виновником пожара в Риме в 64 г. Предчувствуя падение Нерона, изменил ему; приговоренный к смертной казни, покончил жизнь самоубийством в 69 г.
(обратно)475
Ювенал Децим Юний (ок. 60 — ок. 140 гг.) — римский поэт, сатирик, со страстью обличавший пороки современного ему общества.
(обратно)476
…И в ужасе застыл, встав соляным столпом… — Согласно библейскому сказанию, при истреблении Содома, бог велел ангелам вывести из обреченного города праведника Лота с женой и дочерьми. При этом им запрещено было оборачиваться. Но жена Лота ослушалась, взглянула на Содом и обратилась в соляной столп.
(обратно)477
В минуты первые я как безумец был… — Стихотворение написано под впечатлением большого личного горя, пережитого поэтом, — гибели его любимой дочери Леопольдины, которая утонула вместе с мужем, катаясь на лодке. Эта драма нашла отражение в целом ряде стихотворений, включенных в «Созерцания»; некоторые из них приводятся в наст. томе.
(обратно)478
И мычание быков (лат.). — Слова из «Георгик» Вергилия (книга II).
(обратно)479
О, пропасти Эреба! — Эреб (или Анд) — подземное царство мертвых (греч. миф.).
(обратно)480
«Вкус уксуса какой?» — «А как на вкус цикута?» — По евангельской легенде о распятии Христа, римские воины, когда он, томимый жаждой, просил пить, подали ему вместо воды уксус. Древнегреческий философ Сократ (470–399 гг. до н. э.), обвиненный в дурном влиянии на юношество, был приговорен выпить чашу с ядом цикуты.
(обратно)481
…и говорит Руссо: «Ввысь человек идет»… «Вниз», — говорит де Местр. — Великий философ-просветитель Жан-Жак Руссо (1712–1778) утверждал, что человек по природе добр и ему следует только освободиться от пороков, привитых ему несправедливо устроенным обществом. Де Местр Жозеф (1753–1821) — реакционный политический писатель, ярый поборник монархии и светской власти папы, считал, что человек навсегда отмечен первородным грехом, а потому нуждается в политической и духовной узде. Де Местр яростно полемизировал с исходившей от Руссо идеей народовластия («Рассуждение о Франции», 1795; «О папе», 1819).
(обратно)482
Гению этой книги (лат.).
(обратно)483
Te Deum — Тебе, господи (лат.).
(обратно)484
Беркен Арно (1749–1791) — французский писатель, автор нравоучительных сочинений для детей и юношества.
(обратно)485
…лишь с Кампистроном не дружи. — Кампистрон Жан-Жильбер (1656–1723) — второстепенный драматург школы классицизма, упомянут как символ бездарности.
(обратно)486
Лагарп и Буало надутый… — Буало Никола (1636–1711) — главный теоретик французского классицизма; Лагарп Жан-Франсуа (1739–1803) — посредственный драматург и литературный критик, автор «Курса литературы» (1799) — настольной книги эпигонов классицизма.
(обратно)487
Ворона, Ветошь, Хрюшка, Тряпка — шуточные прозвища, которые Людовик XV дал своим четырем дочерям.
(обратно)488
Горе. — Это стихотворение (как и следующее, «Похороны») связано с безвременной смертью сына поэта, Шарля Гюго. Виктор Гюго хоронил сына в день провозглашения Парижской коммуны, и коммунарам пришлось разбирать баррикады на парижских улицах, чтобы пропустить похоронную процессию.
(обратно)489
Подобно Иову… — По библейской легенде, Иов безропотно стерпел всевозможные бедствия и тяжкие испытания, ниспосланные ему богом.
(обратно)490
Пепита. — В этом стихотворении отразились далекие воспоминания детства, когда поэт, мальчиком, сопровождал своего отца — тогда генерала наполеоновской армии — в военный поход в Испанию.
(обратно)491
…и над Парижем Рим раскинет нетопыриные крыла. — Намек на одну из основных идей Жозефа де Местра (см. прим. к стр. 604) о светской власти папы.
(обратно)492
…измыслил некий Реймс… — В реймском соборе венчались на царство, начиная с XIII в., французские короли.
(обратно)493
…в одном венчает королей Бональд, в другом де Местр умело канонизует палачей. — Французский реакционный политический писатель виконт Луи де Бональд (1754–1840) в книге «Теория политической и религиозной власти» (1796) и других сочинениях высказался за неограниченную власть монархии в союзе с церковью. Жозеф де Местр в своих сочинениях прославлял палача как необходимую и полезную в монархическом государстве фигуру.
(обратно)494
Совесть. — В этом стихотворении Гюго развивает библейский сюжет о Каине, сыне Адама, убившем своего брата Авеля и проклятом за это богом (Иеговой).
(обратно)495
Надпись. — В 1868 г. археологами была найдена надпись на монументе, воздвигнутом древним моавским царем Мешой в память победы над Иудеей.
(обратно)496
Я Меша, Кема сын… — Кем (точнее, Кемош или Камош) — главный моавский бог.
(обратно)497
…за Астарту в бой победоносный шел… — Астарта, так же как упоминаемые ниже Бел (Ваал) и Дагон, — вавилонские божества.
(обратно)498
…Гад-Омри гнал, владыку Иудеи. — Омри или Амврий (X в. до н. э.) — израильский царь, долгое время притеснявший Моав и завоевавший его северную часть. Как следует из упоминаний в Библии и из «надписи Меши», был разбит последним. Гад — одно из семитских племен, живших в древности к востоку от Иордана.
(обратно)499
Дибон — один из городов, подвластных Гаду.
(обратно)500
…мощь моя всех в Нево истребила… — Нево — гора, упоминаемая в Библии; такое же название носит один из городов, согласно «надписи Меши», отвоеванных им у Омри. Та же надпись гласит, что Меша умертвил в честь бога Кемоша всех жителей другого захваченного им города — Ахаба.
(обратно)501
Кассандра, Клитемнестра. — В трагедии Эсхила «Агамемнон» (из трилогии «Орестея») царь Агамемнон, вернувшийся домой после победы греков над Троей, привез с собою пленницу, троянку Кассандру, наделенную пророческим даром; в темных исступленных речах она предсказывает убийство Агамемнона неверной женой его, царицей Клитемнестрой, и свою собственную гибель от руки царицы; все это скоро сбывается.
(обратно)502
Песнь Софокла при Саламине. — Древнегреческий поэт-трагик Софокл (496–406 гг. до н. э.) юношей принимал участие в сражении при Саламине (480 г. до н. э.), где афиняне разбили персов.
(обратно)503
Достиг я возраста эфеба… — Эфеб — в Древней Греции — юноша, который получал право сражаться вместе с взрослыми воинами.
(обратно)504
Аттила (V в.) — предводитель гуннов.
(обратно)505
Архилох (VII в. до н. э.) — древнегреческий поэт.
(обратно)506
Ареопаг — высший орган власти в древних Афинах.
(обратно)507
…будили отзвук битв в пустынях Палестины… — Речь идет о крестовых походах XI–XIII вв.
(обратно)508
…для Архилоха был опорой ямб хромой… — Поэт Архилох прославился своими сатирическими «ямбами» и даже считался создателем этого жанра.
(обратно)509
…услышал Еврипид стенания инцеста — то есть кровосмешения; намек на преступную страсть Федры к своему пасынку Ипполиту в трагедии Еврипида «Ипполит Увенчанный».
(обратно)510
Альцест — герой комедии Мольера «Мизантроп» (1666).
(обратно)511
Арнольф — персонаж комедии Мольера «Школа жен» (1662) — богатый старик, женившийся на молоденькой девушке Агнесе, которая его обманывает.
(обратно)512
…а Марло разглядел… бесовский шабаш… — Намек на «Трагедию о докторе Фаусте» английского драматурга эпохи Возрождения Кристофера Марло (1563–1593), представляющую собою одну из ранних литературных обработок народной легенды о Фаусте.
(обратно)513
…Улисс угадывал за прялкою Ахилла. — По древнегреческому мифу, мать Ахилла, зная о его трагической судьбе, спрятала юношу среди дочерей царя Ликомеда переодетым в женское платье. Но хитрый Одиссей (Улисс) под видом купца проник во дворец, и Ахилл, выбрав среди его товаров не наряды, а меч, выдал себя этим.
(обратно)514
…как Гектора вкруг стен безжалостно влачить. — В «Илиаде» рассказывается, как, мстя за своего друга Патрокла, Ахилл убил в сражении троянского героя Гектора и, привязав его тело к своей колеснице, влачил вокруг стен осажденного города.
(обратно)515
…к вам, Александры, к вам, охотники Нимроды… — Имеются в виду Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.) и легендарный халдейский царь Нимрод — жестокий тиран, упоминаемый в Библии; там он назван «могучим охотником перед господом».
(обратно)516
Аларих I (ум. в 410) — вестготский король, разграбивший восточные государства и разоривший Рим.
(обратно)517
Кир — персидский царь (558–529 гг. до н. э.), жестокий завоеватель.
(обратно)518
Аттила, Борджа — вы могуществом равны. — Борджа, Александр VI, — папа римский (1492–1503), известный своими честолюбивыми устремлениями и многочисленными злодеяниями.
(обратно)519
…злоба Боссюэ и фанатизм Лойолы. — Боссюэ Жак-Бенинь (1627–1704) — французский богослов и церковный оратор, причастный к кровавым преследованиям гугенотов; идеолог абсолютизма и католической реакции. Лойола Игнатий (1491–1556) — испанский католик-мракобес, основатель ордена иезуитов.
(обратно)520
Кайафа — по евангельскому преданию, иудейский первосвященник, осудивший на смерть Иисуса Христа.
(обратно)521
Торквемада Тома (1420–1498) — основатель испанской инквизиции. Гюго изобразил его в своей поздней драме («Торквемада», 1882).
(обратно)522
Нерон и Петр людей двойным ярмом согнут… — Речь идет о политическом деспотизме, олицетворенном в Нероне, и о гнете христианской церкви, символом которого является главный католический святой, апостол Петр.
(обратно)523
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 38, с. 367.
(обратно)524
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 34, с. 37.
(обратно)525
Старый порядок (франц.).
(обратно)526
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, издание второе, т. 37, с. 126.
(обратно)527
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, издание второе, т. 10, с. 431.
(обратно)
![Волынщики [современная орфография]](https://www.4italka.su/images/articles/508530/primary-medium.jpg)
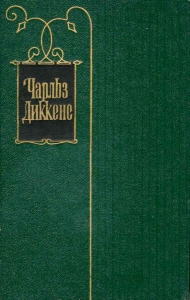

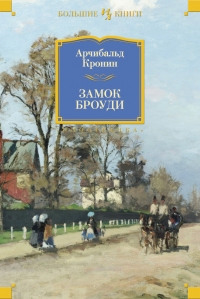
Комментарии к книге «Девяносто третий год. Эрнани. Стихотворения», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев