Грэм Грин Последнее слово
1
Старик почти совсем не удивился — он привык к необъяснимому, — когда какой-то человек дал ему паспорт на чужое имя и визу в страну, в которую он не думал и не хотел ехать. Он и впрямь был очень старым и пообвыкся с тихой, одинокой жизнью, без людей и без общения, даже нашел в ней какое-то счастье. У него была комната, там он и спал и жил, и кухонька, и ванная. Раз в месяц приходило маленькое пособие — он не знал, откуда оно, а на жизнь хватало. Возможно, это было связано с несчастным случаем, который много лет назад лишил его памяти. Помнил он только резкий звук, вспышку и долгую тьму, полную смутных снов. Проснулся он в этой самой комнатке.
— В аэропорт вас доставят двадцать пятого, — сказал незнакомец, — посадят в самолет. Там, куда вы летите, вас встретят, есть и жилье. Будет лучше, если в полете вы не станете ни с кем беседовать.
— Двадцать пятого? Сейчас декабрь, да? — Ему было трудно следить за временем.
— Конечно, декабрь.
— Тогда это Рождество.
— Рождество отменили двадцать с лишним лет тому назад. После вашей беды.
Человек ушел, а он все думал, как же это можно отменить день. Оставшись в одиночестве, он поднял глаза к маленькому деревянному распятию над кроватью, словно ожидал ответа. Перекладина креста была отломана сбоку, не хватало одной руки — он нашел распятие два (или три?) года назад, на помойке, общей с соседями, которые никогда с ним не говорили. Сейчас он спросил вслух: «А Тебя? Тебя тоже отменили?» — и отсутствующая рука вроде бы ответила: «Да». Они ведь общались, помнили что-то вместе.
А вот с соседями он не общался. С тех пор как он пришел в себя здесь, он ни с кем не говорил, чувствуя, что они этого боятся, словно знают о нем то, чего не знает он. Быть может, они знали о преступлении, совершенном тогда, до тьмы. Еще был человек на улице, уже не сосед, его каждый день сменяли, он тоже ни с кем не говорил, даже со старушкой сверху, которая любила посплетничать. Как-то, на улице, она произнесла имя — не то, которое стояло в паспорте, — и глянула искоса на них обоих, на него и на этого человека. Имя обычное.
Однажды — может, потому, что долгий дождь сменился ясной погодой, — старик, отправляясь за хлебом, сказал человеку: «Благослови вас Бог, дорогой», а тот заморгал, как от внезапной боли, и резко отвернулся. Старик пошел, купил хлеб, он больше им и питался и давно заметил, что его провожают в булочную. Все это было довольно странно, но не очень страшно. Как-то он сказал единственному собеседнику:
— Наверное, они хотят оставить нас с Тобой одних.
Он даже радовался, словно когда-то, во тьме забытых лет, нес непосильное бремя, а теперь освободился.
Пришел день, который он по-прежнему считал Рождеством; пришел и незнакомец.
— Я за вами, — сказал он, — отвезу вас в аэропорт. Вещи сложили?
— Вещей у меня мало, а чемодана и совсем нет.
— Схожу куплю.
Незнакомец ушел, старик завернул распятие в единственную кофту. Когда принесли чемодан, он положил его туда и прикрыл двумя рубашками.
— Это у вас все?
— В мои годы нужно немного.
— А что в карманах?
— Книжка.
— Дайте посмотрю.
— Зачем?
— Так приказано.
Он выхватил книгу прямо из рук, посмотрел на титульный лист.
— Это нельзя. Как вы ее достали?
— Она у меня с детства.
— Почему не отобрали в больнице? Придется сообщить.
— Никто не виноват. Я ее спрятал.
— Вы были без сознания. Прятать не могли.
— Наверное, они отвлеклись, спасали меня.
— Преступная халатность.
— Кажется, кто-то спрашивал, что это. Я не солгал. Я сказал, что это — из древней истории.
— Запрещенной истории. Придется сжечь.
— Это не так уж важно, — сказал старик. — Вы почитайте сперва немного, сами увидите.
— Не буду. Я верен генералу.
— Да, вы правы. Верность — великая добродетель. Вы не беспокойтесь, я за эти годы ее мало читал. Самое любимое — здесь, в голове, а ее вы не сожжете.
— Не зарекайтесь, — сказал незнакомец и больше ничего не говорил до самого аэропорта, а там все изменилось.
2
Офицер в форме поздоровался так учтиво, что старику показалось, будто он снова где-то в далеком прошлом. Он даже отдал честь. Он сказал:
— Генерал просил пожелать вам приятного путешествия.
— Куда вы меня везете?
Офицер не ответил, он спросил штатского:
— Это весь багаж?
— Да, только я книжку забрал.
— Покажите, — офицер взглянул на титул. — Да, конечно, так приказано, но можете ее вернуть. Особые обстоятельства. Он — гость генерала, да и вообще, какой от нее теперь вред?
— По закону...
— Закон может отстать от жизни.
Старик спросил иначе:
— Какая это линия?
— Вы тоже отстали от жизни, сэр. Теперь одна линия — Объединенная Всемирная.
— Сколько всего переменилось!
— Не волнуйтесь, время перемен позади. Все тихо, спокойно, всюду мир. Менять ничего не нужно.
— Куда вы меня везете?
— Просто в другую область. Четыре часа лёту. Это — самолет генерала.
Самолет был удивительный. В большом салоне стояли широкие кресла, всего для шести человек, причем раскладные, кресла-кровати; через открытую дверь старик увидел ванну (он не видел их много лет, у него был только душ), и ему очень захотелось пролежать эти четыре часа в теплой воде. Между креслами и кабиной был бар. Стюард, чуть ли не кланяясь, предлагал напитки всех наций, если можно говорить о нациях в этом объединенном мире. Даже небогатый вид старика не уменьшал угодливости. Наверное, этот стюард вел себя так со всеми гостями генерала.
Офицер сел поодаль, словно хотел оставить в покое его и эту запрещенную книгу, но ему был нужен более глубокий покой. Он очень устал от тайн: почему он жил в той комнатке, откуда получал деньги, почему летит теперь в такой роскоши, да еще с ванной?.. Как нередко бывало, ум его шел по следу памяти, но она резко прервалась, когда раздался треск и наступила тьма. Сколько же этому лет? Он словно прожил их под общим наркозом, теперь просыпался. Вдруг ему стало страшно — что он вспомнит, если проснется в этом частном роскошном самолете? Он решил почитать, книга открылась сама на любимом стихе, который он знал и так: «В мире был, и мир Его не узнал»[1].
Стюард произнес над ухом:
— Икорки, сэр? Рюмочку водки? Бокал сухого вина?
Не отрываясь от привычной страницы, он сказал:
— Нет, спасибо. Я не хочу ни пить, ни есть.
Стюард отодвинул бокал и рюмку, зазвенело стекло, он что-то вспомнил. Рука сама словно бы положила что-то на стол, и он увидел перед собой много людей, склонивших головы, но тут раздался треск и наступила тьма...
Разбудил его голос стюарда:
— Пристегните ремень, сэр. Через пять минут посадка.
3
Другой офицер ждал у трапа и повел его к большой машине. Вся эта учтивость, вежливость, роскошь напомнили о чем-то. Он больше не удивлялся, словно когда-то давно так бывало. Рука сама собой поднялась, как бы отталкивая что-то, губы сами произнесли: «Я — слуга слуг...» Фраза оборвалась, когда стукнула дверца.
Они ехали по улицам, где никого не было, разве что очереди у редких лавок. Он снова начал: «Я слуга...» У гостиницы ждал управляющий. Он поклонился и сказал:
— Я горжусь, что у нас остановится гость генерала. Надеюсь, мы угодим вам во всем. Любое ваше желание...
Старик удивленно оглядел четырнадцать этажей и спросил:
— Сколько вы меня тут продержите?
— Номер заказан на одну ночь.
Офицер поспешил вмешаться:
— Генерала вы увидите завтра. Он хочет, чтобы вы как следует отдохнули.
Старик порылся в памяти и вспомнил имя. Воспоминания возвращались к нему кусками.
— Генерал Мегрим?
— Ну что вы! Генерал Мегрим скончался лет двадцать тому назад.
Швейцар поклонился ему. Портье подносил ключи. Офицер сказал:
— Я вас покину, а завтра утром зайду за вами ровно в одиннадцать. Генерал ждет вас в одиннадцать тридцать.
Управляющий проводил его до лифта.
Когда они оба ушли, портье спросил офицера:
— Кто он такой? Гость генерала? Судя по одежде, небогат.
— Он Папа.
— Папа? А что это? — спросил портье, но офицер не ответил.
4
Когда управляющий оставил его, он понял, как устал, но все-таки с любопытством оглядел комнату, даже пощупал пышную перину на большой двуспальной кровати. Открыл дверь в ванную, увидел какие-то бутылочки. Распаковал он только деревянную фигурку и приладил у зеркала, на столике. Одежду бросил на стул, потом — лег, словно повинуясь приказу. Если бы он хоть что-то понял, он бы, наверное, не заснул, а так, не понимая, утонул в перине — и тут же явился сон. То, что он увидел во сне, он запомнил не полностью.
Он видел, что стоит в каком-то огромном сарае, перед десятком-другим людей. На одной стене висело искалеченное распятие, без руки, совсем как то, которое он прятал в чемодане. Он что-то говорил и не запомнил что, потому что все слова были на каком-то забытом или незнакомом языке — может, и не на одном. Сарай сжимался, пока не стал таким, как его комнатка, и перед ним, стариком, опустилась на колени старушка, а рядом была девочка, она стояла и смотрела на него с презрением, словно хотела сказать: «Ничего не разберу! Нельзя ли как-нибудь по-человечески?»
Проснулся он, мучительно ощущая, что провалился, потерпел поражение, и тщетно пытался вернуться в сон, чтобы сказать девочке что-нибудь понятное. Он даже подыскивал слова. «Pax»[2], — произнес он вслух, но слово это было для нее чужеземным, как и для него. Он попытался еще: «Любовь», вроде вышло лучше, но все же как-то плоско, да и неоднозначно, и он догадался, что толком не понимает этого слова. Еще неизвестно, любил ли он хоть кого-нибудь. Может быть, до странного треска и тьмы что-то такое и было... Но если любовь и впрямь что-то значила, он бы хоть что-то запомнил.
Невеселые мысли прервал слуга, принес кофе, какие-то хлебцы, рогалики, он таких не видел в булочной, где покупал единственную свою еду.
— Полковник просил напомнить, — сказал слуга, — что он придет в одиннадцать и отвезет вас к генералу. Одежда в шкафу. Если вы забыли в спешке бритву, губку или мыло, все в ванной.
— Моя одежда на стуле, — сказал он и улыбнулся слуге. — Я все ж не голый приехал.
— Мне приказали ее убрать, все нужное здесь, — слуга показал на шкаф.
Старик смотрел, как забирают его брюки и кофту, носки и рубашку, и думал, далеко не впервые, что пора бы все это постирать. Раньше он не хотел тратиться на чистку, ведь его видели только булочник да тот, кто за ним следил, соседи старались на него не смотреть, даже улицу перебегали. Другим положено ходить в чистом, но он на людях не бывал.
Слуга ушел, он постоял без брюк, размышляя о том, как все таинственно. Тут в дверь постучали и вошел офицер, который его привез.
— Что ж это вы не одеты, ничего не ели! Генерал ждет ровно в назначенное время.
— Слуга все унес.
— Ваша одежда в шкафу. — Он распахнул дверцу, старик увидел белый стихарь[3], белый плащ и сказал:
— Как же это?.. Нет... Я не имею права...
— Генерал хочет оказать вам честь. Он будет в полной форме. Вас встретит почетный караул. Наденьте форму и вы.
— Форму?
— Одевайтесь поскорее. И побрейтесь. Вероятно, вас будут снимать для газет. Для Объединенного Всемирного Агентства.
Он послушно стал бриться, от растерянности порезался. Потом неохотно надел белые одежды. Посмотрелся в зеркало на дверце шкафа, испугался:
— Да я совсем как священник.
— Вы и были священником. Этот костюм предоставил вам Всемирный мифологический музей. Протяните руку...
Он послушался, начальство — это начальство. Офицер надел кольцо ему на палец.
— Музей не хотел давать перстень, — сказал он, — но генерал приказал им. Такой случай не повторится. Прошу вас, идите за мной.
Когда они уже выходили, офицер заметил на столике деревянную фигурку и сказал:
— Как же вам разрешили?
Старик никого не хотел подводить.
— Я очень хорошо это спрятал, — сказал он.
— Ладно. Музей с удовольствием возьмет.
— Я бы и сам сохранил...
— Навряд ли вам это понадобится после встречи с генералом.
5
Они ехали по странным, пустым улицам до большой площади. Перед каким-то бывшим дворцом стояли солдаты. Машина остановилась. Офицер сказал:
— Здесь мы выйдем. Не пугайтесь. Генерал хочет оказать вам почести как бывшему главе государства.
— Государства? Я не понимаю...
— Прошу, вот сюда.
Старик наступил бы на свой подол, если бы офицер не взял его под руку. Когда он выпрямился, раздался треск, он чуть не упал. Треск был такой, как тогда, перед долгой тьмой, только в десять раз громче. Голова у него просто раскололась, и в трещину ворвались воспоминания... «Не понимаю», — повторял он.
— Это в вашу честь.
Он посмотрел вниз и увидел подол одежды. Посмотрел на свою руку и увидел перстень. Лязгнула сталь. Солдаты приветствовали его.
6
Генерал учтиво поздоровался с ним и сразу перешел к делу.
— Прежде всего поймите, — сказал он, — что я никак не причастен к покушению. Один из моих предшественников, генерал Мегрим, допустил серьезную ошибку. Такие ошибки нередки, когда завершаются революции. У нас ушло лет сто, чтобы создать всемирное государство и установить всеобщий мир. Генерал, собственно, боялся вас и ваших немногочисленных последователей.
— Меня?
— Да. Вы поймите, ваша церковь вызвала немало войн. А мы, наконец, с войной покончили.
— Но вы вот генерал. Я видел там солдат.
— Они охраняют всеобщий мир. Возможно, еще лет через сто их не станет, как не стало вашей церкви.
— А ее нет? Я ведь давно ничего не помню.
— Вы — последний живой христианин. Для истории это не шутка! Поэтому я и решил почтить вас в конце концов.
Генерал взял коробку с сигаретами:
— Не выкурите ли со мной сигарету, Папа Иоанн? Ах ты, забыл — какой! Двадцать девятый, да?
— Простите, я не курю. Почему вы назвали меня Папой?
— Последний Папа, но все же Папа. — Генерал зажег сигарету. — Поймите, мы ничего не имеем против вас. Вы занимали высокий пост. Цели наши нередко бывали похожи, у нас вообще немало общего. Отчасти поэтому генерал Мегрим счел вас опасным врагом. Пока за вами хоть кто-то шел, вы представляли, так сказать, альтернативу. А пока есть альтернатива, есть и война. Я не согласен с генералом. Стрелять в вас тайком, когда вы... как это у вас говорят?
— Молился?
— Нет, нет. Была какая-то публичная церемония, теперь ее запретили.
Старик растерялся.
— Месса? — спросил он.
— Да, да, кажется, так. Плохо то, что вы могли стать мучеником, а это бы надолго задержало осуществление нашей программы. Конечно, там и десяти человек не было, на этой — как это у вас? — да, мессе. Однако метод рискованный. Преемник генерала это понял, и сам я придерживался той же линии. Мы вас не убили. Мы не разрешали прессе даже случайно упоминать ни о вас, ни о вашей уединенной жизни.
— Простите, не совсем понимаю. Я ведь только начал что-то вспоминать. Когда ваши солдаты стреляли вот сейчас...
— Мы сохранили вам жизнь, потому что вы — последний вождь тех, кто еще именовал себя христианами. Остальные сдались без особых трудностей. Ну и названия — свидетели Иеговы[4], лютеране[5], англикане[6], кальвинисты[7]! Они отмирали, одни за другими. Ваши назывались католиками, словно они представляют всех разом[8], хотя на самом деле со многими они сами боролись. По-видимому, вы первыми как-то сорганизовались и считали, что вы — последователи этого еврейского плотника[9].
— Как же у Него рука сломалась? — сказал старик.
— Рука?
— Простите, задумался.
— Мы не трогали вас, потому что у вас еще были последователи и потому, что цели наши совпадали иногда. Мир во всем мире, борьба с бедностью. Одно время мы могли вас использовать. Вы разрушали идею национальных стран ради чего-то более общего. Вы уже не были опасны, вот почему действия генерала Мегрима не нужны, по крайней мере, преждевременны. Теперь у вас нет последователей, папа Иоанн. За вами строго следили двадцать лет, ни один человек не пытался связаться с вами. У вас нет власти, а мир — един, войны — в прошлом. Теперь вы уже не враг, вас нечего бояться. Я искренне вам сочувствую, тяжело и скучно жить так годами. В сущности, вера — как старость, она не может длиться вечно. Коммунизм состарился и умер, империализм — тоже. Умерло и христианство, оно живо только для вас. Наверное, вы были неплохим папой, и я бы хотел избавить вас от такого жалкого прозябания.
— Спасибо. Мне было не так уж плохо. Со мной был друг, мы беседовали.
— Что вы такое говорите? Там никого не было. Даже за хлебом вы ходили один.
— Он ждал меня дома. Жаль только, рука у Него сломана.
— Ах, вы об этой деревянной фигурке! Мифологический музей охотно ее возьмет. Однако поговорим о серьезных делах, не о мифах. Видите, я кладу на стол револьвер. Я не люблю бессмысленных страданий. Вас я уважаю, я — не генерал Мегрим и хочу для вас достойной смерти. Все-таки последний христианин! Да, историческая минута.
— Вы хотите меня убить?
— Вот именно.
Старик не испугался, ему стало легче.
— Вы отправите меня туда, — сказал он, — куда я очень хотел попасть все эти годы.
— Во тьму?
— Нет, тьма — не смерть. Я был во тьме, там просто нет света. А вы отправляете меня в свет. Спасибо.
— Я надеялся, вы разделите со мной последнюю трапезу. Это как бы символ: те, кто рождены враждовать, примирились в конце концов.
— Вы уж простите, я не голоден. Делайте свое дело.
— Хотя бы выпейте со мной вина, папа Иоанн.
— Спасибо. Вина выпью.
Генерал наполнил бокалы. Когда он пил, рука его чуть-чуть подрагивала. Старик поднял бокал, словно приветствуя кого-то, и тихо произнес несколько слов, которых генерал толком не расслышал, на каком-то незнакомом языке: «Corpus Domini nostri»[10]. Когда последний враг-христианин стал пить, генерал выстрелил.
Пуля еще не долетела, и странное, страшное подозрение поразило его: а вдруг то, во что верит этот старик, — правда?
Примечания
1
«В мире был, и мир Его не узнал». — Искаж. строка из Евангелия от Иоанна, I, 10: «В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал».
(обратно)2
Мир (лат.).
(обратно)3
Стихарь — длинное, с широкими рукавами священническое облачение.
(обратно)4
Свидетели Иеговы, точнее «Общество свидетелей Иеговы» — христианская секта.
(обратно)5
Лютеране — последователи лютеранства, крупнейшей разновидности протестантизма (по имени Мартина Лютера; 1483 — 1546), главы Реформации в Германии.
(обратно)6
Англикане — последователи англиканской церкви, государственной церкви Великобритании, возникшей в XVI в. в результате освобождения из-под власти Римской курии. Англиканство — разновидность протестантства, но ближе к католичеству, чем другие протестантские церкви.
(обратно)7
Кальвинисты — последователи кальвинизма, французской разновидности протестантства.
(обратно)8
Katholikos (греч.) — всеобщий, вселенский.
(обратно)9
...этого еврейского плотника. — Имеется в виду Иосиф, отец Иисуса Христа.
(обратно)10
Тело Господа нашего (лат.).
(обратно)


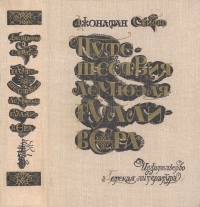
Комментарии к книге «Последнее слово», Грэм Грин
Всего 0 комментариев