Джером Клапка Джером О ВЕЛИКОЙ ЦЕННОСТИ ТОГО, ЧТО МЫ НАМЕРЕВАЛИСЬ СДЕЛАТЬ Эссе
Jerome Klapka Jerome. «On the Exceptional Merit Attaching To the Things We Meant To Do». Из сборника «Еще праздные мысли». («The Second Thoughts of an Idle Fellow», 1898)Я помню многое, в том числе и такое, что относится к далекому прошлому. Конечно, я не надеюсь, что ты, благосклонный читатель, только еще вступающий в цветущую пору жизни, в тот возраст, который беспечная молодежь называет средним, вспомнишь вместе со мною время, когда больший спросом пользовался некий журнал, именуемый «Мастер-любитель». Цель у него была благородная. Он стремился проповедовать высокую идею независимости, распространять превосходное учение о самопомощи. В одной главе читателю разъяснялось, как банки из-под австралийских мясных консервов превратить в горшки для цветов; в другой главе — как превратить кадку из-под масла в вертящийся табурет для рояля; в третьей — как использовать старые шляпные картонки для устройства жалюзи, — принцип всей системы заключался в том, чтобы изготовлять все что угодно из вещей, для этого не предназначенных и как нельзя более неподходящих.
Целых две страницы, как я твердо помню, были посвящены восхвалению подставок для зонтиков, сделанных из старых газовых труб. Не могу представить себе предмет, более непригодный для хранения шляп и зонтов, чем газовая труба; но, если бы таковой существовал, автор, я уверен, уже подумал бы о нем и порекомендовал его своим читателям.
Рамки для картин можно было смастерить из пробок от имбирного пива. Набрали пробок, нашли картину — и дело сделано. Количество имбирного пива, которое требовалось выпить прежде, чем приступить к изготовлению каждой рамы, а также действие, производимое этим напитком на физическое, психическое и моральное состояние изготовителя, — все это не интересовало журнал. По моим подсчетам, для картины среднего размера потребовалось бы шестнадцать дюжин бутылок. Еще неизвестно, сохранится ли у человека малейшая охота делать раму для картины после выпитых им шестнадцати дюжин бутылок, да и не перестанет ли ему нравиться сама картина. Но это, конечно, вопрос второстепенный.
Одному моему знакомому — молодому человеку, сыну садовника моей сестры, как мог бы выразиться бессмертный Олледорф[1], — удалось осилить достаточное количество имбирного пива, чтобы вставить в рамку своего дедушку, но результат был малоутешительным. В самом деле, жена садовника, и та не была удовлетворена.
— Что это за пробки вокруг отца? — было ее первым вопросом.
— Разве ты не видишь, — отвечал сын с некоторым возмущением, — это — рамка.
— Но почему же пробки?
— Потому что в книге сказано — пробки.
Однако слова его не произвели впечатления на почтенную женщину.
— Это теперь и на отца-то не похоже, — со вздохом сказала она.
Ее первенец пришел в негодование: ведь никто у нас не любит критики!
— Так на что же это, по-твоему, похоже? — буркнул он.
— Да уж не знаю. По-моему, ни на что, кроме пробок.
Почтенная женщина была совершенно права. Возможно, картины некоторых художников только выиграли бы от подобного обрамления. Я своими глазами видел приглашение на похороны, которому пробковая рамочка придавала почти веселый вид. Но, вообще говоря, в результате рамка подавляла то, что в ней заключалось. Наиболее честные и не лишенные вкуса изготовители таких рам сами были вынуждены с этим согласиться.
— Да, смотреть на это противно, — сказал мне один из них, когда мы, стоя посреди комнаты, рассматривали его произведение. — Но приятно сознавать, что сделал это собственными руками.
Такое соображение, как я заметил, примиряет нас и со многим другим, помимо пробковых рамок.
Другой мой знакомый, тоже молодой человек — ибо, надо признать, советами и указаниями «Мастера-любителя» пользовалась по преимуществу молодежь: ведь с возрастом постепенно утрачиваешь смелость и прилежание, — итак, этот молодой человек соорудил кресло-качалку, согласно инструкциям «Мастера-любителя», из двух пивных бочонков. Со всех практических точек зрения, то была плохая качалка. Она качалась слишком сильно и в слишком многих направлениях одновременно. Я полагаю, что человек, сидящий в качалке, не расположен качаться беспрерывно, наступает минута, когда он решает: «Ну, пока достаточно, теперь надо немножко посидеть спокойно, чтобы со мной не приключилось чего-нибудь дурного». Но это была одна из тех упрямых качалок, которые таят опасность для человеческого рода и вредят самим себе. Она была убеждена, что ее призвание — качаться и что, не качаясь, она зря тратит драгоценное время. Стоило ей прийти в движение, ничто уже не могло ее остановить — и ничто никогда не останавливало, пока она не опрокидывалась, накрывая собой сидевшего в ней человека. Только это и могло отрезвить ее.
Как-то я пришел в гости, и меня проводили в гостиную, где некоторое время я оставался один. Качалка призывно кивнула мне. Я никак не предполагал, что она была созданием любителя. Я был молод тогда, верил в людей и воображал, что если они и могут браться за дело без знания и опыта, то все же не найдется такого глупца, который стал бы производить эксперименты с качалкой.
Я уселся в нее легкомысленно и беззаботно. И тотчас же потолок мелькнул у меня перед глазами. Я инстинктивно подался вперед. На миг в рамке окна возникли лесистые холмы, взлетели кверху и исчезли. Ковер пронесся передо мною, и я увидел свои собственные башмаки, скрывающиеся подо мною со скоростью около двухсот миль в час. Я сделал судорожное усилие вернуть их. Но, очевидно, перестарался. Я увидел вдруг сразу всю комнату: четыре стены, потолок и пол одновременно. Это было нечто вроде видения. На моих глазах пианино опрокинулось, и снова мои башмаки, подметками кверху, промчались мимо, на этот раз у меня над головой. Никогда не доводилось мне наблюдать, чтобы мои башмаки заполняли собою все пространство. В следующее мгновение я их потерял из виду и остановил головою ковер, который как раз проносился мимо. В тот же миг что-то сильно ударило меня в поясницу. Опомнившись, я предположил, что моим противником, по всем данным, была качалка.
Расследование подтвердило эту догадку. К счастью, я все еще находился один в гостиной и поэтому спустя несколько минут был в состоянии приветствовать хозяйку со спокойным достоинством. Я ни словом не обмолвился про качалку. По правде говоря, я предвкушал удовольствие дождаться прихода другого гостя и посмотреть, как он будет знакомиться с ее особенностями: я с умыслом поставил ее на самом видном и удобном месте. У меня хватило бы выдержки промолчать, однако поддакивать хозяйке, когда она стала расхваливать качалку, было выше моих сил. Я был слишком раздражен всем тем, что перенес.
— Вилли сделал ее сам, — сообщила любящая мамаша. — Не правда ли, очень ловко?
— О да, ловко, — отвечал я, — вполне согласен с вами.
— А ведь он смастерил ее из старых пивных бочонков, — продолжала она с нескрываемой гордостью.
Моя злость, как ни пытался я сдержаться, все возрастала.
— Неужели? — сказал я. — Полагаю, он мог бы найти для них более удачное применение.
— Какое же? — спросила она.
— Да любое! — ядовито заметил я. — Он мог бы опять наполнить их пивом.
Хозяйка посмотрела на меня изумленно. Я чувствовал, что моя позиция нуждается в объяснении.
— Видите ли, — начал я, — это кресло несовершенно по своей конструкции. Полозья чересчур малы и чересчур круто изогнуты, а кроме того, один из них, если вы заметили, выше другого и меньше в диаметре; спинка расположена под слишком тупым углом. Когда садишься в кресло, то центр тяжести…
Хозяйка перебила меня.
— Вы уже сидели в качалке! — догадалась она.
— Очень недолго, — заверил я ее.
Она изменила тон. Стала оправдываться.
— Мне так жаль, ведь с виду она кажется очень хорошей.
— С виду, конечно, — согласился я, — в этом и проявляется ловкость вашего милого сына. Привлекательный вид усыпляет все подозрения. Ведь такое кресло, если пользоваться им с толком, могло бы служить действительно полезной цели. У нас есть общие знакомые — я не называю имен, но вы знаете, о ком идет речь, — чванные, самодовольные, надменные люди, которых можно было бы исправить с помощью этой качалки. Я бы, на месте Вилли, замаскировал ее механизм какой-нибудь художественной драпировкой, положил бы в виде приманки парочку особенно соблазнительных подушек и получил бы таким образом возможность насаждать в людях скромность и искоренять самонадеянность. Я утверждаю, что, выбравшись из этой качалки, никто не будет чувствовать себя таким важным, как прежде. Произведение милого мальчика может служить автоматически действующим прибором, показывающим, сколь преходяще земное величие. Как средство нравственного воздействия, эта качалка призвана доказывать, что нет худа без добра.
Хозяйка слабо улыбнулась, — боюсь, что только из вежливости.
— Мне кажется, вы слишком строги, — сказала она. — Если принять во внимание, что мальчик в первый раз взялся за такую работу, что у него нет ни знаний, ни опыта, — то, право же, это не так плохо.
С такой точкой зрения я вынужден был согласиться. Мне не хотелось настаивать на том, что молодым людям как раз и нужно приобрести знания и опыт, прежде чем браться за трудное дело: ведь эта теория так непопулярна.
Однако на первом месте у «Мастера-любителя» была пропаганда ящиков из-под яиц как «материала для самодельной мебели. Почему ящиков из-под яиц — этого я никогда не мог понять, но именно ящики из-под яиц были предписаны «Мастером-любителем» в качестве основы домашнего существования. При наличии достаточного количества ящиков из-под яиц и того, что «Мастер-любитель» называл «врожденной сноровкой», любая молодая чета могла смело приступить к меблировке квартиры. Из трех ящиков получался письменный стол; еще один ящик служил вам рабочим креслом; по бокам, тоже в ящиках из-под яиц, размещались книги — и вот кабинет ваш был полностью обставлен.
Что касается столовой, то два ящика из-под яиц служили красивой полкой для камина; четыре ящика и кусок зеркала вполне заменяли буфет, меж тем как шести ящиков, небольшого количества ваты и какого-нибудь ярда кретона достаточно было, чтобы обставить так называемый «уютный уголок». Насчет «уголка» не могло быть никаких сомнений: вы садились на угол, вы прислонялись спиною к углу, вы при любом движении натыкались на какой-нибудь новый угол. Но уют?.. Допускаю, что ящики из-под яиц могут быть полезны. Даже готов допустить, что они могут служить для украшения, но для уюта — никогда! Я ознакомился с ящиками из-под яиц во всех видах. Я говорю о минувших днях, когда весь мир и мы сами были моложе, когда нашим богатством было наше будущее: полагаясь на него, мы без колебаний основывали семейный дом при таких доходах, которые человеку с меньшими надеждами на будущее показались бы совершенно недостаточными. В таких обстоятельствах, не будь ящиков из-под яиц или чего-либо в том же стиле, нам приходилось бы ограничиваться строго-классическим убранством — дверным пролетом в сочетании с архитектурными пропорциями.
Мне приходилось, как почетному гостю, с субботы до понедельника вешать свою одежду в ящики из-под яиц. На ящик я садился, на ящик ставили передо мной чашку чая. Я ухаживал за дамами, сидя на ящиках. Да, чтобы опять почувствовать, как молодая кровь течет у меня в жилах, я бы согласился сидеть на одних только ящиках из-под яиц до тех пор, пока меня не погребли бы в каком-нибудь ящике из-под яиц, поставив надо мной еще один ящик, в виде надгробного памятника. Немало вечеров просидел я на ящиках из-под яиц. Ящики из-под яиц служили мне постелью. В том, что у них есть достоинства, я получил твердое убеждение, и это не каламбур, но провозглашать их уютными — значит просто обманывать людей.
Как необычны были эти комнаты, обставленные самодельной мебелью! Их очертания возникают у меня перед глазами из туманной дымки прошлого. Я вижу бугристый диван; кресла, достойные изобретательности самого Великого Инквизитора; скамью, всю в выбоинах, которая ночью служит постелью; несколько голубых тарелок, приобретенных где-нибудь в трущобах, неподалеку от Уордер-стрит; крашеную табуретку, к которой почему-то всегда прилипаешь; зеркало в раме из шелка; два японских веера, скрещенных под какой-нибудь дешевой гравюрой; чехол для пианино, на котором сестра милой Энни вышила павлиньи перья; скатерть работы Дженни, кузины. Сидя на ящиках из-под яиц, мы мечтали — ведь мы были молодые леди и джентльмены с художественными запросами — о тех днях, когда будем обедать в столовой «чиппендель», потягивать кофе в гостиной стиля Людовика XIV — и будем счастливы.
Что ж, с тех пор мы, как любил говорить мистер Бампус, преуспели — по крайней мере некоторые из нас. Как я убеждаюсь (бывая в гостях у своих друзей), некоторые из нас достигли того, что мы действительно сидим на чиппенделевских стульях за шератоновскими обеденными столами и греемся у камина работы Адама. Но, увы, где же теперь мечты и восторженные надежды, овевавшие нас, подобно благоуханию мартовского утра, среди убогого убранства третьих этажей? Боюсь, мечты эти покоятся в мусорной куче вместе с ящиками из-под яиц, обитыми кретоном, и грошовыми веерами. Судьба так ужасающе беспристрастна. Одно дает, зато другое отнимает. Она бросала нам несколько шиллингов и надежды на будущее, теперь же она оделяет нас фунтами стерлингов и страхами. Почему мы не сознавали своего счастья, когда, увенчанные приятной самонадеянностью, сидели на своих тронах — ящиках из-под яиц?
Да, Дик, ты высоко вскарабкался. Ты редактируешь большую газету. Ты распространяешь сообщения… ну, такие сообщения, которые твой хозяин сэр Джозеф Банкнот приказывает тебе распространять. Ты учишь человечество всему тому, чему сэр Джозеф Банкнот велит учить. Говорят, в будущем году он получит звание пэра. Я уверен, он заслужил его; и тебе, Дик, быть может, перепадет титул баронета.
Том, ты сейчас идешь в гору. Ты распрощался со своими аллегориями, не находящими спроса. Какой богатый меценат захочет на стенах собственного дома видеть постоянные напоминания о том, что у Мидаса ослиные уши, что Лазарь по-прежнему лежит у ворот? Теперь ты пишешь портреты, и все кругом называют тебя многообещающим художником. Портрет «Импрессия леди Джезебел» прямо-таки великолепен. Ее милость вышла на портрете вполне красивой, а вместе с тем это она. Твоя кисть поистине творит чудеса.
Но посреди этих шумных успехов, Том, Дик, старый друг, не вкрадывается ли иногда в твое сердце желание выудить из прошлого те старые ящики из-под яиц, опять обставить ими убогие комнаты в Кемден-Таун и вновь обрести там нашу юность, нашу любовь и нашу веру?
Недавний случай напомнил мне обо всем этом. Я в первый раз пришел в гости к одному знакомому актеру, который пригласил меня в свою квартирку, где он живет со стариком отцом. Я думал, что повальное увлечение самодельной мебелью давно прошло, — и каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что этот дом наполовину обставлен упаковочными коробками, бочками из-под масла и ящиками из-под яиц! Мой приятель зарабатывает не меньше двадцати фунтов в неделю, но, как он мне объяснил, все эти самодельные чудовища — конек его старого отца; и тот гордится ими, словно это экспонаты из Южно-Кенсингтонского музея[2]. Он привел меня в столовую показать очередного урода — новый книжный шкаф. Трудно себе представить, чем бы можно было сильней обезобразить комнату, вообще говоря, очень мило обставленную. Новый шкаф представлял собою не что иное, как несколько ящиков из-под яиц, о чем и сообщил мне мой приятель, — впрочем, пояснения были излишни. Каждый мог убедиться с первого взгляда, что это именно ящики из-под яиц, и притом плохо сделанные, настоящий позор для выпустившей их фирмы, ящики, не годные даже для самых скверных яиц, по шиллингу за полторы дюжины.
Мы с хозяином дома поднялись к нему в спальню. Он открыл дверь так, словно мы входили в музей античных гемм.
— Все, что вы здесь увидите, — предупредил он, стоя на пороге, — старик сделал собственными руками, все без исключения.
Мы вошли. Он обратил мое внимание на гардероб.
— Теперь я его придержу, — сказал он, — а вы открывайте дверцу; мне кажется, пол здесь не совсем ровный, шкаф немного шатается.
Несмотря на все предосторожности, шкаф покачнулся, но, ублажая его и приноравливаясь к его характеру, мы достигли цели без всяких неприятных происшествий. Я с удивлением заметил, что в шкафу было очень мало костюмов, хотя мой приятель любит одеться.
— Видите ли, — объяснил он, — я стараюсь по возможности обходиться без него. Я не отличаюсь ловкостью, и, кто его знает, в спешке я мог бы обрушить все на себя.
Последнее было весьма вероятно.
Я спросил, как же он выходит из положения.
— Я обычно одеваюсь в ванной, — ответил он. — Там я храню почти всю одежду. Конечно, старик ничего не подозревает.
Он показал мне комод. Один ящик был наполовину выдвинут.
— Приходится держать его открытым, — сказал хозяин, — в нем-то и хранится все необходимое. Ящики плохо закрываются, или, вернее сказать, закрываются они хорошо, но уж тогда их никак не откроешь. Я думаю, это из-за погоды. Летом, конечно, они будут закрываться и открываться без всякого труда.
Приятель мой большой оптимист.
Но подлинной гордостью спальни был умывальник.
— А что вы скажете об этой штуке? — победоносно воскликнул хозяин. — Верх совсем как мраморный…
Дальше он не распространялся. В увлечении он прикоснулся к верхушке умывальника, и она обрушилась. Бессознательным движением я подхватил на лету кувшин, а вместе с ним и его содержимое. Таз покатился колесом, но все сошло благополучно, — пострадали только я и мыльница.
Я был не в состоянии выдавить из себя похвалу умывальнику; я чувствовал себя слишком мокрым.
— А как же вы моетесь? — спросил я, когда мы общими усилиями снова установили эту ловушку.
Тут он стал похож на заговорщика, собирающегося выдать тайну. Виновато оглядел комнату; затем на цыпочках подошел к кровати и открыл стоявший между ней и стеною шкафчик. Там хранился жестяной таз и небольшой кувшин.
— Только не говорите старику, — попросил он, — я прячу все это здесь, а когда моюсь, ставлю прямо на пол.
Это и было самое светлое воспоминание, связанное с ящиками из-под яиц, — образ сына, который, обманывая отца, тайком моется на полу за кроватью, вздрагивая при каждом звуке шагов, так как старик в любую минуту может войти в комнату.
Интересно знать, действительно ли все исчерпывается десятью заповедями, как люди добрые думают, и не стоит ли всех их вместе взятых одиннадцатая заповедь, призывающая «возлюбить друг друга» самой обычной, человеческой, деятельной любовью. Не могут ли десять заповедей уместиться где-нибудь в уголке этой одиннадцатой? Порой, поддаваясь анархическим настроениям, мы склонны бываем согласиться с Робертом Луисом Стивенсоном в том, что быть дружелюбным и веселым — лучшая религия для повседневной жизни. Мы так озабочены тем, чтобы не убить, не украсть, не пожелать жены ближнего своего, что нам некогда быть просто справедливыми друг к другу в то краткое время, пока мы пребываем вместе в этом мире. Так ли уж верно, что существующий список добродетелей и пороков — единственно правильный и полный? Обязательно ли доброго, бескорыстного человека считать злодеем только за то, что ему не всегда удается подавить свои природные инстинкты? А человека с черствым сердцем и мелкой душонкой обязательно ли считать святым только за то, что у него этих инстинктов нет? Не с ложной ли меркой мы, жалкие обыватели, подходим к оценке наших заблудших братьев и сестер? Мы судим их, как критики судят о книгах, не по их достоинствам, а по их недостаткам. Бедный царь Давид! Как бы отозвалось о нем местное Общество охраны нравственности? А Ноя, исходя из наших представлений, обличали бы со всех трибун общества трезвости, — Хама же занесли бы в список почетных прихожан в награду за то, что он не прикрыл наготу отца своего. А святой Петр! Как повезло ему, что остальные апостолы и их учитель не придерживались таких строгих понятий о добродетели, как мы в наше время.
Разве не позабыто нами самое значение слова «добродетель»? Прежде оно символизировало доброе начало, заложенное в людях, пусть даже в них коренились и пороки, как плевелы среди пшеницы. Мы упразднили добродетель и заменили ее добродетельками. Не герой — у него слишком много недостатков, — а безупречный прислужник; не человек, творящий добро, а человек, лишь не уличенный ни в одном скверном поступке, — вот наш современный идеал. В соответствии с этими новыми взглядами самым добродетельным существом на свете следует считать устрицу. Она всегда сидит дома и всегда в трезвом состоянии. Она не шумлива. Она не доставляет хлопот полиции. Насколько я помню, она ни разу не нарушила ни одной из десяти заповедей. Она сама никогда ничем не наслаждается и никогда за всю свою жизнь не дала хотя бы мимолетной радости другим.
Могу представить себе, как устрица читала бы наставление льву!
— Слышали вы когда-нибудь, чтобы я, подобно вам, рычала вблизи стоянок и деревень, наполняя ночь ужасом и до смерти пугая мирных людей? — сказала бы она. — Почему вы не ложитесь спать рано, как я? Я никогда не рыщу по устричному садку, не сражаюсь с другими джентльменами-устрицами, ее ухаживаю за леди-устрицами, чужими женами. Я никогда не убиваю ни антилоп, ни миссионеров. Почему вы не можете, подобно мне, питаться морской водой и личинками или как они там называются? Почему вы не стараетесь подражать мне?
У устрицы нет дурных страстей, поэтому мы считаем ее добродетельной. Мы никогда не задаем себе вопрос: «А есть ли у нее какие-нибудь благородные страсти?» Поведение льва в глазах порядочного человека сплошь и рядом непростительно. Но разве у него нет и достоинств?
Так ли радушно встретят у врат рая жирного, прилизанного, «добродетельного» человека, как он надеется?
— Ну, кто там еще? — спросит святой Петр, приоткрыв дверь и оглядывая его с ног до головы.
— Это я, — отзовется добродетельный человек с елейной, самодовольной улыбкой. — Я явился.
— Вижу, что явились. Но есть ли у вас право на вход? Что вы совершили за свои семьдесят лет?
— Совершил?! — воскликнет добродетельный человек. — Я ничего не совершил, уверяю вас.
— Ничего?
— Ничего; это и есть моя заслуга. Потому-то я и пришел сюда. Я никогда не совершал ничего дурного.
— А какие добрые дела вы совершили?
— Как так — добрые дела?
— Да, добрые дела. Вы даже не понимаете значения этих слов? Кому из людей вы помогли тем, что ели, пили и спали все эти годы? Вы не причинили никакого ущерба — никакого ущерба самому себе. Может быть, если бы вы не опасались ущерба для себя, вы бы совершили и какое-нибудь доброе дело. Там, на земле, насколько я помню, так обычно и бывает. Какое доброе дело вы сделали, чтобы иметь право сюда войти? Здесь не хранилище мумий, здесь обитель мужчин и женщин, живших полной жизнью, творивших добро, и, увы, также и зло, — обитель для грешников, которые сражаются за правду, а не для праведников, которые бегут с поля сражения, спасая самих себя.
Однако не для того, чтобы говорить обо всем этом; вспомнил я «Мастера-любителя» и его наставления. В мои намерения входило лишь завести разговор об одном маленьком мальчике, который проявлял исключительные способности, выполняя ненужную работу. Я хочу рассказать его историю, потому что она, как большинство правдивых рассказов, содержит мораль, а истории, не содержащие морали, я считаю просто глупой литературой, напоминающей дороги, которые никуда не ведут и служат лишь больным для моциона.
Этот мальчик, говорят, разобрал однажды на части дорогие часы с недельным заводом и сделал из них игрушечный пароходик. Правда, когда игрушка была готова, она лишь весьма отдаленно напоминала пароход; но, учитывая малую пригодность часового механизма для постройки парохода и необходимость срочно окончить работу, пока не помешали консервативно настроенные люди, лишенные научного энтузиазма, — следует признать, что пароход был не так уж плох. Одну гладильную доску и несколько дюжин вертелов мальчик превращал в удобную клетку для кроликов, если только кто-нибудь не успевал хватиться гладильной доски. Из зонтика и газового рожка он делал винтовку, если не со столь точным прицелом, как у Мартини-Генри, то, во всяком случае, более беспощадную. Он мог соорудить фонтан в саду, употребив для этого половину шланга для поливки, медный таз, взятый с маслобойни, и несколько каминных украшений дрезденского фарфора. Из кухонных столов он мастерил книжные полки, а из кринолинов — самострелы. Он умел запрудить ручей так, что вода заливала всю площадку для крокета.
Он знал, как приготовить красную краску, как получить кислород, и еще многое другое, столь же полезное для дома. Кроме всего прочего, он научился изготовлению фейерверков, причем ценою нескольких незначительных взрывов достиг здесь поистине большого мастерства. Если мальчик хорошо играет в крокет, то он нравится. Если мальчик хорошо дерется, он вызывает к себе уважение. Если мальчик способен нагрубить учителю, он завоевывает всеобщую любовь. Но если мальчик может устроить фейерверк, то его почитают, как некое существо высшего порядка. Пятое ноября[3] уже приближалось, и, заручившись согласием любящей матери, мальчик решил показать всему миру, на что он способен. Уже за две недели до вечера, на который было приглашено много друзей, родственников и школьных товарищей, буфетная превратилась в мастерскую по изготовлению фейерверка. Служанки с ужасом проходили мимо нее, постоянно опасаясь за свою жизнь, и, судя по запаху, можно было вообразить, что сам сатана занял виллу под филиал ада, так как основное помещение было переполнено.
Четвертого числа вечером все было готово и несколько образцов было испробовано во избежание какой-нибудь заминки во время праздника. Все оказалось безупречным. Ракеты взвивались к небу и рассыпались звездами, римские свечи бросали в темноту горящие шары, огненные колеса искрились и вертелись, шутихи трещали, и квакуны квакали. В тот вечер мальчик отправился спать счастливым и гордым, и ему пригрезилась слава. Вот он стоит в сиянии фейерверка, и огромная толпа приветствует его. Его родственники, большинство которых, он знал, считали, что из него вырастет идиот, стали свидетелями его торжества; пришел сюда и Дикки Боулз, который всегда смеялся над ним за неуменье метко бросать камешки. Девочка из булочной тоже присутствует и видит, какой он умный.
Наконец торжественный день пришел, и с ним пришли гости. Они сидели на открытом воздухе, закутавшись в шали и плащи; дяди, тети, двоюродные братья и сестры, маленькие мальчики и большие мальчики, маленькие девочки и большие девочки, а также, как пишут в театральных афишах, «поселяне и слуги», — в общей сложности около сорока человек сидели и ждали.
Но с фейерверком ничего не выходило. Почему — не могу объяснить, никто никогда не мог объяснить этого. Казалось, законы природы были отменены именно на этот вечер. Ракеты сразу падали и гасли. Никакими человеческими силами нельзя было добиться, чтобы квакуны воспламенились. Шутихи хлопали один раз. и валились в изнеможении. Римские свечи можно было принять за наши английские сальные свечки. Пламя колес напоминало мелькание светлячков. Огненные змеи проявляли так мало живости, что ее не хватило бы даже для черепахи. Изо всей панорамы «корабль на море» показалась только одна мачта и капитан, и все исчезло. Удались какие-нибудь один-два номера программы, лишь подчеркнув глупость всей затеи. Маленькие девочки хихикали, маленькие мальчики отпускали шутки, тети и двоюродные сестры восторгались, дяди осведомлялись, все ли уже окончено, и говорили об ужине и расписании поездов, «поселяне и слуги» разошлись, посмеиваясь, снисходительная мамаша говорила «ну, ничего» и рассказывала, как все чудесно удавалось накануне; одаренный ребенок убежал наверх в свою комнату и там облегчил душу рыданиями.
Много позже, когда толпа забыла о нем, он тайком прокрался в сад. Он сел посреди развалин своих надежд и пытался понять, почему его постигло фиаско; все еще недоумевая, он достал из кармана спичечный коробок, зажег спичку и поднес ее к опаленному концу ракеты, которую четыре часа тому назад он тщетно пытался пустить. В одно мгновение она затлела, затем со свистом взвилась к небу и рассыпалась сотней маленьких огоньков. Он пробовал одну ракету за другой, — все они прекрасно действовали. Он снова поджег панораму. Все ее части, за исключением капитана и одной мачты, постепенно возникали из ночного мрака, и наконец в пламенном великолепии предстала вся картина. Искры упали на сваленные в кучу римские свечи, колеса и ракеты, которые еще недавно решительно отказывались гореть и были отброшены как негодные. Теперь же, покрытые ночным инеем, они внезапно пустились гореть, напоминая грандиозное извержение вулкана. А перед этим величественным зрелищем стоял он, и единственным утешением было ему рукопожатие матери.
В то время все происшедшее было для него таинственной загадкой, но впоследствии, лучше узнав жизнь, он понял, что это было лишь одним из проявлений необъяснимого, но постоянного закона, управляющего всеми делами людей, — на глазах у толпы твой фейерверк не вспыхнет.
Блестящие реплики приходят нам в голову, когда за нами уже закрылась дверь и мы в одиночестве идем по улице, — или, как говорят французы, спускаемся по лестнице. Наша застольная речь, звучавшая столь значительно, когда мы репетировали ее перед зеркалом, оказывается совершенно бездарной при звоне бокалов. Бурный поток слов, в котором мы готовились излить перед нею всю свою страсть, оборачивается бессвязным лепетом, вызывая у нее только смех, — признаться, вполне извинительный.
Я хотел бы, благосклонный читатель, чтобы ты познакомился с теми рассказами, которые я намеревался написать. Ты, конечно, судишь обо мне по тому, что я написал, — хотя бы, например, по этой книжке; но это несправедливо. Я хотел бы, чтобы ты судил обо мне именно по тем рассказам, которые я не написал, но собираюсь когда-нибудь написать. Они так прекрасны; ты сам увидишь; читая их, ты будешь смеяться и плакать вместе со мной.
Они являются ко мне без приглашения, они требуют, чтобы я написал их, но, едва я берусь за перо, они исчезают. Они как будто боятся гласности, как будто говорят мне: «Только ты один будешь нас читать, но ты не должен писать нас; мы слишком неподдельны, слишком правдивы. Мы — как мысли, которые ты не умеешь выразить словами. Может быть, попозже, когда ты лучше узнаешь жизнь, ты напишешь нас».
Если бы я задумал критический очерк о самом себе, то почти наравне со своими ненаписанными рассказами я поставил бы рассказы, начатые мною, но так и не завершенные, сам не знаю почему. Это хорошие рассказы, по крайней мере большинство из них; гораздо лучше тех, что закончены. Может быть, в другой раз, если захочешь я расскажу тебе начало одного или двух, и ты сам сможешь о них судить. Хотя я всегда считал себя человеком практичным и здравомыслящим, но, странное дело, среди этих мертворождённых детей моего ума, как я замечаю, роясь в шкафу, где, покоятся их тощие останки, — много рассказов о призраках. Мне кажется, всем нам хочется верить в призраки. Ведь так мир становится куда интересней для нас, наследников всех веков.
Год за годом наука, вооружившись метлой и тряпкой, срывает изъеденные молью гобелены, взламывает двери запертых комнат, впускает свет на потайные лестницы, очищает подземелья, исследует скрытые ходы — и всюду находит только пыль. Мир — этот старый замок с гулкими сводами, такой таинственный для нас в детстве, — постепенно утрачивает свое очарование. Король уже больше не спит в горной пещере. Люди проложили туннель через его каменную опочивальню. Мы растрепали ему бороду своей киркой. Мы прогнали богов с Олимпа. В рощах, залитых лунным светом, путники уже не ожидают, со страхом или надеждой, увидеть лик Афродиты, сияющий смертоносной прелестью. Не молот Донара рождает эхо среди скалистых вершин — эта грохочет поезд с экскурсантами. Мы очистили леса от фей. Мы выцедили нимф из моря. Даже призраки покидают нас, разогнанные научным обществом психологов.
Впрочем, о призраках, пожалуй, нечего жалеть. Ведь эти старые тупицы только и делали, что звякали своими ржавыми цепями, стонали и вздыхали. Пусть уходят.
А между тем как интересны были бы они, если бы только захотели. Старый джентльмен в кольчуге, живший еще при короле Иоанне, возвращался однажды верхом домой и был, как рассказывают, заколот ножом в спину на опушке того самого леса, который я вижу сейчас из окна; тело несчастного джентльмена было брошено в ров с водою, по сей день называемый Торовой могилой. Сейчас вода во рву высохла, и на его крутых склонах буйно разрослись желтые баранчики; но в те времена, когда стоячая вода в нем достигала двадцати футов глубины, это было, без сомнения, довольно мрачное место. Зачем является он ночью на лесных тропинках, так что при виде его дети, как говорят, безумеют от ужаса, а у крестьянских парней и девушек, возвращающихся домой с танцев, бледнеют лица и смех замирает на губах? Почему вместо этого не приходит он сюда поговорить со мною? Я бы его радушно встретил, предложил бы ему свое кресло, будь он только веселым и общительным. Сколько превосходных историй мог бы он мне поведать! Он участвовал в первом крестовом походе, слышал зычный голос Петра[4], видел лицом к лицу великого Годфрида Бульонского и, быть может, стоял среди баронов при Раннимиде. Поболтать вечерок с таким призраком было бы любопытнее, чем прочесть целую библиотеку исторических романов. Как он провел свои посмертные восемьсот лет? Где побывал? Что видел? Быть может, он посетил Марс? Беседовал с неведомыми существами, которые, возможно, живут в огненной массе Юпитера? Что он узнал из великой тайны? Постиг ли он истину? Или же, подобно мне, он и теперь только путник, стремящийся к неведомому?
А ты, несчастная, бледная монахиня в сером одеянии! Говорят, каждую полночь в окне разрушенной башни появляется твое бескровное лицо и слышно, как внизу, среди кедров, лязгает меч о щит.
Я вполне понимаю вашу печаль, дорогая леди. Оба соперника, любившие вас, были убиты, и вы удалились в монастырь. Поверьте, я искренне сочувствую вам, но зачем бессмысленно тратить ночь за ночью, воскрешая мучительные сцены прошлого? Не лучше ли их позабыть? Боже мой, сударыня, что, если бы мы, живые, всю свою жизнь только причитали и ломали руки, вспоминая обиды детских лет. Ведь все уже в прошлом. Останься он в живых, ваш брак с ним мог быть и несчастливым. Я не хочу сказать ничего плохого, но браки, основанные на самой искренней взаимной любви, иногда оказывались неудачными, как вы, должно быть, и сами знаете.
Право же, послушайте моего совета. Поговорите начистоту с обоими молодыми людьми. Убедите их пожать друг другу руки и помириться. Приходите ко мне, все обитатели холодной мглы, и давайте побеседуем о чем-нибудь интересном.
Зачем так упорно пугаете вы нас, несчастные, бледные призраки! Разве мы не ваши дети? Так будьте же нам мудрыми друзьями. Расскажите мне, как любили юноши в ваши юные годы? Как отвечали девушки на их любовь? Как по-вашему, очень ли изменился мир? Не встречались ли даже в ваши времена новые женщины, девушки, ненавидящие вечные пяльцы и прялку? На много ли хуже жилось челяди ваших отцов, чем свободным гражданам, которые живут в трущобах нашего Ист-Энда и по четырнадцать часов в день шьют домашние туфли, зарабатывая девять шиллингов в неделю? Как по-вашему, заметно ли усовершенствовалось общество за последнее тысячелетие? Стало оно хуже или лучше? Или осталось, в общем, приблизительно таким же, разве только что мы называем вещи другими именами? Поделитесь со мною своими наблюдениями!
Впрочем, при слишком частом общении даже призраки могут надоесть.
Представьте себе, что человек проохотился целый день и очень устал. Он мечтает только добраться до постели. Однако не успел он переступить порог своей спальни, как из-за полога кровати раздается замогильный хохот, и усталый охотник подавляет глубокий вздох, готовясь к неизбежному: два-три часа проговорит с ним старый буян сэр Ланваль — тот самый, с волшебным копьем. Мы знаем наизусть все его истории, но он будет рассказывать их и притом орать вовсю. А что, если в соседней спальне наша тетушка, от которой мы рассчитываем получить когда-нибудь наследство, вдруг проснется и все услышит! Эти рассказы были несомненно хороши для рыцарей Круглого Стола, но мы уверены, что тетушка наша их не одобрит: взять хотя бы историю о сэре Агравене и жене бочара! А уж призрак непременно ее расскажет.
Или представьте себе, что горничная входит в комнату и докладывает:
— С вашего позволения, сэр, там вас ждет дама под вуалью.
— Как, опять! — восклицает ваша жена, отрывая глаза от работы.
— Да, мэм. Прикажете провести ее наверх, в спальню?
— Спросите хозяина, — отвечает жена. Ее тон предвещает вам несколько весьма неприятных минут, как только горничная выйдет из комнаты; но что вам остается делать?
— Да, да, пригласите ее наверх, — говорите вы, и горничная выходит, закрывая за собой дверь.
Жена складывает свою работу и встает.
— Куда ты идешь? — спрашиваете вы.
— Иду спать в детскую, — следует холодный ответ.
— Это будет очень неучтиво, — убеждаете вы. — Мы должны быть вежливы с бедняжкой; ведь это, можно сказать, ее комната. Она издавна там появляется.
— Очень странно, — отвечает ваша возлюбленная супруга, — она никогда не появляется в твое отсутствие. Просто непонятно, где же она бывает, когда ты в городе.
Это несправедливо. Вы не можете сдержать возмущение.
— Что за чепуху ты говоришь, Элизабет! — восклицаете вы. — Я всего лишь вежлив с нею.
— У некоторых мужчин такие странные понятия о вежливости, — отвечает Элизабет. — Но, ради бога, не будем ссориться. Мне просто не хотелось бы вам мешать. Там где двое, третий лишний.
С этими словами она удаляется.
А наверху дама под вуалью все еще ждет. Интересно бы знать, сколько времени она здесь останется и что произойдет после ее ухода.
Боюсь, что в нашем мире для вас, призраки, нет места. Помните, как они явились к Гайавате — призраки милых сердцу людей? Он молил их вернуться к нему, утешить его. «И в вигвам они явились, к очагу безмолвно сели, леденя дыханьем воздух и улыбку Миннегаги».
В нашем мире нет места для вас, о несчастные, бледные призраки. Не тревожьте нас. Погрузитесь в забвение. А вы, полная пожилая матрона, теперь, когда ваши поредевшие волосы стали седеть, потускнели глаза, расплылся подбородок, а голос огрубел от резких замечаний и воркотни, без которых, увы, нельзя вести дом, — теперь, прошу вас, оставьте меня. Я любил вас, пока вы были живы. Как были вы милы, как прелестны. Я вспоминаю вас в белом платье, среди цветущих яблонь. Но вы умерли, и ваш призрак тревожит мои сны. Лучше бы он меня не посещал.
И ты, старик, скучно глядящий на меня из зеркала, когда я бреюсь, зачем ты неотвязно маячишь передо мной? Ты — призрак веселого парня, моего давнего хорошего знакомца. Останься он в живых, он достиг бы многого. Я всегда верил в него. Зачем ты преследуешь меня? Лучше бы мне вспоминать его таким, каким он был. Я никогда не думал, что он превратится в столь жалкий призрак.
1898
Примечания
1
Автор известного в свое время учебника английского языка.
(обратно)2
Музей прикладного искусства в Лондоне.
(обратно)3
Традиционный английский праздник в память раскрытия «Порохового заговора» (1605). Отмечается шествиями, фейерверками и пр.
(обратно)4
Петр-отшельник (1050—1115) — проповедник, один из вдохновителей и участников первого крестового похода.
(обратно)



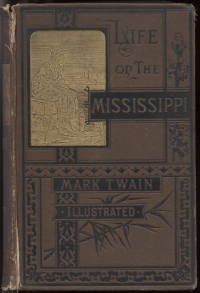
Комментарии к книге «О великой ценности того, что мы намеревались сделать», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев