ГЕРМАН ГЕССЕ ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО КЛИНГЗОРА
Последнее лето своей жизни художник Клингзор, сорока двух лет, провел в тех южных краях близ Пампамбьо, Карено и Лагуно, которые он и в прежние годы любил и часто навещал. Там родилась его последние картины, те вольные переложения явлений мира, те странные, яркие и деревьями и похожими на растения домами, которые знатоки предпочитают картинам его в классического» периода. В его палитре было тогда всего несколько красок, очень ярких: желтый и красный кадмий, зеленая вверонезеч, изумрудная, кобальт, фиолетовый кобальт, французская киноварь и гераневый лак.
Весть о смерти Клингзора ужаснула его друзей поздней осенью. В некоторых его письмах проглядывало предчувствие или желание смерти. Отсюда, наверно, возник слух, будто он покончил с собой. Другие слухи — они ведь всегда пристают к именам, вызывающим споры, — не менее беспочвенны, чем этот. Многие утверждают, будто Клингзор уже несколько месяцев страдал душевной болезнью, и один не очень умный искусствовед пытался объяснить поразительную восторженность его последних картин этим мнимым безумием! Больше оснований, чем эта болтовня, имеет богатая анекдотами молва о тяге Клингзора к алкоголю. Такая тяга у него была, и никто не называл ее по имени чистосердечнее, чем он сам. В определенные периоды, и вчастности в последние месяцы жизни, он не только испытывал радость от возлияний, но и сознательно искал опьянения, чтобы заглушить свои боли и часто невыносимуютоску. Ли Тай Пе, сочинитель очень глубоких застольных песен, был его любимцем, и в хмелю он часто называл самого себя Ли Тай Пе, а одного из своих друзей — Ту Фу.
Наступило какое–то страстное и быстротечное лето. Жаркие дни, сколь ни были они долги, отгорали как пламенные флаги, за короткими душными лунными ночами следовали короткие душные ночи с дождем; стремительно, как сны, и также переполненные картинами, уносились блестящие, лихорадочные недели.
После полуночи, вернувшись домой с ночной прогулки, Клингзор стоял на узком каменном балконе своей мастерской. Под ним головокружительно спускались террасы старого сада, беспросветного столпотворения густых крон, пальм, кедров, каштанов, церцисов, буков, эвкалиптов, опутанных вьющимися растениями, лианами, глициниями. Над чернотой деревьев белесыми бликами мерцали большие жестяные листья магнолий с полузакрытыми огромными, с человеческую голову, белоснежными, бледными, как луна и слоновая кость, цветками, от которых легко и мощно поднимался густой лимонный дух. Откуда–то издалека усталыми всплесками долетала музыка, гитара, пианино ли, нельзя было разобрать. Где–то в птичнике вдруг вскрикнул павлин, дважды и трижды, прорвав лесистую ночь коротким, злым и тупым звуком своего несчастного голоса, словно вся боль животного царства надрывно грянула из сокровенных глубин. Свет звезд тек по лесной долине, высоко и одиноко белела над бескрайним лесом часовня, зачарованная и древняя. Озеро, горы и небо неразличимо сливались вдали.
Клингзор стоял на балконе в рубашке, опершись голыми до локтя руками на железные перила, и мрачноватогорячими глазами читал письмена звезд на бледном небе и тусклых бликов на черных клубах деревьев. Павлин напомнил ему. Да, опять была ночь, было поздно, и следовало уснуть, непременно, любой ценой. Наверно, если бы действительно поспать несколько ночей по–настоящему, часов по шести, по восьми, можно было бы отдохнуть, глаза стали бы снова послушны и терпеливы, а сердце спокойнее и прекратилась бы боль в висках. Но тогда прошло бы это лето, прошел бы этот сумасшедший сверкающий летний сон, и с тысячи не увиденных любовных взглядов, погасли бы, неувиденные, тысячи неповторимых картин. Он прижался лбом и болящими глазами к прохладным перилам, от этого на миг стало легче. Через год, может быть, а то и раньше эти глаза ослепнут, и огонь в его сердце потухнет.
Нет, никто долго не вынесет этой пылающей жизней. Никто не может все время днем и ночью гореть всеми своими огнями, всеми своими вулканами, никто не пылать пламенем, каждый день помногу часов в жгучем труде, каждую ночь помногу часов в жгучих мыслях, не–своими чувствами и нервами, оставаясь светлым и бессонным, как замок, за всеми окнами которого день за днем гремит музыка, ночь за ночью сверкают тысячи свечей. Дело идет к концу, растрачено уже много сил, сожжено много света глаз, истекла кровью изрядная доля жизни.
Внезапно он рассмеялся и выпрямился. Его осенило: не раз уже он так чувствовал, так думал, так боялся. Во все с обоих концов, жил то с ликующим, то с надрывным чувством буйного, сжигающего расточительства, с отчаянной жадностью осушить чашу до дна и с глубоким, затаенным страхом перед концом. Не раз уже он так жил, не раз осушал чашу, не раз полыхал ярким пламенем. Иногда конец бывал ласков, как глубокий, без памяти, зимний сон. Иногда он бывал ужасен, бессмысленная опустошенность, нестерпимые боли, врачи, печальное прозябание, торжество слабости. Во всяком случае, с каждым разом конец горения становился все хуже, все печальнее, все разрушительнее. Но и это всегда превозмогалось, и через сколько–то недель или или месяцев после мук или тупости наступало воскресение, начинался новый пожар, новый взрыв подземного огня, начинались новые жгучие труды, новая блестящая опьяненность жизнью. Так бывало, и периоды муки и прозябания, плачевные промежуточные периоды, забывались и уходили в небытие. И хорошо. Уладится, как не раз улаживалось.
Он с улыбкой подумал о Джине, которую видел сегодня вечером, с которой играли его нежные мысли в течение всего ночного пути домой. Какой красивой, какой теплой была эта девушка в своей еще неопытной и боязливой пылкости! Играя, он с нежностью произнес, как будто снова шептал ей в ухо:
— Джина! Джина! Сага Джина! Carinna Джина! Bella Джина!
Он вернулся в комнату и снова включил свет. Из беспорядочной кучки книг он вытащил красный том стихов; ему вспомнилось одно стихотворение, вернее, кусок стихотворения, показавшийся ему несказанно прекрасным и полным любви. Он долго искал, пока не нашел:
Моя звезда, мой светоч милый, Лицо, которое люблю!С глубоким наслаждением впивал он темное вино этих слов. Как это было прекрасно, как проникновенно и волшебно: «Мой светоч милый»! И не оставляй меня, молю»!
Он, улыбаясь, ходил взад и вперед перед высокими окнами, читал вслух стихи, говорил их далекой Джине: «Не оставляй меня, молю!» — и его голос становился глухим от нежности.
Потом он отпер этюдник, который после долгого рабочего дня носил с собой и весь вечер. Он открыл альбом для эскизов, маленький, самый любимый, и отыскал последние листы, вчерашние и сегодняшние. Вот конус горы с густыми тенями скал; он сделал ее очень похожей на гримасу, гора, казалось, кричала, выла от боли. Вот маленький каменный колодец, полукругом на склоне горы, изгиб кладки наполнен дочерна тенями, над ним кровавое пламя цветущего граната. Все понятно только ему, тайнопись только для него самого, торопливо–жадная запись мгновенья, поспешно схваченная память о каждой минуте, когда природа и сердце по–новому и громко звучали в лад. А вот и большие эскизы в красках, белые листы с яркими акварелями: красная вилла в роще, пылающая как рубин на зеленом бархате, и железный мост близ Кастильи, красный на сине–зеленой горе, рядом фиолетовая плотина, розовая дорога. Дальше: труба кирпичного завода, красная ракета перед прохладно–светлой зеленью листвы, синий дорожный указатель, светло–фиолетовое небо с густым, словно бы вальцованным облаком. Этот лист был хорош, это могло остаться. Жаль было въезда к сараю, краснобурость на фоне стального неба удалась, это говорило и звучало; но до конца не было доведено, солнце упало тогда на лист и вызвало безумную боль в глазах. Он долго потом окунал лицо в ручей.
Что ж, краснобурость на фоне недоброй металлической синевы получилась, это было хорошо, тут ни в малейшем оттенке, ни в малейшей линии не было ни фальши, ни неудачи. Без капут мортуум это не вышло бы. Тут, в этой области, таились тайны. Формы натуры, ее верх и низ, ее утолщения и утончения можно смешать, можно отказаться от всех простодушных средств, которыми подражают природе. И краски тоже можно фальсифицировать, конечно, их можно усиливать, приглушать, передавать на сотни ладов. Но если хочешь воссоздать краской какую–то часть природы, то надо, чтобы между несколькими красками было точно то же соотношение, в точности то же напряжение, что и в природе. Тут остаешься зависим, тут остаешься натуралистом пока что, даже если вместо серой кладешь оранжевую, а вместо черной краплак.
Итак, опять прошел день, а сделано мало. Лист с фабричной трубой да красно–синий тон на другом листе и, может быть, эскиз с колодцем. Если завтра будет пасмурно, он отправится в Карабину; там есть зал с прачками. Может быть, снова зарядит дождь, тогда он останется дома и начнет писать маслом ручей. А теперь в постель! Опять уже второй час.
В спальне он скинул рубашку, облился до пояса водой, расплескав ее по красному каменному полу, влез на высокую кровать и погасил свет. В окно заглядывала бледная Монте Салюте, тысячи раз уже Клингзор разглядывал в постели ее очертания. Крик совы в лесном ущелье, низкий и глухой, как сон, как забвение.
Он закрыл глаза и подумал о Джине и о зале с прачками. Бог ты мой, тысячи и тысячи вещей ждали, тысячи и тысячи чаш стояли неналитые! Не было на земле такой вещи, которую не стоило бы написать! Не было на свете такой женщины, которую не стоило бы любить! Почему существует время? Почему всегда только эта идиотская последовательность, а не бурная, насыщенная одновременность? Почему он лежит сейчас снова один в постели, как вдовец, как старик? Всю короткую жизнь напролет можно наслаждаться, можно творить, а поешь всегда только одну песню за другой, целиком симфония никогда не звучит одновременно всеми сотнями своих инструментов и голосов.
Давно, в возрасте двенадцати лет, он был Клингзором с десятью жизнями. Мальчики тогда играли в разбойников, и у каждого из разбойников было по десяти жизней, одну из которых он терял каждый раз, когда преследователь прикасался к нему рукой или копьем. С шестью, с тремя, даже с одной–единственной жизнью можно было еще освободиться и спастись, только с десятой ты проигрывал все. А он, Клингзор, гордо старался пробиться со всеми, со всеми десятью своими жизнями и считал это позором, когда уходил с девятью или с семью. Таким он был в детстве, в ту невероятную пору, когда на свете не было ничего невозможного, ничего трудного, когда Клингзору все на свете принадлежало. И так он продолжал вести себя и жил всегда десятью жизнями. И хотя насытиться, хотя добиться всей бурной симфонии сразу никогда не удавалось, жизнь его все–таки не была однозвучной и бедной, у него в музыке всегда было побольше, чем у других, струн, в огне побольше подков, побольше монет в суме, побольше коней в упряжке! Слава Богу!
С какой полнотой и силой, словно дыхание спящей женщины, вливалась в комнату темная тишина сада! Как кричал павлин! Как горел огонь в груди, как билось сердце, и кричало, и страдало, и ликовало, и кровоточило! Хорошее было все–таки лето здесь наверху в Кастаньетте, славно жилось ему в его старой барской развалине, славно было глядеть вниз на мохнатые спины сотен каштановых рощ, прекрасно было время от времени жадно спускаться из этого благородного старого мира лесов и замков, глядеть на веселые цветные игрушки внизу и писать их, писать их веселую, добрую яркость: фабрику, железную дорогу, синий трамвай, тумбы с афишами на набережной, гордо шествующих павлинов, женщин, священников, автомобили.
И как прекрасно, и мучительно, и непонятно было это чувство в груди, эта любовь, трепещущая жадность к каждому пестрому лоскуту жизни, эта сладкая, неистовая потребность смотреть и создавать и одновременно втайне, под тонкимипокровами, глубокое знание ребячливости и бренности всех его дел!
Лихорадочно уплывала короткая летняя ночь, из зеленых глубин долины поднимался туман, в тысячах деревьев кипели соки, тысячи снов набухали в легкой дремоте Клингзора, душа его шествовала по зеркальному залу его жизни, где все картины, умножаясь, встречались каждый раз с новым лицом и новым значением и входили в новые связи, словно кто–то перетряхивал в стакане для игральных костей звездное небо.
Одно сновидение из множества восхитило его и потрясло. Он лежал в лесу, а на лоне его женщина с рыжими волосами, а на плече лежала черная, а еще одна стояла рядом на коленях, держала его руку и целовала его пальцы, и везде вокруг были женщины, и девушки, и девочки с еще тонкими длинными ногами, и в полном расцвете, и зрелые с печатью знания и усталости на дергающихся лицах, и все любили его, и все хотели, чтобы он их любил. И тут между женщинами вспыхнула война, рыжая неистово вцепилась в волосы черной, стащила ее наземь, свалилась сама, и все бросились друг на друга, каждая кричала, каждая тащила кого–то, каждая кусалась, каждая причиняла боль, каждой было больно самой, смех, крики ярости, стоны звучали наперебой и сливались, везде текла кровь, ногти кроваво впивались в нежную плоть.
С чувством тоски и подавленности Клингзор минутами просыпался, глаза его, широко раскрываясь, вперялись в светлое пятно на стене. Перед его взором еще стояли беснующиеся женщины, многих из них он знал и называл по имени — Нина, Гермина, Элизабет, Джина, Эдит, Берта — и хриплым голосом, еще во сне, говорил: «Девочки, перестаньте! Вы же врете, вы же врете мне. Не друг друга должны вы терзать, а меня, меня!»
Луи
Луи Жестокий свалился как снег на голову, вдруг он оказался здесь, старый друг Клингзора, непоседа, от которого можно было ждать всего, который жил в поездах и чья мастерская помещалась в походном мешке. Славные часы капали с неба этих дней. славные дули ветры. Они писали вместе на Масличной горе и в Карфагене.
— Стоит ли вообще чего–то вся эта живопись? — сказал Луи на Масличной горе, лежа нагишом в траве, с красной от солнца спиной. — Ведь пишут только за неимением лучшего, дорогой. Если бы у тебя всегда была на коленях девушка, которая тебе как раз сейчас нравится, а в тарелке суп, которого тебе сегодня хочется, ты не изводил бы себя этой безумной чепухой. У природы десять тысяч красок, а нам втемяшилось свести всю гамму к двадцати. Вот что такое живопись. Доволен никогда не бываешь, а приходится еще подкармливать критиков. А хорошая марсельская уха, дорогой мой, да к ней стаканчик прохладного бургундского, а потом миланский шницель, а на десерт груши, да еще чашечка кофе по–турецки — это реальность, сударь мой, это ценности! Как скверно едят здесь, в ваших палестинах! Ах, бог ты мой, хотел бы я сейчас оказаться под вишней и чтобы ягоды лезли мне прямо в рот, а как раз надо мной на стремянке стояла бы та смуглая ядреная девица, которую мы встретили сегодня утром. Клингзор, хватит писать!
Приглашаю тебя на хороший обед в Лагуно, скоро уже пора.
— Правда? — спросил Клингзор, прищурившись.
— Правда. Только сперва мне нужно ненадолго зайти на вокзал. По правде сказать, я телеграфировал одной знакомой, что я при смерти, и она может в одиннадцать часовявиться сюда.
Клингзор со смехом снял с доски начатый этюд.
— Ты прав, дорогой, пошли в Лагуно! Надень рубашку, Луиджи. Здешние нравы отличаются большой невинностью, но голым в город тебе, к сожалению, идти нельзя.
Они пошли в городок, они зашли на вокзал, приехала красивая женщина, они прекрасно обедали в ресторане, и Клингзор, совсем отвыкший от этого за свои сельские месяцы, удивлялся, что все эти вещи, эти милые веселые вещи еще существуют: форель, лососина, спаржа, шабли, валлисское «Доль», бенедиктин.
После обеда они втроем поехали вверх по канатной дороге через обрывистый город, поперек домоа, мимо окон и висячих садов, было очень красиво, они остались на своихместах и съездили снова вниз, и еще раз вверх, и опять вниз. На редкость прекрасен и странен был мир, очень красочен, чуть–чуть подозрителен, чуть–чуть неправдоподобен, но на диво красив. Только Клингзор был несколько скован, он подчеркивал свое равнодушие, боясь влюбиться в приятельницу Луиджи. Они сходили еще раз в кафе, сходили в пустой полуденный парк, полежали у воды под исполинскими деревьями. Много видели они такого, что следовало написать: красные, из драгоценного камня дома в густой зелени, змеиные крушины и скумпии, синие и ржавые.
— Ты писал очень славные и веселые вещи, Луиджи, — сказал Клингзор, — я все это очень люблю — флагштоки, клоунов, цирк. Но больше всего мне нравится одно пятно на той твоей картине, где карусель ночью–Помнишь, там у тебя над фиолетовым шатром, вдалеке от всех этих огней, высоко вверху вьется маленький прохладный флажок, светло–розовый, такой прекрасный, такой прохладный, такой одинокий, такой до ужаса одинокий! Это как стихотворение Ли Тай Пе или Поля Верлена. В этом маленьком дурацком розовом флажке — вся боль и все бессилие мира и вместе с тем — весь добрый смех над болью и над бессилием. Написав этот флажок, ты оправдал свою жизнь, я считаю его огромной твоей заслугой, этот флажок.
— Да, я знаю, что ты любишь его.
— Ты и сам любишь. Понимаешь, не напиши ты нескольких таких штук, тебе не помогли бы ни хорошие обеды, ни вина, ни бабы, ни кофе, ты был бы бедняком. А так ты богач, парень хоть куда. Знаешь, Луиджи, я часто думаю так же, как ты: все наше искусство — всего лишь замена, хлопотная, оплачиваемая в десять раз дороже замена упущенной жизни, упущенной животности, упущенной любви. Но ведь это не так! Все обстоит совершенно иначе. Мы переоцениваем чувственное, считая духовное лишь заменой чувственного за его отсутствием. Чувственное ни на йоту не ценнее, чем дух, и наоборот. Все едино, все одинаково хорошо. Обнимать женщину и писать стихи — одно и то же. Было бы только главное — любовь, горение, одержимость, и тогда все равно — монах ли ты на горе Афон или прожигатель жизни в Париже.
Луи окинул его медленным взглядом насмешливых.
— Не задирай нос, малый!
— Вместе с приехавшей красавицей бродили они по округе. Видеть оба были мастера, это они умели. В окрестностях нескольких городков и деревень они видели Рим, видели Японию, видели море у экватора и сами же, играя, рассеивали эти иллюзии; их прихоть зажигала звезды на небе и тут же гасила их. В роскошные ночные небеса пускали они свои фейерверки; мир был мыльным пузырем, оперой, веселой чепухой.
Луи птицей носился по холмам на своем велосипеде, бывал в разных местах, а Клингзор писал. Какими–то днями Клингзор жертвовал, потом снова ожесточенно сидел на воздухе и работал. Луи не захотел работать. Луи внезапно уехал вместе со своей приятельницей, прислал открытку откуда–то издалека. Вдруг он опять появился, когда Клингзор поставил уже на нем крест, встал в дверях в соломенной шляпе и открытой рубашке, словно никуда не исчезал.
Еще раз попил Клингзор из сладчайшей чаши своей молодости вино дружбы. Много было у него друзей, многие любили его, многих он одаривал, многим открывал свое быстрое сердце, но только двое из друзей слышали из его уст и в то лето прежний зов сердца: художник Луи и поэт Герман, по прозвищу Ту Фу.
В иные дни Луи сидел в поле на своем складном стульчике, или в тени груши, или в тени сливы и не работал. Он сидел и думал и, прикрепив бумагу к палитре, писал, много писал, писал множество писем. Счастливы ли люди, которые пишут так много писем? Он писал напряженно, Луи Беззаботный, его взгляд был часами мучительно прикован к бумаге. Многое, о чем он молчал, не давало ему покоя. Клингзор любил его за это.
Иначе вел себя Клингзор. Он не умел молчать. Он не мог скрывать того, что у него на сердце. В тайные беды своей жизни, о которых мало кто знал, он самых близких все–таки посвящал. Он часто страдал от страха, от тоски, часто проваливался в яму мрака, порой тени из прежней его. жизни падали, разросшись, на его дни и делали их черными. Тогда для него было облегчением увидеть лицо Луиджи. Тогда он, случалось, жаловался ему.
А Луи не любил этих приступов слабости. Они мучили его, они требовали сочувствия. Клингзор привык изливать душу другу и слишком поздно понял, что из–за этого теряет.
Луи снова заговорил об отъезде. Клингзор знал, что задержит его на сколько–то дней, на три дня, на пять дней; но внезапно Луи покажет ему уложенный чемодан и уедет, чтобы опять долго не появляться. Как коротка была жизнь, как безвозвратно все было! Единственного из своих друзей, который целиком понимал его искусство, единственного, чье искусство было близко и по плечу его собственному, он испугал и обременил, расстроил и охладил всего лишь из–за глупой слабости и распущенности, из–за детской, неприличной потребности не стесняться друга, ничего от него не утаивать, не держать себя в руках при нем. Какая это была глупость, какое ребячество! Так корил себя Клингзор, слишком поздно.
В последний день они вместе бродили по золотым долинам, Луи был в очень хорошем расположении духа, отъезд был истинной радостью для его сердца птицы. Клингзор держался соответственно, они снова нашли прежний, легкий, игривый и насмешливый тон и больше не теряли его.
Вечером они сидели в саду трактира. Они попросили зажарить рыбу, сварить рис с грибами и запивали персики мараскином.
— Куда ты поедешь завтра? — спросил Клингзор.
— К той красавице?
— Да. Может быть. Кто это знает? Не расспрашивай меня. Давай–ка сейчас, под конец, выпьем еще хорошего белого вина. Я за «Невшатель».
Они выпили; вдруг Луи воскликнул:
— Хорошо, что я хоть уеду, старый тюлень. Когда я иной раз сижу рядом с тобой, вот так, как сейчас, например, мне вдруг приходят в голову какие–то глупости. Мне приходит в голову, что вот здесь сидят те два художника, которые только и есть у нашего славного отечества, и тогда у меня появляется отвратное ощущение в коленях — словно мы оба из бронзы и должны стоять, взявшись за руки, на пьедестале, понимаешь, как Гете и Шиллер. Они же тоже не виноваты, что должны вечно стоять, держа друг друга за бронзовые руки, и что постепенно стали нам так неприятны и ненавистны. Может быть, они были отличные ребята, милейшие парни, я как–то прочел одну пьесу Шиллера, это было совсем недурно. И все же так вышло, что он сделался знаменитостью и должен стоять рядом со своим сиамским близнецом, две гипсовые головы рядом, и везде видишь их собрания сочинений, и их проходят в школах. Это ужасно. Представь себе, через сто лет какой–нибудь профессор будет вещать гимназистам: Клингзор, родился в 1877 году, и его современник Луи, прозванный Обжорой, новаторы живописи, освобождение от натурализма цвета, при ближайшем рассмотрении эта пара распадается на три четко различимых периода! Уж лучше прямо сегодня под паровоз.
— Разумнее бы отправить туда профессоров.
— Таких больших паровозов не бывает. Ты же знаешь, как мелкотравчата наша техника.
Уже появились звезды. Вдруг Луи стукнул стаканом о стакан друга.
— Ну вот, чокнемся и выпьем. А потом я сяду на свой велосипед и adieu. Без долгого прощания! Хозяину заплачено. Будем здоровы, Клингзор!
Они чокнулись и выпили, в саду Луи вскочил на велосипед, помахал шляпой, исчез. Ночь. Звезды. Луи был в Китае. Луи был легендой.
Клингзор грустно улыбнулся. Как он любил эту перелетную птицу! Он долго стоял в усыпанном гравием саду трактира, глядя вниз на пустую улицу.
День Карено
Вместо с друзьями из Варенго, а также с Агосто и Эрсилией Клингзор отправился пешком в Карено. Утром, сквозь душистую таволгу, мимо дрожащих, еще покрытых росой паутинок на опушках, они спустились через обрывистый лес в долину Пампвмбьо, где у желтой дороги, оглушенные летним днем, полумертвые, спали, наклонившись вперед, яркие желтые дома, а у высохшего ручья белые металлические ивы нависали тяжелыми крыльями над золотыми лугами. Красочно плыл караван друзей по розовой дороге сквозь подернутую дымкой тумана зелень долины: белые и желтые в полотне и шелке мужчины, белые и розовые женщины, и великолепный, цвета «аероневе», зонтик Эрсилии сверкал как драгоценный камень в волшебном кольце.
Доктор меланхолически сетовал доброжелательвым голосом:
— Ужасно жаль, Клингзор, через десять лет все ваши чудесные акварели выцветут; все эти ваши излюбленные краски нестойки.
Клингзор:
— Да, и хуже того: ваши прекрасные каштановые волосы, доктор, будут через десять лет сплошь седыми, а чуть позже наши милые веселые кости будут лежать где–нибудь в яме, в земле, — к сожалению, и ваши тоже, Эрсилия такие прекрасные и здоровые кости. Ребята, давайте не будем благоразумны под конец жизни. Герман, что говорит Ли Тай Пе?
Герман, поэт, остановился и прочел:
Жизнь проходит, как Блеск его нельзя увидеть – он слишком короток, Вечно стоят неподвижно земля и небо, Но как быстро летит, изменяясь, время по лику людей. Зачем же за полной чашей сидишь и не пьешь, Кого еще ждешь ты, скажи?— Нет, — сказал Клингзор, — я имел в виду другие стихи, с рифмами, о кудрях, которые еще утром были темные.
Герман тут же прочел эти стихи:
Утром кудри, словно черный шелк, блестели, Вечером они белеют сединой. Чтобы не страдать, пока есть силы в теле, Чашу поднимай и чокайся с луной.Клингзор громко рассмеялся своим хриплым голосом:
— Молодец Ли Тай Пе! Он кое о чем догадывался, он многое знал. Мы тоже многое знаем, он наш старый умный брат. Этот упоительный день ему бы понравился, это как раз такой день. на исходе которого хорошо умереть смертью Ли Тай Пе, в лодке на тихой реке. Увидите, сегодня все будет чудесно.
— Что же это за смерть, которой умер на реке Ли Тай Пе? — спросила художница.
Но Эрсилия перебила, вмешавшись своим добрым грудным голосом:
— Нет, перестаньте! Кто скажет еще хоть слово о смерти. того я больше не люблю. Перестань, противный, Клингзор!
Клингзор, смеясь, подошел к ней.
— Как вы правы, ЬатЫпа!3 Если я скажу еще хоть слово о смерти, можете выколоть мне своим зонтиком оба глаза. Но в самом деле, сегодня чудесно, дорогие! Сегодня поет птица, это сказочная птица, я уже слышал ее утром. Сегодня дует ветерок, этот сказочный ветерок, это неба сынок, он будит спящих принцесс и вытряхивает ум из голов. Сегодня цветет цветок, это сказочный цветок, он синий и цветет один раз в жизни, и кто его сорвет, тот блажен.
— Он хочет что–то этим сказать? — спросила Эрсилия доктора. Клингзор услышал ее вопрос.
— Я хочу сказать вот что: этот день никогда не вернется, и кто его не вкусит, не выпьет, не насладится его вкусом и благоуханием, тому его во веки веков не предложат второй раз. Никогда солнце не будет светить так, как сегодня, оно находится на небе в определенном положении, в определенной связи с Юпитером, со мной, с Агосто, с Эрсилией и со всеми, в связи, которая никогда, и через тысячу лет, не повторится. Поэтому я хочу сейчас — ибо это приносит счастье — идти некоторое время слева от вас и нести ваш изумрудный зонтик, в свете которого моя голова будет походить на опал. Но и вы тоже должны участвовать, должны спеть песню, что–нибудь из ваших лучших.
Он взял Эрсилию под руку, его резко очерченное лицо мягко окунулось в сине–зеленую тень зонтика, в который он был влюблен и приятно ярким цветом которого восхищался.
Мой папа не хочет, Чтобы я вышла замуж за барсальера…Присоединились другие голоса, все с пением шагали до леса и по лесу, пока подъем не стал слишком тяжел; дорога вела. как стремянка, круто вверх через папоротники по высокой горе.
— Как замечательно прямолинейна эта песня! — похвалил Клингзор. — Папа против влюбленных, как это всегда с ним бывает. Они берут нож, который хорошо режет, и убивают папу. Его больше нет. Они делают это ночью, никто их не видит, кроме луны, которая не выдает их, и звезд, но они молчат, и Господа Бога, но Тот уж простит их.
Как это прекрасно и откровенно! Сегодняшнего поэта за такое побили бы камнями.
Сквозь разорванные солнцем, играющие тени каштанов они взбирались по узкой горной дороге. Когда Клингзор поднимал глаза, он видел перед собой тонкие икры художницы, розово просвечивавшие сквозь прозрачные чулки. Когда он оглядывался, над черной негритянской головой Эрсилии плыла, как купол, бирюза зонтика. Под ним она была в фиолетовом шелке, единственная темная фигура из всех.
У какого–то оранжево–синего крестьянского дома лежали на лужайке зеленые летние яблоки–паданцы, прохладные и кислые, они попробовали их. Художница мечтательно рассказывала об одной поездке по Сене в Париже когда–то до войны. Да, Париж и блаженное время!
— Око не вернется. Никогда больше.
— И не надо! — резко воскликнул художник и сердито тряхнул четко очерченной ястребиной головой. — Ничего не должно возвращаться! Зачем? Что за детские желания!
Война преобразила все, что было раньше, в какой–то рай, даже самое глупое и ненужное. Что ж, славно было в Париже, славно было в Риме, славно было в Арле. Но разве сегодня и здесь менее славно? Рай — это не Париж и не мирное время, рай здесь, он находится вон там наверху, на этой горе, и мы будем в нем через час, и мы — это разбойники, которым сказано: сегодня ты будешь со мной в раю.
Они выбрались из крапчатой тени лесной тропы на открытую широкую проезжую дорогу; светлая и жаркая, она большими кругами вела к вершине. Клингзор, в темно–зеленых защитных очках, шел последним и часто отставал, чтобы видеть движение и цветовые сочетания фигур. Он ничего не взял с собой для работы нарочно, даже маленького блокнота, и все же сотни раз останавливался, взволнованный открывавшимися ему картинами. Одиноко стояла его тощая фигура, белая на красноватой дороге, у края акациевой рощи. Лето дышало жаром на гору. Свет стекал отвесно, сотни красок, дымясь, поднимались из глубины. Над ближайшими горами зеленых и красных тонов с белыми деревнями виднелись синеватые гряды гор, а за ними, все светлей и синей, новые и новые гряды, и совсем далеко и неправдоподобно хрустальные вершины в вечном снегу. Над лесом акаций и каштанов свободнее и мощнее выступал скалистый, в зазубринах гребень Салюте, красноватый и светло–фиалковый. Красивее всего были люди, как цветки, стояли они на свету под зеленью, как исполинский скарабей, светился изумрудный зонтик, под ним — черные волосы Эрсилии, белая стройная художница с розовым лицом и все остальные.
Клингзор впивал их жадными глазами, но мысли его были с Джиной. Он увидит ее только через неделю, она сидела в конторе в городе и писала на машиненке, ему лишь изредка удавалось увидеть ее, и одну — никогда. А любил он ее, именно ее, которая понятия о нем не имела, не знала его, не понимала, для которой он был лишь какой–то редкой и странной птицей, каким–то знаменитым художником–чужеземцем. Как странно, что именно к ней привязалось его желание, что никакая другая чаша любви его не удовлетворяла. Он не привык проделывать долгие пути ради женщины. Ради Джины он их проделывал, чтобы побыть часок рядом с ней, подержать ее тонкие пальчики, подсунуть свой башмак под ее башмак, быстро поцеловать в затылок. Он размышлял, был забавной загадкой себе самому. Неужели это уже поворот? Уже старость? Неужели только это, поздняя любовь сорокалетнего к двадцатилетней?
Гребень горы был достигнут, а за ним открылся глазам уже новый мир: высоко и неправдоподобно — Монте–Дженнаро, сплошь из крутых, острых пирамид и конусов, за ней наискось — солнце, каждое плато блестело эмалью, плавая на густых фиолетовых тенях. Между дальним и близким — мерцающий воздух, и бесконечно глубоко терялся узкий синий рукав озера, прохлаждаясь за зеленым пламенем леса.
Крошечная деревня на перевале: поместье с маленьким жилым домом, четыре–пять других домов, каменные, выкрашенные в синий и розовый цвет, часовня, колодец, вишневые деревья. Общество задержалось на солнце у колодца, Клингзор прошел дальше, вошел через арку ворот в тенистую усадьбу: три высоких синеватых дома с редкими окошками, между домами трава и галька, коза, крапива. Какой–то ребенок пустился наутек, он поманил его, вынул шоколад из кармана. Ребенок остановился, Клингзор поймал его, погладил и угостил, ребенок был робкий и красивый, черная девчушка с испуганными черными глазами зверька, с голыми, стройными, блестяще смуглыми ножками.
— Где вы живете? — спросил он, она побежала–к ближайшей двери, открывшейся в ущелье домов. Из темного каменного помещения, как из пещеры первобытных времен, вышла женщина, мать ребенка, она тоже взяла шоколадку. Из грязного платья поднималась смуглая шея, лицо было крепкое, широкое, загорелое и красивое, губы широкие, полные, глаза большие, грубой, сладостной прелестью, полом и материнством сильно и тихо веяло от крупных азиатских черт. Он совращающе склонился к ней, она с улыбкой увильнула, втиснула ребенка между ним и собой. Он пошел дальше с решимостью вернуться. Ему хотелось писать эту женщину или быть ее любовником, хотя бы лишь час. Она была всем: матерью, ребенком, возлюбленной, зверем. Мадонной.
Медленно, с сердцем, полным мечтаний, вернулся он к обществу. На каменной ограде поместья, жилой дом которого казался пустым и запертым, были укреплены старые грубые пушечные ядра, причудливая лестница вела через кусты к рощице на холме, на самом верху оказался памятник, там, вычурно и одиноко, стоял чей–то бюст, костюм Валленштейна, локоны, завитая эспаньолка. Что–то призрачное и фантастическое витало в блестящем полуденном свете вокруг этой горы, чудо притаилось настороже, мир был настроен на другую, далекую тональность. Клингзор напился у колодца, прилетел мотылек подалирий и приник к расплескавшейся по известняковому краю колодца воде.
Горная дорога шла по хребту дальше, под каштанами, под орехами, солнечная, тенистая. На одном из поворотов — придорожная часовня, старая и желтая, в нише — поблекшие старые картины, ангельски–детская голова святого, коричневый и красный фрагмент одежды, остальное облупилось. Клингзор очень любил старые картины, когда они сами вдруг попадались на глаза, любил такие фрески, любил возврат этих прекрасных творений в прах и в землю.
Опять деревья, лозы, ослепительная, жаркая дорога, опять поворот — вот и цель похода, вдруг, нежданно–негаданно: темный проход ворот, большая, высокая церковь из красного камня, весело и самоуверенно брошенного в небо, площадь, полная солнца, пыли и покоя, докрасна выжженная трава, ломающаяся под ногами, полуденный свет, отшвыриваемый назад яркими стенами, колонна, фигура над ней, невидимая из–за напора солнца, вокруг просторной площади каменный парапет над синей бесконечностью. Дальше — деревня Карено, древняя, узкая, темная, сарацинская, мрачные каменные пещеры под выгоревшей коричневой черепицей, угнетающе, до неправдоподобия узкие, полные темноты улочки, маленькие площади, как вскрики белого солнца, Африка и Нагасаки, над этим — лес, под этим — синий обрыв, наверху — белые, жирные, сытые облака.
— Смешно, — сказал Клингзор, — как много нужно времени, чтобы немножко разобраться в мире! Когда я однажды, много лет назад, ехал в Азию, я проезжал в шести или десяти километрах отсюда и ничего не знал. Я ехал в Азию, и тогда мне было это очень нужно. Но все, что я нашел там, я нахожу сегодня и здесь: девственный лес, жара, прекрасные иноземцы без нервов, солнце, святыни. Много же не нужно времени, чтобы умудриться побывать за один–единственный день в трех частях света. Вот они. Привет тебе, Индия! Привет вам, Африка, Япония!
Друзья знали одну молодую даму, которая жила здесь наверху, и Клингзор был очень рад, что они навестят эту незнакомку. Он именовал ее Царицей Гор, так называлась одна таинственная восточная сказка в книжках его детских лет.
С большими ожиданиями двинулся караван через синее, тенистое ущелье улочек, кругом ни души, ни звука, ни курицы, ни собаки. Но в полутени оконной арки Клингзор увидел безмолвную фигуру — красивую девушку, черноглазую, в накинутом на черные волосы красном платке. Ее взгляд, тихо следивший за незнакомыми людьми, встретился с его взглядом, в течение одного долгого вздоха они смотрели друг–другу в глаза, мужчина и девушка, истово и строго, два разных мира, сблизившиеся на миг. Затем они коротко и сердечно улыбнулись друг другу улыбкой вечного приветствия полов, старой, сладостной, жадной вражды, и, шагнув за грань дома, чужой мужчина скрылся, он уже лежал в ларце девушки, образ, прибавившийся к другим образам, мечта, прибавившаяся к другим мечтам. Ненасытное сердце Клингзора екнуло, он помедлил, хотел было вернуться, Агосто позвал его, Эрсилия начала петь, стена тени исчезла, и в зачарованном полдне тихо и ослепительно возникли маленькая яркая площадь с двумя желтыми дворцами, узкие каменные балконы, закрытые лавки — великолепная декорация для первого акта оперы.
— Прибытие в Дамаск! — воскликнул доктор. — Где живет Фатьма, жемчужина среди женщин?
Ответ пришел неожиданно из меньшего дворца. Из прохладной черноты за полузакрытой балконной дверью вылетел странный звук, еще один и десять раз тот же, затем октава к нему, десять раз — рояль, который настраивали, поющий, полный звуков рояль посреди Дамаска.
Вот здесь, конечно, она и жила. Но дом, казалось, был без ворот, только розово–желтая стена с двумя балконами да вверху на штукатурке фронтона старинная роспись: цветы, синие и красные, и попугай. Сюда бы размалеванную дверь, которая отворялась бы после того, как трижды в нее постучишь и произнесешь магические слова Соломона, и чтобы путника встречал аромат персидских благовоний, а за покрывалами, на высоком троне, восседала Царица Гор, и рабыни лепились бы по ступеням у ее ног, и намалеванный попугай с криком садился бы на плечо повелительницы.
Они нашли в переулке крошечную дверцу, зло и пронзительно завизжал звонок, дьявольский механизм, вверх круто шла лестница, узкая, как стремянка. Немыслимо, как проник в этот дом рояль. Через окно? Через крышу?
Большая черная собака бросилась вниз, маленький светлогривый лев — за нею вслед, шум и гам, лесенка громыхала, в глубине рояль пел одиннадцать раз ту же ноту. Из окрашенной в розовое комнаты лился мягкий, приятный свет, хлопали двери. Был ли тут попугай?
Вдруг появилась Царица Гор, стройный, гибкий цветок, подтянутая, упругая, вея в красном, жгучий огонь, сама молодость. Перед взором Клингзора рассыпались в прах сотни любимых картин и встала, сияя, новая. Он сразу понял, что будет писать ее, не с натуры, а сиянье в ней, которое он увидел, стихотворение, прелестное терпкое созвучие — молодость, красное, белокурость, амазонку. Он будет смотреть на нее час, а может быть, много часов. Будет смотреть, как она ходит, смотреть, как сидит, смотреть, как смеется, смотреть, может быть, как танцует, слушать, может быть, как поет. День был увенчан, день обрел смысл. Что приложится, то уже подарок, уже избыток. Всегда так бывало: событие не приходило одно, перед ним летели птицы, впереди него всегда шли гонцы и предвестья, материнско–азиатский животный взгляд там, у двери, черноволосая деревенская красавица в окне, то ли, другое ли.
Одно мгновение он с дрожью чувствовал: «Будь я на десять лет моложе, на десять коротких лет, эта могла бы взять меня, поймать меня, обвести меня вокруг пальца». Нет, ты слишком молодая, маленькая красная царица, ты слишком молода для старого волшебника Клингзора! Он будет восхищаться тобой, выучит тебя наизусть, напишет тебя, навеки запечатлеет песнь твоей молодости; но он не отправится из–за тебя в паломничество, не взберется к тебе по веревочной лестнице, не совершит из–за тебя убийства, не споет серенаду под твоим красивым балконом. Увы, нет, всего этого он не сделает, старый художник Клингзор, старая овца. Он не будет любить тебя, не бросит на тебя взгляда, какой бросил на ту азиатку, какой бросил на ту черноволосую в окне, которая, может быть, нисколько не моложе, чем ты. Для них он не слишком стар, только для тебя. Царица Гор, красный цветок на горе. Для тебя, дикая гвоздика, он слишком стар. Тебе мало любви, которую может подарить Клингзор между полным работы днем и полным красного вина вечером. Тем лучше зато вопьет тебя мой глаз, стройная ракета, и будет помнить о тебе, когда ты давно для меня потухнешь.
Через комнаты с каменными полами и открытыми арками они прошли в зал, где над высокими дверями мерцали причудливо–несуразные фигуры лепных украшений, а вокруг, на темном фризе, плыли по сказочному, густо заселенному морю написанные красками дельфины, белые кони и розовые амурчики. Несколько стульев да на полу части разобранного рояля — больше ничего не было в этой большой комнате, но две соблазнительные двери выходили на два маленьких балкона над оперной площадью, а напротив, наискосок, выпячивались балконы соседнего дворца, тоже расписанные картинами, и красный дородный кардинал плыл там на солнце золотой рыбкой.
Отсюда они уже не пошли дальше. В зале были распакованы припасы и накрыт стол, появилось вино, редкое белое вино с севера, ключ к полчищам воспоминаний. Настройщик пустился наутек, растерзанный рояль молчал. Клингзор задумчиво поглядел на обнаженные кишки струн, затем тихо закрыл крышку. Глаза его болели, но в его сердце пел летний день, пела мать–сарацинка, раздольно и мощно пело голубое виденье Карено. Он ел, чокался, говорил ясно и весело, а за всем этим работал аппарат в его мастерской, его взгляд охватывал эту дикую гвоздику, этот цветок мака, как вода рыбку, — в его мозгу сидел усердный хронист и словно бы железными столбцами цифр записывал формы, ритмы, движения.
Разговоры и смех наполняли пустой зал. Умно и добродушно смеялся доктор, низко и приветливо Эрсилия, сильно и подспудно Агосто, легко, как птичка, художница, умно говорил поэт, шутливо говорил Клингзор, наблюдающе и чуть робко ходила красная Царица между своими гостями, дельфинами и конями, была там и здесь, стояла у рояля, присаживалась на подушку, нарезала хлеб, наливала вино неопытной девичьей рукой. Радость звенела в прохладном зале, глаза блестели черным и синим блеском, перед светлыми высокими балконными дверями замер на страже ослепительный полдень.
Ясною струёй лилось в стаканы благородное вино, прелестная противоположность простой холодной еде. Ясным пятном плавал красный свет платья Царицы по высокому залу, ясно и зорко следовали за ним взгляды всех мужчин. Она исчезла и появилась опять с обвязанной зеленым платком грудью. Исчезла и появилась опять с обвязанной синим платком головой.
После еды, устав и насытившись, весело двинулись в лес, улеглись в траве и мху, зонтики светились, лица пылали под соломенными шляпами, сверкая, горел солнечный день. Царица Гор лежала красным пятном в зеленой траве, светло поднималась из пламени ее тонкая шея, плотно и одушевленно сидел ее высокий ботинок на стройной ноге. Клингзор, вблизи от нее, читал ее, изучал ее, наполнял себя ею, как в детстве, читая волшебную сказку о Царице Гор, наполнял себя этой историей. Отдыхали, дремали, болтали, боролись с муравьями, воображали, что слышат танов. Вспоминали отсутствующих друзей, которые пришлись бы кстати в этот час, их было немного, жалели, что здесь нет друга Клингзора, Луи Жестокого, живописца каруселей и цирков, его фантастический дух витал над собравшимися.
Послеполуденные часы прошли как год в раю. Прощаясь, много смеялись, Клингзор все унес в сердце: Царицу, лес, дворец и зал с дельфинами, обеих собак, попугая.
Спускаясь между друзьями с горы, он постепенно пришел в то радостное и бесшабашное настроение, которое случалось у него только в те редкие дни, когда он добровольно оставлял работу. Рука об руку с Эрсилией, с Германом, с художницей, он вприпрыжку шагал впив по освещенной солнцем дороге, напевал песни, по–детски наслаждался остротами, каламбурами, самозабвенно смеялся. Он забегал вперед и прятался в каком–нибудь укрытии, чтобы напугать остальных.
Как ни быстро они двигались, солнце двигалось быстрее, уже у Палаццетто оно зашло за гору, а внизу, в долине был уже вечер. Они сбились с дороги, спустились слишком низко, все устали, проголодались, и пришлось отказаться от планов, напеченных на вечер: от прогулки через ржаное поле в Варенго и рыбного блюда в трактире этой приозерной деревни.
— Дорогие мои, — сказал Клингзор, сев на каменную ограду у дороги, — наши планы были прекрасны, и, конечно, хороший ужин у рыбаков или в Монте д’Оро вызвал бы у меня благодарность. Но туда паи уже не дойти, по крайней мере мне. Я устал и проголодался. Отсюда я не пойду ни на шаг дальше, чем до ближайшего погребка, который конечно, недалеко. Там найдется хлеб и вино, этого достаточно. Кто со мной?
Пошли все. Огойо был найден, среди лесных круч, на узкой террасе стояли каменные скамьи и столы во мраке деревьев, из погреба в скале хозяин принес холодное вино. Хлеб был. Сидели и ели молча, довольные, что наконец–то сидят. За высокими стволами деревьев погас день, синяя гора стала черной, красная дорога — белой, слышались шум повозки и лай собаки внизу на ночной дороге, там и сям загорались на небе звезды, а на земле огни, и их нельзя было отличить друг от друга.
Клингзор сидел счастливый, отдыхал, глядел в ночь медленно наполнялся черным–хлебом, тихо осушал голубоватые чашки с вином. Насытившись, он опять стал болтать и петь, качался в такт песням, заигрывал с женщинами вдыхал аромат их волос. Вино показалось ему хорошим. Старый совратитель, он легко переубедил предлагавших продолжить путь, пил вино, наливал вино. нежно чокался требовал еще вина.
Медленно поднимались из глиняных голубоватых чашек, символа бренности, пестрые чары, преображали мир, окрашивали звезды и свет.
Высоко парили они на качелях над пропастью мира и ночи, птицы в золотой клетке, без родного дома, без тяжести, лицом к звездам. Они пели, птицы, пели экзотические — песни, из хмельных сердец бросали они свои фантазии в ночь, в небо, в лес, в сомнительный, очарованный космос. Отвечали звезды и луна, деревья и горы, Гете сидел здесь и Хафиз, жарко благоухал Египет, проникновенно благоухала Греция, Моцарт улыбался, Гуго Вольф играл на рояле в безумной ночи.
Раздался пугающий грохот, резко ударил свет: под ними, сквозь–сердце земли, сотнями ослепительно светлых окон влетел в гору и в ночь железнодорожный состав, сверху, с неба, зазвонили колокола невидимой церкви. Соглядатаем поднялся над столом полумесяц, заглянул, отразившись, в темное вино, выхватил из темноты рот и глаз одной из женщин, улыбнулся, поднялся выше, подпел звездам. Дух Луи Жестокого примостился на скамейке, сидел в одиночестве, писал письма.
Клингзор, Царь Ночи, с высоким венцом в волосах, откинувшись на каменном сиденье, дирижировал танцем мира, обозначал такт, вызвал луну, убрал поезд. Тот исчез, как падает созвездие за край неба. Где Царица Гор? Не звучал ли рояль в лесу, не лаял ли вдалеке маленький недоверчивый лев? Разве не только что она была здесь, в синем платке на голове? Эй, старый мир, смотри не рухни! Сюда, лес! Туда, черные горы! Не сбиваться с такта! Звезды, какие вы синие и красные, совсем как в народной песне: «Красные вы очи, синие уста!»
Писать картины прекрасно, писать картины — это славная игра для послушных детей. Другое дело, крупнее и весомее, — дирижировать звездами, вносить в мир такт собственной крови, хроматические круги собственной сетчатки, передавать ветру ночи вибрацию собственной души. Прочь, черная гора! Будь тучей, лети в Персию, пролейся дождем над Угандой! Сюда, дух Шекспира, спой нам свою пьяную шутовскую песню о дожде, который идет каждый день!
Клингзор целовал какую–то женскую ручку, он прислонился к какой–то приятно дышавшей женской груди лакая–то нога под столом играла его ногой. Он не знал, чья рука, чья нога, он чувствовал нежность вокруг себя по–новому и благодарно чувствовал старое волшебство – он был еще молод, до конца было еще далеко, еще исходили от него блеск и соблазн,.они еще любили его, славные нерешительные бабенки, еще рассчитывали на него.
Он расцвел пышнее. Тихим, ноющим голосом он начал рассказывать невероятную эпопею, историю одной любви или, вернее, одного путешествия в южные моря, где он в компании Гогена и Робинзона открыл остров попугаев и основал республику Блаженных Островов. Как сверкали на вечерней заре тысячи попугаев, как отражались их синие хвосты в зеленой бухте! Их крик и стоголосый крик больших обезьян приветствовал его, как гром, его, Клингзора когда он провозгласил эту республику. Белому какаду он поручил сформировать кабинет, а с мрачной птицей–носорогом пил пальмовое вино из тяжелых кокосовых чаш. О, луна той поры, луна блаженных ночей, луна над хижиной, стоявшей на сваях среди камыша! Ее звали Кюль Калюа, робкую коричневую принцессу; стройная, удлиненная, шагала она по банановой роще, отливая медом под сочной сенью огромных листьев, — глаза лани на нежном лице, кошачья пылкость в сильной, гибкой спине, кошачий прыжок в упругой лодыжке я поджарой ноге. Кюль Калюа, дитя, первобытная пылкость и детская невинность священного Юго–Востока, тысячу ночей лежала ты у груди Клингзора, и каждая была новой, каждая была горячее, была прекраснее чем все прежние. О, праздник земного духа, когда девы острова попугаев плясали перед божеством!
Над островом, Робинзоном и Клингзором, над повестью и ее слушателями висела куполом белозвездная ночь тихо как дышат грудь и живот, вздымалась гора под деревьями под домами, под ногами людей, лихорадочно–торопливо плясала по полушарию неба влажная луна, преследуемая звездами в дикой безмолвной пляске. Цепи звезд выстроились блестящей ниткой канатной дороги в рай. Девственный лес по–матерински верещал, первобытный ил дышал распадом и зачатием, ползла змея, полз крокодил, безбрежно разливался поток творений.
— А я буду снова писать, — сказал Клингзор, — уже завтра. Но больше не эти дома, не этих людей, не эти деревья. Писать я буду крокодилов и морских звезд, драконов и пурпуровых змей, и все это в становлении, в изменении, полным жажды стать человеком, стать звездой, полным родов, полным тлена, полным Бога и смерти.
Среди его негромких слов и среди сумятицы этого пьяного часа низко и ясно звучал голос Эрсилии, она тихо напевала песню о красивом букете цветов, от ее песни шел покой. Клингзор слушал ее так, словно она доносилась с далекого плавающего острова через моря времени и одиночества. Он опрокинул свою пустую глиняную чашку и больше не наполнял ее. Он слушал. Пел ребенок. Пела мать. Кто же ты — беспутный мерзавец, прошедший сквозь всю грязь мира, босяк и дрянь или малое, глупое дитя?
— Эрсилия, — сказал он почтительно, — ты наша добрая звезда.
Через крутой темный лес, в гору, цепляясь за ветки и корни, пробирались к дому. Добрались до светлой опушки, вышли в поле, тропинка в кукурузе дышала ночью и возвращением домой, отсвет луны на кукурузном листе, косо убегающие ряды виноградника. Теперь Клингзор пел, тихо, хрипловатым голосом, пел тихо и много, по–немецки и по–малайски, со словами и без слов. Тихим пением он изливал скопившееся в нем — так бурая стена излучает вечером собранный за день свет.
Один за другим откланивались друзья, исчезали в тени лоз на узких тропинках. Каждый уходил, каждый был сам по себе, стремился домой, был одинок под небом. Одна из женщин поцеловала Клингзора на прощание, жгуче впилась в его рот губами. Разбрелись, растаяли все. Поднимаясь в одиночестве по лестнице к своему жилью. Клингзор все еще пел. Он пел хвалу Богу и себе самому, он славил Ли Тай Пе и славил доброе вино из Пампамбьо. Как идол, покоился он на облаках утверждения.
— Внутри, — пел он, — я как золотой шар, как купол собора, там стоят на коленях, молятся, стены сверкают золотом, на старой картине истекает кровью Спаситель, истекает кровью сердце Пречистой Девы. Мы тоже истекаем кровью, мы, прочие, мы, заблудшие, мы, звезды и кометы, семь и дважды семь мечей пронзают нашу блаженную грудь. Я люблю тебя, светловолосая и чернокудрая женщина, такие же бедные дети и неудавшиеся полубоги, как пьяный Клингзор. Привет тебе, возлюбленная жизнь! Привет тебе, возлюбленная смерть!
Клингзор — Эдит
Милая звезда на летнем небе!
Как хорошо и правдиво ты написала мне, и какой болью отзывается во мне твоя любовь — как вечное страдание, как вечный упрек. Но ты на добром пути, если признаешься мне, если признаешься себе в каждом движении сердца. Только никакое движение не называй мелким, не называй тоже, и зависть, и ревность, и жестокость. Ничем другим мы и не живем, кроме как нашими бедными, прекрасными, великолепными чувствами, и каждое, которое мы обижаем, — это звезда, которую мы гасим.
Люблю ли я Джину, не знаю. Весьма сомневаюсь в этом. я вообще любить. Я способен вожделеть, способен искать себя в других людях, ловить эхо, искать зеркала, способен стремиться к радости, и все это может выглядеть как любовь.
Мы оба, ты и я, блуждаем в одном и том же лабиринте, в лабиринте наших чувств, которые в этом скверном мире потерпели урон, и мы мстим за это, каждый по–своему, этому злому миру. Но каждый из нас хочет, чтобы мечта другого уцелела, потому что мы знаем, как красно и сладко вино мечты.
Ясность насчет своих чувств и насчет «возможных последствий» своих поступков есть только у добрых, благополучных людей, верящих в жизнь и не делающих ни одного шага, который они не одобрили бы и завтра, и послезавтра. Я не имею счастья причислять себя к ним, я чувствую и поступаю как человек, который не верит в жизнь и смотрит на каждый день как на последний.
Милая стройная женщина, я безуспешно пытаюсь выразить свои мысли. Выраженные мысли всегда так мертвы! Пускай они живут! Я глубоко и с благодарностью чувствую, как ты понимаешь меня, как что–то в тебе родственно мне. Как провести это по бухгалтерской книге жизни, суть ли наши чувства любовь, похоть, благодарность, сочувствие, материнские ли они или детские, этого я не знаю. Порой я гляжу на каждую женщину как опытный старый развратник, а порой как маленький мальчик. Порой меня больше всего соблазняет самая непорочная женщина, порой — самая нескромная. Все прекрасно, все священно, все бесконечно хорошо, что доводится мне любить. Почему, сколь долго, в какой степени, этого не измерить.
Я люблю не одну тебя, ты это знаешь, я люблю и не одну Джину, завтра и послезавтра я буду любить, буду писать другие картины. Но раскаиваться я не буду ни в одной любви, которую когда–либо чувствовал, ни в одном мудром деле и ни в одной глупости, которые я из–за нее совершил. Тебя я люблю, может быть, потому, что ты похожа на меня. Других я люблю потому, что они не такие, как я.
Сейчас поздняя ночь, луна стоит над Салюте. Как смеется жизнь, как смеется смерть!
Брось это глупое письмо в огонь и брось в огонь твоего Клингзора.
Музыка Гибели
Пришел последний день июля, любимый месяц Клингзора, высокий праздник Ли Тай Пе отцвел, миновал навсегда, подсолнечники в саду кричали золотом в синюю высь. Вместе с верным Ту Фу Клингзор странствовал в этот день по местам, которые он любил: выжженные предместья, пыльные дороги в высоких аллеях, выкрашенные в красный и оранжевый цвет хижины на песчаном берегу, грузовики и погрузочные причалы судов, длинные фиолетовые стены, пестрый бедный люд. Вечером этого дня он сидел в пыли на краю предместья и писал пестрые шатры и повозки карусели, у обочины дороги он примостился на голой, выжженной поляне, впиваясь в яркие краски шатров. Он вгрызался в выцветший сиреневый цвет стенки шатра, в радостные зеленый и красный цвета громоздких фургонов, в сине–белые шесты каркасов. Яростно рыл онкадмий, люто месил сладковато–прохладный кобальт, тянул расплывшийся краплак по желтому и зеленому небу. Еще час, ох, меньше — и конец, наступит ночь, а завтра начнется уже август, горючий, горячечный месяц, вливающий столько страха смерти, столько робости в свои обжигающе жаркие чаши. Коса была наточена, дни шли на убыль, смерть смеялась, притаившись в побуревшей листве. Звени во весь голос и греми, кадмий! Громко хвастай, буйный краплак! Звонко смейся, лимонно–желтая! Сюда, густо–синяя гора дали! Ко мне, к моему сердцу, пыльно–зеленые, вялые деревья! Как вы устали, как опустили покорные, кроткие ветки! Я пью вас, прелестные создания!
Я изображаю перед вами прочность, и бессмертие, это я–то, такой бренный, такой скептический, такой грустный, страдающий больше, чем все вы, от страха смерти. Июль сгорел, скоро сгорит август, внезапно дохнет на нас холодом из желтой листвы росистого утра великий–призрак. Внезапно начнет мести над лесом ноябрь. Внезапно засмеется великий призрак, внезапно застынет у нас сердце, внезапно отвалится у нас от костей милая розовая плоть, завоет шакал в пустыне, хрипло запоет свою мерзкую песню стервятник. Какая–нибудь мерзкая газетенка большого города поместит мой портрет, и под ним будет написано: «Замечательный художник–экспрессионист, великий колорист, умер шестнадцатого числа этого месяца».
С ненавистью метнул он борозду парижской лазури под зеленый цыганский фургон. С горечью кинул кромку хромовой желтой на придорожные тумбы. С глубоким отчаянием положил киноварь в оставленный пробел, убрал требовательную белизну, кровоточа сражался за долговечность, взывал светло–зеленой и неаполитанской желтой к неумолимому богу. Со стоном бросил больше синей на вялую пыльную зелень, с мольбой зажег более проникновенные огни на вечернем небе. Маленькая палитра, полная чистых, несмешанных красок светящейся яркости, — она была его утешением, его башней, его арсеналом, его молитвенником, его пушкой, из которой он стрелял в злобную смерть. Пурпур был отрицанием смерти, киноварь была насмешкой над тлением. Хороший был у него арсенал, блестяще держался его маленький храбрый отряд, сияя, громыхали быстрые вы стрелы его пушек. Ведь ничего не поможет, ведь всякая стрельба напрасна, а все–таки стрелять хорошо, это счастье и утешение, это еще жизнь, еще торжество.
Ту Фу уходил навестить какого–то приятеля, жившего там, между фабрикой и грузовым причалом, в своем волшебном замке. Теперь он пришел и привел его с собой, этого звездочета–армянина.
Клингзор, закончив картину, облегченно вздыхал, когда увидел рядом с собой славные светлые волосы Ту Фу, черную бороду и улыбавшийся белыми зубами рот мага. А с ними пришла и тень, длинная, темная, с глубоко запавшими в глазницы глазами. Привет и тебе, тень, добро пожаловать, милая!
— Ты знаешь, какой сегодня день? — спросил Клингзор своего друга.
— Последний день июля, я знаю.
— Сегодня я составил гороскоп, — сказал армянин, — и узнал, что этот вечер кое–что принесет мне. Сатурн стоит зловеще. Марс нейтрально. Юпитер господствует. Ли Тай Пе, вы родились не в июле?
— Я родился второго июля.
— Так я и думал. Ваши звезды находятся в сложном положении, истолковать их можете только вы сами. Плодовитость окружает вас, как облако, готовое лопнуть. Странно стоят ваши звезды, Клингзор. Вы должны это чувствовать.
Ли собрал свои принадлежности. Погас мир, который он писал, погасло желтое и зеленое небо, утонуло синее светлое знамя, была убита и увяла прекрасная желтизна. Ему хотелось есть и пить, горло у него было забито пылью.
— Друзья, — сказал он ласково, — давайте проведем этот вечер вместе. Больше мы, четверо, вместе уже не будем, я прочел это не по звездам, это написано у меня в сердце. Мой месяц июль прошел, сумрачно горят его последние часы, из бездны зовет великая мать. Никогда не был мир так прекрасен, никогда не получалось у меня такой прекрасной картины, дрожат зарницы, зазвучала музыка гибели. Будем подпевать ей, этой сладостной страшной музыке, останемся вместе, будем пить вино и есть хлеб.
Возле карусели, шатер которой как раз покрывали крышей и готовили к вечеру, стояло несколько столов под деревьями, сновала хромая служанка, в тени укрылся маленький кабачок. Здесь они остались, уселись за стол из досок, был подан хлеб, разлито по глиняным чашкам вино, под деревьями зажглись огни, загремел органчик карусели, швыряя в вечер свою ломкую, пронзительную музыку.
— Я триста кубков осушу сегодня! — воскликнул Ли Таи Пе и чокнулся с тенью. — Привет тебе, тень, стойкий оловянный солдатик! Привет вам, друзья! Привет вам электрические огни, дуговые лампы и сверкающие блестки на карусели! О, если бы здесь был Луи, эта непоседливая птица! Может быть, он уже прежде нас улетел в небо. А может быть, он уже завтра вернется, старый шакал, и не застанет нас и поставит дуговые лампы и шесты с вымпелами на нашу могилу.
Маг тихо удалился и принес еще вина, его красный рот весело улыбался белыми зубами.
— Печаль, — сказал он, бросив взгляд на Клингзора — такая вещь, которую не надо носить с собой. Это так легко — достаточно одного часа, одного короткого напряженного часа со стиснутыми зубами, чтобы навсегда покончить с печалью.
Клингзор внимательно смотрел на его рот, на светлые чистые зубы, которые некогда, в какой–то жгучий час, задушили и насмерть загрызли печаль. Получится ли и у него то, что получилось у звездочета? О короткий, сладостный взгляд в далекие сады: жизнь без страха, жизнь без печали! Он знал: эти сады ему недоступны. Он знал: ему суждено другое, по–другому глядел на него Сатурн, другие песни хотел играть бог на его струнах.
— У каждого свои звезды, — медленно сказал Клингзор, — у каждого своя вера. Я верю только в одно: в гибель. Мы едем в повозке над пропастью, и лошади понесли. Мы обречены на гибель, мы все, мы должны умереть, мы должны родиться заново, для нас пришло время великого поворота. Везде одно и то же: великая война, великий перелом в искусстве, великий крах государств Запада. У нас в старой Европе умерло все, что было у нас хорошо и нам свойственно; наш прекрасный разум стал безумием, наши деньги — бумага, наши машины могут только стрелять и взрываться, наше искусство — это самоубийство. Мы гиб нем, друзья, так нам суждено, зазвучала тональность Цзин Цзэ.
Армянин налил вина.
— Как хотите, — сказал он. — Можно сказать «да», и можно сказать «нет», это всего лишь детская игра. Гибель, упадок — это нечто не существующее на свете. Чтобы были упадок или подъем, надо, чтобы были низ и верх. Но низа и верха нет, это живет лишь в мозгу человека, в отечестве иллюзий. Все противоречия — это иллюзии: белое и черное — иллюзия, жизнь и смерть — иллюзия, зло и добро — иллюзия. Достаточно часа, одного жгучего часа со стиснутыми зубами, чтобы преодолеть царство иллюзий. Клингзор слушал его славный голос.
— Я говорю о нас, — ответил он, — я говорю о Европе, о нашей старой Европе, две тысячи лет считавшей себя мозгом мира. Это гибнет. Думаешь, я не знаю тебя, маг? Ты посланец Востока, ты послан и ко мне, может быть, шпион, может быть, переодетый полководец. Ты здесь потому, что здесь начинается конец, потому, что ты чувствуешь здесь гибель. Но мы рады погибнуть, рады умереть, мы не сопротивляемся.
— — Ты можешь также сказать: мы рады родиться, — засмеялся азиат. — Тебе кажется это гибелью, а мне, может быть, рождением. То и другое — иллюзия. Человек, который верит, что земля — это устойчивый диск под небом, видит подъем и гибель и верит в них, а в устойчивый диск верят все, почти все! Даже звезды не знают восхода и захода.
— Разве звезды не закатились? — воскликнул Ту Фу.
— Для нас, для наших глаз.
Он налил дополна чашки, он все время исполнял обязанности виночерпия, все время готов был услужить и улыбался при этом. Он сходил с пустым кувшином за новым вином. Оглушительно кричала карусельная музыка.
— Пойдемте туда, там так прекрасно, — попросил Ту Фу, и они пошли туда, стали у расписного барьера, смотрели, как кружится, беснуясь в ослепительном блеске мишуры и зеркал, карусель, как сотни детей пожирают глазами это сверкание. На миг Клингзор глубоко и смешливо почувствовал всю дикарскую первобытность этой вертящейся машины, этой механической музыки, этих ярких, буйных картин и красок, зеркал и нелепых украшенных столбов, во всем было что–то от знахаря и шагам, от волшбы и старинных крысоловов, и весь этот дикий, буйный блеск был в сущности, не чем иным, как дрожащим блеском блесны, на которую, принимая ее за рыбку, ловится щука.
Всем детям надо было покататься на карусели. Всем детям давал Ту фу деньги, всех детей угощала тень. Толпами окружали они дарителей, приставали, клянчили, благодарили. Одну красивую белокурую девочку двенадцати лет одаривали все, она не пропустила ни одного круга В сиянье огней прелестно развевалась короткая юбка вокруг ее красивых мальчишеских ног. Один мальчик плакал. Мальчики дрались. Бичами хлопали под органчик литавры, вливая огонь в такт, опиум в вино. Долго стояли они вчетвером среди сутолоки.
Потом они снова сидели под деревом, армянин разливал по чашкам вино, ворошил гибель, улыбался светлой улыбкой.
— Три сотни чаш мы осушим сегодня, — пел Клингзор; его загорелая голова пылала желтым огнем, громко звенел его смех; печаль великаном преклонила колени на его трепещущем сердце. Он чокался, он славил гибель, желание умереть, тональность Цзин Цзэ. Вурио гремела музыка карусели. Но в глубине сердца сидел страх, сердце не хотело умирать, сердце ненавидело смерть.
Вдруг из трактира яростно вырвалась в ночь какая то вторая музыка, пронзительная, горячая. На первом этаже возле камина, карниз которого был красиво уставлен винными бутылками, грянуло механическое фортепьяно пулеметом, яростно, ругательно, торопливо. Из расстроенного инструмента кричала боль, тяжелым паровым катком давил ритм стонущие неблагозвучия. Кругом был народ, свет, шум, танцевали парни и девушки, и хромая служанка тоже, и Ту фу. Он танцевал с той белокурой девочкой Клингзор смотрел на них, легко и прелестно развевалось ее летнее платьице вокруг тонких красивых ног, ласково улыбалось полное любви лицо Ту фу. Возле камина сидели другие, пришедшие из сада, вблизи музыки, среди шума Клингзор видел звуки, слышал краски. Маг брал бутылки с камина, откупоривал, наливал. Светлой была улыбка на его смуглом умном лице. Ужасно гремела музыка в нижнем зале. в шеренге старых бутылок над камином армянин медленно пробивал брешь — так святотатец забирает из алтарной утвари чашу за чашей.
— Ты великий художник, — шептал звездочет Клингзору, наполняя его чашку. — Ты один из величайших художников этой эпохи. Ты вправе называться Ли Тай Пе. Но ты, Ли Тай, ты затравленный, жалкий, замученный и запуганный человек. Ты затянул песнь гибели, ты поешь ее, сидя в своем горящем доме, который ты сам и поджег, и тебе при этом нехорошо. Ли Тай Пе, хотя ты каждый день осушаешь три сотни чаш и чокаешься с луной. Тебе при этом нехорошо, тебе очень больно при этом, певец гибели, — не хочется ли тебе перестать? Не хочется ли тебе жить? Не хочется ли тебе пребывать на свете?
Клингзор выпил и зашептал в ответ своим хрипловатым голосом:
— Разве можно повернуть судьбу? Разве существует свобода воли? Разве ты, звездочет, можешь направить мои звезды иначе?
— Направить — нет, я могу их только толковать. Направить себя можешь только ты сам. Свобода воли существует. Она называется магией.
— Почему я должен заниматься магией, если я могу заниматься искусством? Разве искусство не так же хорошо?
— Все хорошо. Ничто не хорошо. Магия уничтожает иллюзии. Магия уничтожает ту худшую иллюзию, которую мы называем «время».
— А разве искусство — нет?
— Оно пытается. Тебе достаточно твоего нарисованного июля, который ты носишь в своих папках? Ты уничтожил время? Тебе не страшна осень, не страшна зима?
Клингзор вздохнул и промолчал, он молча выпил, молча наполнил маг его чашку. Бесновалась, сорвавшись с цепи, фортепьянная машина, среди танцующих ангельски парило лицо Ту Фу. Июль кончился.
Клингзор поиграл пустыми бутылками на столе, выстроил их в круг.
— Это наши пушки, — воскликнул он, — этими пушками мы расстреляем время, расстреляем смерть, расстреляем беду. Красками тоже я стрелял в смерть, огненной зеленой, взрывчатой киноварью, очаровательным гераневым лаком. Я не раз попадал ей в голову. Белую и синюю я всаживал ей в глаз. Не раз я обращал ее в бегство. Еще не раз я в нее попаду, одержу над ней верх, перехитрю ее. Смотрите на этого армянина, он опять открывает старую бутылку, и закупоренное солнце минувших лет бросается нам в кровь. Этот армянин тоже помогает нам стрелять в смерть, армянин тоже не знает другого оружия против смерти.
Маг отломил кусок хлеба и стал есть.
— Против смерти мне не нужно оружия, потому что смерти нет. А есть одно — страх смерти. Его можно побороть, против него есть оружие. Это дело одного часа — преодолеть страх. Но Ли Тай Пе не хочет. Ведь Ли Тай Пе любит смерть, ведь он любит свой страх смерти, свою печаль, свою беду, ведь только страх научил его всему, что он умеет и за что мы его любим.
Он насмешливо чокнулся, его зубы сверкали, лицо его становилось все веселее, страдание, казалось, было чуждо ему. Никто не ответил. Клингзор стрелял в смерть из пушки вина. Громадой стояла смерть у открытых дверей зала, разбухшего от людей, вина и танцевальной музыки. Громадой стояла смерть у дверей, тихо трясла черную акацию, мрачно насторожилась в саду. Все снаружи было полно смерти, полно–смертью, только здесь, в узком громком зале, еще сражались, еще великолепно и отважно сражались с той черной, что держала осаду и ныла за окнами.
Насмешливо смотрел через стол маг, насмешливо наполнял чашки. Много чашек Клингзор уже разбил, он подавал ему новые. Много выпил и армянин, но сидел, как и Клингзор, прямо.
— Давай пить. Ли, — глумился он тихо. — Ты же любишь смерть, ты же рад погибнуть, рад умереть. Разве ты этого не говорил, или я ошибаюсь, или ты ввел в заблуждение меня, да и себя самого? Давай пить. Ли, давай погибнем!
В Клингзоре вскипела злость. Он поднялся, выпрямился во весь рост, старый ястреб с острой головой, плюнул в вино, разбил об пол свою полную чашку. Красное вино разбрызгалось по залу, друзья побледнели, посторонние посторонние посмеялись.
Но маг молча и с улыбкой принес новую чашку, с улыбкой наполнил ее, с улыбкой поднес Ли Тай Пе. Тут и Ли, тут и он улыбнулся. По его искаженному лицу улыбка пробежала, как лунный свет.
— Дети, — воскликнул он, — пускай говорит этот чужеземец! Он много знает, старая лиса, он пришел из скрытой и глубокой норы. Он много знает, но он не понимает нас. Он слишком стар, чтобы понимать детей. Он слишком мудр, чтобы понимать дураков. Мы, мы, умирающие, знаем о смерти больше, чем он. Мы люди, не звезды. Взгляните на мою руку, которая держит эту синюю чашечку с вином! Она многое умеет, эта рука, эта смуглая рука. Она писала множеством кистей, она вырывала из мрака и показывала людям новые куски мира. Эта смуглая рука гладила множество женщин под подбородком и соблазнила множество девушек, ее много целовали, на нее падали слезы. Ту Фу сочинил стихи в ее честь. Эта славная рука, друзья, скоро будет полна земли и личинок, никто из вас не станет больше дотрагиваться до нее. Что ж, именно поэтому я ее и люблю. Я люблю свою руку, люблю свои глаза, люблю свой белый, нежный живот, люблю их с сожалением, с насмешкой и с великой нежностью, потому что всем им суждено скоро увять и сгнить. Тень, сумрачный друг, старый оловянный солдатик на могиле Андерсена, тебя, милая, ждет та же участь! Чокнись со мной, да здравствуют наши славные части тела и внутренности!
Они чокнулись, сумрачно улыбнулась своими глубоко запавшими глазами тень — и вдруг по залу что–то прошло, как ветер, как дух. Внезапно умолкла музыка, вдруг, словно погаснув, исчезли танцоры, поглощенные ночью, и потухла половина огней. Клингзор посмотрел на черные двери. За ними стояла смерть. Он видел, как она стоит. Он слышал ее запах. Как капли дождя в придорожной листве — так пахла смерть.
Тут Ли отодвинул от себя чашку, оттолкнул стул и медленно вышел из зала в темный сад и пошел прочь, в темноте, под вспышки зарниц над головой, один. Сердце лежало у него в груди тяжестью, как камень на могиле.
Вечер в августе
Вечером, очень усталый — он после полудня на солнце и на ветру писал возле Мануццо и Вельи, — Клингзор лесом, через Велью, пришел в маленькую сонную деревушку Канветто. Ему удалось вызвать какую–то старуху хозяйку, она принесла ему вино в глиняной чашке, он сел на ореховый пенек у двери, распаковал свой рюкзак, нашел в нем еще кусок сыру и несколько слив и стал ужинать. Старуха сидела с ним, седая, сгорбленная, беззубая, и, шевеля дряблыми складками шеи, с затихшими старыми глазами, рассказывала о жизни своего поселка и своей семье, о войне и дороговизне, о состоянии полей, о вине и молоке и сколько они стоили, об умерших внуках и эмигрировавших сыновьях; все эпохи и созвездия этой маленькой крестьянской жизни были представлены ясно и приветливо, грубые в своей скудной красоте, полные радости и заботы, полные страха и жизни. Клингзор ел, пил, отдыхал, слушал, спрашивал о детях и скотине, о священнике и епископе, учтиво хвалил бедное вино, предложил последнюю сливу, пожал руку, пожелал спокойной ночи и, опираясь на палку, с мешком за плечами, медленно побрел в редкий лес, в гору, к ночлегу.
Был поздний, золотой час, везде еще горел свет дня, но луна уже поблескивала, и первые летучие мыши плавали в зеленом мерцающем воздухе. Опушка стояла в мягких последних лучах, светлые стволы каштанов перед черными тенями, желтая хижина тихо испускала вобранный за день свет, мягко пылая, как желтый топаз, розовые и фиолетовые тропинки тянулись через луга, лозы и лес, кое–где виднелись желтые уже ветки акаций, небо на западе, над бархатно–синими горами, было золотым и зеленым.
О, если бы теперь можно было еще поработать, в последние заколдованные четверть часа зрелого летнего дня, который никогда не вернется! Как невыразимо уже было теперь все, как спокойно, как добро и щедро, как полно Бога!
Клингзор сел в прохладную траву, машинально потянулся за карандашом и тут же с улыбкой опустил руку. Он смертельно устал. Его пальцы перебирали сухую траву, сухую, рассыпчатую землю. Как долго еще, прежде чем эта волнующая игра кончится? Как долго еще, прежде чем руки, рот и глаза наполнятся землей? Ту Фу прислал ему на днях стихи, он вспомнил их и медленно произнес про себя:
Листвой с дерев летит Мой срок земной. Как я тобою сыт, Как пьян тобой, Как изнуряешь ты, О мир, манящий Мельканьем красоты, Столь преходящей! Ветер будет, летя, Над могилой моей свистеть, А мать на дитя С любовью будет глядеть. Мне бы только глаза ее вновь увидать, Взгляд ее – это моя звезда. Ничего и не нужно больше. Одна лишь мать, Вечная мать остается всегда, Всех нас родившая, — только она. Все остальное радо уйти из мира. Наши бесчисленные имена Пишет она на летучей струе эфира.Вот и хорошо. Сколько еще жизней осталось у Клингзора от его десяти? Три? Две? Уж во всяком–то случае больше, чем одна добропорядочная, обыкновенная, заурядная мещанская жизнь. И он много сделал, много видел, исписал много бумаги и холста, взволновал много сердец любовью и ненавистью, внес в мир много скандального и свежего в искусстве и в жизни. Любил множество женщин, разрушил множество традиций и святынь, отважился на множество новых дел.
Осушил множество полных чаш, надышался множеством дней и звездных ночей, загорал под множеством солнц, плавал во множестве вод. И вот он сидит здесь, в Италии, или в Индии, или в Китае, летний вечер капризно теребит кроны каштанов, мир совершенен и хорош. Безразлично, напишет ли он еще сто картин или десять, проживет ли еще одно лето или двадцать. Он устал, устал. Все умирает, все радо уйти из мира. Молодчина Ту Фу!
Пора вернуться домой. Он проковыляет в комнату, его встретит ветер, влетев в балконную дверь. Он зажжет свет и распакует свои эскизы. Лесная чаща с большим количеством хромовой желтой и китайской лазури, пожалуй, хороша, когда–нибудь выйдет картина. Надо подниматься, пора.
Однако он продолжал сидеть, с ветром в волосах, в распахнутой, вымазанной полотняной куртке, с улыбкой и болью в вечернем сердце. Мягко и вяло дул ветер, мягко и бесшумно кружились летучие мыши в гаснущем небе. Все умирает, все радо уйти из мира. Одна лишь мать, вечная мать остается всегда.
Можно поспать и здесь, хотя бы час, ведь еще тепло. Он положил голову на мешок и стал смотреть в небо. Как прекрасен мир, сыт становишься им, устаешь от него!
Послышались шаги, кто–то спускался с горы, крепко ступая свободно подвязанными деревянными подошвами. Между папоротниками и дроком показалась какая–то фигура, женщина, цвета ее одежды уже нельзя было различить. Она приблизилась, шагая ровным, здоровым шагом. Клингзор вскочил и выкрикнул приветствие. Она немного испугалась и на миг остановилась. Он посмотрел ей в лицо Он знал ее, но не помнил — откуда. Она была хороша собой и смугла, ее красивые крепкие зубы ярко сверкали.
— Вот так так! — воскликнул он и подал ей руку. Он чувствовал, что что–то связывает его с этой женщиной, какое–то воспоминание. — Мы разве не знакомы?
— Мадонна! Да вы же художник из Кастаньетты! Вы меня еще не забыли?
Да, теперь он вспомнил. Она была крестьянка из долины, где стоял кабачок, возле ее дома он однажды, в уже потускневшем и сумбурном прошлом этого лета, писал несколько часов, брал воду из ее колодца, подремал в тени фигового дерева, а на прощанье получил от нее стакан вина и поцелуй.
— Вы больше не приходили, — пожаловалась она. — А уж так мне обещали.
Озорство и вызов слышались в ее низком голосе. Клингзор оживился.
— Ну, так, тем лучше, что сейчас ты пришла ко мне! Ну и повезло же мне, как раз сейчас, когда я один и грущу.
— Грустите? Не обманывайте меня, сударь, вы шутник, ни одному вашему слову верить нельзя. Ну, мне надо идти.
— О, тогда я провожу тебя.
— Вам не по пути, да и незачем. Что со мной случится?
— С тобой–то ничего, а вот со мной… Вдруг кто–нибудь встретится, понравится тебе, пойдет с тобой, будет целовать твои милые губы, и твою шею, и твою прекрасную грудь, кто–нибудь другой, а не я. Нет, этому не бывать.
Он доложил ладонь ей на затылок и не отпускал ее.
— Звездочка моя! Моя радость! Моя маленькая сладкая слива! Укуси меня, а то я тебя съем.
Он поцеловал ее, со смехом запрокинувшуюся, в открытые сильные губы; отбиваясь и возражая, она уступила, ответила на поцелуй, покачала головой, засмеялась, попыталась вырваться. Он прижимал ее к себе, свои губы к ее губам, положив руку ей на грудь, ее волосы пахли, как лето — сеном, дроком, папоротниками/малиной. Переводя дух, он откинул назад голову и увидел на потухшем небе первую взошедшую звезду, маленькую и белую. Женщина молчала, ее лицо стало суровым, она вздохнула, положила ладонь на его руку и сильнее прижала ее к своей груди. Он ласково склонил и обнял одной рукой ее ноги, которые не сопротивлялись, уложил в траву.
— Ты меня любишь? — спросила она как маленькая девочка, — Бедная я!
Они выпили чашу, ветер гладил им волосы и уносил с собой их дыхание. Когда они расставались, он поискал в мешке и в карманах куртки, нет ли там чего–нибудь, чтоб подарить ей, нашел серебряную коробочку, еще наполовину полную курительного табака, опорожнил ее и дал ей.
— Нет, не в подарок, конечно! — заверил он ее. — Просто на память, чтобы ты не забывала меня.
— Я тебя не забуду, — сказала она. И: — Ты придешь еще?
Он погрустнел. Медленно поцеловал он ее в оба глаза.
— Приду, — сказал он.
Стоя неподвижно, он еще некоторое время слушал, как шагала она с горы на деревянных подошвах до траве, через лес, по земле, по камням, по листьям, по корням. И вот она исчезла. Чернел в ночи лес, теплый ветер гладил погасшую землю. Откуда–то, может быть от грибов а может быть, от увядших папоротников, резко и горько пахло осенью.
Клингзор не мог решиться пойти домой. Зачем теперь взбираться на гору, зачем идти в свои комнаты ко всем этим картинам? Он вытянулся в траве и лежал, глядя на звезды, наконец уснул и спал, пока его не разбудил то ли порыв ветра, то ли холод росы. Затем он поднялся в Кастаньетту, нашел свой дом, свою дверь, свои комнаты. Там лежали пись–ма и цветы, в его отсутствие приходили друзья.
Как он ни устал, он по старой упорной привычке хоть и среди ночи, а распаковал свои вещи и при свете лампы просмотрел листы со сделанными за день эскизами. Лесная чаща была очень хороша, зелень и камень в тени с крапинами света блестели прохладным, изысканным блеском, как кладовая алмазов. Он поступил правильно, работая только хромовой желтой, оранжевой и синей и отставив зеленую киноварь. Долго глядел он на этот лист.
Но для чего? Для чего все эти листы, полные красок? Для чего весь этот труд, пот, вся эта короткая пьяная радость творчества? Разве это давало избавление? Давало покой? Давало мир?
Без сил, едва успев раздеться, он рухнул в постель, погасил свет, пытался уснуть и тихо бормотал стихи Ту Фу:
Ветер будет, летя, Над могилой моей свистеть.Клингзор пишет Луи Жестокому
Дорогой Луиджи! Давно не слышно твоего голоса. Ты еще живешь на свете? Или твои кости уже гложет стервятник?
Ты когда–нибудь ковырялся вязальной спицей в остановившихся стенных часах? Я однажды это делал и видел, как в часы вдруг вселился бес и весь запас времени с треском полетел в тартарары, стрелки пустились взапуски по циферблату, они, как сумасшедшие, вращались со страшным шумом, очень быстро, а потом так же внезапно все кончилось, и часы испустили дух. Именно это происходит сейчас здесь, у нас: солнце и луна, обезумев, мчатся, словно их кто–то гонит по небу, дни летят, время убегает, словно через дыру в мешке–Надо думать, и конец будет такой же внезапный, и этот пьяный мир погибнет, вместо того чтобы снова взять буржуазно–добропорядочный темп.
Весь день я слишком занят, чтобы быть способным о чем–нибудь думать (как смешно это, между прочим, звучит, когда произносишь вслух такое так называемое «предложение»: «чтобы быть способным о чем–нибудь думать»!). Но вечером мне часто тебя не хватает. Тогда я обычно сижу где–нибудь в лесу, в одном из множества погребков, и пью свое любимое красное вино, которое обычно, правда, бывает не лучшим, но все–таки помогает сносить жизнь и вызывает сон. Несколько раз я даже засыпал за столом в погребке, доказывая под ухмылки туземцев, что с моей неврастенией дело обстоит не так скверно. Иногда мне составляют компанию друзья и девушки, и тогда приходится упражнять пальцы в лепке женского тела и говорить о шляпах, каблуках и об искусстве. Иногда удается достигнуть хорошей температуры, тогда мы всю ночь кричим и смеемся, и люди радуются, что Клингзор такой веселый малый. Здесь есть одна очень красивая женщина, которая каждый раз, когда я вижу ее, горячо спрашивает о тебе.
Искусство, которым мы оба занимаемся, все еще слишком привязано, как сказал бы какой–нибудь профессор, к предмету (хорошо бы изобразить это в виде ребуса). Мы все еще, хотя и чуть более вольным почерком и достаточно волнующе для буржуа, пишем предметы «реальности»: людей, деревья, ярмарки, железные дороги, ландшафты. В этом мы еще следуем некоей традиции. Ведь «реальными» мещанин называет предметы, которые всеми или хотя бы многими воспринимаются и описываются одинаково. Я собираюсь, как только кончится это лето, некоторое время писать только фантазии, главным образом — мечты. Это будет отчасти и а твоем вкусе, то есть безумно весело и неожиданно, примерно как в историях охотника на зайцев Коллофино о Кельнском соборе. Хоть я и чувствую, что почва подо мной стала довольно зыбкой, и в общем не жажду дальнейших лет и дел, мне все–таки хочется загнать в глотку этому миру еще парочку–другую шутих. Один покупатель картин написал мне недавно, что восхищается, глядя, как я в своих новейших работах переживаю вторую молодость. В этом, пожалуй, есть доля истины. По–настоящему я начал писать, мне кажется, только в этом году. Но то, что со мной сейчас происходит, похоже не столько на весну, сколько на взрыв.
Дорогой Луи, я уже не раз радовался про себя, что мы, два старых распутника, по сути, трогательно стыдливы и скорее размозжим друг другу стаканами голову, чем как–нибудь выдадим свои чувства друг к другу. Пусть так оно и останется, .старый еж!
На днях мы устроили в погребке возле Баренго праздник с вином и хлебом, великолепно звучало наше пение в высоком лесу среди ночи, старые римские песни. Так мало нужно для счастья, когда стареешь и уже чувствуешь холодок в ногах: восемь – десять часов работы в день, литр пьемонтского, полфунта хлеба, виргинская сигара, несколько приятельниц и, конечно, тепло и хорошая погода. Это у нас есть, солнце работает на славу, моя голова смугла, как голова мумии.
В иные дни у меня бывает такое ощущение, что моя жизнь и работа только теперь и начинаются, а иногда мне кажется, что я восемьдесят лет тяжко трудился и скоро получу право на покой и на отдых. Каждый когда–нибудь подходит к концу, милый Луи, и я в том числе, и ты. Бог знает, что я пишу тебе, видно, я не совсем здоров.
Это, конечно, ипохондрия, у меня часто болят глаза, и иногда меня преследует воспоминание об одной статье об отслоении сетчатки, которую я прочел много лет назад.
Когда я гляжу вниз через мою знакомую тебе балконную дверь, мне становится ясно, что нам надо еще поработать! Мир несказанно прекрасен и разнообразен, через эту зеленую высокую дверь он день и ночь взывает ко мне своим звоном, кричит, требует, и я снова и снова выбегаю ухватываю кусочек его, крошечный кусочек. Благодаря сухому лету здешние зеленые окрестности стали теперь удивительно яркими и рыжими, никак не думал, что снова возьмусь за красную охру и сиенскую землю. И впереди еще вся осень, жнивье, сбор винограда, уборка кукурузы, красные леса. Я во всем этом буду еще не раз участвовать изо дня в чувствую, я пойду внутрь и снова, как делал это одно время это.
Один большой парижский художник сказал молодому если вы хотите стать художником, то не забывайте, что прежде всего нужно хорошо есть. Во–вторых, очень важно пищеварение, заботьтесь о регулярности стула! И в–третьих: всегда имейте красивую подружку!» Да, этим азам искусства я, надо полагать, научился, и тут у меня никаких загвоздок вроде бы нет. Но в этом году, черт возьми, у меня и целыми днями только хлеб, порой я вожусь с желудком настоящей подруги, я имею дело с четырьмя–пятью женщинами и одинаково часто бываю утомлен и голоден. Что–то разладилось в часовом механизме, и после этого как я ковырнул его спицей, он хоть и заработал, но спешит как оголтелый и при этом ужасно тарахтит. Как проста жизнь, когда ты здоров! Ты еще не получал от меня таких длинных писем, разве что в те времена, когда мы спорили о палитре. Конечно, скоро пять часов, начинается этот прекрасный свет. Тебе шлет привет твой Клингзор.
Постскриптум:
Помню, что тебе понравилась одна моя картина, наиболее китайская из всех мною написанных, с хижиной, красной дорогой, зубчатыми деревьями «веронезе» и далеким игрушечным городом на заднем плане. Не могу послать ее сейчас, да и не знаю, где ты. Но она твоя, хочу на всякий случай сказать тебе это.
КЛИНГЗОР ПОСЫЛАЕТ СТИХИ СВОЕМУ ДРУГУ ТУ ФУ
(В те дни, когда он писал автопортрет)
Ночью в роще сижу на ветру, захмелев. Осень, с веток поющих сняла покров, И за новой бутылкой Для меня трактирщик спешит в подвал. Завтра, завтра в красную плоть мою Всадит звонкую косу мой бледный враг. Знаю, смерть притаилась, Настороженных не сводит глаз. Ей назло я ночь напролет пою, Пьяные звуки бросаю в усталый лес, Чтоб над ней поглумиться, Тяну я песню и чашу пью до дна. Много выпало дел мне, много досталось бед. Вот и вечер пришел. Я пью и со страхом жду, Что сверкнет, отсекая Голову мне от дрожащего тело, серп.Автопортрет
В первых числах сентября, после многих недель необыкновенно сухого зноя, выдалось несколько дождливых дней. В эти дни Клингзор «писал высокооконном зале своего палаццо в Кастаньетте автопортрет, который висит сейчас во Франкфурте.
Эта ужасная и в то же время волшебно прекрасная картина, его последнее вполне законченное произведение, заключает работу того лета, заключает некий удивительно пылкий и бурный период работы как его венец и вершина. Многие замечали, что каждый, кто знал Клингзора, сразу и безошибочно узнавал его на этом портрете, хотя не было картины, более далекой от всякого натуралистического сходства, чем эта.
Как все поздние произведения Клингзора, этот автопортрет можно рассматривать с самых разных точек зрения. Для многих, особенно для тех, кто не знал художника, эта картина прежде всего концерт красок, поразительного тона ковер, спокойный и благородный при всей пестроте. Другие видят тут последнюю смелую, даже отчаянную попытку освобождения от материальности (лицо, написанное как пейзаж, волосы, смахивающие на листву и кору деревьев, глазницы, как расселины в скалах), они говорят, что эта картина напоминает натуру не более, чем иной силуэт горы — человеческое лицо, иная ветка — руку или ногу, то есть лишь отдаленно, лишь символически. А многие, напротив, видят именно в этом произведении только предмет, лицо Клингзора, разобранное и истолкованное им самим с неумолимым психологизмом, великое откровение, беспощадную, кричащую, трогательную, страшную исповедь. Другие опять–таки, среди них некоторые ожесточеннейшие его противники, видят в этом портрете только результат и свидетельство клингзоровского, по их мнению, безумия. Натуралистически сравнивая голову на портрете с оригиналом, с фотографиями, они находят в искаженных, утрированных формах дикарские, дегенеративные, атавистические черты. Многие из них нападают на неподвижность и фантастичность этой картины, усматривая в ней какую–то отдающую мономанией самовлюбленность, какое–то кощунство и самолюбование, какую–то религиозную манию величия. Все эти точки зрения возможны, как и еще много других.
В те дни, когда он писал эту картину, Клингзор не выходил из дому, кроме как по ночам, чтобы выпить вина, ел только хлеб и фрукты, которые ему приносила хозяйка, не брился и при ввалившихся под черным от загара лбом глазах выглядел в этой запущенности действительно ужасающе. Писал он сидя по памяти, лишь изредка, почти только во времяперерывов в работе, он он подходил к большому, старомодному в розанах зеркалу на северной стене, вытягивал шею, таращил глаза, гримасничал.
Много, много ликов видел он за лицом Клингзора в большом зеркале между глупыми розанами: детские лица, милые и удивительные виски юноши, полные мечтательности и пыла, насмешливые глаза пьяницы, губы жаждущего, преследуемого, страдающего, ищущего, распутника, потерянного ребенка. Но голову он сделал величественной и жестокой, идола в дремучем лесу, влюбленного в себя, ревнивого Иегову, истукана, перед которым приносят в жертву первенцев и девственниц. Это были некоторые из его лиц. Другое лицо было лицо пропадающего, гибнущего, согласного со своей гибелью, обросший мхом череп, кривые старые зубы, трещины в дряблой коже, и в трещинах парша и плесень. Некоторые друзья любят в его картине именно это.
Они говорят: это — человек, се человек, усталый, жадный, дикий, инфантильный и изощренный человек нашей поздней эпохи, умирающий, желающий умереть европейский человек — утонченный всеми порывами, больной от всех пороков, воодушевленный знанием своей гибели, готовый ко всякому прогрессу, созревший для всякого регресса, весь — огонь, но и весь — усталость, покорный судьбе и боли, как морфинист яду, одинокий, опустошенный, древний, Фауст и Карамазов одновременно, зверь и мудрец, совершенно обнаженный, совершенно без честолюбия, совершенно голый, полный детского страха перед смертью и полный усталой готовности умереть.
А еще дальше, еще глубже за всеми этими ликами спали более далекие, более глубокие, более старые лики, дочеловеческие, животные, растительные, каменные, словно за миг до смерти последний человек на земле еще раз быстро, как во сне, вспоминал все облики своей древности и своей молодости в мире.
В эти неистово напряженные дни Клингзор жил, как в экстазе. Ночью он тяжело нагружался вином и, стоя со свечой в руке перед старым зеркалом, рассматривал лицо в стекле, уныло ухмыляющееся лицо пьяницы. В один из вечеров с ним была любовница, на диване в мастерской, и, прижав ее, голую, к себе, он глядел через ее плечо в зеркало, видел рядом с ее растрепанными волосами свое искаженное лицо, полное похоти и полное отвращения к похоти, с покрасневшими глазами.
Он пригласил ее прийти завтра снова, но ее объял ужас, она больше не приходила.
Ночью он спал мало. Он часто просыпался после страшных снов с лицом в поту, одичалый, уставший от жизни, но сразу же вскакивал, глядел в зеркало шкафа, смотрел на хаотический пейзаж этих смятенных черт, мрачно, с ненавистью или улыбаясь, как бы злорадствуя. Однажды ему приснилось, что его пытают, вбивают гвозди в глаза, разрывают крюками ноздри, и он нарисовал это казнимое лицо с гвоздями в глазах углем на обложке лежавшей под рукой книги; мы нашли этот странный рисунок после его смерти. В приступе поразившей лицо невралгии он привалился, скрючившись, к спинке стула, смеялся и кричал от боли, держа перед зеркалом обезображенное лицо, разглядывал, как оно дергается, глумился над слезами.
И не только свое лицо или тысячу своих лиц написал он на этом портрете, не только свои глаза и губы, скорбное ущелье рта, расщепленную скалу лба, свилеватые руки, дрожащие пальцы, сарказм ума, смерть в глазах. Своенравным, перегруженным, убористым и дрожащим почерком своей кисти он написал еще свою жизнь, свою любовь, свою веру, свое отчаяние. Стаи голых женщин написал он тоже, унесшихся, как птицы, заклянных перед идолом Клингзором, написал и юношу с лицом самоубийцы, и далекие храмы и леса, и старого бородатого бога, могучего и глупого, и рассеченную кинжалом женскую грудь, и бабочек с лицами на крыльях, и на самом заднем плане, на краю хаоса – смерть, серый призрак, вонзивший в мозг написанного Клингзора маленькое, как иголка, копье.
После того как он часами писал, в него вдруг вселялось беспокойство, он метался по комнатам, распахивал двери, выхватывал бутылки из шкафа, хватал книги с полок, срывал скатерти со столов, лежал, читая, на полу, высовывался, жадно дыша, в окна, искал старые рисунки и фотографии, заваливал полы и столы, кровати и стулья во всех комнатах бумагами, картинами, книгами, письмами. Все смешивалось в печальной неразберихе, когда в окна залетал ветер с дождем. Среди старых вещей он нашел свой детский портрет, фотографию, сделанную, когда ему шел четвертый год, он был на ней в белом летнем костюмчике, из–под белесых волос глядело мило–упрямое мальчишеское лицо. Он нашел портреты своих родителей, фотографии возлюбленных юных лет. Все занимало, раздражало, волновало, мучило его, тянуло то туда, то сюда, он все хватал, снова бросал, наконец убегал к своей деревянной доске и писал снова. Глубже бороздил ущелье своего портрета, шире возводил храм своей жизни, мощнее выражал вечность каждого существования, надрывнее его бренность, прелестнее его улыбающуюся символичность, насмешливее его обреченность истлеть. Потом он опять вскакивал, затравленный олень, и, как узник, метался по комнатам. Радость и глубокое блаженство творчества пронизывали его, как влажная ликующая гроза, пока боль опять не бросала его наземь и не швыряла ему в лицо черепки его жизни и его искусства. Он молился перед своей картиной и оплевывал ее. Он был безумен, как безумен всякий творец. Но в безумии творчества он безошибочно умно, как лунатик, делал все, чего требовало его творение. Он чувствовал и верил, что в этой жестокой битве за его портрет вершится не только судьба и отчет отдельного человека, но и нечто всечеловеческое, общее, необходимое. Он чувствовал: теперь он снова стоит перед какой–то задачей, перед какой–то судьбой, а весь предшествующий страх, все попытки бегства, весь хмель, весь угар были лишь страхом перед этой его задачей и бегством от нее. А теперь кончился страх, кончилось бегство, теперь оставалось только «вперед», оставалось только рубить и колоть, победить и погибнуть. Он побеждал, и он погибал, и страдал, и смеялся, и пробивал себе путь, убивал и умирал, рождал и рождался.
Один французский художник пожелал посетить его, хозяйка провела гостя в загроможденную вещами переднюю, где ухмылялись беспорядок и грязь. Клингзор вышел, краска на рукавах, краска на лице, серый, небритый, широкими шагами пролетел через переднюю. Чужестранец привез приветы из Парижа и Женевы, выразил свое уважение. Клингзор ходил взад и вперед, казалось, не слыша. Гость смущенно умолк, стал откланиваться, тогда Клингзор подошел к нему, положил на плечо запачканную краской руку, пристально посмотрел в глаза.
— Спасибо, — сказал он медленно, с трудом, — спасибо, дорогой друг. Я работаю, я не могу говорить. Слишком много говорят, всегда. Не сердитесь, передайте привет моим друзьям, скажите им, что я их люблю.
И скрылся в соседней комнате.
Готовую картину он поставил в конце этих неистовых дней в голой, пустовавшей кухне и запер. Он никому не показал ее. Затем он принял веронал и проспал сутки. Затем вымылся, побрился, сменил белье и одежду, поехал в город и купил фруктов и папирос, чтобы подарить их Джине.


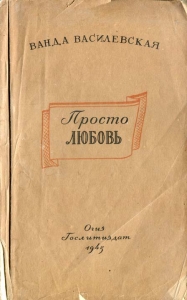
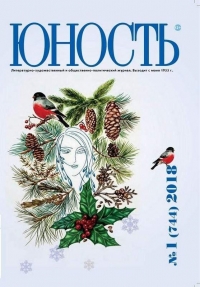

Комментарии к книге «Последнее лето Клингзора», Герман Гессе
Всего 0 комментариев