Владимир Набоков ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ, 1945
Так случилось, что у меня имеется малопочтенный тезка, полный — имя, фамилия, отчество, — человек, которого я никогда во плоти не видел, но имею возможность судить об этой пошлой личности по ее беспорядочным налетам на твердыню моей жизни. Неразбериха началась в Праге, где мне довелось жить в середине двадцатых годов. Я получил письмо из маленькой библиотеки, состоявшей, по-видимому, при какой-то из организаций Белой Армии, подобно мне, выехавшей из России. Письмо в озлобленных тонах требовало, чтобы я немедленно возвратил экземпляр «Протоколов сионских мудрецов». Книга эта, некогда уныло одобренная Государем, представляет собой подложный меморандум, составленный полуграмотным проходимцем и оплаченный тайной полицией; единственной целью его было — подстрекнуть погромы. Библиотекарь, подписавшийся «Синепузовым», утверждал, будто я держу то, что он счел возможным назвать «столь популярной и ценной книгой», вот уже больше года. Он ссылался на прежние просьбы, посланные мне в Белград, Берлин и Брюссель, по каковым городам, видимо, носило моего соименника.
Я зримо представил себе молодого, очень белого эмигранта машинально реакционной разновидности, образование которого прервала революция, и который успешно наверстывал утраченное время традиционными способами. Он, как видно, очень любил путешествовать, — я тоже: вот все, что было в нас общего. В Страсбурге одна русская дама спросила меня, не мой ли это брат женился на ее льежской племяннице. Одним весенним днем в Ницце ко мне в отель зашла девица с каменным лицом меж двух длинных серег, спросила меня, окинула одним-единственным взглядом, извинилась и ушла. Другой раз, в Париже, я получил телеграмму, нервно извещавшую: «NE VIENS PAS ALPHONSE DE RETOUR SOUPÇONNE SOIS PRUDENT JE T'ADORE ANGOISSÉE»[1], и признаюсь, испытал мрачное удовлетворение, вообразив как мой бойкий двойник с букетом в руках неминуемо нарывается на Альфонса с его женой. Несколько лет спустя (я в то время читал лекции в Цюрихе) меня вдруг арестовали за то, что я будто бы разбил в ресторане три зеркала — своего рода триптих, изображающий моего соименника пьяным (первое зеркало), вдребезги пьяным (второе) и пьяным буяном (третье). Наконец, в 1928-м году французский консул грубо отказался проштамповать мой потрепанный нансеновский (цвета морской волны) паспорт, поскольку, заявил он, я уже однажды пролез в его страну безо всякого разрешения. В пухлом досье, которое было в конце концов извлечено на свет, я мельком увидел физиономию моего тезки. Он носил подбритые усики и стригся «ежиком», сволочь.
Вскоре после того перебравшись в Соединенные Штаты и осев в Бостоне, я решил, что стряхнул, наконец, эту нелепую тень.
Затем — в прошлом месяце, если быть точным — раздался телефонный звонок. Женщина с тяжелозвонным голосом сообщила, что она — миссис Сибил Холл, близкая подруга миссис Шарп, которая написала ей, посоветовав «связаться» со мной. С миссис Шарп я был знаком и мне даже в голову не пришло, что и я, и моя миссис Шарп могут оказаться совсем другими людьми. Златогласая миссис Холл сказала, что в пятницу вечером у нее дома состоится небольшое собрание, я мог бы прийти, ибо по слышанному ею обо мне она уверена, что дискуссия очень, очень меня увлечет. Хотя любого рода собрания мне ненавистны, я приглашение принял, побужденный к тому мыслью, что, отказавшись, пожалуй, огорчу миссис Шарп, — приятную, коротко стриженную немолодую даму в темно-бордовых брючках, с которой я познакомился на Тресковом мысе, где она делила коттедж с женщиной помоложе: обе были средней руки художницами — левого толка и с приличным достатком — очень милые.
Вследствие некоторых злоключений, никак не относящихся к предмету настоящего рассказа, я добрался до многоквартирного дома миссис Холл гораздо позже, чем намеревался. Престарелый лифтер, странно похожий на Рихарда Вагнера, хмуро поднял меня наверх; неулыбчивая горничная миссис Холл, особа с длинными ручищами, свисавшими по бокам, ожидала в прихожей, пока я избавлюсь от пальто и калош. Главным украшеньем прихожей служила известного рода декоративная ваза, китайской выделки и, вероятно, весьма древняя — высокая тошнотворной раскраски тварь, такие всегда ужасно меня угнетают.
Пока я переходил претенциозную комнатку, буквально набитую символами того, что рекламные авторы именуют «изящной жизнью», и пока меня вводили теоретически, ибо горничная пропала, — в просторный и томно буржуазный салон, до меня понемногу стало доходить, что это именно такое место, где можно нарваться на какого-нибудь пожилого обормота, которого кормили в Кремле икрой, или на деревянного советского русского, и что моя знакомая, миссис Шарп, по какой-то причине всегда сожалевшая о моем презрении к линии партии, к коммунизму и к «голосу его хозяина», по-видимому решила, бедняжка, будто подобный опыт способен благотворно повлиять на мой кощунственный разум.
Из общества в дюжину человек выделилась хозяйка — плоскогрудая женщина с длинными конечностями и с губной помадой на выступающих зубах. Она споро представила меня почетному и прочим гостям, и дискуссия, прерванная моим появлением, возобновилась. Почетный гость отвечал на вопросы. Это был щуплый мужчина с прилизанными темными волосами и лоснящимся лбом; длинноногая лампа, стоявшая у него за плечом, освещала его так ярко, что можно было различить крупицы перхоти на воротнике его смокинга и полюбоваться белизною сжатых ладоней, одна из которых, как я обнаружил, была невероятно вялой и влажной. Он относился к породе людей, слабые подбородки которых, впалые щеки и незадачливые кадыки обнаруживают часа через два после бритья, — когда истает тактичный тальк, — сложную систему розовых прыщиков, частью скрытых синевато-серой штриховкой. Он носил перстень с гербом, и я почему-то вспомнил смугловатую русскую девицу из Нью-Йорка, до того напуганную возможностью сойти — из-за внешности — за еврейку, что она таскала крестик прямо на горле, хоть веры в ней было так же мало, как и ума. Английский язык оратора отличался приятной беглостью, но жесткое «джар» в произношении слова «Germany»[2] и назойливо возникавший эпитет «wonderful»[3], первый слог которого звучал как «ван», обличали его тевтонское происхождение. Он то ли был, то ли стал, то ли вот-вот собирался стать профессором немецкого языка или музыки, или сразу обоих где-то на Среднем Западе; имени его я не уловил, и потому буду звать его «д-р Шу».
— Естественно, он был безумен! — вскричал д-р Шу в ответ на какой-то вопрос одной из дам. — Помилуйте, ведь только безумец мог так запутать войну. И я, подобно вам, определенно надеюсь, что в скором времени, если выяснится, что он жив, его надежно упрячут в санаторию какой-нибудь нейтральной страны. Вполне по заслугам. Безумием было нападать на Россию вместо того, чтобы вторгнуться в Англию. Безумием было надеяться, что война с Японией удержит Рузвельта от решительного вмешательства в европейские дела. Наихудший безумец — это тот, кто не учитывает возможности чужого безумия.
— Так вот все думаешь, думаешь, — сказала толстая дамочка, по-моему, миссис Малберри, — а ведь тысячи наших мальчиков, убитых на Тихом океане, остались бы живы, если бы все эти самолеты и танки, которые мы отдавали Англии и России, использовать для уничтожения Японии.
— Вот именно, — сказал д-р Шу. — В том-то и состояла ошибка Адольфа Гитлера. Будучи безумцем, он не смог взять в расчет интриги безответственных политиканов. Будучи безумцем, он верил, что другие правительства станут действовать в согласии с принципами милосердия и здравого смысла.
— Я всегда вспоминаю о Прометее, — сказала миссис Холл. — Как он похитил огонь и был ослеплен разгневанными богами.
Старая дама в ярко-синем платье, вязавшая в углу, попросила д-ра Шу объяснить, почему же немцы не восстали против Гитлера.
Д-р Шу на миг опустил веки.
— Ответ ужасен, — с натугой сказал он. — Вы знаете, я сам немец, чистой баварской крови, хотя и лояльный гражданин этой страны. И тем не менее, я собираюсь сказать о моих былых соотечественниках нечто ужасное. Немцы, мягкие ресницы вновь полуприкрыли глаза, — немцы — это нация мечтателей.
К этому времени я, разумеется, уяснил, что миссис-холлова миссис Шарп в такой же полноте отличается от моей, в какой я — от моего соименника. Кошмар, в который меня занесло, ему, вероятно, представился бы уютным вечером в обществе родственных душ, а д-р Шу — необычайно умным и блестящим causeur[4]. Робость и, возможно, нездоровое любопытство удерживали меня от того, чтобы уйти. Сверх того, разволновавшись, я начинаю так заикаться, что любая моя попытка высказать д-ру Шу мое о нем мнение прозвучала бы подобием выхлопов мотоцикла, не желающего заводиться морозной ночью, на нетерпимой улочке городского предместья. Я огляделся, пытаясь увериться, что все это настоящие люди, а не Петрушкин вертеп.
Хорошеньких женщин тут не было — все достигли сорока пяти или перевалили за них. Все, готов поручиться, принадлежали к книжным клубам, к бриджным клубам, к клубам блажным и к великой холодной общине подруг неминуемой смерти. Все казались беззаботно бесплодными. У кого-то, надо думать, имелись дети, но как их породили свет, стало теперь забытой загадкой; многие отыскали подмену созидательной силе в разного рода эстетических домогательствах, таких, например, как украшение комитетских зал. Я только взглянул на одну из них, сидевшую рядом со мной, — напряженную даму с веснушчатой шеей, — и уж знал, что она, урывками прислушиваясь к д-ру Шу, тревожится, по всем вероятиям, о чем-то, предназначенном украсить некое общественное действо или увеселение военной поры, точную природу которого я определить не сумел. Я понял, однако, как сильно она нуждается в этом добавочном штрихе. «Что-нибудь в центре стола, — размышляла она. — Нужно что-то такое, от чего они рты разинут, — может быть, большую — огромную! вазу искусственных фруктов. Не из воска, конечно. Что-нибудь миленькое, под мрамор.»
Очень, очень жаль, что во время знакомства с дамами в мозгу у меня не отложились их имена. Имена двух сидевших на стульях тощих взаимозаменяемых незамужних женщин начинались на «В», что же до прочих, то одна из них наверняка звалась мисс Биссинг. Это я ясно расслышал, но правда, не смог потом связать ни с одним из лиц или лицеобразных объектов. Мужчина, кроме меня и д-ра Шу, присутствовал лишь один — мой соотечественник, полковник Маликов или Мельников, в передаче миссис Холл имя его прозвучало скорее как Милуоки. Пока разносили какое-то блеклое безалкогольное питье, он наклонился ко мне, издав кожистый скрип, как если б носил сбрую под потертым синим костюмом, и хриплым русским шепотом сообщил, что имел честь знавать моего достопочтенного дядюшку, которого я тут же представил в виде румяного, но несъедобного яблочка с фамильного древа моего соименника. Д-р Шу, однако, вновь принялся разглагольствовать, и полковник выпрямился, обнаружив в удаляющейся улыбке желтый сломанный клык и обещая учтивыми жестами, что мы всласть наговоримся позднее.
— Трагедия Германии, — изрек д-р Шу, аккуратно складывая бумажную салфетку, которой он вытер тонкие губы, — это также и трагедия культурной Америки. Я выступал во множестве женских клубов и в прочих центрах просвещения, и всюду замечал, как глубоко ненавистна всякому утонченному и чувствительному человеку война в Европе, ныне, по счастью, завершившаяся. И еще я замечал, с какой охотой память культурных американцев обращается к более радостным дням, к путешествиям за границу, к незабываемым месяцам и к еще более незабываемым годам, проведенным некогда в стране искусства, музыки, философии и доброго юмора. Они вспоминают милых друзей, которых они там имели, время, проведенное в учении и довольстве в лоне семьи какого-нибудь немецкого аристократа, исключительную чистоту во всем, песни на закате прекрасного дня, чудесные маленькие города, весь этот мир доброты и романтики, найденный ими в Мюнхене или в Дрездене.
— Моего Дрездена больше нет, — сказала миссис Малберри. — Наши бомбы уничтожили и его, и все, что он олицетворял.
— Британские, в данном случае, — мягко сказал д-р Шу. — Но, конечно, война есть война, хоть я и допускаю, что затруднительно представить немецкий бомбардировщик преднамеренно выбирающий своей мишенью какое-нибудь священное историческое место в Пенсильвании или Вирджинии. Да, война ужасна. Фактически, она становится почти нестерпимой, когда ее навязывают двум нациям, имеющим столь много общего. То, что я сейчас скажу, может удивить вас своей парадоксальностью, но право же, вспоминая солдат, погибших в Европе, невольно говоришь себе, что они, по крайней мере, избавлены от ужасных опасений, которыми мы, гражданские лица, вынуждены втайне терзаться.
— Мне кажется, это очень верно, — медленно кивая, заметила миссис Холл.
— Да, но как же все эти истории? — спросила вяжущая старуха. — Ну, про которые все время пишут в газетах, — насчет немецких зверств. Я полагаю, это все больше пропаганда?
Д-р Шу улыбнулся усталой улыбкой.
— Я ожидал этого вопроса, — с оттенком печали в голосе произнес он. — К сожалению, пропаганда, преувеличения, фальшивые фотографии и тому подобное стали орудиями современной войны. Не удивлюсь, если и немцы сочиняли истории о жестоком обращении американских солдат с невинным гражданским населением. Вспомните хотя бы все небылицы, выдуманные о так называемых германских зверствах в Первую мировую войну, — жуткие рассказы о совращенных бельгийских женщинах и тому подобное. Что же, сразу после войны, летом 1920-го года, если не ошибаюсь, особый комитет немецких демократов досконально изучил этот вопрос, а все мы хорошо знаем, как педантически дотошны и скрупулезны немецкие эксперты. И что же, они не нашли ни единой крупицы свидетельств в пользу того, что немцы вели себя не так, как подобает солдатам и джентльменам.
Одна из мисс В. иронично заметила, что зарубежным корреспондентам тоже хочется кушать. Замечание было не лишено остроумия. Все оценили ее ироничное и остроумное замечание.
— С другой стороны, — продолжал д-р Шу, когда улеглось веселье, — давайте на миг забудем о пропаганде и обратимся к обыденным фактам. Позвольте мне нарисовать для вас картину из прошлого, картину довольно прискорбную, но, быть может, необходимую. Я попрошу вас представить, как немецкие юноши с гордостью вступают в какой-нибудь завоеванный ими польский или русский город. Они идут и поют. Они не знают, что их фюрер безумен; они простодушно верят, что принесли павшему городу надежду, счастье, и чудесный порядок. Откуда им знать, что в результате дальнейших ошибок и заблуждений Адольфа Гитлера их победа приведет со временем к тому, что враг обратит в пылающее поле битвы каждый из городов, в который они, эти немецкие юноши, надеялись принести вечный мир. Храбро маршируя по улицам во всем своем убранстве, со своими чудесными боевыми машинами и знаменами, они улыбаются всем и каждому, потому что они трогательно добродушны и полны самых лучших намерений. И вот, постепенно они замечают, что улицы, по которым они так по-мальчишески, так уверенно маршируют, заполняет безмолвная и неподвижная толпа евреев, взирающих на них со свирепой ненавистью, оскорбляющих каждого, проходящего мимо них солдата, — нет, не словами, для этого они слишком умны, — но злобными взглядами и плохо скрываемыми ухмылками.
— Уж я эти взгляды знаю, — мрачно произнесла миссис Холл.
— Да, но они их не знали, — плачущим голосом сказал д-р Шу. — Вот в чем все дело. Они были озадачены. Они недоумевали и терзались обидой. И что они сделали? Поначалу они пытались побороть эту ненависть терпеливыми объяснениями и маленькими знаками доброты. Но стена ненависти, окружавшая их, становилась лишь толще. В конце концов, им пришлось взять под стражу главарей этой злобной и заносчивой коалиции. Что им еще оставалось делать?
— Я знала одного старого русского еврея, — сказала миссис Малберри. — Ну, просто деловой знакомый мистера Малберри. Так вот, он мне однажды признался, что с удовольствием задушил бы своими руками первого попавшегося немецкого солдата. Я пришла в такой ужас, что просто стояла перед ним и не знала, что сказать.
— А вот я бы ему сказала, — произнесла коренастая женщина, сидевшая, разведя колени. — По правде говоря, больно много теперь толкуют про наказание, которое ожидает немцев. А ведь и они тоже люди. Любой разумный человек согласится с вашими словами насчет того, что не виноваты они в этих так называемых немецких зверствах, большую часть которых, скорее всего, сами же евреи и выдумали. Я просто из себя выхожу, когда слышу, всю эту трескотню про печи да про застенки, в которых, если они вообще существовали, и орудовало-то всего несколько человек, таких же ненормальных, как Гитлер.
— Что ж, мне кажется, следует понимать, — со своей невыносимой улыбкой сказал д-р Шу, — и принимать во внимание работу живого семитского воображения, которое контролирует американскую прессу. Следует помнить и о том, что имели место чисто санитарные мероприятия, к которым опрятные немецкие солдаты вынуждены были прибегать, избавляясь от трупов умиравших в лагерях стариков, а в некоторых случаях — и от жертв эпидемии тифа. Сам я совершенно свободен от каких бы то ни было расовых предрассудков, и потому не могу понять, как соотносятся эти вековые расовые проблемы с позицией, которую следует занять по отношению к Германии ныне, когда она капитулировала. Особенно, если вспомнить про обращение, которому подвергаются туземцы в британских колониях.
— Или про то, как обходились еврейские большевики с русским народом ай-я-яй! — заметил полковник Мельников.
— Но теперь ведь все по-другому, правда? — спросила миссис Холл.
— Теперь-то конечно, — сказал полковник. — Теперь великий русский народ воспрянул, а моя родина снова стала великой державой. Мы имели трех великих вождей. Мы имели Ивана, которого враги называли Грозным, потом Петра Великого, а теперь имеем Иосифа Сталина. Я сам из Белых русских, служил в Императорской гвардии, но я также русский патриот и русский христианин. Сегодня в каждом слове, доносящемся из России, я чувствую мощь, я чувствую величие прежней России-матушки. Она опять стала страной солдат, веры и истинных славян. И я знаю, что когда Красная Армия входила в немецкие города, ни единого волоса не упало с немецких плеч.
— Голов, — сказала миссис Холл.
— Да, — сказал полковник, — никаких голов не упало с их плеч.
— Мы все в восторге от ваших соотечественников, — сказала миссис Малберри. — Но как быть с распространением коммунизма в Германии?
— Если мне будет дозволено высказать одно соображение, — сказал д-р Шу, — я хотел бы указать, что если мы не проявим осторожности, Германии больше не будет. Основная проблема, перед лицом которой окажется эта страна, состоит в том, чтобы не дать победителям поработить германскую нацию, отправив молодых и здоровых, слабых и пожилых, интеллектуалов и штатских, — на каторжные работы в бескрайние земли Востока. Это противно всем принципам демократии и ведения войн. Если вы скажете мне, что немцы точно так же поступали с завоеванными ими народами, я вам напомню о трех моментах: во-первых, немецкое государство не было демократическим и нельзя было ожидать, что оно станет действовать как таковое; во-вторых, большинство так называемых «рабов», если не все они, переезжало по собственной свободной воле; и в-третьих, — и это самое важное — их хорошо кормили, хорошо одевали, они жили в цивилизованной среде, которую — при всем нашем естественном восхищении обширностью населения России и разнообразием присущих ей географических условий — немцы вряд ли смогут найти в стране Советов.
— Не следует забывать и о том, — продолжал д-р Шу, драматически возвышая голос, — что нацизм, в сущности, был не исконно немецкой, но чужеродной для немцев системой, угнетавшей народ Германии. Адольф Гитлер — австриец, Лей — еврей, Розенберг — полу-француз, полу-татарин. Германская нация так же изнывала под этим негерманским игом, как страдали от последствий войны, ведшейся на их территории, другие страны Европы. Для мирного населения, которое не только калечили и убивали, но драгоценную собственность которого, его чудесные дома, уничтожали бомбами, нет особой разницы, сбрасывались ли эти бомбы самолетами немцев или союзников. Немцы, австрийцы, итальянцы, румыны, греки и все прочие народы Европы являются ныне членами одного трагического братства, все они равны в горестях и надеждах и заслуживают равного к себе отношения, так давайте же оставим задачу отыскания виновных и суда над ними будущим историкам, беспристрастным старым ученым из бессмертных центров европейской культуры, из мирных университетов Гейдельберга, Йены, Бонна, Лейпцига, Мюнхена. Пусть Феникс Европы вновь расправит свои орлиные крылья, и Бог да благословит Америку.
Наступила почтительная пауза, во время которой д-р Шу трепетно раскуривал сигарету, а затем миссис Холл, очаровательным девичьим жестом сжав ладони, попросила его завершить собрание какой-нибудь прекрасной музыкой. Он вздохнул, поднялся, мимоходом отдавил мне ногу, извиняясь, тронул меня кончиками пальцев за колено и, присев за рояль, склонил главу и оставался недвижим несколько звучно безмолвных секунд. Затем медленно и очень нежно он уложил сигарету в пепельницу, пепельницу перенес с рояля в услужливые ладони миссис Холл и снова свесил голову. Наконец, он чуть прерывающимся голосом сказал:
— Прежде всего, я сыграю «Усеянное звездами знамя»[5].
Чувствуя, что этого мне не снести, — уже, собственно говоря, ощущая, как к горлу подкатывает тошнота, — я встал и поспешно покинул комнату. Только при подходе к шкапу, в который, как я приметил, горничная поместила мою одежду, меня настигла миссис Холл и с нею лавина далекой музыки.
— Вам уже пора уходить? — спросила она. — Неужели действительно пора?
Я отыскал пальто, уронил плечики и с топотом влез в калоши.
— Вы либо глупцы, либо убийцы, — сказал я. — Либо и то, и другое вместе. А этот человек — грязный немецкий шпион.
Как я уже упоминал, в решительные минуты меня поражает сильное заикание, а потому эта фраза вышла не столь гладкой, какова она на бумаге. Но свое она сделала. Прежде чем миссис Холл нашлась с ответом, я грохнул за собой дверью и снес пальто вниз по лестнице, как несут дитя из горящего дома. Уже на улице я обнаружил, что шляпа, едва мной не надетая, принадлежит не мне.
То была изрядно поношенная мягкая фетровая шляпа, именуемая здесь почему-то «федорой», несколько посерее моей и с лентой поуже. Мне она оказалась мала. Внутри имелся ярлык «Werner Bros. Chicago»[6], пахла она чужой щеткой и чужой жидкостью для волос. Принадлежать полковнику Мельникову, лысому, как кегельный шар, она не могла, что же до мужа миссис Холл, то он, насколько я понимаю, либо умер, либо держит свои шляпы в какой-то другой квартире. Противно было тащить эту дрянь с собой, однако ночь была холодна и дождлива, так что я использовал ее в качестве зачаточного зонта. Едва добравшись до дому, я засел за письмо в Федеральное бюро расследований, но не очень в этом преуспел. Моя неспособность схватывать и удерживать имена серьезно вредила качеству информации, которой я хотел поделиться, а так как следовало объяснить мое присутствие на собрании, пришлось притянуть массу расплывчатых и невнятно подозрительных сведений касательно моего тезки. И что хуже всего, при связном изложении подробностей вся история начинала отдавать сновидением и гротеском, ибо в сущности я только и мог сообщить, что человек, проживающий где-то на Среднем Западе, человек, которого я не знал даже по-имени, с симпатией отзывался о немецком народе перед компанией старых дур, собравшейся на частной квартире. А если учесть выражения той же симпатии, которых все больше выходит из-под пера кой-каких хорошо известных обозревателей, происшедшее, насколько я в состоянии судить, могло быть совершенно законным.
На следующее утро, рано, в дверь позвонили, я отворил ее и увидел перед собой д-ра Шу, с непокрытой головой, в дождевике, с осторожной полуулыбкой на синерозовом лице. Он молча протягивал мне мою шляпу. Я принял ее и промямлил какие-то выражения благодарности. Последние он ошибочно принял за приглашение войти. Я не мог припомнить, куда засунул его «федору», и судорожные поиски, которые мне приходилось вести более-менее под его присмотром, скоро обратились в фарс.
— Послушайте, — сказал я, — я пришлю вам шляпу почтой, с посыльным, как угодно, если найду ее, а не найду, — так чек.
— Но я сегодня уезжаю, — мягко сказал он. — И кроме того, мне хотелось бы услышать какие-то объяснения того странного замечания, которое вы адресовали моему очень близкому другу, миссис Холл.
Он терпеливо слушал, пока я со всей доступной мне лаконичностью высказывался в том духе, что это ей объяснят власти, полиция.
— Вы заблуждаетесь, — сказал он, наконец. — Миссис Холл — хорошо известная в обществе дама, у нее обширные связи в официальных кругах. Слава Богу, мы живем в великой стране, где всякий может высказывать свои мысли, не подвергаясь оскорблениям за выражение личных убеждений.
Я велел ему убираться. Когда затих мой последний лепет, он сказал:
— Я уйду, но прошу вас запомнить, что в этой стране… — и в знак учтивого укора он помахал согнутым пальцем — из стороны в сторону, на немецкий манер.
Прежде чем я успел решить, куда его стукнуть, он выкатился из квартиры. Я весь дрожал. Моя неспособность действовать решительно, временами забавлявшая меня и даже доставлявшая тонкое удовлетворение, теперь обернулась гнусной неполноценностью. Внезапно в глаза мне бросилась шляпа д-ра Шу — в прихожей, под телефонным столиком, на кипе старых журналов. Я подбежал к выходящему на улицу окну, раскрыл его и в ту минуту, что д-р Шу показался четырьмя этажами ниже, запустил шляпой в него. Описав параболу, шляпа плюхнулась, точно блин, посреди мостовой. Затем она сделала сальто, на несколько дюймов промазала мимо лужи и улеглась, зияя, неправильной стороною кверху. Д-р Шу, не поднявши глаз, признательно помахал мне рукой, подобрал шляпу, убедился, что грязи на ней не слишком много, надел, и пошел прочь, бойко вихляя задом. Я часто гадал, как этим мозгливым немцам удается, нацепив дождевик, становиться такими пухлыми со спины.
Остается только сказать, что неделю спустя мне доставили письмо, написанное на удивительном русском языке, которого не передать никаким переводом.
«Милостивый сударь, — говорилось в нем, — всю мою жизнь вы преследовали меня. Лучшие друзья отворачивались от меня, прочитав ваши книги и сочтя меня автором этой упадочной, декадентской писанины. В 1941-м году, а потом и в 1943-м немцы арестовывали меня во Франции за слова, которых я никогда не говорил и не думал. Теперь и здесь, в Америке, не удовольствовавшись причинением мне всевозможных досад в иных странах, вы имеете наглость выдавать себя за меня и в пьяном виде заявляться в дом высокочтимой особы. Я этого не потерплю. Я мог бы упрятать вас за решетку и опозорить как самозванца, но полагаю, что вам это не понравится, а потому предлагаю, чтобы в качестве возмещения…»
Сумма, которую он запросил, оказалась, в сущности, очень скромной.
Бостон, 1945
Примечания
1
«НЕ ПРИЕЗЖАЙ АЛЬФОНС ПОДОЗРЕВАЕТ БУДЬ БЛАГОРАЗУМЕН ОБОЖАЮ ТРЕВОЖУСЬ» (фр.)
(обратно)2
Германия (англ.)
(обратно)3
Здесь: великолепный (англ.)
(обратно)4
Болтун (фр.)
(обратно)5
Государственный гимн США.
(обратно)6
«Братья Вернер, Чикаго» (англ.)
(обратно)

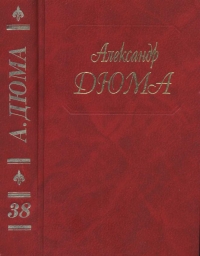
Комментарии к книге «Групповой портрет, 1945», Владимир Владимирович Набоков
Всего 0 комментариев