Оноре де Бальзак Лилия долины
Члену Королевской Академии медицинских Наук Ж.-Б. Накару[1].
Дорогой доктор, вот один из наиболее тщательно отделанных камней фундамента, на котором медленно и старательно возводится литературное здание[2]; мне хочется начертать на нем ваше имя отчасти для того, чтобы отблагодарить ученого, некогда спасшего мне жизнь, отчасти для того, чтобы оказать внимание близкому другу.
Де Бальзак.Графине Натали де Манервиль.
«Я покоряюсь твоему желанию. Женщина, которую мы любим больше, чем она любит нас, обладает огромным преимуществом, ибо мы то и дело забываем ради нее о здравом смысле. Мы готовы преодолеть непреодолимые расстояния, отдать свою кровь, пожертвовать будущим, лишь бы не видеть, как хмурится ее лоб, лишь бы изгладить недовольную гримаску, в которую складываются ее губы при малейшем противоречии. Сегодня ты захотела узнать мое прошлое. Выслушай же повесть о нем. Только помни, Натали, повинуясь тебе, я впервые преступил тайный запрет своего сердца. Но зачем тебе вздумалось разгадывать, любимая, что кроется за внезапной задумчивостью, в которую я впадаю порой даже в самые счастливые минуты? Зачем ты так мило гневалась из-за моего невольного молчания? Неужели ты не могла примириться со странностями моего характера, не доискиваясь их причины? Или у тебя на сердце лежит тайна и для своего оправдания тебе надо было постигнуть тайну моей жизни? Словом, ты разгадала ее, Натали, и, пожалуй, будет лучше, если ты узнаешь все. Да, над моей жизнью витает призрак; малейший отзвук пережитого вызывает его из далекого прошлого, а иногда он и сам встает передо мной. В глубине моей души погребены неотступные воспоминания, схожие с теми водорослями, что в тихую погоду глаз различает на дне морском, но в бурю волны, обрывая их, выбрасывают на прибрежный песок. Хотя труд, необходимый, чтобы облечь мысли словами, и заглушил эти давние чувства, которые, внезапно пробуждаясь, причиняют мне такую острую боль, боюсь, как бы мое чистосердечное признание не оскорбило тебя. Вспомни тогда, что я повиновался твоей воле под угрозой разрыва, и не карай меня за послушание. Мне хотелось бы, чтобы эта исповедь удвоила твою нежность. До вечера.
Феликс».Какому скорбному таланту суждено создать трогательную элегию, верную картину мук, перенесенных в молчании еще не огрубевшими душами, которые встречают лишь тернии в семейном кругу, чьи нежные ростки обрывают грубые руки, чьи цветы губит мороз раньше, чем они успеют раскрыться? Какой поэт расскажет нам о страданиях ребенка, вскормленного горьким молоком ненависти, чья улыбка застывает на губах под огнем сурового взора? Вымышленная повесть о несчастных детях, которых угнетают те, кто самой природой предназначен развивать их чуткие сердца, была бы подлинной историей моих юных лет. Кого мог я оскорбить, чью гордость задеть при рождении? Каким физическим или духовным недостатком вызвал я холодность матери? Чему я обязан своим появлением на свет? Чувству ли долга родителей или случаю, а быть может, сама жизнь моя была для отца с матерью укором? Кто мне ответит на это? Не успел я родиться, как меня отправили в деревню и отдали на воспитание кормилице; семья не вспоминала о моем существовании в течение трех лет; вернувшись же в отчий дом, я был таким несчастным и заброшенным, что вызывал невольное сострадание окружающих. Я не встретил ни искреннего участия, ни помощи, которые помогли бы мне оправиться после этих первых невзгод: в детстве счастье было мне неведомо, в юности — недоступно. Вместо того, чтобы облегчить мою участь, брат и обе сестры забавлялись, причиняя мне боль. Негласный союз детей, которые скрывают от взрослых свои шалости и, заступаясь друг за друга, познают чувство чести и товарищества, не существовал для меня; напротив, я часто видел, что меня наказывают за проступки брата, хоть и не смел жаловаться на несправедливость. Было ли тут дело в угодливости, свойственной даже детям, но только брат и сестры участвовали в этих преследованиях, стараясь заслужить одобрение нашей суровой матери. А быть может, на злые выходки их толкала склонность к подражанию? Или желание испробовать свои силы? Или же отсутствие жалости? Не знаю. Вернее, все эти причины, вместе взятые, помешали мне изведать прелесть детской дружбы. Лишенный с пеленок всякой привязанности, я никого не мог полюбить, а ведь природа наделила меня любящим сердцем! Слышат ли ангелы вздохи ребенка, чью нежность грубо попирают взрослые? Есть люди, у которых отвергнутые чувства обращаются в ненависть, но у меня они накопились, стали еще сильнее и, вырвавшись на волю, захлестнули впоследствии всю мою жизнь. У иных натур постоянные обиды поражают нервные волокна, вызывая робость, а робость неизменно ведет к уступчивости, к слабости, которая принижает человека, сообщая ему что-то рабское. Во мне же постоянные невзгоды укрепили силу воли, закалили ее в горниле испытаний, подготовив мою душу к борьбе с судьбой. Вечно ожидая новых невзгод по примеру мучеников, ожидавших новых истязаний, я всем своим видом олицетворял унылую покорность, под которой пряталась детская резвость и непосредственность; меня считали поэтому глупым ребенком, что подтверждало в глазах посторонних мрачные предсказания моей матери. Сознание людской несправедливости преждевременно пробудило в моей душе гордость — плод размышлений — и не позволило развиться дурным наклонностям, которым могло лишь способствовать полученное мною воспитание. Хотя мать и пренебрегала мною, я вызывал иногда у нее укоры совести; порой она говорила о необходимости дать мне образование и выражала намерение сама заняться им; но при мысли о муках, какие мне сулило постоянное общение с ней, дрожь ужаса пробегала по моему телу. Я благословлял свою заброшенность и был счастлив, что могу оставаться один в саду, играть камешками, наблюдать за насекомыми и смотреть на голубой небосвод. Одиночество обычно порождает мечтательность, но любовь к созерцанию вызвал во мне случай, который покажет вам, каковы были горести первых лет моей жизни. Обо мне так мало заботились, что гувернантка подчас забывала уложить меня спать. Как-то вечером, спокойно примостившись под фиговым деревом, я смотрел с чисто детским любопытством на яркую звезду, и под наплывом печальных мыслей мне чудился в ее мерцании проблеск дружеского участия. Сестры играли и кричали вдалеке; поднятый ими шум долетал до меня, не нарушая моих размышлений. Но вот все стихло, наступила ночь. Мать случайно заметила мое отсутствие. Желая избежать упреков, грозная мадемуазель Каролина, наша гувернантка, подтвердила опасения матери, заявив, что я ненавижу бывать дома, что без ее бдительного надзора я бы давно сбежал, что я не глуп, но скрытен и хитер, что среди всех детей, которых ей приходилось воспитывать, не было ни одного с такими дурными наклонностями. Гувернантка притворилась, будто ищет меня, и стала звать, я откликнулся; она подошла к фиговому дереву, заранее зная, что я там.
— Ты что тут делаешь? — спросила она.
— Смотрю на звезду.
— Ты не смотрел на звезду, это неправда, — проговорила мать, наблюдавшая за нами с балкона, — разве в твоем возрасте интересуются астрономией?!
— Ах, сударыня, — воскликнула мадемуазель Каролина, — он оставил открытым кран от фонтана — вода залила весь сад.
Поднялась страшная суматоха. Дело в том, что мои сестры, забавляясь, открывали и закрывали кран, чтобы посмотреть, как течет вода, но когда сильная струя неожиданно обдала их с головы до ног, они растерялись и убежали, так и не завернув крана. Меня обвинили в этой шалости, а когда я стал уверять, что я тут ни при чем, мне сказали, будто я лгу, и строго наказали. Но это еще не все: в довершение несчастья меня жестоко высмеяли за любовь к звездам, и мать запретила мне оставаться в саду по вечерам. Деспотические запреты сильнее обостряют желания у детей, чем у взрослых; дети начинают думать только о запретном плоде, и он влечет их неудержимо. Итак, меня часто наказывали розгами за мою звезду. Мне некому было излить свои горести, и я продолжал поверять их звезде на том прелестном и наивном языке, на котором ребенок выражает свои первые мысли, как некогда он лепетал свои первые слова. В двенадцать лет, в коллеже, я все еще любовался своей звездой, испытывая неизъяснимую радость, столь глубоки бывают впечатления, полученные на заре жизни.
Мой брат Шарль, на пять лет старше меня, был таким же красивым ребенком, каким он стал впоследствии красавцем-мужчиной; он был любимцем отца и матери, надеждой семьи, а следовательно, домашним тираном. Хотя он отличался крепким здоровьем и был хорошо сложен, его воспитывали дома и наняли ему наставника. Меня же, слабенького и хилого, поместили пяти лет экстерном в городской пансион; каждое утро камердинер отца сопровождал меня туда, а вечером приводил обратно. Мне давали с собой корзиночку со скудными припасами, тогда как мои одноклассники приносили всевозможные лакомства. Этот контраст между моей бедностью и их богатством послужил для меня источником бесчисленных терзаний. Прославленные турские блюда — ломтики жареной свинины и золотистые шкварки — составляли обычную трапезу учеников между утренним завтраком и обедом, который ждал нас по возвращении домой. Эти кушанья, столь ценимые гурманами, редко появляются в Туре на столе аристократов; если я и слышал о них до поступления в пансион, то дома мне никогда не намазывали на хлеб аппетитные золотистые шкварки; не будь они в таком фаворе среди учеников пансиона, мое страстное желание попробовать их не уменьшилось бы; оно стало чем-то вроде навязчивой идеи, подобно желанию одной изящнейшей парижской герцогини, мечтавшей отведать рагу, состряпанного привратницей; впрочем, как истая женщина, она добилась своего. Дети так же хорошо угадывают во взгляде голод, как вы читаете в нем любовь; поэтому я стал превосходной мишенью насмешек. Мои одноклассники, принадлежавшие по большей части к мелкой буржуазии, показывали мне жареные ломтики свинины, спрашивая, не знаю ли я, как ее приготовляют, где она продается и почему у меня нет с собой ничего вкусного? Они облизывали губы, расхваливая на все лады свиные шкварки, похожие на хрустящие трюфели; они шарили в моей корзинке и, обнаружив в ней лишь кусок сыра из Оливэ или сухие фрукты, приставали ко мне с вопросом: «Так, значит, тебе не на что купить еду?» — который показал мне, какая пропасть лежит между мной и братом. Контраст между моей отверженностью и счастьем других омрачил дни моего детства и набросил тень на мою цветущую юность. В первый раз, когда, поверив щедрости приятеля, я протянул руку, чтобы взять лицемерно предложенную тартинку, мой мучитель быстро отдернул руку с лакомством под хохот посвященных в проделку товарищей. Но если даже самые возвышенные души поддаются тщеславию, как не оправдать ребенка, который плачет, видя, что его презирают, высмеивают? Сколько детей, попав в мое положение, стали бы лакомками, попрошайками, трусишками! Чтобы избежать преследований, я начал драться. Смелость отчаяния придавала мне силы; теперь меня боялись и ненавидели, но я оставался безоружным против подлости. Как-то вечером, возвращаясь из школы, я почувствовал сильный удар в спину: в меня запустили пригоршней камней, завязанных в тряпку. Когда камердинер, жестоко отомстивший за меня, рассказал о случившемся матери, она воскликнула:
— Этот проклятый мальчишка вечно доставляет нам одни неприятности!
Для меня наступило ужасное время, я потерял всякую веру в себя. Заметив, что я внушаю в школе такое же отвращение, как дома, я окончательно отдалился от сверстников. Так началась для меня вторая волна морозов, задержавшая всходы семян, посеянных в моей душе. Я видел, что дети, пользовавшиеся любовью, были отъявленными плутами; моя гордость нашла опору в этом наблюдении, и я замкнулся в себе. Итак, мне по-прежнему некому было излить чувства, переполнявшие мое бедное сердце. Видя меня постоянно грустным, нелюдимым, одиноким, учитель подтвердил предвзятое мнение родителей о моих якобы дурных наклонностях. Как только я научился читать и писать, мать отправила меня в Пон-ле-Вуа в коллеж конгрегации ораторианцев[3]; там меня определили на отделение, называемое «Начальная латынь», где учились также мальчики с запоздалым развитием, неспособные усвоить даже простейших знаний. Я пробыл в коллеже восемь лет, никого не видя из родных и живя как пария. И вот почему. Я получал всего-навсего три франка в месяц на мелкие расходы, а этой суммы едва хватало на перья, перочинный нож, линейку, чернила и бумагу, которые ученики должны были приобретать сами. Я не мог купить ни ходуль, ни мяча, ни каната с узлами, словом, ни одного из предметов, необходимых для развлечения, и оказался изгнанным из всех школьных игр: чтобы получить к ним доступ, мне пришлось бы льстить сынкам богатых родителей или подлизываться к силачам из моего класса. Но все восставало во мне при мысли об этом унижении, хотя другие дети не останавливались перед такой малостью. Я проводил свободное от занятий время под деревом, углубившись в грустные мысли, или читал книги, которые мы брали раз в месяц у библиотекаря. Сколько страданий таило в себе это противоестественное одиночество! Какую тоску порождала моя заброшенность! Подумайте, что должна была испытать нежная душа ребенка при распределении наград, тем более, что я заслужил две первые награды — за перевод с французского на латынь и с латыни на французский! Когда среди приветственных возгласов и звуков духового оркестра я поднялся на сцену, чтобы получить награды, ни отец, ни мать не поздравили меня, они просто не приехали, а между тем в зале собрались родные всех остальных учеников. Вместо того, чтобы, следуя обычаю, поцеловать учителя, раздающего награды, я бросился к нему на грудь и разрыдался. Вечером я сжег в печке полученные мною венки. Родители учеников обычно оставались в городе всю неделю перед раздачей наград, таким образом, мои товарищи радостно покидали школу каждое утро. А я, хотя мои родители жили всего в нескольких лье от города, проводил время на школьном дворе вместе с «заморскими учениками» — так называли мы детей, семьи которых находились в колониях или в чужих краях. По вечерам, возвращаясь к молитве, счастливчики безжалостно хвастались лакомствами, которыми их угощали родители. И так бывало со мной всегда: по мере расширения социальной сферы, в которую я вступал, увеличивались и мои невзгоды. Сколько сил я потратил, чтобы изменить приговор старших, вынуждавший меня жить, словно улитка в раковине! Сколько надежд, которые я лелеял с неукротимыми душевными порывами, было развеяно за один день! Напрасно умолял я родителей приехать ко мне в школу, напрасно писал им послания, исполненные любви и преданности, правда, несколько высокопарные. Эти письма неизменно вызывали лишь упреки матери, насмешливо критиковавшей мой витиеватый стиль. Однако я не падал духом, обещая выполнить любые условия родителей, только бы они навестили меня; я просил похлопотать за меня сестер, которым аккуратно посылал поздравления ко дню ангела и ко дню рождения. Увы, настойчивость несчастного, заброшенного ребенка оставалась тщетной! С приближением дня раздачи наград я стал еще красноречивее, заговорил о торжестве, которое, по-видимому, выпадет на мою долю. Введенный в заблуждение молчанием родителей, я ждал их, горя нетерпением, и даже объявил об их приезде товарищам; мое сердце болезненно сжималось всякий раз, когда по прибытии гостей во дворе раздавались шаги старого привратника, но он так и не выкрикнул моего имени.
Однажды я сознался на исповеди, что совершил тяжкий грех, ибо проклял свою жизнь; в ответ духовник указал мне на небо, напомнив о награде, обещанной Спасителем в одной из заповедей блаженства: «Beati qui lugent!»[4]. Готовясь к первому причастию, я всей душой предался глубокому таинству молитвы, так пленили меня религиозные идеи, духовная поэзия которых покоряет юные умы. Воодушевленный горячей верой, я молил господа бога еще раз совершить ради меня одно из чудес, о которых читал в мартирологе. В пять лет я устремился в заоблачные выси к своей звезде, в двенадцать стучался у врат алтаря. Среди охватившего меня мистического экстаза расцвели несказанные грезы, которые обогатили мое воображение, обострили чуткость и дали толчок мысли. Я часто думал, что эти видения ниспосланы мне ангелами, которым поручено облагородить мою душу для ожидающего меня высокого призвания. Это они наделили меня способностью проникать в сокровенный смысл вещей и подготовили сердце к чудесной и горестной доле поэта, обладающего роковым даром сравнивать то, что он чувствует, с тем, что есть, сопоставлять свои великие замыслы с ничтожностью достигнутого. Это они написали для меня книгу, в которой я мысленно мог прочесть то, что мне надлежало выразить. Это они прикоснулись горящим углем к моим устам, и я обрел дар красноречия.
Мой отец, недовольный обучением в школах монашеских конгрегаций, взял меня из коллежа Пон-ле-Вуа, чтобы поместить в парижское учебное заведение, находившееся в Марэ. Мне было тогда пятнадцать лет. После вступительных экзаменов ученик класса риторики коллежа Пон-ле-Вуа был допущен в третий класс пансиона Лепитра. Страдания, которые я испытал в семье, в школе и коллеже, приняли в этом пансионе новую форму. Отец не давал мне карманных денег. Родители знали, что я сыт, одет, напичкан латынью и греческим, а до остального им не было дела. За время моего пребывания в закрытых учебных заведениях у меня было около тысячи однокашников, но ни к одному из них родители не относились так холодно, так равнодушно, как мои родители относились ко мне. Г-н Лепитр, человек, самозабвенно преданный Бурбонам, поддерживал дружеские отношения с моим отцом еще в тот период, когда ярые роялисты пытались похитить королеву Марию-Антуанетту из тюрьмы Тампль[5]; теперь старые друзья возобновили знакомство, и г-н Лепитр решил исправить упущение моего отца; но он выдавал мне ежемесячно очень скромную сумму, так как не был осведомлен о намерениях моих родителей. Пансион помещался в старинном отеле Жуайез, где имелась швейцарская, как и во всех старинных аристократических домах. Перед тем как отправиться в лицей Карла Великого, куда нас ежедневно водил дядька, сынки богатых родителей забегали позавтракать к нашему привратнику Дуази, настоящему контрабандисту, перед которым заискивали все учащиеся, так как тайком от г-на Лепитра он потакал нашим похождениям, покрывал нас, когда мы поздно возвращались в пансион, и служил посредником между нами и лицами, дававшими напрокат запрещенные книги. Выпить чашку кофе с молоком было признаком аристократического тона, и это понятно, так как при Наполеоне колониальные продукты стоили непомерно дорого[6]. Если употребление сахара и кофе считалось роскошью у наших родителей, то среди нас оно вызывало чувство тщеславного превосходства, вполне достаточное, чтобы пристраститься к этому напитку, помимо других побудительных причин, вроде склонности к подражанию, чревоугодия и моды. Дуази отпускал продукты в кредит, считая, что у каждого из нас найдутся сестры или тетки, готовые постоять за честь учеников и с радостью оплатить их долги. Я долго противился соблазнам буфета Дуази. Если бы мои судьи знали о силе искушения, о моем героическом стремлении к стоицизму, о подавленных приступах ярости во время длительной борьбы с собой, они осушили бы мои слезы вместо того, чтобы наказывать меня. Разве может ребенок, каким я еще был тогда, обладать душевным величием, которое дает силу презирать презрение окружающих! Кроме того, влияние социальных пороков еще усиливало мои аппетиты. В конце второго учебного года отец с матерью приехали в Париж. О дне их прибытия мне сообщил брат; он жил в Париже, но ни разу не удосужился меня навестить. Сестры тоже принимали участие в поездке, и мы должны были осмотреть Париж всей семьей. В первый день предполагалось пообедать в ресторане у Пале-Руаяля[7], а потом отправиться в находившийся поблизости театр Французской комедии. Программа этих нежданных развлечений привела меня в восторг, но мою радость развеяла та буря, которую неизменно навлекают на себя пасынки судьбы. Мне предстояло сознаться, что я задолжал сто франков г-ну Дуази, угрожавшему потребовать эти деньги у моих родителей. Я придумал тогда обратиться к брату: пусть он ведет переговоры с Дуази, пусть будет моим посредником и заступником перед родителями. Отец был склонен к снисходительности. Но мать оказалась неумолимой. Гневный взгляд ее темно-голубых глаз пронзил меня насквозь, она изрекла ужасные пророчества: разве из меня выйдет что-нибудь путное, если в семнадцать лет я способен на такие безрассудства? Я выродок, а не ее сын! И, конечно, разорю всю семью! Разве, кроме меня, у нее нет детей? Разве карьера моего брата Шарля не требует денег? Но он заслужил эти траты, он гордость семьи, я же покрою ее позором! По моей милости у сестер не будет приданого, и они останутся старыми девами! Неужели я не знаю цены деньгам и не понимаю, как дорого стоит мое воспитание! Какое отношение к наукам имеют сахар и кофе? Вести себя так может лишь негодяй! Марат просто ангел по сравнению со мной!
После того, как на меня обрушился этот поток жалоб и проклятий, вселивший в мою душу безмерный ужас, брат отвел меня обратно в пансион; я лишился обеда в ресторане «Братья Провансальцы» и не увидел Тальмá в «Британнике». Такова была моя встреча с матерью после двенадцатилетней разлуки.
Когда я окончил классическую среднюю школу, отец оставил меня под опекой г-на Лепитра: мне предстояло пройти курс высшей математики и приступить к изучению права. Я был наконец освобожден от уроков в пансионе и получил отдельную комнату; казалось, в моих несчастьях наступила передышка. Но, несмотря на то, что мне было девятнадцать лет, а может быть, именно поэтому, отец продолжал придерживаться системы, лишившей меня съестных припасов в школе, мелких развлечений в коллеже и вынудившей брать в долг у Дуази в пансионе. У меня почти не было денег. А что делать в Париже без денег? К тому же мою свободу сумели искусно ограничить. По приказанию г-на Лепитра ко мне был приставлен дядька, который провожал меня в Юридическую школу и сдавал с рук на руки тамошнему преподавателю, а вечером приводил обратно. Молоденькую девушку и ту охраняли бы менее тщательно. Но что поделаешь, эти предосторожности были внушены матери опасениями за мою особу и желанием уберечь меня от соблазнов. Париж недаром страшил моих родителей. Ведь все юноши втайне заняты тем же, чем и барышни в пансионах! Что бы вы ни делали, одни будут говорить о женщинах, а другие о кавалерах. В те времена в Париже все разговоры учащихся вертелись вокруг сказочно-прекрасного мира Пале-Руаяля. В наших глазах Пале-Руаяль был Эльдорадо любви, где по вечерам рекой лилось золото. Там можно было положить конец девственным сомнениям, удовлетворить разгоревшееся любопытство! Но Пале-Руаяль и я были двумя полюсами: мы никак не могли встретиться. Вот как судьба посмеялась над всеми моими попытками. Отец представил меня одной из своих теток, жившей на острове св. Людовика; я ходил к ней обедать по четвергам и воскресеньям под охраной г-на Лепитра или его жены, которые в эти дни бывали в гостях и по возвращении забирали меня домой. Странное это было развлечение! Маркизе де Листомэр, церемонной великосветской даме, ни разу даже в голову не пришло подарить мне золотой. Старая, как собор, раскрашенная, как миниатюра, всегда пышно одетая, она жила в своем особняке, словно во времена Людовика XV, и принимала лишь знатных стариков и старух, похожих на выходцев с того света, среди которых я чувствовал себя, как на кладбище. Никто не обращался ко мне, я же не смел заговаривать первым. Под враждебными или холодными взглядами окружающих я стыдился своей молодости, которая, казалось, всем была в тягость. На их безразличие я и рассчитывал для успеха своей затеи, собираясь незаметно скрыться в один прекрасный день по окончании обеда, чтобы стрелою полететь в Деревянную галерею Пале-Руаяля. Стоило старой даме усесться за вист, как она переставала обращать на меня внимание, а ее камердинеру Жану было наплевать и на меня и на г-на Лепитра, но, к моему огорчению, злосчастный обед неизменно затягивался по вине беззубых ртов и несовершенства вставных челюстей. Наконец как-то вечером, между восемью и девятью часами, я выскользнул на лестницу, трепеща, словно Бьянка Капелло[8] в день своего побега; но едва швейцар распахнул передо мной дверь, как я увидел на улице наемный экипаж, а в нем г-на Лепитра, который просил вызвать меня, с трудом выговаривая слова от одышки. Рок трижды вставал между адом Пале-Руаяля и раем моей юности. Наконец в двадцать лет, стыдясь своего неведения, я решил пренебречь любой опасностью, лишь бы покончить с ним; в ту минуту, когда я собирался улизнуть от г-на Лепитра, садившегося в экипаж, — что давалось ему с трудом, ибо он хромал и был тучен, как Людовик XVIII, — подъехала, словно назло, моя мать в почтовой карете! Ее взгляд приковал меня к месту, и я замер, как кролик перед удавом. Какой случайности был я обязан этой встрече? Все объяснялось весьма просто. В то время владычество Наполеона подходило к концу. Отец, предвидя возвращение Бурбонов, хотел дать добрый совет моему брату, который уже числился на дипломатической службе императора. Он приехал в Париж вместе с матерью, решившей забрать меня домой: надо же было уберечь младшего сына от опасностей, которые угрожали столице, по мнению проницательных людей, следивших за ходом событий. Итак, не успев опомниться, я очутился вне Парижа в тот самый момент, когда пребывание там становилось для меня опасным.
Еще в пансионе мое беспокойное воображение, желания, которые то и дело приходилось обуздывать, тяготы жизни, омраченной вечным безденежьем, побудили меня отдаться наукам по примеру тех, кто, разочаровавшись в жизни, уходил некогда в монастырь. Учение стало моей страстью, которая могла оказаться гибельной, отгородив меня от мира в ту пору, когда молодым людям надлежит следовать волшебному голосу пробуждающейся в них весны.
Этот беглый очерк моей юности, которая таила в себе, как вы легко можете догадаться, тысячи невысказанных элегий, был необходим, чтобы понять, какое влияние она оказала на мое будущее. Удрученный своей горькой участью, я и в двадцать лет был мал ростом, худ и бледен. Моя душа, исполненная бурных порывов, боролась с хилым на вид телом, в котором, по выражению одного пожилого турского врача, выковывался железный темперамент. Ребенок телом и старец умом, я столько читал и размышлял, что успел мысленно проникнуть в горние сферы жизни, когда впервые заметил, как извилисты ее ущелья и пыльны дороги ее равнин. Стечение злосчастных обстоятельств задержало мое развитие, и я все еще пребывал в той восхитительной поре, когда душа объята первым волнением чувств, когда она пробуждается для наслаждений, когда все для нее ново и свежо. Мое отрочество затянулось, а усиленные занятия задержали наступление зрелости, которая лишь с опозданием давала о себе знать, пуская нежные ростки в моем сердце. Ни один юноша не был лучше подготовлен, чем я, к страсти, к любви. Чтобы вам легче было понять меня, перенеситесь мысленно в тот чудесный период жизни, когда уста еще не знают лжи, когда взгляд чистосердечен, хотя глаза и прикрыты ресницами от робости, которая борется в вашей душе с пробудившимся желанием, когда разум не хочет подчиняться лицемерию света, когда смятение чувств так же велико, как и бескорыстие первого побуждения.
Не стану вам рассказывать о путешествии, которое мы совершили с матерью из Парижа в Тур. Холодность ее подавляла всякое проявление чувства с моей стороны. На каждой почтовой станции я давал себе клятву поговорить с ней; но достаточно было одного ее взгляда, одного слова, чтобы тщательно обдуманные фразы улетучились у меня из головы. В Орлеане, перед тем как лечь спать, мать упрекнула меня за молчание. Я бросился к ее ногам, принялся целовать ее колени, проливая горючие слезы; я открыл ей свое исполненное нежности сердце, попытался тронуть ее красноречием, подсказанным жаждой любви, причем моя искренность могла бы разжалобить даже мачеху. Но мать возразила, что я разыгрываю комедию. Я пожаловался на ее пренебрежение ко мне, она назвала меня недостойным сыном. Я испытал такую душевную боль, что в Блуа побежал на мост, чтобы броситься в Луару. Моему самоубийству помешала только высота парапета.
Когда я вернулся в отчий дом, две младшие сестры, совсем не знавшие меня, были скорее удивлены, чем обрадованы; однако позднее по сравнению с матерью они показались мне даже ласковыми. Мне отвели комнатку на четвертом этаже. Вы поймете глубину моих терзаний, узнав, что мать не дала мне, двадцатилетнему юноше, другого белья, кроме того, что я носил в пансионе, и не обновила моего парижского гардероба. Если вечером в гостиной я со всех ног кидался, чтобы поднять ее упавший платок, она роняла в ответ лишь холодное спасибо, которым женщина обычно благодарит лакея. Я стал наблюдать за ней, чтобы узнать, есть ли в ее сердце уязвимое место — мне так хотелось проникнуть туда, чтобы раздуть хотя бы маленькую искорку нежности, — и я увидел перед собой высокую, сухопарую женщину, надменную эгоистку, завзятую картежницу, дерзкую на язык, как и все представительницы семейства Листомэров, у которых дерзость считается одной из статей приданого. В жизни она не ценила ничего, кроме долга, — впрочем, все холодные женщины, которых мне приходилось встречать, неукоснительно выполняли свой долг, — и принимала наши знаки внимания с безразличием священника, вдыхающего во время обедни запах ладана; по-видимому, все скудные материнские чувства, жившие в глубине ее сердца, достались на долю моего старшего брата. Она постоянно терзала нас едкой иронией — этим оружием бессердечных людей, — пользуясь им против собственных детей, которые ничего не смели ей возразить. Несмотря на эту колючую преграду, врожденные чувства коренятся так глубоко, трепетный страх, внушаемый матерью, в которой нам слишком тяжело разочароваться, сохраняет такую власть над душой, что возвышенная иллюзия, подсказанная детской любовью, продолжается обычно до того более позднего часа жизни, когда мать предстает наконец перед нашим беспощадным судом. И тогда начинается возмездие детей; их равнодушие, порожденное былыми разочарованиями, усугубленное картинами прошлого, которые всплывают из темных глубин памяти, бросает тень даже на материнскую могилу. Жестокий домашний деспотизм развеял сладострастные грезы, которые я безрассудно мечтал осуществить в Туре. С отчаяния я заперся в отцовской библиотеке и принялся читать подряд все неизвестные мне книги. Правда, этот усидчивый труд избавил меня от общества матери, но ухудшил мое душевное состояние. Иногда старшая сестра, вышедшая впоследствии замуж за нашего кузена, маркиза де Листомэра, пыталась утешить меня, но она была не в силах смягчить глухой гнев, клокотавший в моей груди. Мне хотелось умереть.
В то время готовились великие события[9], которым я был чужд. Герцог Ангулемский[10], покинув Бордо, отправился в Париж к Людовику XVIII, и в каждом городе, через который он проезжал, старая Франция встречала его бурными овациями, восторженно приветствуя возвращение законной династии Бурбонов. Турень, охваченная радостным волнением; наш город, жужжавший, как улей; окна, украшенные флагами; нарядно одетые жители; приготовления к празднеству; какое-то пьянящее веселье, разлитое в воздухе, — все это внушило мне желание пойти на предстоящий городской бал в честь герцога Ангулемского. Когда я осмелился выразить это желание матери, которая захворала и не могла отправиться на праздник, она сильно разгневалась на меня. Откуда я взялся, уж не из Конго ли приехал? Неужели я в самом деле вообразил, что наше семейство не будет представлено на этом балу? Когда отец и брат отсутствуют, кому же идти на бал, как не мне? Разве у меня нет матери? Неужели она не заботится о счастье своих детей? И во мгновение ока отверженный сын стал чуть ли не важной персоной. Я был совершенно потрясен и собственным значением и потоком колкостей, которыми мать встретила мою смиренную просьбу. Я стал расспрашивать сестер и узнал, что мать, любившая всякие эффекты, втайне занялась моим костюмом. Удивленные ее причудами, турские портные отказались взяться за мою экипировку. Тогда мать позвала приходящую портниху, которая, как оно и подобает в провинции, умела шить все что угодно. Худо ли, хорошо ли, она смастерила для меня костюм василькового цвета; пару шелковых чулок и бальные башмаки достать было нетрудно; в то время носили очень короткие жилеты, и мне пришелся впору один из жилетов отца; впервые в жизни я надел рубашку с жабо, гофрированные складки которого топорщились на груди и набегали на завязанный бантом галстук. Принарядившись таким образом, я стал так непохож на себя, что сестры осыпали меня комплиментами, и, набравшись мужества, я храбро предстал перед турским обществом. Нелегкая задача! Здесь было много призванных и очень мало избранных. Благодаря своему небольшому росту, я проскользнул в шатер, воздвигнутый в саду при доме Папийон, и очутился рядом с креслом, в котором восседал герцог. От духоты у меня перехватило дыхание, я был ослеплен ярким светом, пурпурным бархатом драпировок, золотом украшений, нарядами и бриллиантами дам на этом первом общественном торжестве, где мне довелось присутствовать. Меня теснили со всех сторон мужчины и женщины, которые толкались, чуть не падали в облаке пыли. Крики «ура» и возгласы: «Да здравствует герцог Ангулемский! Да здравствует король! Да здравствует династия Бурбонов!» — заглушали звон литавр и бравурные звуки военного оркестра. То была вспышка верноподданнических чувств, где каждый старался превзойти самого себя в неудержимом порыве навстречу восходящему солнцу Бурбонов; но при виде этого проявления корыстных интересов я остался холоден, проникся сознанием своего ничтожества и замкнулся в себе.
Уносимый, как соломинка, в этом водовороте, я испытал детское желание быть герцогом Ангулемским, приблизиться к высокопоставленным лицам, красовавшимся перед изумленными зрителями. Эта наивная мечта провинциала пробудила во мне честолюбие, которое было облагорожено впоследствии, пройдя через горнило испытаний. Кому не случалось завидовать преклонению толпы? Это грандиозное зрелище я увидел несколько месяцев спустя, когда весь Париж приветствовал императора, вернувшегося с острова Эльбы[11]. Власть Наполеона над массами, чувства и жизнь которых сливаются порой в одну общую душу, внезапно открыла мне, в чем состоит мое призвание, и я решил безраздельно посвятить себя славе — богине, губящей в наши дни французов так же, как в прежние времена друиды[12] губили галлов. Здесь же на балу я неожиданно встретил женщину, которой суждено было беспрестанно поощрять мои честолюбивые мечты и наконец осуществить их, ибо она приблизила меня к королю и бросила в гущу исторических событий. Я был так робок, что не смел пригласить на танцы даму, да к тому же боялся спутать фигуры; вот почему я невольно впал в мрачную задумчивость и совершенно не знал, что делать с собственной особой. В ту минуту, когда я задыхался в тесноте, топчась среди густой толпы приглашенных, какой-то офицер отдавил мне ноги, распухшие от жары в тесной кожаной обуви. Эта последняя неприятность переполнила чашу моего терпения, и мне окончательно опротивело празднество. Уйти, однако, было невозможно; я приютился в углу зала на краю пустого диванчика и застыл в неподвижности, уныло устремив глаза в одну точку. Какая-то женщина, введенная в заблуждение моей хрупкой фигурой, очевидно, приняла меня за ребенка, дремавшего в ожидании, когда мать соблаговолит увезти его отсюда, и опустилась на сиденье рядом со мной, как птичка садится в гнездышко. Я тотчас же ощутил ее аромат, и он слился в моем представлении со всем, что есть самого прекрасного в восточной поэзии. Я взглянул на свою соседку и был ослеплен ею, она затмила для меня блестящий праздник и стала отныне в моих глазах олицетворением праздника жизни. Если вы внимательно следили за перипетиями моей юности, то без труда поймете, какие чувства забили ключом в моем сердце. Меня внезапно поразили ее белые округлые плечи, к которым мне так захотелось приникнуть, слегка розоватые плечи, точно красневшие от стыда, что люди видят их обнаженными, целомудренные плечи, атласная кожа которых матово блестела при свете люстр, как шелковая ткань. Эти плечи были разделены ложбинкой, вдоль которой украдкой скользнул мой взгляд, более смелый, нежели рука. Я привстал, трепеща от волнения, чтобы увидеть корсаж этой женщины, и был зачарован ее грудью, стыдливо прикрытой светло-голубым газом, сквозь который все же просвечивали два совершенных по форме полушария, уютно покоившиеся среди волн кружев. Мельчайшие черточки ее облика служили приманкой для глаз, пробуждая во мне бесчисленные желания; я залюбовался блеском ее волос, заколотых над шеей бархатистой, как у девочки, белыми полосками, прочерченными гребнем, по которым мое воображение устремлялось, словно по свежим лесным тропинкам, и окончательно потерял голову. Убедившись, что никто меня не видит, я прильнул к ее обнаженной спине, как ребенок, который бросается на грудь матери, и покрыл поцелуями ее плечи, прижимаясь к ним лбом, щеками, головой. Женщина пронзительно вскрикнула, но музыка заглушила ее крик; она обернулась, увидела меня и сказала:
— Сударь!..
Стоило ей сказать: «Вы с ума сошли, противный мальчишка!» — и, быть может, я убил бы ее; но при слове «сударь» горячие слезы хлынули у меня из глаз. Я оцепенел под ее взглядом, исполненным священного гнева, при виде ее неземного лица с диадемой пепельных волос, так гармонировавших с этими плечами, словно созданными для поцелуев. Краска оскорбленной стыдливости залила ее лицо, выражение которого тут же смягчилось, ибо женщина понимает и оправдывает безумство, если сама является его причиной, и угадывает безграничную любовь, скрытую в слезах раскаяния. Она удалилась поступью королевы. Только тогда я почувствовал всю смехотворность своего положения; только тогда понял, что одет, как шут. Мне стало стыдно за себя. Я сидел ошеломленный, смакуя сладость только что украденного плода, ощущая на губах теплоту ее тела, и провожал взглядом эту богиню, словно сошедшую с небес. Охваченный первым чувственным приступом великой сердечной лихорадки, я пробродил весь вечер среди бала, ставшего для меня безлюдным, но так и не нашел своей незнакомки. Я вернулся домой преображенный.
Новая душа, душа с радужными крыльями, пробудилась во мне, разбив свою оболочку. Моя далекая звезда спустилась с голубых просторов, где я любовался ею, и приняла облик женщины, сохранив свою чистоту, свой блеск и свою свежесть. Я неожиданно полюбил, ничего не зная о любви. Какая странная вещь — первое пробуждение этого сильнейшего в человеке чувства. Я встречал в гостиной маркизы де Листомэр несколько хорошеньких женщин, но ни одна из них не произвела на меня ни малейшего впечатления. Быть может, должен наступить определенный час, произойти совпадение светил, небывалое стечение обстоятельств и встретиться единственная женщина в мире, чтобы вызвать всепоглощающую страсть в ту пору жизни, когда страсть может целиком захватить человека! Полагая, что моя избранница живет в Турени, я с наслаждением вдыхал воздух и находил, что небо здесь такое голубое, какого не встретишь нигде в другом месте. Если я и ликовал в душе, то внешне казался больным, и мать стала беспокоиться обо мне, испытывая некоторые угрызения совести. Подобно животным, которые чуют приближение болезни, я уединялся в уголке сада, чтобы помечтать об украденном поцелуе.
Прошло несколько дней после этого памятного бала. Мать приписала переходному возрасту мою кажущуюся мрачность, мою лень, мое безразличие к ее суровым взглядам и равнодушие к насмешкам. Лучшим средством вывести меня из состояния апатии было признано пребывание в деревне — извечное лекарство от тех болезней, которые медицина не умеет лечить. Мать решила послать меня на несколько дней в замок Фрапель, расположенный на Эндре, между Монбазоном и Азе-ле-Ридо, где я должен был погостить у ее друзей, которым она дала, по-видимому, тайные указания. В тот день, когда я вырвался на свободу, я с таким упоением предавался сладостным грезам, что из конца в конец пересек необозримый океан любви. Я не знал имени своей незнакомки. Как про нее спросить? Где найти? К тому же мне не с кем было говорить о ней. Моя застенчивость только усиливала смутные опасения, свойственные юным сердцам в начале любви, и мое чувство зарождалось среди тихой печали, которой бывает овеяна безнадежная страсть. Я готов был ходить, искать, бродить по полям и лесам. С детской решимостью, чуждой всяких сомнений, я собирался обойти пешком, как странствующий рыцарь, все замки Турени, восклицая при виде каждой живописной башенки: «Вот где она живет!»
Итак, в четверг утром я выбрался из Тура через заставу Сент-Элуа, прошел по мосту Сен-Совер, пересек Понше, всматриваясь в каждый дом этого селения, и вышел на шинонскую дорогу. Впервые в жизни я мог остановиться, посидеть под деревом, замедлить или ускорить шаг, словом, поступать, как мне вздумается, без всяких назойливых вопросов. Первое проявление собственной воли, пусть даже в мелочах, благотворно повлияло на душу бедного мальчика, угнетенного деспотической властью взрослых, которая так или иначе тяготеет над всеми юными существами. Много причин содействовало тому, что этот день остался у меня в памяти как волшебное видение. В детстве во время прогулок я не уходил дальше, чем на одно лье от города. Окрестности Пон-ле-Вуа и Парижа не избаловали меня красотой сельских пейзажей. Однако у меня сохранилось с детских лет чувство прекрасного, так как виды Тура, с которыми я сроднился с колыбели, поистине хороши. Ничего не понимая в поэзии природы, я все же был требователен к ней, по примеру тех, кто, не зная искусства, заранее создает себе его идеал. Если пеший или конный путник захочет поскорее добраться до замка Фрапель, ему следует свернуть в Шампи на проселочную дорогу и пересечь ланды Карла Великого — нетронутые земли, расположенные на плоскогорье, которое служит водоразделом между бассейнами Шера и Эндра. Плоские песчаные ланды, наводящие на вас тоску в продолжение целого лье пути, заканчиваются небольшой рощей, а за ней начинается дорога в Саше — название округа, к которому принадлежит и Фрапель. Эта дорога, выходящая на шинонское шоссе далеко за пределами Баллана, идет по волнистой местности вплоть до живописного края под названием Артанна. Здесь открывается вид на долину, которая тянется от Монбазона до Луары, словно вздымая старинные замки на окружающих ее холмах; она походит на прекрасную изумрудную чашу, на дне которой змеится Эндр. После безрадостных ланд, после трудностей долгого пути вид этой долины вызвал во мне чувство глубокого восхищения.
«Если эта женщина, подлинная жемчужина среди ей подобных, живет где-нибудь на земле, то это может быть только здесь», — подумал я.
При этой мысли я прислонился к стволу орехового дерева, под которым отдыхаю теперь всякий раз, как возвращаюсь в мою милую долину. Под этим деревом — поверенным моих дум — я мысленно перебираю перемены, происшедшие в моей жизни с тех пор, как я уехал отсюда. «Она» жила здесь, сердце не обмануло меня: первый красивый замок, который я увидел на склоне холма, принадлежал ей. Когда я сидел в тени моего дерева, черепицы на ее крыше и стекла в ее окнах сверкали под лучами полуденного солнца. Пятнышко, белевшее среди виноградников под персиковым деревом, была она сама в перкалевом платье. Как вы уже знаете, еще ничего не зная, она была лилией этой долины, где аромат ее добродетелей возносился, как фимиам, в небеса. Все говорило здесь о любви, которая заполонила мое сердце, не имея иной пищи, кроме мимолетного женского образа: и длинная лента реки, сверкающая на солнце меж зеленых берегов; и ряды тополей, обрамляющих кружевом своей шелестящей листвы этот дол любви; и темная зелень дубрав, спускающихся вдоль виноградников к изменчивому течению реки; и уходящая в беспредельность мягкая линия горизонта. Если вы хотите видеть природу во всей ее девственной красоте, словно невесту в подвенечном платье, приезжайте сюда в светлый весенний день; если вы хотите успокоить боль раны, кровоточащей в сердце, возвращайтесь сюда в конце осени; весной любовь бьет здесь крылами среди небесной лазури; осенью здесь вспоминаешь о тех, кого уже нет с нами. Больные вдыхают здесь полной грудью целительную свежесть, глаз покоится на золотистых купах деревьев, наполняющих душу сладостным покоем. В ту минуту шум мельниц, стоящих на порогах реки, казался мне трепетным голосом этой долины, тополя радостно раскачивались на ветру, небо было безоблачно, птицы пели, кузнечики стрекотали, все кругом сливалось в дивную гармонию. Не спрашивайте меня, почему я люблю Турень; моя любовь к этому краю не похожа на любовь, которую питаешь к месту, где ты родился, или к оазису в пустыне; я люблю ее, как художник любит свое искусство; я люблю ее меньше, чем вас, но вдали от Турени я бы, вероятно, умер. Не знаю, почему мой взгляд беспрестанно возвращался к белому пятнышку, к этой женщине, оживлявшей вид обширного сада, словно хрупкий колокольчик, расцветший средь зеленых кустов, который вянет от первого неловкого прикосновения. Я спустился умиленный, растроганный в глубину цветущей долины и вскоре увидел деревню, которая показалась мне неповторимо прекрасной благодаря поэзии, переполнявшей мое сердце. Вообразите три мельницы, стоящие меж живописных лесистых островков посреди «речной лужайки»; трудно назвать иначе сочную, яркую растительность, которая устилает поверхность реки, то поднимается, то опускается, следуя капризам ее течения, и колеблется под порывами бури, вызванной ударами мельничного колеса. То тут, то там выступают из воды покрытые гравием мели, о которые разбиваются водяные струи, образуя бахрому сверкающей на солнце пены. Амариллисы, кувшинки, водяные лилии, камыши и купальницы окаймляют берега своим пестрым ковром. Шаткий полусгнивший мостик, устои которого поросли цветами, а перила одеты бархатистым мхом, клонится к воде, но никак не может упасть. Старые лодки, рыбачьи сети, однообразная песнь пастуха, утки, которые плавают между островками или охорашиваются на отмели, покрытой крупным луарским песком, подручные мельника в колпаке набекрень, грузящие муку на мулов, — каждая из этих подробностей придавала картине какую-то трогательную наивность. Вообразите за мостом две или три фермы, голубятню, штук тридцать хижин, разделенных садиками или изгородями из жимолости, жасмина и ломоноса; представьте себе возле каждых ворот кучу навоза, покрытую молодой травкой, кур и петухов, разгуливающих по дорогам, и перед вами оживет село Пон-де-Рюан, живописное село, над которым высится старинная церковь своеобразной архитектуры, возведенная еще во времена крестовых походов, такая, о какой мечтают художники для своих полотен. Поместите этот вид в рамку из могучих ореховых деревьев и молодых тополей с золотистой листвой, расположите веселые домики посреди обширных лугов под высоким куполом знойного неба, и вы получите представление об одном из характерных ландшафтов этого прекрасного края. Я направился по дороге в Саше левым берегом реки, любуясь склонами холмов на противоположном берегу. Добравшись наконец до парка с вековыми деревьями, я понял, что он принадлежит к владениям замка Фрапель. Я прибыл туда как раз вовремя: колокол возвещал о начале завтрака. После трапезы, не подозревая, что я пришел из Тура пешком, хозяин замка предложил мне осмотреть его земли; но где бы мы ни проходили, я отовсюду видел долину в ее бесконечном разнообразии: здесь — сквозь просвет между деревьями, там — всю целиком; часто мой взгляд привлекала вдали серебряная полоска Луары, сверкающая, как клинок сабли, где среди расставленных сетей бежали подгоняемые ветром парусные лодки, вычерчивая на воде причудливые зигзаги. Взобравшись на вершину холма, я впервые залюбовался замком Азе, этим многогранным бриллиантом, оправленным течением Эндра и словно выступающим из корзины цветов. Затем я увидел в котловине романтическую громаду замка Саше, навевающего всем своим видом тихую грусть, слишком глубокую для поверхностных людей, но бесконечно дорогую скорбному сердцу поэта. Вот почему я полюбил впоследствии тишину этого поместья, его огромные седые деревья и эту пустынную ложбину, самый воздух которой как бы насыщен тайной! Но всякий раз как взгляд мой находил на склоне холма красивый замок, замеченный, облюбованный мною с самого начала, я, не отрываясь, смотрел на него.
— Вот оно что, — сказал мой спутник, прочтя в моем взоре горячее восхищение, которое мы так наивно выражаем в юности, — оказывается, вы издали чуете хорошенькую женщину, как собака чует дичь.
Эти слова не понравились мне, но я все же спросил название замка и фамилию его владельца.
— Это красивое поместье — Клошгурд, — ответил он, — его владелец, граф де Морсоф, принадлежит к старинному туреньскому роду, возвеличенному еще Людовиком XI. Фамилия Морсоф[13] указывает на событие, которому этот дом обязан своим гербом и славой. Их род ведет начало от человека, чудом избежавшего виселицы. Вот почему на золотом поле герба изображен висящий в воздухе черный крест с повторенными на концах перекладами; в середине креста — золотая срезанная лилия. Девиз: «Бог милостив к королю, нашему повелителю».
Граф поселился здесь по возвращении из эмиграции. Поместье, в сущности, принадлежит его жене, урожденной де Ленонкур-Живри. Этому роду вскоре суждено угаснуть, так как госпожа де Морсоф — единственная дочь. Бедность обоих супругов настолько не вяжется с их знатностью, что они из гордости, а быть может, по необходимости безвыездно живут в Клошгурде и никого не принимают. Их приверженность Бурбонам оправдывала до сих пор столь уединенный образ жизни, но я сильно сомневаюсь, чтобы после возвращения короля они изменили свои привычки. Я обосновался здесь в прошлом году и тотчас же нанес им визит; они тоже побывали во Фрапеле и пригласили меня с женой на обед; зима разлучила нас на несколько месяцев с этой семьей, да и политические события задержали меня в Париже, ведь я совсем недавно вернулся сюда. Госпожа де Морсоф такая женщина, что могла бы всюду занимать первое место.
— Она часто бывает в Туре?
— В Туре? Никогда. Впрочем, — заметил он, спохватившись, — она была там совсем недавно, во время пребывания герцога Ангулемского, который очень милостиво обошелся с господином де Морсофом.
— Это она! — воскликнул я.
— Кто она?
— Женщина, у которой такие красивые плечи.
— В Турени есть много женщин с красивыми плечами, — проговорил он смеясь. — Впрочем, если вы не устали, мы можем перебраться на тот берег и зайти в Клошгурд, там вы воочию убедитесь, те ли это плечи или не те.
Я принял предложение, краснея от радости и стыда. Часов около четырех мы добрались до маленького замка, которым я уже давно любовался. Это здание, такое великолепное в рамке здешнего пейзажа, оказалось вблизи очень скромным. Своим фасадом в пять окон оно обращено на юг, причем крайние окна выступают на две туазы вперед, придавая особую прелесть всему архитектурному ансамблю: кажется, будто у дома два крыла; средний проем служит дверью, и от нее двойная лестница ведет в парк, который террасами спускается к Эндру. Хотя между узким зеленым берегом и последней террасой парка, обсаженной акациями и лаковыми деревьями, идет проезжая дорога, ее не замечаешь за буйно разросшейся зеленью, и можно подумать, что поместье доходит до самой воды. Парк содержится в образцовом порядке, и дом стоит достаточно далеко от реки, чтобы близость ее, доставляя одни удовольствия, не причиняла неудобств. Ниже дома расположены по склону холма сараи, конюшни, кладовые и кухни со сводчатыми дверями и окнами. Их крыши, изящно закругленные по углам, прорезаны чердачными окнами с затейливыми наличниками и украшены на самом верху букетами свинцовых цветов. Кровля, которую, очевидно, не чинили со времени революции, словно изъедена ржавчиной от покрывающего ее сухого, красноватого мха, какой встречается на домах, обращенных к югу. Над застекленной парадной дверью замка сохранилась башенка и на ней лепной герб рода Бламон-Шоври: щит герба четверочастный; на красном поле правой вершины и левой подошвы два черных скрещенных копья, а меж ними отверстые, золотые длани; два другие поля лазурные, на них серебряные шлемики. Меня особенно поразил девиз: «Смотреть смотри, а трогать не смей!». Щитодержатели герба, червленый грифон и дракон, опоясанные золотой перевязью, были очень искусно выполнены. Во время революции оказалась попорчена герцогская корона и шапка герба, представляющая собой зеленую пальму с золотыми плодами. Недаром до 1781 года должность бальи[14] в Саше занимал некто Сенар, секретарь Комитета общественного спасения.
Все эти детали придают прелесть замку, который отделан, как дорогая безделушка, и кажется издали невесомым. Если смотреть со стороны долины, нижнего этажа не видно, но со стороны двора дом стоит вровень с широкой, усыпанной песком аллеей, ведущей к лужайке с яркими клумбами. Направо и налево тянутся виноградники, фруктовые сады и участки, засаженные ореховыми деревьями; круто спускаясь по склону холма, эти деревья окружают дом своим темным массивом и доходят до берегов Эндра, покрытых здесь зелеными рощами таких богатых оттенков, создать которые под силу одной лишь природе. По дороге в Клошгурд я любовался местоположением замка и вдыхал воздух, словно напоенный счастьем. Неужели внутренний мир человека обладает такими же магнетическими свойствами, как и внешний мир, и подвержен столь же резким колебаниям температуры? Мое сердце билось все сильней, чувствуя приближение неведомых событий, коим суждено было навеки изменить для меня весь мир; так играет и веселится зверек перед наступлением хорошей погоды. Все соединилось в этот знаменательный для меня день, чтобы придать ему как можно больше торжественности. Природа оделась в свой лучший наряд, словно женщина, спешащая навстречу возлюбленному, и я впервые услышал ее голос, впервые увидел ее во всем изобилии, во всем великолепии, именно такой, какой она рисовалась мне в юношеских мечтах, которые я неумело пытался вам описать, чтобы пояснить их влияние на мою жизнь: они были для меня своего рода апокалипсисом, где каждое счастливое или несчастное событие было мне символически предсказано причудливым видением, зримым лишь для духовного взора. Мы пересекли первый двор, окруженный хозяйственными строениями: тут были и рига, и давильня для винограда, и хлев, и конюшня. На лай сторожевой собаки вышел слуга и сказал, что граф уехал с утра в Азе и, вероятно, скоро вернется, а графиня дома. Мой спутник взглянул на меня. Я дрожал от страха, что он не пожелает беспокоить г-жу де Морсоф в отсутствие мужа, но он велел слуге доложить о нас. С нетерпением ребенка я вбежал в переднюю, проходящую через весь дом.
— Входите же, господа! — прозвучал серебристый голос.
Г-жа де Морсоф произнесла на балу одно только слово, но я тотчас же узнал этот голос, который проник в мою душу и озарил ее светом: так луч солнца озаряет темницу узника и золотит ее стены. Подумав, что она может узнать меня, я хотел убежать, но было поздно: она стояла на пороге, наши глаза встретились. Не знаю, кто из нас покраснел сильнее. В замешательстве она не сказала ни слова и молча вернулась на свое место к пяльцам; слуга придвинул нам два кресла; она вдела нитку в иголку, чтобы найти предлог для молчания, сосчитала несколько стежков и, повернув к г-ну де Шесселю свое гордое и вместе с тем кроткое лицо, спросила, какому счастливому случаю она обязана его посещением. Несомненно, ей было любопытно узнать причину моего появления, но она не смотрела ни на одного из нас: глаза ее все время были прикованы к реке; однако по тому вниманию, с каким она слушала собеседника, можно было подумать, что, подобно слепым, она угадывает душевное волнение по едва приметным интонациям голоса. И это было действительно так. Г-н де Шессель назвал меня и вкратце рассказал мою историю. Я вернулся несколько месяцев тому назад в Тур, куда привезли меня родители, чтобы уберечь от опасностей войны, угрожавшей Парижу. Я был ей представлен как уроженец Турени, незнакомый со своим родным краем, которого послали в Фрапель, чтобы поправить здоровье, расстроенное чрезмерными занятиями; г-н де Шессель показывал мне свои владения, так как я приехал к нему впервые, но я признался лишь у подножия холма, что проделал пешком всю дорогу из Тура. Боясь повредить моему слабому здоровью, он осмелился зайти в Клошгурд, надеясь, что г-жа де Морсоф разрешит мне отдохнуть у нее в доме. Г-н де Шессель говорил правду, но счастливые совпадения так редки, что г-жа де Морсоф отнеслась недоверчиво к этому рассказу; я был сражен ее холодным, строгим взглядом и опустил голову, охваченный чувством, похожим на унижение, да и, кроме того, мне хотелось скрыть набежавшие на глаза слезы. Величавая хозяйка замка заметила холодный пот у меня на лбу; быть может, она угадала и готовые брызнуть слезы, ибо предложила мне все, в чем я мог нуждаться, выказав столько милой доброты, что я вновь обрел дар речи. Я покраснел, словно девушка, застигнутая врасплох, и дрожащим, как у старца, голосом стал благодарить ее.
— Я хотел бы только одного: чтоб меня не прогоняли отсюда, — прибавил я, подняв голову, причем наши глаза встретились на мгновение, короткое, как вспышка молнии, — я так устал, что едва держусь на ногах.
— Не надо сомневаться в гостеприимстве нашего прекрасного края, — сказала она и продолжала, повернувшись к г-ну де Шесселю: — Не правда ли, вы доставите мне удовольствие и отобедаете с нами?
Я бросил на своего покровителя такой умоляющий взгляд, что у него не хватило духа отказаться от приглашения, сделанного, по-видимому, из одной учтивости. Привычка вращаться в свете научила г-на де Шесселя различать тончайшие оттенки в обращении людей, но неопытный юноша так свято верит соответствию слов и мыслей у хорошенькой женщины, что я был крайне удивлен, когда, возвратившись к вечеру домой, г-н де Шессель сказал мне:
— Я остался только потому, что вам смертельно этого хотелось, но если вы не уладите дело, этот обед, возможно, рассорит меня с соседями.
Слова «если вы не уладите дело» навели меня на глубокие размышления. Неужели я мог понравиться графине? Ведь только в этом случае она не станет досадовать на того, кто ввел меня в ее дом. Значит, г-н де Шессель считает, что я способен заинтересовать ее. Эта мысль подкрепила мою надежду в тот момент, когда я больше всего нуждался в поддержке.
— Вряд ли нам удастся принять ваше приглашение, — ответил он, — госпожа де Шессель ждет нас к обеду.
— Вы и так постоянно обедаете дома, — продолжала графиня, — к тому же мы можем ее уведомить. Она сегодня одна?
— Нет, у нее аббат де Келюс.
— В таком случае вы обедаете у нас! — сказала г-жа де Морсоф, вставая, чтобы позвонить.
На этот раз г-ну де Шесселю было трудно заподозрить ее в неискренности, и он выразительно посмотрел на меня. Как только я убедился, что останусь весь вечер под этой кровлей, передо мной как бы открылась вечность. Для многих обездоленных слово «завтра» лишено всякого смысла, а я принадлежал тогда к числу людей, которые не верят в завтрашний день; пусть в моем распоряжении было лишь несколько часов, я видел в них целую жизнь блаженства. Г-жа де Морсоф заговорила об уборке хлеба, об урожае винограда и о местных делах — предметах для меня совершенно чуждых. Такой поступок хозяйки дома свидетельствует обычно о незнании приличий или же о пренебрежении к тому гостю, которого она ставит в положение молчаливого слушателя, но графиня просто старалась скрыть свое замешательство. И если в ту минуту мне казалось, что она обращается со мной, как с ребенком, если я завидовал г-ну де Шесселю, которому его тридцать лет давали право вести разговор о важных вещах — а я в них ничего не смыслил, — если я досадовал, что все внимание, хозяйки обращено на него, то несколько месяцев спустя я узнал, как многозначительно бывает молчание женщины и сколько чувств скрывается порой за пустым разговором. Прежде всего я постарался усесться поудобнее в кресле; затем воспользовался выгодами своего положения, чтобы в полной мере насладиться голосом графини. Ее душа раскрывалась в чередовании слогов так же, как мелодия изливается в звуках флейты; голос ласково касался моего слуха и ускорял бег крови в жилах. Произношение слов, оканчивающихся на «и», походило на пение птицы; буква «ш» звучала в ее устах, как поцелуй, а «т» она выговаривала так, что сразу чувствовалось, какую тираническую власть имеет над ней сердце. Таким образом, сама того не ведая, она расширяла смысл слов, увлекая мою душу в неземные выси. Сколько раз я старался продлить спор, который мог бы окончиться в одну минуту; сколько раз готов был навлечь на себя упреки в рассеянности, а между тем я жадно прислушивался к переливам ее голоса и вдыхал воздух, вылетавший вместе со словами из небесных уст, пытаясь уловить эту эманацию ее души с таким же пылом, с каким я прижал бы к груди самое графиню! Ее редкий смех звучал, как радостное щебетание ласточки! Но зато, какой грустный крик лебедя, зовущего подругу, слышался в ее голосе, когда она говорила о своих горестях! Благодаря невниманию графини к моей особе, я мог свободно рассмотреть нашу прекрасную собеседницу. Мой взор с наслаждением любовался ею, охватывал ее стан, целовал ее ножки, играл локонами прически. Однако я все время терзался страхом, понятным для тех, кто хоть раз в жизни испытал беспредельные радости истинной страсти. Я боялся, как бы она не приметила, что мои глаза прикованы к ее плечам, которые я так страстно целовал на балу. Страх еще усиливал искушение, и наконец я не устоял: я посмотрел на заветное местечко, мой взор проник сквозь материю, я вновь увидел родинку, от которой шла прелестная ложбинка между плечами, родинку, черную, как изюминка, плавающая в молоке; ведь с того памятного дня эта родинка сияла передо мной каждую ночь среди мрака, в котором растворяется сон юношей с горячим воображением, принужденных вести целомудренную жизнь.
Я хочу набросать вам портрет графини, и вы поймете, почему она всюду привлекала к себе внимание; но самый точный рисунок, самые яркие краски бессильны передать ее обаяние. Какой живописец мог бы написать это лицо, чья кисть изобразила бы отблеск внутреннего огня, тот неуловимый свет, который отрицает наука, не в силах воспеть поэт, но зато видит глаз влюбленного? Слишком густые пепельные волосы были причиной частых страданий графини, вызванных, по-видимому, внезапными приливами крови к голове. Ее лоб, высокий и выпуклый, как у Джоконды[15], скрывал множество невысказанных мыслей и заглушенных чувств, похожих на поблекшие цветы, лишенные живительных соков. Зеленовато-карие глаза были неизменно спокойны; но если дело касалось ее детей, если она поддавалась порывам радости или горя, редким у женщины, покорившейся судьбе, в глазах вспыхивали молнии, которые загорались, по-видимому, в самых глубинах ее существа, грозя все испепелить; именно такой взгляд вызвал у меня слезы, когда она сразила меня своим гневным презрением, и даже самые дерзкие люди не могли его выдержать. Греческий нос, словно изваянный Фидием, соединился двумя полуокружиями с изящно очерченным ртом и придавал одухотворенность овальному лицу, которое напоминало своей белизной камелию и нежно розовело лишь на щеках. Она была довольно полна, но это нисколько не нарушало ни стройности стана, ни красоты форм, сохранявших чудесную упругость. Вы легко поймете все ее совершенство, если я скажу, что на ослепительных плечах, околдовавших меня с первого взгляда, не было ни единой складочки. Шея графини ничем не напоминала шею некоторых женщин, сухую, как ствол дерева; мускулы нигде не выступали на ней, и взгляд встречал лишь округлые линии и плавные изгибы, не поддающиеся кисти художника. Легкий пушок покрывал ее щеки и шею, словно задерживая лучи света, отчего кожа казалась шелковистой. Свои маленькие, красивой формы ушки она называла «ушами матери и рабыни». Когда впоследствии я получил доступ к ее сердцу, она иногда говорила мне: «Вот идет господин де Морсоф» — и была права, тогда как я, несмотря на свой тонкий слух, еще не мог различить шума его шагов. Руки у нее были прекрасные, пальцы длинные, с загнутыми кончиками и миндалевидными ногтями, как у античных статуй. Я прогневил бы вас, отдав предпочтение плоским талиям перед круглыми, если бы вы не были исключением. Женщины с круглой талией отличаются властным, своевольным характером, они скорее страстны, чем нежны. Напротив, женщины с плоской талией преданны, чутки, склонны к меланхолии; у них больше женственности, чем у первых. Плоская талия гибка и податлива, круглая талия говорит о непреклонном и ревнивом темпераменте. Вы знаете теперь, какая внешность была у графини. Кроме того, у нее были ножки аристократки, которые не привыкли много ходить и быстро устают; эти хорошенькие ножки радовали взгляд, когда показывались из-под подола платья. Хотя она была уже матерью двух детей, я никогда не встречал женщины более юной на вид. В ее лице было что-то покорное, какая-то сосредоточенность и задумчивость, и это выражение влекло вас неодолимо, как те портреты, в которых художник силой своего таланта сумел передать целый мир чувств. Впрочем, внешние качества графини можно описать лишь путем сравнения. Вспомните целомудренный аромат той веточки дикого вереска, которую мы сорвали с вами, возвращаясь с виллы Диодати — вы еще любовались тогда ее черной и розовой окраской, — и вы легко поймете, как могла эта женщина быть элегантной вдали от света, естественной во всех своих движениях, изысканной даже в мелочах, поистине напоминая черно-розовый цветок. В теле ее чувствовалась свежесть только что распустившихся листьев, ум обладал ясностью ума поселянки; она была чиста, как дитя, серьезна, как страдалица, величественна, как знатная дама, и умна, как ученая женщина. Вот почему графиня нравилась без уловок кокетства, нравилась каждым своим движением, тем, как она ходила, садилась, молчала или невзначай роняла какое-нибудь слово. Она бывала обычно сдержанна и настороженна, словно часовой, который обязан охранять безопасность окружающих и еще издали чувствует приближение беды; но порой на ее губах появлялась шаловливая улыбка, говорившая о природной веселости, подавленной жизненными невзгодами. Ее кокетство затаилось где-то очень глубоко, оно навевало мечтательность, вместо того чтобы привлекать внимание кавалеров, столь ценимое женщинами, и позволяло догадываться о врожденной страстности темперамента и о наивных девичьих грезах: так в просвете между тучами проглянет иной раз клочок голубого неба. И невольно, поняв эти скрытые порывы, погружались в задумчивость люди, чью душу еще не успел иссушить пламень желаний. Жесты и в особенности взгляды г-жи де Морсоф были так редки (обычно она смотрела только на своих детей), что придавали глубокую торжественность ее словам и поступкам, и даже в минуты откровенных признаний она оставалась гордой и величавой. В тот день на г-же де Морсоф было розовое платье в мелкую полоску, воротничок с широкими отворотами, черный пояс и черные ботинки. Волосы были собраны простым узлом и заколоты черепаховым гребнем. Таков обещанный мною, хотя и несовершенный портрет графини. Но этого недостаточно. И душевная теплота, которой она одаряла близких, подобно солнцу, согревающему своими живительными лучами все сущее; и подлинная природа этой женщины, ясной в счастливые минуты и стойкой в грозовые периоды жизни; и превратности ее судьбы, которые столь ярко выявляют характеры и зависят, как и все, что посылает нам небо, от неожиданных и мимолетных событий, несхожих между собой, но часто происходящих на одинаковом фоне, — все это войдет в ткань моего повествования; перед вами развернется эпопея семейной жизни, столь же великая в глазах мудреца, как и возвышенная трагедия в глазах толпы; она заинтересует вас не только потому, что я принял в ней участие, но и в силу сходства описанной в ней судьбы с судьбой многих других женщин.
В Клошгурде на всем лежал отпечаток поистине английской чистоплотности. Стены гостиной, в которой сидела графиня, были доверху обшиты деревом и выкрашены в серый цвет двух оттенков. На камине стояли часы в футляре красного дерева и две большие вазы из белого фарфора с золотыми прожилками, а в них букеты капского вереска. На круглом столике горела лампа. Против камина помещался стол для игры в триктрак. На окнах висели белые перкалевые занавески, подобранные с обеих сторон широкими подхватами. Серые чехлы с зеленой тесьмой покрывали мебель, а скромность вышивки, вставленной в пяльцы, красноречиво свидетельствовала о вкусе графини. Простота граничила здесь с величием. Ни один дом, в котором я побывал впоследствии, не производил на меня столь сильного и благотворного впечатления! Атмосфера гостиной Клошгурда походила своей спокойной сосредоточенностью на жизнь графини, и, глядя на окружающую обстановку, можно было судить о монастырской размеренности занятий хозяйки. Все мои самые смелые политические и научные идеи родились здесь с той же естественностью, с какой розы испускают свой аромат; здесь рос диковинный цветок, оплодотворивший своей пыльцой мою душу, здесь сияло солнце, чей благодетельный свет помог развиться моим хорошим качествам и иссушил дурные. Из окон дома взгляд охватывал всю долину от холма, где лежит село Пон-де-Рюан, до замка Азе, следуя по извилинам другого берега реки, который оживляли башни Фрапеля, церковь, поселок и громада старинного замка Саше, возвышавшегося над лугом. Этот край гармонировал с тихой, замкнутой жизнью графини и сообщал ее душе свою безмятежную ясность. Если бы я впервые встретил г-жу де Морсоф с мужем и двумя детьми в Клошгурде, а не на балу в великолепном вечернем наряде, я не отважился бы на безумные поцелуи, в которых теперь горько раскаивался, полагая, что они навеки отняли у меня надежду на любовь! Нет, в том мрачном унынии, в какое меня повергли былые несчастья, я преклонил бы колени, поцеловал ее туфельки, оросив их слезами, а затем бросился бы в Эндр.
Но теперь, когда я прикоснулся губами к ее белой, как жасмин, коже и отпил несколько глотков из чаши любви, моя душа расцвела надеждой на земную страсть; я хотел жить и ждать часа наслаждения с упорством дикаря, подстерегающего час мести; я хотел, как он, взбираться на деревья, ползти среди виноградников, скрываться в водах Эндра; я мечтал воспользоваться тишиной ночи, усталостью сердца, зноем лета, чтобы насладиться восхитительным плодом, который успел отведать. Потребуй она у меня сказочный поющий цветок или сокровища, зарытые Морганом — Грозой морей[16], я добыл бы их для нее, лишь бы получить взамен иные, столь желанные сокровища и немой цветок любви! Сон наяву, в который я погрузился, созерцая свою богиню, был прерван слугой, говорившим ей что-то о графе де Морсофе. Только тогда я подумал, что графиня принадлежит своему мужу. При этой мысли я почувствовал головокружение. Затем меня охватило яростное и мрачное любопытство: мне хотелось видеть обладателя этой жемчужины. Два чувства господствовали в моей душе: ненависть и страх; ненависть, готовая без колебания преодолеть любое препятствие, и смутный, но сильный страх перед борьбой, перед исходом этой борьбы и, главное, перед Нею. Охваченный неясными предчувствиями, я опасался рукопожатий, бесчестящих человека, и уже предвидел мелкие, будничные препятствия, перед которыми слабеет воля самых сильных. Я боялся болота повседневности, ибо в наши дни оно засасывает людей и лишает социальную жизнь развязок, которых жаждут пылкие сердца.
— Вот и господин де Морсоф, — проговорила она.
Я вскочил на ноги, как испуганный конь. Хотя это движение не ускользнуло ни от г-на де Шесселя, ни от графини, оно не вызвало их молчаливого порицания, ибо как раз в эту минуту вбежала девочка лет шести со словами:
— Папенька пришел!
— Ну что же ты, Мадлена? — заметила мать.
Девочка протянула ручку г-ну де Шесселю и поклонилась мне, взглянув на меня внимательно и удивленно.
— Как ее здоровье? Оно больше не внушает вам опасений? — спросил г-н де Шессель у графини.
— Теперь ей лучше, — отвечала она, гладя по голове прильнувшую к ней дочку.
Из слов г-на де Шесселя я узнал, что Мадлене было девять лет; я не мог скрыть удивления, при виде которого облако грусти омрачило лицо г-жи де Морсоф. Мой собеседник бросил на меня один из тех многозначительных взглядов, которыми светские люди дополняют наше воспитание. Очевидно, я невольно коснулся раны материнского сердца, чувства которого следовало щадить, Мадлена, конечно, не выжила бы в городе; это был хилый ребенок с большими усталыми глазами и с прозрачно-белой кожей, напоминавшей освещенную изнутри фарфоровую вазу. Деревенский воздух, неусыпные заботы матери, которая, видимо, не могла надышаться на нее, поддерживали жизнь в этом теле, столь же хрупком, как цветок, распустившийся в теплице, несмотря на суровость чуждого ему климата. Хотя Мадлена не имела ни малейшего сходства с матерью, она, казалось, унаследовала ее душу, и эта душа поддерживала силы ребенка. Жиденькие черные волосы, ввалившиеся глаза, впалые щеки, худые ручки, узкая грудь — все говорило о борьбе жизни со смертью, о беспрестанном поединке, из которого графиня выходила до сих пор победительницей. Девочка старалась казаться веселой, по-видимому, чтобы не тревожить мать; но, когда она не следила за собой, вся ее фигурка никла, как плакучая ива. Можно было подумать, что это маленькая изголодавшаяся цыганка, которая пришла из родного края, прося подаяние, что она устала, истощена, но полна мужества и нарядилась для выступления перед зрителями.
— Где же ты оставила Жака? — спросила мать, целуя ее в пробор, разделявший черные, как вороново крыло, волосы.
— Он идет сюда вместе с папенькой.
В эту минуту вошел граф, держа сына за руку. Жак был копией сестры и тоже поражал своим болезненным видом. Смотря на этих двух детей рядом с их прекрасной, полной жизни матерью, легко было отгадать причину печали, снедавшей графиню, ее горькие думы, поверяемые лишь богу и налагавшие на чело свою неизгладимую печать. Г-н де Морсоф поклонился мне, окинув меня взглядом скорее беспокойным, чем проницательным, взглядом подозрительного человека, не умеющего разбираться в людях. Представив меня мужу и объяснив мое присутствие в Клошгурде, г-жа де Морсоф направилась к двери. Дети, не отрывавшие глаз от матери, словно она была для них источником света, хотели бежать за ней.
— Останьтесь, мои милые! — сказала она, приложив палец к губам.
Они повиновались, но глаза их затуманились печалью. Ах, чего бы я не дал за одно это слово «милый»! Когда она ушла, мне, как и детям, стало холоднее. Услышав мое имя, граф сразу переменился ко мне. Из надменно-холодного он стал если не сердечным, то по крайней мере подчеркнуто любезным, осыпал меня знаками внимания и, казалось, был рад принять меня у себя в доме. Некогда мой отец, верой и правдой служивший нашим коронованным повелителям, играл при них крупную, но тайную роль, роль опасную, сулившую, однако, успех. Когда же с приходом к власти Наполеона все было потеряно, отец, как и многие бывшие заговорщики, обосновался в провинции и ограничил свою жизнь радостями домашнего очага, примирившись с обвинениями, столь же суровыми, сколь и несправедливыми, — такова неизбежная участь игроков, которые все ставят на карту и сходят со сцены после того, как собственными руками пустили в ход политическую машину. Ничего не зная ни о судьбе, ни о прошлом, ни о настоящем моей семьи, я был так же мало осведомлен и об этой позабытой страничке из жизни отца, о которой помнил г-н де Морсоф. Однако если древность нашего рода, ценнейшее качество в глазах такого человека, как граф, и могла объяснить радушный прием, обрадовавший и смутивший меня, то истинную причину благожелательности г-на де Морсофа я узнал лишь позднее. А пока эта нежданная любезность помогла мне овладеть собой. Когда между нами вновь завязался разговор, Мадлена высвободила головку из-под руки отца и, взглянув на открытую дверь, проскользнула в нее с проворством змейки; Жак последовал за сестрой. Они спешили к матери, и действительно, вскоре до меня донеслась их возня и звуки голосов, похожих на жужжание пчел у родного улья.
Я приглядывался к г-ну де Морсофу, стараясь разгадать его характер; некоторые особенности его внешности так заинтересовали меня, что я не мог ограничиться беглым взглядом, какой обычно бросаешь на незнакомого человека. Хотя графу было только сорок пять лет, на вид ему казалось не меньше шестидесяти: так состарило этого человека великое крушение, ознаменовавшее конец XVIII века[17]. Черные с проседью волосы, по-монашески опоясывая сзади лысый череп, доходили до ушей и топорщились у висков. Лицо смутно напоминало морду белого волка, испачканную в крови, ибо нос его рдел, как у всех людей, чья жизнь подорвана в самой своей основе, желудок испорчен и все функции организма нарушены по вине застарелых болезней. Прямой обветренный лоб, слишком широкий для остроконечного лица, покрывали беспокойные поперечные морщины, говорившие скорее о привычке жить на свежем воздухе, чем об упорном умственном труде, скорее о гнете постоянных несчастий, чем о борьбе с судьбой. Выдаваясь на синевато-бледном лице, смуглые скулы свидетельствовали о натуре достаточно крепкой, чтобы обеспечить графу долгую жизнь. Суровый взгляд его желтых глаз, блестящих и холодных, словно свет солнца зимой, был бездумный, тревожный и беспричинно недоверчивый. В складке рта чувствовалось что-то повелительное, необузданное, подбородок был длинный и плоский. Высокий худощавый граф держался, как дворянин, сознающий свое превосходство, впрочем, чисто условное, ибо он стоял выше других по праву и ниже по занимаемому положению. Живя в деревне, он несколько опустился и одевался, как помещик, в лице которого крестьяне и соседи видят лишь хозяина земельных владений. По его загорелым жилистым рукам можно было угадать, что он надевает перчатки, только когда катается верхом или идет в воскресенье к обедне. Обут он был в грубые башмаки. Хотя десять лет эмиграции и десять лет деревенской жизни изменили облик графа, в нем еще были видны признаки знатного происхождения. Заклятый либерал — слово, которое в те времена еще не стало ходячим, — и тот признал бы его неподкупную честность и незыблемые убеждения постоянного читателя «Котидьен»[18]. Он увидел бы в нем человека религиозного, страстно преданного делу роялизма, искреннего в своих политических антипатиях, неспособного оказать помощь своей партии, но весьма способного ее погубить, и ничего не знающего о том, что делается во Франции. В самом деле, граф был одним из тех прямолинейных людей, которые не идут ни на какие уступки и упорно всему мешают, готовы умереть с оружием в руках на боевом посту, но настолько скупы, что скорее пожертвуют жизнью, нежели деньгами. Во время обеда я заметил по красным пятнам на его впалых щеках и по взглядам, украдкой брошенным на детей, что г-на де Морсофа преследует навязчивая мысль, которую он напрасно пытается отогнать. Кто, увидев графа, не понял бы его терзаний?! Кто не признал бы его вины в том, что дети унаследовали болезненную слабость, лишавшую их жизненных сил?! Но, осуждая себя сам, он не признавал за другими права судить его. Он был желчен, как повелитель, сознающий свою вину, но ему не хватало душевного благородства, чтобы вознаградить близких за страдания, брошенные им на чашу весов судьбы; резкие черты графа и его бегающие глаза говорили о том, что совместная жизнь с ним тяжела, как крестный путь. Вот почему, когда вошла его жена с детьми, следовавшими за ней по пятам, я заподозрил, что в этой семье угнездилось несчастье: так, проходя над подземельем, ощущаешь порой его глубину. Видя вместе этих четверых людей, окидывая их взглядом, переводя глаза с одного на другого, изучая их лица и отношение друг к другу, я почувствовал, что грусть окутала мое сердце, словно серая пелена дождя, нежданно омрачающая красивый пейзаж после великолепного солнечного восхода. Едва тема нашего разговора истощилась, граф снова оказал мне предпочтение перед г-ном де Шесселем, сообщив жене некоторые подробности из истории моего семейства, которые мне были неизвестны. При этом он спросил, сколько мне лет. Услышав мой ответ, графиня была не менее удивлена, чем я, когда узнал возраст ее дочери. Вероятно, она полагала, что мне не более четырнадцати лет. Как я потом узнал, это оказалось новой нитью, протянувшейся между нами. Я прочел мысли г-жи де Морсоф: ее материнское сердце затрепетало, озаренное лучом запоздалой надежды. Когда она увидела, что в двадцать лет я оставался тонким, хрупким, но был все же вынослив, внутренний голос шепнул ей: «Мои дети будут жить!» Она посмотрела на меня с любопытством, и я почувствовал, как в это мгновение между нами растаял лед. Казалось, она хотела задать мне множество вопросов, но не задала ни одного.
— Если чрезмерные занятия расстроили ваше здоровье, — заметила она, — воздух нашей долины исцелит вас.
— Нынешнее воспитание губит детей, — подхватил граф. — Мы пичкаем их математикой, обременяем излишней ученостью и только преждевременно истощаем их силы. Отдохните здесь, — продолжал он, — вы раздавлены лавиной обрушившихся на вас идей. Каких только бед не готовит нам теперешнее просвещение, доступное всем и каждому! Для предотвращения зла необходимо передать дело народного образования духовным конгрегациям.
Эти слова прекрасно объясняют, почему г-н де Морсоф отказался однажды голосовать за депутата, который своими талантами мог быть полезен делу роялизма. «Я никогда не доверял умным людям», — ответил он на недоуменный вопрос сборщика голосов.
Граф встал и предложил нам пройтись по саду.
— Не надо, сударь, прошу вас... — проговорила графиня.
— В чем дело, дорогая? — спросил он с высокомерным видом, который доказывал, как сильно он желает властвовать у себя в доме и как далек от этого на самом деле.
— Наш гость пришел из Тура пешком, а господин де Шессель, не подозревая об этом, повел его осматривать свои владения.
— Вы поступили неосторожно, — сказал граф, обращаясь ко мне, — хотя в вашем возрасте...
И он покачал головой в знак сожаления.
Беседа возобновилась. Я вскоре заметил, как прямолинеен был роялизм графа и какие требовались уловки, чтобы избежать столкновения с ним. Слуга, успевший надеть ливрею, доложил, что кушать подано. Г-н де Шессель повел графиню, г-н де Морсоф весело взял меня под руку, и мы вошли в столовую, которая находилась на нижнем этаже, как раз против гостиной.
В столовой пол был выложен белыми плитками, изготовленными в Турени, а стены, обшитые деревом до половины человеческого роста, оклеены глянцевитыми обоями с изображением цветов и плодов; на окнах висели перкалевые занавески, отделанные красным басоном; на старинных буфетах лежала печать мастерства Буля, стулья были резные, дубовые, украшенные вышивками ручной работы. Обед оказался весьма обильным, но сервирован был далеко не роскошно: фамильное разнокалиберное серебро, саксонский фарфор, в то время еще не успевший снова войти в моду, восьмигранные графины, ножи с агатовыми ручками, лакированные китайские подставки для бутылок, цветы в крашенных под лак кадочках с острыми золочеными зубцами по краям. Мне нравилась вся эта старина, я находил великолепными обои от Ревейона с бордюрами из крупных цветов. Радость, переполнявшая мое сердце, мешала видеть непреодолимые преграды, воздвигнутые между мной и г-жой де Морсоф самим укладом деревенской жизни с ее размеренностью и уединением; я сидел возле графини, по ее правую руку, я подавал ей пить! И нежданное счастье: я прикасался к ее платью, ел ее хлеб! Не прошло и трех часов, а наши жизни уже переплелись! Кроме того, нас связывало воспоминание о том роковом поцелуе: это была как бы наша общая тайна, глубоко смущавшая нас обоих. В своем торжестве я стал льстецом: я старался понравиться графу, который благосклонно принимал мои любезности; я готов был ласкать его собаку, исполнять прихоти детей; мне хотелось подавать им серсо и мячи, катать их на собственной спине, и я даже досадовал, что они еще не завладели мною как своей собственностью. Любовь подобна таланту: ей тоже свойственна интуиция, и я смутно чувствовал, что горячность, дурное настроение или нелюдимость разрушили бы мои надежды. Обед прошел для меня среди неизъяснимых восторгов. Находясь под кровлей г-жи де Морсоф, я не замечал ни ее явной холодности, ни равнодушия графа, прикрытого маской учтивости. В начале любви, как и в начале жизни, есть период, когда она довольствуется сама собой. В своем смятении я несколько раз отвечал невпопад на предлагаемые вопросы, но никто не мог отгадать моей тайны, даже она, не ведавшая любви. Все остальное время пролетело как сон. Я пробудился от этого прекрасного сна, когда при свете луны теплым благоуханным вечером шел по мосту через Эндр; причудливые серебристые блики лежали на траве, на берегу и холмах, слышался звонкий, однотонный, равномерный, исполненный грусти звук: то кричала древесная лягушка, научное название которой мне неизвестно, но после этого знаменательного вечера я всегда слушаю ее со сладостным волнением. Я мысленно оглянулся назад и с некоторым опозданием понял, что здесь, как и повсюду, встретил то же каменное равнодушие, о которое разбивались до сих пор мои лучшие чувства; задал себе вопрос: неужели так будет длиться вечно? И мне показалось, что надо мной тяготеет проклятие; мрачные события прошлого набросили тень на сокровенные радости, которые я только что испытал. Прежде чем вернуться во Фрапель, я еще раз взглянул на Клошгурд и увидел внизу лодку, называемую в Турени «ту»; она была привязана к стволу ясеня и тихо покачивалась на воде. Лодка принадлежала г-ну де Морсофу, который ездил на ней удить рыбу.
— Мне кажется, нет нужды спрашивать, нашли ли вы женщину с красивыми плечами? — сказал г-н де Шессель, когда нас уже никто не мог услышать. — Можете гордиться приемом господина де Морсофа! Поздравляю, черт возьми! Вы сразу же оказались в центре неприятельской крепости.
Эта тирада, сопровождаемая фразой, которую я привел выше, возродила мое угасшее было мужество. С тех пор как мы покинули Клошгурд, я не сказал ни слова, и г-н де Шессель, очевидно, объяснял мое молчание избытком счастья.
— Почему вы так полагаете? — спросил я ироническим тоном, который можно было приписать моей затаенной страсти.
— Он никогда так хорошо не принимал ни одного гостя.
— Признаюсь, я и сам удивлен таким приемом, — заметил я, чувствуя скрытую горечь в словах своего собеседника.
Хотя я был слишком неопытен в светских делах, чтобы понять причину досады г-на де Шесселя, меня все же поразило его с трудом скрываемое недовольство. Мой гостеприимный хозяин имел несчастье называться Дюраном и ставил себя в смешное положение, отрекаясь от имени своего отца, знаменитого фабриканта, нажившего огромное состояние во время революции. Его жена была единственной наследницей Шесселей, старинного судейского рода, ведущего свое начало со времен Генриха IV, как и большинство родов высших парижских чиновников. Итак, г-н де Шессель, этот заядлый честолюбец, вознамерился «убить» Дюрана, чтобы достичь желаемых высот. Сперва он стал называться Дюран де Шессель, затем Д. де Шессель, а когда я с ним познакомился, был уже просто г-н де Шессель. При Реставрации он получил от Людовика XVIII диплом на титул графа, дававший ему право учредить майорат[19]. Следовательно, дети г-на де Шесселя пожнут плоды его самоотверженности, так и не узнав жертвы, принесенной отцом. Язвительное словцо некоего вельможи до сих пор тяготело над ним. «Господин де Шессель редко появляется в образе Дюрана», — сказал он как-то. Эта эпиграмма долгое время ходила по Турени. Выскочки подобны обезьянам, у которых они переняли свою ловкость: когда они карабкаются вверх, любуешься их проворством, но, стоит им добраться до вершины, замечаешь лишь их заднюю часть. Оборотная сторона характера г-на де Шесселя состояла из мелких пороков, раздутых завистью. Однако он по-прежнему был далек от пэрства[20]. Осуществить свои притязания — таково преимущество дерзкой силы; но тот, кто остановился на полпути, несмотря на высказанные им притязания, лишь выставляет себя в смешном свете перед обывателями. Между тем г-н де Шессель не шел прямо к цели, как сильный человек: он был дважды избран депутатом и дважды терпел поражение на выборах; вчера он занимал высокий государственный пост, а сегодня не был даже префектом; смена успехов и поражений испортила его характер, и он стал раздражителен, как всякий честолюбивый неудачник. Быть может, пагубную роль в его жизни сыграло чувство зависти, свойственное жителям Турени, которые проводят время, ревниво следя за успехами своих ближних, но только он немногого добился в высших сферах, ведь там не жалуют людей, которые хмурятся при виде чужой удачи и кривят в усмешке губы, скорее созданные для эпиграмм, нежели для комплиментов. И хотя этот светский человек славился своим остроумием и был способен на большие дела, он, вероятно, достиг бы большего, если бы требовал не так много; к тому же, на свое несчастье, он обладал чувством собственного достоинства и никогда не гнул спины. В настоящее время г-н де Шессель переживал закат своих честолюбивых замыслов, хотя роялизм и благоприятствовал ему. Пожалуй, он слишком любил подчеркнуть, что принадлежит к высшему свету, но по отношению ко мне был всегда безупречен. Впрочем, он нравился мне по той простой причине, что я впервые нашел покой под его кровлей. То незначительное внимание, которое он проявлял к моей особе, показалось мне, бедному, заброшенному ребенку, олицетворением отцовской любви. Его любезное гостеприимство настолько отличалось от равнодушия, угнетавшего меня прежде, что я выказывал г-ну де Шесселю детскую признательность за привольную жизнь в его доме и за ласковое обращение. Владельцы Фрапеля так тесно связаны с зарей моего счастья, что я невольно соединяю их с дорогими моему сердцу воспоминаниями. Позднее, когда я состоял при особе короля, мне удалось оказать кое-какие услуги моему бывшему хозяину. Г-н де Шессель был богат и жил на широкую ногу, что задевало самолюбие соседей; он часто менял свои великолепные выезды; его жена носила изысканные наряды; он устраивал блестящие приемы и держал больше прислуги, чем это принято в нашем краю, — словом, замашки у него были княжеские. Владения Фрапеля огромны. При виде роскоши соседа граф де Морсоф, которому приходилось довольствоваться семейным кабриолетом — а в Турени это нечто среднее между таратайкой и почтовой каретой — и по бедности жить на доходы с Клошгурда, конечно, завидовал ему, как истый туренец, до того дня, когда нежданная милость короля вернула семейству Морсофов его былой блеск. Итак, прием, оказанный графом младшему сыну древнего рода, герб которого восходит к временам крестовых походов, был попросту средством унизить незнатного соседа, обладателя обширных лесов, пахотных земель и лугов. Г-н де Шессель прекрасно понимал это. Вот почему, несмотря на неизменную учтивость, между соседями так и не возникло дружеской близости, вполне естественной между владельцами Клошгурда и Фрапеля — двух замков, разделенных лишь Эндром, из окон которых дамы могли бы приветствовать друг друга.
Впрочем, не одна зависть была причиной уединенной жизни графа де Морсофа. В молодости он получил поверхностное образование, как и большинство юношей знатного рода, которые лишь позже восполняли недостаток своих познаний, ведя светскую жизнь, знакомясь с обычаями двора и выполняя обязанности, налагаемые придворными чинами и должностями. Но г-н де Морсоф эмигрировал именно тогда, когда для него началось это второе воспитание, и не воспользовался его плодами. Он был из тех, кто поверил в быстрое восстановление монархии во Франции и, питаясь иллюзиями, жил в изгнании среди прискорбной праздности. Когда распалась армия принца Конде[21], в рядах которой граф отличился своим мужеством и самоотверженностью, он решил, что вскоре вернется под сень белого знамени[22], и не стал, как другие эмигранты, подыскивать себе занятие. А может быть, у него не хватило духа пренебречь своим громким именем и трудиться ради хлеба насущного, ибо на труд он привык смотреть с презрением. Надежды, возлагаемые на завтрашний день, и, по всей вероятности, чувство чести помешали ему предложить свои услуги какой-нибудь иностранной державе. Страдания подорвали его мужество. Длинные переходы пешком на голодный желудок и обманутые ожидания расстроили здоровье, вселили уныние в душу. Скоро нищета его дошла до крайности. Если у многих людей бедность удваивает энергию, то на других она действует подобно яду, и граф принадлежал к этим последним. Несчастный турский дворянин, который странствовал пешком по дорогам Венгрии и делил кусок баранины с пастухами князя Эстергази — он никогда не принял бы милостыни от их хозяина и сотни раз отвергал подачки, предлагаемые врагами Франции, — ни разу не вызвал во мне неприязни, даже когда я увидел, насколько он смешон в своем самодовольстве. Седые волосы г-на де Морсофа рассказали мне горестную повесть этой жизни, и я слишком сочувствовал изгнанникам, чтобы осудить его. На чужбине граф утратил веселость, свойственную французам, и в частности уроженцам Турени; он стал угрюм, печален, занемог и был принят из сострадания в какую-то немецкую больницу. У него оказалось воспаление брюшины, болезнь часто смертельная, которая даже при благоприятном исходе плохо влияет на характер и почти всегда влечет за собой ипохондрию. Низменные любовные похождения г-на де Морсофа, тайну которых я отгадал, хотя она и была погребена в глубине его сердца, не только подорвали жизненные силы изгнанника, но и пагубно сказались на его потомстве. После двенадцати лет невзгод он обратил наконец свой взор на Францию, куда ему было разрешено вернуться декретом Наполеона. Когда, прекрасным летним вечером перебравшись через Рейн, страдалец увидел колокольню страсбургского собора, он едва не лишился чувств от волнения.
— Франция! Франция! Вот она, Франция! — воскликнул он, по его собственным словам, как ребенок, который кричит в бреду: «Мама! Мама!»
Рожденный в богатстве, он был теперь беден; предназначенный для того, чтобы командовать войском или стать государственным деятелем, он потерял власть и не имел будущего; некогда здоровый и крепкий, он возвратился больной и изношенный. Очутившись без образования в стране, где за это время успели измениться и люди и вещи, чуждый всему новому, граф понял, что он лишился не только физических, но и духовных сил. При отсутствии состояния громкое имя стало для него обузой. Непоколебимые убеждения, героическое прошлое, связанное с армией принца Конде, былые невзгоды, горестные воспоминания, расшатанное здоровье — все это обострило его обидчивость, недостаток, который не щадят во Франции, стране шутников. Полумертвый от усталости, он добрался до Мена, где благодаря случайности, нередкой во время гражданской войны, революционное правительство забыло продать довольно богатую ферму Морсофов, а арендатор сохранил ее для законного владельца, выдав за свою. Когда герцог де Ленонкур, живший по соседству, узнал о прибытии графа, он тут же предложил ему поселиться у себя на все время, необходимое для устройства приличного жилья. Ленонкуры проявили много благородства и великодушия по отношению к графу, который несколько оправился во время этой первой передышки и постарался скрыть от окружающих свои болезни. Ленонкуры потеряли принадлежавшее им некогда огромное состояние, а по родовитости г-н де Морсоф был приличной партией для их единственной дочери. Молодая девушка не только не противилась этому браку с больным и преждевременно состарившимся графом, которому в ту пору было тридцать пять лет, но, казалось, с радостью приняла его предложение. Замужество давало ей возможность жить с теткой, герцогиней де Верней, сестрой князя де Бламон-Шоври, любившей ее с материнской нежностью.
Г-жа де Верней, близкая подруга герцогини Бурбонской, принадлежала к религиозному обществу, душой которого был уроженец Турени Сен-Мартен, прозванный «Неведомым философом»[23]. Последователи этого философа стремятся обрести добродетели, превозносимые умозрительной философией иллюминизма. Сия мистическая доктрина открывает доступ в божественные миры, рассматривает жизнь как ряд превращений, готовящих человека к возвышенной судьбе, освобождает понятие долга от унизительного подчинения законам и учит принимать житейские невзгоды с неизменной кротостью квакеров[24], пробуждая в сердце верующих нечто вроде братской любви к ангелу-хранителю, обитающему на небесах. Это своего рода стоицизм, подкрепленный верой в будущее. Действенная молитва и чистая любовь — таковы основы учения Сен-Мартена, которое выходит за пределы римско-католической церкви, сближаясь с христианской церковью первых веков. Мадемуазель де Ленонкур осталась, однако, в лоне апостолической церкви, которой, несмотря ни на что, была верна и ее тетушка. Перенеся жестокие испытания во время революции, герцогиня де Верней предалась под конец жизни пламенному благочестию, которое, по словам Сен-Мартена, пролило и в душу ее племянницы «свет небесной любви и елей духовной радости». После смерти тетушки графиня несколько раз принимала этого проповедника мира и добродетели в Клошгурде, где он часто бывал и прежде. Гостя у нее, он следил за изданием своих новых книг у Летурми в Туре. Еще до свадьбы своей любимицы г-жа де Верней, мудрая, как и все старые женщины, познавшие стремнины жизни, подарила ей Клошгурд, желая, чтобы у графини был свой очаг. С добротой пожилых людей, которая бывает безукоризненна, когда они действительно добры, герцогиня отдала ей все, оставив себе лишь маленькую комнатку над своей прежней спальней, которую теперь занимала графиня. Внезапная смерть г-жи де Верней омрачила медовый месяц четы Морсофов и наложила неизгладимую печать грусти на Клошгурд и на суеверную душу новобрачной. И все же первые дни пребывания в Турени были для графини единственными днями, когда за неимением счастья она впервые наслаждалась покоем.
После тягот жизни в чужих краях г-н де Морсоф с радостью увидел впереди более светлое будущее; для него как бы наступило нравственное исцеление; поселившись в прекрасной долине Эндра, он вдыхал пьянящий аромат расцветающей надежды. Чтобы поправить свои дела, он занялся сельским хозяйством и даже нашел в этом некоторое удовлетворение; но тут появился на свет Жак, и врач приговорил новорожденного к смерти; это горе было ударом грома среди ясного неба: оно разрушило и настоящее и будущее несчастного отца. Граф тщательно скрыл роковой приговор от жены; затем сам обратился за советом к врачу и получил страшный ответ, который был подтвержден впоследствии рождением Мадлены. Эти события и уверенность графа в правильности слов врача ухудшили болезненное состояние бывшего эмигранта. Итак, род Морсофов угаснет, молодая, чистая, безупречная женщина будет несчастна по его вине: дети принесут ей не радость материнства, а одно лишь страдание. Горечь минувшего, породившего новые муки, поднялась в душе графа и окончательно ожесточила его. Г-жа де Морсоф отгадала прошлое мужа, судя о нем по настоящему, и сумела заглянуть в будущее. Хотя нет ничего труднее, чем составить счастье человека, угнетенного сознанием своей вины, графиня взялась за этот достойный ангела подвиг. Ей пришлось научиться стоической твердости. Спустившись в бездну, откуда был виден, однако, клочок голубого неба, она посвятила себя служению одному человеку, так же, как сестра милосердия посвящает себя служению всем страждущим, и, желая помирить мужа с самим собой, простила ему то, чего он не мог себе простить. Он был скуп — она согласилась на любые лишения; он был подозрителен, как все, кто вынес из светской жизни лишь чувство омерзения, — она стала жить уединенно, безропотно снося недоверие супруга; она прибегала к женской хитрости, чтобы направить его на путь добра, и внушала графу мысли, которые он принимал за свои, наслаждаясь в семейном кругу превосходством, недоступным ему в обществе. Затем, после нескольких лет замужества, она решила никогда не выезжать из Клошгурда, считая, что истерические вспышки мужа неизбежно вызовут пересуды и насмешки, вредные для воспитания детей. Она опустила такую плотную завесу на свою неудавшуюся жизнь, что никто не мог заподозрить подлинного ничтожества г-на де Морсофа. У графа был изменчивый и скорее раздражительный, чем злобный характер, но этот себялюбец нашел подле жены благоприятную почву, ибо его скрытые страдания облегчил наконец бальзам утешения.
Вот краткий пересказ того, что мне поведал г-н де Шессель в порыве невольной досады. Знание света помогло ему приподнять покров тайны, погребенной в Клошгурде. Но если благородное поведение г-жи де Морсоф и обмануло свет, ничто не могло обмануть всевидящего ока любви. Я уже лег спать в своей маленькой комнатке, как вдруг меня озарила догадка о муках графини; я вскочил с постели, оделся, крадучись спустился по винтовой лестнице башенки и вышел на улицу через боковую дверь: мне невыносима была мысль, что я нахожусь во Фрапеле, вместо того чтобы смотреть на окна ее спальни. Холод ночи успокоил меня. Я перешел через Эндр по мосту возле Красной мельницы и, прыгнув в лодку графа, по счастью, привязанную у берега, доплыл до Клошгурда, где в последнем окошке со стороны Азе еще виднелся свет. Тут я погрузился в свои прежние мечты, но более спокойные, прерываемые трелями певца любовных ночей и звонкой однообразной мелодией «болотного соловья». Мысли проносились в моей голове, скользя, как привидения, и увлекая с собой траурный покров, который окутывал до сих пор мое будущее. И душа моя и чувства были равно очарованы. С каким пылом я всем существом устремлялся к ней! Сколько раз, как безумный, спрашивал себя: «Неужели она будет моей?» Если в предыдущие дни мир в моих глазах преобразился, то за одну ночь в нем появился центр. Все мои желания, все честолюбивые замыслы сосредоточились на ней, я хотел быть всем для этой женщины, чтобы возродить и заполнить ее истерзанное сердце. Как хороша была ночь, которую я провел под ее окнами, внемля журчанию воды у мельничной плотины и бою часов на колокольне Саше! В эту лучезарную ночь моя неземная лилия озарила всю мою жизнь; я отдал ей душу с беззаветной преданностью несчастного кастильского рыцаря, над которым мы смеемся, читая Сервантеса, но разве мы испытываем не то же самое, когда в нас пробуждается любовь? При первом проблеске зари, при первом крике птицы я укрылся в парке Фрапеля; ни один крестьянин не заметил меня, никто не заподозрил моего отсутствия, и, вернувшись домой, я спокойно проспал до той минуты, когда зазвонил колокол, призывая к завтраку обитателей замка. Выдав себя за страстного любителя природы, я, несмотря на жару, спустился после завтрака в долину, якобы для того, чтобы вновь обойти берега и острова Эндра, луга и холмы; на самом деле я с быстротой вырвавшегося на свободу оленя очутился в той же лодке и в один миг доплыл до Клошгурда и до милых моему сердцу ив. Кругом царила трепетная тишина, какая бывает в полдень в деревне. Неподвижная листва деревьев отчетливо выступала на фоне голубого неба; зеленые стрекозы и золотистые мухи вились вокруг деревьев и зарослей камыша; коровы мирно жевали жвачку в тени, красноватая земля виноградников пылала на припеке, и ужи бесшумно скользили по склону холма.
Как изменился пейзаж, который был так свеж, так ярок ранним утром! Вдруг мне показалось, что я увидел графа; я мигом выскочил из лодки и стал взбираться по тропинке, огибающей Клошгурд. И действительно, он шел вдоль живой изгороди, собираясь, по-видимому, выйти на дорогу, вьющуюся по берегу реки.
— Как вы себя чувствуете сегодня утром, граф? — спросил я.
Лицо г-на де Морсофа просияло: очевидно, его не часто величали графом.
— Благодарю вас, хорошо, — ответил он, — но вы, верно, очень любите деревню, если гуляете по такой жаре?
— Как же иначе, граф? Ведь ради деревенского воздуха меня сюда и послали!
— Хотите взглянуть, как жнут рожь?
— С большим удовольствием. Признаться, я круглый невежда во всех этих вопросах. Я не умею отличить рожь от пшеницы и тополь от осины. Я ровно ничего не понимаю в земледелии и способах ведения хозяйства.
— Ну так идемте со мной! — сказал он с явным удовольствием. — Там, немного выше, есть калитка, войдите в нее.
Он вернулся назад вдоль внутренней стороны изгороди, в то время как я шел с ее внешней стороны.
— Вы ничему не научитесь у господина де Шесселя, — продолжал граф, — он слишком большой барин, чтобы заниматься хозяйством, его дело лишь оплачивать счета управляющего.
Г-н де Морсоф показал мне свои дворы и постройки, свои сады и огороды. Наконец он привел меня в длинную аллею, обсаженную акациями и лаковыми деревьями, которая шла над рекой, и я увидел в дальнем ее конце г-жу де Морсоф; она сидела на скамье вместе с детьми. Как хороша бывает женщина под сенью мелкой, словно ажурной листвы! Быть может, графиня и была удивлена наивной поспешностью моего визита, но она не показала этого и спокойно ждала, пока мы подойдем к ней. Г-н де Морсоф обратил мое внимание на панораму долины, казавшейся совсем иной, чем та, которую мы видели по пути в Клошгурд. Отсюда она напоминала уголок Швейцарии. Прочерченная ручьями, впадающими в Эндр, долина сливалась с далеким горизонтом, теряясь в голубоватой дымке. По бокам ее тянулись скалистые холмы, покрытые рощами, а в стороне Монбазона глаз видел широкое зеленое поле. Мы ускорили шаг, подходя к г-же де Морсоф, но в эту минуту она выронила книгу, которую читала вместе с Мадленой, и подхватила на руки Жака, так как мальчик судорожно закашлялся.
— В чем дело? Что случилось? — вскричал граф, сильно побледнев.
— У него болит горло, — ответила мать, не обращая на меня никакого внимания. — Не тревожьтесь, это пройдет.
Обняв сына, она поддерживала ему голову, а глаза ее, казалось, вливали жизнь в это несчастное, слабое создание.
— Вы поступаете удивительно неосторожно, — заметил граф желчно. — Здесь сыро и холодно от реки, а вы к тому же посадили Жака на каменную скамью.
— Но ведь скамья накалилась на солнце, папенька! — воскликнула Мадлена.
— Им было душно в комнатах, — проговорила графиня.
— Женщины вечно хотят поставить на своем! — проворчал граф, обращаясь ко мне.
Не желая ни поддержать, ни осудить его взглядом, я перевел глаза на Жака, который жаловался на сильную боль в горле; матери пришлось унести его домой.
— Когда производят на свет таких слабых детей, надо хоть научиться ухаживать за ними! — крикнул он ей вслед.
Этот упрек был, конечно, глубоко несправедлив, но самолюбивому графу хотелось оправдать себя, во всем обвинив жену. Графиня быстро поднялась по откосу, затем она так же стремительно взошла на крыльцо и скрылась в доме. Г-н де Морсоф сел на скамью и в задумчивости поник головой; мое положение становилось невыносимым; он молчал и даже не смотрел на меня. Ну что ж, придется отказаться от прогулки, во время которой я рассчитывал завоевать его расположение! Не припомню, чтобы мне случалось проводить более тягостные минуты. Пот градом катился по моему лицу, и в нерешительности я спрашивал себя: «Что делать? Остаться? Уйти?» Как тяжело, по-видимому, было на душе у г-на де Морсофа, если он даже не пошел узнать, как чувствует себя Жак! Но вот он порывисто встал и подошел ко мне. Мы обернулись, чтобы еще раз взглянуть на живописную долину.
— Давайте отложим до другого раза нашу прогулку, граф, — мягко сказал я ему.
— Нет, идемте, — возразил он. — К сожалению, я привык видеть такие припадки, хотя, не задумываясь, отдал бы свою жизнь за жизнь несчастного ребенка.
— Жаку лучше, мой друг, он уснул, — послышался серебристый голос.
Г-жа де Морсоф неожиданно появилась в конце аллеи, и, когда она приблизилась к нам, я не заметил на ее лице ни обиды, ни досады.
— Я рада, что вам полюбился Клошгурд, — сказала она, любезно ответив на мой поклон.
— Не съездить ли мне верхом за доктором Деландом, дорогая? — предложил граф, желая загладить свою вину.
— Не мучайте себя понапрасну, — ответила она, — все дело в том, что Жак плохо спал ночью. Вы знаете, какой это нервный ребенок: он увидел дурной сон, и мне пришлось без конца рассказывать сказки, иначе он никак не мог заснуть. Припадок чисто нервный. Жак успокоился и задремал, как только я дала ему леденец от кашля.
— Бедная моя! — проговорил он, сжимая руку жены и смотря на нее полными слез глазами. — А я даже не знал этого.
— К чему было беспокоить вас из-за пустяков? А теперь ступайте в поле и присмотрите за уборкой хлеба. Иначе фермеры пустят сборщиков колосьев прежде, чем будут свезены все снопы.
— Я приступаю к изучению сельского хозяйства, — заметил я.
— Вы находитесь в прекрасных руках, — ответила она, указывая на графа, который самодовольно улыбнулся, или, как говорят в просторечии, «сложил губы сердечком».
Только два месяца спустя я узнал, какую ужасную ночь она провела, опасаясь, что у Жака круп. А я-то сидел в лодке, баюкая себя любовными мечтами, и воображал, будто она заметит из своего окна, с каким благоговением я созерцаю отблеск ее свечи, которая озаряла тогда лицо матери, снедаемой смертельной тревогой! Ведь в Туре свирепствовала эпидемия крупа.
Подойдя к калитке, граф сказал растроганно:
— Моя жена просто ангел!
Эти слова сразили меня. Я еще мало знал Морсофов, и раскаяние, столь естественное в юности, охватило мою душу. «По какому праву хочешь ты нарушить согласие этого семейства?» — думал я.
Граф, довольный тем, что нашел собеседника моложе себя, над которым нетрудно будет взять верх, заговорил со мной о возвращении Бурбонов и о будущем Франции. Во время нашей непринужденной беседы я услышал от него поистине ребяческие суждения, очень меня удивившие. Он не знал самых простых вещей, боялся образованных людей, отрицал авторитеты и смеялся над прогрессом, впрочем, быть может, не без основания; в конце концов я обнаружил у г-на де Морсофа столько слабостей, что всякий разговор с ним утомлял, как головоломка, ибо приходилось проявлять крайнюю осторожность, чтобы не обидеть собеседника. Прощупав, если так можно выразиться, его недостатки, я приложил не меньше усилий, чем графиня, чтобы примениться к ним. Будь я постарше, я, несомненно, раздражал бы его. Но я был робок, как дитя, не доверял себе, считая, что старшим известно все на свете, и был искренне поражен чудесами, которых добился в Клошгурде этот рачительный землевладелец. Я с восхищением выслушивал планы его преобразований. Наконец, и то была невольная лесть, снискавшая мне благосклонность пожилого дворянина, я от души расхваливал его красивое поместье, любовался местоположением Клошгурда и ставил этот земной рай несравненно выше Фрапеля.
— Фрапель, — сказал я графу, — похож на массивный памятник, а Клошгурд — на драгоценную безделушку.
Это изречение граф часто повторял впоследствии, ссылаясь на меня.
— А ведь знаете, до нашего переезда Клошгурд был в полном запустении! — заметил он.
Я весь превращался в слух, когда он говорил о своих посевах и питомниках. Как новичок во всем, что касалось деревенской жизни, я засыпал его вопросами о ценах на продукты, о способах ведения хозяйства, а он, по-видимому, был рад, что может сообщить мне эти подробности.
— Чему только вас учат в школе! — восклицал он иногда с удивлением.
В этот день, по возвращении домой, граф сказал жене:
— Господин Феликс превосходный молодой человек!
Вечером я написал матери, прося ее прислать мне белье и платье, ибо я намерен некоторое время погостить во Фрапеле. Ничего не зная о крупных переменах, происходивших тогда в политической жизни страны, и не предвидя их влияния на мою дальнейшую судьбу, я собирался вернуться осенью в Париж, чтобы окончить курс юридических наук, а так как занятия начинались в первых числах ноября, у меня еще было два с половиной месяца свободы.
В начале своего пребывания в деревне я постарался сблизиться с графом, и то была для меня пора тяжких испытаний. Я открыл в этом человеке беспричинную раздражительность и крайнюю взбалмошность — черты характера, испугавшие меня. Но иногда в нем неожиданно оживало мужество воина, отличившегося в рядах армии принца Конде, проявлялась воля, которая в критическую минуту может нарушить ход истории с внезапностью взорвавшейся бомбы и превратить дворянина, обреченного прозябать в своем поместье, в вождя восставших, вроде Эльбея, Боншана или Шаретта[25], если, конечно, он наделен при этом смелостью и энергией. Высказывая какую-нибудь мысль, граф становился вдруг неузнаваем: он сжимал губы, чело его прояснялось, взор метал молнии, но вскоре опять угасал. Порой я боялся, что, прочтя выражение моих глаз, г-н де Морсоф убьет меня на месте. Я был в ту пору на редкость уязвим. Воля, которая так удивительно преображает людей, еще только выковывалась во мне. Из-за чрезмерной силы желаний у меня бывали вспышки болезненной чувствительности, похожие на приступы страха. Борьба не страшила меня, но я не хотел умереть, не изведав счастья взаимной любви. И препятствия и моя любовь возрастали одновременно. Я был охвачен мучительной тревогой. Как признаться ей в своих чувствах? Я ждал случая, наблюдал, сближался с детьми, и они привязались ко мне, пытался стать своим человеком в доме. Мало-помалу граф перестал сдерживаться в моем присутствии. Я стал свидетелем беспрестанных перемен в его настроении, глубокого и беспричинного уныния, безрассудной вспыльчивости, горьких сетований, холодной злобы, резких выходок, детского лепета, старческого брюзжания и неожиданных порывов гнева. Нравственная природа человека отличается от его физической природы тем, что в ней нет ничего абсолютного: поступки находятся в прямой зависимости от характеров или от идей, возникающих при виде какого-нибудь явления. Мое пребывание в Клошгурде, все мое будущее зависело от взбалмошного характера г-на де Морсофа. Не умею вам описать, какое беспокойство томило мою душу, которая в ту пору столь же легко расцветала от радости, как и сжималась от горя, когда я переступал порог этого дома, говоря себе: «Как-то граф примет меня сегодня?» Какая тоска ложилась мне на сердце, когда я замечал на его бледном лице признаки приближающейся грозы! Мне вечно приходилось быть настороже. Итак, я подпал под деспотическую власть этого человека. Мои муки помогли мне понять терзания г-жи де Морсоф. Скоро мы стали обмениваться понимающими взглядами, и порой мои глаза увлажнялись, в то время как ей удавалось сдержать свои слезы. Таким образом, мы познали друг друга в несчастье. Сколько открытий я сделал за первые сорок дней знакомства, исполненных подлинной горечи, тайных радостей и то возрождающейся, то гибнущей надежды! Однажды я застал г-жу де Морсоф в глубокой задумчивости, она смотрела на солнечный закат, под лучами которого сладострастно пламенели вершины холмов и широкие тени ложились на мягкую, как ложе, равнину; вечер был так прекрасен, что нельзя было не внимать извечной Песне Песней, которой природа склоняет людские сердца к любви. Возрождались ли в душе графини былые девичьи грезы? Или же она по-женски страдала, сравнивая их с действительностью? Мне показалось, что ее поза говорит об истоме, благоприятствующей признанию, и я заметил:
— В жизни бывают тяжелые минуты.
— Вы прочли мои сокровенные мысли. Как вам это удалось?
— Ведь у нас с вами так много общего! — ответил я. — Разве мы не принадлежим к тем избранным натурам, которые умеют страдать и радоваться сильнее других? Все сердечные струны звучат у нас в унисон, вызывая могучий внутренний отклик, а наша духовная природа находится в неизменной гармонии с первоисточником всего сущего. Поместите таких людей, как мы, в среду, где все противоречиво, нестройно, и они будут тяжко страдать, но зато испытают восторженную радость, встретив родственные мысли и чувства или близкого по духу человека. Однако нам знакомо и другое несчастье, свойственное лишь болезненно чутким людям, которые при встрече невольно узнают друг друга. Случается, что нас не затрагивает ни хорошее, ни плохое. Наш внутренний мир бывает похож тогда на чудесный орган, но он играет сам по себе, без органиста; мы пылаем беспредметной страстью, вместо мелодии издаем нестройные звуки и стонем, хоть наши стоны и не находят отклика: страшное противоречие души, восстающей против пустоты небытия, изнурительная внутренняя борьба, во время которой бесцельно уходят наши силы, словно кровь, вытекающая капля за каплей из неведомой раны. Чувства расходуются впустую, вызывая гнетущую слабость, неизъяснимую тоску, которая не находит утешения даже в исповеди. Разве я неправильно описал наши общие страдания?
Она вздрогнула и, не отрывая глаз от заката, спросила:
— Вы так молоды, откуда вы знаете все это? Разве вам приходилось заглядывать в женскую душу?
— Мое детство прошло в непрерывных страданиях, — ответил я взволнованно.
— Кажется, Мадлена кашляет, — проговорила она, поспешно удаляясь.
Графиня не порицала меня за частые посещения. Во-первых, она была чиста, как дитя, и все дурное было ей чуждо. Во-вторых, я развлекал графа, служа забавой для этого льва без когтей и гривы. В-третьих, я нашел правдоподобный предлог для своих посещений. Я не умел играть в триктрак, и г-н де Морсоф взялся меня обучать. Когда я принял его предложение, графиня посмотрела на меня с состраданием, словно говоря: «Несчастный, вы сами кладете голову в волчью пасть». Сначала я не понял этого немого предостережения, но уже на третий день мне стало ясно, за какое трудное дело я взялся. Неизменное терпение, которым я обязан своему тяжелому детству, закалилось во время этих новых испытаний. Графу доставляло удовольствие жестоко высмеивать меня всякий раз, как я забывал правила игры, которые он успел мне объяснить; если я размышлял, он жаловался, что скучает из-за моей медлительности; если спешил, он сердился, говоря, будто я тороплю его; если проявлял себя как способный ученик, он сетовал, что я обгоняю его, а сам перенимал у меня некоторые приемы игры. Я стал жертвой мелочной тирании, жестокого деспотизма, о котором могут дать представление несчастья Эпиктета[26], оказавшегося во власти злого ребенка. Когда мы стали играть на деньги, граф постоянно был в выигрыше, что доставляло ему мелочную, недостойную радость. Но достаточно было одного слова г-жи де Морсоф, чтобы принести мне утешение, а ему напомнить об учтивости и приличиях. Вскоре на меня свалилась новая беда. Игра унесла мои последние деньги. Хотя граф неизменно находился между женой и мной (как бы поздно я у них ни засиживался), я не терял надежды завоевать сердце г-жи де Морсоф; но чтобы приблизить эту минуту, ожидаемую с мучительным терпением охотника, следовало продолжать несносные партии в триктрак, которые больно ранили мое самолюбие и опустошали кошелек. Сколько раз мы сидели с ней рядом, молча любуясь пятнами солнечного света на лугу, плывущими по небу облаками, холмами, одетыми туманом, или игрой лунного света на сверкающей поверхности реки, и лишь изредка обменивались восклицаниями:
— Как хороша ночь!
— Она прекрасна, как женщина, сударыня.
— Какой покой вокруг!
— Да, здесь нельзя быть по-настоящему несчастным.
Услышав эти слова, она возвращалась к своему рукоделию. В конце концов я научился отгадывать, как волнуется кровь графини, властно требуя, чтобы она дала волю чувству. Без денег прощай мои вечера! Я написал матери, она выбранила меня в ответ, а денег прислала меньше, чем на неделю. У кого попросить взаймы? Ведь дело шло о моей жизни! Итак, в упоении своего первого большого счастья я вновь испытал те же невзгоды, что в Париже, в коллеже и пансионе; прежде я старался избежать их с помощью труда и воздержания, мое страдание было пассивным; во Фрапеле оно стало активным; я готов был совершить воровство, пуститься на преступление, и меня обуревали порывы ярости, которые я подавлял усилием воли, чтобы не потерять уважения к себе. Воспоминания об этих тягостных минутах и отчаяние, в которое повергла меня скупость матери, внушили мне милосердную снисходительность к проступкам молодых людей; это чувство будет понятно тем, кто не пал окончательно, хоть и дошел до края бездны, словно для того, чтобы измерить ее глубину. Правда, моя честность, вскормленная упорным трудом, укрепилась в эти минуты, которые открыли мне каменистую стезю жизни, но отныне я уже не мог спокойно смотреть, как грозное людское правосудие заносит меч над головой человека, и всякий раз говорил себе: «Уголовные законы созданы людьми, не ведавшими, что такое несчастье». Доведенный до крайности, я разыскал в библиотеке г-на де Шесселя руководство по игре в триктрак и принялся изучать его; мой любезный хозяин дал мне к тому же несколько уроков; так как он не придирался ко мне вроде г-на де Морсофа, я сделал быстрые успехи и стал применять выученные наизусть правила и расчеты. Через несколько дней я уже мог победить своего первого учителя; но едва я обыграл его, настроение графа резко изменилось: глаза засверкали, точно у тигра, лицо исказилось от злобы, а брови запрыгали так, как мне никогда не случалось видеть. Он стал жаловаться, словно избалованный ребенок. Порой он приходил в ярость, швырял кости, топал ногами, кусал рожок для триктрака и говорил мне грубости. Но я положил конец этому неистовству. Изучив все тонкости триктрака, я повел борьбу так, как мне того хотелось: я предоставлял графу выигрывать в начале партии, а под конец уравнивал наше положение и восстанавливал равновесие. Светопреставление меньше удивило бы г-на де Морсофа, чем явное превосходство доселе неспособного ученика; однако он ни разу не признал себя побежденным. Неизменная развязка игры лишь давала пищу его дурному настроению.
— Право же, — сетовал он, — моя бедная голова слишком устала. Вы вечно выигрываете в конце партии, когда я уже перестаю соображать.
Графиня, знавшая правила игры, с первого же раза поняла мою хитрость и увидела в ней бесспорное доказательство любви. Впрочем, эти подробности могут оценить лишь те, кому известны огромные трудности триктрака. Но как много сказал ее сердцу такой, казалось бы, пустяк! Ведь любовь, подобно богу в проповедях Боссюэ[27], ставит выше самых блестящих побед стакан воды, предложенный бедняком, или подвиг безвестного солдата, погибшего на поле брани. Графиня отблагодарила меня взглядом, способным растопить юное сердце; она посмотрела на меня так, как смотрела до сих пор только на своих детей! Отныне она уже всегда дарила меня этим взглядом, разговаривая со мной. Не умею объяснить, что я чувствовал, уходя в этот счастливый вечер из Клошгурда. Мое тело словно растворилось, стало невесомым, я не шел, а летел. Я ощущал в себе этот взгляд, озаривший мою душу, а два коротких слова: «До завтра», звучали в моих ушах как пасхальный гимн «O filii, o filiae!»[28]. Я возрождался к новой жизни. Итак, я что-то значил для г-жи де Морсоф! Я задремал, овеваемый горячим дыханием страсти. Языки пламени мелькали перед моими закрытыми глазами, как те красивые огненные змейки, что преследуют друг друга в камине, где догорают обуглившиеся листы бумаги. Во сне ее голос стал как бы осязаемым, окутал меня светозарной атмосферой, опьянил благоуханием, превратился в мелодию, ласкавшую мой слух. На следующий день при встрече она подтвердила полноту дарованных чувств, и я был посвящен отныне во все оттенки ее голоса. Этому дню суждено было стать одним из самых значительных в моей жизни. После обеда мы пошли гулять и спустились с вершины холма в ланды, где почва была камениста и бесплодна; лишь кое-где стояли одинокие дубы да рос кустарник, покрытый красными ягодами, а вместо травы расстилался ковер сухого красновато-рыжего мха, рдевшего под лучами заходящего солнца. Так как идти было трудно, я вел Мадлену за руку, а г-жа де Морсоф поддерживала Жака. Граф, шедший впереди, вдруг ударил тростью о бесплодную землю и, обернувшись ко мне, сказал с озлоблением:
— Вот какова моя жизнь! — Затем, обратившись к жене, добавил в виде извинения: — Конечно, так было до знакомства с вами.
Оговорка была сделана слишком поздно, графиня побледнела. Всякая женщина содрогнулась бы, получив такой удар!
— Какой ароматный здесь воздух! — воскликнул я. — Какое великолепное освещение! Я желал бы, чтобы эти ланды принадлежали мне, быть может, я нашел бы несметные сокровища в их недрах; но ценнейшим подарком было бы соседство с вами. Чего бы я не дал за этот вид, ведь он так и ласкает взор, и за эту живописную речку, затененную зеленью ольхи и ясеня, здесь просто отдыхаешь душой! Как различны наши вкусы! Для вас этот уголок всего лишь пустошь, а для меня рай земной.
Она поблагодарила меня взглядом.
— Идиллия! — заметил он с горечью. — Здесь не место для человека с вашим именем.
Затем добавил, помолчав:
— Что это, набат? Я явственно слышу, как звонят колокола в Азе.
Г-жа де Морсоф испуганно взглянула на меня, Мадлена сжала мою руку.
— Не хотите ли вернуться домой и сыграть партию в триктрак? — предложил я графу. — Стук игральных костей заглушит звон колоколов.
Мы отправились в обратный путь, ведя многословный, но пустой разговор. Граф жаловался на недомогание, хоть и не говорил, в чем оно состоит. Когда мы очутились в гостиной, наступили особенно тягостные минуты. Г-н де Морсоф сидел в глубоком кресле, чуждый всему окружающему, и жена не решалась вывести его из задумчивости: она знала симптомы болезни и умела предотвращать ее приступы. Я молчал, как и она. Если г-жа де Морсоф не попросила меня уйти, то, очевидно, считала, что партия в триктрак может развлечь мужа и умерить раздражительность больного, взрывы которой убивали ее. Но не так-то легко было склонить г-на де Морсофа на партию в триктрак, сыграть которую ему всегда очень хотелось. Подобно светской жеманнице, он желал, чтобы его упрашивали, уговаривали, боясь почувствовать себя обязанным партнеру, очевидно, потому, что действительно был ему обязан. Если, увлеченный интересным разговором, я забывал об этих уловках, он становился угрюм, желчен, резок, раздражался по всякому поводу и всем противоречил. Видя его дурное настроение, я предлагал ему сразиться в триктрак; тогда он начинал ломаться:
— Сейчас уже поздно, да и вообще мне что-то не хочется.
Словом, его фокусам не было конца, как у женщин, которые порой настолько сбивают нас с толку, что мы перестаем понимать, каковы же их истинные желания. Я унижался, прося дать мне возможность поупражняться в этой игре, чтобы не забыть ее правил. На этот раз мне пришлось притворяться беспечно-веселым, чтобы он согласился сыграть со мной хотя бы одну партию. Он жаловался на головокружение, которое мешает ему соображать, говорил, что голова у него словно в тисках, в ушах звенит, что он задыхается, и действительно дышал с трудом. Наконец, он согласился сесть за игорный стол. Г-жа де Морсоф ушла, чтобы уложить детей и прочесть вместе со слугами вечерние молитвы. В ее отсутствие все шло хорошо; я повел дело так, что г-н де Морсоф оказался в выигрыше, и это сразу развеселило его. Внезапный переход от уныния и мрачных мыслей о своей судьбе к безудержной веселости и беспричинному смеху, похожему на смех пьяного человека, встревожил и испугал меня. Я никогда еще не видел у него такого явного припадка безумия. Наше близкое знакомство принесло свои плоды: он перестал стесняться в моем присутствии. Более того, он с каждым днем пытался укрепить свою тираническую власть надо мной, превратить меня в козла отпущения; поистине душевные болезни подобны живым существам: они обладают особыми запросами, особыми инстинктами и желают расширить свое владычество, как помещик желает расширить свои владения. Графиня вернулась в гостиную и села вышивать у игорного стола якобы потому, что там было светлее, но этот предлог плохо скрывал ее опасения. Неверный ход, которому я не в состоянии был помешать, дурно повлиял на графа, он изменился в лице: из веселого оно стало мрачным, из ярко-красного — желтым, глаза его дико забегали. Затем случилось несчастье, которого я не мог ни предвидеть, ни предупредить: г-н де Морсоф сделал еще одну ошибку, принесшую ему поражение. Он мигом вскочил на ноги, опрокинул на меня стол, швырнул лампу на пол, ударил кулаком по камину и стал метаться, именно метаться, по гостиной. Потоки брани, проклятий, воплей, бессвязных слов вырывались из его уст, словно передо мной был средневековый бесноватый. Судите сами о моем положении!
— Ступайте в сад, — сказала графиня, сжав мою руку.
Я вышел, причем граф даже не заметил моего исчезновения. Медленным шагом я отправился на террасу, где до меня доносились из спальни, смежной со столовой, громкие крики и стоны. А временами сквозь эту бурю я слышал ангельский голос, звучавший, как пение соловья во время затихающей грозы. Я прогуливался под акациями в прекраснейшую из ночей, какие бывают в конце августа, и ждал. Графиня должна была прийти, она как бы обещала это, пожав мне руку.
Уже несколько дней чувствовалось, что между нами назрело объяснение и что при первом же произнесенном слове в наших душах ключом забьют переполнявшие их чувства. Что за странная стыдливость заставляла нас откладывать минуту полного сердечного согласия! Быть может, графине нравился, как и мне, этот трепет, похожий на страх, от которого все замирает внутри; нравились эти мгновения, когда сама жизнь, кажется, готова выйти из берегов, когда хочешь и не решаешься открыть свое самое заветное, повинуясь целомудренной гордости, мешающей юной девушке показать себя взору любимого супруга. Мы сами своими бесконечными размышлениями воздвигли преграду перед этим первым признанием, но теперь оно стало необходимым. Прошел час. Я сидел на каменной балюстраде террасы; вдруг среди вечерней тишины раздался звук ее шагов и шелест развевающегося платья. Да, человеческое сердце не может вместить порой обуревающих его чувств!
— Господин де Морсоф заснул, — сказала она. — В таких случаях я даю ему выпить настой маковых головок; припадки случаются довольно редко, и это простое средство всегда хорошо действует на него. Сударь, — продолжала она, меняя тон, причем голос ее зазвучал особенно убедительно, — несчастная случайность открыла вам тайну, которую я до сих пор тщательно скрывала, обещайте же мне сохранить в глубине сердца воспоминание об этой прискорбной сцене. Сделайте это для меня, прошу вас, Я не требую от вас клятвы, ведь вы честный человек, скажите только «да», и я буду спокойна.
— Неужели мне нужно произнести это «да»? — спросил я. — Разве мы не научились понимать друг друга?
— Не судите дурно о господине де Морсофе: все это — следствие долгих страданий на чужбине, — продолжала она. — Завтра он не вспомнит ни одного из сказанных слов и снова будет с вами мил и приветлив.
— Не старайтесь оправдать графа, сударыня, я сделаю все, что вы пожелаете. Я, не задумываясь, бросился бы в Эндр, если бы это могло вернуть здоровье господину де Морсофу и внести счастливую перемену в вашу жизнь. Но одного я не в силах сделать — это изменить свое мнение: оно слишком укоренилось во мне. Я готов пожертвовать ради вас жизнью, но совестью пожертвовать не могу; голоса совести можно не слушать, но как помешать ей говорить? Мое же мнение о господине де Морсофе...
— Понимаю, — сказала она, прерывая меня с несвойственной ей резкостью. — Вы, конечно, правы. Граф нервен, как избалованная женщина, — продолжала она, пытаясь избежать слова «безумие», готового сорваться у нее с языка, — но такие припадки случаются с ним не чаще раза в год, во время сильной жары. Сколько зла принесла эмиграция! Сколько загублено жизней, прекрасных надежд! Сложись все иначе, граф был бы, я убеждена в этом, крупным полководцем, гордостью своей страны.
— Согласен с вами, — в свою очередь, прервал я ее, давая понять, что обманывать меня бесполезно.
Она приложила руку ко лбу и умолкла.
— Кто ввел вас в нашу жизнь? Уж не хочет ли бог поддержать меня, посылая мне помощь, живое, дружеское участие? — вновь заговорила она, с силой сжимая мою руку. — Как вы добры, великодушны!..
Она подняла глаза к небу, словно ища там подтверждения своих тайных надежд, и перевела их затем на меня. Завороженный этим взглядом, чувствуя, что наши души сливаются воедино, я совершил неловкость с точки зрения светских приличий. Но ведь такие поступки бывают вызваны порой великодушным стремлением побороть опасность или предотвратить удар, боязнью грозящего несчастья, а чаще всего желанием найти немедленный отклик в другом сердце, узнать, звучит ли оно в унисон с вашим. На меня как бы нашло озарение, и я понял, что необходимо смыть пятно, порочащее мою чистоту в ту минуту, когда я должен был приобщиться к таинству любви.
— Прежде чем продолжать разговор, — сказал я изменившимся голосом, ибо сердце мое так стучало в груди, что его удары были слышны в окружавшей нас глубокой тишине, — позвольте мне оправдаться перед вами за прошлое.
— Молчите! — с живостью проговорила она, прижимая пальчик к моим губам, но тотчас же отдернула руку.
Она гордо взглянула на меня, как женщина, которая стоит слишком высоко, чтобы ее могло коснуться оскорбление, и сказала взволнованно:
— Я знаю, что вы имеете в виду. Речь идет о первом, о последнем и единственном оскорблении, нанесенном мне. Никогда не вспоминайте об этом бале. Если христианка и простила вас, то женщина во мне еще страдает.
— Не будьте же более безжалостны, чем господь бог! — прошептал я, с трудом удерживая подступившие к горлу слезы.
— Я должна быть строже, ибо я слабее, — возразила она.
— Нет, выслушайте меня, — продолжал я с детской запальчивостью, — выслушайте, даже если это будет в первый, в последний и единственный раз в вашей жизни!
— Хорошо, говорите! Иначе вы можете подумать, что я боюсь ваших слов.
Чувствуя, что наступила неповторимая минута в нашей жизни, я сказал ей с юношеским пылом, невольно приковав ее внимание, что до сих пор все женщины были мне безразличны. Но увидев ее, я был охвачен, несмотря на мою робость и отшельническую жизнь, как бы приступом безумия — пусть судят меня те, кто не испытал подобного пожара, — и мое сердце заполнило чувство, побороть которое никому не дано, ибо оно может все превозмочь, даже смерть.
— А презрение? — спросила она, прерывая меня.
— Неужели вы презирали меня?
— Не будем говорить об этом.
— Нет, будем говорить об этом! — возразил я с горячностью, вызванной невыносимыми страданиями. — Дело идет о моем святая святых, о сокровенной стороне моей жизни, о тайне, которую вы должны узнать, иначе я умру от отчаяния! Дело идет также и о вас, разве вы не были, сами того не зная, прекрасной дамой, в чьих руках сверкает венок, обещанный победителю на турнире?
Я поведал ей о своих детских и отроческих годах, но иначе, чем вам, ибо теперь сужу о них на расстоянии, тогда же говорил о своих горестях жгучими словами юноши, чьи раны еще не перестали кровоточить. Мой голос раздавался, словно стук секиры в лесу, и от его звука, казалось, с грохотом падали пережитые годы, как голые деревья, листья которых так и не раскрылись, загубленные длительными морозами. Я лихорадочно припоминал множество страшных подробностей, от которых избавил вас. Я раскрыл перед ней сокровища своих блестящих надежд, чистое золото своих желаний, все свое сердце, ярко горевшее под ледяным покровом нескончаемой зимы. Когда, согбенный тяжестью воспоминаний, описанных с пламенным красноречием Исайи, я умолк, ожидая, что скажет эта женщина, которая слушала меня, поникнув головой, она одним взглядом озарила мрак моей души, одним словом возродила мои земные и небесные мечты.
— У нас с вами было одинаково печальное детство! — промолвила она, подняв чело, и я узрел вокруг него ореол мученичества.
После минутного молчания, во время которого мысль: «Мы испытали одни и те же страдания» — соединила наши души, графиня рассказала мне нежным голосом, каким обращалась только к своим дорогим малюткам, о несчастьях своего детства: ее вина в глазах близких заключалась в том, что она родилась девочкой в ту пору, когда все сыновья в семье умерли. Она объяснила мне, что положение дочери, неотлучно живущей при матери, гораздо тяжелее положения мальчика, предоставленного самому себе в шумном мирке школьных товарищей. Мое одиночество было раем по сравнению с гнетом, тяготевшим над нею до тех пор, пока ее приемная мать, ее добрая тетушка, не вырвала племянницу из этого ада с его постоянной мукой. Она терпела нескончаемые булавочные уколы, столь тягостные для чутких натур, которые предпочитают им удар кинжала или смерть от дамоклова меча: то строгий выговор, пресекавший великодушный порыв ребенка, то холодный взгляд в ответ на поцелуй, то приказ молчать, то упрек за вынужденное молчание, то обидные слова, камнем ложившиеся на сердце, ибо выплакать горе нельзя, и, наконец, когда мать посещала ее в монастырской школе, бесчисленные придирки под видом возвышенной родительской любви. Дочь льстила тщеславию матери, и она расхваливала ее при чужих, но на следующий день та дорого расплачивалась за эти похвалы, необходимые для торжества безжалостной воспитательницы. Когда же девочка полагала, что послушанием, кротостью тронула мать, и изливала ей свою душу, домашний тиран становился еще беспощаднее, вооружившись ее наивными признаниями. Шпион, и тот был бы менее подлым и вероломным. Редкие девичьи радости и развлечения дорого ей доставались; ведь ее бранили за минуту счастья, как за преступление! Уроки благовоспитанности, которые она получила, никогда не были ей преподаны с любовью, а лишь с оскорбительной иронией. Она не питала неприязни к матери и корила себя за то, что чувствует к ней не любовь, а страх. Быть может, эта строгость и была необходима, думала она со свойственной ей ангельской добротой, ибо суровое воспитание подготовило ее к тяготам жизни. Когда я слушал ее, мне казалось, что арфе Иова[29], из которой я исторгал такие резкие звуки, вторит другая арфа, вознося к небу нежные литании[30], подобные мольбам богоматери у подножия креста.
— Мы жили в одной и той же сфере до того, как встретились здесь, — вы пришли с востока, я — с запада, — сказал я.
Она горестно покачала головой.
— Нет, восток не для меня, а для вас, — проговорила она. — Вы будете счастливы, я умру от горя! Мужчины сами распоряжаются своей жизнью, моя же судьба определена навек. Никакой силе не разорвать тяжелых цепей, к которым женщина прикована золотым кольцом — символом чистоты супруги.
Чувствуя себя моей сестрой по глубине страданий, она решила, что между близнецами, пившими воду из одного и того же источника, не должно быть недомолвок. С глубоким вздохом, идущим от чистого сердца, она открыла мне свои заветные мысли, рассказала о первых днях замужества, о первых разочарованиях, о «возрождении» своего злосчастья. Ей было ведомо, как и мне, что любая мелочь становится важной для избранных душ, ибо все содрогается в них от боли при малейшем ударе; так камень, брошенный в озеро, рождает волны и в глубине его и на поверхности. Еще девушкой у нее были сбережения — немного золота, воплощавшего радостные надежды, тысячи удовольствий молодости; выйдя замуж, она при первой же беде великодушно отдала супругу свое маленькое состояние, ни слова не говоря о том, что для нее это память, а не только золотые монеты; муж ни разу не вспомнил об этом даре с благодарностью: он не считал себя ее должником! В обмен на свои сокровища, погребенные в стоячих водах забвения, она не встретила того увлажненного слезою взгляда, который вознаграждает великодушных людей за все перенесенные муки и озаряет мрак отчаяния, подобно ярко сверкающему алмазу. Какой крестный путь она прошла! Г-н де Морсоф постоянно забывал давать деньги на хозяйство; когда же, победив свою женскую робость, она обращалась к нему за деньгами, он смотрел на нее недоуменным взглядом и ни разу не избавил жену от этого унижения! Какой ужас охватил ее в тот день, когда она постигла тяжелый недуг этого конченого человека! Она почувствовала себя сломленной после первого же приступа его дикого гнева. Сколько тяжких дум пришлось ей передумать, прежде чем она призналась самой себе в ничтожестве супруга, призванного быть властелином и руководителем жены! Какое горе принесли ей двукратные роды! Какой ужас обуял несчастную мать при виде обоих младенцев, родившихся почти мертвыми! Сколько мужества потребовалось, чтобы сказать себе: «Я вдохну в них новую жизнь! Я каждый день буду рожать их заново!» И какое горе охватило ее, когда она встретила лишь помеху в лице мужа, сердце и рука которого должны служить женщине поддержкой. При каждой преодоленной трудности перед ней вновь расстилалась пустыня страдания, ей вновь приходилось идти по каменистым тропам. С вершины каждой скалы ее взору открывались далекие и безрадостные горизонты, пока она не поняла характера мужа, болезни детей и всей глубины своего несчастья; пока, по примеру новобранца, вырванного Наполеоном из лона семьи, она не приучила свои ноги ступать по грязи и снегу, не освоилась со свистящими над головой ядрами и не научилась безропотному повиновению солдата. Я передал вам в нескольких словах то, что она поведала мне сбивчиво и пространно, сопровождая свой рассказ описанием прискорбных случайностей, проигранных битв, бесплодных усилий.
— Словом, вам надо было бы провести здесь несколько месяцев, чтобы понять, сколько труда стоят мне преобразования Клошгурда, — сказала она в заключение, — сколько приходится уговаривать господина де Морсофа, чтобы он согласился действовать в своих же интересах! Как он по-детски злорадствует, когда подсказанные мною новшества не приносят сразу желаемых плодов! С каким восторгом приписывает себе малейшую удачу! Сколько мне нужно терпения, чтобы выслушивать его вечные упреки, тогда как я изо всех сил стараюсь употребить во благо его время, согреть воздух, которым он дышит, усыпать цветами жизненный путь, который он забросал камнями! А в награду я слышу лишь эту ужасную жалобу: «Жизнь мне в тягость, я хочу умереть!» Если, по счастью, у него бывают гости, все меняется: он становится приветлив, любезен. Почему он не таков в кругу своей семьи? Не могу объяснить этот недостаток благородства у человека, который порой ведет себя по-рыцарски. Он может, например, тайно от меня помчаться в Париж, чтобы купить какой-нибудь драгоценный убор, как он это сделал недавно накануне городского бала. Скупой на домашние расходы, он, не считая, тратит деньги на меня, стоит мне этого пожелать. Поступать же следовало бы наоборот: мне ничего не нужно, а его дом так трудно вести! Желая сделать его счастливым и не помышляя о том, что я буду матерью, я, быть может, приучила его видеть во мне свою жертву; а между тем с помощью хитрости и ласки я могла бы управлять им, как ребенком, но я не хочу унижаться, играя столь недостойную роль! Интересы семьи требуют, чтобы я была спокойна и строга, как статуя Справедливости, но ведь у меня тоже отзывчивая и нежная душа!
— Но почему вы не употребите свое влияние, чтобы взять мужа в руки и управлять им? — спросил я.
— Если бы дело касалось меня одной, я не могла бы ни победить его упорное молчание — ведь порой он часами ничего не отвечает на самые разумные доводы, — ни возразить на замечания, в которых нет ни капли логики, словно в рассуждениях ребенка. Мне недостает мужества, чтобы бороться против слабости взрослых и беспомощности детей; и в том и в другом случае мне наносят удары, и я безропотно принимаю их; вероятно, я употребила бы силу против силы, но бываю безоружна против тех, кого жалею. Если бы ради спасения Мадлены мне пришлось прибегнуть к насилию, я, кажется, умерла бы вместе с ней. Жалость поражает все фибры моей души и ослабляет нервы. Вот почему потрясения последних десяти лет сломили меня: я так часто подвергалась испытаниям, что пала духом, и уж ничто не возродит меня. Порой мне не хватает энергии, с которой я некогда переносила бури. Да, иногда я чувствую себя побежденной. Без отдыха и морских купаний, которые обновили бы меня, я умру. Господин де Морсоф погубит меня и сам умрет от отчаяния, вызванного моей смертью.
— Почему бы вам не уехать на несколько месяцев из Клошгурда? Вы могли бы отправиться на берег моря, взяв с собой детей.
— Во-первых, если меня не будет с ним, господин де Морсоф решит, что он пропал. Он прекрасно понимает свое положение, хотя и не хочет признаться в этом. В нем живут два человека: здоровый и больной — два различных характера, противоречия которых объясняют очень многие странности. Во-вторых, он имеет все основания беспокоиться. Все пошло бы здесь вверх дном. Вы видели во мне до сих пор лишь мать семейства, которая защищает своих детей от кружащего над ними коршуна. Это — тяжкое бремя, но господин де Морсоф еще увеличивает его, требуя беспрестанного к себе внимания; ведь когда меня нет дома, он то и дело спрашивает у прислуги: «Где же графиня?» Но это не все. Вы видите также перед собой репетитора Жака и гувернантку Мадлены. Более того, я здесь и приказчик и управляющий. Вы поймете значение моих слов, если ближе познакомитесь с сельским хозяйством. Это — крайне утомительное занятие в Турени. Мы мало получаем денег с наших земель, так как фермеры арендуют их за половину урожая; при такой системе не бывает ни минуты покоя. Приходится самим продавать зерно, овощи, фрукты, скот. Наши собственные фермеры конкурируют с нами: они договариваются с покупателями в кабачке и устанавливают цены, так как первые сбывают свой урожай. Вам будет скучно, если я стану перечислять все затруднения, с которыми сталкиваешься при ведении хозяйства. Несмотря на свои старания, я не могу следить, не воруют ли арендаторы навоз на полях Клошгурда и не договариваются ли с ними наши посредники при разделе урожая; я не умею также выбрать день, наиболее подходящий для продажи. Вспомните, как забывчив господин де Морсоф, как неохотно он занимается делами, и вы поймете всю тяжесть моего бремени, которое я ни на минуту не могу с себя сложить. Стоит мне уехать, и мы разоримся. Никто не станет повиноваться графу, приказания которого по большей части противоречат друг другу, да его и не любят здесь: он слишком ворчлив, слишком нетерпим и, как все слабые люди, слишком прислушивается к словам подчиненных, а потому не может внушить ту почтительную любовь, которая объединяет людей. Если я отлучусь, ни один слуга не останется у нас более недели. Вот видите, я так же крепко привязана к Клошгурду, как эти свинцовые букеты — к нашим крышам. Я ничего не скрыла от вас, сударь. Никто в нашем краю не знает тайн Клошгурда, вы один теперь посвящены в них. Отзывайтесь как можно лучше, дружелюбнее о господине де Морсофе, и вы заслужите мое уважение, мою признательность, — прибавила она еще ласковее. — При этом условии вы всегда будете желанным гостем в Клошгурде и найдете здесь верных друзей.
— Мои страдания ничто по сравнению с вашими! — воскликнул я. — Вы, вы одна...
— Нет, вы неправы, — возразила она, и на губах ее промелькнула покорная улыбка, которая тронула бы даже каменное сердце. — Не удивляйтесь тому, что я скажу, мои слова покажут вам жизнь в истинном свете, а не такой, какой вам хочется ее видеть. У всех нас есть свои недостатки и достоинства. Если бы я вышла замуж за расточителя, он разорил бы меня. Если бы отдала свою руку любящему и пылкому юноше, он стал бы искать успехов в свете и, быть может, я не сохранила бы его сердца; он бросил бы меня, и я умерла бы от ревности. О, я ревнива! — воскликнула она страстно, и звук ее голоса походил на рокот отдаленной грозы. — А господин де Морсоф любит меня так, как только может любить. Он сложил к моим ногам все, что есть лучшего в его сердце, словно Мария-Магдалина, умастившая благовониями ноги Иисуса Христа. Верьте мне: жизнь, исполненная любви, — пагубное исключение, не предусмотренное земными законами; все цветы увянут, от больших радостей останется завтра лишь горький осадок, если только у них будет завтрашний день. Настоящая жизнь полна страданий; взгляните на эту крапиву внизу, у террасы, — вот олицетворение жизни: крапива осталась зеленой только потому, что выросла в тени, без солнца. В земной юдоли, как и в северных странах, небо редко улыбается, но зато, разъяснившись, оно вознаграждает нас за многие горести. И, наконец, каждая женщина прежде всего мать, и приносимые жертвы привязывают ее больше, нежели наслаждения. В семье я навлекаю на себя одну бурю, готовую разразиться над детьми или слугами, и испытываю от этого неизъяснимое удовлетворение, дающее мне тайные силы. Стоит один раз проявить смирение — и потом уже легче будет покоряться судьбе. К тому же бог не оставляет меня. Если сначала здоровье детей не внушало мне никакой надежды, то с годами они чувствуют себя все лучше и лучше. Наше поместье становится краше, состояние растет. Кто знает, не будет ли господин де Морсоф счастлив на старости лет благодаря моим стараниям! Верьте мне, женщина, которая предстанет перед всевышним судьей с зеленой пальмовой ветвью в руке, даровав утешение тем, кто проклинал жизнь, — такая женщина сумела претворить свою боль в блаженство. Если мои страдания служат на благо семье, разве их можно назвать страданиями?
— Да, — сказал я, — и ваши и мои страдания были необходимы, чтобы мы могли оценить красоту цветка, выросшего на каменистой почве нашей жизни; теперь же, быть может, мы насладимся вместе его ароматом, быть может, испытаем его волшебную силу, ведь это она преисполняет души нежностью, это она возрождает побеги, пожелтевшие от холода. Жизнь тогда уже не будет бременем, ибо она перестанет принадлежать нам. Боже мой, услышь меня! — воскликнул я, прибегая к тому мистическому языку, к которому приучило нас духовное воспитание. — Ты видишь, какими путями мы шли, чтобы найти друг друга; какой компас указывал нам дорогу средь бурного океана к тому светлому источнику, что бежит, журча, по золотистому песку меж зеленых цветущих холмов. Разве мы не следовали, подобно волхвам, за одной и той же звездой? И вот мы стоим перед яслями, где пробуждается божественный младенец, которому суждено совершить чудо: голые деревья зазеленеют, мир возродится от его радостных криков, жизнь приобретет сладость, ночи — покой, а дни — веселье. Чья рука год от году протягивала меж нами новые нити? Разве мы не связаны теснее, чем брат и сестра? Что бог сочетал, того человек да не разлучает! Страдания, упомянутые вами, были семенами, которые полными пригоршнями разбрасывал сеятель, дабы зазолотилась нива под лучами прекраснейшего солнца. Смотрите, смотрите на нее! Разве не пробил для нас час срывать один за другим эти спелые колосья? Какую силу вы вдохнули в меня, если я осмелился так говорить с вами! Ответьте же мне или я никогда больше не перейду на тот берег Эндра!
— Вы пощадили меня и не произнесли слова «любовь», — строго прервала она меня, — но вы говорили со мной о чувстве, мне неведомом и недозволенном. Вы еще дитя, и я прощаю вас, но в последний раз. Знайте же, сударь, что я словно опьянена материнством. Я люблю господина де Морсофа не по велению долга, не ради вечного блаженства, я связана с ним непреодолимым чувством, всеми фибрами моей души! Разве меня принуждали к этому браку? Мое согласие было вызвано сочувствием к несчастьям господина де Морсофа. Не женщинам ли надлежит смягчать зло, причиненное временем, утешать тех, кто храбро сражался на поле брани и вернулся домой, покрытый ранами? Что еще сказать вам? Я испытала нечто вроде себялюбивой радости, видя, что вы забавляете его: разве это не подлинное материнство? Неужели вы не поняли, выслушав мою исповедь, что у меня трое детей, которым я никогда не должна изменять, чьи души я орошаю живительной росой, чьи сердца согреваю в дни ненастья, ни минуты не помышляя о себе. Не вносите же горечи в самопожертвование матери! Хотя моя супружеская верность неуязвима, не говорите со мной таким языком. Если вы нарушите этот невинный запрет, вход в этот дом будет для вас навсегда закрыт, предупреждаю вас. Я верила в чистую дружбу, в братскую привязанность, более крепкую, нежели кровные узы. Несбыточная мечта! Я искала друга, который не стал бы строго судить меня; друга, готового выслушать меня в минуты слабости, когда гневный голос может убить женщину; друга, настолько возвышенного, чтобы его не надо было опасаться. Юность благородна, прямодушна, бескорыстна, самоотверженна! Видя вашу настойчивость, я поверила, признаюсь, в предначертание свыше; я подумала, что друг посвятит мне свою душу, подобно тому, как священник посвящает себя верующим, что я нашла чуткое сердце, дабы изливать ему свои печали, когда не будет сил их сносить, и кричать от боли, когда крики сами рвутся из груди и душат, если пытаешься их заглушить. Тогда моя жизнь, нужная всем троим детям, не оборвалась бы до тех пор, пока Жак не стал бы мужчиной. Но это желание было слишком эгоистично! Разве может возродиться любовь Лауры и Петрарки[31]? Я ошиблась, богу это не угодно. Мне суждено умереть на своем посту такой же одинокой, как солдат на часах. Мой духовник строг, неумолим... а тетушки уже нет в живых.
Две крупные слезы блеснули на ее глазах при свете луны и медленно скатились по щекам; я приблизил руку к ее лицу и, не дав упасть этим слезам, выпил их со страстным благоговением, которое было вызвано словами графини, запечатленными десятью годами тайных мук, растраченного чувства, постоянных забот, бесконечных тревог и высочайшего женского героизма! Она посмотрела на меня с кротким недоумением.
— Вот первое причастие любви! — взволнованно проговорил я. — Да, я только что разделил ваши печали, приобщился к вашей душе, подобно тому, как мы приобщаемся тела и крови Иисуса Христа через святое причастие. Любовь даже без надежды на взаимность — счастье! Какая женщина на земле могла бы доставить мне ту светлую радость, которую я испытал, выпив эти слезы! Да, я принимаю ваше условие, хотя оно и сулит мне новые муки. Я отдаю вам всего себя, ничего не требуя взамен, и буду для вас тем, чем вы пожелаете.
Она остановила меня движением руки и произнесла своим задушевным голосом:
— Я согласна на этот договор, только вы никогда не должны его нарушать.
— Хорошо, но чем меньше вы обещаете мне, тем вернее должны выполнить обещанное.
— А для начала вы проявляете недоверие, — заметила она грустно.
— Нет, я принимаю договор с чувством чистейшей радости. Послушайте! Я хотел бы называть вас именем, которым вас никто не называет, ведь и чувство наше не имеет себе равного.
— Вы многого требуете, но я не так скупа, как вы полагаете. Господин де Морсоф зовет меня Бланш. Моя незабвенная тетушка, которую я любила больше всех на свете, одна называла меня Анриеттой. Я снова стану Анриеттой для вас.
Я взял ее руку и поцеловал. Она не отняла у меня руки, проявив то доверие, благодаря которому женщина так высоко стоит над мужчиной, что нередко даже подавляет нас. Она облокотилась о каменную балюстраду террасы и устремила взор на реку.
— Мне кажется, вы неправы, мой друг, — сказала она, — желая сразу добраться до конца пути! Ведь вы одним глотком осушили чашу, предложенную вам от всего сердца. Впрочем, любовь не знает расчета, она отдается целиком — или это не настоящее чувство. — И прибавила, помолчав: — Господин де Морсоф прежде всего человек прямой и гордый. Быть может, ради любви ко мне вы и готовы забыть его оскорбительные речи. Не делайте этого. Если он сам их не помнит, то завтра же все узнает от меня. Не приходите некоторое время в Клошгурд, этим вы лишь подниметесь в его глазах. В воскресенье на будущей неделе он сам подойдет к вам по выходе из церкви; я знаю его характер, он постарается загладить свою вину и будет благодарен вам за то, что вы обошлись с ним как с человеком, отвечающим за свои слова и поступки.
— Пять дней не видеть вас, не слышать вашего голоса?!
— Никогда не говорите со мной с таким пылом.
Мы дважды обошли террасу в полном молчании.
— Уже поздно, вам пора уходить, — сказала графиня повелительно, и я почувствовал, что она уже взяла власть над моей душой.
Я хотел поцеловать ее руку, но она в нерешительности отдернула ее, потом опять протянула и сказала умоляющим голосом:
— Не надо брать мою руку, ждите, чтобы я сама дала ее; предоставьте мне это право, иначе я буду вашей вещью, а этого не должно быть.
— До свидания, — проговорил я.
Я вышел через калитку сада, которую она отперла для меня. Но прежде чем затворить калитку, она протянула мне руку, говоря:
— Право же, вы были очень добры сегодня вечером, вы утешили меня, осветили мое будущее, вот вам моя рука, возьмите ее!
Я несколько раз подряд поцеловал протянутую руку; а подняв голову, заметил на глазах Анриетты слезы. Мы расстались. Но она еще раз обернулась и посмотрела на меня. Выйдя на дорогу, ведущую во Фрапель, я вновь увидел ее белое платье, освещенное луной; затем, несколько минут спустя, в окне ее спальни зажегся свет.
«О моя Анриетта, — подумал я, — тебе принадлежит самая чистая любовь, которая когда-либо расцветала на этом свете!»
Я направился домой, оглядываясь каждую минуту. Я чувствовал в душе неизъяснимую радость. Благородное поприще открылось наконец для преданности, свойственной каждому юному существу, а ведь я так долго не мог проявить ее! Подобно священнику, который после рукоположения вступает в новую жизнь, я был посвящен, я отдал всю свою душу. Простое «да» обязывало меня навсегда затаить непреодолимую страсть, никогда не злоупотреблять дружбой этой женщины, чтобы незаметно склонить ее к любви. Все благородные чувства пробудились во мне и заговорили разом. Прежде чем очутиться в тесной комнате, мне захотелось побыть под звездным куполом неба, предаться упоительным мечтам, прислушаться к звучавшим в моих ушах жалобам раненой горлицы, вспомнить слово за словом это искреннее и простое признание, проникнуться излияниями души, которая отныне будет поверять мне свои печали. Как величественна была эта женщина, свято преданная супружескому долгу, самозабвенно отдавшая себя на служение больным, слабым и страждущим! Она словно стояла передо мной на костре мученицы! Я любовался ее лицом, всплывшим во мраке, когда мне вдруг показалось, что я отгадал скрытый смысл ее слов, их тайное значение, и от этого Анриетта еще возвысилась в моих глазах. Очевидно, она хотела, чтобы я был для нее тем же, чем была она для своего маленького мирка; очевидно, она хотела черпать во мне силу и утешение, ввести меня в свою сферу, поставить рядом с собой или даже выше себя. Светила, говорят авторы иных смелых гипотез, передают таким образом друг другу движение и свет. Эта мысль унесла меня в заоблачные выси. Я очутился в сказочном мире своих первых грез и взглянул на горести детских лет сквозь призму счастья, в котором утопал ныне.
Загубленные слезами таланты, непризнанные сердца, неведомые миру святые Клариссы Гарлоу, отвергнутые дети, невинные изгнанники, вы все, вступившие в жизнь стезями бесплодными и каменистыми, вы, встретившие повсюду лишь холодные лица, замкнутые сердца и уста без привета, никогда не ропщите на свою долю! Вы одни можете испытать безграничную радость в ту минуту, когда для вас раскроется родное сердце, когда вам улыбнутся родные уста и родной взор сочувственно ответит вашему. Одна такая минута изгладит годы страданий. Изведанные горести, скорбные думы, порывы отчаяния и тоски, минувшие, но не забытые, свяжут вас еще крепче с близкою вам душою. Возвеличенная вашими несбывшимися желаниями, женщина соберет тогда жатву подавленных вздохов и укрощенных порывов любви, она возвратит вам сторицей ваши обманутые привязанности, утешит в прошедших невзгодах, востребованных судьбой как дань за беспредельное блаженство, которое вы испытаете в минуту духовного обручения сердец. Одним ангелам известно новое слово, которым бы следовало обозначать эту святую любовь, точно так же, как вы одни, мои братья по пережитым мукам, поймете, чем стала г-жа де Морсоф для меня, такого несчастного и одинокого!
Эта сцена разыгралась во вторник, и до воскресенья я даже во время прогулок ни разу не переходил на ту сторону Эндра. За эти пять дней в Клошгурде произошли важные события. Г-н де Морсоф получил чин генерал-майора, крест Святого Людовика и четыре тысячи франков пенсии. Герцогу де Ленонкуру-Живри, возведенному в достоинство пэра, были возвращены его леса и прежняя должность при дворе, а его супруга вновь вступила во владение своими еще не проданными поместьями, входившими в состав императорской казны. Таким образом, графиня де Морсоф оказалась одной из богатейших наследниц в Мене. Мать сама привезла ей сто тысяч франков, выделенных из доходов Живри, что как раз составляло сумму приданого, еще не выплаченного графу, который, несмотря на свою бедность, ни разу не напомнил об этих деньгах. Во всех житейских делах его поведение свидетельствовало о чистейшем бескорыстии. Прибавив к этой сумме свои личные сбережения, граф мог купить два соседних поместья, приносивших около девяти тысяч ливров дохода. Так как Жаку предстояло наследовать титул деда, граф тут же решил учредить для него майорат, объединив земельные владения обоих семейств; будущее Мадлены было также обеспечено, ибо высокое положение герцога де Ленонкура сулило ей блестящую партию. Это нежданное счастье и радужные планы на будущее несколько смягчили старые обиды бывшего эмигранта.
Приезд в Клошгурд герцогини де Ленонкур стал крупным событием в Турени. Я с горечью подумал, что эта дама принадлежит к высшей знати, и лишь тогда заметил в ее дочери тот же кастовый дух, смягченный благодаря редкому благородству чувств. Что значил перед ней такой бедный юноша, как я, не имевший за душой ничего, кроме мужества и способностей? Мне и в голову не приходило, что Реставрация может изменить мою судьбу и судьбу моих близких.
В воскресенье, стоя у обедни в боковом приделе вместе с супругами де Шессель и аббатом де Келюс, я с волнением поглядывал на противоположный придел, где находились герцогиня с дочерью, граф и дети. Лицо моего кумира, скрытое под соломенной шляпой, ни разу не повернулось в мою сторону, и это полное забвение, казалось, еще сильнее привязало меня к графине, чем все, что было раньше. Высокородная Анриетта де Ленонкур, а ныне моя дорогая Анриетта, жизнь которой мне так хотелось скрасить, горячо молилась; вера придавала ее фигуре что-то одухотворенное, самозабвенное, и эта поза коленопреклоненной святой глубоко тронула меня.
Как это принято в деревенских приходах, вечерню служили здесь часа через два после обедни. По выходе из церкви г-жа де Шессель любезно предложила своим соседям провести это время во Фрапеле вместо того, чтобы дважды идти по мосту через Эндр и пересекать широкий луг в самое жаркое время дня. Приглашение было принято. Г-н де Шессель повел герцогиню, граф — г-жу де Шессель, я подошел к графине и, когда мы тронулись в путь, впервые ощутил прикосновение ее прекрасной упругой руки. Дорога из церкви во Фрапель вела через парк Саше; лучи солнца, пробиваясь сквозь листву деревьев, ложились светлыми пятнами на песок аллеи и создавали причудливые рисунки, похожие на узорчатую ткань. Смотря на эту игру света и тени, я задумался, и сердце мое затрепетало от горделивых и дерзновенных мечтаний.
— Что с вами? — спросила Анриетта после того, как мы прошли несколько шагов в полном молчании, которое я не смел нарушить. — Ваше сердце так бьется...
— Я узнал о счастливых переменах в вашей жизни, — ответил я, — и теперь меня тревожат смутные опасения, как и всех, кто любит беззаветно. Скажите, ваше высокое положение не повредит нашей дружбе?
— Что? — переспросила она. — Фи! Если вам еще раз придет в голову такая мысль, я даже не буду презирать вас, я просто забуду о вашем существовании.
Я посмотрел на Анриетту с такой захватывающей радостью, что, очевидно, она передалась и ей.
— Мы воспользовались лишь правом, данным нам законами, которых мы не требовали и не издавали, — сказала она, — но попрошайками или стяжателями мы никогда не были и не будем; вам известно к тому же, — продолжала она, — что мы с господином де Морсофом не можем покинуть Клошгурд. По моему совету господин де Морсоф отказался от поста командира королевской гвардии. Достаточно и того, что мой отец получил придворную должность. Наше вынужденное бескорыстие, — прибавила она с горькой усмешкой, — послужило на пользу Жаку. Король, при особе которого служит батюшка, сказал ему весьма благосклонно, что перенесет на внука милость, отклоненную господином де Морсофом. Воспитание Жака стало нашей главной заботой, и надо серьезно подумать о нем, ведь мальчик будет представлять оба дома: Ленонкуров и Морсофов. На нем сосредоточено теперь все мое честолюбие, и тревог у меня стало еще больше. Жак не только должен жить, но и быть достойным своего имени, что налагает на меня две противоречивые обязанности. До сих пор я одна давала уроки Жаку, соразмеряя занятия с его силами, теперь ему нужен наставник, а где найдешь подходящего человека? Затем, позже, чья дружеская рука убережет его в этом страшном Париже, где все грозит гибелью для души и для тела? Дорогой мой, — проговорила она взволнованно, — смотря на ваш лоб и на ваши глаза, всякий угадает в вас человека из породы орлов, которому суждено жить в горных сферах. Расправьте же крылья и летите: я хочу, чтобы вы стали впоследствии крестным отцом моего дорогого мальчика. Поезжайте в Париж; если вы не получите помощи от брата или отца, моя семья не откажет вам в поддержке; матушка наделена деятельным умом и, конечно, будет иметь большой вес в обществе. Воспользуйтесь нашим влиянием! Тогда у вас не будет недостатка ни в опоре, ни в советах на избранном вами поприще! Употребите же избыток своих сил на удовлетворение благородного честолюбия.
— Я понял вас, — прервал я ее, — честолюбие, по-вашему, должно стать моей единственной страстью. Но я все равно буду всецело принадлежать вам. Нет, я не хочу, чтобы мое благоразумие в Клошгурде получило вознаграждение в Париже. Я поеду, я возвышусь сам, своими силами. Я все приму от вас, но от других мне ничего не надо!
— Какое ребячество! — прошептала она, но все же довольная улыбка промелькнула на ее устах.
— К тому же моя жизнь посвящена вам. Размышляя о нашем положении, я нашел средство связать себя с вами нерасторжимыми узами.
Она слегка вздрогнула и, остановившись, посмотрела мне прямо в глаза.
— Что вы хотите сказать? — спросила она, подзывая детей, между тем как две другие пары ушли вперед.
— Скажите мне откровенно, как вы хотите, чтобы я любил вас?
— Как любила меня тетушка, ведь я передала вам ее права, позволив называть меня тем же именем, что и она.
— Итак, я буду любить вас без надежды, самозабвенно. Да, я сделаю для вас то, что иные делают для бога. Разве вы сами не желали этого? Я поступлю в семинарию, выйду оттуда священником и буду воспитывать Жака. Ваш сын станет как бы моим вторым «я»: политические идеи, энергию, мысли, терпение — я все передам ему. Таким образом, я останусь подле вас, и моя любовь никем не будет заподозрена: религия оградит ее, подобно тому, как хрустальный колпак ограждает серебряную фигуру богоматери. Вам не придется опасаться порывов страсти, которая порой охватывает мужчину, я тоже поддался ей однажды. Мое сердце сгорит в этом пожаре, зато я буду любить вас любовью, очищенной от земных соблазнов.
Она побледнела и ответила прерывающимся голосом:
— Феликс, не налагайте на себя цепей, которые будут помехой вашему счастью. Я умру от горя, если окажусь причиной такого самоубийства. Подумайте, дитя мое, разве несчастная любовь — призвание? Сперва узнайте жизнь, а уж потом судите о ней. Я так хочу, я так приказываю. Не связывайте себя ни с церковью, ни с женщиной, не связывайте себя никакими узами, слышите? Я запрещаю вам это! Оставайтесь свободны. Вам двадцать один год. Вы еще не знаете, что вам готовит будущее. Боже мой, неужели я в вас ошиблась? Я думала, что двух месяцев достаточно, чтобы понять иные души.
— На что вы надеетесь для меня? — спросил я, и в моих глазах сверкнули молнии.
— Друг мой, примите мою помощь, возвысьтесь, добейтесь богатства, и вы узнаете, какую надежду я лелею. Впрочем, — прибавила она, как бы выдавая против воли свою тайну, — никогда не покидайте Мадлену, руку которой вы держите в эту минуту.
Она сказала мне на ухо эти слова, которые доказывали, как сильно занимала ее моя будущность.
— Мадлену? — переспросил я. — Ни за что!
Вслед за этим наступило молчание, скрывавшее целую бурю чувств. Мы были объяты тем глубоким смятением, которое оставляет в душе неизгладимый след. Но вот мы дошли до деревянных ворот, ведущих в парк Фрапеля; мне кажется, я и сейчас вижу перед собой среди высокой травы и колючего кустарника их ветхие, обомшелые столбы, увитые плющом.
Вдруг мысль о возможной смерти графа блеснула у меня в голове.
— Понимаю вас! — вскричал я.
— Наконец-то, — ответила Анриетта, и по звуку голоса я догадался, что приписал ей мысль, которая никогда ее не коснется.
Такая чистота помыслов вызвала у меня слезы умиления, но сколько горечи придал им эгоизм страсти! Я понял, что Анриетта недостаточно любит меня, иначе она желала бы вновь обрести свободу. До тех пор, пока любовь страшится греха, она имеет границы, а ведь любовь должна быть беспредельна. Мое сердце болезненно сжалось.
«Она не любит меня!» — подумал я.
И, желая скрыть то, что происходит в моей душе, я наклонился и поцеловал Мадлену в голову.
— Я боюсь вашей матушки, — сказал я графине, чтобы возобновить разговор.
— Я тоже! — воскликнула она с детской непосредственностью. — Но не забудьте одного: всегда величайте ее герцогиней и обращайтесь к ней в третьем лице. Нынешние молодые люди отвыкли от этих правил вежливости, но вы должны следовать им, поступайте так ради меня, прошу вас. К тому же почитать женщину в любом возрасте и не мудрствуя признавать общественные различия — признак благовоспитанности! Разве почести, которые мы оказываем людям, стоящим выше нас, не обязывают уважать и наши достоинства? В обществе все тесно связано. Кардинал Роверский и Рафаэль Санти пользовались некогда одинаковым почетом. В лицеях вас вспоили молоком революции, и это, конечно, сказалось на ваших политических мнениях; но вы узнаете с годами, что плохо понятые принципы свободы неспособны дать счастье народам. Здравый смысл поселянки подсказывает мне прежде всего, что общество держится лишь на иерархии, а уже затем я начинаю рассуждать как урожденная де Ленонкур об аристократии, о том, что она собой представляет и чем должна быть. В вашем возрасте пора сделать выбор, и сделать его правильно! Оставайтесь же на стороне тех, к кому вы принадлежите по рождению. Тем более, — прибавила она, смеясь, — что они сейчас у власти.
Я был искренне тронут этими словами, где глубина политических взглядов скрывалась под видом нежнейшего участия — сочетание, которое дает женщинам такую власть над нами, ведь все они умеют облечь в форму чувства свои самые отвлеченные суждения. Желая заранее оправдать поступки графа, Анриетта, казалось, предвидела, что я подумаю, впервые увидев проявления его низкопоклонства. Г-н де Морсоф, неограниченный властелин в своем замке, человек, окруженный ореолом славного прошлого, стоял в моих глазах на недосягаемой высоте, и, признаюсь, я был неприятно удивлен, заметив, как он подчеркивает расстояние, отделяющее его от герцогини, своими по меньшей мере угодливыми манерами. У всякого раба есть своя гордость: он хочет повиноваться лишь величайшему владыке; я чувствовал себя как бы оскорбленным, видя унижение того, кто приводил меня в трепет, возвышаясь над моей любовью. Этот внутренний протест помог мне понять муки великодушных женщин, навеки соединенных с мужчиной, чьи мелкие подлости им ежедневно приходится скрывать. Чувство собственного достоинства похоже на крепость, оно ограждает и великих и малых, причем каждый из них может смело смотреть другому в глаза. Я был почтителен с герцогиней из уважения к ее возрасту; но там, где другие видели лишь высокий титул, я видел мать Анриетты и не только относился к ней с уважением, но и свято почитал ее. Мы вошли в большой двор Фрапеля, где собралось все остальное общество. Граф де Морсоф весьма любезно представил меня герцогине, которая окинула меня холодным, испытующим взглядом. Г-же де Ленонкур было в ту пору пятьдесят шесть лет, она прекрасно сохранилась, держалась строго и величаво. Видя ее жесткие голубые глаза, окруженные сетью морщинок, ее тонкие, резкие черты, прямую внушительную фигуру, размеренные жесты и желтоватую бледность кожи, столь ослепительной у ее дочери, я сразу понял, что она принадлежит к той же надменной породе, что и моя мать; так минералог, не колеблясь, узнает железо среди прочих минералов. Она выговаривала слова, как это было принято при старом королевском дворе, произнося «вижю» вместо «вижу», и заменяла слово «подарок» словом «презент». В обращении с ней я не был ни раболепен, ни натянут и держался так хорошо, что, возвращаясь в церковь к вечерне, графиня шепнула мне на ухо:
— Вы вели себя безукоризненно!
Граф подошел ко мне и, взяв меня под руку, спросил:
— Надеюсь, вы не сердитесь на меня, Феликс? Если я и был несколько резок, вы должны это простить старому товарищу. По всей вероятности, мы останемся здесь обедать, а вас приглашаем к себе в четверг, накануне отъезда герцогини. Дела призывают меня в Тур. Не забывайте же посещать Клошгурд в мое отсутствие. А знакомство с моей тещей я вам настоятельно советую поддерживать. Ее гостиная будет задавать тон в Сен-Жерменском предместье. Она сохранила традиции высшего общества, обладает огромными познаниями и может описать вам по памяти гербы всех дворянских родов Европы.
Воспитанность графа, а может быть, и советы его доброго ангела сказались в том, как он держался, узнав, что дело роялизма восторжествовало. Он не был ни высокомерен, ни оскорбительно вежлив и отбросил всякую напыщенность; со своей стороны, и герцогиня не слишком подчеркивала свой покровительственный тон. Супруги де Шессель с благодарностью приняли приглашение отобедать в Клошгурде в четверг на будущей неделе. Я понравился герцогине и понял по ее взглядам, что дочь говорила ей обо мне. Когда мы вернулись от вечерни, она задала мне несколько вопросов о моем семействе и поинтересовалась, не мой ли родственник некий Ванденес, подвизающийся на дипломатическом поприще.
— Это мой брат, — ответил я.
Герцогиня стала тогда почти приветлива и сообщила мне, что моя двоюродная бабушка, престарелая маркиза де Листомэр, была урожденной Гранлье. Ее манеры были учтивы, как и у г-на де Морсофа в тот день, когда он увидел меня впервые, и взгляд потерял то надменное выражение, каким великие мира сего дают нам понять, что между ними и прочими смертными лежит глубокая пропасть. Я ничего не знал о прошлом моего семейства. Герцогиня рассказала мне, что мой двоюродный дедушка, престарелый аббат, неизвестный мне даже по имени, был членом тайного совета, что мой брат получил повышение и что на основании какой-то статьи хартии[32], о которой я даже не знал, моему отцу возвращен титул маркиза де Ванденеса.
— У меня лишь один титул — я ваш раб навеки! — тихо сказал я графине.
Все чудеса Реставрации происходили с быстротой, поражавшей людей, воспитанных при Империи. Но этот переворот мало трогал меня. Любое слово, малейшее движение г-жи де Морсоф — вот единственные события, которым я придавал значение. Я не знал, что такое тайный совет, ничего не понимал в политике и в великосветских делах; у меня было лишь одно честолюбивое желание: любить Анриетту нежнее, нежели Петрарка любил Лауру. При виде такого безразличия герцогиня, должно быть, приняла меня за ребенка.
Во Фрапеле собралось многочисленное общество: нас было человек тридцать за обеденным столом. Какое упоение охватывает всякого юношу, когда его возлюбленная затмевает красотой остальных женщин, становясь предметом поклонения, между тем как ему одному предназначаются ее целомудренно-сдержанные взоры! Какой восторг он испытывает, замечая доказательства нежного и неизменного чувства в оттенках любимого голоса, в шутливых и даже насмешливых словах своей владычицы и как безумно он ревнует ее ко всем светским развлечениям! Граф, довольный знаками внимания, которыми он был окружен, казался помолодевшим; жена радовалась, надеясь на перемену к лучшему в его расположении духа; а я смеялся вместе с Мадленой, которая, подобно всем рано развившимся детям, забавляла меня удивительно меткими замечаниями, не злыми, но насмешливыми и не щадившими никого из присутствующих. Это был чудесный день. Одно слово, возродившее утром мои надежды, преобразило, казалось, все окружающее; и, видя меня столь счастливым, Анриетта тоже была счастлива.
— Как отраден был этот проблеск радости в моей серой, унылой жизни! — сказала она мне при встрече.
Весь следующий день я, конечно, провел в Клошгурде (ведь перед этим я был изгнан оттуда на целые пять дней!), и мне не терпелось вернуться к своей прежней жизни. Граф уехал в шесть часов утра, чтобы составить купчие в Туре. За время его отсутствия между матерью и дочерью возникли серьезные разногласия. Герцогиня желала, чтобы дочь ехала вместе с нею в Париж, где она собиралась испросить для нее место при дворе, да и граф мог бы занять там высокую должность, отказавшись от своего прежнего решения. Анриетта, слывшая счастливой женой, не хотела открывать никому, даже собственной матери, своих терзаний и подлинного ничтожества г-на де Морсофа. Боясь, как бы мать не проникла в тайну ее семейной жизни, она и отправила супруга в Тур, где ему предстояло вести дела с нотариусами. Я один, по ее словам, был посвящен в тайну Клошгурда. Познав на опыте, как успокоительно действует чистый воздух и голубое небо Турени на раздражительный нрав графа и на его мучительные припадки и какое благотворное влияние оказывает жизнь в Клошгурде на здоровье детей, она противопоставляла веские доводы всем словам герцогини, властной женщины, которая была скорее унижена, чем огорчена неудачным браком дочери. Анриетта заметила — ужасное открытие! — что ее мать не слишком беспокоится о Жаке и Мадлене. Как и все матери, привыкшие повелевать дочерьми даже после их выхода замуж, герцогиня не терпела, чтобы г-жа де Морсоф ей перечила; она разыгрывала то нежную дружбу, чтобы вырвать нужное ей согласие, то гневную холодность, желая добиться страхом того, чего не удалось сделать лаской. Затем, видя, что все усилия тщетны, она прибегла к злой иронии, какую я уже наблюдал у своей матери. За десять дней пребывания герцогини в Клошгурде Анриетта прошла через все муки, ведомые молодым женщинам, которые восстали против авторитета родителей и желают утвердить свою независимость. Вам это трудно понять: ведь у вас, на ваше счастье, лучшая, нежнейшая из матерей! Чтобы составить себе представление о борьбе между герцогиней, сухой, холодной, расчетливой и тщеславной женщиной, и ее дочерью, исполненной мягкой, непосредственной, никогда не оскудевающей доброты, вообразите лилию — мое сердце без устали сравнивает Анриетту с этим цветком, — попавшую между стальными зубьями машины. У этой матери не было ничего общего с дочерью, она не умела отгадать ни одну из истинных причин, заставлявших графиню отказываться от преимуществ Реставрации и продолжать свою уединенную жизнь. Она подумала: уж нет ли интрижки между дочерью и мной. Это слово, которое она употребила, высказывая свои подозрения, вырыло между обеими женщинами пропасть, которую отныне уже ничто не могло уничтожить. Хотя семьи скрывают обычно свои внутренние раздоры, попробуйте проникнуть в их тайную жизнь. Почти всюду вы найдете то глубокие, неизлечимые раны, ослабляющие кровные узы, то живую, трогательную любовь, которая благодаря сходству характеров становится вечной и превращает смерть в трагедию, оставляя в душе неизгладимый траурный след, то, наконец, затаенную ненависть, которая постепенно ожесточает сердце и сушит слезы в минуту вечной разлуки. Терзаемая вчера, терзаемая сегодня, мучимая всеми, даже своими детьми, этими двумя несчастными ангелами, неповинными ни в собственных страданиях, ни в тех, что они причиняли родителям, могла ли бедная женщина не полюбить человека, который не мучил ее и желал лишь одного: воздвигнуть непреодолимую преграду, чтобы уберечь ее от всяких бурь, от всяких ударов, от всяких ран? Я страдал от этой борьбы между матерью и дочерью и все же порой чувствовал себя счастливым, ибо Анриетта находила прибежище в моем сердце, поверяя мне свои новые печали. Тогда-то я и научился ценить ее стойкость в горе и неистощимое деятельное терпение. И с каждым днем я все лучше понимал смысл этих слов: «Любите меня так, как любила меня тетушка».
— Неужели у вас нет честолюбия? — сурово спросила меня однажды герцогиня за обедом.
— Сударыня, — ответил я, серьезно смотря на нее, — я чувствую в себе достаточно силы, чтобы покорить мир, но мне всего двадцать один год, и у меня нет поддержки.
Она удивленно взглянула на графиню, ибо полагала, будто дочь заглушает во мне всякое честолюбие, чтобы удержать подле себя. Пребывание герцогини де Ленонкур в Клошгурде было для меня мукой: я все время чувствовал себя скованным. Графиня просила меня соблюдать декорум, она пугалась всего, даже тихо сказанного слова, и, чтобы ей угодить, мне приходилось постоянно носить маску. Наступил долгожданный четверг; это был томительный день, когда все совершалось по этикету, один из дней, ненавистных влюбленным, которые привыкли к милой непринужденности будней, когда их стул стоит на обычном месте и хозяйка дома уделяет им все свое внимание. Наконец герцогиня уехала наслаждаться придворным блеском, и в Клошгурде все вошло в обычную колею.
После моей небольшой ссоры с графом я водворился в Клошгурде еще прочнее и мог приходить туда в любое время, не возбуждая ни малейшего подозрения. Укротив свои порывы, я незаметно, словно плющ, обвившийся вокруг тростинки, заполонил прекрасную душу Анриетты, и передо мной открылся волшебный мир разделенных чувств. День ото дня наш духовный союз, основанный на полном доверии, становился теснее; мы относились друг к другу по-разному: графиня окружала меня ласковым покровительством, непорочной материнской любовью, моя же любовь, целомудренная в ее присутствии, становилась вдали от нее необузданной и жгучей, как поток расплавленного металла; я любил ее двойственной любовью; порой меня пронзали острые стрелы желания, порой же они летели к небу и терялись в бескрайних воздушных просторах. Если вы спросите меня, как мог я в мои лета предаваться обманчивым мечтам о платонической любви, несмотря на свою пылкую страсть, я отвечу вам, что я еще не был вполне мужчиной и к тому же не хотел мучить эту женщину, вечно опасавшуюся какого-нибудь несчастья с детьми, вечно ожидавшую гневной вспышки графа: ведь если она не была удручена болезнью Жака или Мадлены, удары ей наносил муж, а если он случайно оставлял ее в покое, она проводила ночи напролет у изголовья больного ребенка. Слишком горячее выражение чувств потрясало все ее существо, страсть оскорбляла ее, она жаждала чистой, возвышенной любви, нежной поддержки — словом, того, что сама давала другим. К тому же (надо ли говорить это такой истинной женщине, как вы?) положение, в котором я находился, доставляло мне минуты волшебной неги, божественной сладости и глубокого умиротворения, наступающего после безмолвно принесенных жертв. Ее чистота облагораживала меня, ее редкая самоотверженность внушала уважение, а искреннее, глубокое благочестие, подкрепляя все остальные добродетели, действовало на окружающих, как духовный елей, А затем я был молод! Еще так молод, что мог вложить все свои чувства в поцелуй, которым она изредка позволяла мне коснуться своей руки, но только тыльной стороны руки, а не ладони, ибо здесь, по-видимому, начиналась в ее представлении область чувственной любви. Никогда две души так горячо не ласкали друг друга, и никогда плоть не усмирялась так мужественно и так победоносно. С годами я понял яснее полноту своего былого счастья. В ту пору никакие заботы не отвлекали меня, никакие честолюбивые мечты не мешали бурному половодью чувства, захлестнувшему мою жизнь. Да, позднее мы любим в женщине женщину, тогда как в первом предмете нашей страсти мы любим все: ее дети дороги нам, как наши собственные, ее дом становится нашим домом, ее тревоги — нашими тревогами, ее горе трогает нас больше, чем наше несчастье; нам нравится ее платье и ее мебель; нас больше огорчает гибель ее урожая, чем весть о собственных убытках, и мы готовы бранить гостя, опрокинувшего «наши» безделушки на камине. Эта святая любовь побуждает нас жить жизнью другого человека, тогда как позднее, увы, мы требуем в дар чужую жизнь, ожидая, что женщина обогатит своей молодой страстью наши оскудевшие чувства. Вскоре я стал своим человеком в этом доме, где изведал впервые те бесчисленные услады, которые действуют на истерзанное сердце, как освежающая ванна на усталое тело, и сердце ширится от радости, проникающей в его самые потайные уголки. Вам трудно понять меня, вы женщина, а я говорю о счастье, которое вы даете, никогда не получая взамен равного блаженства. Только мужчине знакомо изысканное наслаждение, которое испытываешь в чужом доме, чувствуя себя любимцем хозяйки, средоточием ее тайной привязанности: собаки не лают, когда ты приходишь, слуги знают не хуже собак твои тайные права, дети, еще не умеющие лукавить, угадывают, что их доля любви никогда не уменьшится, а твое присутствие благотворно влияет на их путеводную звезду; и вот с присущей им чуткостью они то ластятся к тебе, то, любя, мучают тебя, словно маленькие тираны; они бывают удивительно понятливы и становятся твоими невинными сообщниками; они приближаются на цыпочках, улыбаются тебе и бесшумно уходят. Все стараются тебе угодить, все тебя любят и радуются твоему приходу.
Истинная страсть подобна прекрасному цветку, который особенно пленяет взор, когда он вырос на бесплодной почве. Но если я и получил чудесные преимущества, приобщившись к жизни этой семьи, где я нашел близких моему сердцу людей, то на мою долю выпали и новые обязанности. До сих пор г-н де Морсоф стеснялся в моем присутствии, я видел лишь некоторые его недостатки, но вскоре испытал в его обществе множество терзаний; я понял тогда, как благородна и милосердна была графиня, описывая мне свою ежедневную борьбу. Я узнал, как несносен характер графа, ибо стал свидетелем его постоянных скандалов из-за пустяков, его жалоб на воображаемые боли, его вечного недовольства, омрачавшего жизнь в Клошгурде, его потребности непрестанно проявлять свою деспотическую власть, которая жаждала все новых жертв. Когда мы гуляли по вечерам, он сам выбирал дорогу; но куда бы ни заводила нас прогулка, он всегда бывал не в духе и, возвратясь домой, сваливал вину на других; причиной того, что он устал, была жена, это она потащила его против воли туда, куда ему не хотелось идти; позабыв, что он сам повел нас гулять, граф жаловался, что г-жа де Морсоф руководит им во всем, даже в мелочах, что он не имеет ни собственной воли, ни мнения, что он попросту нуль у себя в доме. Если жена встречала его жестокие слова терпеливым молчанием, он раздражался, чувствуя, что власть его наталкивается на какую-то преграду, и спрашивал колко:
— Разве религия не предписывает женщине во всем угождать мужу? И дозволяет ли бог презирать отца своих детей?
В конце концов ему всегда удавалось затронуть чувствительную струну в сердце жены, и тогда он испытывал, казалось, особое удовлетворение, словно все же поставил на своем. Порой он замыкался в мрачном молчании, погружался в болезненное раздумье, нарочно пугая жену, которая спешила окружить его трогательными заботами. Подобно капризному ребенку, не помышляющему о беспокойстве матери, он позволял нежить себя, как Жака и Мадлену, к которым ревновал г-жу де Морсоф. Постепенно я открыл, что в серьезных вещах и в мелочах граф так же придирается к жене, детям и слугам, как и ко мне во время игры в триктрак. В тот день, когда передо мной предстали все горести, которые, подобно лианам, опутывали, душили жизнь этого семейства, связывали все хозяйство Клошгурда, тормозили его развитие и замедляли рост состояния, усложняя самые простые дела, я ужаснулся, чувствуя нечто вроде благоговейного трепета, и это сдержало мою страсть, поставив перед ней неодолимую преграду. Как я был слаб и ничтожен, боже мой! Слезы Анриетты, которые я выпил, как бы вознесли меня над землей, и я был счастлив, что могу разделить страдания любимой. Прежде я подчинялся деспотизму графа, как контрабандист, вынужденный платить штраф; отныне я стал добровольно сносить удары этого тирана, чтобы еще приблизиться к Анриетте. Она разгадала мое намерение, позволила занять место рядом с собой и вознаградила, приобщив к своим печалям; так некогда раскаявшийся вероотступник, жаждавший попасть в рай вместе со своими братьями во Христе, добивался милости умереть на арене цирка.
— Без вас я не вынесла бы этой жизни, — сказала мне Анриетта как-то вечером, когда г-н де Морсоф был, словно осенняя муха, злее, несноснее и ядовитее, чем обычно.
Граф пошел отдохнуть. Мы с Анриеттой провели часть вечера под нашими любимыми акациями; дети играли подле нас в лучах заходящего солнца. Мы обменивались редкими фразами, точнее восклицаниями, которые доказывали нашу духовную близость, служа отрадой в общих страданиях. Когда нам не хватало слов, молчание еще сладостнее баюкало наши души, и они нежно сливались в той сфере чувств, где нет места даже для поцелуя; подобные двум нимфам, они вкушали прелесть задумчивого покоя, безвольно отдавшись течению одних и тех же грез, погружались вместе в глубокие воды нежности, выходили оттуда освеженные и чувствовали себя более близкими, чем может пожелать самая требовательная любовь, хотя их и не связывали никакие земные узы. Мы опускались в бездонную пропасть и, возвращаясь обратно с пустыми руками, вопрошали друг друга взглядом: «Неужели среди бесконечной вереницы дней у нас не будет хотя бы одного дня, полностью нам принадлежащего?» Почему же, однако, ропщет наша плоть, когда сладострастие дарует нам этот дивный цветок, лишенный корней? Несмотря на волнующую поэзию заката, окрасившего каменную балюстраду террасы в красновато-желтые тона, такие мягкие и чистые, несмотря на чуткую тишину, нарушаемую лишь отдаленными криками детей, и на мир, царивший кругом, огонь желания пробежал по моим жилам, как предвестник всепоглощающего пожара. По истечении трех месяцев я уже не мог довольствоваться отведенной мне ролью и начал тихо гладить руку Анриетты, стараясь передать любимой кипевшую во мне неутоленную страсть. В одно мгновение Анриетта стала г-жой де Морсоф и отдернула руку. В моих глазах блеснули слезы, она заметила их и, нежно взглянув на меня, сама поднесла руку к моим губам.
— Знайте же, — проговорила она, — эти ласки мне дорого стоят! Столь требовательная дружба очень опасна.
Я не сдержался и стал осыпать ее упреками; я говорил о своих терзаниях, о том, как мало я прошу, чтобы и впредь переносить их. Я отважился сказать, что в моем возрасте любовь может быть духовной, однако душа, и та имеет пол, что я готов умереть, но только не молча. Она прервала меня, бросив мне гордый взгляд, который, казалось, спрашивал: «А разве мой путь усыпан розами?» Но, вероятно, я ошибался. С тех пор, как у ворот Фрапеля я несправедливо подумал, будто она хочет построить наше счастье на могиле, мне было стыдно запятнать Анриетту, приписав ей низменные желания. Тут заговорила она и сказала своим сладкозвучным голосом, что не может быть для меня всем и я должен знать это. Я понял, что между нами разверзнется пропасть, если я откажусь повиноваться, и, смирившись, опустил голову. Анриетта продолжала говорить; по ее словам, она свято верила, что способна любить меня как брата, не нарушая ни божеских, ни человеческих законов; что есть доля радости в этом чувстве, подобном божественной любви, которая, согласно учению кроткого Сен-Мартена, дарует жизнь всему сущему. Если я не могу быть для нее чем-то вроде престарелого духовника, которого она станет любить больше, чем брата, но меньше, чем возлюбленного, нам следует расстаться. Она сумеет умереть, принеся в жертву богу свои жгучие страдания, свои слезы и щемящую душу тоску.
— Я дала вам более того, на что имела право, — промолвила она под конец, — и уже наказана за это; мне больше нечего вам предложить.
Пришлось успокаивать Анриетту, обещать, что я никогда больше не буду причинять ей огорчений и стану любить ее в двадцать лет так, как старики любят свое последнее дитя.
На следующий день я рано пришел в Клошгурд. У Анриетты не было цветов в серой гостиной. Я тут же побежал в поля и виноградники за букетами для двух ваз; но когда я собирал цветок за цветком, срезая их под корень и любуясь красотой венчиков, мне пришла в голову мысль, что в оттенках лепестков и листьев заключена истинная гармония, дивная поэзия, которая чарует взгляд и, волнуя нас, словно музыка, пробуждает множество воспоминаний в сердцах тех, кто любит и любим. Разве гамма цветов не может иметь такой же смысл, как и гамма звуков? Вместе с Жаком и Мадленой, которые радовались не меньше меня, готовя сюрприз для нашей любимой, мы расположились на нижних ступеньках крыльца, словно сказочные полководцы во главе целой армии цветов, и принялись за составление двух букетов, в которых я попытался выразить переполнявшие меня чувства. Представьте себе поток цветов, пенным фонтаном бьющий из двух ваз и ниспадающий кругом причудливыми волнами, а посреди него белые розы и лилии с серебряными венчиками, говорящие о чистоте моих желаний. На этом свежем фоне сверкают голубизной васильки, незабудки, колокольчики — цветы, взявшие у неба свою окраску, которая так хорошо сочетается с белым. Разве это не было символом невинности двух душ, одной, ничего не ведающей, и другой, все познавшей, олицетворением мечты ребенка и мысли мученицы? У любви есть свой герб, и графиня втайне разгадала его. Она бросила на меня проникновенный взгляд, похожий на стон больного, когда неожиданно коснешься его раны: она была смущена и очарована. Какую награду принес мне этот взгляд! Сделать ее счастливой, согреть ее сердце — какая высокая задача! Итак, я применил в области чувства теорию отца Кастеля[33] и возродил ради Анриетты науку, позабытую в Европе, где цветы красноречия заменяют принятый на Востоке благовонный язык цветов. Какое наслаждение передавать то, что чувствуешь, через этих прекрасных посланцев, раскрывающихся в лучах солнца, как раскрываются наши души в лучах любви! Вскоре я еще ближе сроднился с жизнью растений, чем человек, которого я встретил впоследствии в Гранлье, сроднился с жизнью пчел.
До конца моего пребывания во Фрапеле я дважды в неделю принимался за этот кропотливый поэтический труд, для которого мне требовалось все разнообразие полевой флоры. Вот почему я тщательно изучил ее, но не как ботаник, а скорее как поэт, которому ценнее символический смысл цветка, нежели его форма. В поисках какого-нибудь растения я часто уходил очень далеко, бродил по берегам рек, по долинам и ландам, поднимался на вершины утесов и забирался в чащу лесов, где прятались анютины глазки или кустики вереска. Эти прогулки приносили мне радости, неведомые ученому, погруженному в свои мысли, крестьянину, обрабатывающему землю, ремесленнику, прикованному к городу, торговцу, стоящему за прилавком; зато они понятны и близки иным лесорубам, иным лесникам, иным мечтателям. Есть в природе зрелища, которые волнуют нас больше, нежели величайшие нравственные проблемы. Вот веточка цветущего вереска, обрызганная каплями росы, которые играют, как алмазы, под лучами солнца — вселенная в миниатюре, радующая взгляд того, кто умеет видеть! Вот уголок леса, окруженный скалами, перерезанный песчаными обрывами, покрытый мхом, поросший можжевельником; его дикий, мрачный вид находит не менее жуткий отклик в сердце, и оно болезненно сжимается, когда из лесной чащи доносится пронзительный крик коршуна. Вот опаленные солнцем, бесплодные ланды с крутыми каменистыми склонами, дали которых окутаны, как в пустыне, знойным маревом, — здесь я нашел прелестный и одинокий цветок анемона с лиловыми, точно шелковыми лепестками и золотыми тычинками — трогательное олицетворение моей непорочной возлюбленной, такой одинокой в своей долине! Вот обширные пруды, по поверхности которых природа рассыпала зеленые блестки, спеша одеть полурастительным, полуживотным покровом эти стоячие воды, где жизнь возникает за несколько дней, а водорослей и насекомых такое же множество, как и светил, плавающих в эфире мироздания. Вот хижина над обрывом, грядки капусты, виноградники, изгородь и скудные поля ржи кругом — образ многих скромных уделов! Вот длинная прогалина в лесу, похожая на храм: деревья стоят прямые, как колонны, ветви, сплетаясь над головой, образуют готические своды, а вдалеке сквозь тенистую листву проглядывает поляна, то озаренная полуденным солнцем, то пылающая в красных лучах заката, словно перед вами сверкают цветные витражи хоров, откуда несутся неумолчные голоса птиц. Выйдя из-под этой прохладной густолиственной сени, вы попадаете на меловую возвышенность, где по рыжему сухому мху ползут, шурша, сытые ужи, подняв изящные, тонкие головки. Озарите эти картины потоками солнечных лучей, согревающих землю своим благодетельным теплом, оденьте клочками туманов, седых и косматых, как брови старца, осветите холодным сиянием бледного неба с голубыми просветами среди желтоватых облаков и прислушайтесь: вы уловите невыразимую гармонию природы среди проникающей в душу тишины.
В течение двух месяцев — сентября и октября — я ни разу не собрал букета меньше, чем за три часа, так самозабвенно, с таким поэтическим восторгом любовался я этими мимолетными аллегориями, воплощавшими для меня противоречивые человеческие судьбы, — величественными картинами природы, к которым и теперь неустанно влечет меня воображение. И часто с ними сливается воспоминание о женщине, присутствие которой я ощущал во всем. Я вновь вижу свою владычицу среди полей и лесов: ее белое платье мелькает в чаще или развевается на лужайке, ее мысли летят ко мне из венчика каждого цветка, влюбленно скрывающего свои бесчисленные тычинки.
Никакое признание, никакое доказательство безумной любви не имело бы такой власти над ней, как эти симфонии цветов: ведь я вкладывал в них свои обманутые желания с необузданной страстностью Бетховена, повествующего в звуках о глубинах человеческого сердца или устремляющегося в неудержимом порыве к небесам! При виде моих букетов г-жа де Морсоф была только Анриеттой. Она беспрестанно смотрела на них, насыщаясь их видом, отгадывала мысли, которые мне удавалось передать, и, подняв голову, склоненную над пяльцами, восклицала:
— Боже мой, как они прекрасны!
Этот восхитительный язык цветов было так же легко понять, как и проникнуть в дух поэзии Саади[34], прочтя отрывок его поэмы. Случалось ли вам бродить в мае среди полей и лугов, вдыхая хмельной аромат весны, который пробуждает жажду наслаждения в каждом живом существе, поддавшись всеобщему опьянению, плыть на лодке, опуская руки в водные струи, и отдавать во власть ветру свои непокорные волосы, чувствуя, как душа возрождается вместе с зеленеющими купами деревьев? Маленькая травка под названием пахучий колосок служит одним из начал этой скрытой гармонии. Вот почему никто не может безнаказанно хранить его подле себя. Стоит примешать к букету его блестящие копьеобразные листья, затканные белыми нитями, словно дорогая ткань, и нежное благоухание оживит в глубине вашего сердца чувства, расцвесть которым мешало строгое целомудрие. Представьте себе вокруг широкого горлышка фарфоровой вазы густую кайму белых цветов, растущих в виноградниках Турени; их кисти смутно напоминают желанные формы женского тела, склоненного в позе покорной рабыни. Над этим бордюром возникают ползучие стебли вьюнка, усыпанные белыми колокольчиками, тоненькие веточки розового стальника, узорчатые папоротники и молодые побеги дуба с сочными ярко-зелеными листьями; они смиренно никнут, как плакучие ивы, и робко молят о чем-то, как верующие в храме. Затем устремляются ввысь, словно несмелые надежды и первые мечтания юности, дрожащие стебельки пурпурного горицвета, щедро расточающего желтую пыльцу, снеговые пирамиды медуниц, зеленые волосы хмеля и острые стрелы осоки, выделяясь на сером фоне льна, голубоватые цветы которого как бы мерцают при дневном свете. Еще выше стоят, подняв головки, бенгальские розы; их окружают, теснят, опутывают со всех сторон рваные кружева луговых трав, султаны хвощей, метелки ковыля, зонтики дикого кервеля, щитки тысячелистника, трезубцы дым-травы с ее черно-розовыми цветами, штопоры виноградных лоз, искривленные побеги жимолости и седые «дедушкины кудри» — словом, самые неистовые, самые причудливые создания растительного мира: языки пламени и тройные жала, копьевидные травы и зубчатые листья, перекрученные, спиральные стебли и ветки, напоминающие с трудом обузданные желания. Из глубины этого многоводного потока чувств вырывается махровый ярко-красный цветок мака со своими раскрывшимися бутонами, полыхая пожаром над белыми звездами жасмина и неистощимым дождем цветочной пыльцы, крошечные блестки которой порхают в воздухе и вспыхивают золотом на солнце! Какая женщина, опьяненная сладостным ароматом, которым веет от пахучего колоска, не поймет этой бури усмиренных чувств, этой целомудренной нежности, возмущаемой порывами страсти, этой пламенной любви, которая молит о взаимности, ежедневно возобновляя борьбу, все такая же затаенная, неугасимая, вечная?! Поставьте это благоуханное признание на окно, чтобы еще ярче выступили его оттенки, контрасты и арабески, и когда ваша владычица заметит в букете пышно распустившийся цветок, в венчике которого блестит слезинка росы, она поддастся влечению своего сердца, если только ангел-хранитель или голос ребенка не удержит ее на краю бездны. Что приносим мы в дар богу? Запах ладана, пламя свечей и молитвы — самое чистое выражение нашей благоговейной любви. Но разве все то, что мы предлагаем богу, не было заключено в этой лучезарной поэме цветов, которые без устали нашептывали сердцу сладкозвучные слова любви, пробуждая скрытые желания, невысказанные надежды и светлые грезы, что вспыхивают и гаснут, как светляки в теплую весеннюю ночь?
Столь невинные радости помогли мне обмануть страсть, воспламененную созерцанием любимой, чьи пленительные линии я с упоением ласкал взглядом. Для меня эти радости — не смею сказать того же об Анриетте — были как бы каналами, по которым устремляются бурные воды реки, грозящие смести сдерживающую их плотину. И хотя постоянная борьба с собой порождает смертельную усталость, достаточно бывает нескольких крох манны небесной, насыщающей путника от Дана[35] до Сахары, чтобы вдохнуть в нас новые силы. Я часто заставал Анриетту перед этими букетами; она смотрела на них, безвольно опустив руки, охваченная бурным волнением, от которого вздымается грудь, огнем вспыхивает взгляд и мысли бегут одна за другой, грозные, как пенные валы, оставляя после себя чувство тяжкой истомы. Никогда ни для кого я больше не составлял букетов! Создав этот понятный нам обоим язык, мы почувствовали удовлетворение, вроде того, какое испытывает раб, обманувший своего хозяина.
Спеша с цветами в Клошгурд, я часто замечал лицо Анриетты в окне гостиной, но, войдя в дом, неизменно заставал ее за пяльцами. Если почему-либо я не являлся в условленный час, хотя мы никогда его не назначали, то видел порой ее белую фигуру, блуждающую по террасе. Застигнутая врасплох, Анриетта говорила:
— Я вышла вам навстречу. Разве мой приемный сын не заслуживает немного внимания?
Мучительные партии в триктрак были временно прекращены. Поместья, приобретенные графом, доставляли ему много хлопот, приходилось часто отлучаться, обследовать владения, обмеривать и размежевывать земли; он должен был отдавать приказания, надзирать за полевыми работами, требовавшими хозяйского глаза, причем он ничего не делал, не посоветовавшись с женой. Часто мы с графиней отправлялись за ним в одно из новых поместий; по дороге дети гонялись за жуками и бабочками и тоже собирали букеты или, точнее говоря, охапки цветов. Гулять с любимой женщиной, вести ее под руку, выбирать ей дорогу! Право, этих безмерных радостей достаточно, чтобы осветить целую жизнь. Какой искренностью дышит тогда разговор! Мы уходили из Клошгурда одни, а возвращались с «генералом» — шутливое прозвище, каким мы называли графа, когда он бывал в хорошем расположении духа. Путь туда и путь обратно сильно отличались друг от друга, и этот контраст подчеркивал тайные услады, известные лишь влюбленным, которые не могут соединиться. Когда мы возвращались домой, к нашему блаженству — взгляду, рукопожатию — примешивалось беспокойство. Разговор, непринужденный в начале прогулки, приобретал теперь таинственный смысл: то один из нас отвечал лишь после паузы на многозначительный вопрос, то начатая беседа продолжалась в иносказательной форме, которой так хорошо поддается наш язык и так искусно владеют женщины. Кто не находил отрады в таком скрытом общении с любимым существом, отгораживаясь с ним в области, недоступной посторонним, и заключая духовный союз вопреки общепринятым законам? Однажды я поддался безрассудной, но мимолетной надежде, когда на вопрос графа, желавшего знать, о чем мы говорим, Анриетта ответила шутливой фразой, которая имела скрытый смысл. Это маленькое недоразумение позабавило Мадлену и тут же вызвало краску стыда на лице ее матери, которая строго посмотрела в мою сторону, словно говоря, что она может отнять у меня свое расположение, как некогда отняла свою руку, ибо желает остаться безупречной супругой. Но наш духовный союз имел такую притягательную силу, что на следующий день мы возобновили его.
Так летели часы, дни, недели, полные неисчерпаемого блаженства. Наступило время сбора винограда, а это — настоящее празднество в Турени. В конце сентября солнце не так припекает, как при уборке хлеба, и можно работать в поле, не страшась ни загара, ни усталости. Срезать кисти винограда легче, чем жать рожь. Все фрукты поспели. Снопы свезены, хлеб подешевел, и наступившее изобилие принесло счастье в дома земледельцев. Наконец, все опасения за успешное окончание полевых работ, требующих столько денег и труда, рассеялись при виде амбаров, полных хлеба, и погребов, ожидающих молодого вина. Вот почему сбор винограда служит как бы радостным завершением летней страды, да и небо в эти дни неизменно улыбается в Турени, где осень особенно хороша. В нашем гостеприимном крае сборщикам винограда предоставляется и стол и кров. Они получают сытную и вкусную пищу, и бедняки дорожат ею, как дети в патриархальных семьях дорожат именинным обедом. Вот почему сборщики толпами являются к тем хозяевам, которые кормят их не скупясь. Итак, дома полны людей и всяких запасов. Прессы для винограда работают, не переставая. Кажется, что все ожило, зашевелилось: снуют взад и вперед бочары, подъезжают телеги со смеющимися девушками, то и дело слышатся песни батраков, которым за сбор винограда платят дороже, чем за все другие работы. Впрочем, есть еще одна причина для веселья — сбор винограда стирает все общественные грани: хозяева, работники, женщины, дети — все участвуют в этом празднике труда. Вот чем объясняется, быть может, то хмельное веселье, которое издавна царит у нас в последние погожие дни осени и воспоминание о котором некогда подсказало Рабле вакхическую форму его великой книги. Жак и Мадлена, вечно больные, ни разу не собирали винограда; я был так же несведущ по этой части, как они, и дети прыгали от радости, видя, что я разделяю их волнение; к тому же графиня обещала сопровождать нас. Прежде всего мы пошли в Виллен — местечко, славящееся в нашем краю изготовлением корзин, и заказали себе несколько штук самых красивых: ведь нам предстояло собрать вчетвером виноград с оставленного для нас участка! Однако мы договорились не есть слишком много винограда во время работы. Лакомиться крупным туреньским виноградом, сорванным собственными руками, было так приятно, что мы готовы были пренебречь ради него лучшими сортами фруктов, подаваемых к столу. Жак заставил меня поклясться, что я буду собирать виноград только в Клошгурде и откажусь от всех других приглашений. Никогда еще Жак и Мадлена, обычно бледные и болезненные, не были так оживлены, деятельны, непоседливы. В то утро они щебетали наперебой, сновали взад и вперед без всякой нужды; казалось, им хочется болтать и прыгать от избытка сил, как и всем прочим детям; родители никогда не видели их такими цветущими и довольными. Я сам стал ребенком вместе с ними и даже, быть может, более шаловливым, чем они, ибо тоже надеялся заслужить награду. Итак, в одно прекрасное осеннее утро мы отправились в виноградники и пробыли там полдня. Как мы соперничали, наперебой стараясь отыскать самую красивую кисть и поскорее наполнить свою корзину! Мы то и дело бегали от лоз к г-же де Морсоф и показывали ей каждую сорванную гроздь. Она залилась веселым, молодым смехом, когда, подойдя к ней вслед за Мадленой, я спросил ее, как и дети:
— Маменька, а у меня хороший виноград?
— Не надо так спешить, мой мальчик! — проговорила она. Затем провела рукой по моей шее и волосам и, нежно похлопав меня по щеке, добавила: — Смотри, ты весь в поту!
В первый и последний раз я услышал такие ласковые ноты в ее голосе и милое «ты» на устах, словно мы были любовниками. Я смотрел на густые зеленые изгороди, усыпанные ягодами дикой малины и ежевики, я слышал крики детей, видел за работой сборщиков винограда, тележку, груженную бочками, людей с корзинами за плечами!.. Как ярко все это запечатлелось в моей памяти, все, вплоть до миндального деревца, возле которого стояла она, свежая, оживленная, смеющаяся, под раскрытым зонтиком! Затем я принялся срезать грозди и класть их в корзину, а когда она наполнялась, высыпал ее в большую бочку, стоявшую поодаль; я работал усердно, молчаливо, неустанно, и эти неторопливые, размеренные движения умиротворяли мою душу. Механическое занятие доставляло мне невыразимое удовольствие, ибо такая работа направляет жизнь в нужное русло и укрощает порывы страсти, грозящей все испепелить. Я понял тогда, сколько мудрости заключено во всяком однообразном труде, и оценил правила монастырской жизни.
Впервые за много дней граф не был ни мрачен, ни раздражен. Вид Жака, будущего герцога де Ленонкур-Морсофа, казавшегося вполне здоровым, бледное личико которого разрумянилось, а щеки были измазаны виноградным соком, радовал сердце отца. В этот последний день сбора винограда «генерал» обещал устроить вечером на площадке перед Клошгурдом бал в честь возвращения Бурбонов; веселье обещало быть всеобщим. Когда мы шли обратно, я предложил руку графине; она крепко оперлась на нее, словно желая показать, как переполнено ее сердце, и по-матерински поделиться со мной своей радостью.
— Вы приносите нам счастье! — сказала она мне на ухо.
Эти слова, произнесенные мелодичным голосом Анриетты, доставили мне такую радость, какую уже не могла дать ни одна женщина в мире: ведь я знал о ее бессонных ночах, о всех тревогах ее прошедшей жизни, такой томительной и трудной, хотя бог никогда не покидал бедную женщину!
— Печальное однообразие моих дней нарушено, жизнь становится прекрасной и сулит мне надежду, — проговорила она, помолчав. — Только не покидайте меня! Прошу вас, уважайте мои невинные суеверия! Будьте старшим братом моих детей, их провидением!
Во всем этом нет ничего надуманного, Натали: чтобы познать бездонную глубину любви, надо еще в юности бросить лот в те многоводные озера, на берега которых приводит нас судьба. Если у одних людей страсть похожа на поток лавы, текущей меж выжженных берегов, то у других она преображается, натолкнувшись на неодолимое препятствие, и наполняет кратер вулкана кристально чистой водой.
Вскоре нас ждало новое развлечение. Г-жа де Морсоф хотела приучить своих детей к практической жизни и воочию показать им, с каким трудом достаются деньги. Вот почему она позволила им обоим иметь свою долю в неустойчивых доходах с поместья, так часто зависящих от случайностей. Итак, Жаку принадлежал урожай орехов, а Мадлене — урожай каштанов. Через несколько дней после описанного празднества мы занялись сбором каштанов, а потом и сбором орехов. Сбивать шестом каштаны для Мадлены и видеть, как падают их коричневые плоды, мягко подпрыгивая в бархатистом слое пыли, устилающем скудную землю, на какой обычно растут эти деревья; забавляться серьезным видом девочки, которая оглядывает каждую кучку каштанов, оценивая их стоимость и мечтая об удовольствиях, которые она может себе доставить на собственные деньги; слушать поздравления экономки Манетты — единственного человека, который заменял графиню подле детей; познавать, сколько поучительного кроется во всяком труде, необходимом, чтобы собрать урожай, гибнущий порой из-за капризов погоды... Какое все это доставляло удовольствие, и как приятно было любоваться простодушным восторгом детей, которые казались еще прелестней в строгой рамке осеннего пейзажа! У Мадлены был собственный амбар, и мне захотелось посмотреть, как будут убирать туда ее сокровища, и разделить радость девочки. Поверите ли, я и теперь вздрагиваю, вспоминая, с каким шумом сыпались из корзин каштаны и катились по желтоватому войлоку, покрывавшему земляной пол. Часть урожая Мадлены брал граф для своего хозяйства; кроме того, фермеры, крестьяне и все окрестные жители присылали покупателей для Душечки — ласковое обращение, принятое в нашем краю даже в разговоре с посторонними и словно созданное для Мадлены.
Жак был менее счастлив со сбором орехов, так как в течение нескольких дней шел дождь; но я утешил его, посоветовав попридержать орехи и продать их позднее с бóльшей выгодой. Г-н де Шессель сообщил мне, что ореховые деревья почти ничего не принесли в Бреемоне, Амбруазе и Вуврэ. Между тем в Турени ореховое масло в большом ходу, и Жак мог выручить по крайней мере сорок су с дерева, а у него их было не менее двухсот: доход обещал быть немалым! Мальчик хотел купить себе костюм для верховой езды. Его желание вызвало спор в семье, и граф принялся рассуждать о неустойчивости доходов с земельных владений и о необходимости откладывать деньги на неурожайные годы, чтобы всегда иметь средний доход. Я понял мысли Анриетты по ее молчанию: она радовалась, видя, что Жак прислушивается к словам отца и что благодаря ее святой лжи граф понемногу приобретает недостающий ему авторитет главы семейства. Разве я не говорил вам, описывая эту женщину, что человеческий язык бессилен передать величие ее духа и поступков? Когда бываешь свидетелем таких сцен, наслаждаешься ими, не рассуждая, зато как ярко выступают они впоследствии на мрачном фоне нашей бурной жизни! Они сверкают, подобно бриллиантам, в оправе из скорбных дум и горьких сожалений, сливающихся с воспоминаниями о минувшем счастье! Почему названия двух новых поместий, Кассина и Реторьера, которыми так много занимались супруги де Морсоф, волнуют меня гораздо больше, нежели прекраснейшие названия обетованной земли и древней Эллады? «Что любишь, о том и говоришь!» — восклицает Лафонтен. Эти названия имеют в моих глазах чудодейственную силу заклинаний; они объясняют мне могущество магии, вызывая навеки исчезнувшие тени, которые появляются из небытия и говорят со мной; я вновь вижу себя среди этой счастливой долины, вновь наслаждаюсь красотой ее пейзажа, голубизной туреньского неба! Впрочем, разве чудо воссоздания прошлого не происходит издревле в сфере духовного мира? Не удивляйтесь, что я рассказываю вам о столь простых событиях: мелочи этой обыденной и даже будничной жизни были теми тонкими нитями, которыми я тесно связал себя с графиней.
Заботы об обеспечении детей причиняли г-же де Морсоф не меньше беспокойства, чем их слабое здоровье. Я вскоре понял, насколько она была права, говоря о своей тайной роли в хозяйстве Клошгурда, и, постепенно познакомившись с ним, получил о нашем крае сведения, которые должен был бы знать каждый государственный деятель. После десяти лет усилий графине удалось изменить систему земледелия в своем поместье, где она «расчетверила» все возделанные поля (это выражение употребляют в Турени, когда хотят пояснить, в чем заключается система многополья, при которой под пшеницу отводят ежегодно лишь четвертую часть всей пахотной земли, а на остальных сеют другие злаки). Чтобы победить косность арендаторов, г-жа де Морсоф решила расторгнуть прежние договоры, разделить свои владения на четыре крупные фермы и вновь сдать их «на половинных началах» — вид аренды, согласно которому землевладелец, предоставляя фермерам хозяйственные постройки, скот и семена, делит с ними расходы и полученный урожай. За разделом наблюдает посредник, взыскивающий с фермеров в пользу хозяина половину доходов натурой; система, как видите, громоздкая, причем ее усложняет отчетность, которая то и дело меняется в зависимости от характера посевов. Графиня предоставила в полное распоряжение г-на де Морсофа пятую ферму и земли, примыкающие к Клошгурду, отчасти, чтобы занять его, а отчасти, чтобы доказать арендаторам на опыте превосходство нового метода. Как хорошая хозяйка, она постепенно, с чисто женской настойчивостью, перестроила две фермы по планам ферм Фландрии и Артуа. Нетрудно понять ее намерения. По истечении срока договоров, заключенных с арендаторами «на половинных началах», графиня хотела создать из своих четырех ферм две новые прекрасные фермы и сдавать их за наличный расчет энергичным и сметливым земледельцам, чтобы упростить способ получения доходов с Клошгурда. Боясь умереть первой, она стремилась оставить графу поместье, приносящее твердый доход, а детям завещать состояние, которое не погибло бы, попав в неумелые руки. В ту пору фруктовые деревья, посаженные десять лет назад, давали превосходный урожай. Живые изгороди, защищавшие поместье от всяких посягательств, великолепно разрослись. Тополи, вязы и другие деревья стояли высокие и тенистые. Вместе с только что приобретенными поместьями земли Клошгурда, разделенные на четыре большие фермы — две из них еще предстояло выстроить, — должны были приносить шестнадцать тысяч франков золотом, по четыре тысячи с каждой фермы, не считая доходов с виноградников, с двухсот арпанов леса и образцовой фермы, конечно, при условии, что удастся ввести новую систему земледелия. Все фермы можно будет соединить дорогами с большой прямой аллеей, которую предполагалось проложить от Клошгурда до шинонской дороги, откуда оставалось до Тура не более пяти лье; недостатка в арендаторах не будет, особенно теперь, когда все заговорили о новшествах, введенных графом, об его успехах и о высоких урожаях на землях Клошгурда. Г-жа де Морсоф хотела вложить по пятнадцати тысяч франков в оба купленных поместья, чтобы превратить господские дома в две большие фермы; в таком случае их легче будет сдать, особенно если направить туда года на два управляющим некоего Мартино, самого старательного и честного посредника, который вскоре останется не у дел, ибо срок договоров со всеми четырьмя арендаторами подходит к концу и теперь предстоит сдать фермы за наличный расчет. Эти простые планы, требовавшие, однако, затраты более тридцати тысяч франков, были предметом бесконечных споров, а подчас и жестоких ссор между Анриеттой и графом, во время которых ее поддерживала лишь забота о будущем детей. Мысль: «Что станется с ними, если я завтра умру?» — приводила ее в ужас. Только кротким, спокойным людям, чуждым ненависти и гнева, тем, кто старается распространить на окружающих глубокий мир своей души, известно, сколько сил требует такая борьба, какой горячей волной приливает кровь к сердцу, когда приходится вступать в единоборство, и какая наступает усталость, если все усилия оказываются тщетными. И вот несчастная женщина стала жертвой мелочных придирок и оскорбительных выпадов мужа как раз в ту пору, когда дети окрепли и были уже не такие худые и бледные, ибо на них благотворно повлияло осеннее изобилие фруктов, когда она с умилением следила за их играми и радость вливала в нее новые силы, врачуя истерзанное сердце. Граф, испуганный грядущими переменами, оспаривал их пользу с тупым и злобным упрямством. Наперекор всякой логике он возражал против доводов жены, точно ребенок, не верящий в действие солнечного тепла на урожай. Графиня одержала верх. Победа здравого смысла над безумием успокоила боль ее ран, и она забыла об обидах. В тот же день она предложила совершить прогулку в Кассин и Реторьер, чтобы решить, какие работы там следует предпринять. Граф шел впереди один, за ним бежали Жак и Мадлена; а мы с графиней замыкали шествие, медленно следуя за детьми; она говорила со мной своим мягким, тихим голосом, который напоминал шепот морских волн, набегающих на прибрежный песок.
По ее словам, она была уверена в успехе. Между Туром и Шиноном предполагалось установить почтовое сообщение. За это дело взялся энергичный человек, двоюродный брат Манетты, который хотел арендовать Рабелэ, большую ферму Морсофов, стоящую при дороге. У него была многочисленная семья; старший сын станет перевозить пассажиров и почту, а младший — грузы; отец, обосновавшись в Рабелэ, будет перепрягать лошадей, а в свободное время обрабатывать землю, удобряя ее навозом из собственных конюшен. Другую ферму, Ла Бод, расположенную в двух шагах от Клошгурда, предлагал взять прежний арендатор, человек порядочный, умный, деятельный, оценивший все преимущества нового способа земледелия. Что касается Кассина и Реторьера, то земли этих поместий лучшие во всей округе; когда там будут построены новые здания и налажено хозяйство, останется только вывесить в Туре объявление о сдаче в аренду, и на обе фермы тотчас же найдутся охотники. Итак, года через два Клошгурд будет приносить около двадцати четырех тысяч франков дохода; ферма Гравелот, которой г-н де Морсоф владел в Мене, была уже сдана на девять лет по семи тысяч франков в год; пенсия генерал-майора, получаемая графом, составляла четыре тысячи франков; все эти доходы позволят семье жить если не в роскоши, то в полном достатке. Впоследствии, когда земли станут еще доходнее благодаря новым усовершенствованиям, графиня, быть может, поедет в Париж, чтобы следить за воспитанием Жака, но не раньше, чем года через два, когда здоровье будущего наследника окрепнет.
С каким содроганием произносила она слово «Париж»! Я тоже занимал место в этом проекте: она хотела как можно меньше разлучаться с другом. Услышав это, я сказал ей пылко, что она меня не знает, что втайне от нее я уже принял решение. Да, я буду работать день и ночь, быстро закончу образование и стану наставником Жака, ибо я не допущу, чтобы у нее в доме был посторонний молодой человек.
Выслушав меня, графиня серьезно покачала головой.
— Нет, Феликс, — проговорила она, — это так же невозможно, как и ваше посвящение в духовный сан. Вы глубоко тронули мое сердце матери, но женщина любит вас слишком искренне и не позволит, чтобы вы стали жертвой своей привязанности. Таким поступком вы навсегда уронили бы себя в глазах общества, и я ничем не могла бы вам помочь, — вот какая награда ждет вашу преданность! О, нет, я не хочу причинить вам зло! Вы, виконт де Ванденес, и вдруг станете наставником! Вы, чей благородный девиз гласит: «Не покупается и не продается!» Будь вы самим Ришелье, вы навеки погубили бы свою жизнь и причинили бы неутешное горе родителям. Друг мой, вы не знаете, как высокомерны женщины вроде моей матери, как дерзки их покровительственные взгляды, как презрительны слова, как унизителен порой их поклон.
— Что мне до света, если вы любите меня?!
Она сделала вид, что не расслышала моих слов, и продолжала:
— Хотя мой отец превосходный человек и готов исполнить любую мою просьбу, он не простит вам неудачи в свете и откажет в своем покровительстве. Я не хотела бы видеть вас даже наставником дофина! Примите общество таким, как оно есть, и не делайте ошибок в жизни. Дорогой мой, это безрассудное решение, подсказанное...
— Любовью, — сказал я тихо.
— Нет, милосердием, — возразила она, с трудом удерживая слезы, — эта безумная мысль проливает свет на ваш характер: доброе сердце принесет вам много зла в жизни. Отныне я требую права давать вам советы; позвольте мне как женщине иногда руководить вами. Да, из далекого Клошгурда я хочу следить молча, с восторгом за вашими успехами. Что до наставника, будьте покойны, мы найдем славного престарелого аббата, какого-нибудь ученого иезуита, и батюшка охотно даст денег на воспитание внука, который должен наследовать его имя. Жак — моя гордость. Ему же одиннадцать лет, — заметила она, помолчав, — но, как и вы, он выглядит моложе своего возраста, ведь увидев вас впервые, я дала вам не больше тринадцати лет.
Мы пришли в Кассин. Жак, Мадлена и я ходили по пятам за графиней, как малые дети; но мы мешали ей, и, оставив ее ненадолго, я отправился во фруктовый сад, где Мартино-старший, сторож Морсофов, и Мартино-младший, их посредник, решали, какие деревья следует срубить. Они обсуждали этот вопрос так горячо, словно дело шло об их кровном достоянии. Я понял тогда, какой любовью пользуется графиня, и высказал эту мысль бедному поденщику, который слушал спор ученых садоводов, положив ногу на лопату и опершись локтем на ее деревянную ручку.
— Что правда, то правда, сударь, — ответил он, — хорошая она женщина и ничуть не гордая, не то что все эти вертихвостки из Азе. Им наплевать, пусть бедный человек околеет, как собака, только бы не платить ему лишнего гроша за сажень вырытой земли. Если, боже упаси, эта святая женщина уедет из нашего края, божья матерь и та заплачет, а мы и подавно. Госпожа графиня знает, что ей причитается, но понимает, как тяжело нам работать, и жалеет нас.
С каким удовольствием я отдал этому человеку все деньги, которые у меня были при себе!
Несколько дней спустя в Клошгурде появился пони, присланный для Жака. Граф, сам превосходный наездник, хотел постепенно закалить сына, приучив его к верховой езде. А на деньги, вырученные от продажи грецких орехов, мальчику купили хорошенький костюмчик для верховых прогулок. В то же утро г-н де Морсоф дал Жаку обещанный урок, а Мадлена прыгала и кричала на лужайке, вокруг которой скакал на своем пони брат; это зрелище принесло первую большую радость материнскому сердцу графини. На Жаке был воротничок, вышитый матерью, небесно-голубая курточка, стянутая в талии кожаным ремнем, белые брюки со складкой и шотландская шапочка, из-под которой выбивались его крупные пепельные локоны. Маленький всадник был прелесть как хорош! Все слуги выбежали из дома, чтобы принять участие в этом семейном торжестве. Юный наследник улыбался матери, проезжая мимо нее, и смело держался в седле. Это первое проявление самостоятельности у ребенка, не раз бывшего на краю смерти, надежда на прекрасное будущее, залогом которого служила эта прогулка, ясное лицо мальчика, казавшегося свежим, красивым, здоровым, — какое это было чудесное вознаграждение для родителей! Счастье помолодевшего отца, улыбавшегося впервые за долгое время, радость во взорах всех домашних, удивление престарелого берейтора Ленонкуров, который только что вернулся из города и воскликнул при виде маленького наездника: «Браво, господин виконт!» — все это настолько взволновало г-жу де Морсоф, что она разрыдалась. Анриетта, такая мужественная в горе, не выдержала радости при виде своего мальчика, гарцевавшего по усыпанной песком дорожке, где она так часто плакала над его участью, гуляя с ним на солнце. В эту минуту она без угрызения совести оперлась на мою руку, говоря:
— Мне кажется, я никогда не была несчастна. Не уходите от нас сегодня!
По окончании урока Жак бросился на шею матери; она обняла сына, прижала его к сердцу со страстной нежностью, вызванной избытком счастья, и стала осыпать поцелуями. Мы с Мадленой отправились за цветами и набрали два великолепных букета, чтобы украсить стол в честь юного наездника. Когда мы вошли в гостиную, графиня сказала мне:
— Сегодня, пятнадцатое октября, — знаменательный день в нашей семье. Жак получил первый урок верховой езды, а я только что закончила свою последнюю вышивку для гостиной.
— Если так, Бланш, — сказал граф смеясь, — разрешите вознаградить вас за нее.
Он предложил жене руку и повел ее во двор, где она увидела коляску — подарок своего отца, для которой граф выписал из Англии двух лошадей, доставленных оттуда вместе с лошадьми герцога де Ленонкура. Старик берейтор успел запрячь их, пока шел урок верховой езды. Мы сели в коляску и отправились посмотреть, как идут работы по прокладке аллеи, которая должна была соединить Клошгурд с шинонской дорогой, пройдя напрямик через новые владения г-на де Морсофа. На обратном пути графиня сказала мне с глубокой грустью:
— Я чересчур счастлива, для меня счастье подобно болезни: я чувствую себя подавленной и боюсь, что оно исчезнет, как сон.
Я слишком страстно любил Анриетту, чтобы не ревновать ее, ведь я-то ничего не мог ей преподнести! В своей бессильной ярости я старался придумать, как мне пожертвовать жизнью ради нее. Она спросила, чему следует приписать мою внезапную мрачность, и в ответ я простодушно поведал ей свои мысли; она была тронута ими гораздо больше, чем любым подарком, и, выйдя со мной на крыльцо, постаралась успокоить ласковыми словами мое исстрадавшееся сердце.
— Любите меня так, как любила тетушка, — прошептала она, — ведь это и значит пожертвовать ради меня жизнью! И если я приму этот дар, то буду навеки вашей должницей. Пора было окончить мое вышивание, — продолжала она, возвратясь в гостиную, где я поцеловал ей руку, как бы для того, чтобы скрепить свои клятвы. — Вы, верно, не знаете, Феликс, почему я взялась за это бесконечное вышивание? Мужчины черпают забвение в деловой жизни, хлопоты, суета развлекают их в несчастье, но мы, женщины, не находим у себя в душе опоры, когда нас постигает горе. Вот почему мне надо было побороть страдание каким-нибудь физическим трудом, иначе под гнетом тяжелых мыслей я не могла бы по-прежнему улыбаться детям и мужу. Вышивание спасло меня и от упадка сил, который следует за сильным потрясением, и от болезненной экзальтации. Поднимая и опуская руку через равные промежутки времени, я баюкала свою мысль, и буря, бушевавшая в моей душе, сменялась мерным звуком прибоя. Я подавляла волнение, сообщая свою тайну каждому стежку. Понимаете ли вы меня? Сознаюсь, что, вышивая последний чехол для кресла, я много думала о вас, да, слишком много, мой дорогой! Ведь то, что вы вкладывали в свои букеты, я поверяла узорам, нанесенным на ткань.
Обед прошел весело. Увидев цветы, которые я преподнес ему вместо венка, Жак бросился мне на шею, по-детски радуясь этому вниманию. Графиня сделала вид, что рассердилась на меня за измену. Легко себе представить, с какой милой улыбкой мальчуган подарил матери букет! После обеда мы втроем сели за триктрак; я играл один против супругов де Морсоф, и граф был в превосходном настроении. Наконец, когда стемнело, они проводили меня до дороги, ведущей во Фрапель; стоял один из тех вечеров, которые успокаивают душу, и наши чувства, теряя свою пылкость, становятся лишь еще глубже. Это был неповторимый день в жизни бедной женщины, светлый луч среди мрака, и часто в тяжелые минуты она мысленно возвращалась к нему. В самом деле, уроки верховой езды вскоре стали причиной раздора в семье. Графиня не без основания опасалась для Жака резких выходок отца. Мальчик уже похудел, его прекрасные голубые глаза запали, однако он предпочитал страдать молча, лишь бы не беспокоить свою мать. Я решил помочь ему и посоветовал ссылаться на усталость всякий раз, как граф выйдет из себя, но все было напрасно: пришлось взять учителем верховой езды старика берейтора, хоть граф и сердился, не желая уступать своего ученика. Придирки и сцены возобновились; г-н де Морсоф беспрестанно жаловался на женскую неблагодарность и раз двадцать на дню попрекал жену коляской, лошадьми и ливрейным лакеем. Наконец произошел один из тех случаев, которые особенно раздражают взбалмошных и неуравновешенных людей, вроде г-на де Морсофа: расходы по перестройке Кассина и Реторьера оказались вдвое больше, чем он предполагал, ибо пришлось заново возводить стены и настилать полы. Рабочий, принесший эту весть, к несчастью, сообщил ее не графине, а графу. Начавшаяся ссора понемногу обострилась, ибо ипохондрический нрав г-на де Морсофа, не проявлявшийся уже несколько дней, как бы стремился наверстать упущенное.
В тот день я вышел из Фрапеля в половине одиннадцатого, тотчас же после утреннего завтрака, чтобы вместе с Мадленой нарвать букеты для гостиной. Девочка принесла и поставила на балюстраду террасы две вазы, а я тем временем бродил по окрестным садам в поисках осенних цветов, таких прекрасных, но уже редких. Вернувшись из последнего похода, я не застал на прежнем месте свою маленькую помощницу в кружевной пелеринке и платьице с розовым поясом. Вскоре я заметил ее плачущей в уголке террасы.
— Генерал, — сказала мне Мадлена сквозь слезы, и в ее устах это прозвище говорило о затаенной ненависти к отцу, — генерал бранит маменьку, идите скорее, надо ее защитить.
Я мигом поднялся по лестнице и вбежал в гостиную; ни граф, ни его жена не только не поклонились мне, но даже не заметили моего появления. Услышав исступленные вопли безумца, я поспешил закрыть все двери и тут же вернулся: Анриетта была белее своего белого платья.
— Никогда не женитесь, Феликс! — воскликнул граф, обращаясь ко мне. — Женщины — исчадие ада; самая добродетельная из них способна выдумать зло, даже если его не существовало. К тому же все они дуры набитые!
И полился поток нелепых, бессвязных фраз. Восхваляя свою проницательность, г-н де Морсоф принялся повторять те глупости, которые говорили крестьяне, отказываясь от новых методов в земледелии. Он заявил даже, что был бы вдвое богаче, если бы управлял Клошгурдом без вмешательства жены.
Несправедливо нападая на нее, крича и грубо бранясь, он бегал по гостиной, опрокидывал мебель и натыкался на стены; затем, прервав себя на полуслове, начинал жаловаться, что у него ломит спину, а голова раскалывается и мозг испаряется из черепной коробки, как, впрочем, испаряются из кармана его кровные деньги. Жена разоряет его. Безумец, ведь он же знал, что из тридцати тысяч ливров дохода, которые он получает, г-жа де Морсоф принесла ему более двадцати тысяч! Да и владения герцога и герцогини де Ленонкур, завещанные Жаку, давали около пятидесяти тысяч франков в год. Графиня молча улыбалась, устремив взгляд на небо.
— Да, Бланш, — вскричал он, — вы мой палач, вы меня губите, я вам в тягость! Вы хотите отделаться от меня, вы лживы, лицемерны. И она еще смеется! Знаете ли вы, почему она смеется, Феликс?
Я молчал, опустив голову.
— Эта женщина, — продолжал он, сам отвечая на свой вопрос, — лишила меня счастья, она так же мало принадлежит мне, как и вам, хотя выдает себя за мою жену! Она носит мое имя, но не выполняет ни одной обязанности, налагаемой на нее божескими и человеческими законами, она обманывает и бога и людей. Она взваливает на меня самые тяжелые дела, чтобы я, утомившись, оставлял ее в покое. Я ей не нравлюсь, видите ли, она ненавидит меня и пускает в ход все средства, чтобы пребывать в девственном целомудрии; она доводит меня до безумия этим вынужденным воздержанием, ибо от него кровь ударяет мне в голову. Она подвергает меня нескончаемой муке и при этом считает себя святой и каждый месяц ходит к причастию!
Графиня горько плакала, оскорбленная низостью мужа, и тихо твердила:
— Сударь!.. Сударь!.. Сударь!..
Хотя, слушая графа, я и краснел от стыда за него и за Анриетту, это признание радостно взволновало меня: ведь первая любовь всегда стремится к нравственной чистоте и непорочности.
— Она блюдет свое целомудрие за мой счет, — возмущенно сказал граф.
При этих словах графиня вновь воскликнула:
— Сударь!..
— В чем дело? — спросил он. — Что означает ваш властный тон? Разве не я здесь хозяин? Или вы еще не убедились в этом?
Он вплотную подошел к жене, приблизив к ней свое лицо, похожее на морду белого волка, которое в эту минуту было отвратительно, ибо желтые глаза графа смотрели жадно, словно глаза голодного зверя, увидевшего добычу. Анриетта соскользнула с кресла в ожидании удара, которого, однако, не последовало, и теперь лежала на полу, сломленная, почти без сознания. Граф был ошеломлен, как убийца, в лицо которого брызнула кровь его жертвы. Я взял несчастную женщину на руки, и муж не препятствовал этому, словно считал себя недостойным нести ее; но он пошел вперед, чтобы открыть дверь спальни, смежной с гостиной, — священной обители, куда я ни разу не проникал. Здесь я поставил Анриетту на пол и обнял ее, чтобы она не упала, а г-н де Морсоф снял с кровати покрывало, перину и поудобнее взбил подушки. Затем мы вместе подняли графиню и положили ее на постель. Очнувшись, она жестом попросила расшнуровать ее; г-н де Морсоф отыскал ножницы и разрезал все, что стягивало талию жены; я дал ей понюхать нашатырного спирта, она открыла глаза. Граф вышел скорее пристыженный, нежели огорченный. Два часа прошли в глубоком молчании. Я держал руку Анриетты в своей, и она пожимала мою руку, не в силах произнести ни слова. Время от времени она устремляла на меня взор, и я читал в нем жажду тишины и покоя; потом она приподнялась на кровати и сказала мне на ухо:
— Как он жалок! Если бы вы только знали...
И вновь опустила голову на подушку. Воспоминание о былых невзгодах и только что перенесенное оскорбление вызвало у нее нервную дрожь, которую мне удалось успокоить лишь с помощью магнетизма любви; действие его было мне незнакомо, но интуиция подсказала мне, что надо делать. Я обнял Анриетту за плечи и долго держал ее, крепко и нежно сжимая в объятиях; она же так горестно на меня смотрела, что я не мог побороть слез. Когда нервный припадок прекратился, я привел в порядок ее рассыпавшиеся волосы, — это был первый и последний раз, что я прикасался к ним; затем опять взял ее руку и погрузился в созерцание этой комнаты, выдержанной в серо-коричневых тонах; простая кровать с ситцевыми занавесками, туалетный столик, накрытый старомодным покрывалом, плохонький диван со стеганым тюфяком — вот и все ее убранство. Но сколько поэзии было в этом убежище! Какое пренебрежение к роскоши чувствовалось во всем! Ведь единственной роскошью спальни Анриетты была ослепительная чистота. Поистине, она походила на келью замужней монахини, исполненной святого смирения! Здесь не было никаких украшений, кроме распятия в головах кровати и портрета тетушки-графини над ним; да еще по обеим сторонам кропильницы висели на стене портреты Жака и Мадлены, нарисованные самой Анриеттой, с прядями волос, срезанных, когда дети были совсем маленькими. Какая скромная обитель для добровольной затворницы, которая затмила бы в высшем свете самых прославленных красавиц! Здесь лила слезы наследница знатнейшего рода, которая безутешно скорбела в эту минуту, и все же отвергала любовь, сулившую ей утешение. Затаенное непоправимое горе! Слезы жертвы над палачом и слезы палача над жертвой! Когда к графине пришли дети и Манетта, я вышел из спальни. Граф ждал меня в гостиной: он уже признавал мою роль посредника в своих отношениях с женой; схватив меня за руки, он воскликнул:
— Не уходите, Феликс, прошу вас!
— К несчастью, у господина де Шесселя сегодня гости, — ответил я, — неудобно, если они станут доискиваться причины моего отсутствия; но после обеда я вернусь.
Г-н де Морсоф в полном молчании проводил меня до входной двери, а затем, не сознавая, что делает, дошел со мной до Фрапеля. Прощаясь с ним, я сказал:
— Во имя всего святого, граф, предоставьте госпоже де Морсоф руководить хозяйством, если ей это нравится, и не мучьте ее больше.
— Мне немного осталось жить, — заметил он мрачно, — ей не придется долго страдать из-за меня; я чувствую, что голова моя раскалывается.
После этих эгоистических слов он оборвал разговор и тут же ушел. Пообедав во Фрапеле, я вернулся в Клошгурд: мне не терпелось справиться о здоровье г-жи де Морсоф, которой, к счастью, стало лучше. Если таковы были для бедной женщины радости гименея, если подобные сцены часто повторялись, оставалось только удивляться, что она еще жива. Ведь это была не жизнь, а медленное безнаказанное убийство! В тот вечер я понял, каким невероятным мукам граф подвергает жену. Перед каким судом искать защиты от подобных злодеяний? Я был ошеломлен, растерян и ничего не сумел сказать Анриетте, зато провел всю ночь за письмом к ней. Из трех-четырех черновиков, которые я набросал, у меня сохранилось это неоконченное письмо, которое тоже не понравилось мне тогда. Но хотя мне и казалось, что я ничего не сумел выразить в нем или слишком много говорил о себе вместо того, чтобы думать только о ней, вы поймете, прочтя его, в каком душевном состоянии я находился в ту пору.
Госпоже де Морсоф
«Как много мне хочется вам сказать, когда я иду в Клошгурд; я обдумываю свои слова по дороге, но все забываю, как только вижу вас. Да, увидев вас, дорогая Анриетта, я понимаю, что мои речи недостойны души, которая светится в ваших чертах, одухотворяя их красоту; к тому же я испытываю подле вас такое безграничное счастье, что оно затмевает все мои прошлые чувства. Всякий раз я рождаюсь для иной, более значительной жизни и бываю похож на путника, который при подъеме на высокий утес открывает все новые и новые горизонты. При каждом разговоре с вами к моим несметным сокровищам прибавляется новое сокровище. В этом, мне кажется, кроется тайна всякой длительной, постоянной, неистощимой привязанности. Итак, я могу говорить о вас лишь с самим собой. В вашем присутствии я так ослеплен вами, что ничего не вижу вокруг, так счастлив, что не вдумываюсь в свое счастье, так полон вами, что перестаю быть самим собой, так опьянен вашими словами, что теряю дар речи, так увлечен настоящим, что забываю о прошлом. Поймите же это упоение чувств и не сердитесь на меня за недомолвки. Подле вас я могу жить лишь жизнью сердца. И все же я решаюсь вам признаться, дорогая Анриетта, что никогда я не знал такого блаженства, как вчера: ведь после ужасной бури, во время которой вы с великим мужеством боролись против зла, вы нашли прибежище только в моем сердце; когда вы лежали обессиленная в полумраке вашей спальни, куда привела меня эта злосчастная сцена, мне одному было дано познать, каким светом может сиять женская душа, если, побывав у порога смерти, страдалица возвращается к жизни и заря обновления освещает ее чело. Как мелодичен был ваш голос! Как ничтожны казались мне слова, даже ваши слова, когда в вашем обожаемом голосе отзвуки пережитой муки смешивались с ангельской лаской, которой вы наконец успокоили меня, обратив ко мне свои первые мысли. Я знал вас во всем земном блеске, но вчера я увидел новую Анриетту, которая была бы моей, если бы этого пожелал бог. Да, вчера я увидел женщину, освобожденную от телесных пут, сковывающих полет нашей души. Ты была так хороша в своем изнеможении, так величественна в своей слабости! Вчера я открыл нечто более прекрасное, чем твоя красота, нечто более сладостное, чем твой голос, я нашел свет более яркий, чем сияние твоих глаз, я ощутил аромат, для описания которого нет слов на человеческом языке: вчера твоя душа стала зримой и осязаемой для меня. Как я страдал оттого, что не умел открыть тебе своего сердца и показать, какое место ты занимаешь в нем! Наконец вчера я освободился от почтительного страха, который ты внушаешь мне. Ведь твой обморок сблизил нас, не правда ли? И, видя, что ты пришла в себя, я понял, что значит дышать, если дышишь вместе с тобой. Сколько молитв вознес я к всевышнему! Если я не умер, когда моя душа, устремляясь к богу, молила не отнимать у меня любимой, значит, ни горе, ни радость не могут убить человека. Эти мгновения навсегда запечатлелись в моей памяти, и я знаю, всякий раз, как они будут возникать передо мной, мои глаза увлажнятся слезами; каждая радость углубит след, оставленный ими, каждое горе вызовет их с новой силой. Да, смертельная тревога, охватившая меня вчера, послужит мерилом всех грядущих страданий, а радости, которые ты принесла мне, моя путеводная звезда, затмят все радости, какие дарует мне когда-либо десница всевышнего. Ты дала мне познать незыблемую божественную любовь, чуждую подозрений и ревности, ибо она уверена в своей силе и не страшится измен».
Глубокое уныние охватило меня, ибо зрелище этой семейной драмы надрывало мое неискушенное сердце, незнакомое с изнанкой общественной жизни; как тяжело было увидеть эту пропасть при своем вступлении в общество, бездонную пропасть, застывшее мертвое море. Невзгоды графини навели меня на нескончаемые размышления, и, совершая свои первые шаги в свете, я всегда обращался к этому великому образцу, рядом с которым все остальное казалось ничтожно, мелко. Видя мою грусть, супруги де Шессель решили, что мне не повезло в любви, и моя страсть, к счастью, ничем не повредила репутации моей дорогой, возвышенной Анриетты...
Когда на следующий день я вошел в гостиную, графиня была там одна; она внимательно посмотрела на меня и, протягивая мне руку, спросила:
— Итак, мой друг неисправим? Он по-прежнему слишком нежен?
Глаза ее наполнились слезами, она встала и проговорила со страстной мольбой:
— Никогда не пишите мне больше с таким чувством!
Г-н де Морсоф был предупредителен со мной. Графиня вновь обрела мужество и ясность духа; однако ее бледность говорила о пережитых страданиях, которые утихли, хотя и не миновали. Гуляя со мной вечером по аллее, где сухие осенние листья шуршали у нас под ногами, она сказала:
— Скорбь безгранична, радость имеет пределы.
Эти слова выдали ее тайные мысли, ибо она сравнивала свою постоянную муку с мимолетными проблесками счастья.
— Не клевещите на жизнь, — возразил я, — вы не знаете любви: она дает блаженство, которое возносит душу на небеса.
— Замолчите, — молвила она, — я ничего не хочу знать о любви. Переселившись в Италию, житель Гренландии не вынесет южного климата! Я спокойна и счастлива подле вас, я говорю вам все, что думаю, не подрывайте же моего доверия! Почему вы не можете быть добродетельны, как священник, и сохранять при этом обаяние светского человека?
— Вы заставили бы меня выпить даже кубок цикуты, — сказал я, прижимая ее руку к своему неистово бьющемуся сердцу.
— Вы опять за свое! — воскликнула Анриетта и отдернула руку, словно почувствовала острую боль. — Неужели вы хотите лишить меня печальной радости, какую вы мне даете, врачуя дружеской рукой раны моего сердца? Не умножайте же моих страданий: они не все вам известны! Ведь затаенные муки всего труднее переносить. Будь вы женщиной, вы поняли бы, какая глубокая скорбь овладевает душой, когда супруг оказывает тебе внимание, которым думает все исправить, но не исправляет ничего. В течение нескольких дней он будет ухаживать за мной, чтобы загладить свою вину. Стоит мне пожелать тогда, и он исполнит мои самые сумасбродные прихоти. Я горда, и меня оскорбляют эти любезности, ведь он отказывается от них в тот день, когда полагает, что я все простила. Пользоваться благосклонностью своего повелителя как выкупом за его ошибки...
— Нет, преступления! — подхватил я с живостью.
— Что за ужасная жизнь! — продолжала она с печальной улыбкой. — К тому же я не умею извлекать выгоду из своей временной победы, подобно рыцарям, которые никогда не наносили ударов побежденному противнику. Видеть поверженным того, кого мы обязаны уважать, помогать ему подняться и получать за это лишь новые удары, страдать больше, чем он, от его унижения, испытывать укоры совести, если воспользуешься своим мимолетным влиянием, растрачивать силы, расточать сокровища души в этой недостойной борьбе, властвовать лишь тогда, когда получаешь смертельные раны... Нет, лучше умереть! Если б у меня не было детей, я безвольно покорилась бы течению жизни; но что станется с ними, если я потеряю мужество? Я должна жить ради них, как бы тяжела ни была моя жизнь. Вы говорите мне о любви?.. Подумайте, мой друг, в какой ад я попаду, если дам право презирать себя этому человеку, безжалостному, как все слабые люди? Я не вынесу его укоров. Безупречное поведение — моя единственная опора. В добродетели, дорогое дитя, я черпаю силу, которая поддерживает меня, и, преисполнившись благодати, моя душа устремляется к богу!
— Послушайте, дорогая Анриетта, до моего отъезда осталось не более недели, и я хочу...
— Неужели вы скоро покинете нас? — спросила она, прерывая меня.
— Но ведь должен же я узнать, как распорядился моей судьбой батюшка? Вот уже скоро три месяца...
— Я не вела счета дням, — ответила она, не пытаясь скрыть свое волнение.
Она помолчала, как бы собираясь с мыслями, и предложила:
— Давайте погуляем. Идемте во Фрапель.
Анриетта, обычно такая спокойная, неторопливая, проявила нервную суетливость парижанки, она позвала графа, детей, велела принести шаль, и, когда все было готово, мы отправились все вместе с визитом, который графиня вовсе не должна была отдавать. Во Фрапеле она постаралась казаться веселой и вступила в беседу с г-жой де Шессель, которая, к счастью, отвечала очень пространно на вопросы Анриетты. Граф и г-н де Шессель заговорили о своих делах. Я опасался, как бы г-н Морсоф не стал расхваливать свой новый выезд, но на этот раз он проявил безупречный такт. Когда разговор зашел о работах, начатых в Кассине и Реторьере, я взглянул на графа, полагая, что он побоится затрагивать столь щекотливую тему, связанную для него с тягостными воспоминаниями; однако он стал доказывать, что необходимо срочно улучшить положение сельского хозяйства в округе, построить фермы с просторными и удобными помещениями, словом, хвастливо приписал себе все идеи жены. Я смотрел на графиню, краснея от стыда за него. Это отсутствие чуткости у человека, который бывал иногда столь деликатен, эта странная забывчивость, это присвоение чужих идей, которые он еще недавно яростно оспаривал, эта самоуверенность ошеломили меня.
И когда г-н де Шессель спросил у него:
— Надеетесь ли вы вернуть свои затраты?
— Верну, и с лихвой! — убежденно сказал граф.
Столь резкие переходы можно было объяснить лишь словом «безумие». Анриетта, эта ангельски кроткая душа, сияла. Разве граф не казался в эту минуту практичным, здравомыслящим человеком, хорошим хозяином, прекрасным агрономом? И она с улыбкой гладила по головке Жака, радуясь за себя, радуясь за своего сына! Какая чудовищная комедия, какая нелепая драма! Это зрелище потрясло меня. Впоследствии, когда поднялся занавес, скрывавший от меня сцену социальной жизни, сколько я увидел других Морсофов, у которых не было ни проблесков чистосердечия, ни набожности графа. Что за непонятная и злобная сила неизменно соединяет безумца с ангелом, чуткого, искренне любящего человека с дурной женщиной, коротышку с жердью, урода с прекрасным, возвышенным созданием, благородную Хуану[36] с капитаном Диаром, историю которых вы слышали в Бордо, г-жу де Босеан[37] с каким-нибудь Ажуда, г-жу д'Эглемон[38] с ее супругом, маркиза д'Эспар[39] с его женой? Признаюсь, я долго доискивался смысла столь странного явления. Я исследовал много тайн, я открыл значение некоторых естественных законов, смысл иных божественных иероглифов, но перед этой загадкой я теряюсь, я все еще раздумываю над ней, словно решаю индусскую головоломку, символическое построение которой известно одним браминам. Здесь слишком явно господствует дух зла, однако я не смею обвинять бога. Кто забавляется, создавая эти безвыходные положения? Неужели права Анриетта со своим Неведомым философом? Неужели их мистицизм открывает нам общий смысл жизни?
Под конец моего пребывания в Турени осень вступила в свои права, деревья облетели, серые облака заволокли небо, всегда такое ясное и теплое у нас в это чудесное время года. Накануне моего отъезда г-жа де Морсоф увела меня перед обедом на террасу.
— Дорогой Феликс, — сказала она после того, как мы в полном молчании несколько раз прошлись под унылыми, голыми деревьями, — вы вступаете в свет, и я хочу мысленно сопутствовать вам. Тот, кто много страдал, много прожил. Не думайте, что, оставаясь в одиночестве, люди ничего не знают о свете; они умеют судить о нем. Если мне предстоит жить жизнью моего друга, я хочу быть уверенной в его сердце, в чистоте его совести; в пылу битвы трудно помнить обо всех правилах борьбы. Позвольте же мне дать вам несколько советов, какие мать дала бы своему сыну. В день вашего отъезда, дорогое дитя, я вручу вам длинное письмо, где вы найдете мои размышления о людях, о свете, о том, как следует преодолевать препятствия в этом огромном водовороте корыстных интересов. Но обещайте мне прочесть его только в Париже. Пусть не удивляет вас эта просьба: женское сердце имеет свои причуды. Их не так уж трудно понять, но нам не хочется порой, чтобы нас разгадали. Не ходите же за мной по тем тропинкам, где женщина любит прогуливаться одна.
— Хорошо, — проговорил я, целуя ее руки.
— Да, вот еще что! — продолжала она. — Я хочу потребовать от вас клятвы, обещайте заранее, что дадите ее.
— Обещаю, — сказал я, думая, что она говорит о верности.
— Речь идет не обо мне, — заметила она с горькой усмешкой. — Никогда не играйте в азартные игры, Феликс, я не делаю исключения ни для одной светской гостиной.
— Я никогда не буду играть, — сказал я.
— Хорошо. Я нашла для вас более полезное занятие, нежели игра. Вот увидите, там, где другие рано или поздно окажутся в проигрыше, вы неизменно будете выигрывать.
— Каким образом?
— Письмо вам все откроет, — ответила она весело, и благодаря этому тону ее советы звучали не так торжественно, как звучат обычно советы старших.
Графиня беседовала со мной около часа и доказала мне глубину своей привязанности, обнаружив, как тщательно она изучила мой характер за последние три месяца; она проникла в самые потайные уголки моего сердца, озарив их светом материнской любви; ее голос звучал проникновенно, убедительно, а смысл и тон слов говорил о том, как крепки связывавшие нас узы.
— Если бы вы знали, — сказала она в заключение, — с какой тревогой я буду мысленно следовать за вами, как буду радоваться, если вы пойдете прямой дорогой, сколько слез пролью, если вы пораните себе ноги об острые камни! Верьте, моя привязанность к вам не имеет себе равной: она непроизвольна и вместе с тем разумна. Мне так хочется видеть вас счастливым, могущественным, окруженным почетом, ведь вы будете для меня как бы воплощенной мечтой!
Я не мог слушать ее без слез. Анриетта была одновременно нежна и неумолима; ее чувство смело обнаруживало себя, но оно было слишком чисто, чтобы дать хоть малейшую надежду юноше, жаждавшему наслаждения. В обмен на мою мучительную страсть она, не скупясь, дарила мне свою непорочную святую любовь, которая могла насытить лишь душу. Она возносилась на такую высоту, куда я не мог следовать за ней на огненных крыльях желания, от которого на том памятном балу помутился мой разум; дабы приблизиться к ней, мужчине следовало обрести белые крылья серафима.
— Я постоянно буду думать: «А что сказала бы моя Анриетта?» — заверил я ее.
— Хорошо, я буду для вас звездой и алтарем, — проговорила она, намекая на мои детские грезы и пытаясь осуществить их, чтобы обмануть мои желания.
— Вы будете моей верой и моим светочем, вы будете всем для меня! — воскликнул я.
— Нет, я не могу быть для вас источником наслаждений.
Она вздохнула, и на ее губах промелькнула улыбка, выдававшая тайную боль: так улыбается внезапно взбунтовавшаяся рабыня.
С этого дня она стала для меня не только возлюбленной, но и великой любовью; она не только пленила меня, как женщина, которая покоряет нас своей преданностью или страстью, нет, она заполонила мое сердце целиком, и отныне каждое его биение было нераздельно связано с ней; она стала для меня тем, чем была Беатриче[40] для флорентийского поэта и безупречная Лаура для поэта венецианского[41] — матерью великих мыслей, скрытой причиной спасительных поступков, опорой в жизни, светом, что сияет в темноте, как белая лилия среди темной листвы. Она подсказала мне те возвышенные решения, которые помогают предотвратить пожар и спасти обреченное на гибель дело; она наделила меня стойкостью доблестного Колиньи[42], научив побеждать победителей, подниматься после поражения и брать измором самых выносливых противников.
На следующий день я позавтракал во Фрапеле и, простившись с любезными хозяевами замка, столь снисходительными к эгоизму моей любви, пришел в Клошгурд. Супруги де Морсоф собирались проводить меня до Тура, откуда я должен был выехать ночью в Париж. Во время пути графиня была ласкова и молчалива; сперва она сослалась на мигрень, затем, покраснев от этой лжи, внезапно опровергла свои слова, признавшись, что ей жаль со мной расставаться. Граф пригласил меня приезжать в Клошгурд всякий раз, как в отсутствие Шесселей мне захочется побывать в прекрасной долине Эндра. Мы расстались мужественно, без видимых слез. Но Жак вдруг задрожал, как это случается порой с болезненными детьми, и из глаз его брызнули слезы; Мадлена держалась стойко, как маленькая женщина, и только сжимала руку матери.
— Бедный мальчик! — воскликнула графиня, порывисто целуя сына.
Когда я очутился в Туре и пообедал в одиночестве, меня охватил приступ странного неистовства, свойственного только юности. Я нанял лошадь и за час галопом прискакал из Тура в Пон-де-Рюан. Затем, стыдясь своего безумия, я побежал пешком по знакомой дороге и, крадучись, как вор, приблизился к террасе Клошгурда. Графини там не было, я вообразил, что она заболела; у меня был с собой ключ от калитки, и я вошел в сад; Анриетта как раз вышла из дома с детьми, чтобы насладиться тихой грустью, какой бывает овеяна природа в час заката; она шла медленно, вид у нее был печальный.
— Матушка, Феликс вернулся! — молвила Мадлена.
— Да, вернулся, — сказал я на ухо Анриетте. — Я подумал, зачем мне оставаться в Туре, когда так легко еще раз увидеть вас! И почему не исполнить это желание, ведь через неделю его уже нельзя будет осуществить!
— Он не уехал, матушка! — вскричал Жак, прыгая от радости.
— Да замолчи же ты, — заметила Мадлена, — не то тебя услышит генерал и придет сюда!
— Вы неблагоразумны, — прошептала Анриетта, — вы с ума сошли!
О, этот мелодичный голос, дрожащий от слез!.. Какое вознаграждение за поступок, который следовало бы назвать корыстным расчетом в любви.
— Я забыл вернуть вам ключ, — проговорил я, улыбаясь.
— Так, значит, вы больше не приедете сюда?
— А разве мы расстаемся? — спросил я, смотря на нее, и под моим взглядом она опустила глаза, чтобы скрыть свой молчаливый ответ.
Я ушел через несколько минут, проведенных в счастливом полусне, в который погружается душа на грани между восторженной радостью и любовным экстазом. Я удалялся медленным шагом, беспрестанно оборачиваясь. Когда я поднялся на плоскогорье и в последний раз взглянул на долину, меня поразил контраст с тем, что я видел здесь три месяца тому назад. Тогда долина цвела и зеленела, возрождаясь с приходом весны, как возрождались мои надежды и желания. Теперь я был посвящен в мрачную семейную тайну, я разделял скорбь этой христианской Ниобеи и, печальный, как она, удрученный тяжелыми думами, находил, что вся природа грустит вместе со мной. Поля лежали голые, тополя осыпались, листья, еще дрожавшие на ветвях, словно покрылись ржавчиной; виноградные лозы, обожженные солнцем, торчали, как коряги; сень лесов напоминала бурой окраской мантию прежних королей, скрывавшую пурпур власти под темным покровом — символом печалей. И снова в согласии с моим настроением долина, где догорали желтоватые лучи осеннего солнца, показалась мне живым олицетворением моей души. Разлука с любимой для одних мучительна, для других легка, в зависимости от характеров; я же оказался как бы в чужой стране, языка которой не знал; ничто больше не привлекало меня, кругом были только безразличные мне люди и вещи. Тут я постиг всю глубину моей любви, и образ ненаглядной Анриетты предстал передо мной во всем своем величии среди пустыни, где я жил только воспоминанием о ней. Я так свято чтил ее, что решил оставаться незапятнанным перед лицом своего тайного божества и облекся духовно в белые одежды левитов, подражая Петрарке, который являлся перед Лаурой не иначе, как с головы до ног одетый в белое. С каким нетерпением ждал я той минуты, когда, возвратясь под отчий кров, прочту наконец письмо, которое я прижимал к груди с жадностью скряги, ощупывающего в кармане пачку банковых билетов. Ночью я целовал конверт, скрывавший наставления Анриетты, эту таинственную эманацию ее воли, целовал незримые слова, начертанные ее рукой: ведь прочтя их, я мысленно услышу любимый голос, и он зазвучит в сосредоточенном молчании моей души. Да, я всегда читал ее письма так же, как прочел это первое письмо, — лежа в постели среди ночной тишины; не понимаю, как можно иначе читать письма, написанные возлюбленной; однако встречаются недостойные любви мужчины, которые примешивают к таким письмам дневные заботы и то откладывают их, то вновь принимаются за чтение с отвратительным безразличием. И вот, Натали, в ночном безмолвии раздался чудесный голос, и предо мной предстал возвышенный образ моей Анриетты, указавшей мне путь на том перекрестке, где я находился.
«Какое счастье, мой друг, — писала она, — собирать одну за другой крупицы моего опыта, чтобы вооружить вас против опасностей светской жизни, среди которых вам придется умело вести свою ладью! Я испытала дозволенные радости материнской любви, посвятив несколько бессонных ночей заботам о вашей судьбе. Я писала фразу за фразой это письмо, мысленно переносясь в ту жизнь, которая вас ожидает, а иногда подходила к окну своей спальни. При виде башен Фрапеля, озаренных луной, я говорила себе: «Он спит, а я бодрствую ради его блага». Это было восхитительное ощущение, напомнившее мне первые счастливые минуты в жизни, когда я любовалась Жаком, уснувшим в колыбели, и ждала его пробуждения, чтобы дать ему грудь. Разве вы не дитя, которое надо поддержать, внушив ему некоторые правила, ведь вы были лишены этой духовной пищи в отвратительных коллежах, где вам столько пришлось выстрадать! Кому же, как не женщине, надлежит протянуть вам руку помощи? Поверьте, многие мелочи влияют на успех в свете, они подготовляют и обеспечивают его. Не будет ли духовным материнством, если я передам свой жизненный опыт мужчине, который станет руководствоваться им в своих поступках? Даже если мне случится высказать здесь ошибочные суждения, разрешите мне, дорогой Феликс, придать нашей дружбе то бескорыстие, которое должно освятить ее: разве, отпуская вас в Париж, я не отказываюсь от вас? Но я так сильно люблю вас, что готова пожертвовать своими радостями ради вашего прекрасного будущего. Вот уже скоро четыре месяца, как я постоянно размышляю из-за вас о законах и нравах нашей эпохи. Беседы с моей тетушкой, ее мысли, которыми я делюсь с вами по праву, ибо вы заменяете ее подле меня, события из жизни г-на де Морсофа, слова моего батюшки, прекрасно знакомого с королевским двором, самые важные и самые незначительные обстоятельства — все это сразу всплыло у меня в памяти, чтобы послужить на пользу моему приемному сыну, который вступает в свет почти в полном одиночестве и собирается путешествовать без проводника по стране, где иные гибнут, безрассудно проявив свои хорошие качества, а другие преуспевают, умело пользуясь своими пороками.
Прежде всего выслушайте мое мнение об обществе в целом, я излагаю вам его вкратце, ибо вы поймете меня с полуслова. Мне неизвестно, божественного ли происхождения общество или оно создано человеком, мне неведомы также пути его развития; единственное, что достоверно, — это его существование. Стоит вам приобщиться к жизни общества вместо того, чтобы жить в уединении, и вам придется принять условия, в которые оно вас поставит: между обществом и вами будет как бы заключен контракт. Получает ли современное общество от человека больше, нежели дает ему? Да, вероятно. Не ждет ли человека в обществе больше обязанностей, чем привилегий, не покупает ли он слишком дорогой ценой получаемые преимущества? Эти вопросы касаются законодателя, а не отдельной личности. По-моему, вы должны безропотно подчиниться общему для всех закону, даже если он ущемляет ваши интересы. Каким бы простым ни казался этот принцип, применить его не так-то легко: он похож на живительный сок, который должен проникнуть в мельчайшие капилляры фруктового дерева, и тогда крона зазеленеет, цветы разовьются и появятся такие прекрасные плоды, что они вызовут всеобщее восхищение. Не все законы, дорогой, занесены в книги; нравы и обычаи тоже создают законы, и самые важные из них менее всего известны. Для этого кодекса не существует ни законоведов, ни трактатов, ни школ, хотя вы подчиняетесь ему во всем — в поступках, словах, жизни, в том, как вы ведете себя в свете или добиваетесь успеха. Стоит нарушить эти неписаные законы, чтобы остаться внизу социальной лестницы, вместо того, чтобы подняться на ее верхнюю ступень. Пусть даже вы встретите в этом письме много общих мест, позвольте мне все же изложить вам мои женские правила.
Тот, кто руководствуется теорией личного благополучия, ловко завоеванного за счет других, впадает в роковую ошибку и неизбежно приходит к выводу, что все блага, приобретенные им негласно, в обход законов, принадлежат ему по праву, хотя он и наносит этим ущерб обществу или отдельной личности. Согласно этой доктрине, искусный вор подлежит оправданию, женщина, тайно нарушившая долг, пользуется уважением и счастьем. Убейте человека, но так, чтобы в руках правосудия не было ни одного доказательства этого злодеяния, и ваш поступок будет считаться прекрасным, если он принесет вам корону, вроде короны Макбета. Ваши интересы становятся, таким образом, высшим законом, и вся трудность заключается лишь в том, чтобы преодолеть без свидетелей и улик те препятствия, которые нравы и законы ставят между вами и вашими желаниями. Для того, кто рассматривает общество с этой точки зрения, вопрос о карьере, мой друг, сводится к участию в азартной игре, где на карту поставлены миллион или каторга, высокий политический пост или бесчестье. Да вдобавок за карточным столом не хватает места для всех игроков, и надо обладать незаурядной ловкостью, чтобы сделать свой ход. Я не говорю с вами ни о вере, ни о чувствах; здесь речь идет о пружинах неумолимой машины, действие которой только и интересует людей. Дорогое дитя моего сердца, если вы разделяете мое отвращение к этой преступной теории, то примените к обществу, как и все здоровые духом люди, лишь теорию долга. Да, все члены общества имеют тысячи различных обязанностей друг перед другом. По-моему, герцог и пэр гораздо больше обязаны ремесленнику и бедняку, чем бедняк и ремесленник обязаны герцогу и пэру. Чем больше преимуществ предоставляет человеку общество, тем серьезнее должны быть и его обязанности, причем этот принцип одинаково справедлив и в торговле и в политике, где размер получаемой выгоды зависит от количества затраченного труда. Каждый платит свой долг обществу как он может. Разве не исполнил свой долг наш фермер из Реторьера, когда он отходит ко сну после тяжких трудов? Несомненно, он лучше исполнил его, чем многие высокопоставленные лица. Рассматривая с этой точки зрения общество, где вы желаете занять место, достойное вашего ума и способностей, вы должны твердо держаться следующего принципа: никогда не поступаться ни своей совестью, ни интересами общества. Хотя моя настойчивость может показаться излишней, я умоляю вас, да, ваша Анриетта умоляет вас хорошенько вдуматься в смысл ее слов. Это правило, столь простое с виду, означает, дорогой, что такие качества, как прямота, честь, верность и учтивость, приведут вас к успеху наиболее прямым и надежным путем. Вы не раз услышите в этом эгоистическом мире, что чувства мешают карьере, что слишком строгое соблюдение правил нравственности замедляет продвижение вперед. Вы встретите людей наглых, невежественных и недальновидных, которые обижают простого человека, грубят пожилой женщине и отталкивают какого-нибудь славного старика, считая, что никто из них им никогда не пригодится, а позже вы замечаете, что эти люди укололись о шипы, которые вовремя не сумели обломать, и погубили свою будущность из-за пустяков. Между тем человек, смолоду усвоивший принцип долга, не встретит препятствий в обществе; быть может, он не очень быстро добьется удачи, но его положение будет прочным, и он сохранит его в то время, как другие скатятся вниз!
Если я скажу вам, что применение этой теории требует прежде всего светских манер, вы подумаете, пожалуй, что в моих наставлениях слишком чувствуется влияние королевского двора и воспитания, полученного мной в семействе Ленонкуров. Да, мой друг, я придаю огромное значение этой науке, хотя она и кажется маловажной. Привычка вращаться в высшем обществе столь же необходима, как и обширные, разнообразные знания, которыми вы обладаете, и она нередко заменяла людям образование. Так, иные светские невежды, наделенные природным умом и сообразительностью, достигли высот, недоступных другим, более достойным, чем они. Я хорошо изучила вас, Феликс, ибо мне хотелось знать, не испортила ли школа ваших дарований. Одному богу известно, с какой радостью я увидела, как легко вам приобрести то немногое, чего вам еще недостает! Некоторые люди, получившие светское воспитание, имеют лишь внешний лоск, ибо истинная учтивость и приятные манеры порождаются сердечностью и чувством собственного достоинства. Вот почему, несмотря на прекрасное воспитание, многие дворяне не умеют держать себя, а иные выходцы из буржуазной среды обладают прирожденным тактом и после нескольких уроков светского обхождения приобретают превосходные манеры. Поверьте несчастной женщине, которая никогда не покинет пределов своей долины, это благородство, эта милая простота в разговоре, манерах, поступках и даже в обстановке дома составляет как бы поэзию внешней жизни, и обаяние ее неотразимо; судите же о ее могуществе, когда она исходит прямо от сердца! Учтивый человек, дорогой мой, как бы забывает о себе ради других; однако у многих людей учтивость чисто напускная и спадает, точно маска, едва ущемленный эгоизм покажет свои коготки, и тогда великие мира сего становятся отвратительны. Но я хочу, чтобы вы были иным, Феликс! Истинная учтивость — цветок милосердия, в ней заключена идея христианства, которая побуждает человека поистине забывать о себе. В память Анриетты не будьте подобны иссякшему источнику, вдохните жизнь в застывшую форму! Не бойтесь оказаться жертвой этой социальной добродетели; рано или поздно вы соберете урожай, который принесут зерна, якобы брошенные вами на ветер. Мой батюшка заметил как-то, что человек, из учтивости дающий пустые обещания, лишь оскорбляет просителей. Если вас попросят о чем-нибудь, чего вы не можете сделать, откажите наотрез, не внушая ложных надежд; и наоборот, дайте не мешкая то, что вы в состоянии даровать; это облагородит ваш характер, и, приобретя, кроме того, репутацию человека слова, вы высоко подниметесь в глазах общества. Мне кажется, на нас больше гневаются за обманутую надежду, нежели бывают нам благодарны за оказанную милость. А главное, мой друг, — эти тонкости я прекрасно изучила, а потому могу с уверенностью говорить о них, не будьте ни доверчивы, ни банальны, ни чересчур ревностны, избегайте этих трех подводных камней! Слишком большая доверчивость понижает почет, которым мы пользуемся, банальность навлекает на нас презрение, излишнее рвение дает повод помыкать нами. Кроме того, дорогое дитя, в жизни у вас будет не больше двух-трех друзей, и ваше полное доверие принадлежит им по праву; не значит ли предавать их, открывая свою душу многим? Даже если вы близко сойдетесь с некоторыми людьми, будьте с ними сдержанны, говорите поменьше о себе, словно им суждено стать вашими соперниками, противниками или врагами: в жизни бывают всякие случайности. Итак, не будьте ни слишком холодны, ни слишком горячи, сумейте найти золотую середину, ибо, придерживаясь ее, вы никогда себя не скомпрометируете. Поверьте, воспитанный человек должен быть так же далек от трусливой снисходительности Филинта, как и от суровой добродетели Альцеста[43]. Талант писателя вызвал к жизни подлинные характеры, которые поражают своей правдивостью понимающих зрителей. Конечно, зрители будут скорее сочувствовать смешным сторонам добродетели, чем глубочайшему презрению, скрытому под добродушием эгоиста, но они сумеют уберечься от обеих крайностей. Что касается банальности, то она может привлечь к вам сердца нескольких простаков, которые найдут, что вы очаровательны; но люди, привыкшие наблюдать и оценивать человеческие достоинства, заметят ваш недостаток, и вы быстро упадете в их глазах, ибо банальность — прибежище слабого. Слабых же, к сожалению, общество презирает, видя в каждом из своих членов лишь ту пользу, которую из него можно извлечь; впрочем, оно, быть может, право: ведь сама природа осуждает на смерть несовершенные существа. И склонность женщины покровительствовать слабым, вероятно, объясняется той радостью, с какой она борется против слепой силы и добивается торжества разума и сердца над грубой материей. Но общество скорее похоже на мачеху, чем на мать: оно любит лишь детей, которые льстят его тщеславию. Что до рвения, этой главной и благороднейшей ошибки молодости, которая испытывает подлинную радость, проявляя свои силы, и сначала сама себя обманывает, а потом бывает обманута другими, приберегите его для тех, кто может вознаградить вас, приберегите свое рвение для женщины и для бога. Не выставляйте на ярмарке жизни сокровища своего сердца, не вкладывайте их в политические интриги, ибо вы получите взамен лишь побрякушки. Повинуйтесь голосу той, кто велит вам всегда поступать благородно и не растрачивать себя попусту, ибо людей интересуют не ваши достоинства, а лишь польза, которую вы можете им принести. Говоря языком образов, близким вашей поэтической натуре, даже огромных размеров цифра, будь она начертана карандашом или выведена золотом, останется только цифрой. Как сказал один из наших современников: «Поменьше усердия!»[44] Усердие граничит с глупостью, оно приносит разочарование; вы никогда не встретите в высоких сферах пламя, соответствующее вашему горению: короли, как и женщины, считают, что ублажать их — ваша обязанность. Как ни горек этот принцип, он справедлив, но не впадайте в отчаяние. Вложите свои чистые чувства в область, недоступную пошлости, где их цветы вызовут страстные восторги ценителя, где художник будет влюбленно грезить о совершенном произведении искусства. Долг, дорогой мой, не имеет ничего общего с чувством. Делать то, что обязан, не значит делать то, что хочешь. Мужчина должен хладнокровно пожертвовать жизнью ради родины, но может с восторгом отдать ее любимой женщине. Одно из важнейших правил поведения — поменьше говорить о себе. Попробуйте как-нибудь разыграть комедию и, находясь среди людей неискушенных, говорить с ними только о своей особе; рассказывайте им о своих страданиях, удовольствиях, делах, и вы скоро увидите, как притворный интерес сменится безразличием, затем скукой, и если хозяйка дома вежливо не прервет потока вашего красноречия, гости понемногу отойдут от вас под всякими благовидными предлогами. Но если вы захотите привлечь на свою сторону все симпатии, прослыть человеком любезным, остроумным и надежным, говорите с людьми о них самих, найдите способ выставить их в выгодном свете, даже затронув вопросы, якобы им чуждые; и тотчас же морщины на лбу разгладятся, лица расцветут улыбками, и после вашего ухода все станут наперебой расхваливать вас. Совесть и внутренний голос подскажут вам границу между угодливой лестью и любезностью. Еще одно замечание об искусстве вести беседу. Мой друг, молодежь склонна высказывать необдуманные суждения, эта горячность делает ей честь, но и приносит вред; вот почему в прежнее время молодых людей, изучавших жизнь под покровительством вельмож, обязывали в обществе хранить молчание. Ибо некогда дворянство, как и искусство, имело своих учеников, своих пажей, преданных господам, которые их кормили. Нынешняя же молодежь получает скороспелое воспитание, а потому судит свысока о поступках, мыслях, книгах; она рубит сплеча, еще не научившись владеть мечом. Избегайте этого недостатка. Ваши критические суждения будут оскорбительны для многих, а люди скорее прощают полученный втайне удар, чем обиду, нанесенную публично. Молодые люди нетерпимы, ибо они не знают жизни и ее тягот. Пожилой судья мягок и добр, молодой судья неумолим; один знает все, другой — ничего. К тому же за всеми человеческими поступками кроется множество причин, судить о которых дано лишь богу. Будьте строги только к самому себе. Счастье — в ваших руках, но никто на этом свете не может возвыситься без чужой помощи. Итак, бывайте в доме моего батюшки, двери его для вас открыты, а знакомства, которые вы там приобретете, пригодятся вам во многих случаях жизни; но не делайте ни малейшей уступки моей матушке: она сотрет в порошок того, кто гнет спину, но будет восхищаться тем, кто дает ей отпор; по своему характеру она похожа на железо, которое раздробит любой хрупкий предмет, но станет мягче, если его ковать. Итак, старайтесь понравиться моей матушке; если вы завоюете ее расположение, она введет вас в великосветские салоны, где вы приобретете необходимый лоск, научитесь искусству слушать, говорить, отвечать, здороваться, откланиваться; вы усвоите светское обхождение, обретете то неуловимое «нечто», которое имеет так же мало отношения к подлинному превосходству, как и одежда — к гениальности, но без этого «нечто» самый талантливый человек никогда не будет допущен в высшее общество. Я хорошо вас знаю и уверена, что не обольщаюсь, видя вас заранее таким, каким хочу, чтобы вы стали: простым и мягким в обращении, гордым без надменности, почтительным с пожилыми людьми, предупредительным без угодливости, а главное, скромным. Блистайте остроумием, но не служите забавой для других. Знайте, если ваше превосходство заденет посредственного человека, он промолчит, но затем скажет о вас: «Ну и забавник!» — и презрительный оттенок этих слов повредит вам. Пусть ваши достоинства будут неоспоримы. К тому же не старайтесь нравиться людям. В отношениях с ними следует придерживаться холодной учтивости, не переходящей, однако, в оскорбительную дерзость; в обществе почитают того, кто ведет себя пренебрежительно, и эта манера поможет вам снискать благосклонность всех женщин, которые будут уважать вас за то, что вы не слишком цените расположение мужчин. Не надо терпеть возле себя людей, потерявших доброе имя, даже в том случае, если они не заслуживают своей участи, ибо свет требует у нас отчета в наших привязанностях и антипатиях. Пусть ваши суждения о людях будут обдуманы не спеша, но бесповоротны. Если будущее покажет, что вы правильно поступили, оттолкнув некоторых людей, вашей похвалы станут домогаться; таким образом вы заслужите то молчаливое уважение, которое возвеличивает человека среди ему подобных. Итак, вы вооружены цветущей молодостью, подкупающим обаянием и мудростью, которая помогает удержать завоеванное. Все, что я вам сказала, можно было бы вкратце выразить старинной поговоркой: положение обязывает!
Примените теперь эти наставления к деловой жизни. Вы нередко услышите, что ловкость — основа успеха, что занять место под солнцем можно не иначе, как пробившись сквозь толпу, а для этого надо разделить людей на враждующие между собою группы. Друг мой, эти принципы были хороши в средние века, когда государи натравливали одно войско на другое. В нынешнее время, когда все происходит на виду, такая система сослужила бы вам весьма дурную службу. В самом деле, вы встретите на своем пути либо явного и честного противника, либо врага и предателя, который прибегнет в борьбе с вами к клевете, злословию, обману. Так знайте же, что у вас нет более могущественного помощника, чем этот человек, ибо его злейший враг — он сам. Вы можете сражаться с ним с открытым забралом: рано или поздно он навлечет на себя презрение окружающих. Что касается первого, то своей прямотой вы завоюете его уважение, и как только вам удастся примирить ваши интересы (ибо все можно уладить), он будет вам полезен. Не бойтесь нажить себе врагов; горе тому, кто не имеет их в том обществе, куда вы вступаете. Но постарайтесь не давать пищи ни насмешкам, ни хуле. Я говорю «постарайтесь», ибо в Париже человек не всегда принадлежит себе: он покоряется неизбежным обстоятельствам. Вы не убережетесь там ни от уличной грязи, ни от случайно упавшего кирпича. Бесчестные люди пытаются забрызгать даже своих благороднейших противников той грязью, в которой захлебываются сами. Но вы всегда можете снискать уважение окружающих, надо только показать им, что вы никогда не меняете принятого решения. Вопреки столкновению честолюбивых интересов, среди лабиринта препятствий всегда идите прямо к цели, решительно приступайте к делу и, ничем не отвлекаясь, боритесь за него изо всех сил. Вы знаете, какую лютую ненависть питал г-н де Морсоф к Наполеону; он неустанно проклинал его, следил за каждым его шагом, как правосудие, не спускающее глаз с преступника, а по вечерам взывал к богу, прося покарать Бонапарта за кровь герцога Энгиенского[45], гибель которого была единственным несчастьем, заставившим графа проливать слезы. И все же он восхищался им как доблестным полководцем и часто объяснял мне его стратегию. Мне думается, эту стратегию можно применить и в войне интересов, где она позволила бы сберечь время, по примеру того, как Наполеон берег людей и территорию; подумайте над моими словами, ибо женщина часто ошибается в этих сложных вещах, о которых мы судим по интуиции или под влиянием чувства. Я настаиваю лишь на одном: всякая хитрость, всякий обман выходит наружу и в конце концов приносит вред; когда же человек действует прямо и открыто, его положение бывает не так опасно. Если бы я решилась привести себя в пример, то сказала бы вам, что в Клошгурде, где из-за характера г-на де Морсофа мне приходится предотвращать всякие распри и немедленно разрешать спорные вопросы, — ведь иначе он с головой ушел бы в них, как в свои болезни, и не вынес бы такого напряжения, — я всегда иду прямо к цели и говорю противнику: «Давайте распутаем или разрубим этот узел». Вам не раз случится оказывать услуги людям, быть им полезным, но вы редко будете за это вознаграждены; не подражайте, однако, тем, кто хвалится своими благодеяниями и вечно жалуется на людскую неблагодарность. Не значит ли это возвеличивать себя? И разве не наивно признаваться в своем незнании света? Неужели вы станете делать добро с расчетом на проценты, как ростовщик, дающий деньги взаймы, а не ради добра? Положение обязывает! Однако не оказывайте таких услуг, которые принуждали бы людей к неблагодарности, ибо ваши должники станут вашими непримиримыми врагами: неоплатный долг может привести человека в такое же отчаяние, как и крушение надежд, а отчаяние противника опасно. Что касается вас самого, принимайте поменьше всяких одолжений. Не подчиняйтесь ничьей воле, зависьте только от самого себя. Я даю вам советы, мой друг, лишь для повседневной жизни. В мире политики все обстоит иначе, и ваши личные интересы отступают на задний план перед высшими целями. Но если вы получите доступ в сферу, где действуют великие люди, то станете, подобно богу, единым судьею своих поступков. Тогда вы будете не просто человеком, а ходячим законом, не просто личностью, а олицетворением нации. Если же вы приобретете право судить людей, то и сами будете судимы. Вы предстанете впоследствии перед грядущими поколениями, а вы достаточно знаете историю, чтобы понять, какие чувства и поступки порождают истинное величие.
Я подхожу к серьезному вопросу о вашем отношении к женщинам. Возьмите себе за правило, бывая в свете, не расточать понапрасну своих сил, добиваясь мелких сердечных побед. Мужчина, пользовавшийся наибольшим успехом в прошлом веке, имел привычку ухаживать в один и тот же вечер лишь за одной женщиной и уделял внимание тем из них, которыми другие пренебрегали. Этот человек, дорогое дитя, взлетел очень высоко. Он мудро рассчитал, что все голоса в обществе вскоре сольются для него в один хвалебный хор. Большинство юношей попусту растрачивают самое ценное достояние — время, необходимое, чтобы приобрести связи — главное условие успеха в свете; они покоряют своей молодостью, вот почему им остается сделать немногое, чтобы люди помогли им выдвинуться. Но весна быстротечна, сумейте употребить ее во благо. Итак, угождайте влиятельным женщинам. Влиянием же пользуются пожилые женщины; они откроют вам тайны всех семейств, их родственные связи и укажут обходные пути, которые быстро приведут вас к цели. Они будут преданы вам всем сердцем, ибо покровительство заменяет им любовь, если только они не посвятили ее богу; они великолепно послужат вашим намерениям, станут превозносить вас и привлекут к вам лестное внимание окружающих. Избегайте молодых женщин! Не думайте, что я говорю это из личных побуждений. Пятидесятилетняя женщина сделает для вас все, двадцатилетняя не сделает ничего. Первая попросит у вас лишь минутного внимания, вторая потребует всей вашей жизни. Смейтесь над молодыми женщинами: в голове у них нет ни одной серьезной мысли, — и шутя срывайте цветы удовольствия. Молодые женщины, друг мой, себялюбивы, мелочны, неспособны на истинную дружбу, заботятся только о себе и легко пожертвуют вами ради мимолетного успеха. К тому же все они требуют преданности, а в вашем положении вы сами нуждаетесь в ней; ваши стремления несовместимы. Ни одна из них не станет вникать в ваши дела, все они будут думать о себе, а не о вас и больше повредят вам своей суетностью, нежели принесут пользы своим расположением; они безжалостно растратят ваше время и с милой улыбкой погубят не только вашу карьеру, но и вас самих. Если вы станете жаловаться, какая-нибудь глупышка и та заявит вам, что ее перчатка стоит целого царства и что нет ничего почетнее на свете, чем ей служить. Все они скажут, что даруют вам счастье, и заставят позабыть о вашем прекрасном будущем; однако счастье, полученное из их ручек, непрочно, тогда как ожидающее вас высокое положение несомненно. Вы еще не знаете, к какому коварству они прибегают, чтобы удовлетворить свою прихоть и превратить ваше увлечение в любовь, которая берет начало на земле и продолжается на небесах. Покидая вас, они скажут в оправдание своей измены «я разлюбила», так же, как словами «я люблю» объясняли некогда свое безумство, и добавят еще, что сердцу не прикажешь. Какая нелепая теория, дорогой! Верьте мне, настоящая любовь бывает вечной, беспредельной, она неизменна и всегда остается столь же ровной и чистой, без резких вспышек; когда волосы убелит седина, любовь в сердце будет по-прежнему юной. Но такого чувства не встретишь среди светских женщин, все они играют комедию. Одна разжалобит вас своими несчастьями и покажется вам самой кроткой и невзыскательной из женщин. Но стоит ей почуять свою силу, как она постепенно заберет вас в руки и заставит выполнять все свои прихоти. Вы желаете стать дипломатом, ездить, путешествовать, изучать людей, события, страны? Нет, вы останетесь в Париже или в ее поместье, и она ловко привяжет вас к своей юбке. И чем преданнее вы будете ее любить, тем неблагодарнее она окажется. Другая попытается тронуть вас своей покорностью, станет вашим пажем, романтически последует за вами на край света, скомпрометирует себя, чтобы вас удержать, и камнем повиснет на вашей шее. Вы утонете, а женщина выплывет. Простушки и те знают тысячи уловок; а глупышки одерживают победу благодаря тому, что их не остерегаются. Наименее опасной была бы, пожалуй, женщина полусвета, которая полюбила бы вас из каприза, бросила без видимой причины и вновь вернулась к вам из тщеславной прихоти. Но все они принесут вам зло либо в настоящем, либо в будущем. Всякая молодая женщина, которая выезжает в свет, развлекается и любит суетные удовольствия, уже наполовину развращена и неизбежно развратит вас. Среди них вы не найдете чистого и кроткого создания, в душе которого вы неизменно будете царить. Та, которая вас полюбит, будет жить уединенно: она предпочтет самым блестящим празднествам ваши нежные взгляды, станет упиваться вашими словами. Пусть эта женщина будет для вас всем, ибо вы замените ей целый мир. Любите ее, не доставляйте ей горя, не возбуждайте ее ревности. Быть любимым, быть понятым — величайшее счастье, дорогой, и я желаю, чтобы вы нашли его, но оберегайте цветок своего чувства и уверьтесь сперва в сердце той, кому вы собираетесь его вручить. Эта женщина должна предаться вам всей душой и думать не о себе, а о вас; она не будет ни спорить с вами, ни печься о своей выгоде и, позабыв о собственной беде, почует грозящую вам опасность там, где вы ничего не заметите; наконец, если ей суждено изведать страдание, она будет страдать молча, и суетное кокетство уступит у нее место желанию нравиться вам одному. Ответьте на эту любовь чувством еще более сильным. Если вам посчастливится найти то, чего всегда будет недоставать вашей бедной Анриетте — любовь взаимную, любовь совершенную, вспомните, несмотря на свое безоблачное счастье, что в далекой долине живет женщина, материнское сердце которой так полно чувством, внушенным вами, что вы никогда не сумеете его исчерпать. Да, я отношусь к вам с нежностью, глубину которой вы узнаете только, если попадете в беду, но и тогда не измерите всей моей преданности, ибо она безгранична. Можно ли заподозрить чистоту моих намерений, когда я советую вам избегать молодых женщин, ибо все они коварны, насмешливы, тщеславны, пусты, легкомысленны, и домогаться благосклонности влиятельных женщин, знатных вдов, исполненных здравого смысла, вроде моей покойной тетушки? Они будут вам бесконечно полезны, они защитят вас от клеветы, воздадут вам хвалу и будут говорить о вас то, что вам неудобно сказать о себе самому. Наконец, разве я не великодушна, когда приказываю вам сберечь вашу любовь для ангела с чистым сердцем? Если поговорка положение обязывает заключает в себе основной смысл моих первых наставлений, то мои советы о вашем отношении к женщинам могут быть выражены этим рыцарским девизом: служить всем женщинам, любить только одну.
Ваши знания огромны, ваше сердце, закаленное в страданиях, осталось незапятнанным, все прекрасно, все возвышенно в вас, дерзайте же! Ваше будущее зависит от этого глагола великих людей. Не правда ли, дитя мое, вы послушаетесь своей Анриетты, вы позволите ей и впредь говорить вам то, что она думает о вашем поведении в свете? Моя душа наделена даром прозрения, я вижу ваше будущее и будущее моих детей, позвольте же мне употребить вам на пользу этот таинственный дар, который уже принес мне умиротворение в жизни и который не притупился, а стал еще острее в тиши и одиночестве. Я прошу вас дать мне взамен большое счастье: я хочу видеть, как вы возвыситесь, причем ни один ваш успех не должен омрачать моего чела; я хочу, чтобы вы быстро заняли положение, достойное вашего имени, и, следя за вами, я могла бы сказать, что содействовала не только в помыслах вашему величию. Это тайное соучастие — единственная радость, которую я вправе себе позволить. Я буду ждать. Я не прощаюсь с вами; мы в разлуке, вы не можете поднести мою руку к своим губам, но вы, конечно, угадали, какое место занимаете в сердце
Вашей Анриетты».Окончив чтение этого письма, я с особенной остротой почувствовал, как горячо бьется материнское сердце Анриетты, ибо еще ощущал холод сурового приема моей матери. Я понял, почему графиня запретила мне читать это письмо в Турени: она опасалась, очевидно, что я упаду к ее ногам и орошу их слезами.
Я познакомился наконец со своим братом Шарлем, который до сих пор был для меня как бы чужим, но он так высокомерно держался со мной, что между нами образовалась пропасть, мешавшая нам сблизиться; ведь всякое нежное чувство основано на равенстве, а между нами не было никаких точек соприкосновения. Наставительным тоном он поучал меня всяким пустякам, которые ум или сердце легко угадывают без слов, и как будто не доверял мне ни в чем. Если бы я не чувствовал опоры в своей любви, то показался бы самому себе неловким и глупым, так старательно он подчеркивал мое ничтожество. Все же он стал бывать со мной в свете, надеясь, что выиграет там при сопоставлении со мной. Не будь у меня такого тяжелого детства, я мог бы принять его тщеславное покровительство за братскую любовь, но душевное одиночество приводит к тем же последствиям, что и одиночество среди природы: привычка замыкаться в себе развивает чуткость, позволяющую подмечать малейшие оттенки в обращении людей так же, как среди полной тишины улавливаешь даже еле заметный шорох. До знакомства с г-жой де Морсоф каждый суровый взгляд ранил меня, резко сказанное слово поражало в самое сердце; я страдал от них, ничего не зная о нежности и утешении; между тем как, возвратясь из Клошгурда, я научился прибегать к сравнениям, и это углубило мое преждевременное знание жизни. Наблюдательность, основанная на перенесенных страданиях, недостаточна. Счастье тоже раскрывает человеку глаза. Я тем охотнее позволял Шарлю пользоваться своим правом старшинства и унижать меня, что ясно видел его игру.
Я стал бывать один у герцогини де Ленонкур, но не услышал там даже имени Анриетты, никто не спросил меня о ней, за исключением старого герцога, этого олицетворения бесхитростной доброты; впрочем, по тому, как он меня принял, я угадал, что дочь говорила ему обо мне. Вращаясь в высшем свете, я понемногу излечился от наивного удивления, свойственного всякому новичку; я уже предвкушал сладость власти, постигая те средства, которые общество дает в руки честолюбцам, и с радостью применял правила Анриетты, восхищаясь их глубокой жизненной правдой, когда произошли события 20 марта[46]. Мой брат уехал вместе со всем двором в Гент; по совету графини, которой я посылал множество писем, лишь изредка получая на них ответ, я последовал за герцогом де Ленонкуром. Обычная благосклонность герцога уступила место покровительству, когда он заметил, что я душой и телом предан Бурбонам; он лично представил меня его величеству. У королей в изгнании бывает мало придворных, а молодости свойственно наивное восхищение и чуждая расчету преданность; король умел разбираться в людях; то, чего он не заметил бы в Тюильри, бросилось ему в глаза в Генте, и я имел счастье понравиться Людовику XVIII.
Я узнал из письма г-жи де Морсоф отцу, доставленного вместе с депешами эмиссаром вандейцев (в письме имелась приписка и для меня), что Жак болен. Г-н де Морсоф в отчаянии от болезни сына, а также от того, что новая эмиграция начиналась без него, написал несколько слов от себя; прочтя их, я догадался о положении моей возлюбленной. Измученная графом, она проводила, должно быть, дни и ночи у изголовья Жака, не зная ни минуты покоя. Правда, г-жа де Морсоф стояла выше мелочных придирок мужа, но у бедной женщины уже не хватало сил их сносить, ведь она была поглощена заботами о сыне и, наверно, жаждала поддержки друга, который облегчил бы ей жизнь, развлекая г-на де Морсофа. Сколько раз я уводил, бывало, графа из дому, когда он начинал ее мучить, и в награду за эту невинную хитрость получал один из тех взглядов, в горячей благодарности которых влюбленный усматривает обещание. Хотя мне не терпелось идти по стопам Шарля, только что посланного на Венский конгресс, хотя я желал даже ценою жизни оправдать предсказания Анриетты и освободиться от подчинения брату, мое честолюбие, моя жажда независимости, мое положение при дворе — все поблекло перед скорбным образом г-жи де Морсоф; я решил покинуть Гент и все сложить к ногам своей истинной повелительницы. Бог вознаградил меня за это. Эмиссар, посланный вандейцами, не мог вернуться во Францию, и королю требовался преданный человек, чтобы доставить на родину его распоряжения. Герцог де Ленонкур, зная, что король не забудет того, кто возьмется выполнить это опасное поручение, предложил послать гонцом меня, даже не сказав мне об этом, и король соблаговолил одобрить его выбор. Я согласился ехать, радуясь тому, что вернусь в Клошгурд и послужу в то же время правому делу.
На двадцать втором году жизни, успев уже получить аудиенцию у короля, я вернулся во Францию, сперва в Париж, а затем в Вандею, и имел счастье выполнить все распоряжения его величества. В конце мая, спасаясь от преследования бонапартистских властей, которым на меня донесли, и вынужденный скрываться под видом человека, возвращающегося в свой замок, я пробирался пешком от поместья к поместью по лесным дорогам, через верхнюю Вандею, Бокаж и Пуату, меняя направление в зависимости от обстоятельств. Я добрался до Сомюра, из Сомюра повернул на Шинон, а из Шинона за одну ночь дошел до Нюэльского леса и в ландах встретил графа де Морсофа, ехавшего верхом; он усадил меня на круп своего коня, и мы приехали в Клошгурд, не встретив по дороге никого, кто мог бы меня опознать.
— Жаку лучше! — были первые слова графа.
Я открыл ему свое положение дипломатического лазутчика, за которым охотятся, как за диким зверем, и граф, вооружившись своими роялистскими чувствами, стал оспаривать у господина де Шесселя опасную честь предоставить мне убежище. Когда я увидел Клошгурд, мне показалось, что минувшие восемь месяцев были только сном.
Войдя в дом первым, граф сказал жене:
— Отгадайте, кого я привел?.. Феликса.
— Быть не может! — воскликнула она; руки ее опустились, на лице отразилось смятение.
Я вошел, и мы оба замерли — она словно пригвожденная к креслу, а я оцепенев на пороге — и, не отрываясь, жадно смотрели друг на друга, как двое влюбленных, которые хотят одним взглядом вознаградить себя за долгую разлуку; наконец, смущенная тем, что от неожиданности не сумела скрыть порыва своего сердца, она встала, и я приблизился к ней.
— Я много молилась за вас, — промолвила она и протянула мне руку для поцелуя.
Она спросила меня о здоровье своего отца; затем, угадав, как я устал, пошла распорядиться о моем ночлеге, а граф велел меня накормить, ибо я умирал с голоду. Меня поместили над ее спальней, в бывшей комнате ее тетушки; она попросила графа проводить меня наверх, а сама остановилась на первой ступеньке лестницы, как будто борясь с желанием подняться вместе со мной; я обернулся, она покраснела, пожелала мне хорошенько отдохнуть и быстро удалилась. Когда я спустился к обеду, мне рассказали о разгроме под Ватерлоо, о бегстве Наполеона, наступлении союзников на Париж и возможном возвращении Бурбонов. Эти события, на которых сосредоточились все помыслы графа, ничего не значили для нас с Анриеттой. Знаете ли вы, какова была самая важная новость, которую я услышал, едва успев приласкать детей? Я не говорю о тревоге, которую испытал при виде похудевшего и побледневшего лица графини; я хорошо знал, какой удар мог нанести ей своим удивлением, и потому выразил лишь радость, что вижу ее. Так вот, самой важной для нас новостью было: «Теперь у вас будет лед!» Графиня в прошлом году часто огорчалась, что в доме у них нет для меня студеной воды: я ничего не пил, кроме воды, да и воду любил только ледяную. Бог ведает, с помощью каких ухищрений она добилась постройки ледника! Никто лучше вас не знает, что для любви довольно одного слова, взгляда, интонации, еле заметного знака внимания; ее бесценная способность — находить доказательства в себе самой. Так вот, слова, взгляд и радость графини открыли мне всю глубину ее чувств, так же, как и я когда-то выразил ей волновавшие меня чувства своим поведением за игрой в триктрак. И она дарила мне множество наивных свидетельств своей нежности; через неделю после моего появления она вновь посвежела: она сияла здоровьем, молодостью и весельем; моя нежная лилия похорошела и расцвела, умножая сокровища моего сердца. Ведь только у заурядных людей, наделенных мелкой душой, разлука охлаждает пыл, стирает в памяти дорогие черты и умаляет прелесть любимого существа. На людей с горячим воображением, на тех, у кого чувство оживляет кровь, вливая в нее новый пламень, на тех, у кого страсть означает постоянство, разлука оказывает то же действие, что и пытки, укреплявшие веру первых христиан, которые видели в небе образ своего бога. Разве в сердце, преисполненном любви, не живут неугасимые желания, которые еще возвышают дорогой образ, озаренный огнем пылкой мечты? Разве, неотступно думая о любимом лице, мы не наделяем его с трепетным волнением идеальной красотой? Мы перебираем воспоминания одно за другим, и прошлое становится более значительным, а будущее сверкает новыми надеждами. Первая встреча двух сердец, в которых теснятся тучи, насыщенные электричеством, становится живительной грозой, той, что оплодотворяет землю, освещая ее яркими вспышками молний. Сколько пленительных минут пережил я, видя, что нас обоих волнуют те же мысли, те же чувства! С каким восхищением следил я за благодетельным влиянием счастья на Анриетту! Женщина, которая оживает под взглядом любимого, быть может, дает более яркое доказательство своей любви, чем та, что умирает, сраженная сомнением, или вянет, как цветок, лишенный жизненных соков; я не знаю, которая из них больше трогает нас. Возрождение г-жи де Морсоф было так же естественно, как пробуждение природы под лучами майского солнца, как свежесть распускающихся весною цветов. Анриетта, как и наша долина любви, пережила свою зимнюю пору и вместе с ней расцветала с приходом весны.
Перед обедом мы спустились на нашу любимую террасу. Нежно положив руку на голову сына, еще более хилого, чем прежде, не отходившего от матери и такого тихого, словно в нем все еще таилась болезнь, она рассказала мне о ночах, проведенных без сна у постели больного. Три долгих месяца, по ее словам, она жила как затворница; ей казалось, что она попала в темный замок и боится сойти вниз, в роскошные залы, где сверкают огни и даются пышные празднества, недоступные ей; она стоит на пороге, смотрит на своего ребенка и в то же время видит неясные очертания чьего-то лица, слушает болезненные стоны, и ей чудится чей-то чужой голос. Она создавала такие поэтические образы, навеянные ей одиночеством, каких не найдешь ни у одного поэта; в своей детской наивности она не замечала в этих образах ни тени любви, ни намека на сладострастную негу или на томность в духе восточной поэзии, благоухающей, как франгистанская роза. Когда граф присоединился к нам, она продолжала говорить, не меняя тона, как гордая собой женщина, которая может бросить мужу торжествующий взгляд и, не краснея, запечатлеть поцелуй на лбу сына. Она ночи напролет молилась над мальчиком, не желая отдавать его смерти.
— Я взывала к богу даже у врат алтаря, прося сохранить сыну жизнь, — говорила она.
Порой у нее бывали видения, она рассказала мне о них; но когда она произнесла нежным голосом проникновенные слова:
— Даже когда я спала, сердце мое бодрствовало... — граф прервал ее.
— Попросту говоря, вы стали почти помешанной, — сказал он.
Она замолчала, пронзенная острой болью, как будто он впервые нанес ей глубокую рану, как будто она забыла, что вот уже тринадцать лет этот человек никогда не упускал случая пустить ей в сердце отравленную стрелу. Как гордая птица, настигнутая в небе жестокой свинцовой дробинкой, она застыла, подавленная, уничтоженная.
— Неужели, сударь, — сказала она, помолчав, — ни одно мое слово никогда не найдет снисхождения перед судом вашего рассудка? Неужели вы никогда не проявите милосердия к моим слабостям и не поймете мою женскую природу?
Она замолчала. Этот ангел уже раскаивался, что осмелился роптать; она окидывала взглядом свое прошлое и старалась проникнуть в будущее: сможет ли граф ее понять? Не вызовут ли ее слова новой злобной выходки? Кровь билась в голубых жилках у нее на висках, глаза остались сухими, но словно посветлели; затем она потупилась, чтобы не встретиться с моим взглядом и не прочесть в нем свою боль, свои чувства, угаданные мною, свою душу, слившуюся с моей, а главное, чтобы не увидеть моего сочувствия, воспламененного юной любовью, и желания броситься, подобно верному псу, и растерзать того, кто оскорбил его госпожу, не раздумывая ни о силе, ни о преимуществах противника. Стоило посмотреть, с каким видом превосходства держался граф в такие тягостные минуты; он воображал, что одержал верх над женой, и разражался потоком трескучих фраз, повторяя одну и ту же мысль, как будто упорно долбил по дереву топором.
— Он все такой же? — спросил я у нее, когда графа вызвал пришедший за ним берейтор и он был вынужден нас покинуть.
— Такой же! — ответил мне Жак.
— Такой же безупречный, сын мой, — возразила она Жаку, не желая, чтобы дети осуждали отца. — Вы видите только настоящее, но не знаете прошлого и потому не можете справедливо судить о поступках вашего батюшки; но если бы вы даже имели несчастье заметить, что ваш отец не прав, помните: честь семьи требует, чтобы вы хранили в строгой тайне его ошибки.
— Успешно ли идут ваши нововведения в Кассине и Реторьере? — спросил я, чтобы отвлечь ее от грустных размышлений.
— Еще успешнее, чем я могла ожидать. Закончив постройку домов, мы нашли двух верных фермеров, которым сдали в аренду обе фермы: одну — за четыре тысячи пятьсот франков, не считая налогов, а другую — за пять тысяч; мы заключили с ними договор на пятнадцать лет. На двух новых фермах мы уже высадили три тысячи черенков деревьев. Дядя нашей Манетты очень доволен, что получил ферму Рабелэ; Мартино досталась ферма Бод. Угодья всех четырех фермеров состоят из лугов и лесов, куда они не станут свозить навоз, предназначенный для наших пашен, как это делают иные нечестные фермеры. Итак, наши усилия увенчались блестящим успехом. Клошгурд, не считая подсобных владений, вроде примыкающей к замку фермы, а также лесов и виноградников, приносит девятнадцать тысяч франков дохода, а новые посадки обещают быстро возместить затраты. Теперь я веду борьбу за то, чтобы сдать землю при замке нашему сторожу Мартино, которому может помогать его сын. Он предлагает господину де Морсофу три тысячи франков, если тот построит ему ферму в Коммандри. Тогда мы сможем расчистить владения Клошгурда, закончить прокладку аллеи, ведущей к шинонской дороге, и нам останется лишь следить за своими виноградниками и лесами. Если король вернется, вернется и наша пенсия; мы согласимся ее принять, конечно, сначала поспорив против разумных доводов нашей жены. Тогда состояние Жака будет упрочено. Когда я добьюсь этих результатов, я предоставлю господину де Морсофу копить деньги для Мадлены, которой король, по старинному обычаю, наверно, пожалует к тому же приданое. Совесть моя спокойна; я выполняю свой долг... А вы? — спросила она.
Я открыл ей, с какой миссией я приехал, и рассказал, насколько ее советы были полезны и мудры. Неужели ей дано шестое чувство, позволяющее предугадывать будущее?
— Разве я вам не писала? — спросила она. — Для вас одного я пользуюсь удивительным даром, о котором говорила лишь господину де ля Берж, моему духовнику, и он объясняет его внушением свыше. Часто, когда я погружалась в раздумье, полная тревоги за здоровье детей, я не замечала ничего земного, и взор мой как бы устремлялся в иной мир; если я видела там Жака и Мадлену, окруженных сиянием, они некоторое время не болели; если они появлялись, окутанные туманом, их уже подстерегала болезнь. А вас я не только вижу в лучах яркого света, но слышу при этом нежный голос, и он, вливаясь без слов в мою душу, внушает мне все, что вы должны делать. По чьему предначертанию, в силу какого закона я могу применять этот чудесный дар лишь для моих детей и для вас? — промолвила она в задумчивости. — А может быть, сам господь хочет быть им отцом? — спросила она, помолчав.
— Позвольте мне верить, — воскликнул я, — что я повинуюсь только вам!
Она ответила одной из тех пленительных улыбок, которые так опьяняли мне сердце, что, кажется, получи я в ту минуту смертельный удар, я бы даже его не заметил.
— Как только король вернется в Париж, уезжайте из Клошгурда и возвращайтесь к нему, — сказала она. — Сколь унизительно вымаливать должности и подачки, столь же смешно держаться в стороне, когда их раздают. Скоро произойдут крупные перемены. Королю понадобятся способные и преданные люди — будьте у него под рукой; вы рано займетесь государственными делами и быстро пойдете в гору, ибо государственным мужам, как и актерам, нужно знать свое искусство; его не может постигнуть даже гений, ему необходимо научиться. Мой отец перенял это искусство от герцога де Шуазеля. Думайте обо мне, — сказала она, помолчав, — дайте мне познать радости, какие мы получаем, наставляя душу, принадлежащую нам целиком. Ведь вы мой сын!
— Ваш сын? — спросил я с обидой.
— Только сын, — ответила она, подсмеиваясь надо мной. — Разве это не лучшее место в моем сердце?
Колокол зазвонил к обеду, и она ласково взяла меня под руку.
— Вы выросли, — сказала она, поднимаясь по лестнице.
Когда мы взошли на площадку, она слегка похлопала меня по руке, как будто мой взор беспокоил ее; хотя она шла, потупившись, она знала, что я не спускаю с нее глаз, и сказала с шутливым нетерпением, таким милым и кокетливым:
— Взгляните же хоть раз на нашу любимую долину!
Она обернулась, раскрыла свой белый шелковый зонтик у нас над головой и прижала к себе Жака; по легкому кивку, которым она указала мне на Эндр, лодку и луга, я понял, что после моего пребывания в замке и наших прогулок она сдружилась с этой туманной долиной, уходящей в безбрежную даль. Природа служила покровом, под которым ее мысли обретали покой. Теперь она знала, о чем вздыхает по ночам соловей, о чем твердит болотный певец, повторяя свой унылый напев.
В восемь часов вечера я стал свидетелем глубоко растрогавшей меня сцены, каких мне раньше не доводилось наблюдать; обычно я оставался с графом в гостиной за игрой, а все это происходило в столовой до того, как детей уводили спать. Колокол прозвонил два раза, созывая домочадцев.
— Теперь вы наш гость и должны подчиняться уставу нашего монастыря, — сказала графиня, взяв меня за руку и увлекая за собой с тем невинно-шутливым выражением, какое мы часто видим у истинно верующих женщин.
Граф последовал за нами. Хозяева, дети, слуги заняли каждый свое место и, обнажив головы, опустились на колени. В этот день был черед Мадлены читать молитвы; милая крошка произносила их ясным детским голоском, звеневшим, как колокольчик, среди застывшей в торжественном молчании природы и придававшим словам молитвы святую чистоту и ангельскую невинность. То была самая волнующая молитва, какую мне приходилось слышать. Природа вторила словам ребенка множеством смутных вечерних голосов, словно сопровождая их приглушенными звуками далекого органа. Мадлена стояла справа от графини, Жак — слева. Нежные очертания двух пушистых головок, между которыми возвышалась уложенная в косы прическа их матери, а позади желтела лысина г-на де Морсофа, обрамленная белоснежными волосами, составляли картину, которая своими красками как бы воплощала настроение, навеянное звуками молитвы; наконец, создавая единство, необходимое в каждой совершенной картине, эту группу освещали мягкие лучи заката, красные отблески которого проникали в зал, убеждая суеверные и восторженные души молящихся, что божественный свет озаряет верных рабов божьих, стоящих здесь вместе, на коленях, невзирая на разницу положений, в полном равенстве, установленном церковью. Возвратившись мыслью к патриархальным временам, я еще сильнее почувствовал величие этой сцены, столь торжественной в своей простоте. Дети пожелали отцу доброй ночи, слуги попрощались с нами, графиня вышла, ведя за руку детей, и я вернулся в гостиную вместе с графом.
— Там вы вознеслись в рай, здесь же спуститесь прямо в ад, — сказал он мне, указывая на игру в триктрак.
Через полчаса графиня присоединилась к нам, подсев с работой к нашему столу.
— Это для вас, — сказала она, развернув свое вышивание, — но вот уже три месяца работа моя не двигается. Между этой гвоздикой и вот этой красной розой заболел мой бедный мальчик.
— Будет, будет, — сказал г-н де Морсоф, — не стоит вспоминать об этом. Ну-с, шесть и пять, господин гонец короля.
Ложась спать, я замер, прислушиваясь к ее шагам наверху. Она оставалась безмятежной и чистой, а меня терзали безумные мысли и неутоленные желания.
— Почему она не может быть моей? — думал я. — А что, если она, как и я, борется с буйными порывами чувств?
В час ночи я встал, бесшумно спустился вниз, остановился возле ее комнаты и лег на пол; прижавшись ухом к щелке в двери, я услышал ее ровное дыхание, тихое, как у ребенка. Когда холод пробрал меня насквозь, я встал, вернулся к себе и спокойно проспал до утра.
Я не знаю, какой роковой склонностью, каким свойством человеческой натуры можно объяснить удовольствие, с которым я всегда приближаюсь к самому краю пропасти, измеряю бездонную пучину зла, заглядываю в его сокровенную глубину, чувствую мертвящий холод и отшатываюсь в смятении. В этот час, проведенный ночью у ее порога, где я плакал от бешенства, — а ведь она так и не узнала, что наутро ступала по моим слезам и поцелуям, ступала в ореоле своей добродетели, которую я то попирал, то превозносил, то проклинал, то благословлял, — в этот час, который кое-кому покажется нелепым, я пережил необъяснимое чувство, толкающее воинов навстречу неприятельской батарее — многие из них рассказывали мне о такой игре со смертью, — чтобы увидеть, пощадит ли их картечь, и испытать судьбу, подобно Жану Бару[47], который курил трубку, сидя на бочке с порохом. Назавтра я собрал два букета цветов; даже граф залюбовался ими, хотя обычно такие вещи его не трогали; изречение Шансоне «он невозмутим, словно испанец» как нельзя лучше подходило к нему.
Я прожил несколько дней в Клошгурде; лишь иногда я ненадолго уходил во Фрапель, где все же раза три оставался обедать. Французская армия заняла Тур. Хотя г-жа де Морсоф воистину только мной и дышала, она умоляла меня отправиться в Шатору и, не мешкая, возвратиться в Париж через Иссуден и Орлеан. Я пытался возражать, она настаивала, говоря, что этого требует ее внутренний голос; я повиновался. На этот раз наше прощание было орошено слезами, она страшилась соблазнов светской жизни, которую мне предстояло вести. Ведь мне придется окунуться в круговорот интересов, страстей и удовольствий, которые превращают Париж в бурное море, столь же опасное для чистой любви, как и для незапятнанной совести. Я обещал писать ей каждый вечер, излагая все события за истекший день и все свои мысли, даже самые фривольные. Выслушав мое обещание, она бессильно уронила головку мне на плечо и сказала:
— Ничего не забывайте; я все хочу знать.
Она дала мне письма к герцогу и герцогине, и я явился к ним на другой день по приезде.
— Вам улыбнулось счастье, — сказал мне герцог. — Пообедаем у нас и поедем со мной во дворец; ваша карьера теперь обеспечена. Вспомнив о вас сегодня утром, король сказал: «Он молод, умен и верен». Он жалел, что не знает, остались ли вы в живых и куда вас забросили события после того, как вы так успешно выполнили его поручение.
Вечером я уже был назначен докладчиком в Государственном Совете и, кроме того, получил секретную должность при Людовике XVIII, которая сохранялась за мной на все время его царствования; положение доверенного лица, не сулившее внешнего блеска, но и не таившее для меня опасности попасть в немилость, ввело меня в высшие правительственные круги и стало источником моего благосостояния. Г-жа де Морсоф все предугадала, я был ей обязан всем: властью и богатством, счастьем и мудрыми советами; она руководила мной, ободряла, очищала мою душу и направляла мои стремления к единой цели, без которой юность понапрасну растрачивает свои силы. Впоследствии мне дали помощника. Каждый из нас исполнял свои обязанности в течение шести месяцев. В случае надобности мы могли заменять друг друга; каждый имел свою комнату во дворце, свой экипаж, и, когда нам приходилось путешествовать, наши расходы оплачивались щедрой рукой. Странная роль! Быть тайным учеником монарха, политике которого впоследствии отдавали должное даже враги, слушать его суждения о внутреннем и внешнем положении страны и, не имея на короля явного влияния, все же порой давать ему советы, подобно Лафоре[48], дававшей советы Мольеру, и видеть, как опытная старость ищет поддержки в молодом задоре. К тому же наше будущее было упрочено, а честолюбие удовлетворено. Помимо жалованья, которое я получал как докладчик в Государственном Совете, король давал мне тысячу франков в месяц «из своей шкатулки» и часто собственноручно вручал щедрые награды. Хотя король и понимал, что молодой человек двадцати трех лет не может долго выполнять ту непосильную работу, которую он возложил на меня, он лишь в августе 1817 года назначил мне помощника, ставшего ныне пэром Франции. Королю было так трудно выбрать мне коллегу, эта должность требовала таких разнообразных качеств, что он очень долго колебался. Он оказал мне честь, спросив у меня, с кем из намеченных им молодых людей я лучше всего полажу. Среди них был один из моих старых товарищей по пансиону Лепитра, но я назвал не его; король спросил меня, почему.
— Ваше величество, — ответил я, — вы избрали людей, равно преданных вам, но с неравными способностями; я назвал того, кого считаю наиболее одаренным, и уверен, что сумею с ним ужиться.
Мой выбор совпал с желанием короля, и он всегда помнил, что я не посчитался в этом случае с собственными симпатиями. Он сказал мне:
— Вы будете Первым из двух.
Король не скрыл этого разговора от моего коллеги, и тот отплатил мне дружбой за эту услугу. Внимание, которое оказывал мне герцог де Ленонкур, было причиной того внимания, каким меня окружили в обществе. Слова: «Король живо интересуется этим молодым человеком; этот молодой человек далеко пойдет, он понравился королю» — могли бы заменить мне талант, к тому же они придавали любезному приему, какой обычно оказывают в обществе молодому человеку, особый оттенок почтения к власти. Бывая у герцога де Ленонкура, а также у моей сестры, к тому времени вышедшей замуж за своего кузена, маркиза де Листомэра, сына нашей старой тетушки, у которой я бывал на Иль Сен-Луи, я понемногу познакомился с наиболее влиятельными представителями Сен-Жерменского предместья.
Вскоре Анриетта ввела меня в круг избранного общества, так называемого «Пти-Шато»[49], действуя через княгиню де Бламон-Шоври, которой она доводилась внучатой племянницей; Анриетта так горячо отзывалась обо мне, что княгиня тотчас пригласила меня к себе; я выказал ей глубокое почтение и сумел понравиться; она, правда, не стала моей покровительницей, но прониклась ко мне дружескими чувствами, в которых было что-то материнское. Старая княгиня решила познакомить меня со своей дочерью, г-жой д'Эспар, с герцогиней де Ланже, виконтессой де Босеан и графиней де Мофриньез, которые поочередно были царицами модных салонов и принимали меня с изысканной любезностью, тем более, что я не претендовал на их благосклонность и всегда старался быть им приятным. Мой брат Шарль теперь не отрекался от меня, напротив, он искал во мне поддержки; однако мой быстрый успех пробудил в нем тайную зависть, причинившую мне впоследствии много огорчений. Родители мои, удивленные таким неожиданным возвышением, были польщены в своем тщеславии и признали меня наконец своим сыном; но чувства их были несколько искусственны, чтобы не сказать, наигранны, и потому эта перемена не оказала особого влияния на мое уязвленное сердце; всякое чувство, запятнанное эгоизмом, не вызывает в нас живого отклика: сердцу претят лицемерие и корыстные расчеты.
Я каждый день писал моей дорогой Анриетте и получал в ответ одно или два письма в месяц. Ее душа всегда витала надо мной, ее мысли, побеждая расстояния, окружали меня атмосферой чистоты и невинности. Ни одна женщина не могла меня покорить. Король узнал о моей неприступности; сам он в сердечных делах следовал школе Людовика XV[50] и, смеясь, называл меня «Мадемуазель де Ванденес», однако скромность моего поведения пришлась ему по душе. Я уверен, что терпение, которому я научился еще в детстве, а особенно в Клошгурде, сильно способствовало благосклонности ко мне короля, который был всегда чрезвычайно милостив со мной. Должно быть, по какой-то прихоти король просматривал мои письма, ибо он вскоре узнал причину моего целомудренного образа жизни. Однажды, когда я сидел и писал под его диктовку, вошел герцог де Ленонкур, несший службу во дворце; король окинул нас обоих лукавым взглядом.
— Так как же, старик Морсоф все еще не хочет умирать? — спросил он герцога ясным, звучным голосом, которому при желании умел придавать оттенок едкой иронии.
— Не хочет, — ответил герцог.
— Графиня де Морсоф — сущий ангел, и я желал бы видеть ее при дворе, — продолжал король. — Но если на этот раз я бессилен, — с этими словами он повернулся ко мне, — то мой царедворец будет счастливее меня. Вы получаете свободу на полгода; я решил взять вам в помощники того молодого человека, о котором мы вчера говорили. Хорошенько развлекайтесь в Клошгурде, господин Катон[51]!
И он, улыбаясь, удалился из кабинета.
Словно ласточка, летел я в Турень. Впервые я мог предстать перед той, кого любил, не прежним мужланом, а в изящном облачении светского молодого человека, манеры которого были отшлифованы в самых изысканных салонах, а воспитание завершено самыми утонченными женщинами; я получил наконец награду за все свои страдания, послушавшись советов самого прекрасного ангела, какому небо когда-либо вручало судьбу ребенка. Вы знаете, как я был одет в первые месяцы моего пребывания во Фрапеле.
Когда я попал в Клошгурд, выполнив в Вандее поручение короля, я был похож на охотника: в толстой зеленой куртке с заржавленными жестяными пуговицами, в полосатых штанах, кожаных гетрах и грубых башмаках. Продираясь сквозь кустарник, я так изорвал свой костюм, что графу пришлось одолжить мне одежду. На этот раз два года жизни в Париже, привычка находиться близ короля, отпечаток, наложенный богатством, моя возмужавшая фигура, лицо, которое отражало свет моей безмятежной души, таинственно слившейся с чистой душой, озарявшей ее из Клошгурда, — все это преобразило меня: я приобрел уверенность в себе, но без самодовольства, я чувствовал внутреннее удовлетворение, зная, что, несмотря на молодость, достиг высокого положения в обществе, и сознавал, что стал тайной поддержкой и скрытой надеждой самой пленительной женщины на земле. Быть может, во мне шевельнулось тщеславие, когда кучер, щелкнув кнутом, повернул в новую аллею, ведущую от шинонской дороги к Клошгурду, и перед нами открылись незнакомые мне решетчатые ворота в недавно построенной вокруг парка ограде. Я не сообщил графине о своем приезде, желая сделать ей сюрприз, и был вдвойне не прав: сначала она испытала потрясение, какое причиняет нам долгожданная радость, которую мы считали несбыточной; а потом она дала мне понять, что всякая заранее подстроенная неожиданность свидетельствует о дурном вкусе.
Взглянув на молодого человека, в котором она раньше видела только ребенка, Анриетта невольно опустила глаза, и это медленное движение казалось почти трагичным; она позволила мне поднести к губам ее руку и ничем не выказала глубокой радости, которую выдавал лишь охвативший ее легкий трепет; а когда она вновь подняла голову и посмотрела на меня, я заметил, как она бледна.
— Значит, вы не забыли старых друзей? — спросил г-н де Морсоф, который не постарел и ничуть не изменился.
Дети бросились мне на шею. В дверях я заметил строгое лицо аббата де Доминиса, нового наставника Жака.
— Нет, — ответил я графу, — теперь я буду свободен шесть месяцев в году и надеюсь проводить их у вас.
— Что с вами? — обратился я к графине и протянул руку, чтобы обнять ее стан и поддержать, не смущаясь присутствием ее семьи.
— Ах, оставьте меня! — воскликнула она, отстраняясь. — Это пройдет.
Я прочитал ее тайную мысль и ответил на нее вопросом:
— Неужели вы не узнаете вашего верного раба?
Она взяла меня под руку и на глазах у графа, детей, аббата и сбежавшихся слуг отвела подальше на лужайку, оставаясь, однако, у всех на виду: когда она решила, что ее слова уже не долетят до них, она сказала:
— Феликс, друг мой, простите этот испуг женщине, которая держит в руках только тоненькую нить, ведущую к свету из подземного лабиринта, и трепещет при мысли, что она оборвется. Повторите мне, что я теперь еще более, чем прежде, ваша Анриетта, что вы не покинете меня, что никто не займет моего места в вашем сердце, что вы навсегда останетесь мне верным другом. Я только что заглянула в будущее и не увидела вас, как всегда, с сияющим лицом и устремленным на меня взором, вы повернулись ко мне спиной.
— Анриетта, светлый ангел, я боготворю вас более самого бога; белая лилия, цветок моего сердца, как могли вы забыть, вы — моя совесть! — что душа моя навек слилась с вашей и сердце мое пребывает здесь, даже когда сам я в Париже! Надо ли говорить вам, что я примчался сюда за семнадцать часов, что с каждым оборотом колес экипажа во мне поднимался целый вихрь мыслей и желаний, превратившийся в бурю, как только я вас увидел?..
— Говорите, говорите! Я уверена в себе, я могу слушать вас, не совершая греха. Господь не хочет, чтобы я умерла: он посылает мне вас так же, как оживляет своим дыханием каждое творение, как проливает живительный дождь на иссохшую почву. Говорите, говорите! Вы любите меня свято?
— Свято.
— Навек?
— Навек.
— Как святую деву Марию, скрытую под светлым покровом, с белым венцом на челе?
— Как деву Марию, которую можно видеть.
— Как сестру?
— Как страстно любимую сестру.
— Как мать?
— Как втайне желанную мать.
— Рыцарской любовью, без всякой надежды?
— Рыцарской любовью, но с надеждой.
— Как в ту пору, когда вам было только двадцать лет и вы носили тот смешной синий парадный костюм?
— Нет, еще больше! Я люблю вас, как любил тогда, и еще как...
Она посмотрела на меня с глубокой тревогой.
— Как вас любила ваша тетушка.
— Теперь я счастлива: вы развеяли мои страхи, — сказала она, присоединяясь к своей семье, удивленной нашим секретным разговором. — Но будьте здесь ребенком — ведь вы и вправду еще дитя. Если вы обязаны быть мужчиной подле короля, то знайте, сударь, тут вы должны оставаться ребенком. Тогда вас будут любить. Я всегда устою перед мужской силой, но в чем могу я отказать ребенку? Ни в чем: он не может просить ничего такого, чего бы я не могла ему позволить. Ну вот, секреты кончены, — сказала она, лукаво посмотрев на графа, словно в ней снова ожила юная наивная девушка. — Теперь я вас покину, мне надо переодеться.
Ни разу за три года я не замечал такой полноты счастья в ее голосе. Впервые я услышал в нем беззаботный щебет ласточки и детские нотки, о которых я вам говорил. Я привез Жаку игрушечный экипаж, а Мадлене рабочую шкатулку, которой затем постоянно пользовалась ее мать; наконец-то я мог загладить свою былую скупость, на которую меня обрекала скаредность матери. Шумная радость детей, которые с восторгом показывали друг другу полученные подарки, казалось, раздражала графа, всегда обижавшегося, когда на него не обращали внимания. Я многозначительно кивнул Мадлене и отправился вслед за графом, которому, видимо, хотелось поговорить со мной о себе. Он повел меня на террасу; но по дороге мы останавливались всякий раз, как он начинал излагать какую-нибудь важную, по его мнению, подробность.
— Милый мой Феликс, — сказал он, — вы видите, они все счастливы и здоровы, один я бросаю тень на эту картину; на меня перешли их болезни, и я благодарю бога, что он передал их мне. Прежде я не знал, что со мной; теперь мне все ясно: я не перевариваю пищу, у меня повреждена поджелудочная железа.
— С каких пор вы набрались такой учености, словно профессор медицинской академии? — спросил я, улыбаясь. — Неужели ваш доктор так болтлив, что сообщает вам...
— Боже меня сохрани обращаться к врачам! — воскликнул граф, выказывая, как и другие мнимые больные, отвращение к медицине.
Затем мне пришлось выслушать бессвязный рассказ: граф делал мне самые нелепые признания, жаловался на жену, на слуг, на детей, на тяжелую жизнь и с явным удовольствием повторял свои ежедневные выдумки свежему человеку, вынужденному из вежливости удивляться и проявлять к ним интерес. По-видимому, он остался мною доволен, ибо я слушал его с глубоким вниманием, стараясь понять этот непостижимый характер и отгадать, каким новым мучениям граф подвергает жену, которая скрывала их от меня. Выйдя на террасу, Анриетта положила конец этому монологу; увидев ее, граф пожал плечами и заметил:
— Вот вы, Феликс, слушаете меня; а здесь никто меня не жалеет!
И он ушел, то ли почувствовав, что помешает моему разговору с Анриеттой, то ли из рыцарского внимания к ней, догадавшись, что доставит ей удовольствие, оставив нас одних. В его характере уживались поистине необъяснимые противоречия, ибо он был очень ревнив, как все слабые люди, и в то же время питал безграничную веру в непорочность своей жены; быть может, именно муки самолюбия, уязвленного превосходством ее высокой добродетели, и были причиной его упорного сопротивления всем желаниям графини, на которые он отвечал, как ребенок, поступающий назло своей матери или учителям. Жак готовил уроки с аббатом, Мадлена пошла переодеться; целый час я мог гулять по террасе наедине с графиней.
— Я вижу, милый ангел, — сказал я, — что цепи стали еще тяжелее, пустыня пышет зноем, а терний встречается все больше.
— Молчите, — ответила она, угадав, какие мысли вызвал у меня разговор с графом. — Вы здесь — и все забыто! Я не страдаю, я даже не страдала!
Она сделала несколько легких шагов, словно подставляя ветру свой белый наряд, давая зефиру коснуться прозрачных тюлевых оборок, развевающихся рукавов, свежих лент, тонкой пелеринки и нежных локонов прически в стиле Севинье; впервые она показалась мне молоденькой девушкой, веселой и непосредственной, готовой играть, как ребенок. Я познал в этот миг слезы счастья и радость человека, дающего счастье другому.
— О моя лилия! Прекрасный цветок человеческий, моя мысль ласкает тебя, а сердце целует! — воскликнул я. — Всегда безупречная, ты высишься на стройном стебле, такая белая, гордая, благоуханная и одинокая!
— Довольно, сударь, — сказала она, улыбаясь. — Поговорим о вас. Расскажите мне все о себе.
Под зыбким шатром трепещущей листвы мы вели долгую беседу, полную бесконечных отступлений, оставленных и вновь подхваченных тем; я рассказал ей о всех событиях моей жизни, о моих занятиях, описал ей мою парижскую квартиру, ибо она хотела все знать, а мне — тогда я не ценил этого счастья! — мне нечего было скрывать от нее. Проникнув в глубину моей души, узнав все подробности моей жизни, наполненной непосильным трудом, увидев, как много мне поручено дел и как неподкупна моя честность, не позволявшая мне обманывать и обогащаться, услышав, какие обязанности я выполнял с такой безупречностью, что король, сказал я ей, назвал меня «Мадемуазель де Ванденес», она взяла мою руку и поцеловала, уронив на нее слезу радости. Эта неожиданная перемена ролей, эта высокая похвала, эта мысль, так непосредственно выраженная и сразу понятая мной: «Вот повелитель, какого я желала бы иметь! Вот мой идеал!» — скрытое признание, выраженное этим движением, в котором смирение становилось, величием, а любовь проявляла себя даже в сфере, чуждой сердцу, — вся эта буря возвышенных чувств обрушилась на мое сердце и как бы подавила меня. Я казался себе ничтожным, мне хотелось умереть у ее ног.
— Ах, — вскричал я, — вы всегда превосходите меня во всем! Как могли вы сомневаться во мне? Ведь вы только что усомнились, Анриетта!
— Я боюсь не за настоящее, — возразила она, глядя на меня с неизъяснимой нежностью, которая туманила ее взор, лишь когда он встречался с моим, — но, видя, как вы красивы, я подумала: «Наши планы относительно Мадлены будут разрушены какой-нибудь женщиной, которая угадает, какие сокровища скрыты в вашем сердце; она полюбит вас и похитит у нас Феликса, разбив всю нашу жизнь».
— Опять Мадлена! — воскликнул я с горестным удивлением, которое ее не слишком опечалило. — Неужели вы полагаете, что я верен Мадлене?
Наступило долгое молчание, которое, к несчастью, нарушил подошедший к нам г-н де Морсоф. Мне пришлось скрепя сердце поддерживать с ним тягостный разговор, ибо мои откровенные рассказы о политике, которую в то время проводил король, противоречили взглядам графа, требовавшего, чтобы я объяснил ему намерения его величества. Я задавал ему вопросы о его лошадях, о хозяйственных планах, спрашивал, доволен ли он своими пятью фермами, думает ли вырубить деревья на старой аллее — словом, всячески старался отвлечь его от политики, но он все возвращался к ней с упрямством старой девы или настойчивостью ребенка; у подобных людей мысли упорно устремляются туда, где сияет свет, они назойливо носятся вокруг, не умея проникнуть в глубину, и утомляют нашу душу так же, как большие мухи, с жужжанием бьющиеся о стекло, утомляют наш слух. Анриетта молчала. Чтобы прекратить разговор, который мог превратиться в горячий спор, если б я не сдерживал свой юный пыл, я стал соглашаться с графом, отделываясь односложными ответами и стараясь избежать бесполезных препирательств; но г-н де Морсоф был достаточно умен, чтобы понять, как оскорбительна подобная вежливость. Видя, что я во всем соглашаюсь с ним, он вспыхнул, брови его нахмурились, на лбу залегли резкие складки, желтые глаза засверкали, а красный нос налился кровью, как в тот день, когда я впервые был свидетелем охватившего его припадка безумия; Анриетта бросала на меня умоляющие взгляды, давая мне понять, что не может призвать мне на помощь свой авторитет, которым пользовалась, чтобы оправдать или защитить своих детей перед мужем. Тогда я стал отвечать графу с полной серьезностью, стараясь разными уловками успокоить его подозрительный ум.
— Бедный друг, бедный друг! — тихо шептала графиня, и эти два слова касались моего слуха, как легкое дуновение ветерка.
Затем, когда она решила, что может с успехом вмешаться в наш разговор, она сказала, подойдя к нам:
— Знаете ли вы, господа, что ваши рассуждения невыносимо скучны?
Тут графу пришлось подчиниться рыцарскому закону повиновения даме, и он прекратил разговор о политике; тогда мы, в свою очередь, заставили его поскучать, говоря о разных пустяках, и он, предоставив нам вволю прогуливаться по террасе, ушел, сказав, что у него кружится голова от этого топтания на одном месте.
Печальные догадки не обманули меня. Ласковая природа, теплый воздух, прекрасное небо, волнующая поэзия этой долины — все, что в течение пятнадцати лет успокаивало взбалмошный характер больного графа, теперь уже было бессильно. В ту пору жизни, когда в характере каждого человека шероховатости сглаживаются, а острые углы обтачиваются, стареющий граф становился все более неуживчивым. В последнее время он спорил, только чтобы спорить, без смысла, без разумных доводов; он ко всем приставал с вопросами, беспокоился по пустякам, вмешивался во все дела, требовал отчета во всех мелочах домашнего хозяйства, чем изводил и жену и слуг, лишая их всякой самостоятельности. Прежде он никогда не раздражался без причины, теперь же был вечно раздражен. Быть может, заботы о денежных делах, занятия сельским хозяйством, жизнь в постоянном движении усмиряли раньше желчный нрав, давая пищу беспокойству и занимая его ум; теперь же отсутствие занятий, возможно, усиливало его болезнь, предоставляя ее своему течению; не находя выхода в деятельности, она проявлялась в навязчивых идеях, которые подавляли его физическую природу. Он стал своим собственным врачом; постоянно рылся в медицинских справочниках, находил у себя все описанные в них болезни и без конца пекся о своем здоровье, придумывая неслыханные способы лечения, такие нелепые, что их невозможно было ни предугадать, ни выполнить. То он не мог выносить шума, а когда графиня водворяла вокруг полную тишину, вдруг жаловался, что чувствует себя, как в могиле, и заявлял, что одно дело — не шуметь, а другое — сохранять гробовое молчание, словно в монастыре траппистов. То оставался совершенно безучастным к окружающему, и все в доме облегченно вздыхали — дети играли, хозяйство шло без всяких помех, — как вдруг среди домашней суеты раздавался его жалобный вопль:
— Они хотят меня уморить! — И, обращаясь к жене, он говорил: — Милая моя, если б дело касалось ваших детей, вы бы сразу угадали, что их беспокоит, — усугубляя несправедливость этих слов холодным и язвительным тоном.
Каждую минуту он то одевался, то раздевался, следя за самыми незаметными изменениями погоды, и шагу не мог ступить, не сверившись с барометром. Несмотря на материнские заботы жены, ни одно блюдо не приходилось ему по вкусу — он уверял, что желудок у него никуда не годится и пищеварение причиняет такие боли, что он совсем не спит по ночам; и, тем не менее, он ел, пил, переваривал пищу и спал так хорошо, что мог бы порадовать самого взыскательного врача. Нелепые требования графа утомляли весь дом, ибо слуги, привыкшие к строгому укладу жизни, теперь никак не могли примениться к его противоречивым распоряжениям. Он приказывал держать окна широко открытыми, говоря, что свежий воздух необходим для его здоровья, а через несколько дней уверял, что на дворе слишком сыро или слишком жарко и свежий воздух его губит; он сердился, распекал слуг и, чтобы доказать свою правоту, отрекался от своих прежних приказов. Это отсутствие памяти или просто злая воля давали ему повод к ссорам с женой всякий раз, как она ссылалась на его собственные слова. Жизнь в Клошгурде стала так невыносима, что аббат де Доминис, человек глубоко образованный, заявил, что он поглощен решением важной проблемы, и ходил по дому с нарочито отсутствующим видом. Теперь графиня уже не надеялась, как прежде, что ей удастся скрыть в семейном кругу приступы безумного гнева, находившие на графа; слуги не раз бывали свидетелями сцен, когда беспричинная ярость их преждевременно состарившегося хозяина переходила всякие границы; они были преданы графине и скрывали это от посторонних, но Анриетта боялась, что граф, переставший считаться с уважением окружающих, может в любой день устроить публичный скандал и обнаружить свое безумие. Позже я узнал во всех ужасных подробностях, как граф обращался с женой: вместо того, чтобы утешать, он подавлял ее мрачными предсказаниями, уверяя, что она виновница всех грядущих несчастий, потому что отказывается от безумного лечения, которое он придумывал для детей. Когда графиня шла гулять с Жаком и Мадленой, граф, несмотря на безоблачное небо, предрекал, что скоро разразится гроза; если предсказание случайно сбывалось, это так льстило его самолюбию, что он не замечал вреда, нанесенного детям; когда кто-нибудь из них бывал нездоров, граф прилагал все силы, пытаясь доказать, что во всем виновата неправильная система лечения, применяемая графиней; осуждая каждый ее шаг, он всегда приходил к убийственному заключению: «Если ваши дети вновь заболеют, то лишь по вашей вине». Он вел себя так во всех мелочах домашней жизни, видел все с самой худшей стороны и вечно «каркал, словно ворон», по выражению старого кучера. Графиня распорядилась, чтобы часы еды детей не совпадали с трапезами графа, и таким образом оградила их от губительного влияния отца, принимая на себя все удары. Мадлена и Жак редко видели его. Поддавшись ослеплению, свойственному эгоистам, граф совершенно не сознавал, какое зло он причиняет близким. В откровенной беседе со мной он жаловался, что слишком добр с ними. Итак, он топтал, ломал, сокрушал все вокруг, как разъяренный бык, а потом, ранив свою жертву, уверял, что не прикасался к ней. Теперь я понял, отчего на лбу у графини появились тонкие, словно проведенные бритвой морщинки, которые я заметил еще в первый день моего приезда. Благородным сердцам свойственна стыдливость, мешающая им признаваться в своих мучениях; они гордо скрывают их от тех, кого любят, из чувства нежного сострадания. Несмотря на настойчивые расспросы, мне не сразу удалось добиться откровенного признания Анриетты. Она боялась огорчить меня и, понемногу открывая свою душу, внезапно краснела и замолкала; но вскоре я понял, какие новые осложнения внесла в домашнюю жизнь Клошгурда праздность оставшегося не у дел графа.
— Анриетта, — сказал я несколько дней спустя, показывая ей, что я понял всю глубину ее новых терзаний, — быть может, вы напрасно привели в такой порядок ваше имение, что у графа не осталось никаких забот по хозяйству?
— Нет, дорогой, — ответила она, улыбаясь, — мое положение так тяжело, что я обдумала его со всех сторон; поверьте, я рассмотрела все возможности, но не нашла никакого выхода. С каждым днем граф становится все придирчивее. Мы с господином де Морсофом постоянно находимся вместе, вот почему я не могу смягчить его раздражение, поделив с ним наши обязанности: все пойдет по-старому и станет еще мучительнее для меня. Я уже думала занять графа, посоветовав ему разводить в Клошгурде шелковичных червей; ведь у нас есть тутовые деревья, сохранившиеся с тех времен, когда в Турени процветало шелководство; но я поняла, что он по-прежнему останется домашним деспотом, а мне прибавится множество лишних хлопот. Знайте, господин наблюдатель, — сказала она, — что в молодые годы общество сдерживает дурные наклонности человека, их развитие замедляет игра страстей, стесняет уважение к людям; но позже, в одиночестве, у пожилого человека мелкие недостатки становятся тем ужаснее, чем дольше они подавлялись. Наши пороки по природе своей коварны, они не дают нам ни минуты покоя. Если мы уступили им вчера, они будут требовать того же и сегодня, и завтра, и всегда; они укрепляются на захваченных позициях и стараются их расширить. Сила милосердна, она примиряется с неизбежным, она справедлива и спокойна, тогда как страсти, порожденные слабостью, безжалостны. Они находят удовлетворение, лишь когда человек поступает, как ребенок, который предпочитает краденые фрукты тем, что ему подают за столом; так господин де Морсоф радуется, когда ему удается застать меня врасплох; и хотя прежде он никого не обманывал, теперь он с восторгом обманывает меня, лишь бы его хитрость оставалась незамеченной.
Как-то утром, через месяц после моего приезда, графиня, выйдя из-за стола, взяла меня за руку, выскользнула в решетчатую дверь, ведущую к цветнику, и быстро увлекла в виноградники.
— Ах, он меня убьет! — воскликнула она. — А я хочу жить, хотя бы для моих детей! Подумайте, ни дня передышки! Я должна вечно продираться сквозь чащу, каждую минуту рискуя упасть, каждую минуту напрягая все силы, чтобы сохранить равновесие! Ни одно существо не может вынести такого напряжения. Если б я хоть знала, с какой стороны ожидать нападения, если бы могла вовремя дать графу отпор, душа моя смирилась бы; но нет, каждый день его нападки меняются, и я остаюсь беззащитной; у меня не одна мука — их множество. Феликс, Феликс, вы не можете себе представить, какие отвратительные формы принимает его тирания, какие дикие требования внушают ему медицинские книги... О друг мой! — сказала она, склонив голову мне на плечо и прерывая свои признания. — Что со мной будет? Что делать? — Она замолчала, подавленная мыслями, которые не решалась высказать. — Как противиться ему? Он меня убьет. Нет, лучше я сама убью себя, но ведь это тяжкий грех! Убежать? А дети! Расстаться с ним? Но как я скажу отцу, что не могу выносить жизни с супругом после пятнадцати лет замужества, если в обществе моих родителей он бывает уравновешен, вежлив, почтителен и умен? Да разве у замужней женщины есть отец и мать? Душой и телом она принадлежит только мужу. Хоть я и не была счастлива, но жила спокойно и, признаюсь, черпала силы в моем целомудренном одиночестве; но если меня лишат этого утешения, я тоже сойду с ума. Мое сопротивление имеет очень веские причины, отнюдь не личного свойства. Разве не преступление давать жизнь несчастным существам, заранее обреченным на вечные муки? Однако как мне вести себя? Предо мной встают такие трудные вопросы, что я не в силах решить их сама; ведь тут я и обвиняемый и судья. Завтра я поеду в Тур и попрошу совета у моего нового духовника, аббата Биротто; мой дорогой аббат де ля Берж умер, — сказала она, прерывая себя. — Хотя он и был очень суров, мне всегда будет недоставать духовной силы этого служителя божия; преемник его кроток, как ангел, он пожалеет, вместо того чтобы сделать внушение; и все же, приобщаясь к религии, мы закаляем свое мужество! Разве решение наше не крепнет, когда мы слышим слово божие? Господи, — промолвила она, осушая слезы и поднимая глаза к небу, — за что ты караешь меня? Но надо верить, — продолжала она, опираясь на мою руку, — да, будем верить, Феликс, что, лишь пройдя через тяжкие испытания, мы сможем войти чистыми и безупречными в иной, высший мир. Должна ли я молчать? Боже, запрещаешь ли ты мне изливать свое горе на груди у друга? Разве я слишком сильно люблю его?
Она прижала меня к сердцу, словно боясь потерять.
— Кто разрешит мои сомнения? Совесть ни в чем не упрекает меня. Звезды светят людям с небес; почему же наша душа, эта светлая звезда, не может озарять своими лучами друга, если мы приближаемся к нему лишь с чистыми помыслами?
Я молча слушал этот крик отчаяния, держа дрожащую руку Анриетты в своей руке, которая дрожала еще сильней; я горячо сжимал ее, и она отвечала мне таким же горячим пожатием.
— Где вы? Вы здесь? — закричал граф, приближаясь к нам с непокрытой головой.
С тех пор как я приехал, он упорно старался участвовать во всех наших беседах, то ли надеясь немного развлечься, то ли думая, что графиня поверяет мне свои горести и жалуется на него, то ли завидуя, что не разделяет наших удовольствий.
— Он не отстает от меня, — сказала графиня с отчаянием в голосе. — Уйдем в виноградники, там мы скроемся от него. Наклоним головы и проскользнем позади этой ограды, чтоб он нас не заметил.
Мы прошли за ограду из густого кустарника и, пробежав вдоль нее, вскоре попали в аллею, обсаженную миндальными деревьями, вдалеке от графа.
— Дорогая Анриетта, — сказал я, прижимая к сердцу ее руку и останавливаясь, чтобы взглянуть в ее скорбное лицо. — Все это время вы мудро руководили мной на опасных путях высшего света; позвольте же мне теперь дать вам несколько советов и помочь вам закончить этот тайный поединок, в котором вы неизбежно погибнете, ибо сражаетесь неравным оружием. Прекратите эту борьбу с сумасшедшим...
— Молчите, — сказала она, сдерживая слезы, выступившие у нее на глазах.
— Выслушайте меня, дорогая! Когда я в течение часа говорю с графом — а я вынужден терпеть эти беседы из любви к вам, — мои мысли часто путаются и голова тяжелеет; я начинаю сомневаться в собственном рассудке, а нескончаемые рассуждения графа, помимо моей воли, оставляют след у меня в мозгу. Явная мономания не заразительна, но когда безумие проявляется в особом складе ума и прячется за бесконечными разглагольствованиями, оно может нанести непоправимый вред тем, кто постоянно общается с больным. У вас поистине ангельское терпение, но не приведет ли оно и вас к помешательству? Итак, ради себя и ради своих детей вы должны иначе обходиться с графом. Ваша бесконечная снисходительность лишь развила его эгоизм; вы обращаетесь с ним, как мать с избалованным ребенком; но теперь, если вы хотите жить... — и я поглядел ей в глаза, — а вы хотите жить! Вы должны воспользоваться властью, которую имеете над ним. Вы знаете — он любит вас и боится, — заставьте его бояться еще сильней, сдерживайте его изменчивые желания вашей разумной волей. Воспользуйтесь вашим влиянием, как он сумел воспользоваться вашей уступчивостью, и обуздайте его болезнь силой вашего духа, как обуздывают сумасшедших, надев на них смирительную рубашку.
— Дорогой мой, — ответила она с горькой улыбкой, — такая роль годится лишь для женщины без сердца, я же мать и не могу быть палачом. Да, я готова страдать, но причинять страдания другим — никогда! Даже ради благородной или великой цели! К тому же мое сердце не умеет лгать, а мне придется менять свой голос, надевать маску на лицо, следить за каждым своим движением! Не требуйте от меня такого притворства. Я могу стать между господином де Морсофом и его детьми, я готова принять на себя все удары, лишь бы они миновали других; вот все, что я в силах сделать, чтобы примирить все эти непримиримые интересы.
— Позволь мне преклониться перед тобой, о святая, трижды святая женщина! — воскликнул я и, став на колено, поцеловал край ее платья, стирая слезы, набежавшие мне на глаза. — А если он убьет вас? — спросил я.
Она побледнела и ответила, подняв глаза к небу:
— Да свершится воля господня!
— Знаете, что сказал король вашему отцу, когда разговор зашел о вас? «Старик Морсоф все еще не хочет умирать?»
— То, что звучит шуткой в устах короля, становится здесь преступлением, — ответила она.
Несмотря на наши предосторожности, граф шел по нашему следу; он догнал нас, весь в поту, в ту минуту, когда графиня остановилась под ореховым деревом и сказала мне эти суровые слова; увидев его, я заговорил о сборе винограда. Мучали ли его какие-нибудь подозрения? Не знаю. Но он стоял и молча наблюдал за нами, не обращая внимания на то, что под густым орешником было довольно свежо. Наконец, сказав несколько незначительных фраз, прерываемых многозначительными паузами, граф заявил, что у него болит сердце и голова; он сказал об этом спокойно, не стараясь разжалобить нас, не описывая свои страдания в преувеличенных выражениях. Мы не обратили никакого внимания на его слова. Вернувшись домой, он почувствовал себя еще хуже, захотел лечь в постель и ушел без церемоний к себе с несвойственной ему кротостью. Мы воспользовались передышкой, которую давало нам его мрачное настроение, и спустились вместе с Мадленой на нашу любимую террасу.
— Пойдем покатаемся на лодке, — сказала графиня, когда мы несколько раз прошлись по ней взад и вперед. — Посмотрим, как сторож удит для нас рыбу.
Мы вышли в калитку, спустились к берегу, вскочили в лодку и медленно поплыли по Эндру против течения. Как трое детей, которых занимает всякий пустяк, мы разглядывали прибрежный камыш, зеленых и синих стрекоз; графиня удивлялась, что может наслаждаться этими тихими радостями, несмотря на свою глубокую скорбь; но разве спокойная природа, равнодушная к нашей борьбе, не утешает нас своей безмятежностью? Трепет любви, полной сдержанных желаний, гармонично сливается с трепетом волн, цветы, не смятые человеческой рукой, воплощают наши тайные мечты, сладострастное покачивание челна как бы вторит мыслям, плывущим в нашем сознании. И мы безвольно отдаемся нежному очарованию этой двойной поэзии. Наши слова, сочетаясь с голосом природы, наполнялись таинственным значением, а взгляды излучали яркое сияние, отражая свет, так щедро изливаемый солнцем на сверкающие луга. Река напоминала тропинку, по которой мы тихо скользили вперед. Теперь, когда нас не отвлекала ходьба, которая невольно задерживает внимание, мы бездумно отдались обаянию природы. Шумная радость беззаботной девочки, ее грациозные движения и задорная болтовня — не было ли это живым идеалом двух свободных душ, стремящихся воплотить свою любовь в прелестном творении — мечте Платона[52], известной всем, чья молодость была озарена счастливой любовью? Чтобы описать вам этот час не во всех непередаваемых подробностях, а в его гармоничном единстве, я скажу, что мы любили друг друга в каждом живом существе, в каждом из окружавших нас творений; мы находили вне нас самих то счастье, к которому оба стремились; оно так глубоко захватило нас, что графиня сняла перчатки и опустила в воду свои прекрасные руки, словно желая остудить их тайный жар. Глаза ее говорили без слов, но уста, приоткрытые, словно лепестки розы, замкнулись бы перед всяким чувственным желанием. Вы знаете, как гармонично сливаются низкие звуки баса с высокой мелодией — такова была в ту минуту и гармония наших душ, никогда уже не повторявшаяся с тех пор.
— Где вы удите рыбу? — спросил я. — Ведь вы можете ставить сети лишь у принадлежащих вам берегов?
— Возле Пон-де-Рюана, — ответила она. — Знаете, теперь река от Пон-де-Рюана до Клошгурда протекает по нашим владениям. Господин де Морсоф недавно купил сорок арпанов земли на сделанные им за два года сбережения и на уплаченную ему за прежнее время пенсию. Вас это удивляет?
— Ах, я хотел бы, чтобы вся долина принадлежала вам! — воскликнул я.
Она улыбнулась в ответ. Мы подплыли к берегу возле Пон-де-Рюана, к тому месту, где Эндр становится шире; там и удили рыбаки.
— Ну, как дела, Мартино? — спросила графиня.
— Ах, госпожа графиня, этакая неудача! Вот уж три часа, как мы на воде, поднялись сюда от самой мельницы, а не выловили ни рыбешки.
Мы вышли на берег, чтобы посмотреть, как будут вытаскивать последние сети, и стали втроем в тени высокого тополя с белой корой, какие встречаются на Дунае, на Луаре и, вероятно, на берегах других крупных рек; весной с этих деревьев разлетаются белые шелковистые хлопья, покрывающие их, как цветы. Графиня вновь обрела свое величавое спокойствие; она почти раскаивалась в том, что открыла мне свои страдания и жаловалась, как Иов, вместо того, чтобы плакать, как Магдалина, но Магдалина, не ведающая ни любви, ни празднеств, ни веселья, хотя и одаренная красотой и обаянием. Сеть, которую разложили у ног графини, была полна рыбы: лини, усачи, щуки, окуни и огромный карп прыгали по траве.
— Как будто нарочно для вас! — сказал сторож.
Рыбаки таращили глаза, восхищаясь женщиной, которая казалась им феей, коснувшейся их сетей волшебной палочкой. Вдруг вдали показался берейтор верхом на лошади; он скакал во весь опор, и графиня в ужасе задрожала. Жак не пошел с нами, а первое побуждение встревоженной матери, как поэтично выразился Виргилий, — прижать к сердцу своих детей.
— Жак! — закричала она. — Где Жак? Что случилось с моим сыном?
Нет, она не любит меня! Если б она меня любила, то и мои страдания встречала бы с этим выражением встревоженной львицы.
— Госпожа графиня, барину стало гораздо хуже!
Она облегченно вздохнула и побежала со мной к замку, а Мадлена последовала за нами.
— Идите медленно, — сказала она мне, — чтобы моя девочка не разгорячилась. Видите, бегая за нами по жаре, господин де Морсоф вспотел, и его отдых под ореховым деревом может стать причиной ужасного несчастья.
Эти слова, сказанные с глубоким волнением, доказывали чистоту ее души. Смерть графа — для нее несчастье! Она быстро достигла Клошгурда, вошла в парк через пролом в стене и пересекла виноградник. Я медленно вернулся в замок. Слова Анриетты мне все осветили, как молния, уничтожающая собранное в амбарах зерно. Во время нашей прогулки по реке я вообразил, что я ее избранник; теперь я с горечью почувствовал, как искренне ее беспокойство. Любовник, не ставший всем, остается ничем. Значит, не она, а только я люблю, испытывая все желания пылкой страсти, которая знает, чего она хочет, заранее упивается ласками, о которых мечтает, и наслаждается душевной близостью, ибо предвидит иную близость в будущем. Если Анриетта и любила, она ничего не знала ни о радостях любви, ни о ее бурях. Она жила чувством, как святая, возносящая молитвы к богу. Я был тем, к кому стремились ее мысли и неведомые ей желания, похожие на пчелиный рой, стремящийся к цветущей ветке; но наша дружба была лишь эпизодом, а не основой ее жизни, я не был всем в ее жизни. Как развенчанный король, я спрашивал себя, кто же вернет мне мое королевство? В приступе безумной ревности я упрекал себя, что слишком мало дерзал, что не связал ее более крепкими узами, чем наша любовь, которая казалась мне теперь скорее призрачной, чем реальной, что не сковал ее цепями того права, какое дает нам обладание.
Болезнь графа, быть может, вызванная тем, что он простудился под орешником, приняла за несколько часов серьезный оборот. Я отправился в Тур за известным врачом, г-ном Ориже, но мне удалось привезти его только вечером; он пробыл у нас всю ночь и весь день. Хотя доктор послал слугу графа за пиявками, он все же решил сделать немедля кровопускание, но при нем не было ланцета. Тогда, несмотря на убийственную погоду, я помчался в Азе, разбудил хирурга — г-на Деланда, уговорил его ехать со мной, и мы прискакали, с быстротой ветра, в Клошгурд. Появись мы на десять минут позже, граф бы погиб; кровопускание его спасло. Несмотря на эту первую удачу, доктор определил горячку в самой тяжелой форме, особенно опасную для человека, ничем не болевшего чуть ли не двадцать лет. Ошеломленная графиня считала себя виновницей этой роковой болезни. Не в силах благодарить меня за все мои хлопоты, она лишь изредка дарила мне слабую улыбку, выражавшую то же чувство, с каким она недавно поцеловала мою руку; мне хотелось прочесть на ее лице угрызения совести, вызванные запретной любовью, но я видел лишь горькое раскаяние, такое трогательное в этой чистой душе, а также восхищение тем, кого она считала безупречным, обвиняя себя одну в воображаемом преступлении. Воистину, она любила так, как Лаура любила Петрарку, а не как Франческа да Римини[53] любила Паоло: ужасное разочарование для того, кто мечтал слить воедино эти два вида любви! Графиня сидела, бессильно уронив руки, в комнате графа, похожей на кабанье логово. На другой вечер, перед уходом, доктор сказал графине, которая провела ночь в засаленном кресле у постели больного, что ей следует взять сиделку. Болезнь продлится долго.
— Сиделку, — возразила она, — нет, нет! Мы будем сами ухаживать за ним. — И она взглянула на меня. — Мы оба обязаны его спасти!
Этот возглас удивил врача, и он окинул нас проницательным взглядом. Горячность ее слов, очевидно, вызвала у него подозрение, не кроется ли здесь какой-нибудь злой умысел. Он обещал приходить два раза в неделю, дал указания г-ну Деланду и объяснил, при каких опасных симптомах следует немедленно вызвать из Тура его самого.
Чтобы дать возможность графине спать хотя бы через день, я просил ее разрешить мне дежурить у графа по очереди с ней. Не без труда, на третью ночь я наконец уговорил ее лечь отдохнуть. Когда в доме все стихло, а граф впал в забытье, я услышал из комнаты Анриетты болезненные стоны. Это так встревожило меня, что я вошел к ней; она стояла на коленях перед распятием и, каясь в своей вине, заливалась слезами.
— Боже мой, если таково твое возмездие за жалобы, клянусь, я никогда не буду роптать. Как! Вы его оставили одного? — воскликнула она, увидев меня.
— Я услышал ваши стоны и испугался за вас.
— О, я совсем здорова! — ответила она.
Она захотела убедиться, что г-н де Морсоф спит; мы спустились вниз и при свете лампы вместе склонились над ним; граф очень ослабел от большой потери крови, но не спал; он лихорадочно перебирал руками, пытаясь натянуть на себя одеяло.
— Говорят, что так делают умирающие, — сказала графиня. — Ах, если он умрет от этой болезни, в которой повинны мы с вами, клянусь, я никогда не выйду замуж! — И она торжественно простерла руку над его головой.
— Я сделал все, чтобы его спасти, — сказал я.
— О, вы безупречны, — ответила она, — а я великая грешница.
Она склонилась над бледным лбом больного, стерла с него пот своими волосами и запечатлела на нем чистый поцелуй; но я увидел с тайной радостью, что она считает эту ласку искуплением.
— Бланш, воды! — еле слышно прошептал граф.
— Видите, он признает меня одну, — сказала она, подавая ему стакан.
Нежным голосом и ласковым обращением с графом она как будто старалась отречься от связывавшего нас чувства, принося его в жертву больному.
— Анриетта, — сказал я, — пойдите отдохните хоть немного, умоляю вас.
— Нет больше Анриетты, — прервала она меня властным тоном.
— Ложитесь, иначе вы заболеете. Ваши дети и он сам приказывают вам позаботиться о себе: бывают случаи, когда эгоизм становится высшей добродетелью.
— Да, — ответила она.
Она ушла, поручив графа моим заботам и делая мне такие умоляющие знаки, что они могли бы вызвать опасение за ее рассудок, если бы не были так детски наивны и не выражали глубокого раскаяния. Эта сцена, показавшая мне, как потрясена ее чистая душа, очень встревожила меня; я боялся, что для нее опасно такое чрезмерное возбуждение. Когда приехал врач, я открыл ему, какие нелепые угрызения совести терзают мою светлую Анриетту. Хотя я был очень сдержан, моя откровенность развеяла подозрения г-на Ориже, и он успокоил тревогу этой невинной души, заверив, что при всех условиях граф не мог бы избежать болезни и что его пребывание под ореховым деревом было скорей полезным, чем вредным, ибо ускорило ее развитие.
В течение пятидесяти двух дней жизнь графа висела на волоске; мы с Анриеттой по очереди дежурили возле него и провели по двадцать шесть ночей у его постели. Несомненно, г-н де Морсоф выжил только благодаря нашим неустанным заботам и педантичной точности, с какой мы выполняли все предписания г-на Ориже. Этот врач, похожий на всех медиков-философов, которым жизненный опыт и проницательность дают право сомневаться в благородных поступках, считая их лишь выполнением тайного долга, присутствовал при борьбе великодушия между мной и графиней и порой бросал на нас испытующие взгляды, боясь, что напрасно восхищается нами.
— При подобном заболевании, — сказал он мне, придя к графу в третий раз, — смерть находит себе быстрого помощника в душевном состоянии больного, особенно если оно так расстроено, как у графа. Врач, сиделка, все окружающие держат его жизнь в своих руках, ибо одно неосторожное слово, один испуганный взгляд могут оказаться сильнее яда.
Говоря так, Ориже внимательно следил за моим лицом и поведением, но увидел у меня в глазах лишь отражение чистой совести. И правда, за все время тяжелой болезни графа у меня не промелькнуло и тени низкой мысли, какие порой невольно рождаются в самых невинных душах. Кто созерцал величие природы, тот и сам стремится к совершенству и гармонии. Наш внутренний мир должен уподобляться этому образцу. В чистой атмосфере все чисто. Подле Анриетты все дышало небесным благоуханием, казалось, всякое нескромное желание навек отдалило бы вас от нее. Итак, она была для меня не только воплощением счастья, но и олицетворением добродетели. Видя, что мы всегда так заботливы и внимательны к больному, доктор, казалось, был тронут и держался с нами с ласковой почтительностью, как будто говорил про себя: «Вот кто поистине болен, но они прячут свою рану и забывают о ней!» Г-н де Морсоф, по странному противоречию, которое, как говорил наш превосходный доктор, часто наблюдается у людей с таким подорванным здоровьем, стал теперь чрезвычайно послушным, терпеливым, никогда не жаловался и проявлял удивительную покорность, тогда как прежде, когда он чувствовал себя хорошо, каждая мелочь вызывала бесконечные пререкания. Причиной такого полного подчинения медицине, которую он недавно решительно отвергал, был тайный страх смерти — еще одно противоречие в характере человека безупречной храбрости! Этим страхом можно было объяснить и многие другие странности, появившиеся у графа, которого так изменили постигшие его несчастья.
Признаться ли вам, Натали, и поверите ли вы мне? Пятьдесят дней болезни графа и месяц после нее были лучшей порой моей жизни. Разве любовь, возникающую в бесконечных просторах нашей души, нельзя уподобить глубокой реке в цветущей долине — в ее воды изливаются дожди, стекают ручьи и потоки, падают листья и цветы, скатываются прибрежные камни и даже глыбы с вершин далеких утесов? Река становится многоводной, принимая и грозовые ливни и медленные струи прозрачных источников. Да, если любишь, любовь все объемлет. Когда первая опасность миновала, мы с графиней мало-помалу применились к болезни графа. Несмотря на постоянный беспорядок, внесенный уходом за больным, его запущенная комната понемногу превратилась в чистый и уютный уголок. И вскоре мы почувствовали себя там, как два человека, выброшенные бурей на необитаемый остров; ибо несчастье не только отделяет людей от общества, но избавляет их также от жалких предрассудков, принятых в нем. Заботы о больном принуждали нас к тесному общению, недопустимому при иных обстоятельствах. Как часто наши руки, прежде такие робкие, встречались теперь, когда мы оказывали услуги графу! Разве помогать Анриетте и поддерживать ее не было моим долгом?! Порой, боясь отойти от больного и карауля его, как часовой на посту, она забывала поесть; тогда я ставил ей прибор на колени и, пока она наспех проглатывала обед, прислуживал ей. То была детски невинная идиллия на краю разверзшейся могилы. Анриетта торопливо приказывала мне, что надобно делать, чтобы облегчить страдания графа, и давала мне множество мелких поручений. В первые дни, когда нависшая над нами грозная опасность смела, как во время сражения, все принятые в обычной жизни условности, г-жа де Морсоф невольно отступила от строгих правил, которые всякая, даже самая бесхитростная женщина соблюдает в речах, в манерах, в поведении, если находится в обществе или в кругу семьи, и которые ей не нужны в более интимной обстановке. На заре, с первым пением птиц, она часто приходила будить меня в утреннем наряде, позволявшем мне порой разглядеть восхитительные сокровища, которые в безумных мечтах я называл своими. Могла ли она не стать мне более близкой, хотя и оставалась по-прежнему гордой и величавой? К тому же, в первые дни опасность лишила всякого оттенка страстности невинные вольности, которые мы себе позволяли, так что она не видела в них ничего дурного; а потом, когда жизнь вошла в обычную колею, Анриетта, вероятно, подумала, что для нас обоих было бы оскорбительно, если бы она изменила свое обращение со мной. Мы незаметно сближались все больше и сделались наполовину супругами. Она с гордостью оказывала мне доверие, столь же уверенная во мне, как и в себе. Это значило, что я проник еще глубже в ее сердце. Графиня снова стала моей Анриеттой, вынужденная еще сильнее любить того, кто старался стать ее вторым «я». Вскоре мне уже не приходилось ждать как милости ее руки, она покорно оставляла ее в моей при первом умоляющем взгляде; я мог в упоении любоваться прекрасными линиями ее тела в те долгие часы, когда мы прислушивались к дыханию спящего графа, и она уже не избегала моих взглядов. Скромные наслаждения, которые мы себе позволяли, — нежные взоры, слова, произносимые шепотом, чтобы не потревожить сон больного, опасения и надежды, тихо поверяемые друг другу, и, наконец, множество мелочей, говоривших о полном слиянии двух истомившихся в разлуке сердец, — все это освещало нашу жизнь, омраченную тенью скорби. Мы до глубины познали наши души в этом испытании, которого часто не могут выдержать самые горячие привязанности, ибо даже любящих людей тяготит ежечасное общение, и они расстаются, находя совместную жизнь либо слишком тяжелой, либо слишком пустой. Вы знаете, сколько бед приносит с собой болезнь хозяина дома, прерывая все дела, не оставляя никому свободного времени; выключившись из жизни, он нарушает привычный уклад своей семьи и всего дома. Хотя в последнее время все хлопоты по хозяйству лежали на г-же де Морсоф, граф все же оказывал ей некоторую помощь: он вел переговоры с фермерами, встречался с деловыми людьми, занимался денежными вопросами; если душой дома была она, то телом оставался он. Теперь я стал управляющим графини, чтобы она могла ухаживать за мужем, не опасаясь, что все придет в упадок. Она принимала мою помощь просто, без изъявлений благодарности. Я делил с ней заботы по дому, передавал приказы от ее имени, и это еще больше укрепило наше нежное содружество. Часто по вечерам я разговаривал с ней в ее комнате о домашних делах и о детях. Эти беседы придавали новый оттенок правдоподобия нашему мнимому супружеству. С какой радостью Анриетта предоставляла мне играть роль ее мужа, занимать за столом его место, разговаривать вместо него со сторожем, и все это в полной невинности души, но не без тайного удовольствия, какое испытывает даже самая добродетельная женщина, найдя способ точно соблюдать букву закона, удовлетворяя при этом свое скрытое желание. Обессиленный болезнью, граф больше не угнетал жену и домочадцев; теперь графиня вновь обрела себя, она получила право заниматься мной и окружила меня множеством забот. С какой радостью я угадывал ее желание — быть может, не вполне осознанное, но прелестно выраженное — раскрыть передо мной свой характер, все свои достоинства и показать, что она становится совсем иной с человеком, который ее понимает! Этот цветок, свернувший лепестки в холодной атмосфере семейной жизни, распускался на моих глазах и для меня одного; ей доставляло такую же радость раскрываться передо мной, какую я испытывал, с удивлением любуясь ею. Каждой мелочью она доказывала мне, что я всегда занимаю ее мысли. В те дни, когда, проведя ночь у больного, я спал допоздна, Анриетта вставала раньше всех и заботилась о том, чтобы вокруг меня была полнейшая тишина. Жак и Мадлена, сами того не замечая, играли вдалеке; она находила тысячи уловок, чтобы самой поставить на стол мой прибор; наконец, когда она подавала мне завтрак, какая радость сквозила в каждом ее жесте, какая легкость ласточки была в движениях, как пылали ее щеки, как дрожал голос, каким вниманием сияли глаза!
Можно ли описать эти восторги души! Часто она падала от усталости, но если случалось, что в такие минуты ей надо было позаботиться обо мне или о детях, она находила в себе новые силы и снова принималась за дело — проворная, живая и веселая. Как она любила озарять все вокруг горячими лучами своей нежности! Ах, Натали! Да, на земле встречаются еще женщины с душою ангела, излучающие особое сияние, которое Неведомый философ Сен-Мартен называл одухотворенным, сладкозвучным и благоуханным. Уверенная в моей скромности, Анриетта порой приподнимала передо мной плотную завесу, скрывавшую наше будущее, и показывала мне двух женщин, живущих в ней: одну, скованную цепями и пленившую меня, несмотря на свою суровость, и другую — свободную, нежную и призванную сделать вечной мою любовь. Как они были несхожи! Г-жа де Морсоф — это райская птичка, привезенная в холодную Европу; она сидит, грустно нахохлившись, на жердочке и молча умирает в клетке, куда ее запер птицелов; Анриетта — это звонкоголосая птица, распевающая восточные мелодии в роще на берегу Ганга и, словно живой алмаз, порхающая с ветки на ветку вечноцветущей волькамерии. Красота ее стала ярче, ум живее. Но радостный свет, горевший у нас в сердцах, был нашей тайной, ибо взгляд аббата Доминиса, этого представителя общества, был более опасен для Анриетты, чем взгляд г-на де Морсофа. Ей, как и мне, доставляло большое удовольствие выражать свои мысли искусными иносказаниями; она скрывала свою радость за веселой шуткой и прятала свою нежность под блестящей завесой признательности.
— Мы подвергли вашу дружбу суровым испытаниям, Феликс! Правда, господин аббат, теперь мы можем разрешить ему такие же вольности, как и Жаку? — говорила она за столом.
Суровый аббат отвечал ей благосклонной улыбкой набожного человека, который читает в людских сердцах и видит, когда они чисты; к тому же он питал к графине глубокое уважение и чтил ее почти как святую. Лишь два раза за эти пятьдесят дней графиня, быть может, преступила границы, которые мы поставили нашей нежности, но и эти два случая были скрыты в туманной дымке, которая рассеялась лишь в день последних признаний. Как-то утром, в первые дни болезни графа, когда Анриетта уже раскаивалась, что обошлась со мной так сурово и лишила невинных поблажек, которые давала моей целомудренной привязанности, я ждал ее возле больного: она должна была меня сменить.
Я очень устал и заснул, прислонившись головой к стене. Внезапно я проснулся, чувствуя, что моего лба коснулось что-то свежее, словно к нему приложили розу. Открыв глаза, я увидел графиню в трех шагах от меня.
— Я пришла, — сказала она.
Я встал, чтобы уйти; но, здороваясь с ней, я взял ее за руку и почувствовал, что пальцы ее влажны и дрожат.
— Вам тяжело? — спросил я.
— Почему вы спрашиваете об этом? — ответила она вопросом.
Я взглянул на нее, смешался и покраснел.
— Я видел сон, — сказал я.
Как-то вечером, когда доктор Ориже, во время одного из своих последних визитов, решительно заявил, что здоровье больного идет на поправку, я отдыхал на крыльце с Жаком и Мадленой; мы улеглись на ступеньках, поглощенные игрой в бирюльки, которые мы тянули соломинками с крючками из булавок. Г-н де Морсоф спал. В ожидании, пока запрягут лошадей, графиня сидела в гостиной и тихонько разговаривала с доктором. Я не заметил, как он уехал. Проводив его, Анриетта оперлась на подоконник и, по-видимому, некоторое время незаметно следила за нами. Стоял один из тех теплых вечеров, когда небо постепенно принимает медный оттенок, а воздух наполняется множеством неясных звуков. Последний луч солнца угасал на крышах, цветы благоухали в саду, вдали звенели колокольчики возвращавшегося стада. Мы поддались очарованию этого тихого вечера и сдерживали голоса, чтобы не разбудить графа. Вдруг мне послышался шелест женского платья и звук подавленного рыдания. Я бросился в гостиную и увидел, что графиня сидит в амбразуре окна, закрыв лицо платком; она узнала мои шаги и повелительным жестом приказала мне оставить ее одну. С тревогой в сердце я все же подошел к ней и попытался отнять платок от ее лица — оно было залито слезами; она убежала в свою комнату и не выходила до самой молитвы. В первый раз за пятьдесят дней я увел ее на террасу и спросил, в чем причина ее огорчения; но она приняла беспечный вид и объяснила свои слезы радостным известием, которое неожиданно сообщил ей Ориже.
— Анриетта, Анриетта, — возразил я, — вы знали это еще до того, как я застал вас в слезах. Между нами не должно быть лжи, это было бы чудовищно. Почему вы не позволили мне осушить ваши слезы? Неужто я был их причиной?
— Я подумала, — отвечала она, — что для меня эта болезнь была лишь передышкой в страданиях. Теперь, когда я уже не дрожу за жизнь господина де Морсофа, мне придется дрожать за себя.
Она была права. С выздоровлением графа вернулись и его прежние сумасбродства: он уверял, что ни жена, ни врач, ни я — никто не умеет его лечить, что мы не разбираемся ни в его болезни, ни в его характере, не понимаем его страданий и не даем ему нужных лекарств; Ориже следует какой-то непонятной системе и находит, что у него нарушено действие органов секреции, тогда как врачу следовало бы заниматься только поджелудочной железой. Однажды, бросив на нас хитрый взгляд, как человек, заметивший или угадавший наши козни, он сказал, усмехаясь, жене:
— Что ж, дорогая, если б я умер, вы, вероятно, пожалели бы меня, но, признайтесь, вы бы скоро утешились...
— Я бы носила придворный траур: черный с розовым, — ответила она, смеясь, чтобы заставить мужа замолчать.
Но часто, особенно если речь шла о диете, на которой настаивал доктор, запрещая выздоравливающему есть в свое удовольствие, граф кричал и устраивал дикие сцены, не шедшие ни в какое сравнение с прежними, ибо характер его после вынужденной спячки, если можно так выразиться, сделался еще ужасней. Опираясь на авторитет врача, на покорность слуг и на мою поддержку, ибо я видел в этой борьбе средство научить Анриетту подчинять себе мужа, она нашла силы сопротивляться графу; теперь ей уже удавалось с полным спокойствием встречать его буйные выходки и громкие крики; она приучила себя смотреть на него, как на неразумного ребенка, каким он, в сущности, и был, и стойко сносить его брань. Я был счастлив, видя, что она наконец взяла верх над этим болезненным умом. Граф кричал, но покорялся. И тем скорее покорялся, чем больше кричал. Несмотря на одержанную победу, Анриетта порой плакала, глядя на этого слабого, исхудавшего старика с желтым лицом, похожим на увядший лист, с бесцветными глазами и дрожащими руками; она упрекала себя в жестокости и подчас потакала ему, не в силах лишить его радости, которую читала у него в глазах, когда, отмеряя ему порцию, нарушала строгий запрет врача. Она была тем ласковее и нежнее с мужем, чем больше уделяла мне внимания; однако я видел разницу в ее отношении к нему и ко мне; и это наполняло безграничной радостью мое сердце. С графом она не была такой неутомимой и часто звала слуг, чтобы они ухаживали за ним, когда ее тяготили вечные капризы и упреки больного, который жаловался, что его никто не понимает.
Вскоре графиня пожелала возблагодарить бога за выздоровление г-на де Морсофа и, заказав мессу, попросила меня пойти с ней в церковь; я проводил ее, но во время богослужения пошел навестить г-жу и г-на де Шессель. На обратном пути она стала выговаривать мне.
— Анриетта, — ответил я ей, — я не способен лицемерить. Я готов броситься в воду и спасти тонущего врага или отдать ему свой плащ, когда он замерзает; я даже могу простить его, но не в силах забыть оскорбления.
Она ничего не ответила и прижала к сердцу мою руку.
— Вы ангел доброты, вы были чистосердечны во всех ваших милосердных поступках, — продолжал я. — Когда королева спросила мать принца де ля Пэ[54], которую спасли от обезумевшей толпы, едва не растерзавшей ее; «Что же вы делали?», — она ответила: «Я молилась за них!» Таковы женщины. Я же мужчина и потому несовершенен.
— Не клевещите на себя, — возразила она, с силой сжимая мне руку, — быть может, вы поступаете лучше, чем я.
— Да, — сказал я, — ибо я отдал бы вечное блаженство за один день счастья, а вы...
— Что я? — спросила она, гордо глядя на меня.
Я замолчал и опустил глаза, не выдержав ее горящего взгляда.
— Я! — продолжала она. — О каком «я» вы говорите? Я чувствую в себе несколько «я». Эти двое детей, — и она указала на Жака и Мадлену, — тоже мои я. Феликс! — воскликнула она голосом, полным душевной муки. — Неужели вы считаете меня эгоисткой? Неужели вы думаете, что я не способна пожертвовать вечным блаженством тому, кто пожертвовал мне своей жизнью? И все же эта мысль чудовищна, она убивает всякое религиозное чувство. Поднимется ли когда-нибудь женщина, так низко павшая? Может ли счастье оправдать ее? И вы хотите, чтобы я решала эти вопросы!.. Да, я открою вам тайну моего сердца: эта мысль часто тревожила мою совесть, я часто изгоняла ее покаянием и молитвой, она была причиной слез, о которых вы спрашивали меня на днях.
— Не придаете ли вы слишком большое значение тому, что так высоко ценят заурядные женщины и что вы...
— Как, — сказала она, прерывая меня, — а вы цените это меньше?
Такая логика поставила меня в тупик.
— Так знайте же! — продолжала она. — Да, у меня хватило бы низости покинуть бедного старика, для которого нет жизни без меня! Но, друг мой, ведь тогда эти два хрупких создания, которые идут впереди нас, Жак и Мадлена, остались бы с отцом? Так отвечайте же мне, прошу вас, проживут ли они хотя бы три месяца под надзором этого безумного человека? Если б, нарушив свой долг, я распоряжалась только собой... — На лице ее мелькнула трогательная улыбка. — Но разве это не значило бы погубить своих детей? Их смерть была бы неизбежна. Боже мой, — вскричала она, — зачем мы говорим об этом! Женитесь и дайте мне умереть!
Она произнесла эти слова с такой горечью, с такой глубокой скорбью, что усмирила мою взбунтовавшуюся страсть.
— Вы сетовали там, под орешником, — сказал я, — теперь я сетую тут, под ольхой, — вот и все. Впредь я буду молчать.
— Ваше великодушие убивает меня, — ответила она, подняв глаза к небу.
Мы вышли на террасу и застали там графа, сидящего в кресле на солнышке. При виде его изможденного лица, которое оживляла лишь бледная улыбка, огонь, пробившийся сквозь пепел в моей душе, погас. Я облокотился на перила, вглядываясь в представившуюся мне печальную картину: полуживой старик, возле него двое болезненных детей и молодая жена, побледневшая от бессонных ночей, похудевшая от непосильных трудов и постоянных тревог, а быть может, и от радостей, пережитых за эти два ужасных месяца; щеки ее, однако, разгорелись после нашего разговора. Глядя на эту грустную семью, собравшуюся под сенью трепещущей листвы, сквозь которую проникал тусклый свет затянутого облаками осеннего неба, я почувствовал, как во мне рвутся нити, связывающие тело с душой. Первый раз в жизни я испытал упадок душевных сил, знакомый, как говорят, даже самым закаленным бойцам в разгаре битвы, нечто вроде помешательства, которое превращает храбреца в труса, верующего в безбожника, и делает нас равнодушными ко всему, даже к самым сильным чувствам, таким, как гордость и любовь; ибо сомнение отнимает у нас веру в себя и внушает отвращение к жизни. О, бедные, мятущиеся создания, которых богатство натуры делает беззащитной игрушкой в руках злого рока, кто вас поймет и кто вас оценит? Я понял, как случилось, что смелый воин, уже протянувший руку за жезлом французского маршала, искусный дипломат и бесстрашный полководец мог стать тем невольным убийцей, каким я видел его теперь! Неужели мои желания, сегодня увенчанные розами, тоже могут привести к подобному концу? И причина и следствие меня ужаснули и, словно неверующий, я спрашивал себя: в чем же здесь воля провидения? Я не мог сдержаться, и две слезы скатились у меня по лицу.
— Что с тобой, милый Феликс? — услышал я детский голосок Мадлены.
Затем Анриетта разогнала мои мрачные мысли и сняла тяжесть с моей души сочувственным взглядом, который проник мне в сердце, как солнечный луч. В эту минуту старый берейтор подал мне письмо из Тура; услышав мой удивленный возглас, г-жа де Морсоф вздрогнула. Я увидел государственную печать — меня призывал король. Я протянул ей письмо, и она все поняла с первого взгляда.
— Он уезжает! — сказал граф.
— Что будет со мной? — спросила она, словно впервые увидев себя среди мрачной пустыни.
Мы стояли ошеломленные, эта мысль подавляла нас, никогда мы так сильно не чувствовали, что мы все необходимы друг другу. Голос графини, даже когда она говорила со мной о самых безразличных вещах, утратил свою звучность, как инструмент, у которого часть струн оборвана, а остальные ослабли. Движения ее стали вялы, а глаза потускнели. Я попросил ее поделиться со мной своими мыслями.
— Да разве у меня есть мысли? — ответила она.
Графиня увела меня в свою комнату, усадила на диван, вынула сверток из ящика туалета и, опустившись передо мной на колени, сказала:
— Вот волосы, которые я потеряла за этот год, они принадлежат вам, когда-нибудь вы узнаете, почему.
Я медленно склонился над ней, и она не отвернулась, чтоб избежать прикосновения моих губ; я тихо прижался к ее лбу чистым поцелуем без опьяняющего волнения, без чувственного трепета, но с благоговейной нежностью. Хотела ли она всем пожертвовать мне? Или, как и я когда-то, она лишь шла по краю бездны? Если б она была готова отдаться любви, то не сохранила бы такого глубокого спокойствия, такого непорочного взгляда и не сказала бы мне своим чистым голосом:
— Вы больше не сердитесь на меня?
Я выехал поздно вечером; она захотела проводить меня до Фрапельской дороги, и мы остановились возле орехового дерева; указав на него, я рассказал ей, как увидел ее здесь четыре года назад.
— Долина была так красива! — воскликнул я.
— А теперь? — с живостью спросила она.
— Вы стоите под ореховым деревом, и вся долина принадлежит вам.
Она склонила голову, и тут мы простились. Она села в коляску вместе с Мадленой, а я в свою — один. По возвращении в Париж мне пришлось, к счастью, целиком отдаться неотложной работе, которая поглощала все мои силы, принуждая держаться вдали от светского общества, где обо мне забыли. Я переписывался с г-жой де Морсоф и каждую неделю посылал ей свой дневник, а она отвечала мне два раза в месяц. Я жил безвестной, но полной жизнью, напоминавшей густые, никому не ведомые заросли, которыми я любовался в лесной чаще, создавая свои поэмы из цветов в последние две недели пребывания в Клошгурде.
О вы, любящие сердца! Возлагайте на себя такие же прекрасные обязанности, создавайте себе и свято выполняйте правила, подобные тем, какие установила церковь для христиан на каждый день. Великая идея заключена в строгом соблюдении устава, созданного римско-католической религией: ежедневно повторяемые обряды углубляют борозды, проложенные долгом в нашем сознании, и сохраняют у нас в душе надежду и страх божий. Наши живые чувства, подобно ручейкам, стекают в эти русла, которые сдерживают их разлив, очищают их струи, беспрестанно освежают наше сердце и наполняют жизнь неисчислимыми сокровищами скрытой веры, этого божественного источника, в котором обретает свое многообразие единая мысль и единая любовь.
Моя любовь, овеянная духом средневековья и рыцарства, стала, я и сам не знаю как, известна в светском обществе; быть может, король говорил о ней с маркизом де Ленонкуром. Из высших сфер эта романтическая и в то же время простая история молодого человека, который боготворит прекрасную женщину, живущую вдали от общества, величавую в своем одиночестве и верную своему другу вопреки супружескому долгу, очевидно, распространилась в Сен-Жерменском предместье. В гостиных я стал предметом стеснявшего меня внимания, ибо скромная жизнь имеет такие преимущества, что, испытав их, мы страдаем, когда нам приходится выставлять себя напоказ. Как глаза, привыкшие к мягким тонам, не выносят яркого света, так иные умы не любят резких контрастов. Таким был и я в то время; быть может, это вас удивляет, но наберитесь терпения, и вы узнаете причины странностей теперешнего Ванденеса.
Итак, женщины были благосклонны ко мне, а свет встречал весьма доброжелательно. После женитьбы герцога Беррийского двор снова обрел былой блеск, и в Париже возобновились пышные празднества. Пришел конец иностранной оккупации, началось новое процветание, а с ним и всевозможные развлечения. Люди, прославившиеся знатностью или богатством, стекались со всех краев Европы в столицу разума, где они могли найти все преимущества других стран, а также их пороки, только более изощренные и развитые с чисто французским вкусом. В середине зимы, через пять месяцев после того, как я покинул Клошгурд, мой ангел-хранитель Анриетта прислала мне отчаянное письмо, где сообщала о тяжелой болезни сына, который, к счастью, выжил, но его здоровье все еще внушало серьезные опасения; доктор говорил, что больная грудь Жака требует неустанных забот — ужасный приговор в устах врача, омрачающий каждую минуту в жизни матери. Едва Анриетта успела вздохнуть, едва Жак стал поправляться, как начались новые тревоги, вызванные нездоровьем его сестры. Мадлена, этот прелестный цветок, выросший лишь благодаря нежному уходу матери, вступила в переходный возраст, естественный, но опасный для такого хрупкого создания. Графиня, измученная тревогой и усталостью после долгой болезни Жака, не находила в себе сил, чтобы мужественно встретить этот новый удар, а болезнь двух горячо любимых детей сделала ее равнодушной к усилившимся придиркам ее мужа. Итак, все более жестокие бури обрушивались на нее, сметая все на своем пути и унося надежды, глубоко укоренившиеся в ее сердце. В конце концов она покорилась тирании графа, и он, воспользовавшись ее слабостью, снова занял свои прежние позиции.
«Когда все силы мои были поглощены детьми, — писала она, — могла ли я противиться господину де Морсофу, могла ли бороться с его нападками, ведь мне приходилось бороться со смертью! Теперь же, ослабевшая и одинокая, я бреду между двумя печальными созданиями, и меня охватывает непреодолимое отвращение к жизни. Какую боль могу я еще почувствовать, на какую привязанность могу теперь ответить, когда я вижу на террасе неподвижного Жака, жизнь которого теплится лишь в прекрасных глазах, таких огромных после болезни и ввалившихся, как у старика; эти глаза говорят — о роковое пророчество! — о преждевременном развитии ума в его тщедушном теле. Когда я смотрю на Мадлену, прежде такую живую, ласковую, румяную, а теперь бледную как смерть, мне кажется, что глаза и волосы ее потускнели, и она поднимает ко мне угасающий взор, словно прощается со мной; ни одно кушанье не нравится ей, а если она захочет чего-нибудь отведать, меня пугают странные причуды ее вкуса; невинная девочка, дитя моего сердца, краснеет, поверяя мне свои желания. Несмотря на все усилия, мне не удается развлечь моих детей; они улыбаются мне, но их принужденные улыбки, вызванные моими уловками, идут не от сердца; они плачут, что не могут отвечать на мои ласки. Страдания опустошили их души и ослабили даже связывающие нас узы. Теперь вы видите, каким печальным стал Клошгурд: господин де Морсоф беспрепятственно правит в нем... О, мой друг, моя гордость! — писала она дальше. — Вы, должно быть, и вправду сильно любите меня, если все еще можете любить, несмотря на то, что я так измучена, неблагодарна и словно окаменела от горя!»
В ту пору, когда я до глубины души был захвачен своим чувством, когда я жил, лишь погрузившись в эту душу, которую старался овеять светлым утренним ветерком и вдохнуть в нее надежду, озаряющую закатные вечера, я стал встречать в великосветских гостиных одну из знаменитых английских леди, которые властвуют там, как королевы. Несметное богатство, родовитая семья, которая со времени победы ни разу не породнилась с человеком низкого происхождения, брак со знатным стариком, одним из самых выдающихся пэров Англии, — все эти преимущества, подобно ярким украшениям, лишь подчеркивали красоту этой женщины, ее обаяние, изысканные манеры, остроумие, особый блеск, сначала ослеплявший, а затем покорявший вас. В те дни она стала кумиром парижского общества, и тем успешней царила в нем, что обладала необходимыми для этого качествами: железной ручкой под бархатной перчаткой, по выражению Бернадотта. Вам знаком странный нрав англичан: они гордо отгораживают себя непреодолимым Ла-Маншем и холодным проливом святого Георга от всех смертных, которые не были им представлены; человечество кажется им жалким муравейником, по которому равнодушно ступают их ноги; они признают людьми лишь тех, кого допускают к себе; они даже не понимают языка остальных; пусть кто-то смотрит и шевелит губами, — ни взгляды, ни голоса к ним не доходят: для них эти люди не существуют. Таким образом, англичане и среди нас живут как бы на своем острове, где все подчинено строгому закону, где все сферы жизни единообразны, где даже добродетели как будто приводятся в действие механизмом, который работает в указанные часы. Английская женщина окружена непроницаемой стеной, она сидит, как в клетке, прикованная золотой цепочкой к семейному очагу; ее кормушка и поильник, жердочки и гнездышко восхитительны, и все это придает ей неотразимое очарование. Никогда ни в одной стране замужнюю женщину не принуждали к такому лицемерию, постоянно держа ее на грани общественной жизни и общественной смерти; для нее нет промежуточных ступеней между честью и позором: либо она совершает непоправимую ошибку, либо она чиста; все или ничего; это в полном смысле: «To be or not to be»[55], как у Гамлета. Стоя перед подобным выбором, английская женщина, привыкнув к высокомерному презрению, вошедшему в этой стране в обычай, стала совсем особым существом. Это жалкое создание, добродетельное по необходимости, но всегда готовое пасть, обреченное вечно скрывать ложь в своем сердце, но полное внешнего очарования, ибо англичане придают значение только внешности. Вот чем объясняется особая прелесть англичанок: восторженная нежность, в которой для них поневоле заключена вся жизнь, преувеличенные заботы о себе, утонченность их любви, так изящно изображенной в знаменитой сцене «Ромео и Джульетты», где гений Шекспира в одном образе показал нам сущность английской женщины. Что мне сказать вам — ведь вы столько раз им завидовали, — чего бы вы не знали сами об этих бледных сиренах, поначалу таких загадочных, а потом таких понятных; они верят, что любовь питается только любовью, и вносят скуку в наслаждения, ибо никогда их не разнообразят; в душе у них всегда звучит одна струна, голос повторяет один и тот же слог, но тот, кто не плавал с ними по океану любви, никогда не познает всей поэзии чувств, как тот, кто не видел моря, никогда не овладеет всеми струнами своей лиры. Вы знаете, почему я так говорю. Мой роман с леди Дэдлей получил роковую известность. Я был в том возрасте, когда чувства побеждают решения рассудка, особенно у молодого человека, чьи желания так жестоко подавлялись; однако образ святой женщины, которая терпела медленную пытку в Клошгурде, так ярко сиял в моем сердце, что сначала я устоял перед соблазном. Моя верность придавала мне особую привлекательность в глазах леди Арабеллы. Мое сопротивление разожгло ее страсть. Как и многие англичанки, она любила все блестящее и экстравагантное. Ей хотелось перцу, остроты в сердечных утехах, вроде того, как многие англичане добавляют в пищу жгучие приправы, чтобы подстегнуть свой аппетит. Жизнь светских женщин с ее неизменной благопристойностью, строгостью правил и привычной размеренностью кажется им бесцветной, однообразной, и они восхищаются всем романтическим и недоступным. Я не сумел разгадать этот характер. Чем больше я замыкался в холодном презрении, тем сильнее разгоралась страсть леди Дэдлей. Эта борьба, в которой она поставила на карту свою гордость, возбудила любопытство в нескольких салонах, что было ее первой удачей, ибо она видела в этом залог успеха. Ах, я был бы спасен, если бы какой-нибудь друг передал мне жестокие слова, сказанные ею о г-же де Морсоф и обо мне:
— Меня раздражает это воркование двух голубков!
Не пытаясь оправдать свою измену, я хочу лишь обратить ваше внимание, Натали, на то, что у мужчины меньше возможностей противиться женщине, чем у вас — отвергать наши домогательства. Обычай запрещает нашему полу оказывать решительное сопротивление, которое у вас служит приманкой для влюбленных, к тому же вам оно диктуется правилами приличия; у нас же, напротив, по какому-то неписаному закону мужской галантности сдержанность считается смешной; мы признаем скромность вашей привилегией и предоставляем вам право принимать поклонение; но если мы поменяемся ролями, мужчину осыплют насмешками. Хотя меня и охраняла моя любовь, я был в том возрасте, когда человек не может оставаться равнодушным к обольщению тройных чар: красоты, гордости и преданности. Когда леди Арабелла на балу, где она была царицей, как бы бросала к моим ногам поклонение, которым ее окружали, и искала моего взгляда, чтобы прочитать в нем, понравилась ли она мне в новом наряде, а видя, что понравилась, трепетала от восторга, мне против воли передавалось ее волнение. К тому же она бывала там, где я не мог избежать встречи с ней: мне было трудно отказываться от некоторых приглашений, исходивших из дипломатических кругов; ее положение открывало перед ней все салоны, и с ловкостью женщины, умеющей добиваться своей цели, она подстраивала так, что хозяйка дома сажала ее подле меня; затем она принималась шептать мне на ухо.
— Если бы вы любили меня, как госпожу де Морсоф, — говорила она, — я бы всем пожертвовала ради вас.
Смеясь, она предлагала мне самые унизительные для нее условия; обещала сохранять полную тайну и просила лишь позволить ей любить меня. Однажды она сказала мне фразу, которая могла бы удовлетворить самое надутое тщеславие и самые необузданные желания молодого человека:
— Я буду вам другом всегда и любовницей, как только вы пожелаете!
Наконец она задумала поймать меня в ловушку, воспользовавшись моей доверчивостью: подкупила моего лакея и после званого вечера, на котором была особенно хороша и убедилась, что сумела разжечь мое желание, оказалась ночью у меня в комнате. Этот скандал прогремел на всю Англию, и ее чопорная аристократия была потрясена не менее, чем херувимы при виде падшего ангела. Леди Дэдлей, покинув британские Эмпиреи, отказалась от состояния мужа и решила затмить своими жертвами ту, чья добродетель была причиной этого нашумевшего события. Леди Арабелла, как демон, взлетевший на купол храма, захотела раскрыть передо мной самые пышные чертоги своего пламенного царства.
Будьте снисходительны, умоляю вас, читая эти строки. Здесь речь идет об одной из самых интересных проблем человеческой жизни — о кризисе, через который проходит большинство мужчин, и я хотел бы объяснить его, хотя бы для того, чтобы зажечь сигнальный огонь возле столь опасного подводного камня. Эта прекрасная леди, такая гибкая, такая легкая, эта бледная женщина с молочной кожей, такая томная и хрупкая, с точеным лбом, увенчанным облаком тонких рыжих волос, это воздушное существо, словно излучающее фосфорическое сияние, обладает железной силой. Нет такой строптивой лошади, которую не усмирила бы ее нервная рука, такая, казалось бы, нежная ручка, которая не знает усталости. Ножка у нее, как у лани, сухощава и мускулиста, а линии ее восхитительны. Она так вынослива, что ей не страшна никакая борьба. Ни один всадник не угонится за ней, когда она мчится верхом; в скачках с препятствиями она победила бы кентавров[56]; она убивает оленей и косуль на скаку. Тело ее не знает испарины, впитывает огонь из атмосферы и не может жить без воды. Сердце ее пламенеет, как африканское солнце; страсть налетает, как вихрь в бескрайней пустыне, жар которой светится в ее глазах, — в пустыне, с палящим небом и прохладными звездными ночами, полными лазури и любви. Какой контраст с Клошгурдом! Женщина Востока и женщина Запада: одна притягивает к себе и впитывает малейшую каплю чувства, другая изливает свою душу на близких, окружая их лучезарной атмосферой; одна быстрая и тонкая, другая спокойная и полная. И, наконец, задумывались ли вы когда-нибудь о сущности английских нравов? Разве мы не видим у англичан обожествления материи, ярко выраженного эпикурейства, которому они предаются обдуманно и искусно? Что бы англичане ни говорили, что бы ни делали, — Англия материалистична, быть может, сама того не сознавая. Ее религиозные и моральные принципы лишены божественной одухотворенности, католической восторженности, того глубокого очарования, которого не может заменить лицемерие, какую бы личину оно ни надевало. Англичане в совершенстве овладели искусством жить, наслаждаясь каждой крупицей материального мира; вот почему их туфли — самые восхитительные туфли на свете, их белье обладает непревзойденной свежестью, их комоды благоухают особыми духами; в определенные часы они пьют умело заваренный ароматный чай, в их домах нет ни пылинки, они устилают полы коврами от нижней ступеньки лестницы до самого дальнего уголка в доме, моют стены подвалов, натирают до блеска молотки у входных дверей, смягчают рессоры в экипажах; они превращают материю в питательную среду или пушистую оболочку, блестящую и чистую, в которой душа замирает от наслаждения; но из-за этого их жизнь становится ужасно монотонной, ибо такое безоблачное существование не ставит перед ними никаких препятствий, лишает их непосредственности восприятия и в конце концов превращает в автоматы.
Итак, среди обольщений английской роскоши я неожиданно узнал женщину, быть может, единственную в своем роде, опутавшую меня сетями любви, неизменно возрождавшейся из пепла, любви, которую лишь разжигало мое суровое воздержание, любви, сверкавшей убийственной красотой, насыщенной особым магнетизмом и умевшей уносить вас в небеса через таинственные врата, открывающиеся перед вами в полусне, или увлекать ввысь на крылатом коне. Любви, чудовищно неблагодарной, издевающейся над трупами тех, кого она убивает; любви без воспоминаний, жестокой, похожей на английскую политику, — любви, в сети которой попадаются почти все мужчины. Теперь вам ясна проблема. Человек создан из материи и духа: в нем умирает зверь и рождается ангел. Вот чем объясняется происходящая в нас борьба между стремлением к будущему совершенству, которое мы предчувствуем, и воспоминаниями о древних инстинктах, от которых мы еще не совсем избавились: любовь плотская и любовь божественная. Есть люди, умеющие их соединить, другие на это не способны. Одни ищут все новых чувственных наслаждений, стараясь насытить свои древние инстинкты, другие сосредоточивают свое чувство на одной женщине, считая ее идеалом, в котором для них заключена вся вселенная; одни колеблются между плотскими наслаждениями и радостями духа, другие одухотворяют плоть и требуют от нее то, чего она не в силах дать. Вы станете более снисходительной к тем несчастьям, которые так безжалостно осуждает общество, если, рассматривая эти основные виды любви, примете во внимание силы отталкивания или силы притяжения, которые возникают из-за различия натур и разбивают союзы влюбленных, еще не испытавших друг друга, а также ошибки, совершенные людьми, живущими прежде всего умом, сердцем или действием, теми, кто только мыслит, чувствует или действует и чьи надежды были обмануты или не поняты в этом сообществе двух людей, к тому же двойственных по своей природе. Так вот, леди Арабелла удовлетворяла всем инстинктам, стремлениям, желаниям, всем порокам и добродетелям той тонкой материи, из которой создан человек. Она была владычицей тела. Г-жа де Морсоф — супругой души. Любовь, которую удовлетворяет любовница, имеет пределы, материя конечна, ее владения и силы ограничены, она неизбежно пресыщается; часто в Париже подле леди Дэдлей я испытывал непонятную пустоту. Владения же сердца бесконечны, и в Клошгурде моя любовь не имела границ. Я страстно любил леди Арабеллу, и, несомненно, если в ней и притаился великолепный зверь, она все же многих превосходила умом; ее насмешливый язык никого и ничего не щадил. Но я боготворил Анриетту. По ночам я плакал от счастья; наутро я плакал от угрызений совести. Есть женщины столь мудрые, что они скрывают свою ревность под видом ангельской доброты; это те, кто, подобно леди Дэдлей, перешагнул за тридцать лет; такие женщины умеют и чувствовать и рассчитывать, брать все от настоящего и не забывать о будущем; они приучают себя подавлять жалобные стоны, даже законные, словно смелый охотник, не замечающий собственной раны в пылу преследования зверя. Не заводя со мной речи о г-же де Морсоф, Арабелла пыталась убить ее образ в моей душе, где постоянно сталкивалась с ним, и моя непобедимая любовь лишь сильнее раздувала ее страсть. Чтобы покорить меня, показав, как выгодно она отличается от других, Арабелла не проявляла ни подозрительности, ни придирчивости, ни любопытства, свойственных большинству молодых женщин, но, как львица, которая, схватив в пасть добычу, приносит ее в свое логово, она следила, чтобы никто не помешал ей насладиться счастьем, и охраняла меня, как непокорную жертву. Я писал Анриетте у нее на глазах, и она никогда не прочла ни строчки, никогда не пыталась узнать, кому я шлю свои письма. Она не ограничивала мою свободу. Казалось, она говорила себе: «Если я его потеряю, то буду винить только себя». И она гордо полагалась на свою любовь, такую беззаветную, что стоило мне захотеть, и она, не раздумывая, отдала бы за меня жизнь. Наконец, она уверяла меня, что, если я ее покину, она тотчас же покончит с собой. Вы бы послушали, как она прославляла индийских женщин, которые сжигали себя на кострах вместе с умершими мужьями.
— Хотя этот индийский обычай — привилегия людей благородного происхождения, и мало понятен европейцам, неспособным оценить горделивое величие такого поступка, — говорила она мне, — сознайтесь, что при наших убогих современных нравах аристократия может выделиться из толпы, лишь проявляя исключительные чувства. Как могу я доказать буржуа, что в моих жилах течет иная кровь, чем у них? Лишь тем, что умру иначе, чем они. Женщины низкого происхождения могут иметь драгоценности, богатые ткани, лошадей, даже гербы, которые должны бы принадлежать только нам, — они все могут купить, даже имя. Но любить с высоко поднятой головой, наперекор закону, умереть за своего избранника, превратив ложе наслаждений в ложе смерти, сложить небо и землю к ногам человека, отняв у всевышнего право обожествлять свои творения, никогда не отрекаться от своего кумира, даже во имя добродетели (ведь отказаться от него хотя бы из чувства долга — значит отдать себя чему-то, что уже не он; будь то человек или идея, это все же измена!). Вот величие, недоступное простым женщинам, которым знакомы лишь два проторенных пути: либо великая дорога добродетели, либо грязная тропинка куртизанки!
Как видите, она обращалась к моей гордости, возбуждала во мне непомерное тщеславие, и, превознося мои слабости, ставила меня так высоко, что могла жить, лишь преклонив предо мною колени; все обольщения ее ума выражались в этой рабской позе и в полной покорности. Она могла провести целый день у моих ног, молча созерцая меня, ожидая, когда наступит час наслаждений, словно одалиска в гареме, и стараясь приблизить этот час тонко скрытым кокетством. Какими словами описать вам первые полгода, когда я был во власти опьяняющих радостей любви, столь богатой наслаждениями, особенно если нами руководит женщина, которая умеет их разнообразить с тем искусством, какое дается лишь опытом, но скрывает свое умение за порывами страсти? Эти наслаждения, внезапно открывающие нам поэзию чувственности, создают те крепкие узы, которые привязывают молодых людей к женщинам старше их возрастом, но эти узы, подобно оковам каторжника, оставляют в душе неизгладимый след, рождают в ней преждевременное равнодушие к чистой, свежей, благоуханной любви, которая не может опьянять, как тот крепкий напиток, поданный в резных золотых кубках, сверкающих драгоценными камнями. Упиваясь чувственными радостями, о которых я мечтал, еще их не изведав, и пытался воплотить в своих букетах, те радости, которые становятся в сто крат более пылкими, когда любовь скреплена нежным союзом сердец, я находил множество противоречивых объяснений, чтобы оправдать в собственных глазах жадность, с какой я припал к этой прекрасной чаше. В те минуты, когда душа моя, пресытившись, погружалась в бесконечность и, как бы отделившись от тела, витала вдали от земли, я думал, что эти наслаждения лишь средство преодолеть материю и вернуть нашему духу его высокий полет. Часто, когда я терял голову от страсти, леди Дэдлей, как и многие женщины, пользовалась минутами любовных упоений, чтобы связать меня клятвами; или же, распалив мои желания, вырывала у меня кощунственные слова, оскорблявшие ангела из Клошгурда. Став изменником, я сделался и обманщиком. Я продолжал писать г-же де Морсоф, будто все еще оставался тем мальчиком в жалком синем костюме, которого она так любила; но, признаюсь, ее ясновидение ужасало меня, особенно когда я думал, что чья-нибудь нескромность может сразу разрушить воздушный замок наших надежд. Часто среди любовных утех я внезапно застывал от боли, и мне слышался голос с неба, произносивший имя Анриетты, тот вещий голос, что вопрошал: «Каин, где брат твой Авель?» — в священном писании. Она перестала отвечать на мои письма. Мной овладела глубокая тревога, и я решил ехать в Клошгурд. Арабелла не противилась моему желанию, но сказала, что будет сопровождать меня в Турень. Раньше трудности разжигали ее каприз, затем ее предчувствие подтвердилось нежданно обретенным счастьем, теперь же в ней зародилась настоящая любовь, которую она хотела сделать единственной и безраздельной. Женское чутье подсказало ей, что это путешествие должно ей помочь окончательно оторвать меня от г-жи де Морсоф; а я, ослепленный тревогой, простодушно отдавшись истинной любви, не видел расставленной мне ловушки. Леди Дэдлей пошла на все уступки и предугадала все мои возражения. Она согласилась остановиться невдалеке от Тура, в деревне, под чужим именем, не выходить днем и встречаться со мной лишь в ночные часы, когда никто не может нас увидеть. Я отправился в Клошгурд из Тура верхом. У меня были на то причины: мне требовалась лошадь для ночных поездок, а у меня в то время был арабский конь; его прислала г-жа Эстер Стенхоп маркизе Дэдлей, а та уступила мне в обмен на знаменитую картину Рембрандта — вы знаете, при каких странных обстоятельствах я ее приобрел; теперь картина висит у нее в лондонской гостиной. Я выбрал дорогу, по которой шесть лет назад пришел пешком, и остановился под ореховым деревом. Отсюда я увидел г-жу де Морсоф в белом платье возле террасы. Тотчас же я помчался к ней с быстротой молнии и через несколько минут уже стоял у стены, пролетев напрямик отделявшее нас расстояние, словно участвовал в скачках с препятствиями. Она услышала топот копыт моего скакуна и, когда я осадил его возле террасы, сказала:
— Ах, это вы!
Эти три слова сразили меня. Она знала о моем увлечении! Кто ей рассказал? Ее мать. Анриетта впоследствии показала мне это гнусное письмо! Равнодушие, звучавшее в ее слабом голосе, прежде таком живом, а теперь потускневшем, свидетельствовало о затаенном в сердце страдании; ее слова, казалось, издавали аромат срезанных и вянущих цветов. Как воды Луары во время разлива заносят песком и губят поля, так моя измена обрушилась на нее, словно губительный ураган, и превратила в пустыню цветущие луга ее души. Я ввел в калитку своего коня; по моему приказу он лег на газон, и графиня, медленно приблизившись ко мне, воскликнула:
— Какое красивое животное!
Она стояла, скрестивши руки, чтобы я не прикасался к ней: я понял ее намерение.
— Пойду сообщу господину де Морсофу о вашем приезде, — сказала она, удаляясь.
Уничтоженный, не смея ее удерживать, я молча смотрел, как она уходит, — по-прежнему благородная, спокойная, гордая, но такая бледная, какой я ее никогда не видал; ее пожелтевший лоб был отмечен печатью горького разочарования, и голова склонялась, как у лилии с переполненной дождем чашечкой.
— Анриетта! — вскричал я с отчаянием человека, который чувствует, что умирает.
Не оглянувшись, не остановившись, не удостоив меня ответом, не сказав, что отнимает у меня право называть ее этим именем и не будет на него отзываться, она все так же удалялась от меня. Если бы я лежал, как жалкая песчинка, в ужасной долине смерти, где погребены миллионы людей, превратившихся в прах, чьи души витают над землей, под необъятными небесными просторами, я и тогда не чувствовал бы себя таким ничтожно малым, как сейчас, перед этой белой фигурой, которая медленно поднималась по лестнице, с такой же неумолимостью, с какой поднимается в городе вода при наводнении, и ровным шагом подходившей к замку, месту славы и пыток этой христианской Дидоны[57]! Я проклял Арабеллу, заклеймив ее словом, которое убило бы ее, если б она его услышала: ведь эта женщина все бросила ради меня, как бросают все, посвятив себя богу! Я стоял, погруженный в горькие мысли, и видел вокруг безбрежное море страданий. Тут я заметил, что вся семья вышла встретить меня. Жак бросился мне на шею с наивной горячностью, свойственной его возрасту. Мадлена, легкая, как газель, с томными глазами, шла рядом с матерью. Я прижал Жака к сердцу и со слезами излил на него всю нежность моей души, отвергнутой его матерью. Г-н де Морсоф подошел ко мне, раскрыв объятия, и расцеловал меня в обе щеки, воскликнув:
— Феликс, мне рассказали, что я вам обязан жизнью!
Во время этой сцены г-жа де Морсоф повернулась к нам спиной под предлогом, что хочет показать моего коня удивленной Мадлене.
— Черт возьми! Вот каковы женщины! — гневно закричал граф. — Они разглядывают вашу лошадь!
Мадлена обернулась, подошла ко мне, и я поцеловал ей руку, глядя на покрасневшую графиню.
— Мадлена выглядит гораздо лучше, — заметил я.
— Бедная девочка, — ответила графиня и поцеловала ее в лоб.
— Да, сейчас они все в добром здоровье, — сказал граф, — один я, дорогой Феликс, похож на старую башню, которая вот-вот обвалится.
— Видно, у генерала по-прежнему бывают мрачные дни? — спросил я, глядя на г-жу де Морсоф.
— У нас у всех есть свои «blues devils»[58], — ответила она. — Кажется, так говорится по-английски?
Мы медленно поднялись к замку все вместе, чувствуя, что произошло нечто непоправимое. У графини не было никакого желания оставаться со мной наедине. Но все же я был ее гостем.
— Да, а кто же позаботится о вашем коне? — спросил граф, когда мы подошли к террасе.
— Вот увидите, — заметила графиня, — я, как всегда, буду виновата: тогда — зачем я подумала о коне, а теперь — зачем не подумала.
— Разумеется, — ответил граф, — все хорошо в свое время.
— Я сам займусь им, — ответил я; мне была невыносимо тягостна эта холодная встреча. — Я один могу вывести коня и поставить в стойло. Позже приедет мой грум в шинонской почтовой карете и будет ухаживать за ним.
— Ваш грум тоже вывезен из Англии? — спросила графиня.
— Только там они и водятся, — ответил граф, который повеселел, видя, что жена его печальна.
Холодность жены побудила его поступать ей наперекор, и он подавлял меня дружескими излияниями. Теперь я познал, как тяжела бывает привязанность мужа. Не думайте, что внимание мужей терзает нашу душу в то время, когда их жены осыпают нас знаками благосклонности, которую они как будто крадут у мужей. Нет, мужья становятся нам отвратительны и невыносимы с того самого дня, когда любовь испаряется. Доброе согласие с мужем, необходимое условие подобной привязанности, делается к этому времени лишь средством, оно становится тягостным и нестерпимым, как всякое средство, когда цель уже не оправдывает его.
— Дорогой мой Феликс, — сказал мне граф, взяв меня за руки и горячо пожимая их, — простите госпожу де Морсоф: женщины бывают порой капризны, но слабость служит им извинением; они не умеют сохранять ровное настроение, какое дает нам сила характера. Она очень вас любит, я знаю, но...
Пока граф говорил, г-жа де Морсоф незаметно отошла от нас, словно желая оставить нас одних.
— Феликс, — сказал он мне, понизив голос и смотря вслед графине, поднимавшейся к замку вместе с детьми, — я не понимаю, что происходит в душе моей жены, но вот уже полтора месяца, как ее характер резко изменился. Прежде такая мягкая, самоотверженная, она ходит теперь вечно хмурая и недовольная.
Позже Манетта рассказала мне, что графиня была в ту пору так подавлена, что ее уже не трогали вздорные нападки графа. Не находя больше удобной мишени для своих стрел, граф начал беспокоиться, как ребенок, который видит, что несчастное насекомое, которое он мучает, перестало шевелиться. Теперь ему был нужен наперсник, как палачу нужен подручный.
— Попробуйте, — продолжал он, помолчав, — расспросить госпожу де Морсоф. У женщины всегда есть секреты от мужа, а вам она, может быть, откроет причину своих горестей. Я готов отдать половину оставшейся мне жизни и половину своего состояния, лишь бы она была счастлива! Она мне так необходима! Если бы теперь, когда я состарился, возле меня не было этого ангела, я чувствовал бы себя несчастнейшим из людей. Я хочу умереть спокойно. Скажите графине, что теперь ей уже недолго терпеть меня. Да, Феликс, друг мой, я знаю, скоро я уйду. Я скрываю от всех роковую правду; зачем мне огорчать их заранее? Это все поджелудочная железа, друг мой! Я наконец понял причину моей болезни: меня убила чувствительность. Вы знаете, все наши чувства прежде всего поражают желудок.
— Значит, — сказал я, улыбаясь, — люди с чувствительным сердцем умирают от желудочных болезней?
— Не смейтесь, Феликс, это истинная правда. Слишком сильные огорчения оказывают губительное действие на главный симпатический нерв. Чрезмерная чувствительность постоянно раздражает слизистую оболочку желудка. Если такое состояние продолжается долго, оно приводит к изменениям в пищеварительных органах, сначала незаметным: нарушается работа органов секреции, пропадает аппетит, пищеварение становится капризным; вскоре появляются острые боли, они все усиливаются, и с каждым днем приступы становятся все чаще; потом происходит полное расстройство организма, словно к вашей пище постоянно подмешивали медленно действующий яд; слизистые оболочки утолщаются, начинается затвердение желудочного клапана, появляется злокачественная опухоль, а затем наступает смерть. Так вот, дорогой мой, я уже дошел до этой стадии. В желудке у меня началось затвердение, и теперь ничто уже не может остановить ход болезни. Посмотрите на лимонно-желтый цвет моего лица, на мои сухие и блестящие глаза, на мою ужасную худобу! Я совсем иссох. Что поделаешь! Я привез из эмиграции зачатки этого недуга: я столько выстрадал в ту пору! Женитьба, которая могла бы загладить все, что я пережил в эмиграции, не только не утешила мою уязвленную душу, но еще углубила рану. Что я нашел дома? Вечные тревоги за детей, домашние огорчения, необходимость вновь составить себе состояние и постоянно экономить, множество лишений, на которые я обрекал жену, а прежде всего страдал сам. Наконец, вам одному могу я поведать свою тайну, свое самое большое горе: хотя Бланш — сущий ангел, она меня не понимает, она не знает о моих страданиях и еще усугубляет их; но я прощаю ей! Право, друг мой, мне горько это говорить, но женщина, менее добродетельная, дала бы мне больше счастья, принесла бы больше услад, о которых Бланш и не подозревает, ведь она наивна, как ребенок! Добавьте к этому, что слуги изводят меня; эти олухи так бестолковы, как будто я говорю с ними по-китайски. Когда наше состояние было наконец кое-как сколочено, когда у меня стало меньше огорчений, зло уже совершилось, недуг достиг той стадии, когда пропадает аппетит; затем на меня обрушилась новая тяжелая болезнь, которую так плохо лечил доктор Ориже; короче говоря, теперь мне осталось жить не больше полугода...
Я с ужасом слушал графа. Передо мной вновь встала графиня: лимонно-желтый цвет ее лица, сухой блеск ее глаз с первой же минуты поразили меня; я незаметно увлекал графа к дому, делая вид, что внимательно слушаю его жалобы, пересыпанные медицинскими рассуждениями, а сам думал лишь об Анриетте и хотел снова взглянуть на нее. Мы застали графиню в гостиной, где она присутствовала на уроке математики, который аббат де Доминис давал Жаку, и учила в то же время Мадлену вышивать. Прежде в день моего приезда она сумела бы отложить дела, чтобы посвятить мне все свое время, но я так искренне и глубоко любил ее, что подавил в сердце горе, причиненное мне этим контрастом между настоящим и прошлым, ибо я увидел роковой лимонно-желтый оттенок, который на этом ангельском лице походил на отсвет божественного огня, озаряющий лики святых на картинах итальянских художников. И я внезапно почувствовал ледяное дуновение смерти. Затем, когда пылающий взор Анриетты, лишенный той прозрачной влаги, которая прежде, казалось, омывала ее глаза, обратился ко мне, я вздрогнул; теперь я разглядел и другие перемены, следы страданий, которых не увидел на открытом воздухе: тоненькие черточки, едва заметные в мой прошлый приезд у нее на лбу, залегли глубокими морщинами; лицо осунулось, виски с голубоватыми жилками словно ввалились и горели; окруженные тенью глаза запали; она поблекла, как плод, который сжимается и до времени теряет краски, когда в глубине его точит червь. Не я ли, больше всего на свете жаждавший влить в ее душу живительный поток счастья, наполнил горечью тот свежий источник, в котором она черпала свое мужество? Я сел подле нее и спросил голосом, в котором звенело раскаяние:
— Вы не жалуетесь на свое здоровье?
— Нет, — ответила она, заглянув мне глубоко в глаза. — Мое здоровье — вот оно! — И она указала на Жака и Мадлену.
Выйдя победительницей из борьбы с болезнью, Мадлена в пятнадцать лет превратилась в женщину; она выросла, и розы расцвели на ее смуглых щеках. Она утратила непосредственность ребенка, который смотрит на все широко раскрытыми глазами, и скромно опускала взор; ее гибкая фигурка развилась и приобрела нежную округлость форм; движения ее стали неторопливы и степенны, как у матери; она с невинным кокетством разделяла пробором свои чудесные черные волосы, которые спадали, как две волны, обрамляя ее личико молодой испанки. Она напоминала хорошенькие средневековые статуэтки, такие изящные и такие хрупкие, что, любуясь ими, вы боитесь, как бы они не разбились от одного взгляда. Здоровье, обретенное ею после стольких усилий, окрепло, тело наливалось, как нежный плод, щеки покрылись тонким бархатом, словно у персика, а шея — шелковистым пушком, который золотился на солнце, как у ее матери. Теперь она должна жить! Так предназначил бог, создав этот прелестный бутон прекраснейшего из цветов человеческих, в каждой черточке которого запечатлелась его воля: и в длинных темных ресницах и в изящном изгибе плеч, обещавших развиться и стать такими же пышными, как у матери. Эта стройная, как тополь, смуглая девушка представляла разительный контраст с Жаком — хилым семнадцатилетним юношей с крупной головой и вызывающим тревогу непомерно развитым лбом; его блестящие утомленные глаза странно гармонировали с глубоким грудным голосом. Этот голос казался слишком мощным, так же как взгляд выражал слишком большую зрелость ума. Как будто ум, душа, сердце Анриетты сжигали своим пламенем это слабое тело, не успевшее набраться сил; молочно-бледное лицо Жака оживляли слишком яркие краски, как бывает у некоторых молодых англичанок, отмеченных роковой печатью, ибо дни их сочтены: обманчивое здоровье! По знаку Анриетты я перевел взгляд с Мадлены на Жака, чертившего на доске геометрические фигуры и решавшего алгебраические задачи под наблюдением аббата де Доминиса, и вздрогнул при виде смерти, притаившейся за цветом юности, но пощадил заблуждение бедной матери.
— Когда я вижу их здоровыми, радость заставляет умолкнуть все мои горести, так же как они умолкают и рассеиваются, когда дети больны. Друг мой, — продолжала она, и глаза ее сияли материнской гордостью, — если другие привязанности изменяют нам, то здесь наши чувства вознаграждаются; выполненный долг, увенчавшийся успехом, награждает нас за понесенное в другом месте поражение. Жак станет, как и вы, человеком высокой учености, мудрым и добродетельным; как и вы, он будет гордостью своей страны и, быть может, научится править ею, при вашей поддержке, ведь вы достигнете самого высокого положения; однако я постараюсь, чтобы он оставался верным своим первым привязанностям. У моей дорогой Мадлены великодушное сердце, она чиста, как снег на вершинах Альп, в ней разовьются женская преданность и тонкий ум, она горда и достойна носить имя Ленонкуров! Ее мать, жившая недавно в постоянной тревоге, теперь счастлива, ее счастье безгранично и безоблачно; да, жизнь моя полна и богата. Вы видите, бог дал расцвести всем моим дозволенным привязанностям и окропил горечью те, к которым меня влекли опасные наклонности.
— Прекрасно! — воскликнул довольный аббат. — Господин Жак знает не меньше моего.
Закончив объяснения, Жак слегка закашлялся.
— На сегодня достаточно, дорогой аббат, — сказала взволнованная графиня, — и, пожалуйста, отложите урок химии. Теперь покатайся верхом, Жак, — добавила она, когда сын подошел, чтобы ее поцеловать, с ласковой, но сдержанной нежностью матери и обратила ко мне взор, словно желая уничтожить мои воспоминания. — Иди, милый, и будь осторожен.
— Однако вы не ответили мне, — сказал я, в то время как она следила за Жаком долгим взглядом. — Не чувствуете ли вы каких-нибудь болей?
— Да, иногда, в желудке. Если б я жила в Париже, то имела бы честь болеть гастритом — нынче самой модной болезнью.
— У маменьки часто бывают сильные боли, — сказала мне Мадлена.
— Как, — заметила графиня, — вас интересует мое здоровье?
Мадлена, удивленная глубокой иронией, прозвучавшей в этих словах, молча посмотрела на нее, а затем на меня; опустив глаза, я разглядывал розовые цветочки на обивке серо-зеленой мебели, украшавшей гостиную.
— Мое положение просто невыносимо, — прошептал я ей на ухо.
— Но разве это моя вина? — ответила она. — Милый друг, — добавила она громко, с тем коварным напускным оживлением, каким женщины приправляют свою месть, — разве вы не знаете современной истории? Ведь Франция и Англия — извечные враги. Даже Мадлена это знает, ей известно, что их разделяет широкое море, холодное и бурное.
Вазы на камине в гостиной были заменены подсвечниками, по-видимому, чтобы лишить меня удовольствия украшать камин цветами; позже я увидел вазы в спальне графини. Когда приехал мой слуга, я вышел, чтобы отдать кое-какие распоряжения; он привез мои вещи, и я хотел, чтобы он отнес их ко мне в спальню.
— Смотрите не ошибитесь, Феликс, — сказала графиня. — В прежней комнате тетушки теперь живет Мадлена. Вас поместили над спальней графа.
Несмотря на всю мою вину, у меня все же было сердце, и ее слова ранили меня, как удары кинжала, хладнокровно бившего в самые чувствительные места, которые она, казалось, нарочно выбирала. Не все одинаково переносят моральные пытки, их сила зависит от нашей душевной чуткости, и графине тяжело досталось знание всех оттенков страдания; но по той же причине лучшая из женщин становится тем более жестокой, чем великодушнее она была прежде; я посмотрел на графиню, но она опустила голову. Я вошел в мою новую спальню, красивую комнату, выдержанную в белых и зеленых тонах. Здесь я залился слезами. Анриетта услышала мои рыдания и вошла ко мне с букетом цветов.
— Анриетта, — сказал я, — неужели вы не в силах простить даже самую извинительную ошибку?
— Никогда не зовите меня Анриеттой, — ответила она, — бедной Анриетты больше нет, но вы всегда найдете госпожу де Морсоф, верного друга, готового любить и слушать вас. Феликс, мы поговорим позже. Если у вас еще есть хоть капля чувства ко мне, дайте мне привыкнуть к тому, что вы здесь; а потом, когда слова не будут так сильно терзать мое сердце, в час, когда я вновь обрету немного мужества, тогда, только тогда... Вы видите эту долину? — сказала она, показывая мне Эндр. — Мне больно смотреть на нее, но я все еще ее люблю.
— Ах, будь проклята Англия и все ее женщины! Я выпрошу отставку у короля и умру здесь, вымолив у вас прощение.
— Нет, любите эту женщину. Анриетты больше нет, это не шутка, вы скоро узнаете...
Она удалилась, но по тону этих слов я понял, как глубока ее рана. Я быстро вышел за ней, удержал ее и спросил:
— Значит, вы меня больше не любите?
— Вы причинили мне больше зла, чем все остальные вместе! Теперь я страдаю меньше, значит, и люблю вас меньше; но только в Англии не знают слов «навсегда» и «никогда»; здесь мы говорим: «навсегда!» Будьте разумны, не усугубляйте мою боль; а если вы страдаете, то подумайте обо мне — ведь я еще живу!
Я держал ее руку, холодную, неподвижную и влажную, она вырвала ее у меня и бросилась, как стрела, вдоль коридора, где происходила эта поистине трагическая сцена. Во время обеда граф подверг меня пытке, которой я никак не мог предвидеть.
— Разве маркизы Дэдлей сейчас нет в Париже? — спросил он.
Краска бросилась мне в лицо, когда я ответил:
— Нет.
— Где же она, в Турени? — продолжал он.
— Она не развелась с мужем и может вернуться в Англию. Ее муж был бы счастлив, если б она возвратилась к нему, — живо ответил я.
— У нее есть дети? — спросила г-жа де Морсоф изменившимся голосом.
— Двое сыновей.
— Где же они?
— В Англии, с отцом.
— А ну, Феликс, скажите откровенно, правда ли, что она так красива, как о ней говорят? — спросил граф.
— Как можно задавать подобные вопросы! Женщина, которую любишь, всегда бывает красивей всех на свете! — воскликнула графиня.
— Да, всегда, — сказал я с гордостью, бросив на нее взгляд, которого она не выдержала.
— Вы счастливчик, — продолжал граф. — Да, вам чертовски повезло! Ах! В молодости я был бы без ума от такой победы!..
— Довольно, — сказала графиня, указывая графу глазами на Мадлену.
— Я же не ребенок, — ответил граф, которому было приятно вспомнить свою молодость.
Выйдя из-за стола, графиня увела меня на террасу и, остановившись там, воскликнула:
— Как! Неужели есть женщины, которые жертвуют детьми ради мужчины? Отречься от состояния, от общества, это я понимаю: быть может, даже от вечного блаженства! Но от детей! Отречься от собственных детей!
— Да, такие женщины хотели бы отдать еще больше, они отдают все...
Для графини весь мир перевернулся, и мысли ее спутались. Потрясенная величием этой жертвы, подозревая, что обретенное счастье может возместить столь жестокие утраты, слыша в себе крики бунтующей плоти, она застыла, взирая на свою загубленную жизнь. Да, она пережила минуту ужасных сомнений; но она поднялась великая и чистая, высоко держа голову.
— Так любите же эту женщину, Феликс, — сказала она со слезами на глазах, — пусть она будет моей счастливой сестрой. Я прощаю ей причиненные мне страдания, если она дает вам то, чего вы никогда не могли найти здесь, чего вы уже не можете получить от меня. Вы были правы: я никогда не говорила, что люблю вас, и я никогда не любила вас так, как любят в этом мире. Но если она не мать, как может она любить?
— Дорогая Анриетта, ты святая, — ответил я. — Если б я не был так взволнован, я объяснил бы тебе, что ты паришь в небесах, высоко над ней; что она женщина земли, дочь грешного человечества, ты же дочь небес, обожаемый ангел; тебе принадлежит все мое сердце, а ей только моя плоть; она это знает, это приводит ее в отчаяние, и она поменялась бы с тобой, даже ценой самых мучительных пыток. Но все это непоправимо. Тебе я отдал душу, все помыслы, чистую любовь, мою юность и старость; ей — пылкие желания и наслаждения быстротечной страсти; тебе достанутся все мои воспоминания; ей — полное забвение.
— Говорите, о друг мой, говорите еще!
Она села на скамью и залилась слезами.
— Значит, добродетель, святость жизни, материнская любовь — это не заблуждение, Феликс! Ах, полейте еще этим бальзамом мои раны! Повторите слова, которые возносят меня на небеса, где я хочу парить вместе с вами! Благословите меня вашим взглядом, вашим словом — и я прощу вам все муки, которые перенесла за эти два месяца!
— Анриетта, в нашей жизни есть тайны, которых вы не знаете. Я встретил вас в том возрасте, когда голос чувства может на время заглушить желания нашей плоти; но несколько сцен, воспоминание о которых будет согревать меня и в мой смертный час, должны были убедить вас, что я перерос этот возраст, и ваши постоянные победы состояли в том, что вы умели продлить его невинные радости. Любовь без обладания обостряет наши желания, но наступает минута, когда мы испытываем только муку: ведь мы совсем не похожи на вас. В нас заложена сила, от которой мы не можем отречься, иначе мы перестанем быть мужчинами. Наше сердце, лишенное той пищи, которая его поддерживает, как бы само себя пожирает и становится бессильным; это еще не смерть, но ее преддверие. Нельзя долго обманывать природу; при малейшем толчке она пробуждается с яростью, похожей на безумие. Нет, я не полюбил, я умирал от жажды среди знойной пустыни.
— Пустыни! — сказала она с горечью, указывая на нашу долину. — Как умно он рассуждает, сколько тонких ухищрений! Тому, кто верен, не нужны все эти уловки!
— Анриетта, не будем спорить из-за какого-то неудачного выражения. Нет, душа моя не изменилась, но я потерял власть над своими чувствами. Этой женщине известно, что вы моя единственная возлюбленная. Она играет в моей жизни лишь второстепенную роль, она это знает и смиряется; я имею право покинуть ее, как бросают куртизанку.
— И тогда?
— Она сказала мне, что покончит с собой, — ответил я, думая, что это решение удивит Анриетту.
Но когда она услышала мои слова, на лице ее мелькнула презрительная улыбка, еще более выразительная, чем скрытые за ней мысли.
— О ты, моя совесть, — продолжал я, — если б ты могла видеть, как я боролся со всеми искушениями, ведущими меня к гибели, ты поняла бы, какое роковое...
— Ах, да, роковое! — сказала она. — Я слишком верила в вас. Я думала, что у вас не меньше добродетели, чем у священника и у... господина де Морсофа, — прибавила она едко, и ее слова прозвучали, как эпиграмма. — Теперь все кончено, — продолжала она, помолчав. — Я вам очень обязана, мой друг: вы погасили во мне огонь чувственных желаний. Самая трудная часть пути пройдена, приближается преклонный возраст, а с ним недомогания, затем болезни; я больше не смогу быть для вас светлой феей, осыпавшей вас своими милостями. Будьте верны леди Арабелле. Кому достанется Мадлена, которую я так лелеяла для вас? Бедная Мадлена! Бедная Мадлена! — повторила она, как скорбный припев. — Если б вы слышали, как она недавно сказала мне: «Маменька, вы не любезны с Феликсом»! Милая крошка!
Она смотрела на меня, освещенная лучами заходящего солнца, проникавшими сквозь листву, и полная неизъяснимых сожалений о наших разбитых надеждах, погрузилась в прошлое, такое чистое и светлое, и отдалась воспоминаниям, которые я разделял с ней. Мы перебирали нашу жизнь, переводя глаза с долины на парк, с окон Клошгурда на Фрапель, и в нашей памяти оживали благоуханные букеты, вплетаясь в поэму наших несбывшихся желаний. То была ее последняя услада, невинное наслаждение чистой души. Эта беседа, полная для нас глубокого значения, принесла нам тихую печаль. Анриетта поверила моим словам и почувствовала себя там, куда я ее вознес, — на небесах.
— Друг мой, — сказала она, — я повинуюсь создателю, ибо вижу в этом перст божий.
Лишь позже я понял глубокий смысл ее слов. Мы медленно поднимались по террасе. Она оперлась на мою руку, покорная судьбе, и хотя раны ее кровоточили, она нашла средство смягчать их боль.
— Такова человеческая жизнь, — сказала она. — Что сделал господин де Морсоф, чем заслужил свою участь? Это доказывает нам, что существует иной, лучший мир. Горе тому, кто вздумает роптать после того, как избрал правильный путь!
И она принялась рассуждать о жизни, рассматривая ее с разных сторон, и ее холодная проницательность показала мне, каким отвращением она прониклась ко всему земному. Подойдя к дому, она выпустила мою руку и сказала:
— Если господь дал нам вкус и стремление к счастью, не должен ли он позаботиться о невинных душах, нашедших в этом мире одни горести? Это так, или бога нет, и тогда наша жизнь лишь горькая насмешка.
Бросив эту фразу, она стремительно вошла в дом, и я застал ее лежащей на диване, словно ее сразил небесный голос, вещавший святому Павлу[59].
— Что с вами? — спросил я.
— Я не понимаю, что такое добродетель, и не знаю, есть ли она у меня.
Мы оба застыли в молчании, прислушиваясь к этим словам, прозвучавшим, как камень, брошенный в бездну.
— Если я ошибалась всю жизнь, значит, она права, она! — сказала г-жа де Морсоф.
Так ее последняя радость завершилась последней борьбой ее души. Когда пришел граф, она пожаловалась ему на свое здоровье, хотя никогда не жаловалась до сих пор; я умолял ее рассказать мне, что с ней, но она молча ушла к себе, предоставив мне терзаться угрызениями совести, которые, раз возникнув, порождали все новые пытки. Мадлена ушла вслед за матерью. Наутро я узнал от нее, что у графини была сильная рвота, которую она объяснила пережитыми в этот день волнениями. Итак, я, желавший отдать за нее жизнь, убивал ее.
— Дорогой граф, — сказал я г-ну де Морсофу, который заставил меня играть с ним в триктрак, — мне кажется, графиня очень серьезно больна; еще не поздно ее спасти: позовите доктора Ориже и убедите ее выполнять его предписания.
— Ориже, который меня погубил? — сказал он, перебивая меня. — Нет, нет, я посоветуюсь с Карбонно!
Всю эту неделю, а особенно в первые дни, жизнь была для меня сплошной мукой, леденила мне сердце, ранила мою гордость, терзала душу. Если вы когда-нибудь были центром чьей-то жизни, средоточием взглядов и стремлений, смыслом существования, очагом, дававшим свет и тепло, вы поймете, как ужасно после этого оказаться словно в пустоте. Меня окружали те же предметы, но оживлявшая их душа потухла, как пламя задутой свечи. Я понял убийственное чувство, вынуждающее возлюбленных не встречаться, когда их любовь угасла. Быть ничем там, где ты царствовал безраздельно! Видеть лишь холод смерти там, где сверкали радостные лучи жизни! Такие сравнения убивают вас. Вскоре я начал сожалеть о том, что не изведал счастья в годы моей печальной юности. Мое отчаяние было так глубоко, что графиня, кажется, смягчилась. Однажды после обеда, когда мы гуляли по берегу реки, я сделал последнюю попытку вымолить у нее прощение. Попросив Жака увести сестру вперед, я покинул графа и, увлекая г-жу де Морсоф к лодке, сказал:
— Анриетта, смилуйтесь, скажите хоть слово, или я брошусь в Эндр! Да, я поддался соблазну, это правда; но разве я не поступил, как верный пес, безгранично преданный хозяину? Я вернулся к вам, полный стыда; когда пес провинится, его наказывают, но он лижет ударившую его руку; покарайте меня, но верните мне ваше сердце.
— Бедный мальчик! — сказала она. — Разве вы не остались моим сыном?
Она взяла меня под руку, молча вернулась к Жаку и Мадлене и отправилась с ними в Клошгурд через виноградники, оставив меня с графом, который принялся говорить о политике и о соседях.
— Вернемся домой, — сказал я ему. — Голова у вас не покрыта, и вечерняя роса может вам повредить.
— Вы жалеете меня, дорогой Феликс, — сказал он, не угадав моих намерений, — а вот жена никогда не хотела меня утешить, быть может, из принципа.
Прежде она никогда не оставляла меня одного с мужем; теперь мне приходилось искать предлога, чтобы вернуться к ней. Она сидела с детьми и объясняла Жаку правила игры в триктрак.
— Вот, — сказал граф, постоянно ревновавший жену к детям, — вот те, ради кого она всегда пренебрегает мной. Мужья, мой друг, вечно оказываются побежденными; самая добродетельная женщина находит способ удовлетворить свою потребность в любви и лишить привязанности супруга.
Она не отвечала ему, продолжая заниматься детьми.
— Жак, — сказал граф, — пойди сюда.
Жак медлил.
— Отец зовет тебя, мой мальчик, иди к нему, — сказала мать, подталкивая его.
— Они любят меня по обязанности, — заметил старик, который порой понимал свое положение.
— Сударь, — ответила графиня, проводя рукой по волосам Мадлены, причесанной в стиле «красавицы Фероньер»[60], — не будьте несправедливы к бедным женщинам, им не всегда легко дается жизнь, и, быть может, в детях воплощена добродетель матери.
— Дорогая моя, — возразил граф, стараясь быть логичным, — по вашим словам выходит, что, не будь у них детей, женщины не были бы добродетельны и спокойно бросали мужей.
Графиня быстро встала и увела Мадлену на балкон.
— Таков брак, мой друг, — сказал граф. — Не хотите ли вы сказать, покидая нас, что я неправ? — крикнул он ей вслед, и, взяв за руку сына, нагнал жену, бросая на нее гневные взгляды.
— Напротив, сударь, вы меня испугали. Ваше рассуждение причинило мне ужасную боль, — сказала она слабым голосом, взглянув на меня как уличенная преступница, — если добродетель не состоит в том, чтобы жертвовать собой ради детей и мужа, то что же тогда добродетель?
— Жер-тво-вать! — воскликнул граф, произнося раздельно каждый слог, словно нанося удар за ударом в сердце графини. — Чем же вы жертвуете ради детей? Чем вы жертвуете для меня? Чем? Кем? Отвечайте! Отвечайте же! Что здесь происходит? Что вы хотите сказать?
— Скажите сами, сударь, — отвечала она, — что было бы вам больше по душе: если бы вас любили из послушания богу или если бы ваша жена черпала добродетель в самой себе?
— Госпожа де Морсоф права, — заметил я, вступая в разговор, и в голосе моем звучало волнение, отозвавшееся в их сердцах, ибо я вливал в них надежду, навек утраченную мной; я успокоил их тревоги своей велико скорбью, и сила моего страдания погасила их ссору, как рычание льва подавляет все голоса. — Да, высший дар, данный нам небом, — это способность передавать наши добродетели тем существам, благополучие которых мы создаем, делая их счастливыми не из расчета, не из чувства долга, но лишь в силу неисчерпаемой и добровольной любви.
В глазах Анриетты блеснула слеза.
— И если когда-нибудь женщина испытает чувство, не соответствующее тем, какие ей разрешает общество, сознайтесь, дорогой граф, что чем непреодолимее это чувство, тем она добродетельнее, если сумеет погасить его, жертвуя собой ради детей и мужа. Конечно, эту теорию нельзя применить ни ко мне, ибо я, к несчастью, показал обратный пример, ни к вам, ибо вас она никогда не затронет.
Влажная и горячая ручка опустилась на мою руку и тихо сжала ее.
— У вас благородная душа, Феликс, — сказал граф; затем не без изящества обнял графиню за талию и нежно привлек к себе, говоря: — Простите, дорогая, бедного больного старика, который хочет, чтоб его любили больше, чем он того заслуживает.
— Некоторые сердца — само великодушие, — ответила она, опуская голову на плечо графа, который принял ее слова на свой счет.
Его ошибка смутила графиню, она затрепетала, гребешок выскользнул у нее из прически, волосы распустились, лицо побледнело; почувствовав, что она теряет сознание, поддерживавший ее муж вскрикнул, подхватил на руки, как девочку, и отнес на диван в гостиную, где мы окружили ее. Анриетта все еще держала меня за руку, как бы говоря, что только мы двое знаем тайный смысл этой сцены, с виду такой простой, но растерзавшей ей сердце.
— Я виновата, — тихо сказала она мне, когда граф отошел, чтобы принести ей стакан воды, настоенной на апельсиновой корке, — я тысячу раз виновата перед вами, ибо хотела довести вас до отчаяния, вместо того чтобы быть снисходительной. Дорогой мой, вы удивительно добры, я одна могу это оценить. Я знаю, бывает доброта, внушенная страстью. Мужчины могут быть добры по разным причинам: в силу пренебрежения, увлечения, по расчету, по слабости характера; вы же, мой друг, проявили сейчас безграничную доброту.
— Если это так, — сказал я, — то знайте: все, что во мне может быть хорошего, исходит от вас. Разве вы забыли, что я ваше творение?
— Этих слов довольно, чтобы осчастливить женщину — ответила она; в эту минуту вернулся граф. — Мне лучше, — сказала она, вставая, — теперь мне нужен свежий воздух.
Мы спустились на террасу, наполненную ароматом цветущих акаций. Она оперлась на мою руку, прижимая ее к сердцу, и отдалась грустным мыслям, но, по ее словам, она любила эту грусть. Ей, верно, хотелось остаться со мной наедине, но ее чистое воображение, чуждое женских уловок, не находило предлога, чтобы отослать детей и мужа; и мы болтали о всяких пустяках, пока она ломала себе голову, как бы улучить несколько минут, чтобы излить мне свое сердце.
— Я так давно не каталась в коляске! — сказала она наконец, любуясь красотой тихого вечера. — Господин де Морсоф, прикажите подать карету, мне хочется покататься.
Она знала, что до вечерней молитвы нам не удастся поговорить, и боялась, что потом граф затеет игру в триктрак. Она могла бы побыть со мной на согретой солнцем, благоухающей террасе, когда муж ляжет спать; но, быть может, она боялась остаться наедине со мной под густым шатром из листвы, сквозь которую проникал трепетный лунный свет, и гулять вдвоем вдоль балюстрады, откуда открывался широкий вид на долину, по которой струился Эндр. Подобно тому, как темные, молчаливые своды храма располагают к молитве, так и освещенная луной листва, напоенная волнующим благоуханием и овеянная смутными весенними звуками, заставляет дрожать все струны нашей души и ослабляет волю. Природа усмиряет страсти у стариков, но в юных сердцах возбуждает их; мы это знали! Два удара в колокол возвестили, что наступил час молитвы. Графиня вздрогнула.
— Анриетта, дорогая, что с вами?
— Нет больше Анриетты, — ответила она. — Не заставляйте ее родиться вновь: она была требовательна, капризна; теперь у вас есть спокойный друг, добродетель которого укрепилась благодаря словам, внушенным вам свыше. Мы поговорим об этом потом. Не будем опаздывать к молитве. Сегодня моя очередь ее читать.
Когда графиня произносила слова молитвы, прося у бога помощи в жизненных невзгодах, она вложила в них столько чувства, что потрясла не одного меня; казалось, она вновь проявила свой дар ясновидения и предугадала ужасное страдание, которое я вскоре невольно причинил ей, совершив оплошность, ибо забыл о нашем уговоре с Арабеллой.
— Мы успеем сыграть три кона, пока запрягут лошадей, — сказал граф, увлекая меня в гостиную. — Потом вы покатаетесь с моей женой, а я лягу спать.
Как обычно, наша игра протекала очень бурно. Из своей комнаты, а может быть, из спальни Мадлены, графиня услышала сердитый голос мужа.
— Вы, право, нарушаете долг гостеприимства, — сказала она графу, входя в гостиную.
Я посмотрел на нее с недоумением: я все еще не привык к ее суровости; в прежнее время она не старалась избавить меня от тирании графа; ей было приятно тогда, что я разделяю ее страдания, а я терпеливо сносил их из любви к ней.
— Я отдал бы жизнь, — шепнул я ей на ухо, — чтобы снова услышать, как вы говорите: «Бедный друг, бедный друг!»
Она опустила глаза, вспомнив случай, на который я намекал; затем украдкой взглянула на меня, и я прочел в ее взгляде радость женщины, увидевшей, что самое незаметное движение ее сердца ценится дороже бурных наслаждений плотской любви. И тут, как всегда, даже если она причиняла мне боль, я простил ей, чувствуя, что она понимает меня. Граф проигрывал; он заявил, что устал, чтобы прервать игру, и мы решили пройтись вокруг лужайки, пока не подали коляску; как только мы остались одни, лицо мое просияло такой радостью, что удивленная графиня посмотрела на меня вопрошающим взглядом.
— Анриетта жива, — сказал я, — она еще любит меня; вы оскорбляете меня с явным намерением разбить мне сердце; я еще могу быть счастливым!
— Если во мне оставалась еще тень этой женщины, — ответила она с ужасом, — теперь вы ее уничтожили. Благословен бог, который дает мне силы терпеть эту заслуженную мною пытку. Да, я еще слишком люблю вас, я могла пасть, но англичанка осветила угрожавшую мне бездну.
Тут нам подали карету, и кучер спросил, куда ехать.
— Выезжайте по главной аллее на шинонскую дорогу, а затем сверните в ланды и возвращайтесь по дороге из Саше.
— Какой сегодня день? — спросил я с излишней поспешностью.
— Суббота.
— Не выезжайте на эту дорогу, сударыня: в субботу вечером там много торговцев птицей, они едут в Тур и загромождают путь своими телегами.
— Поезжайте, куда я вам приказала, — сказала графиня кучеру.
Мы оба слишком хорошо знали малейшие оттенки голоса друг друга и не умели скрывать наши чувства. Анриетта все поняла.
— Вы не подумали о торговцах птицей, когда выбирали эту ночь, — сказала она с легкой иронией. — Леди Дэдлей в Туре. Не лгите. Она ждет вас недалеко отсюда. «Какой сегодня день? Торговцы птицей! Громоздкие телеги!» Разве вы когда-нибудь вспоминали о них, когда мы прежде гуляли с вами?
— Это лишь доказывает, что в Клошгурде я обо всем забываю, — ответил я бесхитростно.
— Она ждет вас?
— Да.
— В котором часу?
— Между одиннадцатью и двенадцатью.
— Где?
— В ландах.
— Не обманывайте меня, она ждет под ореховым деревом?
— Нет, в ландах.
— Мы поедем туда, — сказала она. — Я хочу ее видеть.
Услышав эти слова, я понял, что судьба моя решена безвозвратно. Я сразу подумал, что мне придется закончить браком наш роман с леди Дэдлей, прекратив мучительную борьбу, грозившую истощить все мои чувства и лишить меня изысканных наслаждений, которые под множеством ударов облетят, как нежные цветы, не давшие плодов. Мое упорное молчание огорчило графиню, великодушие которой я еще не оценил до конца.
— Не гневайтесь на меня, дорогой, — сказала она своим серебристым голосом, — это мое искупление. Вас никогда не полюбят так, как вы любимы здесь, — продолжала она, прижав руку к сердцу. — Разве я не призналась вам сама в своей любви! Но маркиза Дэдлей спасла меня. Ей все земные страсти, и я им не завидую. Мне светлая небесная любовь! Со дня вашего приезда я прошла бесконечно длинный путь. Я постигла смысл жизни. Возносясь душой, мы как бы отрываем ее от земли; чем выше мы поднимаемся, тем меньше встречаем сочувствия; вместо того, чтобы страдать, живя в долине, мы страдаем в горних сферах, подобно парящему в небе орлу, с сердцем, пронзенным стрелой, пущенной грубым пастухом. Теперь я понимаю, что земля и небо несовместимы. Да, кто способен жить, воспарив в небеса, тому чужды низкие страсти. Душа его должна отречься от всего земного. Она должна любить друга, как мы любим своих детей: ради них самих, а не ради себя. Наше я — вот причина всех несчастий и огорчений. Мое сердце взлетит выше орла; там я найду любовь, которая меня не обманет. Когда же мы живем земной жизнью, она слишком принижает нас и себялюбие побеждает живущего в нас ангела. Наслаждения, которые приносит нам страсть, жестоки и мятежны, мы платим за них губительными волнениями, и силы нашей души надламываются. Я вышла к морю, где бушуют эти бури, и слишком близко наблюдала их; волны часто обдавали меня своими брызгами и не всегда разбивались у моих ног, но порой налетали на меня и леденили мне сердце; я должна отступить на высокий берег, иначе я погибну в этом безбрежном море. В вас, как и во всех, кто причинял мне горе, я вижу стража моей добродетели. Жизнь моя была полна мучений, к счастью, не превышавших моих сил, и потому дурные страсти не запятнали меня, я не поддалась соблазнам и всегда стремилась к богу. Наша привязанность была лишь безрассудной мечтой двух чистых детей, надеявшихся удовлетворить и свое сердце, и людей, и бога... Безумная надежда, Феликс! — Она замолчала. — Как зовет вас эта женщина? — спросила она после паузы.
— Амедеем, — ответил я. — Феликс — другой человек, он принадлежит только вам.
— Анриетте трудно умирать, — промолвила она со скорбной улыбкой. — Но она погибнет по первому слову смиренной христианки и гордой матери — женщины, чья добродетель вчера пошатнулась, но сегодня вновь окрепла. Что я могу еще сказать? Да, это так, всю жизнь я оставалась верна себе как в самых тяжких, так и в самых легких испытаниях. Сердце, с которым меня должны были связать первые узы нежности — сердце моей матери, — было закрыто для меня, несмотря на все мои попытки найти щелку, чтобы проникнуть в него. Я была единственной дочерью, появившейся после смерти трех сыновей, и тщетно старалась занять их место в сердце родителей; но мне не удалось залечить рану, нанесенную семейной гордости. После этого мрачного детства меня приголубила моя обожаемая тетушка, но смерть вскоре похитила ее у меня. Господин де Морсоф, которому я вручила свою жизнь, беспрестанно терзает меня, сам того не ведая, бедняга! Его любовь полна наивного эгоизма, какой мы встречаем у детей. Он и не подозревает, сколько мук причиняет мне, и я всегда прощаю ему! Мои любимые дети, которые срослись с моей плотью всеми своими страданиями, с моей душой — всеми своими достоинствами, с моим сердцем — всеми невинными радостями, разве не были они мне даны лишь для того, чтобы я познала, сколько сил и терпения заложено в душе матери? О да! Дети — вот мои добродетели! Вы знаете, как я измучена ими, из-за них и помимо них. Стать матерью значило для меня обрести право на постоянные страдания. Когда Агарь[61] взывала к богу в пустыне, ангел указал этой изгнанной рабыне чистый источник. А мне? Когда чистый источник, из которого вы хотели утолить мою жажду (вы помните?), забил в Клошгурде, он принес мне лишь воду, отравленную горечью. Да, вы причинили мне несказанные страдания. Бог, наверно, простит ту, что познала лишь муки любви. Но если самую сильную боль причинили мне вы, быть может, я ее заслужила. Бог справедлив. Ах, Феликс, поцелуй, украдкой запечатленный на лбу, быть может, уже таит в себе грех. Быть может, я должна искупить каждый шаг, сделанный вдали от мужа и детей, когда, гуляя по вечерам, хотела остаться наедине со своими воспоминаниями и тайными мыслями, ибо в такие минуты наша душа принадлежит другому. Когда сердце наше словно сжимается и становится таким маленьким, что вмещает в себе лишь земную любовь, — быть может, это самый тяжкий грех. Когда женщина, склонив голову, подставляет мужу волосы для поцелуя, чтобы казаться чуждой любви, — это тоже грех! Грех строить свое будущее в расчете на чью-то смерть, грех мечтать о счастливом материнстве, о здоровых детях, играющих по вечерам с обожаемым отцом на глазах у растроганной матери. Да, я грешила, я много грешила. Я с радостью подчинялась наказаниям, налагаемым на меня церковью, но они не искупили моих грехов, к которым священник был, видимо, слишком снисходителен. Господь захотел сделать самые мои ошибки источником наказания, вручив карающий меч тому, ради кого они были совершены. Подарить вам свои волосы не значит ли обещать себя? Почему я любила носить белые платья? Я чувствовала себя в них вашей лилией; ведь вы впервые увидели меня здесь в белой одежде. Увы! Я меньше любила моих детей, ибо всякая сердечная привязанность живет за счет кровных уз. Вот видите, Феликс! Каждое страдание имеет свой глубокий смысл. Разите, разите же меня сильнее, чем господин де Морсоф и мои дети! А та женщина — лишь орудие гнева господня, я подойду к ней без ненависти, с улыбкой на устах; я должна любить ее, иначе я недостойна называться христианкой, супругой и матерью. Если, как вы уверяете, я сумела уберечь ваше сердце от низменных чувств и оно сохранило свою чистоту, то эта англичанка не может меня ненавидеть. Всякая женщина должна любить мать того, кого она любит, а я ваша мать. Что я искала в вашем сердце? Мне хотелось занять место, не занятое госпожой де Ванденес. Вы всегда жаловались на мою холодность. Да, я была вам лишь матерью. Простите же резкие слова, невольно вырвавшиеся у меня после вашего приезда, ибо мать должна радоваться, зная, что сын ее так горячо любим.
Она опустила голову мне на грудь, повторяя:
— Простите, простите!
Тут я услышал в ее голосе незнакомые мне ноты. Он звучал не как веселый голос юной девушки, не как голос женщины с повелительными интонациями, не как жалоба встревоженной матери; то был иной, скорбный голос, полный новых страданий.
— Вы же, Феликс, — продолжала она, опять оживляясь, — вы друг, который не может совершить дурного поступка. Ах, вы ничего не утратили в моем сердце, не упрекайте себя ни в чем, вас не должны мучить угрызения совести! Было бы чудовищным себялюбием требовать, чтобы во имя несбыточного будущего вы пожертвовали безграничными радостями, ради которых женщина бросает детей, отрекается от общества и отказывается от вечного блаженства! Сколько раз вы показывали свое превосходство надо мной! Вы были благородны и высоки душой, я же была низка и греховна. Итак, теперь все решено: я могу быть для вас лишь далекой звездой, чистой, холодной, но сияющей неизменно. А вы, Феликс, не забывайте меня, я не должна быть одинокой в своей любви к избранному мною брату. Будьте ласковы со мной! Любовь сестры не таит в себе ни разочарований, ни горечи. Вам не придется лгать родной душе, которая будет жить вашей блестящей жизнью, страдать от ваших огорчений, радоваться вашим радостям, любить женщин, которые дадут вам счастье, и возмущаться теми, кто вам изменит. У меня не было брата, которого я могла бы так любить. Будьте же великодушны, отбросьте всякое тщеславие и замените вашу столь бурную и мятежную любовь иной, нежной и святой привязанностью. Тогда я еще смогу жить. Я сделаю первый шаг и пожму руку леди Дэдлей.
Она не плакала! Произнося эти слова, полные горькой мудрости, она как бы срывала завесу со своей души и, обнажив свои страдания, показывала мне, как много нитей связывало нас с нею, сколько крепких уз я разорвал. Мы были так взволнованы, что не заметили, как хлынул сильный ливень.
— Не хочет ли госпожа графиня укрыться тут на время от дождя? — спросил кучер, указывая на лучший постоялый двор в Баллане.
Она кивнула в ответ, и мы с полчаса простояли в крытом подъезде, к большому удивлению слуг, недоумевавших, почему г-жа де Морсоф оказалась на проезжей дороге в одиннадцать часов ночи. Едет ли она в Тур? Или возвращается домой? Когда ливень утих и дождь превратился в «изморось», как говорят в Туре, что не мешало луне светить сквозь туман, быстро уносимый ветром, кучер выехал на дорогу и, к моей великой радости, повернул домой.
— Поезжайте, куда я вам приказала! — крикнула ему графиня.
Итак, мы свернули на дорогу в ланды Карла Великого, и вскоре снова полил дождь. Вдруг я услышал лай любимой собаки Арабеллы, и из-за купы дубов выскочила всадница, одним прыжком перелетела через дорогу, затем через ров, отделявший земли разных владельцев, собиравшихся возделывать эту пустошь, и остановилась невдалеке, чтобы взглянуть на нашу коляску. То был леди Дэдлей.
— Какое счастье ждать так своего возлюбленного, не совершая греха! — молвила Анриетта.
Лай собаки указал леди Дэдлей, что я сижу в коляске; она, вероятно, подумала, что я не поехал верхом из-за дождя; когда мы проезжали мимо нее, она подскакала к самой дороге с ловкостью искусной наездницы, показавшейся чудом восхищенной Анриетте. Из кокетства Арабелла произносила лишь последний слог моего имени, на английский лад, и в ее устах это прозвище звучало, как нежный призыв феи. Она думала, что никто не слышит ее, кроме меня, и позвала:
— My Dee!
— Он здесь, сударыня, — ответила графиня, всматриваясь в стоявшее перед ней фантастическое создание; яркий свет луны озарил горевшее нетерпением лицо, обрамленное длинными растрепавшимися кудрями.
Вы знаете, с какою быстротой две женщины успевают оглядеть друг друга. Маркиза тотчас узнала соперницу и облачилась в свое английское достоинство; она окинула нас взглядом, полным холодного презрения, и исчезла в тумане, как пущенная из лука стрела.
— Поезжайте скорее в Клошгурд! — крикнула графиня, которой этот высокомерный взгляд пронзил сердце, словно удар копья.
Кучер повернул на шинонскую дорогу, которая была лучше, чем дорога в Саше. Когда наша коляска снова проезжала через ланды, мы услышали бешеный галоп лошади Арабеллы и прыжки ее собаки. Они неслись по опушке леса, скрытые туманом.
— Она покинет вас, вы потеряете ее навсегда! — воскликнула Анриетта.
— Ну что ж, пусть покинет, — ответил я. — Я расстанусь с ней без сожалений.
— О бедные женщины! — с ужасом вскричала графиня, и в голосе ее послышалось сострадание. — Но куда же она скачет?
— В Гренадьер, недалеко от Сен-Сира.
— Она уехала одна, — промолвила Анриетта, и по ее тону я почувствовал, что женщины солидарны в любви и всегда жалеют друг друга.
Когда мы въехали в аллею, ведущую в Клошгурд, собака Арабеллы с радостным лаем выскочила навстречу нашей карете.
— Она опередила нас, — сказала графиня.
Затем, помолчав, продолжала:
— Я никогда не видела такой красавицы. Какие руки и как стройна! Ее лицо нежнее лилии, а глаза сверкают, как алмазы! Но она слишком хорошо скачет верхом и, наверно, любит проявлять свою силу; я думаю, она настойчива и непреклонна; затем, мне кажется, она слишком дерзко пренебрегает приличиями; женщины, не признающие никаких законов, обычно подчиняются лишь своим капризам. Любя блистать и побеждать, они не обладают даром постоянства. По-моему, любовь требует большего спокойствия; я представляю ее себе как громадное озеро неизмеримой глубины, на которое порой налетают сильные бури, но они очень редки, и неприступные берега сдерживают высокие волны; два существа живут здесь, на цветущем острове, вдали от света, ибо блеск и роскошь их оскорбляют. Но, быть может, я не права: любовь должна соответствовать характерам людей. Если законы природы меняются в зависимости от климата, почему не может происходить того же и с человеческими чувствами? Без сомнения, чувства подчиняются общим законам, но у разных натур выражаются по-разному. Маркиза — сильная женщина, она сметает все преграды и действует со смелостью мужчины; она вырвала бы любимого из темницы, убив тюремщика, стражу и палача; а другие женщины умеют лишь любить всем сердцем; перед лицом опасности они становятся на колени, молятся и умирают. Которая из двух женщин вам больше по душе? Вот в чем вопрос. Конечно, маркиза любит вас, она принесла вам столько жертв! Быть может, она все еще будет любить вас, когда вы ее разлюбите.
— Позвольте, дорогая, спросить вас, как некогда вы спросили меня: откуда вы все это знаете?
— Страдание поучает нас, а я так много страдала, что познания мои глубоки.
Мой слуга слышал приказ графини, он думал, что мы вернемся по главной аллее, и держал наготове мою лошадь; собака Арабеллы почуяла ее запах, и леди Дэдлей, движимая вполне понятным любопытством, последовала за ней в лес, где, по-видимому, и спряталась.
— Ступайте, помиритесь с нею, — сказала мне Анриетта, улыбаясь, чтобы не выдавать своей печали. — Скажите ей, что она жестоко ошиблась в моих побуждениях; я хотела лишь открыть ей, какое она обрела сокровище; в моем сердце только добрые чувства к ней, в нем нет ни гнева, ни презрения; объясните, что я ее сестра, а вовсе не соперница.
— Нет, я не пойду! — вскричал я.
— Разве вы не знаете, — сказала она с гордостью великомученицы, — что иной раз жалость равносильна оскорблению? Идите, идите!
Тогда я поскакал к леди Дэдлей, чтобы узнать, в каком она расположении духа.
«Хоть бы она разгневалась и бросила меня! — думал я. — Тогда я вернулся бы в Клошгурд».
Собака бежала впереди и привела меня под дуб, откуда выскочила маркиза с криком:
— A way! A way![62]
Мне пришлось мчаться за ней до самого Сен-Сира, куда мы прискакали в полночь.
— Эта дама в добром здравии, — сказала мне Арабелла, соскочив с седла.
Лишь тот, кто знал ее, может себе представить, сколько сарказма звучало в этом замечании, брошенном сухим тоном и с таким видом, словно она хотела сказать: «Я умерла бы на ее месте!»
— Я запрещаю тебе оскорблять госпожу де Морсоф и осыпать ее ядовитыми насмешками, — ответил я.
— Неужели я не угодила вашей милости, заметив, что дама, столь дорогая вашему сердцу, находится в добром здравии? Говорят, французские женщины ненавидят даже собаку своего возлюбленного; в Англии мы любим все, что любит наш властелин, ненавидим все, что он ненавидит, ибо мы живем, растворившись в нем. Позвольте же мне любить эту даму так же, как вы сами любите ее. Но знай, моя радость, — продолжала она, обнимая меня влажными от дождя руками, — если б ты изменил мне, я не могла бы ни стоять, ни лежать, ни ездить в карете с лакеями, ни кататься по ландам Карла Великого, ни по каким бы то ни было ландам ни во Франции, ни в другой стране, ни даже в целом свете. Я не лежала бы у себя в кровати, не пряталась бы под кровом моих предков! Меня бы просто не было в живых. Я родилась в Ланкашире, стране, где женщины умирают от любви. Как! Узнать тебя и уступить? Я не уступлю тебя никакой владычице, даже смерти, ибо умру вместе с тобой!
Она увела меня в свою комнату, уже убранную с изысканным комфортом.
— Люби ее, дорогая моя! — сказал я ей с жаром. — Она уже любит тебя, но не с насмешкой, а от всей души.
— От всей души, мой мальчик? — спросила она, расшнуровывая амазонку.
Из тщеславия влюбленного я захотел раскрыть возвышенную натуру Анриетты перед этим гордым созданием. Пока горничная, не знавшая ни слова по-французски, укладывала ей волосы, я попытался обрисовать характер г-жи де Морсоф, описав ее жизнь, и повторил те высокие мысли, которые она высказала во время тяжкого испытания, делающего обычно женщин низкими и злобными. Хотя Арабелла, казалось, не обращала на мою речь никакого внимания, она не упустила ни единого слова.
— Я очень рада, — сказала она, когда мы остались одни, — что узнала о твоем пристрастии к подобным благочестивым разговорам; в одном из моих поместий живет викарий, который прекрасно сочиняет проповеди, даже наши крестьяне понимают их, так хорошо он умеет примениться к своим слушателям. Я завтра же напишу отцу, чтобы он прислал его ко мне с первым пакетботом, и ты застанешь его уже в Париже. Стоит тебе однажды послушать его, и ты уж никого больше не захочешь слушать, кстати, у него тоже прекрасное здоровье; его мораль не будет доставлять тебе огорчений и доводить до слез; она не вызывает бурь и похожа на светлый источник, под плеск которого так сладко спится. При желании ты можешь каждый вечер удовлетворять свою страсть к проповедям и одновременно переваривать обед. Английская мораль, дитя мое, так же превосходит туреньскую, как наши стальные изделия, наше серебро и наши лошади превосходят ваши ножи и ваших лошадей. Сделай мне одолжение, послушай нашего викария, прошу тебя! Обещаешь? Я только женщина, моя радость, я умею любить и могу умереть за тебя, но я не училась ни в Итоне, ни в Оксфорде, ни в Эдинбурге, я не проповедник и не доктор богословия; ты видишь, не мне обучать тебя морали, я совсем не гожусь для такой роли, у меня ничего не выйдет, сколько бы я ни старалась. Я не упрекаю тебя за твои вкусы; будь у тебя даже более извращенные наклонности, я попыталась бы приспособиться к ним; ведь я хочу, чтобы ты находил подле меня все, что тебе нравится: радости любовные, радости застольные, радости духовные, хорошее вино и христианскую добродетель. Хочешь, сегодня вечером я надену власяницу? Как повезло этой женщине, что она умеет читать тебе нравоучения! Интересно, в каких университетах дают французским женщинам ученые степени? Горе мне! Я могу лишь отдаваться тебе, я только твоя раба...
— Тогда почему же ты ускакала, когда я хотел видеть вас вместе?
— Ты сошел с ума, my Dee? Я готова отправиться из Парижа в Рим, переодевшись лакеем, и совершить ради тебя самые безумные поступки; но разве я могу разговаривать на дороге с женщиной, которая не была мне представлена и собирается тут же прочитать мне длиннейшую проповедь? Я могу поговорить с крестьянином и даже попросить рабочего разделить со мною трапезу, если проголодаюсь: я заплачу ему несколько гиней, и приличия будут соблюдены; но остановить карету, как делают в Англии рыцари с большой дороги, — это не вяжется с моими правилами поведения. Ты, видно, умеешь только любить, бедное дитя! Но жить ты не умеешь. К тому же, мой ангел, я еще не достигла полного сходства с тобой. Я не люблю нравоучений. Но чтобы понравиться тебе, я готова себя переломить. Пожалуйста, не возражай, я попробую! Я попытаюсь сделаться ханжой. По сравнению со мной сам Иеремия[63] будет выглядеть простым служкой! Я не позволю себе ни одной ласки, не сдобрив ее изречением из библии.
Она воспользовалась своей властью надо мной и стала злоупотреблять ею, как только заметила в моих глазах огонь, который загорался во мне, когда она пускала в ход свои чары. Она одержала полную победу, и я покорно признал, что все тонкости католической морали не идут в сравнение с силой женщины, которая губит себя, отрекается от будущего и считает любовь высшей добродетелью.
— Значит, она любит себя больше, чем тебя! — говорила Арабелла. — Она предпочитает тебе нечто, не связанное с тобой! Можно ли ценить те качества, каких вы в нас не находите? Никакая женщина, даже самая высоконравственная, не может сравниться с мужчиной. Попирайте нас, топчите, убивайте, сметайте со своего пути. Нам суждено умирать, а вам жить в гордом величии. Мы принимаем от вас удары кинжала, а вы получаете от нас любовь и прощение. Разве солнце замечает мошек, которые трепещут в его лучах и живут его теплом? Мошки существуют, пока солнце не скроется, а потом умирают...
— Или улетают, — прервал я ее.
— Или улетают, — повторила она с таким равнодушием, что могла бы оскорбить человека, решившего воспользоваться той необычайной властью, какой она его наделила. — Неужели ты считаешь достойным женщины пичкать мужчину блюдами, приправленными добродетелью, чтобы доказать ему, что религия несовместима с любовью? Скажи, разве я безбожница? Мы отдаемся мужчине или отвергаем его; но отвергнуть мужчину, а затем читать ему мораль — значит дать ему двойное наказание, что противоречит законам всего мира. Здесь же ты получишь лучшие кушанья, изготовленные руками твоей преданной Арабеллы, вся мораль которой заключается в изобретении таких ласк, каких не изведал еще ни один мужчина и какие внушают ей ангелы.
Я не знаю ничего более язвительного, чем шутка в устах англичанки; она произносит ее с нарочитой серьезностью, с наигранной невозмутимостью, за которой англичане умеют скрывать все лицемерие своей жизни, полной предрассудков. Французская шутка — это кружево, которое женщины искусно вплетают в любовные утехи и выдуманные ими для разнообразия ссоры; это украшение ума, легкое и изящное, как женский наряд. Но английская шутка — это кислота, которая разъедает все, чего ни коснется, и оставляет от людей лишь гладкие и словно очищенные скелеты. Язык остроумной англичанки похож на язык тигра: желая лишь поиграть, она сдирает мясо до костей. Ее насмешка — всемогущее оружие злого демона, который как бы говорит, посмеиваясь: «Только и всего?» — и оставляет при этом смертельный яд в ранах, нанесенных им ради забавы. В эту ночь Арабелла захотела показать свое могущество, подобно султану, который доказывает свою власть, отрубая головы невинным жертвам.
— Ангел мой, — сказала она мне после того, как довела до того состояния, когда в полузабытьи мы забываем обо всем, кроме радостей любви, — сейчас я тоже размышляла о нравственности. Я спрашивала себя, совершаю ли я грех, что люблю тебя, нарушаю ли божеские законы, и решила: нет, ничто не может быть благочестивей и естественней моей любви. Для чего бог создал одних людей более красивыми, чем других, если не для того, чтобы указать нам, кого мы должны боготворить? Грехом было бы не любить тебя, ведь ты божий ангел. Эта дама тебя оскорбляет, приравнивая к другим людям: к тебе нельзя применять обычные правила морали, бог поставил тебя выше других. Разве я не приближаюсь к нему тем, что люблю тебя? Может ли он осудить бедную женщину за ее вкус к божественным творениям? Твоя необъятная и пылающая душа так похожа на солнце, что я ошибаюсь, словно мошка, летящая в пламя свечи! Можно ли наказывать ее за эту ошибку? Да и ошибка ли это? Быть может, это лишь самозабвенное поклонение свету? Мошки гибнут от чрезмерной любви к своему божеству, но можно ли сказать, что мы гибнем, бросившись в объятия того, кого любим? Я так слаба, что люблю тебя, а она так сильна, что может сидеть запершись в своей католической часовне. Пожалуйста, не хмурься! Ты думаешь, я на нее в обиде? Нет, глупыш! Я обожаю ту мораль, которая убедила ее дать тебе свободу и позволила мне овладеть тобой и удержать навсегда; ведь, правда, ты мой навсегда?
— Да.
— Навек?
— Да.
— Значит, ты снисходишь до меня, мой повелитель? Я одна отгадала все твои достоинства. Ты сказал, что она умеет возделывать землю? Я же предоставляю это дело фермерам, а сама предпочитаю возделывать твое сердце.
Я стараюсь припомнить ее опьяняющую болтовню, чтобы лучше обрисовать вам эту женщину, подтвердить то, что я о ней говорил, и вскрыть причины последовавшей затем развязки. Но как описать вам все, что сопровождало эти волнующие слова? Прихоти ее фантазии могли сравниться лишь с самыми обольстительными видениями наших снов; порой ее ласки вызывали те же восторги, что и мои букеты, в них сила сочеталась с нежностью, томная медлительность сменялась страстными порывами, похожими на извержение вулкана; с искусством опытного музыканта она заставляла звучать все струны моей чувственности; затем наши объятия напоминали игру двух змей, сплетающих свои тела; и, наконец, ее волнующие речи сверкали блестками остроумия, украшая цветами поэзии наши любовные утехи. Своей необузданной страстью она хотела вырвать из моего сердца чувства, внушенные целомудренной и ясной душой Анриетты. Маркиза так же хорошо разглядела графиню, как и графиня разглядела ее: они обе оценили друг друга. По той горячности, с какой Арабелла вступила в борьбу за меня, я понял, что она страшится соперницы и втайне восхищается ею. Наутро я увидел Арабеллу в слезах: она всю ночь не сомкнула глаз.
— Что с тобой? — спросил я.
— Я боюсь, что моя беспредельная любовь повредит мне в твоих глазах, — ответила она. — Я все отдала тебе. Эта женщина хитрее меня, она сохранила сокровища, которые ты можешь желать. Если ты предпочитаешь ее, не думай обо мне: я не стану докучать тебе упреками, мольбами, жалобами; нет, я уйду и умру вдали от тебя, как вянет растение, лишенное солнца.
Она сумела вырвать у меня слова утешения и любви, которые привели ее в восторг. Посудите сами, что можем мы сказать женщине, которая плачет, проведя с нами ночь? Суровость в этом случае мне кажется недостойной мужчины. Если вечером мы не сумели устоять против ее чар, то наутро нам приходится лгать, ибо кодекс мужской галантности обязывает нас скрывать правду.
— Ну что ж, я великодушна, — промолвила она, осушая слезы. — Возвращайся к ней. Я не хочу удерживать тебя лишь силой моей любви, ты должен прийти ко мне по своей воле. Если ты вернешься сюда, я поверю, что ты любишь меня не меньше, чем я тебя, хотя мне всегда казалось, что это невозможно.
Она сумела убедить меня возвратиться в Клошгурд. Я не догадывался, в каком ложном положении окажусь там, ибо был слишком поглощен своим счастьем. Если б я отказался ехать в Клошгурд, я дал бы преимущество леди Дэдлей перед Анриеттой. Арабелла тотчас же увезла бы меня в Париж. Но поехать в Клошгурд теперь — не значило ли это оскорбить г-жу де Морсоф? В таком случае я тем вернее должен был вернуться к Арабелле. Прощала ли когда-нибудь женщина подобное надругательство над ее любовью? Если она не ангел, спустившийся с небес, а лишь чистое создание с возвышенной душой, всякая женщина предпочтет увидеть возлюбленного на смертном ложе, нежели в объятиях соперницы; чем сильнее она любит его, тем глубже будет ее рана. Итак, как бы я ни поступил после того, как променял Клошгурд на Гренадьер, мое поведение было бы столь же губительно для моей возвышенной любви, сколь выгодно для любви земной. Маркиза все рассчитала с тонкой проницательностью. Она призналась мне впоследствии, что если бы не встретила в ландах г-жу де Морсоф, то все равно скомпрометировала бы меня, бродя вокруг Клошгурда.
Когда я приехал к графине и увидел ее бледной и разбитой, словно после долгой бессонной ночи, я вдруг обрел особое чутье, позволяющее юным и великодушным сердцам постигать глубокий смысл поступков, которые кажутся незначительными в глазах толпы, но становятся преступными перед судом благородной души. И тут, как ребенок, который, играя и собирая цветы, незаметно спустился в пропасть и вдруг с ужасом увидел, что не может выбраться назад, что его отделяют от людей неприступные склоны, что он остался один среди ночи и слышит вой диких зверей, я понял, что целый мир лег между нами. И наши души потряс горестный вопль, словно отзвук мрачного «Consummatum est!»[64], который гремит в церквах в страстную пятницу, в час смерти Спасителя. Ужасный обряд, леденящий юные сердца, которым религия заменяет первую любовь. Все иллюзии Анриетты были разбиты одним ударом, и сердце ее терпело жестокую пытку. Неужели она, не ведавшая любовных радостей, не отдававшаяся их сладостной истоме, сегодня догадывалась о наслаждениях счастливой любви и потому отвращала от меня свой взор? Да, она лишила меня света, который шесть лет озарял мою жизнь. Видно, она знала, что источником лучей, струившихся из наших глаз, были наши души, которые этим путем проникали одна в другую, сливались воедино, вновь расходились и радовались, как две женщины, доверчиво поверяющие друг другу свои тайны. Я с горечью почувствовал, что не должен был приходить в этот дом, где не знали любовных услад, с лицом, опаленным дыханием страсти, оставившей на нем неизгладимый след. Если бы накануне я позволил леди Дэдлей уйти одной, если бы я вернулся в Клошгурд, где Анриетта, возможно, ждала меня, — тогда, быть может... да, быть может, г-жа де Морсоф не решила бы столь непреклонно остаться мне только сестрой. А теперь она прилагала все силы, оказывая мне преувеличенное внимание, чтобы окончательно войти в свою новую роль и никогда не выходить из нее. Во время завтрака она осыпала меня любезностями, казавшимися мне унизительными: так пекутся о больном, которого жалеют.
— Вы вышли на воздух спозаранку, — сказал мне граф, — и должны были нагулять отличный аппетит, ведь вы не жалуетесь на желудок.
Это замечание не вызвало на губах у графини лукавой улыбки, как у посвященной в тайну сестры, и я окончательно убедился, что положение мое просто смешно. Невозможно проводить дни в Клошгурде, а ночи в Сен-Сире. Арабелла недаром рассчитывала на мою деликатность и на благородство г-жи де Морсоф. За этот нескончаемый день я понял, как трудно стать другом женщины, которую ты так долго желал. Такой переход очень прост, когда он подготовлен годами, но всегда болезнен в молодости. Мне было стыдно, я проклинал свое увлечение, мне хотелось отдать г-же де Морсоф всю свою кровь. Я не мог очернить перед ней соперницу, ибо графиня избегала разговоров о ней, к тому же порочить теперь Арабеллу было бы низостью, и я заслужил бы лишь презрение великодушной Анриетты, сердце которой было благородно во всех своих движениях. После пяти лет пленительной душевной близости мы не знали, о чем говорить; слова не выражали наших мыслей, мы скрывали друг от друга свои душевные муки, а ведь прежде страдание лишь крепче связывало нас. Анриетта делала вид, что счастлива и за себя и за меня, но была очень грустна. Хотя она поминутно называла себя моей сестрой, она не находила темы для беседы, и мы почти все время хранили тягостное молчание. Она еще усилила мою душевную пытку, дав мне понять, что считает одну себя жертвой Арабеллы.
— Я страдаю еще больше вас, — сказал я этой сестре в ответ на замечание, полное чисто женской иронии.
— Почему? — спросила она тем надменным тоном, каким говорят женщины, когда хотят скрыть свои чувства.
— Потому что я кругом виноват.
После этого графиня стала держаться со мной так холодно и равнодушно, что я был окончательно сражен; и вот я решил уехать. Вечером я попрощался со всей семьей, собравшейся на террасе. Все пошли проводить меня на лужайку, где мой конь нетерпеливо бил копытом. Графиня подошла ко мне, когда я уже взялся за узду.
— Пройдемся пешком по аллее, — молвила она.
Я подал ей руку, и мы медленно спустились в парк, словно по-прежнему наслаждаясь нашими согласными движениями; так мы дошли до купы деревьев в дальнем конце у ограды парка.
— Прощайте, мой друг! — сказала она, уронив головку мне на грудь и обвив мою шею руками. — Прощайте, мы больше не увидимся! Бог даровал мне печальную способность угадывать будущее. Помните, какой ужас охватил меня в тот день, когда вы приезжали к нам, такой молодой и красивый? Мне привиделось тогда, что вы повернулись ко мне спиной, как сегодня, когда вы покидаете Клошгурд ради Гренадьера. И вот нынче ночью я снова заглянула в будущее. Друг мой, мы говорим с вами в последний раз. Быть может, мне удастся еще сказать вам несколько слов, но с вами будет говорить не та, что стоит сейчас перед вами. Смерть уже коснулась меня своим крылом. Вы лишаете моих детей матери, замените же ее подле них, когда меня не станет. Вы можете это сделать! Жак и Мадлена любят вас так, будто вы всегда причиняли им страдания.
— Вы хотите умереть! — воскликнул я в страхе, смотря на нее, и снова увидел в ее горящих глазах сухой блеск, знакомый лишь тем, кто видел его у любимого существа, пораженного этой ужасной болезнью, и похожий на блеск потемневшего серебра. — Умереть! Анриетта, я приказываю тебе жить. Раньше ты требовала от меня клятв, сегодня я прошу у тебя лишь одну: поклянись, что ты обратишься к Ориже и будешь слушаться его во всем.
— Неужели вы станете противиться милосердию божьему? — воскликнула она, прерывая меня, и ее возглас прозвучал, как крик отчаяния и возмущения тем, что я не понял ее.
— Значит, вы недостаточно любите меня, чтобы слепо повиноваться во всем, подобно этой жалкой леди?..
— Я сделаю все, что ты захочешь, — ответила она в порыве ревности, заставившей ее на миг преступить границу, которую она всегда соблюдала.
— Я остаюсь с тобой, — сказал я, целуя ее глаза.
Испуганная этим решением, она выскользнула из моих объятий и прислонилась к дереву; затем стремительно бросилась к замку, не поворачивая головы; я последовал за ней, она плакала и молилась. Выйдя на лужайку, я взял ее руку и почтительно поцеловал. Эта нежданная покорность тронула ее.
— И все же я твой, — сказал я, — ибо люблю тебя, как некогда любила тебя тетушка.
Она затрепетала и горячо сжала мою руку.
— Еще один взгляд! — промолвил я. — Такой взгляд, каким ты дарила меня прежде!.. Женщина, целиком отдающаяся мужчине, — воскликнул я, когда она озарила мою душу сиянием своих глаз, — не вливает в нас столько жизни и света, сколько ты дала мне я эту минуту! Анриетта, ты любима больше всех, ты моя единственная любовь!
— Я буду жить! — сказала она. — Но излечитесь и вы.
Этот взгляд стер из моей памяти все насмешливые слова Арабеллы. Вы видите, я стал игрушкой двух несовместимых страстей и поочередно подпадал под их влияние; я любил ангела и демона — двух женщин равно прекрасных; одну, украшенную всеми добродетелями, которые мы попираем, кляня наше несовершенство; другую, наделенную всеми пороками, которые мы превозносим из себялюбия. Я удалялся по длинной аллее, оборачиваясь, чтобы взглянуть на г-жу де Морсоф, которая стояла, прислонясь к дереву, вместе с детьми, махавшими мне платками, и вдруг почувствовал, как в душе моей шевельнулось тщеславие при мысли, что я стал вершителем судеб двух прекраснейших созданий, гордостью двух женщин, столь несхожих, но столь совершенных, и внушил им такую безмерную страсть, что каждая из них готова умереть, если лишится меня. Это недостойное самодовольство было вдвойне наказано, верьте мне, Натали! Какой-то злой дух нашептывал мне, чтобы я дожидался подле Арабеллы того часа, когда смерть графа или порыв отчаяния Анриетты приведут ее ко мне, ибо Анриетта все еще любила меня: ее суровость, ее слезы, угрызения совести, христианское смирение были красноречивыми доказательствами чувства, которое ничто не могло вырвать из ее сердца, так же как из моего. Когда я медленно шел по прекрасной аллее, погруженный в эти размышления, мне уже было не двадцать пять лет, а все пятьдесят. Пожалуй, молодой человек еще чаще, чем женщина, в один миг переходит от тридцати лет к шестидесяти. Хотя я тотчас отогнал эти низкие мысли, должен признаться, они продолжали преследовать меня. Быть может, внушивший их дух жил в замке Тюильри, под сводами королевских покоев. Кто бы мог в те времена противиться развращающему влиянию Людовика XVIII, который говорил, что мы познаем истинные страсти только в преклонном возрасте, ибо страсть прекрасна и неистова, лишь когда к ней примешивается крупица бессилия, придающая каждому наслаждению тот трепет, какой испытывает игрок, делая последнюю ставку. Дойдя до конца аллеи, я обернулся и увидел, что Анриетта все еще стоит под деревом, теперь уже одна. И я вернулся сказать ей последнее прости, орошенное слезами раскаяния, причина которых была скрыта от нее. Сам того не зная, я лил эти искренние слезы, оплакивая нашу прекрасную любовь, погибшую навек, наши невинные чувства, светлые цветы юности, которые никогда не оживут, ибо потом мужчина уже не дает, а только получает; в своей любовнице он любит самого себя, тогда как в юности он любит возлюбленную в самом себе; позже мы передаем свои вкусы, быть может, и свои пороки любящей нас женщине; а в молодые годы наша возлюбленная прививает нам свои добродетели и нежные чувства; она приобщает нас к красоте своей улыбкой и учит преданности своим примером. Горе тому, у кого не было своей Анриетты! Горе и тому, кто никогда не знал какой-нибудь леди Дэдлей! Если первый женится, он не удержит свою жену; второй же будет покинут любовницей. Но счастлив тот, кто обретет обеих женщин в одной; счастлив тот человек, кого вы полюбите, Натали!
Вернувшись в Париж, мы еще больше сблизились с Арабеллой. Вскоре мы стали, незаметно для нас самих, нарушать законы светского общества, которые я прежде считал для себя обязательными и лишь при строгом соблюдении которых свет прощает ложные положения, подобные тому, в какое поставила себя леди Дэдлей. Общество вечно стремится проникнуть за завесу, скрывающую истинные отношения людей, но как только раскроет тайну, требует строгого соблюдения внешней благопристойности. Любовники, принужденные вращаться в свете, будут жестоко осуждены, если вздумают опрокинуть барьеры, воздвигнутые светскими приличиями, и не станут строго придерживаться принятых правил поведения; тут дело идет уже не о других, а о них самих. Заботы о том, как приблизиться к предмету своей страсти, соблюдая внешнюю почтительность, комедии, которое мы разыгрываем, и тайны, которые мы скрываем, — вся эта стратегия счастливой любви занимает нашу жизнь, обновляет желания и охраняет сердце от скуки, порождаемой привычкой. Но первые страсти расточительны, как и сами юноши, которые вырубают все деревья в садах своей души вместо того, чтобы бережно выращивать их. Арабелла не признавала этих мещанских взглядов и подчинялась им вначале лишь в угоду мне; но подобно палачу, заранее намечающему свою жертву, она хотелa скомпрометировать меня в глазах всего Парижа, чтобы сделать своим «sposo»[65]. Она пускала в ход свое кокетство, желая удержать меня при себе; ей казалась пресной наша изящная интрига, о которой в свете не решались говорить открыто, за отсутствием доказательств, и лишь шептались по углам. Разве мог я усомниться в ее любви, видя, как самозабвенно она совершала опрометчивые поступки, грозившие выдать наши отношения? Отдавшись радостям запретной любви, я вскоре пришел в отчаяние, увидев, что преступил все жизненные правила и наставления, преподанные мне Анриеттой. И тогда я стал прожигать жизнь с каким-то исступлением, словно чахоточный, который, предчувствуя близкий конец, не дает выслушивать свою больную грудь. В моем сердце всегда оставался уголок, к которому я не мог прикоснуться без боли; некий мстительный дух постоянно вызывал во мне мысли, на которых я не смел задерживаться. В письмах к Анриетте я жаловался на этот нравственный недуг, чем причинял ей новые мучения. «Ценой всех жертв и утраченных сокровищ я надеялась хотя бы видеть вас счастливым», — говорила она в единственном полученном мною письме. Но я не был счастлив! Натали, дорогая, счастье совершенно, оно не выносит сравнений. Когда первый пыл любви остыл, я стал невольно сравнивать этих женщин; прежде я не отдавал себе отчета, какой они составляли контраст. Всякая сильная страсть так подавляет нас, что вначале как бы стирает все острые углы нашего характера и сглаживает борозды, проложенные в нашем сознании благими или пагубными привычками; но позже в духовном облике любовников, лучше узнавших друг друга, вновь проявляются утраченные было черты; тогда каждый судит другого, и часто характер вступает в борьбу с чувством, порождая антипатии, которые становятся причиной разногласий и разрывов, а люди поверхностные обвиняют человеческое сердце в непостоянстве. В наших отношениях наступил такой перелом. Уже не столь ослепленный прелестями леди Дэдлей, я стал, если можно так выразиться, анализировать свои наслаждения и, сам того не желая, пришел к заключениям, невыгодным для нее.
Я нашел прежде всего, что ей недостает того ума, который отличает француженку от всякой другой женщины и придает ее любви непревзойденное очарование, по признанию всех, кому по прихоти судьбы довелось испытать, как любят женщины в разных странах. Полюбив, француженка преображается; ее столь прославленное кокетство служит ей лишь для того, чтобы украшать свою любовь; ее столь опасное тщеславие ей более не нужно, ибо она видит свою гордость лишь в беззаветной любви. Она целиком отдается интересам, огорчениям и привязанностям возлюбленного; за один день она овладевает искусством тонких комбинаций, не хуже опытного дельца, изучает свод законов или постигает сложную механику кредитных операций, обогащающих банкира; по природе своей ветреница и мотовка, она не совершит ни одной ошибки и не истратит даром ни одного золотого; она становится матерью, наставницей, врачом и во всех этих превращениях сохраняет прелесть счастливой женщины, в каждом пустяке выказывая безграничную любовь. Она соединяет в себе достоинства женщин разных стран и придает им единство благодаря своему уму, этому чисто французскому гению, который все оживляет, все допускает, все оправдывает, все преображает, разрушая однообразие чувства, основанного на настоящем времени одного-единственного глагола. Француженка любит всегда, неизменно и неустанно, каждую минуту — и в обществе и оставшись одна; в обществе она находит такой тон, что слова ее звучат лишь для одного человека; даже молчание ее говорит без слов, и она умеет смотреть на вас, опустив глаза; если обстоятельства запрещают ей говорить и смотреть, она напишет свою мысль на песке, по которому ступает ее ножка; в одиночестве она выражает свою любовь даже во сне; словом, она подчиняет весь свет своей любви. Англичанка, напротив, подчиняет свою любовь всему свету. Привыкнув благодаря воспитанию всегда сохранять ледяное спокойствие и то британское высокомерие, о котором я вам уже говорил, она так же легко открывает и запирает свое сердце, как крепкий английский замок. Она носит непроницаемую маску, которую снимает и надевает с чисто английской невозмутимостью; пылкая, как итальянка, когда ее никто не видит, она облачается в свое холодное достоинство, как только оказывается на людях. Самый горячо любимый человек начинает сомневаться в своем счастье, слыша спокойный голос, видя бесстрастное лицо и безупречное умение владеть собой, каким отличается каждая англичанка, как только выйдет из своего будуара. В такие минуты ее лицемерие переходит в равнодушие: англичанка все забывает. И понятно, если женщина может сбросить с себя любовь, как одежду, вам кажется, что ей нетрудно ее сменить. Какую бурю поднимает в нашем сердце оскорбленное самолюбие, когда мы видим женщину, которая принимает, прерывает и вновь подхватывает любовь, словно дамское рукоделье! Эти женщины слишком хорошо владеют собой, чтобы целиком отдаваться нам; они слишком подчиняются власти общества, чтобы принадлежать безраздельно мужчине. Там, где француженка награждает нас за долготерпение нежным взглядом и, досадуя на докучливых гостей, прибегает к тонкой насмешке, англичанка хранит неприступное молчание, которое язвит нам сердце и раздражает ум. Эти женщины так привыкли постоянно, при любых обстоятельствах восседать на троне, что для большинства из них всемогущество «fashion»[66] простирается даже на их наслаждения. Кто преувеличивает свое целомудрие, тот преувеличивает и любовь — таковы англичанки; для них декорум — это все, и в то же время любовь к форме не развивает в них художественного вкуса: что бы они ни говорили, различия между протестантской и католической религиями объясняют нам, почему чувство француженки затмевает рассудочную, расчетливую любовь англичанки. Протестантство сомневается, исследует и убивает веру, а потому несет смерть искусству и любви. Когда высший свет приказывает, светские люди должны повиноваться; но люди пылкие тотчас же бегут из него, ибо такой гнет для них невыносим. Вы понимаете теперь, как было задето мое самолюбие, когда я обнаружил, что леди Дэдлей не может обходиться без светского общества, что и ей свойственны эти британские превращения; подчиняться требованиям света для нее не было жертвой, нет, она легко и естественно носила две несовместимые личины. Когда она любила, она беззаветно предавалась любви; ни одна женщина ни в одной стране не могла с ней сравниться, она превзошла бы целый гарем; но стоило лишь занавесу упасть после этой волшебной сцены, как от нее не оставалось и воспоминаний. Арабелла уже не отвечала ни на улыбку, ни на взгляд; она не была ни владычицей, ни рабыней и, словно жена посланника, вынужденная закруглять свои фразы и движения, раздражала вас своим спокойствием и ранила сердце чопорной благопристойностью; таким образом, она низводила любовь до простой потребности, вместо того, чтобы возвышать ее, стремясь к идеалу. Она не выражала ни опасений, ни сожалений, ни желаний; но в назначенный час ее страсть вспыхивала, как бенгальский огонь, словно спеша наверстать упущенное. Которой из этих двух женщин мне следовало верить? И тут, испытав тысячи булавочных уколов, я понял, насколько Анриетта отличалась от Арабеллы. Когда г-жа де Морсоф на минуту покидала меня, все вокруг напоминало о ней; когда она уходила, складки ее платья утешали мой взор, а когда она возвращалась, их легкий шелест радовал мой слух; я чувствовал ее нежность даже в медлительном движении век, когда она опускала глаза; ее голос, такой кроткий и чистый, звучал как долгая ласка; ее разговор свидетельствовал о постоянстве вкусов, она всегда оставалась сама собой; она не делила свою душу на две части, одну пламенную, а другую ледяную; наконец, г-жа де Морсоф пользовалась игрой своего ума и блеском мысли, чтобы выражать свои чувства; ее остроумные шутки развлекали детей и меня. У Арабеллы, напротив, ум не служил для того, чтобы украшать жизнь, она не старалась порадовать им меня, ее мысль жила обществом и для общества и проявлялась лишь в насмешках; она любила язвить, жалить, колоть не из желания позабавить меня, но в угоду собственному вкусу. Г-жа де Морсоф скрывала бы свою любовь от всего света, леди Арабелле хотелось выставить свою страсть напоказ всему Парижу, и с ужасной непоследовательностью она сохраняла светские манеры, катаясь со мной на глазах у всех по Булонскому лесу. Эта смесь дерзости и достоинства, любви и холодности постоянно ранила мне сердце, оставшееся нетронутым и пылким; я не умел мгновенно переходить от одной крайности к другой, и эти перемены угнетали меня; я еще трепетал от любви, когда она вдруг надевала на себя личину недоступности; а если я весьма деликатно начинал упрекать ее, она тотчас пускала в ход свой ядовитый язычок, пересыпая преувеличенные изъявления любви едкими английскими насмешками, которые я уже пытался передать. Как только я противоречил ей, она забавлялась тем, что язвила мне сердце и старалась унизить меня в споре, словом, лепила из меня, что хотела, как из воска. Когда я говорил ей, что следует соблюдать меру во всем, она, издеваясь, доводила мои мысли до абсурда. А если упрекал ее за напускную холодность, она спрашивала, не хочу ли я, чтоб она бросилась мне на шею на глазах у всего Парижа, в Итальянской опере; она говорила это вполне серьезно, и, зная, как маркиза любит возбуждать толки, я дрожал, как бы она не выполнила свою угрозу. Несмотря на ее пылкую страсть, я никогда не чувствовал в Арабелле ничего затаенного, глубокого, святого, как у Анриетты; она была ненасытна, как песчаная почва под дождем. Я мог успокоить г-жу де Морсоф одним взглядом или звуком своего голоса, ибо она чувствовала мою душу, тогда как маркизу не мог взволновать ни взгляд, ни пожатие руки, ни нежное слово. Более того! Для нее вчерашнее счастье сегодня уже не существовало; ее не удивляло никакое доказательство любви; она испытывала такую неукротимую жажду движения, шума, блеска, что, по-видимому, ничем не могла ее утолить, — вот что порождало яростные порывы ее любви; но в своих преувеличенно пылких излияниях она помнила лишь о себе, но не обо мне. Письмо г-жи де Морсоф, как яркий светоч озарявшее мою жизнь, показывает, что эта добродетельная женщина неизменно сохраняла душу француженки и с неусыпной бдительностью и постоянным вниманием следила за всеми превратностями моей судьбы; это письмо поможет вам понять, с какой заботливостью она вникала в мои материальные дела, политические связи, моральные победы и с какой пылкостью скрашивала мне жизнь всеми дозволенными ей средствами. Ко всем этим сторонам моей жизни леди Дэдлей проявляла полное равнодушие, словно посторонняя. Она никогда не расспрашивала ни о моих делах, ни о моих доходах, ни о работе, ни о жизненных затруднениях, ни о друзьях, ни о противниках. Она была расточительна для себя, но не щедра и, право, слишком резко отделяла любовь от всех прочих интересов; тогда как Анриетта — я знал это, хотя и не подвергал ее испытанию, — чтобы избавить меня от огорчения, пошла бы на то, чего не сделала бы для себя самой. Если б на меня обрушилось несчастье, какое может постигнуть самых богатых и высокопоставленных людей — мы знаем тому многие примеры из истории, — я обратился бы за советом к Анриетте, но дал бы засадить себя в тюрьму, ни слова не сказав леди Дэдлей.
До сих пор я говорил о том, какой контраст составляли их чувства, но он проявлялся и в образе их жизни. Во Франции роскошь выражает сущность человека, воплощает его мысли, передает поэзию его души; она обрисовывает его характер и придает значение малейшей заботе влюбленного, окружая нас светом мысли любимого существа; но английская роскошь, изысканные прелести которой обольстили меня, остается какой-то бездушной. Леди Дэдлей не вкладывала в нее частицы себя, ее роскошь создавали слуги, она была куплена за деньги. Множество нежных знаков внимания, которые мне оказывали в Клошгурде, по мнению леди Арабеллы, должны были взять на себя слуги; каждый из них имел свой круг обязанностей. Выбирать лакеев было делом ее мажордома, словно речь шла о лошадях. Эта женщина не привязывалась к своим слугам, смерть лучшего из них ничуть не опечалила бы ее: за хорошие деньги его бы заменили другим, не менее умелым. Что касается наших ближних, то я ни разу не видел на ее глазах слез сочувствия чужому несчастью; ее эгоизм доходил до такой наивности, что порой казался просто смешным. Эту натуру, словно отлитую из бронзы, скрывала пурпуровая мантия великосветской дамы. Но по вечерам восхитительная одалиска, изгибающаяся на мягких коврах, столь обольстительная в своем любовном безумии, быстро примиряла меня с бесчувственной и сухой англичанкой; вот почему я так медленно открывал, на какую бесплодную почву падают брошенные мной семена, которым не суждено было дать зеленых всходов. Г-жа де Морсоф сразу разгадала эту натуру во время их короткой встречи; я вспомнил ее пророческие слова. Анриетта была права во всем, любовь Арабеллы становилась для меня невыносимой. Позже я убедился, что у большинства женщин, ловко скачущих верхом, очень мало нежности. Подобно амазонкам, лишенным одного сосца, им чего-то недостает, в их сердце словно лежит льдинка, но мне трудно сказать, откуда она взялась.
В ту пору, когда я уже начал ощущать тяжесть этого ига, когда я устал и телом и душой, когда я понял, какую святость придает любви истинное чувство, когда меня терзали воспоминания о Клошгурде и я, несмотря на расстояние, вдыхал аромат его роз, ощущал теплый ветер, овевавший его террасы, и слышал пение его соловьев, когда я увидел каменистое ложе потока, обнажившееся под схлынувшими водами, меня сразил удар грома, который все еще звучит в моей жизни, ибо каждый час я слышу его эхо. Я работал в кабинете короля, который должен был уехать в четыре часа; герцог де Ленонкур нес службу во дворце. Он вошел в кабинет, и король спросил его, как здоровье графини. Я резко поднял голову, и это движение выдало меня. Король, раздосадованный моей горячностью, бросил мне насмешливый взгляд, за которым обычно следовала меткая острота — на них он был великий мастер.
— Государь, моя бедная дочь умирает, — ответил герцог.
— Соблаговолит ли его величество дать мне отпуск? — спросил я со слезами на глазах, не страшась вызвать вспышку королевского гнева.
— Бегите, милорд! — ответил он с улыбкой, вкладывая едкую иронию в каждое слово и заменив выговор насмешкой.
Герцог, прежде всего придворный и лишь затем отец, не попросил отпуска и сел в карету, чтобы сопровождать короля. Я уехал, не простившись с леди Дэдлей, которой, к счастью, не было дома, и оставил ей записку, что уезжаю по королевскому приказу. Возле Круа-де-Берни я встретил его величество, который возвращался из Веррьера. Приняв от меня букет цветов, который он уронил к своим ногам, король бросил на меня взгляд, полный той царственной иронии, какой он умел сражать людей. «Если хочешь играть роль в политике, приезжай поскорее! Не трать время на переговоры с мертвецами!» — казалось, сказал его взор. Герцог печально помахал мне рукой. Две роскошные кареты с упряжками по восемь лошадей, лакеями в золотых ливреях и блестящей свитой промчались, вздымая облака пыли, под крики «Да здравствует король!». Мне показалось, что королевский двор растоптал тело г-жи де Морсоф с тем равнодушием, с каким природа взирает на людские бедствия. Хотя герцог был превосходным человеком, он, видимо, собирался играть в вист с братом короля, когда его величество удалится на покой. Что же касается герцогини, то она первая нанесла дочери смертельный удар, написав ей о леди Дэдлей.
Мой недолгий путь промелькнул, как сон — как сон разорившегося игрока; я был в отчаянии, что мне ничего не сообщили. Неужели духовник г-жи де Морсоф был так суров, что запретил принимать меня в Клошгурде? Я обвинял Жака, Мадлену, аббата де Доминиса — всех, даже г-на де Морсофа. Когда я выехал из Тура и поднялся на мост Сен-Совер, чтобы спуститься на обсаженную тополями дорогу в Понше, которой некогда любовался, бродя в поисках моей прекрасной незнакомки, я встретил господина Ориже. Он догадался, что я еду в Клошгурд; я понял, что он возвращается оттуда. Мы оба остановили коляски и вышли на дорогу: я — чтобы узнать от него новости, а он — чтобы сообщить их мне.
— Скажите, как себя чувствует госпожа де Морсоф? — спросил я.
— Сомневаюсь, застанете ли вы ее в живых, — ответил он. — Она умирает ужасной смертью — от истощения. Когда она позвала меня, в июне месяце, никакая медицина уже была не в силах бороться с болезнью; у нее обнаружились те ужасные симптомы, которые вам, без сомнения, описал господин де Морсоф, находивший их у себя. Графиня не была в ту пору под преходящим влиянием душевного расстройства, вызванного внутренней борьбой: в такое состояние может вмешаться врач и постепенно добиться благоприятных результатов; это не было и острым припадком, после которого здоровье вновь восстанавливается; нет, болезнь достигла такой стадии, когда наука бессильна: это неизлечимое следствие тяжелого горя, как смертельная рана — результат удара кинжалом. Ее недуг развился из-за бездействия органа, деятельность которого так же необходима для жизни, как биение сердца. Скорбь заменила удар кинжала. Тут нет места сомнению. Госпожа де Морсоф умирает от какого-то неведомого горя.
— Неведомого? — повторил я. — Ее дети не болели это время?
— Нет, — ответил он, многозначительно посмотрев на меня, — и с тех пор, как она так тяжело заболела, господин де Морсоф больше не мучает ее. Я там уже не нужен, при ней остался господин Деланд; но ей ничем нельзя помочь, и страдания ее ужасны. Богатая, молодая, красивая, она постарела и исхудала, ибо умирает от голода! Вот уже сорок дней ее желудок будто наглухо закрыт и не принимает никакой пищи.
Господин Ориже крепко пожал мне руку, словно желая выразить свое соболезнование.
— Мужайтесь, сударь, — сказал он, подняв глаза к небу.
Слова его выражали сочувствие: он считал, что я разделяю скорбь Анриетты; он и не подозревал, как терзали меня его слова, впиваясь в сердце, словно отравленные стрелы. Я снова вскочил в коляску, обещая кучеру щедрую награду, если он вовремя доставит меня в Клошгурд.
Несмотря на все мое нетерпение, мне показалось, что мы ехали всего несколько минут, так я был поглощен горькими мыслями, которые теснили мне душу. Она умирает от горя, а дети ее здоровы! Значит, она умирает из-за меня! И моя карающая совесть вынесла мне один из тех беспощадных приговоров, которые не дают нам покоя всю жизнь, а иногда и за ее пределами. Как слабо, как бессильно человеческое правосудие! Оно судит лишь явные преступления. Почему оно обрекает на смерть и позор убийцу, который разит свою жертву одним ударом, великодушно подстерегает ее во сне и усыпляет навек или убивает внезапно, избавляя от агонии? Почему оно дарит счастливую жизнь и уважение убийце, который вливает каплю за каплей смертельный яд в чистую душу, подтачивая ее силы и разрушая тело? Сколько у нас ненаказанных убийц! Как мы снисходительны к пороку в нарядном облачении! Как легко мы оправдываем убийство, совершенное с помощью нравственных пыток! Какая-то неведомая мстительная рука вдруг подняла передо мной размалеванный занавес, за которым прячется общество. И я увидел многие жертвы, которые вы так же хорошо знаете, как и я: г-жу де Босеан, за несколько дней до моего отъезда скрывшуюся в Нормандии, чтобы там умереть! Герцогиню де Ланже[67], павшую в глазах общества! Леди Брэндон[68], бежавшую в Турень и скончавшуюся в жалком домишке, где леди Арабелла прожила две недели, — вам известна причина этой ужасной развязки! Наше время богато подобными событиями. Кто не слыхал о несчастной молодой женщине, отравившейся из ревности[69], быть может, убивающей сейчас и г-жу де Морсоф? Кто не содрогнулся, узнав о судьбе прелестной девушки, погибшей, словно нежный цветок, изъеденный тлей, после двух лет замужества, — жертвы целомудренного неведения, загубленной негодяем, которому Ронкероль, Монриво, де Марсе до сих пор пожимают руку, потому что он поддерживает их политические интриги? Кто не трепетал, слушая рассказ о последних минутах женщины, оставшейся непреклонной, несмотря на все мольбы, и пожелавшей никогда не встречаться с мужем после того, как она великодушно оплатила его долги? Г-жа д'Эглемон увидела перед собой разверзшуюся могилу, и, кто знает, осталась ли бы она в живых, если бы не заботы моего брата? Светское общество и наука становятся соучастниками этих преступлений, которые не подлежат у нас уголовному суду. Как будто никто не умирает ни от горя, ни от любви, ни от отчаяния, ни от тайных мучений, ни от бесплодных надежд, столько раз взлелеянных и вновь вырванных с корнем. В современном языке есть множество хитроумных слов, которыми можно все объяснить: такие, как гастрит, перикардит и тысячи женских болезней; их названия шепчут друг другу на ухо, и они служат проходным свидетельством на тот свет для покойников, орошенных лицемерными слезами, которые быстро осушает рука нотариуса. Скрывается ли в глубине этих несчастий какой-нибудь неведомый нам закон? Должен ли столетний старец безжалостно усеивать землю трупами, уничтожая все вокруг для того, чтобы уцелеть самому, подобно миллионеру, который поглощает силы множества мелких ремесленников? Существует ли хищное племя, которое питается кровью нежных и слабых созданий? Боже мой! Неужели я принадлежу к породе тигров? Угрызения совести раздирали мне сердце острыми когтями, и слезы катились из глаз, когда я вошел в аллею, ведущую в Клошгурд: стояло туманное октябрьское утро, и ветер срывал увядшие листья с тополей, посаженных по распоряжению Анриетты в этой аллее, откуда она недавно махала мне платком, словно призывая назад. Жива ли она? Успею ли я еще почувствовать ее белые руки на своей склоненной голове? За одну эту минуту я искупил все наслаждения, данные мне Арабеллой, и решил, что они достались мне слишком дорогой ценой! Я поклялся себе, что больше никогда не увижу ее, и возненавидел Англию. Хотя леди Дэдлей была лишь разновидностью своей породы, я вынес всем англичанам суровый приговор.
Когда я вошел в Клошгурд, сердце у меня упало. Я увидел Жака, Мадлену и аббата де Доминиса на коленях у подножия деревянного креста; он был врыт на участке, вошедшем во владения графа, когда их обносили оградой: ни граф, ни графиня не захотели его снести. При виде этих взывающих к богу детей и почтенного старца у меня мучительно сжалось сердце, я выскочил из коляски и подошел к ним с залитым слезами лицом. В нескольких шагах от них стоял старый берейтор с непокрытой головой.
— Как она? — спросил я у аббата де Доминиса, поцеловав в лоб Жака и Мадлену, которые, не прерывая молитвы, холодно взглянули на меня.
Аббат встал, я взял его под руку и, опираясь на него, спросил:
— Она еще жива?
Он медленно кивнул головой с кротким и печальным выражением.
— Говорите, умоляю вас, говорите во имя всего святого! Почему вы молитесь у этого креста? Почему вы здесь, а не подле нее? Почему ее дети на воздухе в такое холодное утро? Скажите мне все, чтобы я не совершил по неведению какой-нибудь непоправимой ошибки.
— Вот уж несколько дней графиня пускает к себе детей лишь в известные часы, — сказал аббат. — Сударь, — продолжал он, помолчав, — быть может, вам лучше подождать несколько часов, прежде чем идти к госпоже де Морсоф; она очень изменилась! Ее следует подготовить к этому свиданию, вы можете еще усилить ее муки... Теперь смерть была бы для нее благодеянием.
Я пожал руку этому превосходному человеку, который и взглядом и голосом врачевал раны ближнего, смягчая их боль.
— Здесь мы все молимся за нее, — продолжал он, — ибо эту святую женщину, прежде столь смиренную и готовую умереть, вот уже несколько дней терзает тайный страх смерти; ее взгляды, обращенные на тех, кто полон жизни, впервые туманит недоброе, завистливое чувство. Мне кажется, что это омрачение души вызвано не столько боязнью смерти, сколько невольными внутренними порывами, как будто увядающие цветы юности опьяняют ее своим болезненным ароматом. Да, злой дух оспаривает у бога эту прекрасную душу. Графиня ведет тяжелую борьбу, подобно Христу на Масличной горе, и орошает слезами белые розы, окружающие венцом ее голову и опадающие одна за другой. Подождите, не показывайтесь ей сейчас: вы принесете к ней сияние королевского дворца, она увидит на вашем лице отблески великосветских празднеств, и вы умножите ее скорбь. Будьте милосердны к слабости, которую сам бог простил своему сыну, ставшему человеком. Какова была бы наша заслуга, если б мы одерживали победы, не имея противника? Позвольте же ее духовнику и мне, двум старикам, дряхлость которых не может оскорбить ее взора, подготовить ее к этому неожиданному свиданию и к тем волнениям, от которых она отказалась по требованию аббата Биротто. Однако все дела земные связаны невидимыми нитями божественного промысла, заметными лишь посвященному; и если вы пришли сюда, быть может, вас привела путеводная звезда, какие сияют в мире духовном, указывая нам дорогу и к яслям и к могиле.
Затем он рассказал мне, с тем мягким красноречием, которое освежает душу, как утренняя роса, что последние полгода графине становилось все хуже, несмотря на заботы доктора Ориже. В течение двух месяцев доктор приезжал каждый вечер в Клошгурд, стараясь вырвать у смерти ее добычу, ибо графиня сказала ему: «Спасите меня!»
— Но вылечить тело можно, лишь когда излечится душа! — воскликнул однажды старый доктор.
— Состояние ее все ухудшалось, и постепенно кроткие речи этой страдалицы сменились горькими сетованиями, — говорил аббат де Доминис. — Она молит землю не отпускать ее, вместо того, чтобы молить бога взять ее к себе; но затем раскаивается, что роптала на промысел божий. Эти колебания терзают ей сердце и усиливают ужасную борьбу тела и души. Порой побеждает тело! «Как дорого вы мне стоили!» — сказала она как-то Жаку и Мадлене, отталкивая их от себя. Но тотчас же, взглянув на меня, вернулась душой к богу и сказала Мадлене благословенные слова: «Счастье ближних становится радостью для того, кто сам уже не может быть счастливым». И голос ее звучал так горестно, что слезы навернулись у меня на глазах. Она оступается, это правда, но снова встает и с каждым шагом поднимается все выше, к небу.
Потрясенный рассказами этих вестников, случайно встреченных мной на дороге, и предчувствуя, что все печальные голоса, сплетающиеся в общий скорбный хор, вскоре зазвучат мрачной погребальной мелодией, лебединой песней умирающей любви, я воскликнул:
— Вы верите, что эта срезанная лилия вновь расцветет в небесах?
— Она была лилией, когда вы ее покинули, — ответил он, — но теперь вы найдете ее поблекшей, очищенной в горниле страданий и чистой, как еще скрытый в земле алмаз. Да, этот светлый ангел, эта звезда человеческая выйдет, сияя, из затмивших ее облаков и улетит в царство света.
Когда я с горячей благодарностью пожал руку этому богобоязненному человеку, из дверей дома выглянула совсем побелевшая голова графа; лицо его выразило удивление, и он бросился ко мне, говоря:
— Она сказала правду! Вот и он! «Феликс, Феликс, вон идет Феликс!» — воскликнула только что госпожа де Морсоф. Друг мой, — продолжал он, бросая на меня взгляды, полные безумного страха, — смерть уже пришла! Почему она не выбрала меня, сумасшедшего старика, к которому так давно подбирается?
Я направился к зáмку, собрав все свое мужество; но на пороге длинной прихожей, которая пересекала весь дом и одним концом выходила в сторону лужайки, меня остановил аббат Биротто.
— Госпожа графиня просила вас пока не входить к ней, — сказал он.
Оглянувшись, я заметил, что убитые горем слуги бегают взад и вперед, с видимым удивлением выполняя приказания, переданные им Манеттой.
— Что тут происходит? — спросил граф, ошеломленный этой суетой, страшась, не свершилось ли ужасное событие, и, как всегда, легко поддаваясь тревоге.
— Прихоть больной, — ответил аббат. — Госпожа графиня не хочет принимать господина виконта в такой обстановке; она желает переодеться, — зачем ей перечить?
Манетта позвала Мадлену, и девочка, ненадолго зайдя к матери, вскоре выскользнула из ее комнаты. За тем мы вышли пройтись впятером: Жак, его отец, два аббата и я — и стали молча ходить по лужайке перед домом. Я посмотрел на Монбазон, потом на Азе и окинул взглядом пожелтевшую долину, печальный вид которой, как и во всех других случаях, отвечал волновавшим меня чувствам. Вдруг я заметил милую девочку, поспешно срывавшую осенние цветы, чтобы собрать их в букет. Когда я понял, какой глубокий смысл заложен в этом ответе на мои прежние любовные излияния, что-то перевернулось во мне, в глазах потемнело, и я покачнулся; два аббата, между которыми я шел, подхватили меня и отнесли на каменный выступ террасы, где я несколько минут лежал, словно разбитый, хотя и не потерял сознания.
— Бедный Феликс, — сказал граф, — она настрого запретила мне писать вам: ведь она знает, как вы ее любите.
Да, я приготовился страдать, но меня сразило это внимание, в котором слились все мои воспоминания о былом счастье.
«Вот она, — подумал я, — иссушенная, бесплодная ланда в свете серого, осеннего дня, и посреди нее один-единственный цветущий куст, которым я любовался во время своих прогулок с чувством суеверного трепета, — он предвещал мне этот скорбный час!»
Все замерло в маленьком поместье, прежде таком веселом и оживленном. Все было печально и заброшено, все говорило об отчаянии. Аллеи были лишь наполовину расчищены, начатые работы оставлены, батраки стояли без дела и смотрели на замок. Хотя сейчас шел сбор винограда, не слышно было ни шума, ни говора. Казалось, виноградники опустели — такая кругом стояла тишина. Мы шли молча, как люди, чье горе не выносит банальных слов, и слушали графа, — он один продолжал говорить. Отдав дань своей любви к жене, давно перешедшей в привычку, граф начал, как всегда, выражать недовольство и жаловаться на графиню. Его жена никогда не заботилась о себе и не слушала его разумных советов; он первый заметил симптомы ее болезни: ведь он изучил их на себе; но он боролся с недугом и сам вылечил себя, следуя строгому режиму и избегая волнений. Он вполне мог бы вылечить и графиню, но разве муж решится взять на себя такую ответственность, особенно когда видит, что его опыт, к несчастью, ставят ни во что. Вопреки его доводам графиня избрала себе врачом Ориже; и этот доктор, прежде так плохо лечивший его, теперь погубил и жену. Если эта болезнь — следствие тяжелых огорчений, то сам он испытал такие невзгоды, которые должны были неминуемо вызвать ее. А какие огорчения были у его жены? Графиня была счастлива, ничто ее не тревожило, никто ей не перечил. Благодаря его попечениям и удачным идеям их состояние было упрочено; он предоставил жене распоряжаться в Клошгурде; его дети были хорошо воспитаны, здоровье их уже не внушало никаких опасений; что же могло вызвать ее болезнь? И он продолжал рассуждать, изливая свое горе в бессмысленных жалобах и обвинениях. Но постепенно воспоминания вновь оживили его привязанность к этому благородному созданию, и несколько слезинок смочили его доселе сухие глаза.
Тут подошла Мадлена и сказала, что ее мать ждет меня. Аббат Биротто последовал за мной. Девушка держалась сурово и осталась с отцом, сказав, что графиня хочет говорить со мной наедине, ибо ее утомляет присутствие нескольких человек. В этот торжественный час я чувствовал и внутренний жар и холодную дрожь, какие охватывают нас в решающие минуты жизни. Аббат Биротто, один из тех людей, которых бог осенил своей благодатью, наделив кротостью и простотой, терпением и милосердием, отвел меня в сторону.
— Сударь, — сказал он, — я сделал все, что было в человеческих силах, чтобы помешать вашему свиданию. Этого требовало спасение души нашей страдалицы. Я думал только о ней, а не о вас. Теперь, когда вы входите к той, видеть которую вам должны были воспретить сами ангелы, знайте, что я останусь между вами, чтобы защитить ее от вас, а может быть, и от нее самой! Уважайте ее слабость. Я прошу вас пощадить ее не как священник, а как преданный друг, которого вы до сих пор не знали и который хочет избавить вас от угрызений совести. Наша дорогая больная умирает от голода и жажды. С сегодняшнего утра она находится в лихорадочном возбуждении, которое предшествует этой ужасной смерти, и я не могу утаить от вас, что она никак не хочет расставаться с жизнью. Крики ее бунтующей плоти замирают в моем сердце, вызывая лишь нежное сострадание; но мы с аббатом де Доминисом считаем своим священным долгом скрыть зрелище ее духовной агонии от этой благородной семьи, которая не узнает в ней теперь свою прежнюю путеводную звезду; ибо ее супруг, дети, слуги — все спрашивают: «Где она?», — так изменилась графиня. При вас ее жалобы обретут новую силу. Оставьте светские помыслы, изгоните тщеславие из сердца, будьте подле нее посланцем небесным, а не земным, дабы эта праведница не умерла в минуту сомнений, со словами отчаяния на устах.
Я ничего не ответил. Мое молчание поразило бедного духовника. Я видел, слышал, двигался, но мне казалось, что я нахожусь где-то далеко от земли. «Что же произошло? В каком состоянии я застану ее, если каждый старается меня предостеречь?» Эта мысль вызывала во мне страшное предчувствие, тем более мучительное, что я не мог его определить; в нем как бы слились все мои тревоги. Мы подошли к ее двери, которую опечаленный аббат открыл передо мной. И тут я увидел Анриетту. Она сидела в белом платье на кушетке у камина, украшенного нашими вазами, полными цветов; цветы стояли и на столике возле окна. Взглянув на аббата Биротто, с изумлением смотревшего на эту комнату, вдруг принявшую свой прежний вид и убранную словно к празднику, я угадал, что умирающая велела вынести из спальни все, что напоминало о болезни. Она собрала все свои силы, чтобы принарядить свою комнату и достойно принять того, кто был ей сейчас дороже всех на свете. Ее исхудавшее, зеленовато-бледное лицо, окруженное волной кружев, напоминало нераспустившийся цветок магнолии и казалось мне лишь наброском любимого лица, начертанным мелом на холсте; но чтобы понять, какая боль пронзила мое сердце, представьте себе, что художник закончил и оживил глаза на этом портрете, глубоко запавшие, сверкающие глаза, пугавшие своим блеском на этом потухшем лице. У нее уже не было того спокойного величия, какое придавали ей постоянные победы над страданиями. На лбу, единственной части лица, сохранившей свою красивую форму, лежала печать дерзновенных желаний и скрытых угроз. Несмотря на восковой оттенок вытянувшегося лица графини, вы угадывали сжигавший ее внутренний огонь по какому-то исходившему от него жару, похожему на трепет воздуха, струящегося в знойный день над поляки. Ее запавшие виски и ввалившиеся щеки подчеркивали внутреннее строение лица, а улыбка бескровных губ чем-то напоминала жуткую усмешку смерти. Платье со скрещенной на груди пелериной не могло скрыть худобы ее некогда полной фигуры. Выражение лица говорило о том, что она знает, как изменилась, это приводит ее в отчаяние. Теперь она уже не была ни моей восхитительной Анриеттой, ни величавой и святой г-жой де Морсоф; она стала существом без имени, ведущим поединок с небытием, о котором говорит Боссюэ; голод и неутоленные желания толкнули ее на эту отчаянную борьбу со смертью. Я сел подле нее и, взяв ее руку, чтобы поцеловать, почувствовал, как она пылает. Анриетта отгадала мое скорбное удивление по усилию, которое я сделал, чтобы его скрыть. И ее бледные губы растянулись над выступившими зубами, пытаясь сложиться в одну из тех вымученных улыбок, за какими мы скрываем и злорадство, и нетерпеливое желание, и опьянение души, и бешенство разочарования.
— Увы, это смерть, дорогой Феликс, — сказала она, — а вы не любите смерти! Та отвратительная смерть, что вселяет ужас во всякое живое существо и даже в душу самого бесстрашного любовника. Тут кончается любовь, я это знала. Леди Дэдлей никогда не заметит на вашем лице удивления при виде того, как она изменилась. Ах, зачем я так ждала вас, Феликс! А теперь, когда вы пришли, я вознаграждаю вас за преданность этим ужасным зрелищем, при виде которого граф де Рансе стал некогда траппистом[70]; я жаждала остаться прекрасной и возвышенной в вашей памяти, всегда быть вашей белой лилией — и вот сама разрушила ваши иллюзии! Истинной любви чужды всякие расчеты. Но не убегайте, останьтесь со мной. Господин Ориже нашел сегодня утром, что мне гораздо лучше, я вернусь к жизни, меня оживят ваши взоры. А затем, когда силы начнут возвращаться ко мне, когда я смогу вновь принимать пищу, ко мне вернется и былая красота. Ведь мне только тридцать пять лет, у меня еще могут быть счастливые годы. Счастье молодит, а я хочу познать счастье. У меня чудесные планы: мы оставим их в Клошгурде и уедем с вами в Италию.
Слезы застилали мне глаза; я отвернулся к окну, словно разглядывая цветы. Аббат Биротто быстро подошел ко мне и наклонился над букетом.
— Сдержите слезы! — молвил он мне на ухо.
— Анриетта, разве вы больше не любите нашу долину? — спросил я, чтобы объяснить, почему отвернулся от нее.
— Люблю, — отвечала она, прижимаясь лбом к моим губам с игривой лаской, — но без вас она меня угнетает... Без тебя, — шепнула она мне на ухо, прикоснувшись к нему горячими губами, и слова ее прозвучали, как легкий вздох.
Меня ужаснул этот мрачный порыв; он сказал мне больше, чем мрачные предупреждения обоих аббатов. Я уже успел побороть удивление, но если я и взял себя в руки, у меня не хватало силы воли, чтобы сдержать нервную дрожь, пробегавшую по моему телу в течение всей этой сцены. Я слушал Анриетту, не отвечая, вернее, я отвечал застывшей улыбкой и лишь кивал головой, чтобы не возражать, обращаясь с ней, как мать с неразумным ребенком. Сначала меня поразила перемена, происшедшая в ее внешности, но потом я увидел, что эта женщина, прежде столь возвышенная, проявляла теперь в поведении, в голосе, манерах, взглядах и мыслях детскую наивность, простодушное кокетство, жажду движений, глубокое равнодушие ко всему, кроме себя и своих желаний, — словом, все слабости, присущие ребенку, которому необходимо наше покровительство. Бывает ли так со всеми умирающими? Сбрасывают ли они свое социальное облачение, уподобляясь детям, которые еще не успели его надеть? Или, находясь у порога вечности, графиня из всех человеческих чувств сохранила только любовь и теперь обнаружила ее с прелестной невинностью, наподобие Хлои[71]?
— Вы, как и прежде, вернете мне здоровье, Феликс, — сказала она, — да и воздух нашей долины будет для меня благотворным. Как могу я отказаться от пищи, если ее предложите вы! Ведь вы такая хорошая сиделка! К тому же в вас столько сил и здоровья, что вы передадите их мне. Друг мой, скажите же, что я не умру, что я не могу умереть, не испытав счастья! Они думают, что моя самая тяжкая мука — это жажда. О да! Я очень хочу пить, дорогой друг. Мне больно смотреть на воды Эндра, но жажда моего сердца еще мучительней. Я жаждала тебя, — продолжала она сдавленным голосом, сжимая мои руки в своих пылающих руках и притягивая меня к себе, чтобы сказать эти слова на ухо. — Я умираю оттого, что тебя не было со мной. Разве ты не велел мне жить? И я хочу жить. Я тоже хочу кататься верхом! Я хочу все изведать: жизнь в Париже, празднества, наслаждения.
Ах, Натали! Этот ужасный вопль души, этот бунт подавленной плоти, силу которого невозможно описать, звенел в ушах у меня и у старого священника; горестные ноты этого чудесного голоса говорили о борьбе всей жизни, о муках истинной, но неутоленной любви. Графиня вдруг встала в нетерпеливом порыве, словно ребенок, который тянется за игрушкой. Когда аббат увидел, в каком состоянии его духовная дочь, бедный старик бросился на колени, сложил руки и стал читать молитвы.
— Да, я хочу жить! — сказала она, заставляя меня встать и опираясь на мою руку. — Жить настоящей жизнью, а не обманом. Все было обманом в моей жизни; за последние дни я перебирала в памяти все эти лживые выдумки. Возможно ли, чтобы я умерла! Ведь я совсем не жила, ведь я ни разу никого не ждала в ландах!
Она замолчала, словно прислушиваясь и вдыхая сквозь стены неведомый мне аромат.
— Феликс! Сборщицы винограда скоро будут обедать, а я, их хозяйка, — сказала она с детской обидой, — я голодна! Так и с любовью — они счастливы, эти работницы!
— Kyrie eleison![72] — воскликнул бедный аббат, который, воздев руки и устремив взор к небу, громко читал молитвы.
Она обвила мою шею руками и, жарко поцеловав, сказала, сжимая меня в объятиях:
— Я никому вас больше не отдам! Я хочу быть любимой, хочу совершать безумства, как леди Дэдлей, я научусь говорить по-английски, чтобы называть вас «my Dee».
Она кивнула мне головой, как делала когда-то, покидая меня и обещая скоро вернуться.
— Мы пообедаем вместе, — сказала она, — я прикажу Манетте...
Она замолчала, охваченная внезапной слабостью; я подхватил ее на руки и уложил одетую на кровать.
— Вот так вы однажды уже носили меня, — промолвила она, открывая глаза.
Она была очень легка и вся горела; я чувствовал, как тело ее пылает. Вошел доктор Деланд и с удивлением оглядел украшенную цветами комнату, но мое присутствие, казалось, все ему объяснило.
— Как тяжело умирать, сударь, — сказала ему графиня изменившимся голосом.
Он присел, пощупал больной пульс, быстро встал, сказал несколько слов на ухо священнику и вышел; я последовал за ним.
— Что вы собираетесь делать? — спросил я.
— Избавить ее от ужасной агонии, — ответил он. — Кто мог ожидать, что в ней сохранилось столько сил? Мы не понимаем, как она еще жива, зная ход ее болезни. Вот уже сорок второй день, как графиня не ест, не пьет и не спит.
Господин Деланд позвал Манетту; аббат Биротто увел меня в сад.
— Предоставим действовать доктору, — сказал он. — С помощью Манетты он усыпит ее опием. Ну вот, вы слышали ее, можно ли думать, что она повинна в этих приступах безумия!..
— Нет, — ответил я, — то была уже не она.
Я отупел от горя. Но чем больше я думал, тем значительнее казалась мне каждая подробность этой сцены. Я быстро вышел через калитку нижней террасы, спустился к реке и сел в лодку, чтобы спрятаться от всех и побыть одному с терзавшими меня мыслями. Я пытался сам убить в себе силу, побуждавшую меня жить, — пытка, похожая на те, каким подвергали у татар виновного в прелюбодеянии: ему зажимали в деревянную колоду руку или ногу и оставляли нож, чтобы он мог сам отрезать ее, если не хотел умереть с голоду; эту же муку терпела теперь моя душа, лучшую половину которой я должен был оторвать. Моя жизнь тоже была загублена! Отчаяние внушало мне самые дикие мысли. То я хотел умереть вместе с ней, то думал запереться в монастыре Мейере, где недавно обосновались трапписты. В глазах у меня помутилось, и я не видел ничего кругом. Я глядел на окна комнаты, где мучилась Анриетта, и мне казалось, что я вижу свет, струившийся из них в ту ночь, когда я отдал ей свое сердце. Разве я не должен был принять ту простую жизнь, которую она создала для меня, и сохранить ей верность, отдаваясь только работе и делам государства? Разве она не приказала мне стать великим человеком, желая спасти от низменных и постыдных страстей, которым я предавался, как и все смертные? Разве чистота не была тем высшим отличием, которого я не сумел сохранить? Любовь, как ее понимала Арабелла, вдруг стала мне отвратительна. Я поднял свою отяжелевшую голову, спрашивая себя: откуда мне теперь ждать света и надежды, ради чего мне жить? — как вдруг услышал легкий шорох. Обернувшись к террасе, я увидел Мадлену, медленно ходившую перед домом в одиночестве. Пока я поднимался по откосу, чтобы спросить у милой девочки, почему она так холодно взглянула на меня у подножия креста, она села на скамейку; но, едва увидев, что я иду к замку, она встала, делая вид, будто не замечает меня, чтобы не оставаться со мной наедине; движения ее были поспешны, намерение очевидно.
Она ненавидела меня, она бежала от убийцы своей матери. Подходя к Клошгурду, я увидел, что Мадлена стоит на террасе неподвижно, как статуя, и прислушивается к звуку моих шагов. Жак сидел на ступеньке, и вся его поза выражала полное безразличие, поразившее меня, еще когда мы гуляли все вместе перед домом; но тогда я не стал думать об этом; так мы откладываем иные мысли в дальний уголок души, чтобы вернуться к ним на свободе. Я заметил, что молодые люди, отмеченные печатью смерти, обычно равнодушны к утрате близких. И решил заглянуть в эту мрачную душу. Я хотел знать, поделилась ли Мадлена своими мыслями с Жаком, внушила ли и ему свою ненависть ко мне.
— Ты ведь знаешь, Жак, — сказал я ему, чтобы начать разговор, — что я буду тебе самым преданным братом.
— Ваша дружба мне не нужна, я скоро последую за матушкой, — ответил он, бросив на меня взгляд, исполненный гневной муки.
— Жак! — вскричал я. — И ты тоже?
Он закашлялся и отошел подальше от меня; потом, вернувшись, показал мне украдкой окровавленный платок.
— Понимаете? — спросил он.
Итак, каждый из них скрывал свою роковую тайну. Я заметил впоследствии, что брат и сестра избегают друг друга. Как только Анриетта слегла, все развалилось в Клошгурде.
— Барыня заснула, — сообщила нам подошедшая Манетта, радуясь, что графиня перестала страдать.
В эти ужасные минуты, когда каждый знает, что близится неизбежный конец, все наши чувства приходят в смятение, и мы цепляемся за самые ничтожные радости. Мгновения тянутся веками, и нам хочется верить, что они принесут облегчение. Мы хотим, чтобы больной лежал на ложе из роз, мы хотим взять на себя его муки, мы хотим, чтобы он не почувствовал, когда с его уст слетит последний вздох.
— Господин Деланд велел убрать цветы: они слишком возбуждали нервы госпожи де Морсоф, — сказала Манетта.
Значит, это цветы вызвали помрачение ее разума. Она ни в чем не повинна. Любовные вздохи земли, праздник плодородия, благоуханные цветы опьянили ее ароматами и, наверное, пробудили мечты о счастливой любви, дремавшие в ней с далеких дней юности.
— Идите же, господин Феликс, — сказала мне Манетта, — идите, посмотрите на нашу госпожу, она прекрасна, как ангел.
Я вернулся к умирающей в ту минуту, когда солнце золотило зубчатые крыши замка Азе. Кругом царили покой и тишина. Мягкий свет озарял кровать, на которой отдыхала Анриетта, усыпленная опиумом. В эту минуту ее тело как бы перестало существовать; лицо отражало лишь сияние души и было ясно, как чистое небо после бури. Бланш и Анриетта — два лучезарных образа одной женщины — казались тем прекраснее, что мои воспоминания, мысли и воображение, помогая природе, воссоздавали каждую черту ее изменившегося лица, которое победившая душа освещала своими лучами, таинственно сливаясь с ее тихими вздохами. Оба священника сидели подле ее ложа. Граф стоял потрясенный, чувствуя, что крылья смерти овевают это горячо любимое создание. Я опустился на кушетку, где она только что сидела. Затем мы все обменялись взглядами, в которых восхищение ее небесной красотой слилось со слезами скорби. Ее вновь озаренное мыслью лицо говорило, что бог не покинул одно из своих самых прекрасных творений. Я взглянул на аббата де Доминиса, и мы без слов поведали друг другу наши мысли. Да, ангелы не покинули Анриетту! Их мечи сверкали над этой гордой головой, и к ней возвращалось былое величие добродетели, живое отражение души, которая, казалось, беседовала со светлыми духами. Черты ее лица прояснились, все в ней становилось совершенней и возвышенней под невидимыми взмахами кадил охранявших ее серафимов. Зеленоватый оттенок ее лица, вызванный телесными страданиями, сменился ровной бледностью, той матовой, холодной белизной, что предвещает близкую смерть. Вошли Жак и Мадлена; и все мы вздрогнули, когда Мадлена с благоговением упала на колени перед кроватью умирающей, сложив руки, как для молитвы, и воскликнула:
— Наконец я вижу мою мать!
Жак улыбался. Он был уверен, что скоро последует за ней.
— Она приближается к небесной обители, — промолвил аббат Биротто.
Аббат де Доминис посмотрел на меня, словно хотел сказать: «Ведь я говорил вам, что наша звезда вновь взойдет и засияет над нами!»
Мадлена не спускала глаз с матери; она дышала вместе с ней, ловя ее легкие вздохи — тоненькую нить, связывавшую графиню с жизнью, — а мы следили за ними с трепетом, страшась, что эта нить вот-вот оборвется. Как ангел у врат алтаря, коленопреклоненная девушка оставалась спокойной и страстной, сильной и покорной. В эту минуту церковный колокол в деревне зазвонил к вечерне. Волны теплого воздуха, вливаясь в комнату, приносили мягкий звон, который говорил нам, что в этот час все христиане повторяют слова, сказанные ангелом женщине, искупившей грехи своего пола. Тихим вечером звуки «Ave Maria»[73] показались нам благословением неба. Пророчество было так ясно, а печальное событие так близко, что мы все залились слезами. Вечерние шорохи, шепот ветерка в листве, затихающий щебет птиц, жужжание насекомых, звучавшее, как тихий припев, плеск воды, жалобные стоны болотного певца — вся природа прощалась с прекрасной лилией этой долины, оплакивала ее простую, светлую жизнь. Поэзия молитвы и глубокая поэзия природы так проникновенно слились в прощальном гимне, что к нашим рыданиям вскоре присоединились и другие. Дверь в комнату больной оставалась открытой, но мы были так поглощены нашим скорбным созерцанием, стремясь навек запечатлеть в памяти любимый образ, что не заметили за дверью коленопреклоненных слуг, погруженных в горячую молитву. Все эти бедные люди, привыкшие не терять надежды, еще верили, что их госпожа не уйдет от них, но столь ясное предсказание привело их в отчаяние. По знаку аббата Биротто старый берейтор вышел, чтобы привести священника из Саше. Доктор стоял возле кровати, невозмутимый, как сама наука, и держал безжизненную руку больной; он дал понять вошедшему духовнику, что наступил последний час страданий этого призванного богом ангела. Пришло время совершить над ней последний обряд отпущения грехов. В девять часов она тихо открыла глаза, посмотрела на нас удивленным, но кротким взглядом, и мы вновь увидели нашу святую, такую же прекрасную, как в ее лучшие дни.
— Маменька, ты так хороша, что не можешь умереть, жизнь и здоровье вновь возвращаются к тебе! — вскричала Мадлена.
— Дорогая моя девочка, я буду жить, но в тебе, — молвила графиня, улыбаясь.
Затем последовали раздирающие душу объятия: мать прощалась с детьми, и дети прощались с матерью. Г-н де Морсоф благоговейно поцеловал жену в лоб. Графиня покраснела, взглянув на меня.
— Дорогой Феликс, — сказала она, — вот, кажется, единственное огорчение, которое я вам доставила! Но забудьте все, что вам могла сказать бедная помешанная, ведь я не помнила себя!
Она протянула мне руку и, когда я взял ее, чтобы поцеловать, сказала мне со своей прежней ясной улыбкой:
— Как в былые дни, Феликс?
Мы вышли из ее комнаты и отправились в гостиную подождать, когда кончится исповедь. Я сел возле Мадлены. При всех она должна была соблюдать вежливость и не могла открыто избегать меня, но ни на кого не смотрела, подражая матери, и упорно хранила молчание, ни разу не взглянув на меня.
— Дорогая Мадлена, — спросил я ее тихонько, — чем я вас обидел? Почему вы так холодны со мной? Ведь перед лицом смерти все примиряются!
— Я мысленно прислушиваюсь к тому, что говорит сейчас матушка, — ответила она с тем выражением, какое Энгр придал своей «Божьей матери» — скорбящей деве, которая готова заступиться за грешную землю, где должен погибнуть ее сын.
— И вы осуждаете меня в ту минуту, когда ваша мать меня простила, даже если я виноват?
— Вы, вечно только вы!
В голосе ее звучала затаенная ненависть, упорная, как у корсиканцев, и непримиримая, как все суждения людей, еще не познавших жизни и не допускающих никакого снисхождения к тому, кто нарушает законы сердца. Прошел час в глубоком молчании.
Выслушав последнюю исповедь г-жи де Морсоф, аббат Биротто вернулся, и мы снова вошли в ее комнату. Выполняя один из тех замыслов, какие рождаются лишь в возвышенных сердцах, она попросила надеть на нее длинную одежду, которая должна была стать ее саваном. Она полулежала в постели, трогательная в своем покаянии, с просветленным надеждой лицом. Я увидел в камине черный пепел моих только что сожженных писем — эту жертву она хотела принести лишь в свой смертный час, как сказал мне ее духовник. Она встретила нас своей прежней улыбкой. Ее омытые слезами глаза говорили о высшем озарении; перед ней уже открывались врата рая.
— Дорогой Феликс, — промолвила она, взяв меня за руку и сжимая ее, — останьтесь! Вы должны присутствовать при одной из последних сцен моей жизни; она будет не менее мучительна, чем другие, но вы занимаете в ней большое место.
Она сделала знак рукой, и двери закрылись. По ее просьбе граф сел. Мы с аббатом Биротто продолжали стоять. С помощью Манетты графиня встала, опустилась на колени перед графом и замерла в этой позе.
Затем, когда Манетта вышла из комнаты, графиня приподняла голову, склоненную на колени удивленного графа.
— Я была вам верной женой, — заговорила она прерывающимся голосом, — но, быть может, не всегда выполняла свой долг; сейчас я молила бога послать мне силы, чтобы испросить у вас прощения за мои проступки. Быть может, я слишком горячо отдавалась дружбе к человеку, не принадлежавшему к нашей семье, и оказывала ему внимание, какое должна была оказывать только вам. Быть может, вы гневались на меня, когда сравнивали заботы, какими я окружала его, с теми, что доставались вам. Я питала, — промолвила она тихо, — дружескую привязанность, глубины которой не знал никто, даже тот, кто мне ее внушил. Хотя я всегда оставалась добродетельной, не нарушала человеческих законов и была для вас безупречной супругой, вольные или невольные мысли часто смущали мое сердце, и я боюсь теперь, что слишком легко поддавалась им. Но я нежно любила вас, была вам покорной женой, ведь тучи, порой застилающие небо, не пятнают его чистоту, и потому я прошу у вас благословения с чистой душой. Я умру без единой горькой мысли, если вы найдете ласковое слово для вашей Бланш, матери ваших детей, и простите ей прегрешения, которые она сама простила себе лишь после того, как покаялась перед всевышним судией, которому все мы подвластны.
— Бланш, Бланш! — воскликнул старик, роняя слезы на голову жены. — Ты хочешь меня убить?
Он поднял ее с неожиданной силой, благоговейно поцеловал в лоб и, не выпуская из объятий, продолжал:
— Я должен первый просить у тебя прощения!.. Разве я не бывал часто груб с тобой? Ты преувеличиваешь свои детские проступки!
— Может быть, — промолвила она. — Но, друг мой, будьте снисходительны к слабостям умирающей и успокойте меня. Когда наступит и ваш час, вспомните, что я покинула вас, благословляя. Позвольте мне оставить нашему другу этот залог моего глубокого чувства. — И она указала на письмо, лежавшее на камине. — Теперь он мой приемный сын, вот и все. У сердца тоже могут быть заветы: я передаю другу свою последнюю волю, и дорогой Феликс должен выполнить возложенную на него святую обязанность; я надеюсь, что не ошиблась в нем, докажите же, что я не ошиблась и в вас, и разрешите мне завещать ему несколько мыслей. Я осталась женщиной, — сказала она, склоняя головку с томной печалью, — получив прощение, я тотчас же прошу о милости. Прочитайте его, но только после моей смерти, — добавила она, протягивая мне это таинственное послание.
Заметив, что жена его побледнела, граф подхватил ее и отнес на кровать; мы окружили умирающую.
— Феликс, — сказала она, — быть может, я виновна и перед вами. Часто я причиняла вам огорчения, позволяя надеяться, что доставлю вам радости, перед которыми сама отступала; но ведь только мужеству супруги и матери я обязана тем, что могу умереть, примирившись со всеми. Вы тоже должны меня простить, ведь вы так часто обвиняли меня; но и ваши несправедливые упреки доставляли мне радость.
Аббат Биротто приложил палец к губам. Умирающая, ослабев, опустила голову; она сделала рукою знак, прося впустить священника, детей и слуг; затем повелительным жестом указала мне на подавленного горем графа и вошедших детей. Взглянув на старика, безумие которого было известно только нам с Анриеттой и ставшего теперь опекуном столь хрупких созданий, она обратила ко мне свой взор с молчаливой мольбой, которая зажгла в моем сердце священный огонь. Прежде чем принять святое причастие, она попросила прощения у своих домочадцев за то, что порой бывала с ними слишком строга, завещала им молиться за нее и поручила каждого в отдельности попечениям графа; она благородно призналась, что в последний месяц с ее уст срывались жалобы, недостойные христианки, которые могли смутить ее слуг; она иногда отталкивала детей и выказывала нехорошие чувства; но она объяснила свою непокорность воле божией невыносимыми страданиями, выпавшими ей на долю. Затем она при всех с трогательной сердечностью поблагодарила аббата Биротто, который открыл ей всю тщету земной жизни. Когда она умолкла, начались молитвы; затем священник из Саше причастил ее. Несколько минут спустя дыхание ее затруднилось, глаза заволоклись туманом, но вскоре вновь прояснились; она бросила на меня последний взгляд и умерла, окруженная близкими, слыша, быть может, скорбный хор наших рыданий. Тут неожиданно мы услышали пение двух соловьев, что, впрочем, не удивительно в деревне; их голоса словно отвечали друг другу, и много раз повторенная, ясная и звонкая трель звучала, как нежный призыв. В ту минуту, когда последний вздох слетел с ее уст и затихло последнее страдание этой жизни, которая была одним долгим страданием, сильный удар потряс меня с головы до ног. Мы с графом провели всю ночь возле ее смертного ложа вместе с двумя аббатами и сельским священником, бодрствуя при свете свечей; теперь она лежала, спокойная, на той постели, где так много страдала.
Это была моя первая встреча со смертью. Всю ночь я не отрывал глаз от Анриетты, зачарованный выражением чистоты и умиротворенности, какое дает нам избавление от всех житейских бурь, любуясь белизной этого лица, на котором я еще читал игру всех ее чувств, но которое уже не отвечало на мою любовь. Какое величие в этом холодном молчании! Сколько значения было в нем! Как прекрасен этот глубокий покой! Сколько силы в этой неподвижности! Она еще говорит о прошлом и приоткрывает завесу будущего. Да, я любил ее мертвую так же сильно, как и живую! Под утро, в ранний час, столь тягостный для тех, кто бодрствует, граф пошел отдохнуть, а три священника заснули от усталости. И тогда я без свидетелей поцеловал ее в лоб со всей любовью, какую она никогда не позволяла мне высказать ей.
Через день, свежим осенним утром, мы проводили графиню к месту ее последнего упокоения. Ее несли старый берейтор, отец и сын Мартино и муж Манетты. Мы спустились по той дороге, по которой я с такой радостью поднимался в тот день, когда нашел ее после долгих поисков; мы пересекли долину Эндра и вышли к маленькому кладбищу в Саше, бедному деревенскому кладбищу за церковью, на склоне холма; здесь Анриетта из христианского смирения велела похоронить ее под простым крестом из черного дерева, как скромную жительницу полей, сказала она. Когда мы спустились в долину и я увидел деревенскую церковь и бедное кладбище, меня охватил неудержимый трепет. Увы! У каждого из нас есть своя Голгофа[74], где мы оставляем свои первые тридцать три года жизни, получаем в сердце удар копьем и чувствуем на голове терновый венец вместо венка из роз; дорога на этот холм стала моим крестным путем. За нами следовала огромная толпа, собравшаяся, чтобы выразить печаль всей долины, которую графиня втайне осыпала благодеяниями. Мы узнали от Манетты, ее поверенной, что, помогая бедным, Анриетта экономила на своих нарядах, когда у нее не хватало сбережений. Она одевала детей бедняков, посылала новорожденным приданое, помогала молодым матерям, покупала на мельнице мешок зерна для бессильного старика, давала корову неимущей семье — сколько добрых дел совершила эта христианка, любящая мать и владелица замка! Бывало, она дарила приданое девушке, чтобы соединить два любящих сердца, или давала деньги парню, чтобы он откупился от солдатчины, — трогательные дары женщины, которая говорила: «Счастье других — утешение для того, кто сам не может быть счастливым!» Все эти рассказы, третьи сутки передававшиеся из уст в уста, собрали огромную толпу. Я шел за гробом с Жаком и двумя аббатами. Согласно обычаю, граф и Мадлена не пошли с нами, они остались одни в Клошгурде. Манетта непременно пожелала сопровождать графиню.
— Бедная барыня! Бедная барыня! Теперь она счастлива, — повторяла она, заливаясь слезами.
Когда похоронное шествие свернуло с большой дороги, раздался общий стон, со всех сторон послышались рыдания; казалось, вся долина оплакивает ее кончину. Церковь была полна народа. После панихиды мы пошли на кладбище, где ее должны были похоронить под черным крестом. Услышав, как комья земли и щебень застучали по крышке гроба, я потерял последнее мужество, зашатался и попросил Мартино поддержать меня; отец с сыном взяли меня под руки и отвели, еле живого, в замок Саше; хозяева любезно предложили мне гостеприимство, и я остался у них. Признаюсь вам, я не хотел возвращаться в Клошгурд, но мне было бы слишком тяжело и во Фрапеле, откуда был виден замок Анриетты. Здесь же я был подле нее. Я провел несколько дней в Саше; окна моей комнаты выходили на ту тихую и уединенную ложбину, о которой я вам уже говорил. На склонах этого глубокого ущелья растут двухсотлетние дубы, а внизу во время дождей несется бурный поток. Природа здесь отвечает тем глубоким и суровым размышлениям, которым я хотел предаться. За день, проведенный в Клошгурде после роковой ночи, я понял, как неуместно было бы теперь мое пребывание в замке. Граф был потрясен смертью Анриетты, но он давно ожидал этого ужасного события и в глубине души примирился с ним, а потому порой казался почти равнодушным. Я замечал это не раз, а когда графиня перед смертью передала мне письмо, которое я еще не посмел распечатать, когда она говорила о своей привязанности ко мне, этот подозрительный человек вопреки моим ожиданиям не окинул меня яростным взглядом. Он объяснил слова Анриетты чрезвычайной чувствительностью ее совести, ибо знал, как чиста его жена. Такое безразличие, свойственное эгоистам, было вполне естественно. Эти два существа не знали истинного супружества, они оставались чужими и духом и телом, их сердца не сливались в постоянном общении, обновляющем наши чувства; они никогда не делились ни огорчениями, ни радостями; их не связывали те прочные нити, которые, обрываясь, наносят нам тысячу ран, ибо они сплетаются со всеми фибрами нашего существа, со всеми струнами нашего сердца и радуют душу, освятившую все эти узы. Враждебность Мадлены закрывала передо мной двери Клошгурда. Эта суровая девушка не пожелала смирить свою ненависть даже над гробом матери, и мне было бы невыносимо тяжело жить между графом, который говорил бы только о себе самом, и хозяйкой дома, которая подчеркивала бы свое непреодолимое отвращение ко мне. Быть в таком положении там, где прежде каждый цветок посылал мне привет, где каждая ступенька, казалось, ласково принимала меня, где балконы, карнизы, балюстрады и террасы, деревья и тропинки были овеяны поэзией моих воспоминаний; встречать ненависть там, где все меня любило, — нет, я не мог примириться с этой мыслью! Итак, я сразу принял решение. Увы! Таков был конец самой пылкой любви, какую когда-либо знало человеческое сердце! Посторонние, наверно, осудили бы мое поведение, но я был прав перед судом своей совести. Вот чем кончаются самые прекрасные чувства и самые глубокие драмы нашей юности. Все мы выходим в путь ранним утром, как я из Тура в Клошгурд, чтобы завоевать весь мир, с сердцем, жаждущим любви; затем, когда наши душевные богатства проходят через горнило испытаний, когда мы сталкиваемся с людьми и событиями, все вокруг нас незаметно мельчает, и мы находим лишь крупицы золота в груде пустой породы. Такова жизнь! Жизнь без прикрас: великие замыслы и жалкая действительность. Я долго размышлял о своей судьбе, спрашивая себя, что же я буду делать после того, как безжалостная смерть скосила все цветы моей души. И я решил посвятить себя политике и науке, вступить на извилистый путь честолюбия, изгнать женщин из своей жизни, стать государственным мужем, холодным и бесстрастным, и остаться верным светлому ангелу, которого я любил. Мысли мои улетели вдаль, а глаза были по-прежнему прикованы к могучим дубам с золотыми кронами и словно отлитыми из бронзы стволами, листва которых сплелась в роскошный узор; я спрашивал себя, не была ли добродетель Анриетты лишь неведением и так ли я виновен в ее смерти. Я пытался бороться с угрызениями совести. Наконец в ясный осенний день, один из столь пленительных в Турени дней, когда небо шлет нам свою последнюю улыбку, я прочитал письмо, которое по завещанию Анриетты должен был вскрыть лишь после ее смерти. Судите сами, что я перечувствовал, читая его!
Письмо г-жи де Морсоф виконту Феликсу де Ванденесу
Феликс, мой горячо любимый друг, теперь я должна открыть вам свое сердце не только, чтобы показать, как сильно я вас люблю, но главное для того, чтобы вы узнали, как глубоки и неизлечимы нанесенные вами раны, и поняли, сколь велики обязательства, которые они налагают на вас. Теперь, когда я падаю, измученная трудностями пути, обессиленная ударами, полученными в борьбе, женщина, к счастью, уже умерла во мне, осталась только мать. Вы увидите, дорогой, почему вы стали главной причиной моих мучений. Если прежде я с радостью принимала ваши удары, то сегодня я умираю от последней нанесенной вами раны; но есть неизъяснимая сладость в сознании, что умираешь от руки любимого. Вскоре страдания лишат меня силы, и я пользуюсь последним светом моего еще не помутившегося разума, чтобы снова молить вас: замените подле моих детей то сердце, которого вы их лишили. Если бы я меньше вас любила, я властно возложила бы на вас эту обязанность; но я предпочитаю, чтобы вы сами взяли ее на себя из чувства святого раскаяния и считали ее продолжением вашей любви; ведь к нашей любви постоянно примешивались мысли, исполненные раскаяния и страха перед искуплением. А я знаю, что мы по-прежнему любим друг друга. Ваш проступок не имел бы столь пагубных последствий, если бы я не отвела вам такого большого места в моем сердце. Разве я не говорила вам, что ревнива? Так ревнива, что могу умереть от ревности? И вот я умираю. Но не горюйте, мы не преступили человеческих законов. Церковь устами одного из самых верных своих служителей сказала мне, что бог милостив к тем, кто отрекся от чувственных желаний по его повелению. Любимый, узнайте же все, я не утаю от вас ни единой мысли. То, что я в последнюю минуту поведаю богу, должны знать и вы, ведь вы владыка моего сердца, как он владыка небес. До праздника в честь герцога Ангулемского, единственного праздника, на котором я присутствовала, я оставалась, несмотря на годы супружеской жизни, в том неведении, какое придает девичьей душе ангельскую красоту. Я была матерью — не спорю, но я не познала дозволенных радостей любви. Как могло это случиться? Не знаю, не знаю также, какая неведомая сила внезапно все перевернула во мне. Вы не забыли ваших поцелуев? Они ворвались в мою жизнь, оставив глубокий след в моей душе; жар вашей крови зажег мою кровь, ваша молодость пробудила мою молодость, ваши желания проникли в мое сердце. Я гордо встала, но во мне вспыхнуло чувство, которому нет названия ни на одном языке, ибо дети не знают слов, чтоб передать рождение света в их очах и дыхание жизни у них на устах. Да, то было эхо, отразившее звук, луч света, прорезавший тьму, толчок, давший движение вселенной; ощущение столь же мгновенное, как все эти явления, но во много раз более прекрасное, ибо то было пробуждение души! Я внезапно поняла, что в жизни существует неведомая мне тайна, некая сила, еще более прекрасная, чем мысль, в которой сливаются все мысли, все силы, целый мир в едином чувстве двух существ. Я ощущала себя матерью лишь наполовину. Эта молния упала в мое сердце и зажгла желания, дремавшие в нем неведомо для меня; я вдруг поняла, что хотела сказать моя тетушка, которая воскликнула, целуя меня в лоб: «Бедная Анриетта!» Когда я вернулась в Клошгурд, весна, первые листья, благоухание цветов, белые облака, Эндр, ясное небо — все говорило со мной на доселе незнакомом мне языке и вливало в душу частицу той жизни, что вы вдохнули в мои чувства. Быть может, вы забыли те роковые поцелуи, но я никогда не могла изгнать их из памяти; от них я умираю. Да, каждый раз, когда я встречала вас потом, я вновь ощущала их пламень; трепет охватывал меня при одном взгляде на вас, от одного предчувствия, что я скоро вас увижу. Ни время, ни моя воля не могли победить этих властных порывов. И я невольно спрашивала себя: «Каковы же наслаждения любви?» Наши встречавшиеся взоры, ваши почтительные поцелуи, горевшие у меня на руках, нежные интонации вашего голоса, прикосновение к вашей руке, на которую я опиралась, — словом, каждый пустяк так глубоко волновал меня, так возбуждал мои чувства, что глаза мои туманились, а в ушах шумело. Ах, если бы в такую минуту, когда я старалась быть особенно холодной, вы заключили меня в объятия, я умерла бы от счастья! Порой я желала, чтобы вы насильно овладели мной, но тотчас отгоняла молитвой эти дурные мысли. Когда дети произносили «Феликс», кровь горячим потоком приливала мне к сердцу и бросалась в лицо; я расставляла ловушки моей бедной Мадлене, чтобы заставить ее повторять ваше имя, так я любила это сладостное ощущение. Что мне еще сказать? Даже ваш почерк таил в себе такое очарование, что я рассматривала ваши письма, как любуются портретом. Если с первого же дня вы обрели надо мной какую-то роковую власть, вы понимаете, мой друг, что она стала безграничной, когда я научилась читать в вашей душе. Какой восторг охватил меня, когда я открыла, что вы чисты душой, правдивы и искренни, обладаете множеством высоких достоинств, способны на великие дела и уже прошли через столько испытаний! Мужчина и ребенок, робкий и мужественный! Какую радость я почувствовала, узнав, что мы были оба смолоду обречены на одни и те же страдания! С того вечера, как мы доверились друг другу, я поняла, что умру, если потеряю вас, и удержала вас подле себя из эгоизма. Господин де ля Берж поверил, что разлука с вами убьет меня, и это тронуло его, ибо он умел читать в моей душе. Он рассудил, что я необходима детям и графу, и не настаивал, чтобы я перестала встречаться с вами, ибо я обещала ему оставаться чистой и в помыслах и поступках. «Мы не вольны в наших помыслах, — сказал он, — но мы смиряем их, подвергая себя тяжким испытаниям». «Стоит мне дать волю мыслям, и я пропала! — ответила я. — Спасите меня от самой себя! Сделайте, чтобы он не покидал меня и чтобы я осталась чистой!» Суровый старик смягчился при виде такого чистосердечия. «Вы можете любить его как сына, предназначив ему вашу дочь», — сказал он. Я мужественно согласилась на жизнь, полную страданий, чтобы не потерять вас; и я любила эти страдания, видя, что мы обречены вместе терпеть ту же муку. Боже мой! Я сохраняла спокойствие, была верна своему мужу, Феликс, и не давала вам и шагу ступить в принадлежавших вам одному владениях! Эта великая страсть вдохнула в меня новые силы, я смотрела на все нападки господина де Морсофа как на искупление и сносила их с гордостью, считая карой за мои греховные желания. Прежде я роптала, но с тех пор, как вы вошли в мою жизнь, ко мне вернулась бодрость духа, и это имело благотворное влияние на господина де Морсофа. Если бы не та сила, которую вы влили в меня, я бы давно изнемогла от тягот семейной жизни, я вам рассказывала о них. Если вы часто бывали повинны в совершенных мною ошибках, то так же часто помогали мне выполнять мой долг. Так же было и с моими заботами о детях: я боялась, что лишила их доли своей привязанности, и мне всегда казалось, что я недостаточно занимаюсь ими. Жизнь моя стала сплошным мучением, но я любила эти муки. Я чувствовала, что стала менее любящей матерью, менее добродетельной женой, и раскаяние терзало мне сердце; страшась не выполнить своих обязанностей, я постоянно преувеличивала их. Чтобы не поддаться искушению, я поставила между собой и вами Мадлену, предназначив вас друг другу, и старалась воздвигнуть между нами непреодолимое препятствие. Тщетные попытки! Ничто не могло потушить пламени, которое вы зажигали во мне. Со мною рядом или вдали от меня, вы обладали той же властью. Я стала больше любить Мадлену, чем Жака, потому что она должна была стать вашей. Но и ей я уступила вас после тяжкой борьбы. Я говорила себе, что когда встретила вас, мне было всего двадцать восемь лет, а вам почти двадцать два, и старалась уменьшить отделявшее нас расстояние, предаваясь несбыточным надеждам. Ах, Феликс, я делаю эти признания, чтобы избавить вас от угрызений совести, а может быть, и затем, чтобы показать вам, что я не была бесчувственной, что я разделяла с вами все жестокие страдания любви, и Арабелла ни в чем не превосходила меня! Я тоже одна из дочерей грешного племени, которых так любят мужчины. Одно время борьба моя была так тяжела, что я плакала ночи напролет; у меня стали падать волосы. Потом я подарила их вам. Вы помните болезнь господина де Морсофа? Тогда величие вашей души не только не возвысило, но унизило меня. Увы! В те дни я жаждала отдаться вам в награду за ваше великодушие, но это безумие длилось недолго. Бог помог мне избавиться от него во время обедни, на которой вы не захотели присутствовать. Болезнь Жака и недомогания Мадлены я приняла как божью кару: бог захотел вернуть к себе заблудшую овцу. Затем ваша любовь к этой англичанке открыла мне тайну, которой я и сама не знала. Я любила вас еще сильнее, чем думала. Я страдала не за Мадлену. Беспрестанные тревоги моей безрадостной жизни, жестокая борьба, которую я вела с собой, не имея иной поддержки, кроме религии, — все это подготовило болезнь, от которой я умираю. Последний страшный удар довершил разрушительное влияние прежних болезненных припадков, о которых я никому не говорила. Я видела в смерти единственную развязку этой скрытой трагедии. За два месяца, прошедшие с того дня, как я узнала от матери о вашей связи с леди Дэдлей, и до вашего приезда, я пережила целую жизнь, ужасную жизнь, полную ревности и неистовой злобы. Я готова была мчаться в Париж, я жаждала крови, я желала смерти этой женщине, меня не трогали даже ласки детей. Молитвы, бывшие живительным бальзамом для моей души, уже не исцеляли ее. Ревность нанесла мне тяжелую рану, через которую проникла смерть. Однако лицо мое казалось спокойным. Да, эта жестокая борьба осталась тайной между богом и мной. Когда я убедилась, что вы любите меня не меньше, чем я вас, что вы изменили мне только телом, но остались верны в мыслях, я вновь захотела жить... но было уже поздно! Бог простер надо мной свою милосердную руку, как видно, пожалев создание, правдивое перед собой, правдивое перед ним и часто приближавшееся в молитвах к вратам алтаря. Да, любимый, бог смилостивился надо мной, господин де Морсоф, наверно, простит меня, а вы, будете ли и вы снисходительны ко мне? Услышите ли голос, звучащий из могилы? Исправите ли несчастья, в которых виновны мы оба, быть может, вы даже менее, чем я? Вы знаете, о чем я хочу просить вас. Будьте возле господина де Морсофа, как сестра милосердия возле больного, говорите с ним, любите его, ибо никто не будет его любить. Будьте посредником между ним и его детьми, каким прежде была я. Вам недолго придется выполнять этот долг: Жак скоро покинет отчий дом и отправится к дедушке в Париж, где вы обещали мне руководить им среди житейских бурь. Мадлена выйдет замуж; ах, если б вы могли покорить ее сердце! Она мое отражение, но к тому же она сильна, у нее есть воля, которой мне недоставало, энергия, необходимая для подруги человека, призванного принять участие в политической борьбе, она умна и проницательна. Если судьба соединит вас, она будет счастливее своей матери. И, обретя таким образом право продолжать мое дело в Клошгурде, вы исправите ошибки, которые я не сумела искупить, хотя они были мне прощены на небе и на земле, ибо я верю, что бог милостив и простил меня. Вы видите, я осталась эгоисткой, но разве это не доказывает мою безграничную любовь! Я хочу, чтобы вы любили меня в моих близких. Я не могла принадлежать вам, но завещаю вам мои мысли и обязанности. Если вы слишком любите меня, чтобы выполнить мою волю, если не захотите жениться на Мадлене, то все же успокойте мою душу, сделайте жизнь господина де Морсофа по возможности счастливой.
Прощай, любимое дитя моего сердца! Я шлю тебе последнее прости, еще полная жизни, со светлым разумом; это прости говорит тебе душа, которой ты доставил столь великие радости, что не должен казнить себя за то несчастье, к какому они привели; я говорю «несчастье», думая, что вы любите меня, ибо иду к месту последнего упокоения, принеся себя в жертву долгу, не без сожалений, и это ужасает меня! Но богу ведомо, выполнила ли я его святые законы, не нарушая их духа. Да, я часто оступалась, но ни разу не упала, и если моим ошибкам можно найти оправдание, то оно заключается в великой силе окружавших меня искушений. Я предстану перед всевышним с таким же трепетным смирением, как если бы не устояла в борьбе. Еще раз прости! Вчера я сказала прости и нашей прекрасной долине, где я скоро буду покоиться и куда ты будешь часто приходить. Обещаешь?
АнриеттаКогда передо мной раскрылись неведомые мне глубины этой жизни, озаренной последним сиянием, я погрузился в бездну размышлений. Мое эгоистическое ослепление рассеялось. Значит, она страдала так же, как и я, больше, чем я: ведь она умерла. Она верила, что все будут любить ее друга; она была так поглощена любовью, что не подозревала, как ее дочь враждебна ко мне. Это последнее доказательство ее нежной любви причинило мне острую боль. Бедная Анриетта, она хотела отдать мне Клошгурд и свою дочь!
Натали! С того дня, навек омрачившего мою жизнь, когда я впервые вошел на кладбище, за гробом моей благородной Анриетты, которую вы тоже знаете теперь, солнце потеряло для меня свой жар и свет, ночь стала мрачней, мои движения утратили живость, а мысль отяжелела. Есть близкие, которых мы предаем земле, но есть особенно дорогие нам существа, которых мы погребаем в своем сердце и воспоминания о них сливаются с каждым его биением; мысли о них постоянны, как наше дыхание, они живут в нас, следуя закону метампсихоза[75], которому подчиняется любовь. Ее душа живет в моей душе. Когда я делаю что-нибудь хорошее, когда говорю благородные слова, это она говорит, она делает; все, что есть во мне хорошего, от нее; так лилия наполняет воздух своим ароматом. Насмешливость, злость, все, что вы осуждаете во мне, исходит от меня самого. Теперь, Натали, когда глаза мои застилает туман и я отвожу их от земли, устремляя в небеса, когда мои уста отвечают молчанием на ваши слова и заботы, не спрашивайте меня больше: «О чем вы задумались?»
Дорогая Натали, я на время прервал свои записки: воспоминания слишком взволновали меня. Теперь я должен описать вам события, последовавшие за этим несчастьем, они не займут много места в моем повествовании. Когда жизнь проходит в движении и в действии, ее недолго рассказать, но когда она заключается в высоких переживаниях души, ее не передать в нескольких словах. Письмо Анриетты зажгло надежду в моем сердце. В житейском море, среди обломков крушения я заметил тихий остров, к которому готовился пристать. Остаться в Клошгурде подле Мадлены, посвятить ей свою жизнь — вот удел, который мог успокоить все тревоги, терзавшие мне сердце; но надо было узнать истинные чувства Мадлены. К тому же следовало попрощаться с графом. Итак, я отправился в Клошгурд и на террасе встретил г-на де Морсофа. Мы долго гуляли с ним перед домом. Сначала он говорил со мной о графине, как человек, понимающий всю тяжесть утраты, разрушившей его домашний очаг. Но, выслушав его первые горькие жалобы, я заметил, что он больше озабочен будущим, чем настоящим. Он боялся дочери, не обладавшей, по его словам, кротостью, какой отличалась мать. Твердый характер Мадлены, в котором к обаятельным чертам ее матери примешивалось что-то непреклонное, страшил этого старика, привыкшего к нежной заботливости Анриетты: он угадывал в Мадлене сильную волю, которую ничто не может смягчить. В этой невозвратимой утрате его утешала лишь уверенность, что он скоро последует за женой: волнения и горести последних дней усилили его болезненное состояние и вызвали прежние боли; борьба, которая, несомненно, скоро завяжется между его авторитетом и авторитетом дочери, будущей хозяйки дома, приведет к тому, что он печально закончит свои дни, ибо там, где он побеждал жену, ему придется уступать дочери. К тому же сын его вскоре уедет, а дочь выйдет замуж, и неизвестно еще, какого зятя пошлет ему судьба. Хотя он и говорил о скорой смерти, но чувствовал себя одиноким, покинутым на долгие годы.
Он целый час говорил только о себе, прося меня о дружбе, в память своей жены, и передо мной отчетливо обрисовалась величавая фигура Эмигранта, одного из наиболее интересных типов нашей эпохи. Внешне он казался слабым и надломленным, но крепко держался за жизнь, благодаря умеренности его нравов и деревенским привычкам. Сейчас, когда я пишу вам, он еще жив. Мадлена, вышедшая на террасу, заметила нас, но не спустилась; она несколько раз входила и выходила из дома, выказывая мне свое пренебрежение. Я должен был поговорить с нею и, сославшись на то, что графиня просила меня передать ей свою последнюю волю, попросил графа позвать дочь, ибо у меня не было иной возможности ее увидеть; граф привел ее и оставил нас вдвоем на террасе.
— Дорогая Мадлена, — начал я, — мне надо поговорить с вами, и лучше всего именно здесь, где ваша мать говорила со мной, когда ей случалось сетовать не столько на меня, сколько на жизненные невзгоды. Мне известны ваши мысли, но не осуждаете ли вы меня, не понимая моих поступков? Жизнь моя и счастье неразрывно связаны со здешними местами, вы знаете это — и изгоняете меня своей холодностью, вдруг сменившей нашу братскую дружбу, которую смерть должна была бы скрепить общим горем. Дорогая Мадлена, в любую минуту я отдал бы за вас жизнь, не надеясь ни на какую награду и даже без вашего ведома, — так сильно любим мы детей тех, кто руководил нами в жизни; если бы вы знали, какой план лелеяла ваша обожаемая матушка в течение семи лет, вы, наверное, изменили бы свои чувства, но я не хочу пользоваться этим преимуществом. Единственно, о чем я молю вас, — не лишайте меня права приходить сюда, вдыхать воздух этой террасы и терпеливо ждать, когда переменятся ваши взгляды на жизнь, пока же я постараюсь их не задевать. Я уважаю скорбь, которая отдаляет вас от меня, ибо она и меня лишила способности трезво оценивать обстоятельства, в которых я оказался. Святая, взирающая на нас с небес, одобрит мою сдержанность и смирение, с которым я прошу вас лишь быть справедливой ко мне и не поддаваться дурным чувствам. Я слишком люблю вас, несмотря на вашу неприязнь, чтобы раскрыть графу план, который он принял бы с восторгом. Оставайтесь свободной. А позже подумайте о том, что никого на свете вы не узнаете так хорошо, как знаете меня, что ни один человек не будет так предан вам, как я...
До этой минуты Мадлена слушала, опустив глаза, но тут она остановила меня движением руки.
— Сударь, — сказала она дрожащим от волнения голосом, — я тоже знаю все ваши мысли; но мои чувства к вам никогда не изменятся, и я лучше брошусь в Эндр, чем свяжу с вами свою судьбу. Я не стану говорить вам о себе, но если имя моей матери имеет еще власть над вами, то ее именем прошу вас никогда не бывать в Клошгурде, пока я здесь. Один ваш вид приводит меня в смятение, и я никогда не смогу его преодолеть.
И, отвесив мне полный достоинства поклон, она отвернулась и медленно пошла к замку, не оглядываясь, бесстрастная, какой лишь однажды была ее мать, но безжалостная. Проницательный взгляд этой девушки проник, хотя и с опозданием, в сердце матери, и, быть может, ее ненависть к человеку, который казался ей злодеем, еще усиливалась от сознания, что она была его невольной сообщницей. Здесь все погибло. Мадлена ненавидела меня, не желая понять, был ли я виновником или жертвой этих несчастий; быть может, она равно возненавидела бы нас обоих, свою мать и меня, если бы мы были счастливы. Итак, от светлого замка моих надежд остались одни развалины. Мне одному было дано охватить взглядом жизнь этой великой неоцененной женщины, я один проник в тайну ее чувств, я один познал глубину ее души: ни ее отец, ни мать, ни муж, ни дети — никто не понимал ее. Как странно! Я роюсь в этой груде пепла, и мне доставляет удовольствие перебирать ее перед вами; все мы можем найти здесь частицы наших самых драгоценных сокровищ. Сколько семей имеют свою Анриетту! Сколько благородных созданий покидают нашу землю, не встретив на своем пути проницательного наблюдателя, который изучил бы их сердце и измерил всю его глубину! Такова человеческая жизнь; часто матери не знают своих детей, так же как дети не знают родителей; то же бывает с супругами, любовниками и братьями! Мог ли я знать, что наступит день, когда над гробом отца я буду судиться с Шарлем де Ванденесом, со своим братом, успехам которого я столько содействовал! Боже мой, как поучительна бывает самая простая история! Когда Мадлена скрылась в дверях замка, я вернулся, удрученный, попрощаться с графом и отправился в Париж; я медленно брел по правому берегу Эндра, по которому когда-то впервые пришел в эту долину. С печалью в сердце миновал я живописное селение Пон-де-Рюан. Однако теперь я стал богат, я преуспел в политической жизни и уже не был бедным путником, бродившим здесь в 1814 году. В ту пору сердце мое было полно желаний, а сегодня глаза полны слез; тогда мне предстояло всего добиться в жизни, теперь она была опустошена. Я был еще молод, мне исполнилось двадцать девять лет, но сердце мое увяло. Прошло лишь несколько лет, и дивный пейзаж утратил свои яркие краски, а жизнь казалась мне отвратительной. Итак, вы можете понять, что я почувствовал, когда обернулся и увидел на террасе Мадлену.
Охваченный глубокой печалью, я не думал о том, куда и зачем я еду. Я был далек от мыслей о леди Дэдлей, когда, сам того не заметив, вошел во двор ее дома. Совершив эту оплошность, я уже не мог отступить. Мы жили с ней на супружеский лад, и теперь, поднимаясь по лестнице, я с грустью размышлял о всех неприятностях, которые повлечет за собой разрыв с ней. Вы знаете характер и образ жизни леди Дэдлей и поймете, как неприлично выглядело мое появление, когда мажордом ввел меня в дорожном платье в гостиную, где Арабелла в пышном наряде сидела с пятью гостями. Лорд Дэдлей, один из самых видных государственных мужей Англии, стоял перед камином, важный, холодный, надменный, с тем насмешливым видом, с каким он выступает в парламенте; он усмехнулся, услышав мое имя. Возле Арабеллы находились ее сыновья, необыкновенно похожие на де Марсе, одного из внебрачных детей старого лорда; сам де Марсе тоже присутствовал здесь и сидел рядом с маркизой на маленьком диванчике. Увидев меня, Арабелла тотчас приняла высокомерный вид, пристально разглядывая мою дорожную фуражку, и каждым движением, казалось, спрашивала, что мне здесь надо. Она смерила меня презрительным взглядом, как будто ей представили деревенского дворянина. Наша близость, вечная любовь, клятвы и уверения, что она умрет, если я ее покину, дивные чары Армиды[76] — все исчезло, как сон! Можно было подумать, что я никогда не прикасался к ее руке, что я был посторонним человеком и она даже не знакома со мной. Несмотря на то, что я уже приобрел выдержку дипломата, я был удивлен, да и всякий удивился бы на моем месте. Де Марсе ехидно улыбался, с подчеркнутым вниманием разглядывая свои башмаки. Я быстро решил, как себя вести. От всякой другой женщины я принял бы отставку безропотно; но я был оскорблен при виде этой героини, уверявшей, что умрет от любви, и тут же насмеявшейся над подобной смертью, и захотел ответить дерзостью на дерзость. Она знала о беде, постигшей леди Брэндон; напомнить Арабелле о ней — значило ударить ее в сердце кинжалом, хотя от этого мог сломаться его клинок.
— Сударыня, — сказал я, — надеюсь, вы извините меня за неожиданное вторжение, когда узнаете, что я прибыл из Турени и что леди Брэндон дала мне к вам поручение, которое не терпит отлагательства. Я опасался, что вы отправитесь в Ланкашир и я могу вас не застать; но если вы остаетесь в Париже, я буду ждать того часа, когда вы соблаговолите принять меня.
Она наклонила голову, и я вышел. С этого дня я встречаю ее только в свете, мы обмениваемся любезными поклонами, а иногда и колкостями. Я напоминаю ей о безутешных женщинах из Ланкашира, а она мне о француженках, у которых отчаяние вызывает желудочные болезни. Благодаря ее стараниям я приобрел смертельного врага в лице де Марсе, которому она выказывает горячее расположение. А я говорю, что она ласкает два поколения. Итак, я потерпел полное крушение. Теперь я стал осуществлять план, задуманный мною в Саше. Я с головой ушел в работу и погрузился в науку, литературу и политику. После восшествия на престол Карла X[77] я занялся дипломатией, ибо моя старая должность при покойном короле была отменена. Я решил не обращать внимания ни на одну женщину, как бы прекрасна, умна или преданна она ни была. Это решение я осуществил полностью; я обрел необыкновенную ясность ума, огромную трудоспособность и понял, как много сил мы растрачиваем на женщин, которые дарят нам взамен лишь несколько любезных слов. Но все мои намерения рухнули; вы знаете, как и почему.
Дорогая Натали, я рассказал вам свою жизнь без утайки и без прикрас, словно говорил с самим собой; открыв перед вами свое сердце, которое в ту пору вас еще не знало, быть может, я невольно задел какую-нибудь струну в вашей чуткой и ревнивой душе; но то, что разгневало бы женщину обыкновенную, для вас, я уверен, послужит лишней причиной меня любить. Женщине избранной предназначена высокая роль возле страждущего и больного сердца: она становится сестрой милосердия и врачует его раны, делается матерью и все прощает своему ребенку. Страждут не только великие поэты и художники; люди, которые живут ради своей страны, ради будущего народов, расширяя круг их мыслей и страстей, часто чувствуют себя бесконечно одинокими. Они нуждаются в любви чистого и преданного существа; поверьте, они умеют ценить величие любящей женской души. Завтра я узнаю, была ли моя любовь к вам ошибкой.
Господину графу Феликсу де Ванденесу
Дорогой граф, вы получили от бедной госпожи де Морсоф письмо, которое, как вы говорите, помогло вам войти в светское общество, ему вы обязаны вашим высоким положением. Позвольте же мне завершить ваше воспитание. Ради бога, избавьтесь от ужасной привычки: не уподобляйтесь вдове, которая вечно говорит о своем первом муже и попрекает второго добродетелями покойника. Я француженка, дорогой граф, выходя замуж, я хочу всецело обладать человеком, которого полюблю, но, право, не могу обладать госпожой де Морсоф. Прочитав ваши записки с тем интересом, какого они заслуживают, — а вы знаете, как я интересуюсь вами, — я подумала, что вы весьма наскучили леди Дэдлей, постоянно восхваляя перед ней совершенства госпожи де Морсоф, и причинили большое горе графине, терзая ее описаниями любви англичанки. Вы были бестактны и со мной, бедным созданием, — ведь я не имею иных достоинств, кроме того, что нравлюсь вам; вы дали мне понять, что я не умею вас любить ни как Анриетта, ни как Арабелла. Я признаю свои недостатки и хорошо их знаю сама, но зачем так грубо напоминать мне о них? Знаете, кого я жалею больше всего? Четвертую женщину, которую вы полюбите. Ей уже придется вести борьбу с тремя предыдущими, и потому мне хочется, на пользу и вам и ей, предостеречь вас от опасности: берегитесь вашей страшной памяти! Я отказываюсь от утомительной чести любить вас: для этого надо иметь слишком много достоинств, и католических и англиканских, к тому же я не расположена сражаться с призраками. Добродетели вашей страдалицы из Клошгурда могут напугать самую уверенную в себе женщину, а ваша бесстрашная амазонка расхолаживает самые пылкие надежды на счастье. Ни одна женщина, сколько она бы ни старалась, не может надеяться дать вам такие радости, какие доставляла Арабелла. Ни умом, ни сердцем вы не в силах победить своих воспоминаний. Я не сумела вернуть солнцу жар, утраченный им после смерти вашей святой Анриетты, и возле меня вас по-прежнему будет пронизывать холодная дрожь. Друг мой, — ибо вы навсегда останетесь мне другом — воздержитесь впредь от подобных признаний: они обнажают ваше разочарованное сердце, отпугивают любовь и заставляют женщину сомневаться в самой себе. Любовь, дорогой граф, живет лишь доверием. Женщина, которая прежде, чем вымолвить слово или вскочить в седло, станет думать, что сказала бы небесная Анриетта или сколько грации проявила бы наездница Арабелла, эта женщина, уверяю вас, почувствует, как у нее немеет язык и дрожат колени. Сознаюсь, мне захотелось получить несколько ваших волнующих букетов, но вы их больше не собираете. Теперь есть множество вещей, которых вы не решаетесь делать, множество мыслей и радостей, которые умерли для вас. Ни одна женщина, поверьте, не захочет вечно сталкиваться в вашем сердце с покойницей, которую вы храните в нем. Вы просите меня любить вас из христианского милосердия. Не скрою, я могу многое делать из милосердия, все что угодно — но только не любить.
Порой вы скучаете сами и навеваете скуку на других, вы называете ваше уныние меланхолией — что ж, дело ваше, но вы становитесь несносны для той, кто вас любит, и наводите ее на самые мрачные размышления. Я слишком часто видела между нами могилу вашей святой; я много думала, я себя знаю и могу прямо сказать, что не хочу умереть, как она. Если вы утомили леди Дэдлей, женщину необыкновенную, то боюсь, что, не обладая ее неукротимыми страстями, я охладею еще скорее, чем она. Откажемся от любви, ведь вы можете быть счастливы, лишь разделяя ее с умершей, и останемся друзьями — такова моя воля. Как, дорогой граф, на заре жизни вы встретили обаятельную женщину, безупречную возлюбленную, которая заботилась о вашей судьбе, сделала вас пэром, самозабвенно любила вас и просила у вас только верности, а вы причинили ей такое горе, что она умерла! Но ведь это чудовищно! Среди самых пылких и бедных молодых людей, которые обивают парижские мостовые, лелея честолюбивые мечты, ни один не отказался бы прожить десять лет, сохраняя чистоту, даже за половину тех милостей, на которые вы ответили такой неблагодарностью! Когда вас так горячо любят, чего еще можно желать?
Бедная женщина! Сколько она страдала, а вы, произнеся несколько сентиментальных фраз над ее могилой, думаете, что покончили свои счеты с ней. Вот какая награда ожидает, наверно, и мою нежность! Благодарю, дорогой граф, но я не хочу иметь соперницы ни в нашем, ни в загробном мире. Если у вас на совести подобное преступление, то о нем, по меньшей мере, не следует говорить. Я задала вам неосторожный вопрос: я поступила, как женщина, любопытная дочь Евы; вам же следовало рассчитать, какой отклик вызовет ваш ответ. Вы должны были меня обмануть, позже я была бы вам за это благодарна. Неужели вы не знаете, в чем главное достоинство мужчин, имеющих успех у женщин? Они великодушно клянутся нам, что никого не любили, кроме нас, и что мы — их первая любовь. Ваше желание невыполнимо. Подумайте, мой друг, можно ли быть одновременно госпожой де Морсоф и леди Дэдлей, ведь это значит соединить воду с огнем! Вы, видно, не знаете женщин! Они всегда остаются самими собой и сохраняют недостатки, свойственные их полу. Вы встретились с леди Дэдлей слишком рано, чтобы ее оценить, и все дурное, что вы о ней говорите, мне кажется местью вашего оскорбленного самолюбия; вы поняли госпожу де Морсоф слишком поздно, и наказывали одну за то, что она не была другой; что же будет со мной: ведь я не та и не другая?
Я так люблю вас, что много размышляла о вашем будущем, ведь я вас искренне люблю. Я видела в вас рыцаря Печального образа, и вы всегда глубоко трогали меня: я верила в постоянство меланхолических людей; но я не подозревала, что, едва вступив в свет, вы убили самую прекрасную и добродетельную женщину на земле. И вот я спрашивала себя: что же вам остается делать? Я долго обдумывала вашу судьбу. И заключила, мой друг, что вам следует жениться на какой-нибудь госпоже Шэнди[78], которой неведомы ни любовь, ни игра страстей; ее не будет тревожить ни леди Дэдлей, ни госпожа де Морсоф, она останется равнодушной в те часы, когда вас одолевает скука, которую вы называете меланхолией, и когда вы унылы, как ненастный день; она будет для вас той безупречной сестрой милосердия, которая вам нужна. Но любить, трепетать от одного слова, уметь дожидаться счастья, его ловить, давать переживать бури страстей, радоваться каждой прихоти любимой женщины — нет, дорогой граф, это не для вас! Вы слишком строго следовали советам вашего ангела-хранителя: вы так тщательно избегали молодых женщин, что совсем не знаете их. Госпожа де Морсоф правильно поступила, когда сразу так высоко вознесла вас, вы восстановили бы против себя всех женщин и ничего бы не достигли. Теперь вам уже поздно брать уроки, чтобы научиться говорить нам то, что нам приятно слышать, чтобы вовремя блеснуть своими достоинствами и восхищаться нашими слабостями, когда нам вздумается их показать. Мы не так глупы, как вам кажется: когда мы любим, мы ставим нашего избранника превыше всего. Когда рушится наша вера в ваше превосходство, рушится и наша любовь. Льстя нам, вы льстите самим себе. Если вы собираетесь по-прежнему вращаться в свете и цените женское общество, тщательно скрывайте все, что вы мне рассказали: женщины не любят бросать семена своей любви на каменистую почву и расточать свои ласки, чтобы утешить больную душу. Всякая женщина тотчас заметит сухость вашего сердца, и вы никогда не будете счастливы. Лишь немногие из них будут столь правдивы, что скажут вам то же, что говорю я, и столь доброжелательны, что уйдут от вас без обиды, предложив вам свою дружбу, как сделала сегодня та, которая искренне считает себя вашим преданным другом.
Натали де МанервильПариж, октябрь 1835 года.
Примечания
Роман «Лилия долины» начал печататься в журнале «Ревю де Пари» в ноябре — декабре месяце 1835 года, затем публикация романа в этом журнале была прекращена. В июне 1836 года «Лилия долины» вышла отдельной книгой в издательстве Верде. В 1839 году появилось второе издание романа, а в 1844 году он вошел в состав «Человеческой комедии» (первое издание), в «Сцены провинциальной жизни».
Первоначальный замысел произведения возник у Бальзака в связи с выходом в свет и июне 1834 года психологического романа Сент-Бева «Сладострастие». Бальзак начинает в октябре 1834 года работу над «Лилией долины», которая, несмотря на ряд сюжетных совпадений, является своеобразной полемикой с книгой Сент-Бева. Если Сент-Бев в своем романе утверждал величие моральной победы героя над чувством и заставлял его найти успокоение в религии, то Бальзак в центре своего произведения ставит г-жу де Морсоф, жертву принципов католического долга и добродетели. В одном из писем Бальзак так определил тему романа: «Сражение, происходившее в... долине Эндра между г-жой де Морсоф и страстью». Г-жа де Морсоф умирает, раскаявшись в своей жертве. «Да, я хочу жить, — восклицает она перед смертью, — жить настоящей жизнью, а не обманом! Все было обманом в моей жизни, за последние дни я пересмотрела все эти лживые выдумки!»
В рассказе Феликса де Ванденеса о его детстве можно найти ряд эпизодов автобиографического характера (детство героя, описание коллежа ораторианцев, пансиона Лепитра).
Бюлоз без согласия Бальзака перепродал текст первой части романа редактору журнала «Ревю этранжер» («Иностранное обозрение»), выходившего с 1832 года в Петербурге на французском языке. В Петербурге «Лилия долины» появилась в печати в октябре 1835 года, раньше, чем в Париже.
Текст печатался по первой корректуре, поэтому были допущены грубейшие искажения: выпало первое письмо г-жи де Морсоф Феликсу, оказались напечатанными фразы, написанные Бальзаком для себя на полях, и т. д. Узнав о незаконной перепродаже рукописи романа, Бальзак отказался предоставить журналу «Ревю де Пари» его окончание. Тогда Бюлоз начал процесс против писателя, обвиняя его в нарушении взятых перед журналом обязательств. Процесс начался 20 мая 1836 года. Бальзак рассматривал свою борьбу с Бюлозом как борьбу за авторское право, борьбу против коммерсантов, дельцов от литературы. Он пишет статью «К истории процесса, возникшего в связи с «Лилией долины». Статья была напечатана в газете «Кроник де Пари» 4 июня, а затем перепечатана в качестве предисловия к первому изданию романа отдельной книгой (1836 год). 3 июня состоялось заключительное заседание суда, который отверг претензии Бюлоза к писателю. Это была большая моральная победа Бальзака.
Но как только «Лилия долины» вышла в издательстве Верде, началась травля писателя; особенно усердствовали журналы «Ревю де Де Монд» и «Ревю де Пари», редактируемые Бюлозом, к ним присоединились другие газеты и журналы. Рецензенты не критиковали роман за присущие ему недостатки композиции и стиля, а пользовались им лишь как поводом для самых различных нападок на писателя. Бальзак сообщал Ганской в начале августа 1836 года: «...Да, все газеты оказались враждебными «Лилии долины», все ее поносили, оплевывали. Неттмен (литературный критик) сообщил мне, что «Газетт де Франс» ее топила за то, что я не посещаю мессу, «Котидьен» из-за особой ненависти ко мне редактора, короче говоря, у всех находился какой-либо предлог».
После того как успокоились страсти, вызванные процессом с Бюлозом, роман не привлекал особого внимания критики. Интерес к нему возник вновь в 1853 году, когда на сцене Комеди Франсез с успехом была поставлена драма Теодора Баррьера «Лилия долины», написанная на основе романа Бальзака.
(обратно)1
Накар Жан-Батист (1780—1854) — старый друг семьи Бальзака, домашний врач писателя.
(обратно)2
...на котором медленно и старательно возводится литературное здание. — Речь идет о замысле большого цикла романов, возникшем у Бальзака в начале 30-х годов и позже получившем название «Человеческая комедия».
(обратно)3
Ораторианцы — религиозные общества, основанные в Западной Европе в XVI веке, получившие свое название от ораторий — молитвенных домов. Ораторианцы пытались приспособить науку и философию к целям пропаганды католицизма.
(обратно)4
Блаженны плачущие (лат.).
(обратно)5
...пытались похитить королеву Марию-Антуанетту из тюрьмы Тампль. — В результате народного восстания 10 августа 1792 года Людовик XVI был низложен, королевская семья была заключена в тюрьму Тампль. После казни Людовика XVI (21 января 1793 года) роялистами делались неоднократные попытки устроить побег Марии-Антуанетты; она была казнена 16 октября 1793 года.
(обратно)6
...при Наполеоне колониальные продукты стоили непомерно дорого. — В 1806 году Наполеон I объявил о полной блокаде Англии (политика континентальной блокады). Англия в ответ на это установила контроль над французской морской торговлей. Это привело к резкому подорожанию колониальных товаров во Франции
(обратно)7
Пале-Руаяль — дворец в Париже, построенный в начале XVII века; во времена Бальзака там помещались игорные дома, увеселительные заведения, кафе, модные магазины. Пале-Руаяль был местом любовных свиданий.
(обратно)8
Бьянка Капелло — дочь венецианского патриция, убежавшая из дома со своим возлюбленным; впоследствии жена герцога Франциско Медичи (XVI век).
(обратно)9
...готовились великие события — то есть реставрация Бурбонов 6 апреля 1814 года. После отречения Наполеона Сенат призвал на французский престол брата казненного короля Людовика XVI, принявшего имя Людовика XVIII.
(обратно)10
Герцог Ангулемский — племянник Людовика XVIII.
(обратно)11
...императора, вернувшегося с острова Эльбы. — 26 февраля 1815 года Наполеон бежал с острова Эльбы и высадился на южном берегу Франции.
(обратно)12
Друиды — жрецы у древних кельтов (галлов).
(обратно)13
Морсоф — по-французски «спасенный от смерти».
(обратно)14
Бальи — до буржуазной революции конца XVIII века королевский чиновник в провинции, исполнявший административные и судейские функции
(обратно)15
Джоконда. — Речь идет о портрете Моны Лизы Джоконды работы итальянского художника Леонардо да Винчи (1452—1519). Джоконда изображена с легкой, едва уловимой улыбкой, как бы скользящей по ее лицу.
(обратно)16
Морган — Гроза морей. — Морган — английский флибустьер. Флибустьеры — пираты XVII века, грабившие главным образом испанские корабли. В борьбе со своей соперницей на мировом рынке — Испанией Англия и Франция не раз использовали флибустьеров.
(обратно)17
...великое крушение, ознаменовавшее конец XVIII века. — Имеется в виду Французская буржуазная революция 1789—1794 годов.
(обратно)18
«Котидьен» — газета, основанная роялистами во время революции в 1792 году в целях борьбы с революционными идеями. В период Реставрации — орган ультрароялистов.
(обратно)19
Майорат — право нераздельного наследования недвижимого имущества старшим в семье или роде. Уничтоженные революцией 1789 года, майораты были восстановлены во время Реставрации с целью сохранения состояний старой знати.
(обратно)20
Пэр — член палаты пэров, созданной в 1814 году при реставрации Бурбонов в противовес палате депутатов; члены ее назначались королем, звание пэра было пожизненным и до Июльской революции 1830 года передавалось по наследству старшему сыну.
(обратно)21
...армия принца Конде — то есть армия эмигрантов, сформированная в Кобленце принцем Конде Луи-Жозефом (1736—1818).
(обратно)22
Белое знамя — то есть королевское знамя Бурбонов.
(обратно)23
Сен-Мартен, прозванный «Неведомым философом». — Сен-Мартен Луи-Клод (1743—1803) — реакционный французский философ-мистик, находившийся под влиянием шведского философа-мистика Сведенборга.
(обратно)24
Квакеры — члены христианской секты, возникшей в Англии XVII века во время Английской буржуазной революции. Квакеры проповедовали строгий образ жизни, набожность, воздержанность, смирение.
(обратно)25
...вроде Эльбея, Боншана или Шаретта. — Речь идет о главарях контрреволюционного вандейского восстания во время Французской буржуазной революции конца XVIII века.
(обратно)26
Эпиктет (ок. 50 — ок. 138 н. э.) — греческий философ-стоик, был рабом, затем был отпущен на волю.
(обратно)27
Боссюэ Жак-Бенинь (1627—1704) — французский епископ и придворный проповедник, автор сочинений на богословские темы. Здесь имеется в виду место из «Надгробного слова принцу Конде», в котором Боссюэ говорит, что стакан воды, поданный жаждущему, ценнее для бога, чем все победы завоевателя.
(обратно)28
О сыновья, о дочери! (лат.)
(обратно)29
Иов — библейский персонаж, на которого по воле бога обрушивались неисчислимые страдания и несчастья.
(обратно)30
Литании — вид молитвы в католической службе, здесь причитания, жалобы.
(обратно)31
...любовь Лауры и Петрарки — то есть возвышенная, платоническая любовь. Итальянский поэт Франческо Петрарка (1304—1374) воспел в замечательных сонетах свою любовь к Лауре.
(обратно)32
Хартия, точнее Конституционная хартия, — закон об установлении во Франции конституционной монархии, который вынужден был издать 4 июня 1814 года Людовик XVIII; хартия подтверждала привилегии дворянства.
(обратно)33
Кастель Луи-Бертран (1688—1757) — иезуит, занимался математикой, философией, выдвинул теорию о соответствии звуков и цветов в книге «Новые опыты в области оптики и акустики».
(обратно)34
Саади Муслихиддин (1184—1291) — великий персидский поэт, наиболее известна его поэма «Голистан» («Сад роз»).
(обратно)35
Дан — древний город в Палестине.
(обратно)36
Хуана — героиня повести Бальзака «Марана».
(обратно)37
Г-жа де Босеан — о ней говорится в романе «Отец Горио» и в рассказе «Покинутая женщина».
(обратно)38
Г-жа д'Эглемон — героиня повести «Тридцатилетняя женщина».
(обратно)39
Маркиз д'Эспар — главный персонаж повести «Дело об опеке».
(обратно)40
Беатриче. — Беатриче Портинари — современница Данте (1265—1321), к которой он испытывал глубокую платоническую любовь. Данте воспевал Беатриче в сонетах книги «Новая жизнь» и в «Божественной комедии».
(обратно)41
Поэта венецианского. — Речь идет о Петрарке. Петрарка, так же как и Данте, был уроженцем Флоренции. В Венеции он жил в последние годы своей жизни.
(обратно)42
Колиньи Гаспар (1519—1572) — адмирал, один из вождей французских протестантов (гугенотов), храбрый и решительный человек; был убит в Варфоломеевскую ночь (1572).
(обратно)43
Филинт, Альцест — главные действующие лица комедии Мольера «Мизантроп». Альцест — правдолюбивый, искренний и резкий в своих суждениях человек. Филинт — покладистый человек, готовый на любой компромисс.
(обратно)44
«Поменьше усердия» — слова, приписываемые Талейрану. Талейран-Перигор Шарль-Морис (1754—1838) — известный французский дипломат, отличавшийся беспринципностью и циничной неразборчивостью в средствах.
(обратно)45
Герцог Энгиенский (1772—1804) — сын принца Конде. По приказу Наполеона был привезен из Германии во Францию и расстрелян.
(обратно)46
...события 20 марта. — 20 марта 1815 года Наполеон I, бежавший с острова Эльбы, вступил в Париж. С этого дня начался период вторичного правления Наполеона — Сто дней (20 марта — 22 июня 1815 года). Людовик XVIII бежал во Фландрию, в город Гент, где он находился до вторичного отречения Наполеона I.
(обратно)47
Жан Бар — французский моряк XVII века, прославившийся своей отчаянней храбростью. Людовик XIV назначил его командующим эскадрой и возвел в дворянство.
(обратно)48
Лафоре — служанка Мольера, которой он обычно читал свои комедии, прежде чем поставить их в театре.
(обратно)49
«Пти-Шато» («Малый двор») — во времена Реставрации приближенные короля.
(обратно)50
...следовал школе Людовика XV. — Придворные нравы в царствование Людовика XV (1-я половина XVIII века) отличались крайней распущенностью.
(обратно)51
Катон — имеется в виду Катон Старший (234—149 до н. э.) — политический деятель Римской республики, известный своим строгим образом жизни. Здесь имя Катона употреблено иронически.
(обратно)52
Платон — древнегреческий философ-идеалист (427—347 до н. э.). Излагал учение о любви как о сродстве душ.
(обратно)53
Франческа да Римини. — Трагическая любовь Франчески да Римини к Паоло воспета Данте в его «Божественной комедии» («Ад», песнь 5). Любовь Франчески противопоставляется здесь платонической любви Лауры.
(обратно)54
Принц де ля Пэ (принц Мира) — прозвище Годоя Альзареца де Фариа (1767—1851), министра испанского короля Карла IV, фаворита королевы; власть в стране фактически находилась в его руках. 19 марта 1808 года в Мадриде вспыхнуло народное восстание, вызванное реакционной политикой Карла IV и его министра Годоя.
(обратно)55
«Быть или не быть» (англ.).
(обратно)56
Кентавры — мифические существа у древних греков — полулюди-полулошади, отличавшиеся жестокостью и злобой.
(обратно)57
Дидона — легендарная царица Карфагена, героиня эпической поэмы «Энеида» римского поэта Вергилия (70—19 до н. э.). Узнав, что ее покинул возлюбленный Эней, Дидона взошла на горящий костер и пронзила себе грудь мечом.
(обратно)58
Буквально «синие дьяволы» (англ.), в переносном смысле — дурное настроение.
(обратно)59
...словно ее сразил небесный голос, вещавший святому Павлу. — Согласно библейской легенде, язычник Савл по дороге в Дамаск услышал голос бога; потрясенный этим, он принял христианство и стал затем известен под именем апостола Павла.
(обратно)60
...причесанной в стиле «красавицы Фероньер» — то есть гладко причесанные волосы, низко спущенные на виски, лоб перехвачен повязкой с украшением в центре; прическа называется так по названию картины, приписываемой Леонардо да Винчи.
(обратно)61
Агарь — библейский персонаж, рабыня патриарха Авраама, мать его сына Исмаила. Изгнанная вместе с сыном женой Авраама Саррой, Агарь в пустыне погибала от жажды. Бог, вняв ее молитвам, открыл ей источник.
(обратно)62
Прочь! Прочь! (англ.)
(обратно)63
Иеремия — библейский персонаж, мифический пророк древних евреев; ему приписывается авторство Плачей о разрушении Иерусалима.
(обратно)64
«Свершилось!» (лат.)
(обратно)65
«Супруг» (итал.). Здесь: «всеми признанный поклонник».
(обратно)66
То, что принято в обществе (англ.).
(обратно)67
Герцогиня де Ланже — см. второй эпизод романа «История тринадцати» — «Герцогиня де Ланже».
(обратно)68
Леди Брэндом — героиня повести Бальзака «Ла Гренодьер».
(обратно)69
...о несчастной молодой женщине, отравившейся из ревности. — Имеется в виду Эстер Гобсек, героиня романа Бальзака «Блеск и нищета куртизанок».
(обратно)70
Трапписты — члены монашеского ордена, устав которого требовал крайне сурового образа жизни (пост, одиночество и т. д.). Траппистам приписывалась фраза, которая служила у них приветствием при встрече: «Брат, надо умереть».
(обратно)71
Хлоя — персонаж древнегреческого романа Лонга «Дафнис и Хлоя» (между II и III в. н. э.), юная, наивная пастушка, целиком отдающаяся первому чувству любви к пастуху Дафнису.
(обратно)72
Господи помилуй! (греч.)
(обратно)73
«Богородица, дева радуйся» (лат.).
(обратно)74
Голгофа — гора в окрестностях Иерусалима, на которой, согласно христианской легенде, был распят Иисус Христос.
(обратно)75
Метампсихоз — религиозно-мистическое учение о переходе души из одного организма после его смерти в другой.
(обратно)76
Армида — героиня поэмы итальянского поэта XVI века Tacco «Освобожденный Иерусалим», владелица сказочно прекрасного дворца, окруженного садами.
(обратно)77
Карл X — французский король с 1824 года. Его свергла Июльская буржуазная революция 1830 года.
(обратно)78
Госпожа Шэнди — персонаж романа английского писателя XVIII века Л. Стерна «Жизнь и мнелия Тристрама Шэнди, джентльмена».
(обратно)

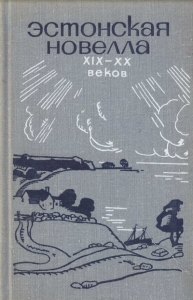
Комментарии к книге «Лилия долины», Оноре де Бальзак
Всего 0 комментариев