Оноре де Бальзак Красавица Империа
Отправляясь на Констанцский собор, архиепископ города Бордо принял в свиту свою турского священника — прелестного обхождением и речами юношу, который считался сыном куртизанки и некоего губернатора. Епископ Турский с охотою уступил юношу своему другу, когда тот через город Тур следовал, ибо архипастыри привыкли оказывать друг дружке подобные услуги, ведая, как досадить может богословский зуд. Итак, молодой священнослужитель прибыл в Констанц и поселился в доме у своего прелата, мужа преученого и строгих правил.
Наш священник, прозывавшийся Филиппом де Мала, положил вести себя добронравно и со всем тщанием служить своему попечителю, но вскоре увидел он, что многие, прибывшие на славный Собор, самую рассеянную жизнь вели, за что не только индульгенций не лишались, а даже более их имели, нежели иные разумные добропорядочные люди, а сверх того удостаивались еще и золотых монет и прочих доходов. И вот как-то в ночь, роковую для добродетели нашего монаха, дьявол тихохонько шепнул ему на ухо, чтобы он от благ земных не отвращался, ибо каждый да черпает в неоскудеваемом лоне святой нашей матери церкви, и таковое неоскудение есть чудо, доказывающее наивернейшим образом бытие божие. Наш священник внял советам дьявола. И тут же порешил обойти все констанцские кабачки, всех немецких удовольствий испробовать даром, если представится случай, ибо у него за душой не было ни гроша. А так как до той поры Филипп был поведения скромного, во всем следуя престарелому своему пастырю, который — не по доброй воле, а по немощи своей — плотского греха чурался и даже через это прослыл святым, наш юноша часто терзался жгучим вожделением и впадал в великое уныние. Причиной тому было множество прелестных полнотелых красоток, весьма, впрочем, к бедному люду суровых и обитавших в Констанце ради просветления умов святых отцов, участников Собора. И тем сильнее распалялся Филипп, что не знал, как подступиться к сим роскошным павам, кои помыкали кардиналами, аббатами, аудиторами, римскими легатами, епископами, герцогами и маркграфами разными, словно самой последней церковной братией. Прочитав вечернюю молитву, юноша твердил мысленно разные нежные слова, предназначенные для прелестниц, упражняясь в пресладостном молитвословии любви. Тем самым подготовлялся он ко всем возможным случаям. А на следующий день, если он, направляясь ко всенощной, встречал какую-либо из этих принцесс, прекрасную собою, надменно возлежащую на подушках в своих носилках, в сопровождении горделивых пажей при оружии, он останавливался, разиня рот, словно пес, нацелившийся на муху. И от созерцания холодного лица красавицы его еще пуще бросало в жар.
Секретарь епископа, дворянин из Перигора, как-то раз поведал ему, что все эти святые отцы, прокуроры и аудиторы римские, желая попасть в дом к такой красотке, весьма щедро одаряют ее, и отнюдь не святыми реликвиями и индульгенциями, а напротив того — драгоценными камнями и золотом, ибо тех кошечек соборные вельможи лелеют и оказывают им высокое покровительство. Тогда наш бедный туренец, как ни был он прост и робок, стал припрятывать под матрац жалкие свои гроши, получаемые от епископа за то, что перебелял его бумаги, в надежде, что со временем соберется у него довольно денег, дабы хоть издали взглянуть на кардинальскую наложницу, а далее он уповал на милость божию. И будучи сущим младенцем по разуму, он столько же сходствовал с мужчиною, сколько коза в ночном мраке похожа на девицу. Однако, влекомый желанием своим, бродил он вечерами по улицам Констанца, нимало об опасностях не помышляя, ни даже о мечах грозной стражи, и дерзко выслеживал святых отцов, когда они к любовницам своим пробирались. И тут он видел, как зажигались в доме огни, как освещались окна и двери. Потом внимал он веселью блаженных аббатов и других прочих, когда те, отведав роскошных вин и яств, затягивали тайную аллилуйю, рассеянным ухом внимая музыке, которой их угощали. Повара на кухне совершали поистине чудеса, как бы творя Обедни наваристых супов, Утрени окорочков, Вечерни лакомых паштетов и вознося Славословие сладостей; а уж после возлияний пресвятые отцы умолкали. Младые их пажи играли в кости у порога, ретивые мулы брыкались на улице. Все шло отменно. И вера и страх божий всему сопутствовали. А вот беднягу Гуса предали огню. За какую вину? За то, что полез рукою без спроса в блюдо. Зачем было соваться в гугеноты до времени, раньше других?
Премиленький наш монашек частенько получал затрещины или хватал тумаки, но дьявол поддерживал и укреплял в нем надежду, что рано или поздно настанет и его черед и выйдет он сам в кардиналы у какой-нибудь кардинальской наложницы. Возгоревшись желанием, стал он смел, словно олень по осени, и даже настолько, что как-то вечером пробрался в красивейший из домов Констанца, на лестнице коего он часто видел офицеров, сенешалов, слуг и пажей, с факелами в руках ожидающих своих господ — герцогов, королей, кардиналов и епископов.
«Ага! — сказал про себя наш монах. — Здешняя прелестница, должно быть, самая прекрасная и есть!»
Вооруженный страж пропустил Филиппа, думая, что юноша состоит в свите баварского электора и, верно, послан с каким-нибудь поручением от оного герцога, только что покинувшего дом красавицы. Быстрее гончего пса в любовном раже взбежал наш монашек по ступеням, влекомый сладостным запахом духов, до самой той комнаты, где раздевалась хозяйка, болтая со своими служанками. И встал он как вкопанный, трепеща, словно вор, застигнутый стражником. Красавица скинула уже платье. Служанки хлопотали над ее разуванием и раздеванием и столь проворно и откровенно обнажили ее прекрасный стан, что зачарованный попик успел только громкое «ах!» воскликнуть, и в этом возгласе была сама любовь.
— Что вам нужно, мой мальчик? — спросила дама.
— Душу мою вам предать, — ответствовал тот, пожирая ее взором.
— Можете прийти завтра, — промолвила она, желая потешиться над юношей. На что Филипп, весь зардевшись, отвечал:
— Долгом своим почту!
Хозяйка громко засмеялась. А Филипп, в блаженном смятении не трогаясь с места, взором ласкал ее прелести, зовущие любовь, как-то: волосы, ниспадающие вдоль спины, слоновой кости глаже, а сквозь кудри, рассыпавшиеся по плечам, атласом отливала кожа белее снега. На чистом челе красавицы горел рубиновый подвесок, но огненными своими переливами он уступал блеску ее черных очей, увлажненных слезами, кои вызваны были неудержимым смехом. Играючи, она даже подкинула востроносую туфельку, всю раззолоченную, словно дароносица, и, от хохота изогнувшись, показала свою босую ножку, величиной с лебяжий клювик. К счастью для юного попика, красавица была в тот вечер весела, а то вылететь бы ему прямо из окна, ибо и знатнейшего епископа могла при случае постичь та же участь.
— У него красивые глаза, — промолвила одна из служанок.
— Откуда он взялся? — вопросила другая.
— Бедное дитя! — воскликнула Империа.
— Его, наверное, мать ищет. Надобно нам наставить его на путь истинный!
Расторопный наш туренец, нимало не теряясь, с упоением воззрился на ложе, покрытое золотой парчой, где собиралась отдыхать прекрасная блудница. Влажный его взгляд, умудренный силою любви, разбудил воображение госпожи Империи, и, покоренная красавчиком, она не то шутя, не то всерьез повторила: «Завтра…» — и отослала его, властно махнув рукою, мановению которой покорился бы сам папа Иоанн, тем более сейчас, когда был он подобен улитке, лишенной раковины, ибо Констанцский собор только что его обезватиканил.
— Ах, госпожа, вот и еще один обет целомудрия полинял от любовного жара, — промолвила прислужница.
Смех возобновился, шутки посыпались градом. Филипп ушел, стукнувшись головой о косяк, и долго не мог опомниться, как встрепанная ворона, — столь пленительна, подобно сирене, выходящей из вод, была госпожа Империа. И, запомнив зверей, искусно вырезанных на дверных наличниках, Филипп вернулся к своему добродушному пастырю, с дьявольским вожделением в сердце и ошеломленный виденным до самой глубины своего естества. Поднявшись в отведенную ему каморку, он всю ночь напролет считал и пересчитывал свои гроши, но больше четырех монет, называемых «ангелами», ничего не обнаружил, и так как не было у бедняги иного состояния, понадеялся он ублаготворить красавицу, отдав ей все, чем владел в этом мире.
— Что с тобою, сын мой? — спросил его добрый архиепископ, обеспокоившись возней и вздохами монашка.
— Ах, монсеньор, — ответствовал бедный, — я дивлюсь, как сие возможно, чтобы столь легковесная и красивая дама таким непереносимым грузом лежала на сердце.
— Какая же? — спросил архиепископ, отложивший требник, который читал он для виду.
— Господи Иисусе, вы станете укорять меня, отец мой и покровитель, за то, что я посмел улицезреть возлюбленную кардинала, а может, и того знатнее. И я возрыдал, увидя, как мало имею я этих треклятых монет, дабы с благословения вашего наставить грешницу на путь добра.
Архиепископ собрал на челе своем, над самым носом, морщины наподобие треугольника и не изрек ничего. А смиренный Филипп дрожал всем телом оттого, что отважился исповедоваться пред своим высоким наставником. Святой отец только вопросил его:
— Стало быть, она весьма дорогая?
— Ах, — воскликнул монашек, — она обчистила немало митр и облупила не один жезл!
— Итак, Филипп, ежели отречешься от нее, я выдам тебе тридцать «ангелов» из казны для бедных.
— Ах, святой отец, это будет для меня весьма убыточно, — ответствовал юноша, пылая при мысли о наслаждениях, каковые обещал себе изведать.
— О Филипп, — промолвил добрый пастырь, — неужели ты решился предать себя в лапы дьявола и прогневать господа, уподобившись всем нашим кардиналам?
И учитель, сокрушенный скорбью, стал молить святого Гатьена, покровителя девственников, дабы тот оградил смиренного слугу своего. А молодому грешнику приказал коленопреклоненно молить заступника своего Филиппа; но окаянный монах просил у небесного своего предстателя совсем иного: помочь ему не оплошать, когда отдаст он себя на милость и волю прелестницы. Добрый архиепископ, видя прилежное моление юноши, воскликнул:
— Крепись, сын мой! Небо тебя услышит.
Наутро, пока старец, покровитель Филиппа, изобличал на Соборе распутство христианских апостолов, юноша истратил свои тяжким трудом добытые денежки на благовония, притирания, паровую баню и на иные суеты и стал до того хорош, что можно было его принять за любовника какой-нибудь куртизанки. Через весь город Констанц направился он отыскивать дом королевы своего сердца, и, когда спросил у прохожих, кому принадлежит названное жилище, те засмеялись ему в лицо, говоря:
— Откуда такой сопляк взялся, что никогда не слыхал о красавице Империи?
Услышав имя Империи, он понял, в сколь ужасную западню лезет сам себе на погибель, и испугался, что прикопленные им «ангелы» он дьяволу под хвост выбросил.
Изо всех куртизанок Империя почиталась самой роскошной и слыла к тому же взбалмошной, и вдобавок была она прекрасна, словно богиня; и не было ее ловчее в искусстве водить за нос кардиналов, укрощать свирепейших вояк и притеснителей народа. При особе ее состояли лихие капитаны, лучники, дворяне, готовые служить ей во всяком деле. Единое ее гневное слово любому не угодившему ей могло стоить головы. И такую же погибель несла любезная ее улыбка, ибо не единожды мессир Бодрикур, военачальник, на службе короля французского состоявший, вопрошал, нет ли такого, кого сей же час ради нее надлежит убить, чтобы посмеяться над святыми отцами.
Важнейшим особам духовного звания госпожа Империа вовремя умела ласково улыбнуться и вертела всеми, как хотела, будучи бойка на язык и искусна в любви, так что и самые добродетельные, самые холодные сердцем попадались, как птицы в тенета. И потому она жила, любима и уважаема, не хуже родовитых дам и принцесс, и, обращаясь к ней, называли ее госпожа Империа. Одной знатной и строгого поведения даме, которая сетовала на то, сам император Сигизмунд ответствовал, что они-де, благородные дамы, суть блюстительницы мудрых правил святейшей добродетели, а госпожа Империа хранит сладостные заблуждения богини Венеры. Слова, доброго христианина достойные, и несправедливо ими возмущались благородные дамы.
Итак, Филипп, вспоминая прелести, кои он с восторгом лицезрел накануне, опасался, что этим дело и кончится, и тяжко огорчался. Он бродил по улицам, не пил, не ел, ожидая своего часа, хотя был достаточно привлекателен собою, весьма обходителен и мог найти себе красавиц, менее жестокосердных и более доступных, нежели госпожа Империа.
С наступлением ночи молодой наш туренец, подстрекаемый самолюбием и обуреваемый страстью, задыхаясь от волнения, проскользнул, как уж, в жилище истинной королевы Собора, ибо пред нею склоняли главы свои все столпы церкви, мужи закона и науки христианнейшей.
Дворецкий не признал Филиппа и хотел было вытолкать его вон, когда служанка крикнула сверху лестницы:
— Эй, мессир Имбер, это дружок нашей госпожи!
И бедняга Филипп, вспыхнув, как факел в брачную ночь, поднялся по лестнице, спотыкаясь от счастья и предвкушая близкое уже блаженство. Служанка взяла его за руку и повела в залу, где в нетерпении ждала госпожа Империа, одетая, как подобает жене многоопытной и чающей удовольствий. Империа, сияя красотой, сидела за столом, покрытым бархатною скатертью, расшитой золотом и уставленной отменными напитками. Замороженные вина во флягах и кубках, одним своим видом возбуждающие жажду, бутыли с гипокрасом, кувшины с добрым кипрским, коробочки с пряностями, зажаренные павлины, приправы из зелени, посоленные окорочка — все это восхитило бы взор влюбленного монашка, если бы не так сильно любил он красавицу Империю. А она сразу же приметила, что юноша очей от нее не может оторвать. Хоть и не в диковинку были ей поклонения бесстыжих попов, терявших голову от ее красоты, все же она возрадовалась, ибо за ночь совсем влюбилась в злосчастного юнца, и весь день он не давал покоя ее сердцу. Все ставни были закрыты. Хозяйка дома была в наилучшем расположении духа и в таком наряде, словно готовилась принять имперского принца. И наш хитрый монашек, восхищенный райскою красою Империи, понял, что ни императору, ни бургграфу, ни даже кардиналу, накануне избрания в папы, не одолеть его в тот вечер, его, бедного служку, у коего за душой нет ничего, кроме дьявола и любви. Он поспешил поклониться с изяществом, которому мог позавидовать любой кавалер. И за то дама сказала, одарив его жгучим взором:
— Садитесь рядом со мною, я хочу видеть, переменились ли вы со вчерашнего дня.
— О да, — ответствовал Филипп.
— А чем же?
— Вчера, — продолжал наш хитрец, — я любил вас, а нынче вечером мы любим друг друга, и из бедного страдальца я стал богаче короля.
— Ах ты, малыш, малыш! — воскликнула она весело. — Ты, я вижу, и впрямь переменился: из молодого священника стал старым дьяволом.
И они сели рядышком возле жаркого огня, от которого по всему их телу еще сильнее разливалось любовное опьянение. Они так и не начинали ужинать, не касались яств, глаз не отрывала друг от друга. И когда, наконец, расположились привольно и с удобством, раздался неприятный для слуха госпожи Империи шум, будто невесть сколько людей вопили и дрались у входа в дом.
— Госпожа, — доложила вбежавшая служанка, — а вот еще другой!
— Кто? — вскричала Империа высокомерно, как разгневанный тиран, встретивший препону своим желаниям.
— Куарский епископ хочет поговорить с вами.
— Чтоб его черти побрали! — ответствовала Империа, взглянув умильно на Филиппа.
— Госпожа, он заметил сквозь ставни свет и расшумелся.
— Скажи ему, что я в лихорадке, и ты не солжешь, ибо я больна этим милым монашком, так он мне вскружил голову.
Но не успела она произнести эти слова, пожимая с чувством Филиппу руку, пылавшую от любовного жара, как тучный епископ Куарский ввалился в залу, пыхтя от гнева. Слуги его, следовавшие за ним, внесли на золотом блюде приготовленную по монастырскому уставу форель, только что выловленную из Рейна, затем пряности в великолепных коробочках и тысячу лакомств, как-то: ликеры и компоты, сваренные святыми монахинями из аббатства Куарского.
— Ага! — громогласно возопил епископ. — Почто вы, душенька, торопите меня на вертел к дьяволу, я и сам сумею к нему отправиться во благовремение.
— Из вашего брюха когда-нибудь сделают изрядные ножны для шпаги, — ответствовала Империа, нахмуря брови, и всякого, кто узрел бы грозное ее чело, еще недавно ясное и приветливое, пробрала бы дрожь.
— А этот служка ныне уже участвует в обедне? — свирепо вопросил епископ, поворачивая к прекрасному Филиппу свое широкое и багровое лицо.
— Монсеньор, я здесь, дабы исповедовать госпожу Империю.
— Как, разве ты канона не ведаешь? Исповедовать дам в сей ночной час положено лишь епископам. Чтобы духу твоего здесь не было! Иди пасись с монахами своего чина и не смей носа сюда показывать, иначе отлучу тебя от церкви.
— Ни с места! — воскликнула, разъярясь, госпожа Империа, еще прекраснее в гневе, нежели в любви, а в то мгновение в ней сочетались и любовь и гнев. — Оставайтесь, друг мой, вы здесь у себя.
Тогда Филипп уразумел, что он воистину ее возлюбленный.
— Разве не поучает нас писание и премудрость евангельская, что вы оба равны будете перед ликом господним в долине Иосафатской? — спросила госпожа Империа у епископа.
— Сие есть измышление дьявола, каковой своих адских выдумок к Библии подмешал, но так и впрямь написано, — ответствовал тупоумный толстяк, епископ Куарский, поспешая к столу.
— Ну, так будьте же равны передо мною, истинной вашей богиней на земле, — промолвила Империа, — а то я прикажу вас превежливо задушить чрез несколько дней, сдавив хорошенько то место, где голова к плечам приделана. Клянусь в том всемогуществом моей тонсуры, которая ничуть не хуже папской! — И, желая присовокупить к трапезе форель, принесенную епископом, равно как и пряности и сласти, она сказала: — Садитесь и пейте.
Но хитрой девке не впервой было проказничать, и она подмигнула милому своему: пренебреги этим тевтоном, чем больше он отведает разных вин, тем скорее придет наш час.
Прислужница усадила епископа за стол и захлопотала вокруг него; тем временем Филипп онемел от ярости, ибо видел уже, что счастье его рассеивается как дым, и в мыслях посылал епископа ко всем чертям, коих сулил ему больше, чем существует монахов на земле. Трапеза близилась к концу, но наш Филипп к яствам не прикоснулся, он алкал одной лишь Империи и, прижавшись к ней, сидел, не говоря ни слова, кроме как на том прекрасном наречии, которое ведомо всем дамам и не требует ни точек, ни запятых, ни знаков восклицания, ни заглавных букв, заставок, толкований и картинок. Тучный епископ Куарский, весьма сластолюбивый и превыше всего радеющий о своей бренной шкуре, в каковую его заправила покойная мать, пил гипокрас, щедро наливаемый ему нежною рукою хозяйки, и уже начал икать, когда раздался громкий шум приближавшейся по улице кавалькады. Топот множества лошадей, покрики пажей — го! го! — возвещали, что прибывает некий вельможа, одержимый любовью. И точно. Вскоре в залу вошел кардинал Рагузский, которому слуги Империи не посмели не открыть дверей. Злосчастная куртизанка и ее любовник стояли в смущении и расстройстве, словно пораженные проказой, ибо лучше было бы искусить самого дьявола, нежели отринуть кардинала, тем паче в тот час, когда никто не ведал, кому быть папой, ибо три притязателя на папский престол уже отказались от тиары к вящему благу христианского мира.
Кардинал, хитроумный и весьма бородатый итальянец, слывший ловким спорщиком в богословских вопросах и первым запевалой на всем Соборе, разгадал, долго не раздумывая, альфу и омегу этой истории. Поразмыслив с минуту, он уже придумал, как действовать, чтобы ублажить себя без излишних хлопот. Он примчался, гонимый монашеским сластолюбием, и, чтобы заполучить свою добычу, не дрогнув заколол бы двух монахов и продал бы свою частицу честного креста господня, что, конечно, достойно всяческого осуждения.
— Эй, дружок, — обратился он к Филиппу, подзывая его к себе.
Бедный туренец, ни жив ни мертв от страха, решив, что сам дьявол вмешался в его дела, встал и ответствовал грозному кардиналу:
— К вашим услугам!
Последний взял его под руку, увел на ступени лестницы и, поглядев ему прямо в глаза, начал не мешкая:
— Черт возьми, ты славный малый, так не вынуждай же меня извещать твоего пастыря, сколько весят твои потроха. Могу же я потешить себя на старости лет, а за содеянное расквитаться благочестивыми делами. Посему выбирай: или сочетаться тебе крепкими узами до окончания дней своих с некиим аббатством, или с госпожой Империей на единый вечер и за то принять наутро смерть.
Бедный туренец в отчаянии промолвил:
— А когда, монсеньор, пыл ваш уляжется, дозволено будет мне сюда вернуться?
Кардинал хоть и не рассердился, однако ж ответил сурово:
— Выбирай — виселица или митра!
Монашек лукаво улыбнулся:
— Дайте аббатство покрупнее да посытнее…
Услышав это, кардинал вернулся в залу, взял перо и нацарапал на обрывке пергамента грамоту французскому представителю.
— Монсеньор, — сказал наш туренец кардиналу, пока тот выводил наименование аббатства. — Куарский епископ не уйдет отсюда так быстро, как я, ибо у него самого аббатств не менее, нежели в граде Констанце найдется солдатских кабачков; вдобавок он уже вкусил от лозы виноградной. Посему, думается, дабы возблагодарить вас за столь славное аббатство, должен я дать вам благой совет. Вам, конечно, известно, как зловреден и прилипчив проклятый коклюш, от которого град Париж жестоко претерпел; итак, скажите епископу, что вы сейчас напутствовали умирающего старца, вашего друга — бордоского архиепископа. И вашего соперника выметет отсюда, как пучок соломы ветром.
— Ты достоин большей награды, нежели аббатство! — воскликнул кардинал. — Черт возьми, мой милый, вот тебе сто экю на дорогу в аббатство Турпенэй, я их вчера выиграл в карты, прими от меня их в дар.
Услыхав эти слова и видя, что Филипп де Мала удаляется, не ответив даже, как она уповала, на нежный взгляд ее глаз, из коих струилась сама любовь, красавица Империа запыхтела, подобно дельфину, ибо догадалась, почему отрекся от нее пугливый монашек. Она еще не была столь ревностной католичкой, чтоб простить любовнику, раз он изменил ей, не желая умереть ради ее прихоти. И в змеином взоре, коим Империа смерила беглеца, желая его унизить, была начертана его смерть, что весьма позабавило кардинала: распутный итальянец почуял, что аббатство, подаренное им, вскоре обратно к нему вернется. А наш туренец, нимало не обращая внимания на гнев Империи, выскользнул из дома, как побитый пес, которого отогнали от господского стола. Из груди г-жи Империи вырвался стон; в тот час она бы жестоко расправилась со всем родом человеческим, будь это в ее власти, ибо пламя, вспыхнувшее в ее крови, бросилось ей в голову, и огненные искры закружились в воздухе вкруг нее. И немудрено, — впервые случилось, что ее обманул какой-то жалкий монах. А кардинал улыбался, видя, что теперь дело пойдет на лад. Ну и хитер был кардинал Рагузский, недаром заслужил он красную шляпу.
— Ах, дражайший мой собрат, — обратился он к епископу Куарскому, — я не нарадуюсь, что нахожусь в столь прекрасной компании, и тем паче рад, что прогнал отсюда семинариста, недостойного быть в обществе госпожи Империи, особенно потому, что, коснувшись его, моя красавица, бесценная моя овечка, вы могли бы умереть самым недостойным образом по вине простого монаха.
— Но как это возможно?
— Он писец у архиепископа Бордоского, а наш старичок нынче утром заразился…
Епископ Куарский разинул рот, словно собираясь проглотить круглый сыр целиком.
— Откуда вы это знаете? — спросил он.
— Мне ли то не знать, — ответил кардинал, взяв за руку простодушного немца, — я только что исповедал его и напутствовал. И в сей час наш безгрешный старец готовится прямым путем лететь в рай.
Тут епископ Куарский доказал, сколь люди тучные легки на подъем. Доподлинно известно, что праведникам, особливо пузатым, господь по милости своей и в возмещение их тягот дарует кишки весьма растяжимые, как рыбьи пузыри. И вышеназванный епископ, подпрыгнув, отпрянул назад, обливаясь потом и до времени кашляя, будто бык, которому в корм подмешали перья. Потом, вдруг побледневши, бросился он вниз по лестнице, не сказав даже «прости» госпоже Империи. Когда двери захлопнулись за епископом и он уже припустился бегом по улице, кардинал Рагузский рассмеялся и сказал, желая позабавиться:
— Ах, милочка моя, ужель не достоин я стать папою и — того лучше — быть хоть на сегодня твоим возлюбленным?
Увидев, что Империа нахмурилась, он приблизился к ней, желая заключить ее в объятия, приголубить, прижать к груди по-кардинальски, ибо у кардиналов руки лучше подвешены, чем у прочих людей, лучше даже, чем у вояк, по той причине, что святые отцы в праздности живут и силы свои зря не расточают.
— Ах, — воскликнула Империа, отшатнувшись, — ты ищешь моей смерти, митроносец безумный! Для вас превыше всего ваше распутство, бессердечный грубиян! Что я тебе? Игрушка, служанка твоей похоти. Ежели страсть твоя меня убьет, вы причислите меня к лику святых, только и всего. Ты заразился коклюшем и смеешь еще домогаться меня! Ступай прочь, поворачивай отсюда, безмозглый монах, а меня и перстом коснуться не смей, — кричала она, видя, что он к ней приближается, — не то попотчую тебя этим кинжалом.
И лукавая девка выхватила из кошелька свой тонкий стилет, коим она при надобности умела владеть.
— Но, птичка райская, душечка моя, — молил кардинал, — ужели ты не поняла шутки? Надобно же было мне выпроводить прочь престарелого Куарского быка.
— Да, да, сейчас я увижу, любите вы меня или нет. Уйдите немедля. Если вас уже взял недуг, погибель моя вас нимало не тревожит. Мне достаточно знаком ваш нрав, знаю я, какую цену вы готовы заплатить ради единого мига услады; в тот час, когда вам придет пора помирать, вы всю землю без жалости затопите. Недаром во хмелю вы сами тем похвалялись. А я люблю только себя, свои драгоценности и свое здоровье. Ступайте! Придите завтра, если только до утра не протухнете. Сегодня я тебя ненавижу, добрый мой кардинал, — добавила она улыбаясь.
— Империа! — возопил кардинал, падая на колени. — Святая Империа, не играй моими чувствами.
— Да что вы! — отвечала куртизанка. — Никогда я не играю предметами священными.
— А ты, тварь! Завтра же отлучу тебя от церкви!
— Боже правый! Да ваши кардинальские мозги совсем свихнулись!
— Империа, отродье дьявольское! Нет! Нет! Красавица моя, душенька!
— Уважайте хоть сан свой! Не стойте на коленях. Глядеть противно!
— Ну, хочешь, я дам тебе отпущение грехов in articulo mortis?[1] Хочешь, подарю тебе все свое состояние или, того лучше, частицу животворящего креста господня? Хочешь?
— Нынче вечером мое сердце не купить никакими богатствами, ни земными, ни небесными, — смеясь, отвечала Империа. — Я была бы последней из грешниц, недостойной приобщаться святых тайн, не будь у меня своих прихотей.
— Я сожгу твой дом! Ведьма! Ты приворожила меня и за то сгоришь на костре… Выслушай меня, любовь моя, моя душенька, обещаю тебе лучшее место на небесах. Ну скажи! Не хочешь? Так смерть тебе, смерть, колдунья!
— Вот как? Я убью вас, монсеньор!
Кардинал даже задохнулся от ярости.
— Да вы безумны, — сказала Империа. — Ступайте прочь, вы последних сил лишитесь.
— Погоди, вот буду папою, ты за все заплатишь.
— Все равно и тогда из моей воли не выйдешь!
— Скажи, чем могу я угодить тебе сегодня?
— Уйди.
Она вскочила, проворная, словно трясогузка, порхнула в свою спальню и заперлась на замок, предоставив кардиналу бушевать одному, так что пришлось ему в конце концов удалиться. Когда же красавица Империа осталась в одиночестве перед очагом у стола, убранного к трапезе, покинутая своим юным монашком, она разорвала на себе в гневе все свои золотые цепочки.
— Клянусь всеми чертями, рогатыми и безрогими, раз этот негодный мальчишка побудил меня задать кардиналу подобную трепку, за что меня завтра могут отравить, а сам мне никакого удовольствия не доставил, клянусь, я не умру прежде, чем не узрю своими глазами, как с него живого шкуру будут сдирать. Ах, сколь я несчастна! — горько плакалась она, на сей раз непритворными слезами. — Лишь краткие часы радости урываю я то здесь, то там и должна оплачивать их тем, что подлым ремеслом занимаюсь, да еще и душу свою гублю!
Так Империа горестные пени свои изливала, словно телок, ревущий под ножом мясника, и вдруг увидела она в венецианском зеркале румяное лицо монашка, который ловко проскользнул в комнату и тихонько встал за ее спиной. И тогда воскликнула она:
— Ты самый распрекрасный из монахов, самый миленький монашек на свете, который когда-либо монашничал, монашился, монашулил в сем священном любвеобильном городе Констанце! Поди ко мне, мой любезный друг, любимый мой сынок, яблочко мое, услада моя райская! Хочу выпить влагу очей твоих, съесть тебя хочу, убить любовью. О мой цветущий, благоуханный мой, лучезарный бог! Тебя, простого монаха, я сделаю королем, императором, папой римским, и будешь ты счастливее их всех! Твори тогда твою волю, рази мечом, пали огнем! Я твоя, и докажу тебе это, ибо станешь ты вскорости кардиналом, хоть бы пришлось мне отдать всю кровь сердца, чтобы в алый цвет окрасить твою черную шапочку!..
Дрожащими руками наполнила она греческим вином золотую чашу, принесенную толстяком епископом Куарским, и поднесла, счастливая, своему дружку; желая услужить ему, опустилась она перед ним на колени, она, чью туфельку принцы находили куда слаще для уст своих, чем папскую туфлю.
Но туренец молча смотрел на красавицу взором, столь алчущим любви, что она сказала ему, трепеща от блаженства:
— Ни слова, милый. Приступим к ужину!
Примечания
1
На случай внезапной смерти (лат.).
(обратно)

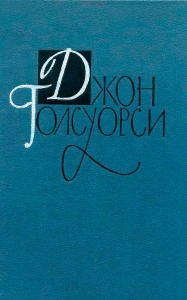
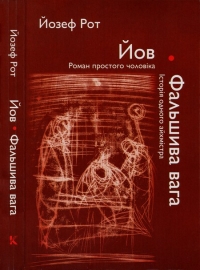
Комментарии к книге «Красавица Империа», Оноре де Бальзак
Всего 0 комментариев