Хулио Кортасар Конец игры
Мы с Летисией[1] и Оландой в жаркие дни ходили играть к Аргентинской железной дороге, дождавшись, когда мама и тетя Руфь лягут отдохнуть после обеда, чтобы улизнуть через белую дверь. Мама и тетя Руфь всегда очень уставали от мытья посуды, особенно когда вытирали ее мы с Оландой: то и дело вспыхивали ссоры, падали ложки, раздавались колкости, понятные только нам четверым; атмосфера накалялась, а тут еще запах пригоревшего масла, истошные вопли Хосе, потемки в кухне, — в общем, все кончалось отчаянной перепалкой и всеобщим разладом.
Оланда — вот кто мастерски раздувал вражду: например, уронит только что вымытый стакан в котел с грязной водой или вдруг вспомнит, как бы между прочим, что у этих Лоса для всякой черной работы держат двух служанок. Я действовала иначе, предпочитая время от времени намекать тете Руфи, что у нее очень скоро огрубеют руки, если она будет продолжать чистить кастрюли, вместо того чтобы заняться рюмками и тарелками, которые любила мыть мама, и тем легко сеяла в обеих глухое недовольство друг другом. А самым последним средством, когда нас уж совсем донимали нравоучениями и семейными преданиями, было плеснуть кипятком на кота. Насчет того, что ошпаренный кот и от холодной воды шарахается — все это сказки. То есть от холодной — может быть, а от горячей — никогда. Казалось, он, наоборот, напрашивается, так и ждет, дурачок, чтобы на него опрокинули полчашки водички градусов под сто или чуть холоднее, наверно, все же холоднее, потому что шерсть у него потом никогда не вылезала. А Троя между тем уже вовсю пылала, и в суматохе, венчаемой великолепным си-бемоль тети Руфи и мамиными метаниями в поисках палки для наказаний, Оланда и я успевали затеряться в крытой галерее и улизнуть в одну из дальних комнат, где нас поджидала Летисия за чтением Понсона дю Террайля[2] — мы никогда не понимали, что она в нем нашла. Обычно мама какое-то время нас преследовала, но желание размозжить нам головы проходило у нее очень быстро, и в конце концов (мы подпирали чем-нибудь дверь и умоляли о прощении театральными голосами) она уставала и уходила, перед уходом всякий раз повторяя одну и ту же фразу:
— Рано или поздно окажетесь на улице, паршивки!
Пока что мы оказывались на железнодорожных путях, но не раньше, чем когда весь дом затихал, и даже кот, растянувшись под лимонным деревом, наслаждался сиестой, благоухающей и гудящей осами. Мы тихонько открывали белую дверь, и, закрывая ее снаружи, чувствовали какое-то волшебное дуновение, порыв ветра, — это свобода овладевала нашими руками, ногами, телами и увлекала нас вперед. И мы неслись, стараясь набрать скорость, чтобы с разбегу запрыгнуть на короткую железнодорожную насыпь, откуда, высоко вознесшись над миром, молча обозревали свои владения.
Владения наши простирались до крутого поворота железной дороги, ее изгиб подходил как раз к нашему дому. Ничего особенно ценного: спящие в доме, рельсы в два ряда; чахлая, убогая трава, а в ней — битые камни. Слюда, кварц и полевой шпат — породы, входящие в состав гранита, — сверкают на солнце в два часа дня, как настоящие бриллианты. Когда мы наклонялись потрогать рельсы (мы торопились, ведь долго оставаться здесь было небезопасно, даже не из-за поездов, а потому что домашние могли увидеть), нас обдавал жар от камней, а когда выпрямлялись — влажный, горячий ветер с реки, обжигавший щеки и уши. Нам нравилось сгибать ноги в коленях, приседать, и снова вставать, и опять приседать, переходя из одногослоя жары в другой, проверяя, в котором из них больше потеешь. Мыпроделывали это, пока не взмокнем. И все — молча, глядя то на рельсы, то впротивоположную сторону, на реку, на кусочек реки цвета кофе с молоком.
Обозрев наше королевство, мы спускались с насыпи, чтобы укрыться в скудной тени ив, лепившихся к нашей изгороди, оттуда была видна та самая белая дверь. Здесь находилась столица нашего государства, сказочный город, сердце нашей игры. Игру придумала Летисия, самая везучая из нас троих. У нее было много привилегий. Летисию не заставляли вытирать тарелки, заправлять постель, она могла целыми днями читать или наклеивать картинки, а вечером ей разрешали посидеть подольше, стоило только попросить, я уже не говорю о собственной комнате, крепком бульоне и прочих поблажках. Мало-помалу она научилась пользоваться своим особым положением, и с прошлого лета верховодила в нашей игре, точнее, управляла королевством; по крайней мере, мы с Оландой безропотно принимали все, что она говорила, и повиновались почти с удовольствием. Возможно, возымели действие долгие наставления, которые читала нам мама о том, как надо вести себя с Летисией, а может быть, мы просто любили ее и поэтому нас не раздражало, что она главная.
Жаль только, внешность у нее была совсем не внушительная: самая низкорослая из всех троих и такая тощая! Оланда тоже была худая, да и я никогда больше пятидесяти килограммов не весила, но худоба Летисии сразу бросалась в глаза, стоило только взглянуть на ее шею и уши. Может быть, она казалась такой худющей из-за негнущегося, окостеневшего позвоночника; она даже голову повернуть не могла, и напоминала гладильную доску, поставленную стоймя, знаете, такую, как у этих Лоса, обшитую белой материей. Самая настоящая гладильная доска, прислоненная к стене, широким концом вверх. Но это не мешало ей быть у нас главной.
Самым большим удовольствием для меня было представлять, что будет, если мама и тетя Руфь узнают о нашей игре. Ну и скандал разразился бы! И си-бемоль, и обмороки, и сетования на нашу неблагодарность, и это за их-то преданность и самопожертвование, и призывы самых ужасных небесных кар на наши головы, самых страшных наказаний, которым надлежало претворить наконец в жизнь написанное нам на роду, а на роду, как известно, нам было написано «оказаться на улице». Вот это всегда ставило нас в тупик: ведь на улице мы оказывались каждый день и там было не так уж и плохо.
Первым делом Летисия заставляла нас тянуть жребий. Мы либо угадывали, в каком кулаке камушек, либо считались до двадцати одного, в общем, разные имелись способы. Когда считались, то для удобства принимали в игру еще двух-трех воображаемых девочек, чтобы все было по-честному. Если одна из них оказывалась двадцать первой, она выбывала, и мы считались снова, пока двадцать первой не становилась одна из нас. Тогда мы с Оландой отодвигали большой камень, под которым хранили коробку с нарядами. Если, например, при жеребьевке везло Оланде, то наряд ей выбирали мы с Летисией. Правила игры предусматривали «Статуи» и «Фигуры». Для фигур нарядов не требовалось, зато нужны были артистизм и выразительность. Чтобы показать Зависть, надо было скалить зубы, до хруста заламывать руки или судорожно стискивать их, как будто у тебя желтая лихорадка. Для Милосердия самое лучшее — сделать ангельское лицо, глаза возвести к небу и протягивать какую-нибудь тряпку, мяч или ивовую ветвь воображаемому сиротке. Стыд и Страх показывать очень легко; Злость же и Ревность требуют более тщательной подготовки. Наряды предназначались почти исключительно для статуй, — тут было больше простора творчеству. Чтобы статуя получилась, требовалось тщательно продумать каждую деталь костюма.
Правила игры запрещали самой участнице выбирать себе наряд. Ей приходилось ваять свою статую из того, что предложат другие, это делало игру сложнее, но и увлекательнее. Например, иногда двое из нас сговаривались против третьей, несчастную наряжали в то, что ей и даром было не надо; и тогда только от ее изобретательности зависело, удастся ли ей сотворить хорошую статую. С фигурами все мы обычно оказывалась на высоте, а вот со статуями случались полные провалы.
То, о чем я рассказываю, длилось уже Бог знает сколько, и вдруг все изменилось в тот день, когда из окна проходившего поезда нам под ноги упала первая записка. Естественно, все эти статуи и фигуры предназначались не только и не столько для нас самих — нам бы это быстро надоело. По правилам вытянувшей жребий полагалось выйти из тени ив, встать у железнодорожной насыпи и дожидаться поезда, который ровно в два часа восемь минут проходил мимо нас из Тигре[3]. На нашем отрезке, в Палермо, поезда ходят довольно быстро, так что мы не стеснялись демонстрировать наши статуи и фигуры. Мы не успевали разглядеть людей в окнах, но со временем все же научились кое-что различать и знали, что пассажиры ждут нашего появления. Один седой сеньор в очках с черепаховой оправой высовывался из окна и махал очередной статуе или фигуре платочком. Мальчишки, которые возвращались из колледжа, сидели на подножках и что-то весело нам кричали. Но были и такие, кто молчал и смотрел на нас серьезно, без улыбки. Сама-то статуя или фигура ничего не видела, все ее силы уходили на то, чтобы сохранять неподвижность, зато остальные двое, спрятавшись под ивами, подробно обсуждали реакцию зрителей: успех или безразличие. Записку бросили в марте из окна второго вагона. Она упала совсем рядом с Оландой, изображавшей в тот день Злословие, а потом ее отнесло ко мне. Листок бумаги, сложенный в несколько раз и привязанный к гайке. Мужским довольно корявым почерком было написано: «Статуи очень красивые. Я во втором вагоне, третье окно. Ариэль Б.[4]».
Послание показалось нам суховатым — стоило ради такого возиться, привязывать письмо к гайке, кидать… И все-таки мы были очарованы. Бросили жребий, кому играть следующей, и выпало мне. На другой день никто играть не желал — всем хотелось посмотреть на Ариэля Б., но мы испугались, что он неправильно истолкует перерыв в игре, поэтому опять бросили жребий, и на сей раз выпало Летисии. Мы с Оландой порадовались за нее, потому что Летисии, бедняжке, статуи удавались как никому другому. Ее частичный паралич оставался незаметным, пока она не двигалась, и к тому же она умела сообщать своим жестам такое благородство! Когда ей доставались фигуры, она, как правило, выбирала Щедрость, Набожность, Самопожертвование или Самоотречение. А что касается статуй, тут она старалась походить на Венеру из нашей гостиной, которую тетя Руфь упорно именовала Венерой Милосской. Мы уж постарались выбрать для Летисии наряд, который не оставил бы Ариэля равнодушным. Из куска зеленого бархата смастерили ей подобие туники, а на голову водрузили венок из ивовых ветвей. Мы носили платья с короткими рукавами, так что все выглядело очень даже по-гречески. Летисия немного порепетировала в тени, а мы с Оландой решили, что тоже покажемся и поздороваемся с Ариэлем — любезно, но с достоинством.
Летисия была просто великолепна: она не шелохнулась, пока проходил поезд. Так как повернуть голову Летисия не могла, она ее запрокинула, а руки опустила и прижала к телу, как будто их вовсе не было, о зеленой тунике я уже не говорю. В общем, вылитая Венера Милосская! В третьем окне мы разглядели белокурого молодого человека со светлыми глазами. Он широко улыбнулся, заметив, что мы с Оландой ему машем. Миг — и поезд умчал его, но даже в половине пятого мы все еще обсуждали, в темном он был или в светлом, какого цвета у него галстук, симпатичный он или, наоборот, неприятный. В четверг, когда я показывала Уныние, подоспела еще одна записка: «Все трое мне очень нравятся. Ариэль Б.». На этот раз он высунул голову и руку в окно и весело помахал нам. Мы сошлись на том, что ему лет восемнадцать (будучи уверены, что на самом деле — не больше шестнадцати), и решили, что он ежедневно возвращается этим поездом из своего английского колледжа. В том, что это именно английский колледж, мы не сомневались — не могли же мы принять в игру Бог знает кого. Ариэль подходил по всем статьям.
Оланде невероятно везло: она выигрывала три дня подряд и превзошла себя в фигурах Разочарования и Корысти, а также в труднейшей для исполнения статуе Балерины, простояв на одной ноге с того самого момента, как поезд начал к нам заворачивать. На следующий день выиграла я, а потом еще раз. Очередная записка Ариэля чуть не угодила мне в лоб, когда я показывала Ужас. Сначала мы ничего не поняли: «Красивее всех самая неподвижная». Летисия сообразила последней, покраснела и отошла в сторону, а мы с Оландой возмущенно переглянулись. Сначала мы с ней сгоряча решили, что Ариэль просто идиот, но ведь такого не скажешь вслух, в присутствии Летисии, при ее-то чувствительности. Она, бедная, и так несет тяжелый крест. Сама она не проронила ни слова, но, видимо, поняла, что записка по праву принадлежит ей, и сохранила ее. В тот день мы вернулись домой необычно молчаливые и вечером вместе не играли. За столом Летисия была очень весела, у нее радостно блестели глаза, и мама то и дело обменивалась многозначительными взглядами с тетей, словно бы призывая ее в свидетели. Дело в том, что как раз накануне Летисии назначили какое-то новое лечение. Видимо, оно-то и подействовало на нее таким чудесным образом.
Перед сном мы с Оландой все обсудили. Вовсе не записка Ариэля нас возмутила. В конце концов, мало ли как все выглядит из окна движущегося поезда. Но нам показалось, что Летисия несколько злоупотребляет своим особым положением. Она ведь прекрасно понимает, что ей мы никогда ничего не скажем, знала, что в доме, где есть человек с физическим недостатком, да еще гордый, все, и сам больной в первую очередь, ведут себя так, как будто знать не знают ни о каком изъяне, или, вернее, каждый делает вид, что не знает, что другие тоже знают. Но все хорошо в меру, а поведение Летисии за столом и то, как она хранила эту несчастную записку, — это уже чересчур. Той ночью мне опять снились железнодорожные кошмары: как будто я иду утром по огромному полю, многократно пересеченному рельсами, и вижу вдалеке приближающиеся огни локомотивов. Я в ужасе гадаю, пройдет ли поезд слева или справа от меня, а сзади между тем надвигается скорый, но самое ужасное, что какой-нибудь из поездов может в последний момент свернуть на другой путь и задавить меня. Но утром я мгновенно забыла о своем сне, потому что Летисия проснулась совсем больная и даже одеться сама была не в состоянии. Нам показалось, что ей немного стыдно за вчерашнее, и мы старались быть добры к ней: сказали, что ей от того хуже, что она слишком много ходила, и, наверно, сегодня лучше остаться в своей комнате и почитать. Она в ответ молчала, но к столу вышла и на все расспросы мамы отвечала, что чувствует себя уже хорошо и спина почти не болит. При этом она неотрывно смотрела на нас с Оландой.
На сей раз жребий вытянула я, но тут Бог знает, что на меня нашло, и я уступила свое право Летисии, естественно, не объясняя почему. Что ж, если он предпочитает ее, пусть насмотрится на нее вдоволь. Сегодня выпало показывать статую, и мы выбрали для Летисии наряд попроще, чтобы не осложнять ей жизнь. Она задумала нечто вроде китайской принцессы: стыдливо потупиться и скромно, как это принято у китайских принцесс, сложить ручки. Мы с Оландой отсиживались в тени, Оланда вообще отвернулась, когда показался поезд, но я-то смотрела и поняла, что Ариэль никого, кроме Летисии, не видит. Он не спускал с нее глаз до тех пор, пока поезд не скрылся за поворотом, а Летисия все продолжала стоять неподвижно и не знала, как Ариэль на нее только что смотрел. Правда, когда она наконец отступила в тень отдохнуть, мы поняли, что нет, все-таки знала и что ей очень хотелось бы ходить в этом наряде весь день, до вечера.
В среду тянули жребий только мы с Оландой, потому что Летисия сказала, что, по справедливости, она должна на сегодня выйти из игры. Выиграла Оланда — вечно ей везет, — но очередное послание Ариэля упало около меня. Первым моим побуждением было отдать его Летисии, которая молча стояла рядом, но потом я подумала, что нельзя же потакать ей во всем, и медленно развернула сложенный листок. Ариэль сообщал, что завтра сойдет на ближайшей станции и по насыпи доберется к нам — поболтать. Почерк был ужасный, но последняя фраза показалась нам прелестной: «Сердечный привет трем статуям». Подпись — какая-то закорючка, но в ней проступал характер писавшего.
Пока мы снимали с Оланды ее наряд, Летисия несколько раз бросала на меня испытующие взгляды. Я просто прочитала им записку, и никто из них ни слова не проронил. Их молчание меня раздражало: в конце концов, Ариэль завтра придет, надо же все обсудить и решить, как себя вести. Если узнают дома или кому-нибудь из этих Лоса придет охота шпионить, а ведь они так завистливы, эти коротышки, тогда уж точно быть скандалу. Да и вообще, вот так молчать, перебирая наряды, было очень неуютно. Мы и домой вернулись молча, через все ту же белую дверь. Тетя Руфь попросила нас с Оландой выкупать Хосе, кота, а сама увела Летисию — новое лечение. Наконец-то мы дали себе волю. Завтрашний визит Ариэля казался чудом, у нас никогда еще не было друзей-мальчиков, кузен Тито не в счет — малявка, до сих пор играет в солдатики и верит в первое причастие. Мы очень нервничали, и бедняжке Хосе пришлось туго. Оланда, будучи посмелее, наконец заговорила о Летисии. Я совершенно растерялась: с одной стороны, будет ужасно, если Ариэль узнает, но, с другой стороны, лучше бы все раскрылось, потому что это неправильно — обременять других своими бедами. Главное, как бы устроить так, чтобы Летисия не страдала, ей и так несладко, да еще это новое лечение, будь оно неладно.
Вечером мама удивилась, что мы такие тихие, вот чудеса, мыши вам, чтоли, языки отгрызли, потом они с тетей переглянулись, и обе решили, что мы натворили что-нибудь и теперь нас мучает совесть. Летисия ела очень мало, сказала, что плохо себя чувствует, и ушла к себе читать «Рокамболя». Она нехотя разрешила Оланде проводить ее, а я взялась за вязанье, это меня всегда успокаивает. Дважды я порывалась пойти к Летисии, все не могла понять, что они там застряли, но вот Оланда вернулась, с весьма значительным видом уселась рядом со мной и просидела молча, пока мама и тетя Руфь не встали из-за стола. «Она не пойдет. Написала письмо, но сказала, чтобы мы отдали его, только если он несколько раз о ней спросит». Оттопырив карман блузки, она показала мне сиреневый конверт. Потом нас позвали вытирать тарелки. В ту ночь мы уснули сразу, утомленные переживаниями и купанием Хосе.
На следующее утро меня послали на рынок за покупками и Летисию я не видела. Она не покидала своей комнаты. Перед тем как нас позвали к столу, я зашла к ней на минутку. Она сидела у окна, обложенная подушками, с девятым томом «Рокамболя». Выглядела она неважно, но, через силу смеясь, стала плести мне что-то о пчеле, которая залетела в комнату, а наружу — никак, а потом еще о том, какой смешной сон ей приснился… Я тоже что-то мямлила, мол, как жаль, что она не сможет пойти с нами, но с каким трудом давалось мне каждое слово! «Если хочешь, мы объясним Ариэлю, что ты приболела», — предложила я, но она отрицательно покачала головой и снова замолчала. Я еще уговаривала ее пойти, но недолго, потом собралась с духом и заявила, что бояться ей нечего, потому что настоящему чувству не страшны никакие препятствия, и прибавила еще несколько ценных мыслей, вычитанных нами в «Сокровищнице Юности». Изрекать прописные истины становилось все труднее, потому что Летисия отвернулась к окну и, казалось, вот-вот расплачется. В конце концов я соврала, что меня ждет мама. Завтрак длился целую вечность, и Оланда схлопотала от тети подзатыльник за пролитый на скатерть соус. Как мы вытирали посуду — я уже не помню. Я помню все с того момента, когда мы наконец оказались под ивами и, счастливые, обнялись, не чувствуя ни тени ревности друг к другу. Оланда все наставляла меня, что говорить о нашей учебе, чтобы у Ариэля сложилось хорошее впечатление, ведь мальчики постарше обычно презирают младших девчонок, которые только и занимаются что кройкой и шитьем да кулинарией. Промчавшись мимо нас в два часа восемь минут, Ариэль успел радостно помахать нам обеими руками, а мы ему — платочками из набивной ткани. Минут через двадцать мы увидели, как он идет по насыпи. Он оказался выше, чем мы думали, и был в сером. Я сейчас уже не припомню, о чем мы сначала говорили. Он держался довольно робко, даром что бросал нам записки и теперь пришел познакомиться. Вел себя очень сдержанно и осторожно. Сначала еще раз похвалил наши статуи и фигуры, потом спросил, как нас зовут и где же третья. Оланда сказала, что Летисия не смогла прийти. Он ответил, что очень жалко, и еще, что Летисия — чудесное имя. Потом рассказал нам о своем промышленном училище, которым, к несчастью, оказался пресловутый английский колледж, и спросил, нельзя ли взглянуть на наши наряды. Оланда отодвинула камень, и мы ему все показали. Похоже, наряды его очень заинтересовали, то и дело он брал в руки какую-нибудь вещь и говорил: «Вот это однажды надевала Летисия» или: «Вот в этом была восточная статуя», вероятно, имея в виду китайскую принцессу. Мы втроем сидели под ивами, Ариэль казался довольным, но несколько рассеянным. Видно было, что он не уходит только из вежливости. Когда разговор замирал, Оланда кидала на меня многозначительные взгляды, и нам обеим становилось очень неловко: то ли нам поскорее уйти, то ли пусть бы он ушел, а еще лучше — и вообще не приходил. И снова он спросил, не заболела ли Летисия, и снова Оланда посмотрела на меня и еще раз повторила, что Летисия просто не смогла прийти. Мне-то казалось, что давно пора сказать ему… Ариэль чертил веткой в пыли какие-то геометрические фигуры, время от времени посматривал на белую дверь, и мы догадывались, что у него на уме. Так что Оланда поступила совершенно правильно, достав наконец сиреневый конверт. Он застыл от удивления с конвертом в руке, потом сильно покраснел. Так и стоял, пока мы не объяснили, что письмо — от Летисии. Тогда он положил его во внутренний карман сумки — при нас читать не захотел. После этого почти сразу засобирался, сказал, что был очень рад с нами познакомиться, но пожал наши руки как-то вяло и неприветливо, так что уж лучше было поскорее распрощаться, хотя мы потом еще долго ни о чем думать не могли, кроме как о его серых глазах и печальной улыбке. Еще мы запомнили, как он, уходя, сказал: «Простите и прощайте», дома мы такого никогда не слышали, формула показалась нам такой поэтичной, просто божественной. Все это мы передали Летисии, которая ждала во дворике, под лимонным деревом. Так хотелось спросить ее, что же было в письме, но ведь зачем-то она запечатала конверт, прежде чем отдать его Оланде! Так что я удержалась. Мы только рассказали ей, какой Ариэль из себя и сколько раз он о ней спросил. Нам было очень нелегко поддерживать разговор: мы чувствовали, что все складывается и хорошо, и плохо, что Летисия очень счастлива, и в то же время готова расплакаться. В конце концов мы ей наврали, что нас давно ждет тетя Руфь, и оставили Летисию смотреть на пчел, вьющихся вокруг лимонного дерева.
Перед сном Оланда сказала мне: «Вот увидишь: завтра игре конец». Но она ошиблась, хотя и не намного. На следующий день за десертом Летисия подала нам условный знак. Мы пошли мыть посуду, удивленные и даже слегка раздосадованные: совсем стыд потеряла! К тому же она ведь так плохо себя чувствует! Летисия ждала нас у двери, мы чуть не умерли со страха, когда, уже под ивами, она достала из кармана мамино жемчужное ожерелье и все кольца, что были в доме, даже то большое, с рубином, тетино. Если не дай Бог эти Лоса шпионят за нами и увидят у нас драгоценности, мама тут же все узнает и просто убьет нас. Мерзкие коротышки! Но храбрая Летисия успокоила нас, мол, если что, она все берет на себя. «Можно, сегодня я?» — спросила она, глядя в сторону. Мы не медля достали наряды. Нам вдруг захотелось быть очень добрыми к Летисии, исполнять все, что она ни пожелает. Правда, в глубине души мы все еще немного злились. Сегодня выпало изображать статую, и мы выбрали для Летисии чудесный наряд. Он прекрасно гармонировал с украшениями: павлиньи перья — в прическу, мех, который издали мог сойти за чернобурку, розовый легкий шарф — она повязала его на манер тюрбана. Летисия долго, не двигаясь, обдумывала статую. Когда поезд наконец появился из-за поворота, она уже стояла у насыпи, и драгоценности сверкали на солнце. Она подняла руки, как будто вместо статуи собралась изобразить фигуру. Воздев руки к небу, она запрокинула голову (единственное, что было доступно бедняжке), и так вся изогнулась, что мы даже испугались за нее. Получилось чудесно! Никогда еще ей не удавалась такая величественная статуя. И тут мы увидели Ариэля: он смотрел на нее, едва не выпадая из окна. Он глаз с нее не сводил, именно с нее, нас он не видел, он медленно поворачивал голову, смотрел и смотрел, пока поезд его не умчал. Мы обе почему-то сразу кинулись к Летисии — поддержать ее. А она так и стояла, с закрытыми глазами, и крупные слезы стекали по ее щекам. Она было отстранила нас, и все же ей пришлось позволить нам снять с нее драгоценности. Она спрятала их в карман и одна пошла к дому, а мы сложили наряды в коробку в последний раз. Обе мы уже знали, что будет дальше, и все же на следующий день пришли под ивы. Тетя Руфь велела нам соблюдать полную тишину: Летисии нездоровится, ей нужно спать. Мы совсем не удивились, увидев третье окно пустым. Мы улыбнулись, испытав одновременно и гнев, и облегчение. Каждая из нас представила себе, как Ариэль спокойно сидит на скамейке с другой стороны вагона и внимательно смотрит на реку.
(обратно)Примечания
1
Летисия — так звали и мать Наполеона.
(обратно)2
Понсон дю Террайль Пьер Алексис (1829—1871) — французский писатель, автор многочисленных романов о Рокамболе.
(обратно)3
Тигре — северный пригород Буэнос-Айреса.
(обратно)4
Ариэль. — Имя кортасаровского персонажа отсылает и к «Буре» Шекспира, и к творчеству Шелли, и к философской работе Родо «Ариэль».
(обратно)

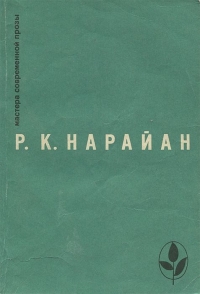
Комментарии к книге «Конец игры», Хулио Кортасар
Всего 0 комментариев