Тадеуш Доленга-Мостович Дневник пани Ганки (Дневник любви)
ПРЕДИСЛОВИЕ
Как на мой взгляд, дневник пани Ганки Реновицкой вполне достоин опубликования — хотя бы как документ, отображающий образ жизни и мышления современной культурной женщины, а также ее среды. В наше время, когда читатели знакомятся с сотнями томов всяческих биографий, автобиографий и автобиографических повестей, я не вижу оснований, почему бы им не ознакомиться и с дневником женщины из высшего света, относящейся к тем «десяти тысячам», которые задают тон и определяют характер эпохи в нашей стране. Считаю, что документ этот не менее интересен, и что как вероятное дополнение к другим литературным источникам он может пригодиться будущему исследователю обычаев первой половины двадцатого века. Отдавая дневник п. Реновицкой в руки читателя, хочу заметить, что едва ли не самое большое достоинство этого произведения — это удивления достойная искренность его автора, искренность, которой не смог достичь даже такой большой мемуарист, как — Tout рrороrtіоn gаrdее — Жан-Жак Руссо (Придерживаясь всех пропорций (франц.)). Разумеется, п. Реновицкая не открывает нам своей настоящей фамилии, но этот псевдоним вряд ли способен скрыть ее лицо от пытливого читателя. Она ведь хорошо известна в определенных кругах, и там ее, несомненно, узнают, особенно если учесть, что люди и события, описанные в дневнике, ни для кого не представляют тайны.
Выполнив, таким образом, свой долг посредника, предоставляю слово п. Реновицкой.
Т. Д.-М.
МОЙ ДНЕВНИК
Боже мой! Есть ли среди нас, женщин, хоть одна, которая не была бы уверена, что ее личные переживания, мысли и чувства настолько оригинальны и интересны, что их следует записать и напечатать отдельной книгой. Ведь это настоящее счастье — рассказать всем людям на свете о своих тайнах, растрогать сердца, почувствовать искренний отклик тысяч душ, живущих одними мыслями с тобой! Да еще и сознание того, что твои признания могут пригодиться многим другим женщинам, которые оказались в таком же затруднительном положении, и ты поможешь им, поделившись своим опытом как выйти из него с победой…
То, о чем я хочу рассказать, началось в первые дни января, сразу же после Нового года. Как сейчас помню, это был …
Вторник
С самого утра мою душу одолевали плохие предчувствия. Кажется, я еще сказала об этом Туле, когда мы встретились в полдень в «Симе». Я даже не заметила, что вышла из квартиры в вуальке, которая совсем не подходила моей шляпке. Яцек не прислал мне машину, и я должна была ездить по своим делам на такси. Когда вернулась домой, было уже около четырех. Я не сомневалась, что Яцек пообедал без меня, и, собственно, поэтому зашла в его кабинет, чтобы немного отомстить ему за это. В последнее время, а точнее где-то после Рождества, он стал не такой внимательный и деликатный в обращении со мной, как прежде. Казалось, что-то его беспокоит.
Яцека в кабинете не было, его домашняя куртка лежала на диване. Следовательно, он еще не обедал, поскольку задержался в министерстве.
Я как раз подумала об этом, когда мой взгляд остановился на письменном столе: там лежала неразобранная дневная почта. Я машинально принялась ее просматривать.
Прошу мне поверить, что я никогда не читаю писем мужа, особенно с тех пор, как однажды у меня разорвался конверт, да так неудачно, что Яцек это заметил. Он не произнес ни слова, но мне стало очень неловко. Ведь он мог подумать, что я слежу за ним, что подозреваю его в измене и вообще способна на любые пакости.
Однако на этот раз я решила нарушить свои принципы. Теперь благословляю это решение, как оказалось, я поступила правильно.
Это было письмо в длинном, элегантном конверте, надписанном красивым круглым почерком. На марке — варшавский штемпель. Если бы даже конверт не пах дорогими духами, я все равно догадалась бы, что это письмо от женщины…
Вообще то, я в жизни никогда не ревновала и пренебрегаю этим чувством. Однако мой здравый смысл не мог не почувствовать опасности, которую подсказала мне неизменная интуиция. Отбросив всякую осторожность, я расклеила конверт. Письмо было короткое. Вот оно:
«Мой любимый!
Я внимательно ознакомилась с твоими доводами. Возможно, они и убедили бы меня, если бы к этому не примешивались чувства. Ведь я до сих пор не могу тебя забыть, потому и приехала сюда, потому и искала тебя.
Скандала я также не хочу. Мне не нужно, чтобы ты оказался за решеткой. Но вместе с тем не имею ни намерения, ни малейшего желания отказаться от своего мужа.
Может, я поступила не очень хорошо, что оставила тебя даже не попрощавшись, но, как писала тебе в первом письме, меня вынудили к тому чрезвычайные обстоятельства. Правда, живу я теперь под своей девичьей фамилией, но это не меняет того факта, что я твоя жена и что ты, по сути, стал двоеженцем, вступив брак со своей нынешней подругой. Это слишком серьезный вопрос, чтобы обсуждать его в письмах. Поэтому прошу, зайди ко мне в отель. Я буду ждать тебя завтра утром, от 11-ти до 12-ти.
Всегда, а по крайней мере вновь, твоя Б.».
Я перечитала это письмо много раз. Надо ли говорить, как оно меня поразило, напугало, ошеломило. На третьем году супружеской жизни узнать, что твой муж — совсем не твой муж, а ты вовсе не его жена, человек, с которым ты живешь под одной крышей, может каждую минуту оказаться в тюрьме, что от прихоти какой-то бабы может зависеть твоя жизнь, твоя репутация, твое общественное положение!.. Ужас, да и только!..
Прошло немало времени, прежде чем я немного пришла в себя и смогла тщательно заклеить конверт. Не могла сообразить, что мне дальше делать. Сначала хотела ехать и искать Яцека, чтобы требовать от него объяснений; затем пришла мысль собрать вещи и отправиться к своим, оставив все остальное на отца; в конце концов, я позвонила маме, но, к счастью, не сказала ей ни слова о своем зловещем открытии.
Увы, какой же одинокой я ощущала себя! Не было никого, перед кем могла бы выплакаться, с кем бы могла посоветоваться. Ни одна из моих подруг не умела держать язык за зубами, и на другой день по всей Варшаве поползли бы слухи. Оставался один Тото.
Конечно, я могла довериться ему безоговорочно. Он настоящий джентльмен. Но чем бы он мог помочь? К тому же он столько раз говорил мне, что мы не должны обременять друг друга нашими заботами. Пожалуй, это немного эгоистично с его стороны, но вполне справедливо. Нет, не скажу ему ни слова. Да и, наконец, я сгорела бы от стыда. Из моих старых добрых друзей, которые могли бы мне помочь, в Варшаве тоже никого не было. Марысь Валентинович подался рисовать и охотиться чуть ли не в Канаду. Ежи Залевский скучал в Женеве, д'Омервиль именно сейчас уехал в отпуск, а Доленга-Мостович жил в какой-то деревне.
Я рад, что п. Реновицкая причислила меня к своим старым приятелям. Однако во избежание каких-либо недоразумений и предположений, которые могли бы прийти в голову читателям, отмечу, что наша дружба, хотя она действительно старая, — с тех пор, как пани Ганка едва только окончила гимназию, — всегда носила характер, так сказать, братский. В январе 1938 года я действительно проводил время в деревне и о несчастье, которое постигло супругов Реновицких, узнал позднее. (Примечание Т. Д.-М.)
Понятно, что на прием к Дубенским я не пошла, хоть мне и прислали новое платье, которое мне очень шло. Надо его только немного укоротить, на каких-то пол пальца. Боже!.. Это было бы первое в Варшаве парижское платье в этом сезоне. А уже в пятницу дамы из французского посольства покажутся в новых нарядах. В последнее время меня преследуют неудачи.
В конце концов я решила ничего не делать и ждать, пока вернется Яцек. Не знала еще даже, потребую ли от него объяснений. Было бы неплохо, если бы он сам обо всем рассказал. Ведь он всегда был со мной откровенным. И вообще у меня никогда не было причины в чем-либо его упрекнуть. Поженились мы по любви, и уверена, что он до сих пор меня любит. Правда, мама говорит, что Яцек мной пренебрегает, но его положение непременно требует постоянных вызовов, заседаний и командировок. Я знаю, что он каждую минуту помнит обо мне и не теряет ни малейшей возможности это доказать. Клянусь, что у него нет никакой любовницы и он не предает меня. И вдруг узнаю: мой Яцек имел до меня еще одну жену!
После этих размышлений я пришла к выводу, что здесь должна быть какая-то тайна или хотя бы чья-то недобрая шутка. Яцек, такой солидный, такой рассудительный, такой принципиальный — и двоеженец! Невероятно! Под влиянием таких мыслей я немного успокоилась. Возможно, автор того письма — просто сумасшедшая или шантажистка. Наконец, когда бы Яцек успел на ней жениться? Ведь дядя забрал его с собой за границу сразу же после школы, и в течение четырех лет обучения в Оксфорде Яцек ни разу не был на родине. А автор письма — отнюдь не иностранка, так как очень хорошо пишет по-польски. Так когда же?..
Чем дольше я обо всем этом размышляла, тем больше убеждалась, что тут какая-то ошибка или мистификация. Я была уверена, что вот сейчас вернется Яцек, раскроет то письмо, засмеется, пожмет плечами и скажет: «Смотри, Ганечка, какую странную вещь я получил».
Однако произошло обратное.
Яцек вернулся в восемь. Поздоровался со мной как всегда, искренне и нежно, извинился, что не приехал обедать, но, кажется, пустил мимо ушей мое замечание, что я также не обедала. Он был усталый, глаза печальные. Вскоре ушел в кабинет. Я бы с удовольствием отправилась за ним, однако понимала, что лучше подождать его здесь, в гостиной. Вышел Яцек где-то через час. Его лицо ни о чем не говорило. Сел возле меня и спокойно, коснулся моей руки. Изображая полную безмятежность, я спросила:
— Письма уже прочитал?
— Да, — кивнул он головой. — Ничего важного. Людка через неделю едет в Алжир, а посол передает тебе привет.
Сердце сжалось у меня в груди. Стараясь держать себя в руках, чтобы не дрогнул голос, я заметила:
— А мне показалось, что ты получил какое-то неприятное известие и оно тебя огорчило.
Я пристально посмотрела Яцеку в глаза, а он улыбнулся с таким искренним удивлением, что я даже себе не поверила. Недаром ведь говорят, что Яцек прирожденный дипломат. Если бы он мне изменял, то я уверена, что по его поведению никогда об этом не догадалась бы. Вот такой он скрытный.
— Как раз наоборот, — сказал он. — Известие скорее обнадеживающее. Обед в болгарском посольстве перенесен, и я могу целый вечер провести с тобой.
Тот вечер не доставил мне удовольствия, хотя Яцек пытался меня развлечь. Сознание того, что между нами стала его страшная тайна, ни на миг не покидало меня. Поддерживало только то, что я ощущала свое преимущество. Он и не подозревал, что я знаю о его первой жене. С таким козырем в руках я в любую минуту могла нанести ему неотразимый удар. По всему выходило, что Яцек ничего такого не ожидал. И я присматривалась к своему мужу, пытаясь прочесть его мысли.
Только теперь я вспомнила некоторые мелочи, которые ускользнули от моего внимания, а между тем о них стоило задуматься.
Где-то с недавних пор Яцек не то чтобы изменился — это было бы слишком, — но словно поблек. Смех его звучал приглушенно, в телефонных разговорах, с разными лицами он стал необычно сдержанный и осторожный. Вот так… А перед Новым годом, когда мой отец возмущенно рассказывал о злоупотреблениях, обнаруженных в каком-то там учреждении, и наговорил много резких слов в адрес арестованного директора Лисковского, Яцек неожиданно встал на его защиту.
Это было удивительно, потому что он всегда не любил Лисковского, а тут вдруг сказал:
— Нельзя так поверхностно судить о людях. Мы не знаем сути дела. Не знаем мотивов, которыми руководствовался этот человек. В жизни порой складываются ситуации, когда становишься их жертвой.
Он всегда был благодушным и снисходительным к другим. Но это уже слишком. Или уже тогда, защищая директора, он искал оправдание себе?..
Когда мы возвращались домой, Яцек снова вспомнил об этом разговоре и сказал:
— По-моему, напрасно твой отец не захотел защищать Лисковского в суде. Адвокату, да еще такому известному защитнику, не стоит отказывать в помощи человеку, которого постигло несчастье. Это сейчас же получит огласку в юридических кругах, и представь себе только, как это повлияет на судей. Каждый судья скажет себе: «Ну, если уж адвокат Нементовский не взял на себя защиту, значит, обвиняемый таки виноват».
Его, видимо, взволновала дело Лисковского, хотя нас оно никак не касалась, потому что мы никогда не были с ним близки.
Теперь я вспомнила и некоторые другие случаи, свидетельствовавшие об изменении его настроения. Вот хотя бы, например, радио. До сих пор Яцек не любил слушать его и включал лишь тогда, когда должен был выступать Гитлер, или Чемберлен, или какой-нибудь другой государственный деятель. Исключения делал только для концертов выдающихся музыкантов. А вот в последние дни, как только мы остаемся вдвоем, он, словно пытаясь избежать разговоров, включает любую передачу и с интересом слушает ее. И еще одно. Нельзя сказать, что он начал меня любить сильнее, но чувство его теперь стало бурным и несдержанным. Давно уже он не целовал и не обнимал меня так страстно. Все это должно было насторожить меня раньше, но только это ужасное письмо сняло с моих глаз пелену.
На что мне надеяться? С какой стороны подойти к этому делу? Я понимаю, что Яцек, вероятно, мог когда-то жениться. Судя по почерку, характеру ее письма, по бумаге, по отдельным высказываниям, эта женщина принадлежит к высшему свету. Да и, наконец, с другими женщинами Яцек просто не имел дела. Он не любил общества всевозможных «девочек», танцовщиц, актрис. Наверное, когда вступал в брак с той женщиной, думал прожить вместе всю жизнь. Что я знаю далее?.. Знаю, что она его бросила и вплоть до недавнего времени он ничего не знал о ее судьбе. Наверное, убежала с любовником, а теперь вот вернулась и шантажирует Яцека.
Так чего же она может требовать? Одно из двух: или денег, или чтобы он вернулся к ней. Если уж она смогла его разыскать, то наверняка знает и то, что мои родители люди состоятельные. Папа наверняка согласится на любые условия, лишь бы избежать скандала. Однако из письма следует, что той дрянной женщине нужен Яцек. А такого ни в коем случае нельзя допустить. Это бы меня скомпрометировало. Я присматривалась к Яцеку. И чем больше присматривалась, тем решительнее убеждалась, что не отдам его никакой другой женщине. Это потому, что люблю его и без него не представляю себе жизни. Никогда и не мечтала о лучшем муже. А какой он тактичный, какой уравновешенный, какой представительный!.. Когда заходишь с ним в какой-либо салон или ресторан, то нет женщины, которая не обратила бы на него внимания, нет человека, который не сказал себе: «С'еst quelqu'un» (Это не лишь бы кто (франц.)).
Все, абсолютно все завидуют мне. Даже Буба, выскочившая за князя, охотно поменялась бы со мной. Яцек хоть и не красавец, но есть в нем что-то от Гарри Купера. Та особая мужская прелесть. Буба, да и некоторые другие находят в нем какие-то необыкновенные способности и возможности. Ну что ж, не мне выводить их из заблуждения. В конце концов, Яцеку уже тридцать два года. Да и разве от мужа только это требуется? В любом случае, я бы не променяла Яцека на кого-то другого. Вот, например, Тото: хоть как бы ни был он богат, но кто же может выдержать его неврастению, причуды и вечное безделье. Если отнять у него деньги и графский титул, осталось бы чистейшее ничтожество. Как друг и товарищ по развлечениям — Тото очень мил, даже можно сказать незаменим, но ведь муж — это совсем другое.
Надо любой ценой выведать у Яцека кто эта женщина, но как только я раскрывала рот, чтобы что-то спросить, он опережал меня то ли ласками, то ли каким-то пустым разговором. За столом, из-за присутствия тетки Магдалены, тоже не могло быть и речи о каких-либо расспросах. На первый взгляд, Яцек был в хорошем настроении, шутил с тетей, рассказывал новые анекдоты о каких-то чиновниках, интересовался светскими сплетнями. А после кофе сказал:
— Мне нужно еще написать кое-что…
Я очень хорошо его знаю и сразу поняла, что у него на уме. Поэтому и не дала ему закончить:
— Но потом приходи сказать мне спокойной ночи. Яцек хотел как-то открутиться, но не рискнул, во-первых, потому что уже три раза подряд не желал мне спокойной ночи, а во-вторых, я сказала эти слова с таким намеком и так взмахнула ресницами, что он, как всегда, должен был покориться.
— Да, Ганечка, — шепнул Яцек, будто только об этом и мечтал.
Как же все же они беспомощны перед нами, эти мужчины! Правда, мне всего лишь двадцать три года, и, если бы кто-то сказал, что я красивая, это не стало бы для меня новостью.
В ту ночь в его любовных ласках опять было столько страсти, что я чуть не сказала: «Ты напоминаешь мне человека, который пьет больше, чем ему того хочется, но он знает, что сейчас же может оказаться в безводной пустыне».
Да, я, безусловно, люблю его. Когда он лежит так с закрытыми глазами, я пытаюсь представить себе ту, другую. Красива ли она? Молода? Похожа ли на меня? Я заметила, что Яцек охотно поглядывает на Люсю Чарноцкую, а Люся такого же типа, как я.
Неожиданно я спросила:
— А скажи, Яцек, ты любил когда-нибудь раньше?
Веки у него вздрогнули, однако он улыбнулся, не открывая глаз.
— И прежде, и теперь, и всегда буду любить.
— Ты не крути — ведь знаешь, о чем я спрашиваю. Любил ли ты другую женщину?
Яцек долго молчал, наконец ответил:
— Один раз… Давно уже… Казалось, что любил…
Сердце у меня забилось сильнее — я поняла, что он говорит о ней. Несомненно: Яцек не подозревает, что я о чем-то догадываюсь. Значит, надо ковать железо, пока горячо.
— А почему ты сказал «казалось»? — небрежно спросила снова.
— Потому что это не было настоящим чувством. Короткое головокружение и все.
— А она?..
— Что «она»?
— Она тебя любила?
Яцек надул губы и ответил:
— Возможно… Не знаю… Пожалуй, что нет.
— Вы были любовниками? — спросила я без нажима.
Муж покосился на меня.
— Оставим этот разговор. Он мне не очень приятен.
— Хорошо, — согласилась я. — Хочу только знать, ты с ней встречаешься?
— С какой бы стати? — пожал плечами он. — Я не видел ее уже много лет.
Он, как видно, не очень поверил, что я так легко оставлю эту тему, потому что посмотрел на часы и сказал, что пора спать. Встал и пошел к себе, а я до поздней ночи не могла уснуть и ломала себе голову тем, как мне действовать дальше.
Легче всего было бы поговорить с ним начистоту и сказать в глаза: «Я повела себя нечестно. Открыла письмо, адресованное тебе, и из него узнала, что ты двоеженец, что у тебя уже была жена, и ты обманул меня, выдав себя за холостяка. Поэтому я имею право требовать объяснений».
Интересно, как повел бы себя тогда Яцек? С его уязвимостью, с его гипертрофированным чувством собственного достоинства. Прежде всего, с чисто мужской логикой, он вычитал бы мне за письмо, которое я так неосмотрительно открыла. А затем, выведенный на чистую воду, скомпрометированный и униженный, возможно, и возненавидел бы меня за то, что я коварно выведала его тайну. Может, оставил бы меня и вернулся к той женщине? А то и кто знает, не пустил бы себе пулю в лоб?
Конечно, я могла бы предотвратить это, могла бы заверить его, что мои чувства к нему остались неизменны, и помочь ему дать отпор той шантажистке. Но в любом случае эта грязная история навсегда легла бы между нами черной тенью. Сама мысль о том, что я знаю о его преступлении, в конце концов вызвала бы в нем неприязнь ко мне. Ведь Яцек никогда больше не смог бы упрекнуть меня ни словом: боялся бы, что я напомню о его двоеженстве.
Нет, ни в коем случае нельзя намекать, что мне об этом что-то известно.
И только где-то под утро меня осенила счастливая мысль: дядя Альбин Нементовский — вот единственный человек, к которому можно обратиться за советом.
Среда
Боже, какой ужасный день! Яцек, конечно, пошел на свидание. Все мои ухищрения были напрасны. Когда он выходил из дома в одиннадцать, я попросила его прислать обратно машину, надеясь узнать от водителя, в каком отеле был Яцек. Но он вообще не поехал своей машиной: в окно я видела, как он сел в такси.
«Б» — это может быть первая буква как имени, так и фамилии. Я думаю, заслуживают внимания три крупных гостиницы: «Европейская», «Бристоль» и «Полония». В какой же она живет? Хоть бы знать, сколько ей лет и какая она из себя …
У дяди Альбина не было телефона, и мне пришлось ехать на Жолибож, чтоб только узнать, дома ли он. Я ждала на лестнице больше часа и очень замерзла. К тому же серьезно опасалась, чтобы кто-нибудь меня там не увидел. Родители уж точно меня хорошенько бы отчитали. В конце концов я оставила дяде свою визитную карточку и на ней написала, что приеду еще раз в шесть.
Яцек пришел обедать очень нервный. Я заметила, что он пытается сделать вид, будто ест с аппетитом. Мне даже плакать хотелось. А после обеда вдруг сказал:
— Сегодня вечером уезжаю в Париж.
Я онемела. Ведь это могло означать что-то очень плохое. Он, наверное, заметил, что я побледнела, потому что быстро добавил:
— Еду всего на три дня.
— Это обязательно? — спросила я. — Обязательно должен ехать именно сейчас?
Он притворно удивился.
— Как это — «именно сейчас»?
Я немного смутилась.
— Да ничего особенного. Просто я спросила, нельзя ли отложить эту поездку. Ведь сам знаешь, что мы должны сделать несколько неотложных визитов.
Мне очень хотелось спросить, едет ли он сам. Самые нелепые догадки роились в голове. Может, Яцек решил, вернуться к той женщине, может, они бегут вместе?.. Но может быть и так, что Яцек выезжает, чтобы спрятаться от нее. Ну почему он не хочет поговорить со мной откровенно? Неужели не доверяет мне?! А это его выражение лица — такое, словно он ждет моих дальнейших вопросов и уже заранее имеет на них готовые ответы. Как это досадно видеть!..
— Кажется, — ответил наконец Яцек, — тебя удивляет моя командировка. Но мне же все время приходится куда-то ездить.
— Нет-нет. Ничего меня не удивляет. Сказать, чтобы упаковали твой фрак?
Он покачал головой.
— Не надо. Два костюма — и достаточно. Я не хочу брать большой чемодан, потому что думаю вернуться самолетом.
— Через три дня?
— Да. Самое позднее через четыре.
Сказал это таким тоном, что я сразу успокоилась. Но когда через час готовила вещи к упаковке, нечаянно взяла в руки чековую книжку Яцека. И опять мое чутье подтолкнуло меня проверить, не снимал ли он в последние дни со счета крупную сумму. На корешке, датированном сегодняшним числом, значилась цифра 52 000 злотых. Я чуть не вскрикнула. Ведь хорошо помню, что всего на счету было чуть больше этой суммы. Значит, он забрал все. Зачем?.. Чтобы отдать этой женщине? Или хотел обеспечить себя на несколько месяцев жизни где-то за границей?..
Я никогда не провожала Яцека на вокзал, и сегодня не могла себе этого позволить, чтобы не разбудить его подозрений. И все же должна была там быть. Хотела убедиться, действительно ли он сядет в парижский поезд и будет ли сам, не едет с ней. Нужно было придумать какой-то повод. Однако в голове у меня все так путалось, что ничего толкового не приходило в голову. Оставалось надеяться только на дядю Альбина.
К счастью, на этот раз я застала дядю дома. Он сам открыл мне дверь. На нем был немного потертый, однако еще весьма элегантный халат. Поблескивая моноклем и белыми зубами, он поздоровался со мной так непринужденно, словно мы только, вчера виделись.
— Как поживаешь, малышка? Ого, какие роскошные меха! А фасон какой! Да и блеск чего стоит… (Ничуть не изменился. Всегда во всем разбирается и все замечает. Пусть там говорят о нем что хотят, а все же он великолепен — этого у него не отнимешь. Боже мой, да и кто из нас не имеет изъянов!)
Дядя усадил меня на диван и угостил вином. Сам, конечно, сел рядом — нарочно слишком близко. Иначе он не умеет. Но сейчас, когда мне нужна была его помощь, я, конечно, не могла позволить себе никаких неприятных для него движений.
— Как я догадываюсь, — вкрадчиво начал он, — ты пришла сюда не потому, что соскучилась. А жаль. Ты очень красивая. Наверное, твоя почтенная и немного ненормальная мамаша засматривалась на мадонну Бальдовинетти или на какого-нибудь гондольера. У них ведь там везде встречаются такие черные глаза и медные волосы. Ну правда же Бальдовинетти! Неужели тебе еще никто об этом не говорил?
— Нет. И я даже не знаю, комплимент ли это, я никогда не видела тот образ.
Дядя слегка коснулся моей руки.
— Ты видишь его, должно быть, по несколько раз в день — в зеркале. Так что считай сама, это комплимент или нет.
— Вы, дядюшка, действительно опасный мужчина, — улыбнулась я.
— Думаешь, до сих пор?
Я пригляделась к нему. Если не учитывать седину и морщины возле глаз и губ, он был мужчина в полном расцвете. Если бы не то, что я никогда не чувствовала влечения к пожилым мужчинам и что он меня (между нами говоря) немного пугает, то кто знает, не занялась бы я им серьезнее. Вот был бы скандал! Представляю себе, как выглядел бы папа!..
— Не до сих пор, а именно сейчас, — ответила я с хорошо обдуманной игривостью. Ведь мне нужно было заполучить его благосклонность.
Дядя засмеялся, весьма довольный. А затем — какой жест!.. Любой из менее опытных соблазнителей позволил бы себе при таких обстоятельствах какое-то продолжение. Он же — наоборот. Поднялся и, медленно наливая себе вина, некоторое время стоял ко мне спиной. Какое кокетство!
— Представь себе, — заговорил дядя доверительно, — что я действительно чувствую себя совсем молодым. Это даже немного беспокоит меня. Еще бы — «мужчине уже пятьдесят, а у него ни серьезности, ни степенности, а все лишь ветер в голове».
Я живо возразила:
— Что вы, дядя! Да у вас того ветра в голове никогда и не было. Вы же один из самых умных людей, которых я знаю. Потому я, собственно, к вам и пришла.
— Вот чудеса! — улыбнулся он. — Кажется, ты первая женщина, которая пришла ко мне в поисках ума. Других он меньше всего интересует. Но из этого я могу сделать вывод, что ты попала в какую-то беду. А?..
Дядя сел возле меня и пристально посмотрел мне в глаза.
— Ну, признавайся, — уговаривал он меня. — Наверное, этот твой скучный Реновицкий перехватил письмо, написанное тебе Тото?
Я почувствовала, как краснеют мои щеки. Откуда бы ему знать?.. Чтобы не выдать, что он меня поймал, я пожала плечами.
— Тото давно уже оставил свои ухаживания. Однако вы, дядюшка, таки угадали, что все началось с письма. Я обнаружила страшные вещи о Яцеке. Просто отчаяние берет…
— Ого, даже отчаяние? Он тебе изменяет?
— Хуже, дядюшка, гораздо хуже: он женат!
— Ну, наверно, моя дорогая, — притворно серьезным тоном сказал он, хмуря брови. — Это для меня не такая уж и новость. Правда, вы не соизволили пригласить меня на свадьбу, однако я знаю, что вы поженились.
— Ой, дядя, мне не до шуток! Яцек действительно женат на какой-то женщине.
Дядя кивнул.
— Хорошо, что хоть на женщине…
— Как это? — не поняла я.
— Могло оказаться, например, что он… того…
— Ну, дядя, это очень серьезное дело. И если вы мне не поможете… Я уж и не знаю, что мне делать! Давайте расскажу все по порядку… Вчера Яцек по рассеянности оставил на письменном столе открытое письмо…
Дядя прервал меня:
— Если оставил, то, значит, не придавал этому большого значения.
— Как раз наоборот. Это письмо для него чрезвычайно важно.
— Откуда ты знаешь?
Меня рассердило этот вопрос. Да и, наконец, это не относилось к делу.
— Потому что он вернулся за письмом и был очень обеспокоен, — ответила я.
— И о чем же говорилось в том письме?
— Ужас! Какая-то женщина писала Яцека как своему мужу.
И я пересказала дяде содержание письма как могла подробно.
Потом рассказала о дальнейшем поведении Яцека. Дядя выслушал меня внимательно, но не удержался, чтобы не обронить:
— Да, получается, что в нашей семье не только я паршивая овца.
На это я промолчала. Мне было обидно, что он так неделикатно затронул историю, о которой я предпочла бы не вспоминать.
Автор дневника не пишет здесь, что именно она имеет в виду. Поскольку многим читателям это место может показаться непонятным, я считаю своим долгом объяснить, что пан Альбин Нементовский за восемь лет до событий, описываемых его племянницей, был героем довольно неприятного судебного иска. Речь шла о совращении несовершеннолетней девушки, панны Л. 3., родители которой были очень возмущены. Пана Альбина приговорили к двум годам заключения. (Примечание Т. Д.-М.)
— А ты уверена, — спросил дядя, — что это письмо не какая-то мистификация?
— Абсолютно уверена.
— Гм, а может, его написал твой милый муженек сам, чтобы удостовериться, что ты не заглядываешь в его переписку?
— Да вы что, дядюшка! Разве Яцек способен на такие уловки?
— И то правда. Сдается мне, что он не очень сообразительный.
— К тому же письмо, несомненно, написано женской рукой. Нет, оно безусловно настоящее. Да и поведение Яцека еще больше убеждает меня, что дело весьма серьезное.
— Так, говоришь, он сегодня едет в Париж?
— Не знаю. Так он мне сказал. А я разве знаю, куда он едет. К тому же случайно узнала, что Яцек забрал из банка все деньги.
Дядя Альбин протяжного свистнул.
— Все?.. А сколько же это?
— Пятьдесят две тысячи.
— А, черт! Имеют же люди деньги, — вскользь заметил дядя, а затем спросил: — И не оставил ничего?
— Почему же, оставил какие-то там несколько сот злотых: Но это не имеет значения.
— Если сравнить с той суммой — то конечно. А скажи, детка, ты уже говорила об этом с родителями?
— Упаси боже, дядя! Представьте себе, как посмотрит на это папа.
— Конечно, тот старый дурак наделал бы шороху. Ты, дорогая, повела себя очень разумно, что не обмолвилась о своем открытии ни мужу, ни родителям. Это дело требует полной секретности.
Я взяла его за руку.
— Дорогой дядюшка, вы мне поможете, да?..
Он задумался, и, наконец, кивнул головой.
— С превеликим удовольствием. Но при одном условии.
— Ой, дядюшка! — радостно воскликнула я. — Так и знала, что вы мне не откажете! У меня же нет никого, кто мог бы помочь.
— Я помогу тебе, но при одном условии, — подчеркнул дядя.
— Но вы, дядюшка, не поставите такого условия, которое… на которое…
Он нахмурился, но тут же смягчился, посмотрел на меня иронично (нет, он таки великолепный) и сказал:
— Слушай, малышка. Неужели ты думаешь, что я — я! — должен прибегать к таким средствам, чтобы завоевать женщину?
Я покраснела, а он добавил:
— Кажется, я преждевременно подкинул тебе комплимент относительно твоего ума.
— Простите, дядюшка, но вы не так меня поняли.
— Ну ладно, хватит об этом. Выслушай внимательно, что я тебе скажу. Я охотно возьму на себя это дело. Но только в том случае, если ты пообещаешь безоговорочно слушаться моих наставлений. Ты ничего не будешь делать по своему усмотрению. Ничегошеньки. Я верю в твои способности, но здесь нужно совершеннейшее мастерство, ибо один неверный шаг может разрушить все. Понимаешь?
— Понимаю, — недолго думая, ответила я.
— И обещаешь, что будешь точно выполнять все мои указания?
— Да, охотно.
— Вот и хорошо. Так вот, первым делом я хочу сказать тебе, что я обо всем этом думаю. По-моему, дело это нелегкое. Вероятнее всего, что та женщина действительно состоит в браке с твоим мужем. Какие-то исключительно важные причины заставили ее разыскать Яцека. Упоминание о чувствах, которые якобы побудили ее к этому, не вызывает у меня доверия. Ни одна женщина, которая не видела мужа несколько лет, не вспомнит вот так вдруг, что она его любит.
— Да.
— Итак, я готов видеть здесь попытку шантажа.
— Таки похоже на то.
— Прежде всего, — продолжал дядя, — нужно установить факты. Мы знаем, что особа, которая подписывается буквой «Б», находится в Варшаве и живет в отеле. Живет или жила, потому что возможно и такое, что она вместе с твоим драгоценным муженьком сегодня уезжает. Тогда прежде всего нужно убедиться, едет Яцек один, или с ней. Ты должна быть на вокзале и выяснить это. Конечно, можно бы нанять детектива…
— Я уже и сама об этом думала, — добавила я.
Дядя отрицательно покачал головой.
— Нет, это было бы очень рискованно. Детектив может копнуть глубже, а, следовательно, узнать, что твой муж — двоеженец. Если бы такое произошло, он держал бы его в руках и получил возможность без конца его шантажировать. Нет. Здесь никому нельзя доверять. Дело очень серьезное. Ты сама проведешь мужа на вокзал и проследишь, не ищет ли он глазами ту женщину. Если они и едут вместе, то наверняка будут весьма осторожны. Возможно даже, что возьмут билеты в разные вагоны.
Я забеспокоилась.
— Вы, дядюшка, считаете, что Яцек хочет бежать вместе с ней?
— Ничего я не считаю, — пожал он плечами. — Но допускаю и такую возможность.
— Это было бы ужасно. А что же мне тогда делать?
— Нужно предпринять какие-либо ухищрения, чтобы задержать Яцека. Например, сделай так, чтобы он не смог зайти в вагон. Понимаешь, малышка?
— Но каким образом?
— Какая ты еще неопытная! — засмеялся дядя — Это же совсем не трудно. Сделай вид, что потеряла сознание. Тогда ему придется хлопотать возле тебя, и он останется. А мы выгадаем время, чтобы придумать что-то другое. Я в свою очередь попробую разыскать ту женщину. Просмотрю письма в нескольких крупных отелях. Способ не бог весть какой, но поскольку другого нет… Значит, договорились. Вечером я тебе позвоню: расскажешь, как все было.
— А какую причину придумать, чтобы поехать провожать Яцека? Я никогда этого не делаю.
— Тебе совершенно ни к чему его провожать. Приедешь на вокзал через несколько минут после него и скажешь, что забыла дать ему какое-то поручение в Париж.
Ей-богу, у этого дяди Альбина ума на троих хватит! Конечно, я точно выполнила все его указания. Домой вернулась вовремя, даже раньше Яцека. Его несессер и чемоданчик были уже упакованы. Когда он пришел, как раз зазвонил телефон. Я сняла трубку и услышала незнакомый женский голос. Сердце мое забилось сильнее.
— Пана Реновицкого можно?
Сама не знаю почему, но я была уверена: это она. Яцеку звонит много людей, и на этот раз я бы голову дала на отсечение, что это она. Поэтому спросила:
— А кто его просит?
И тут же Яцек неожиданно, почти грубо выхватил у меня трубку и сказал:
— Позволь, это меня.
Я вышла в соседнюю комнату, однако оставила дверь открытой и хорошо слышала все, что он говорил. Но, к сожалению, Яцек был слишком осторожен. Кроме «да» и «нет», я не слышала ни слова. К тому же и разговор длился всего минуту или две.
Яцек подошел ко мне с преспокойным выражением лица и объяснил:
— Это секретарша Лясковского.
Наверняка врал. Да еще так бессовестно. Я едва сдержалась, чтобы не сказать этого ему в глаза. Но, пожалуй, Яцек и сам заметил, что не верю ему. Не потому ли он и попрощался так ласково и сказал, что будет скучать по мне. Сколько же неискренности в этих мужчинах!..
Как только машина отъехала от дома, я быстренько оделась и выбежала к такси. Нельзя было терять ни минуты. Когда такси остановилось у вокзала, я чуть не стремглав выбежала на перрон и, к счастью, успела встретиться с Яцеком. Он шел вдоль поезда за носильщиком с его чемоданчиками. Я внимательно присмотрелась к нему и заметила, как он каждый раз осматривается вокруг, видимо ища кого-то глазами. Вдруг обернулся и заметил меня.
Наверное, я очень забавно выглядела и так бестолково объясняла ему, какие именно чулки мне нужны, что Яцек смотрел на меня с нескрываемым удивлением. Потом, словно ничего не произошло, сделал запись в блокноте о чулках и снова оглянулся.
Я не выдержала и спросила:
— Ты кого ищешь?
— Да, — кивнул головой Яцек. — Со мной едет пан Мельхиор Ванкевич, и я боюсь, чтобы он не опоздал. У нас спальное купе на двоих.
К моему удивлению, оказалось, что он сказал правду. Перед самым отходом поезда действительно появился пан Мельхиор, немного запыхавшийся, но, как всегда, очаровательный. Он буквально засыпал меня комплиментами. Вот глупый вид я имела!..
Я прошла через все вагоны и не увидела ни одной женщины, достойной внимания. Нет, Яцек ехал без той. Я вернулась домой намного спокойнее. Около десяти позвонил дядя Альбин, я обо всем отрапортовала и узнала, что он тоже начал поиски.
Очень напряженный был день.
Четверг
Этот Тото — настоящий кретин. Уверен будто весь мир вертится вокруг него. Мое волнение он объясняет тем, что его видели вчера в «Коломбине» с Мушкой Здроевской. Вот бы я стала еще ревновать к какой-то Мушке! А этот бестолковый еще извиняется и клянется, что его с ней ничего не связывает. Да пожалуйста, пусть себе имеет хоть сотню Мушек и с каждой по пять близнецов. Я так ему и сказала. Здесь у человека такая трагедия, а он о каких-то Мушках… К тому же она косоглазая.
Сегодня вместе с Тото и Рисем Платером завтракала в «Бристоле», а обедала в «Европе». Тото был очень рад. Он жизнь себе не представляет без застолья. Я чуть не засмеялась, потому что была уверена: он думает, что пошла с ним для того, чтобы отвлечь его от Мушки. В жизни не видела такого самоуверенного мужчины.
Я пристально разглядывала все вокруг. Если она живет в отеле, то, вероятно, и ест там же в ресторане. И в одном, и во втором действительно было довольно много молодых и красивых женщин.
Только теперь я поняла, какие большие трудности стоят передо мной. Меня даже одолевали сомнения, будет ли какая-то польза от дядиной помощи, хотя и имела возможность убедиться, что он не бьет баклуши. Сама ведь только что видела его в холле отеля. Он сидел, делая вид, что читает газету. К счастью, со мной он не поздоровался. Надеюсь, завтра уже зайдет ко мне. И дай бог, чтобы с какими-нибудь новостями.
Пятница
Только этого не хватало! Своих забот достаточно, а тут еще эта Гальшка Корниловская! И надо же так глупо попасться! Прибежала ко мне взволнованная, возбужденная, когда я еще сидела в ванной. Я сразу догадалась, что здесь какие-то амуры, и спросила:
— Поссорилась с Павелом?
— Ох, милая, что ты говоришь! Ты же знаешь, как я безумно его люблю. И никогда, право, никогда ему не изменяла. И вот прошлым летом в Кринице. Сама не понимаю, как это произошло… Просто какая-то минутная слабость… Ты знаешь, у тебя прекрасная фигурка. Это все от массажа. А вот у меня нет на это ни минуты свободной, и Кароль уже ворчит, потому что платит массажистке, а она ежедневно уходит от меня без работы. Кароль стареет и становится скрягой. Но я не об этом хотела сказать. Так вот, в Кринице я подружились с одним молодым человеком… Знаешь, эдакое курортное приключение без последствий. Я даже не представляла, кто он такой. Хорошо одетый мужчина, такой представительный, спортивного типа. А танцевал как! Разве могла я подумать, что это какой-то ловелас!
— Ловелас?
— Ужасный!
— Какой-то жиголо?
— Нет, даже не то. Да и что мне в нем! Ты же знаешь, как я люблю Павела. А этот новенький подталкивает меня к измене. Я в ужасном положении. Ведь он прибрал меня к рукам и пригрозил, что расскажет обо всем мужу и Павелу.
— О, это уже неприятно, — заметила я. — А не требует ли он от тебя денег?
— Да что там деньги! Я согласна сто раз заплатить ему, но он влюбился в меня до потери сознания. Ты даже не представляешь, какой он безжалостный и жестокий. А хуже всего то, что Павел начинает следить за мной.
Я пожала плечами.
— Не понимаю тебя, дорогая. Если он и расскажет нечто твоему мужу или Павелу, ты же можешь все отрицать прямо ему в глаза.
— К сожалению, не могу, — вздохнула Гальшка. — Я допустила страшную оплошность. У него мои письма. Эх, если бы эти письма как-то отобрать у него, тогда — я свободна. Он буквально шантажирует меня ними. Что делать… что делать?
— Искренне сочувствую тебе, — сказала я и подумала, что мы с ней оказались почти в одинаковом положении. Но мое, конечно, намного хуже. Ах, если бы я могла ей обо всем рассказать! Тогда бы она знала, что такое настоящая драма.
Пока я одевалась, Гальшка стала просить:
— Дорогая, ну посоветуй, что мне делать. Это же просто ужас — жить в беспрестанной тревоге между трех безумно влюбленных мужчин. Не знаю даже, и что они нашли во мне особенного. Я ведь такая же, как и все. Разве что немного красоты…
— Ну, ты очень хорошенькая, — сказала я, хотя и терпеть не могу, когда кто-то так настойчиво напрашивается на комплименты. Мне хотелось добавить, что, очевидно, тем трем мужчинам весьма по душе кривые ноги. А они у Гальшки таки кривоватые. Но она смертельно обидится, если ей об этом сказать.
— Ты моя подруга, поэтому и относишься ко мне снисходительно. А я в последнее время все-таки подурнела. Вот и кожа портится. Пани Адольфина пользуется устаревшими рецептами. Придется, наверное, обратиться к твоей косметичке. Она очень дорогая?
— Очень, но уже лучшей в Варшаве не стоит и искать… А ты не пыталась выкрасть эти письма?
— Это все бесполезно. Он держит их под замком.
— А помнишь, что в них написано? Может, там нет ничего такого, что компрометирует тебя?
— Ого! Хватило бы Каролю послужить поводом для развода. Впрочем, вряд ли он расстанется со мной, поскольку я уверена, что без меня жить он не в силах. И все же я не могу допустить, чтобы эти письма попали ему в руки.
Я удивленно взглянула на нее. Неужели она не знает того, что ни для кого давно не секрет? Ведь ее Кароль уже кто знает с каких пор путается с другими женщинами. Или она действительно ничего не знает, или так хитро притворяется?
— Кроме того, этот подлец живет на Познанской, через три дома от Павела. Можешь себе представить, как я переживаю, чтобы они не встретились…
— О, это же ужас, — согласилась я. — На твоем месте я бы, наверное, его убила… Ну, а ты не пробовала попросить кого-нибудь поговорить с ним? Ведь твой брат офицер, человек храбрый. Он мог бы пойти к тому шантажисту…
— О нет, нет. Я ни за что не решилась бы признаться Владеку. Разве ты его не знаешь? Он порвал бы со мной всякие отношения. Я уверена, что он никогда не изменял своей жене. Это такой моралист… Честное слово, я уже скорее доверилась бы Павелу.
Вдруг мне пришла в голову замечательная идея.
— Слушай, Гальшка! А что, если бы я с ним поговорила?
— С Павелом?
— Да нет, с этим… Не может же он быть мерзавцем без чести и совести. Я постараюсь его убедить.
— Нет-нет. Это ничему не поможет, — возразила Гальшка. — Это человек, лишенный каких-либо человеческих чувств. Однако, веришь, он так меня любит…
— И все же можно было бы рискнуть. В конце концов, не съест же он меня! Надеюсь, он не какой-то разбойник?
— Да нет. Как на первый взгляд, то даже хорошо воспитан.
— Вот я и думаю, что мне удастся уладить для тебя это дело. Ты же знаешь, я умею это делать. Помнишь, как убедила Люту не разводиться с мужем? Он тогда еще прислал мне большую корзину орхидей. Так что, нечего и раздумывать. Я пойду к нему, и увидишь, что все улажу наилучшим образом. В конце концов, могу даже прибегнуть к обману. Заверю его, что и ты его любишь, но не можешь дальше выносить этой муки и жить под постоянной угрозой. Понимаешь? Таким образом ты получишь свои письма и обретешь свободу.
Гальшка еще немного посомневалась, и наконец согласилась. Она назвала мне фамилию, телефон и адрес того человека. Оказалось, его зовут Роберт Тоннор. Гальшка полагала, что он, возможно, иностранец, но не была в том уверена. Умоляла меня, чтобы я, боже упаси, не обмолвилась, что она называла его шантажистом.
— Он тогда упрется и непременно отомстит мне. Это очень страшный человек. Бога ради, будь с ним осторожна!
Я успокоила ее на этот счет. Мне очень понравилась эта миссия. Кто знает, что может постигнуть меня в дальнейшем в моих личных делах, а они куда серьезнее. Так что определенный опыт в таких случаях мне не помешает.
К часу я должна была ехать в Гусен-Кэтли, где мне шьют два бальных платья. Однако примерку пришлось отложить, потому что пришел дядя. Вот так пренебрегаешь самыми важными делами. Теперь придется с ними некоторое время погодить — и все это по милости Яцека! Если разобраться, то это большое свинство с его стороны. Я просто понять не могу, как это мужчина в своем уме — и двоеженец. Не теряю надежды, что как-то удастся все уладить, но пусть он и не надеется, что я ему когда-нибудь это прощу. Так или иначе, свое он получит.
Дядя Альбин показал себя настоящим чародеем. Он уже имел длинный список женщин, которые жили в крупнейших отелях и чьи имена или фамилии начинались на букву «Б». Таких было более сорока. Некоторых из них дядя уже видел, воспользовавшись услужливостью портье и коридорных. Но ни одна не вызвала подозрения.
— А как вы додумались, дядюшка, что среди них нет женщины, которая нас интересует?
— Я принимал во внимание некоторые предположения. Прежде всего — возраст. Поскольку Яцек женился на тебе где-то года три назад, он уже наверняка не сомневался, что бывшая жена покинула его навсегда и не будет разыскивать. Чтобы прийти к такому выводу, ему нужно было время — от двух до трех лет. Итак, имеем минимум восемь лет. Выйти замуж она могла не раньше, чем в восемнадцать. Восемнадцать да добавить восемь — будет двадцать шесть, это минимальная граница ее возраста. Однако нам надо определить и максимальную. Здесь дело сложнее. Восемь лет назад Яцеку было двадцать четыре. Таким молодым часто нравятся женщины, намного старше чем они сами. Скажем, сорокалетние. Но здесь должны учесть одно обстоятельство. Та женщина ушла от Яцека. А ты сама со временем убедишься, что немолодая женщина вообще не очень склонна бросать мужа, а тем более младше себя…
— Дядюшка, вы — гений, — убежденно сказала я.
— К этой мысли ты пришла не первая, — кивнул головой дядя. — Ты вторая. Первый был я сам. Итак, слушай. Все это говорит о том, что тогда эта особа считалась еще молодой и пользовалась успехом у мужчин. Тогда ей было лет двадцать восемь, не больше. Двадцать восемь и добавить еще восемь — будет тридцать шесть. Значит, этой «пани Б.», которую мы разыскиваем, может быть от двадцати шести до тридцати шести лет. Теперь относительно ее внешности. Насколько я знаю, Яцеку нравятся женщины определенного типа. Высокого роста, темноглазые блондинки. Следовательно, и здесь есть некоторые приметы. Кроме того, я готов поклясться, что «пани Б.» хороша, даже очень. Можно еще предположить, что она обладает тактом и приличными манерами.
— Почему вы так думаете? — удивилась я.
— Потому что если бы это была просто авантюристка, она обратилась бы к тебе, а не к Яцеку. Подняла бы шум, вероятнее всего — публично. А теперь подытожим: это молодая, красивая, высокая блондинка с темными глазами, хорошо воспитанная. Такую, собственно, я и ищу.
— Дядюшка, вы ангел!
— В определенной степени, — согласился дядя. — Видишь ли, детка, ангел — это бесплотный дух, способный проходить сквозь стены. Такому деньги ни к чему. И когда он берет на себя роль детектива, ему не надо ни кого-то подкупать, ни сидеть в отельных ресторанах. А на это ведь нужны деньги.
Я вскочила, чтобы принести сумочку, но дядя остановил меня движением руки.
— Нет, детка. Я взялся помочь тебе по двум причинам: во-первых, это и мне интересно, а во-вторых, хочу доставить тебе удовольствие. Никаких денег я у тебя не возьму. Да и вообще не упоминал бы о них, но в последнее время мне никак не везет в игре. Все приличные партнеры, вместо того, чтобы приходить играть, транжирит свои денежки в другом месте. Вот хотя бы твой Тото. Ему ничего не стоит выбросить на ветер несколько сот злотых. Играет же он, между нами говоря, как теленок. И вот уже две недели ни разу не заглянул в клуб.
Меня это удивило. Я знала, что Тото почти ежедневно посещает Охотничий клуб. Но вряд ли туда пускали дядю Альбина. На всякий случай я спросила:
— Вы, дядюшка, об Охотничьем клубе?
— Ну что ты! — он иронично скривился. — Охотничий клуб — это для меня прошлое, которое никогда уже не вернется. Я говорю о неком заведении, которое громко именуется клубом, но там потихоньку играют на деньги.
— Дядюшка! Зачем вы туда ходите? — укоризненно спросила я.
— О, там бывает немало важных персон. Даже полицейские чины заглядывают изо дня в день. Правда, не для того, чтобы поиграть в покер или бридж, но и проверка такого заведения — достаточно увлекательная игра.
Я молча понурилась. Подумать только, как низко пал этот гордый аристократ, некогда пользовавшийся славой одного из самых утонченных бонвиванов, считавшийся прекрасным женихом, бывший джентльменом высшего класса!.. Значит, правду говорил отец: этот человек — шулер, этим и живет. Да пусть бы он даже и играл без обмана — все равно такой образ жизни никому не делает чести.
Дядя поправил монокль и, рассматривая свои опрятные ногти, сказал:
— А ты, между прочим, спроси Тото, не играет ли он в последнее время. Это напомнило бы ему о клубе. Или, например, дай ему какую-то банкноту и скажи, что нашла ее на улице. А если бы ты еще попросила его попытать счастья с той купюрой… Ничего больше я бы от тебя и не желал.
Я поняла. Он хотел, чтобы я стала его союзницей и заманила Тото в заведение, где его хорошенько надуют. Какая гадость! Вся моя симпатия к дяде вдруг исчезла. Лучше бы я сама дала ему денег, даже настояла, чтобы взял их. Но дядя решительно отказался.
Но, впрочем, я подумала, что какой-то там проигрыш для Тото ничего не значит. А оно бы и неплохо было так наказать его за тщеславие. Да и глупую Мушку тоже. Однако когда я хорошо подумала, то пришла к выводу, что, если бы я присоединилась к этой махинации, меня замучила бы совесть. Дяде я, конечно, сказала, что согласна. Но сама надеялась уладить это дело другим способом.
Когда дядя ушел, я позвонила Тоннору. Сказать правду, сердце мое беспокойно билось, пока я ждала ответа. Я ведь никогда еще не звонила незнакомым мужчинам такого типа. Поэтому решила быть поосторожнее. Оставлю дома письмо с его адресом и напишу, пусть ищут меня там, если в назначенный час я не вернусь домой, а себе в сумочку положу револьвер Яцека.
В трубке раздался низкий мужской голос. Я спросила, это ли пан Роберт Тоннор, и, получив утвердительный ответ, сказала:
— Простите, что не называю своей фамилии, так как она не имеет для вас значения, а я предпочитаю остаться неизвестной. Мне нужно с вами встретиться. У меня к вам дело, очень важное, можете мне поверить, и я прошу уделить мне несколько минут. Не смогли бы вы меня принять, ну, скажем, завтра утром?
Он, видимо, удивился, потому что спросил:
— А мы с вами знакомы?
— Нет.
— Может, я где-то вас видел?
— Мы с вами никогда не виделись.
— Так какое же вы можете иметь ко мне дело? Только предупреждаю заранее: если речь идет о пылесосах, галстуках или новом образце бритвы, то все это у меня уже есть.
Я чуть не засмеялась и сказала, что деньги здесь ни причем. Тогда он задумался и ответил, что завтра не будет иметь свободного времени. А вот сегодня в восемь сможет меня принять.
Другого выхода не было, и, чтобы скорее уладить дело бедной Гальшки, я согласилась.
Я выбрала черное платье, но никаких драгоценностей надевать на себя не стала (от такого типа можно ожидать всего). На мне было только обручальное кольцо и нитка жемчуга. Он в последнее время снова входит в моду. Затем написала письмо, нашла в ящике у Яцека револьвер, перекрестилась и вышла из дома.
Только бог один знает, что со мной может случиться…
Суббота
Расскажу все по порядку. Когда я вчера поднималась по лестнице в его квартиру, у меня дрожали коленки. На двери не было никакой таблички. Я перекрестилась и нажала кнопку звонка. Дверь открылась так быстро, что я даже испугалась. Передо мной стоял рослый плотный брюнет с проницательными серыми глазами. На нем был темно-синий костюм и черный галстук. (Может, он носит траур?) С виду вполне порядочный человек. Даже благородный. Мужчина посмотрел на меня внимательно и сказал:
— Пожалуйста. Я жду вас.
У него был довольно приятный голос. Подумать только, встретишь этакого где-то на улице или в кафе и даже понятия не будешь иметь, что это опасный шантажист.
— Я заберу у вас минут пять, не больше, — начала я и направилась было в комнату. Зачем бы мне действительно снимать меха. Однако этот наглец бесцеремонно взял меня за рукав и сказал:
— Сделайте одолжение, снимите меха, у меня здесь жарко, как бы вам потом не простудиться.
Ну, станешь ли с этим спорить? Страшный тип… Квартира у него небольшая, но приличная. Он указал мне на кресло, сам сел напротив.
— Так чем могу служить?
— Я приятельница Гальшки Корниловской… — начала я не очень уверенно.
Он слегка поднял брови и сказал:
— Очень приятно.
— Я бы не хотела, чтобы вы меня неправильно поняли. Я пришла объяснить вам нечто.
— Объяснить? Что именно?
— Это очень деликатное дело. Но поверьте, я умею хранить тайны. Поэтому, хоть вам и кажется, что Гальшка вас избегает, я хочу сказать вам, что это неправда. Она любит вас.
Я таки смогла произнести эти слова с глубоким убеждением. Но он как-то странно поморщился и ответил:
— Вполне возможно, уважаемая пани. Но это для меня не такая уж и новость.
Ну, наглости ему не занимать! Думает, если он так хорош и имеет такие холодные глаза, то все женщины должны души в нем не чаять, и находит это вполне естественным. Я с удовольствием бросила бы ему в лицо, что Гальшка ненавидит его. Однако пришлось держаться дипломатично.
— Тем лучше, что вы об этом знаете. Я тоже нисколько в этом не сомневаюсь, — сказала я, — Мы с ней близкие подруги. Но вы сами понимаете, что определенные обстоятельства мешают вашей любви. Признайтесь, что постоянная опасность отнюдь не способствует счастью.
— О какой опасности вы говорите? — спросил он почти иронически. — Я не из пугливых.
— Ах, да я же не о вас! Речь идет о Гальшке. Вы имеете… у вас есть ее письма. Я понимаю, они дороги вам как воспоминание о тех днях, когда началась ваша любовь. Это хоть кому понятно. Я и сама хотела бы сохранить такие письма. Даже и после того, как чувство угасло. Ведь так приятно иметь увековеченное на бумаге доказательство чьей-то преданности, чьи-то искренние любовные признания. Но, как вам известно, Гальшка — замужем. И опасения, что эти письма каким-то образом могут попасть в руки мужа, угнетает ее… Нет, не перебивайте меня! Я уверена, вы сами никогда бы такого не сделали, но, боже мой, их могут у вас похитить, вы можете их потерять, с вами может произойти какой-нибудь несчастный случай… Надо это учитывать. Тогда письма попадут в руки посторонних людей, и это может погубить жизнь женщины, которая вас любит.
Он улыбнулся, закурил сигарету и сел поудобнее. Я видела, что моя речь не произвела на него никакого впечатления. Неужели такой бессердечный?..
Но вот он непринужденно спросил:
— Если я правильно вас понял, вы хотите, чтобы я вернул Гальшке ее письма?
— Да. Умоляю вас, не откажите мне. Я понимаю, что нет оснований надеяться на особую любезность с вашей стороны. — Тут я улыбнулась ему так трогательно, как только могла: разве только бездушный пень устоит против такой улыбки. — Но прошу вас удовлетворить мою просьбу.
Он посмотрел на меня из-под опущенных век и тоже улыбнулся.
— Как раз наоборот. Как по мне, то вы имеете даже больше оснований, чтобы оказать вам и не такую любезность. Не понимаю только, почему Гальшка обращается ко мне через вас. Я, конечно, нисколько ее за это не упрекаю, потому что познакомиться с вами — немалое удовольствие. Но почему она не обратилась ко мне сама?
— Ах, разве вы не знаете, какая она чувствительная!.. Может, даже немного и истеричная, — добавила я после минутного размышления.
— Да и немного ли?
— Вы правы. Но вы не можете не понимать, что при таких обстоятельствах трудно быть спокойной.
— О боже, при каких еще обстоятельствах? — раздраженно поморщился он.
— Ну, когда каждую минуту тебе грозит беда.
— Это же смешно, — сказал он. — Можете передать своей приятельнице, что я верну ей эти письма.
Я не поверила своим ушам, но тут же мне пришло в голову, что это какое-то надувательство. Сейчас обещает, что отдаст, а как только Гальшка обратится к нему, наверняка поднимет ее на смех.
— Нет, простите, — ответила я твердо. — Моя приятельница просила, чтобы я забрала эти письма сама.
Он ничего не ответил. Встал, пошел к письменному столу и с минуту копался в бумагах. Когда вернулся, в руках у него была большая пачка писем.
— Вот, пожалуйста, — сказал он.
Я очень удивилась. К тому же не могла понять, почему этих писем так много. А пан Тоннор с улыбкой добавил:
— И еще я хотел бы вас попросить, чтобы вы уговорили свою приятельницу не писать мне больше. У меня много дел, и читать такую литературу не хватает времени.
— Как вас понимать?
— Да вы сами посмотрите. Там все, что хотите, вплоть до описаний природы. Пани Гальшка зря наделала вам хлопот. Ума не приложу, зачем это ей.
Я взяла письма. Несомненно, это была рука Гальшки. Я чувствовала себя так, будто совершила бог знает какую глупость. Мне даже слов не хватило. И пока я стояла так, сама не своя от стыда, этот человек совершенно неожиданно — я не успела даже отшатнуться — взял руками мою голову и поцеловал меня прямо в губы.
— Как вы смеете?! — воскликнула я и гневно посмотрела на него.
Но это был еще тот нахал. Он не только не смутился, но еще и сказал с усмешкой:
— Прошу прощения. Это с моей стороны было, так сказать, злоупотребление. Но должен признаться, что раскаяния я не ощущаю. Да и, наконец, вы сами виноваты.
Я была искренне возмущена.
— Вы… Вы… Это неслыханно! Я виновата!..
— Да, — ответил он спокойно. — И не просто виновны, а с умыслом. Сами подумайте. Под каким-то жалким предлогом вы приходите к молодому мужчине да еще и имеете красивое личико. Такие действия безнаказанно не проходят.
Я даже онемела, а он продолжал:
— Было бы даже нелюбезно с моей стороны, если бы я делал вид, что не понимаю ваших намерений. И если я чем-то и обязан Гальшке, то это, собственно, тем, что она прислала вас ко мне.
Я была вне себя от возмущения. Сначала хотела было сразу уйти, но не могла же я оставить его при мысли, что его подозрение справедливо! Это я-то должна прибегать к таким способам, чтобы познакомиться с еще одним мужчиной!
Автор дневника, на мой взгляд, ошибается относительно причин, которые ее к этому подтолкнули. Сознательным мотивом ее поступка, тем, что склонило ее пойти к п. Тоннору, было, разумеется, стремление спасти подругу. Однако подсознательно она, наверное, имела желание познакомиться с новым человеком, или, точнее говоря, с человеком из рода так называемых «опасных мужчин» или шалопаем. Я отнюдь не попрекаю этим п. Реновицкую и прошу ее не считать этот комментарий за проявление недоверия к ее словам. (Примечание Т. Д.-М.)
Когда я увидела, что мои заверения нисколько его не убедили, то решила детально передать ему мой разговор с Гальшкой. Пан Тоннор выслушал меня с большим интересом и, кажется, наконец поверил. Очень над всем этим смеялся и уверял меня, что никакой он не таинственный и коварный ловец женщин, Гальшку ничуть не любит и не может понять, зачем она затеяла всю эту интригу.
Он извинился за свои подозрения и так мило просил у меня прощения, что постепенно я перестала на него сердиться. Он рассказал мне кое-что, из чего я поняла, что не он преследует Гальшку, а скорее она его. (Ну и врушка же эта Гальшка! Я начинаю думать, что она посвятила меня в свои дела только для того, чтобы похвастаться передо мной. Или, может, просто Павел закатил ей сцену ревности. Не пойму, как это можно увлечься этим Павелом. А впрочем, для нее и он слишком хорош.)
Затем пан Тоннор рассказал о себе. Оказалось, что он вовсе не авантюрист, а представитель нескольких иностранных фирм, у него здесь своя контора, он часто ездит во Францию, Англию и Германию, имеет собственный автомобиль. Та кретинка наверняка знала все это, и я не понимаю, зачем она понавыдумывала о нем столько глупостей. Тоннор оказался очень остроумным и милым собеседником. Единственное, что Гальшка не выдумала: этот мужчина действительно своеволен. Во время разговора он то и дело брал мою руку и держал ее в своих руках. Мне просто неудобно было сопротивляться. А он держал мою руку и не отпускал. Казалось, не замечал даже, как я стараюсь ее высвободить.
Беседа была такая приятная, что я и не заметила, что уже десять часов. К счастью, он сам обратил на это внимание, встал и сказал, что именно на десять у него назначено одно дело.
Подавая мне меха, он спросил:
— Когда я снова вас увижу?
Я, конечно, ответила, что никогда, затем добавила:
— А квартира у вас хорошая.
Тогда он сказал:
— Около шести я почти всегда дома. Так что жду вашего звонка.
— Прощайте, — кивнула я ему и вышла.
На лестнице мне встретилась весьма интересная женщина. Я бы не обратила на нее внимания, если бы не ее умопомрачительный наряд. Жакет trios quart из шиншиллы и очень элегантная черная шляпка с ярко-красным пером. (Три четверти (франц.).) Волосы у нее рыжие (конечно, крашеные), а своим хрупким телосложением немного похожа на Клару Бау.
Я не ошиблась: она шла к нему. Он, пожалуй, тот еще бабник. Но хуже всего то, что я забыла взять Гальшкны письма. Ничего не поделаешь, придется прийти еще раз. Он, конечно, бог знает что обо мне подумает, однако другого выхода нет.
Сегодня днем ходила с Тото на выставку новых моделей мехов. Очень понравилось мне одно норковое манто. Я даже цену спросила. Неслыханно: тридцать две тысячи! Вряд ли удастся уговорить на такое отца. Тото ошалел бы от радости, если бы мог купить мне эту норку, но не могу же я принимать от него такие подарки.
С дядиным поручением я справилась весьма ловко. Все сильнее убеждаюсь, что сообразительности мне не занимать. Я дала Тото пятьсот злотых и попросила его сыграть в покер на мой счет, потому, что мне якобы приснилось, что он должен выиграть для меня много денег. Простодушный Тото не заметил в этом никакого подвоха и охотно согласился. Даже пообещал в тот же вечер пойти в игорное заведение. Думаю, что пяти сотен дяде хватит. Он позвонил мне около трех и сказал, что никаких существенных новостей пока нет. Это меня очень огорчило. Послезавтра возвращается Яцек, и я хотела бы к этому времени что-нибудь знать, как-то ориентироваться в ситуации. Гальшке я даже не позвонила — так была возмущена ее поведением. Но, впрочем, я знала, что мы с ней встретимся вечером на обеде у Гавронских. Мне не терпится узнать, как ладят между собой Топневцы после того происшествия с поездкой Лели в деревню к Франю Радзивиллу. Сильно смеялись тогда над Жоржем, и все предрекали, что они разведутся.
Я никак не могла придумать, что сказать Гальшке. Намекнуть ей, что я хорошо понимаю, как она меня обманула?
Я бы на ее месте сгорела со стыда! Как она будет смотреть мне в глаза? С другой стороны, я не могу сказать ей правду, потому что это помешало бы нашим взаимоотношениям, а поссориться с ней мне как-то не хочется. Все же я люблю ее и знаю, что и она ко мне привязана.
На обеде было около двадцати человек. Как обычно, блюда подавали прекрасные и вина отборные. Я сидела напротив Жоржа. Тот имел подавленный вид. Зато Леля вовсю флиртовала с хозяином. Я заметила, что Гальшка, несмотря на все свои сладкие улыбки, смотрит на меня обеспокоенно. Никчемная лицемерка! К тому же у нее новый перстенек с сапфиром. Откуда бы это?
Как только все встали из-за стола, и мы с ней остались наедине, Гальшка шепотом сказала:
— Что-то ты мне ничего не говоришь. Я умираю от любопытства. Ты была у него?
Она умоляюще заглядывала мне в глаза, а я, притворяясь равнодушной, ответила:
— Конечно, была.
— И что? Ну, говори скорей!
— Он пообещал отдать мне твои письма.
— И ты думаешь, отдаст?
— Думаю, да. Только я не разделяю твоего мнения об этом пане. Мне он не показался шалопаем. Вполне культурный человек и ведет себя как джентльмен.
В Гальшкиных глазах промелькнуло беспокойство.
— Ты долго у него была?
— Несколько минут.
Это ее будто успокоило.
— О, моя дорогая! Потому-то ты и не разделяешь моего мнения. Вот если бы ты знала его, как я…
Я пожала плечами.
— О, можешь поверить, мне это безразлично. Он действительно хорош собою, но ты хорошо знаешь, что я верна Яцеку.
Я нарочно сказала это с нажимом, чтобы подразнить ее. В конце концов, то, что меня давно уже видят в обществе Тото, не может служить доказательством моей неверности мужу. Тото всем и каждому рассказывает, что он в меня влюблен, и не упускает случая повторить это и самому Яцеку. Когда-то я даже подговорила его, чтобы он попросил Гальшку замолвить за него словечко передо мной. Затем он пересказал мне весь разговор. Он уверял ее, что умрет от отчаяния, если не добьется моего внимания. Гальшка сначала не верила ему, а потом ужасно разозлилась. Она до сих пор ни словом не обмолвилась мне об этом разговоре. И до сих пор ее мучает любопытство, есть ли у меня что-то с Тото или нет. Так ей и надо!
— А каким образом он вернет эти письма?
— Можешь не беспокоиться, — ответила я. — Способ не имеет значения. Могу послать к нему Юзефа или первого встречного рассыльного. — Я немного помолчала и добавила: — А может, и сама к нему пойду.
Гальшка ехидно улыбнулась.
— Я вижу, это посредничество тебе не в тягость…
— Ты же сам знаешь, что ради тебя я готова на все. Тот пан вроде бы очень огорчился, но ты, видимо, рада, что уже никогда его не увидишь?
— Почему я никогда его не увижу? — удивилась Гальшка.
Ах, какая же она несдержанная и наивная! Даже если бы я не знала того, что услышала от Тоннора, эти несколько слов развеяли бы все мои сомнения.
— Как почему? — спросила я. — Ведь это ясно как божий день. Возвратив письма, он не сможет более заставить тебя ходить к нему.
— Ах, конечно! — спохватилась Гальшка. — Конечно же. В любом случае, я тебе бесконечно благодарна, Ганечка.
Еще какое-то время мы разговаривали о всякой всячине (между прочим, перстенек тот подарила ей бабушка). Потом все сели играть в бридж. Я уже не увлекаюсь этой игрой, как раньше, и после трех партий сказала, что устала и больше не буду играть. Ушла вместе с Вацеком Гебетнером, и он отвез меня домой.
Еще утром я велела Юзефу тщательно записывать, кто нам звонил, и, вернувшись, прежде пробежала глазами все записи на бумажке. Там было несколько ничего не значащих, но среди них была такая: «Из отеля «Бристоль».
Несмотря на поздний час, я должна была разбудить Юзефа. Он сказал, что из «Бристоля» звонил портье и спрашивал, когда возвращается пан Реновицкий.
Наконец какой-то определенный след! Следовательно, она живет в «Бристоле». Очевидно, портье звонил по ее поручению. Ну, теперь дяде Альбину будет легче искать! Я сразу предупредила, что завтра не буду обедать и ужинать дома. Должна быть в «Бристоле».
Мне пришло в голову, что Яцек мог выехать за границу умышленно, в связи с этим делом. Ну что ж, скоро все выяснится.
Воскресенье
Вот так история! Очень она меня развеселила, но одновременно и поразила. Могла ли я такое предсказать? Где-то около десяти позвонил Тото и предложил поехать с ним на прогулку в Яблонную. Я с удовольствием согласилась. Мороза почти не было, погода замечательная. В его огромном «мерседесе» едешь, как в коляске.
Когда я села рядом с Тото, он вытащил из кармана пачку банкнот и, победно улыбаясь, протянул мне.
— Что это такое? — удивилась я.
— Выигрыш, — ответил он, — у тебя было верное предчувствие. Карта мне шла, как в сказке. Всех наказал, даже твоего непутевого дядюшку. Теперь никогда не сяду играть, не взяв у тебя какой-либо мелочи на счастье.
— Тото! Ты действительно выиграл? — не верила я своим глазам.
— Честное слово, — засмеялся он. — Более трех тысяч.
Я не хотела брать деньги. Говорила, что не имею на них никакого права, потому что он их выиграл. В конце концов, согласилась на то, чтобы он со мной поделился, но он сделал оскорбленную мину и запротестовал:
— Я играл на твои деньги, играл для тебя и на твое счастье. Выигрыш принадлежит тебе. Если не возьмешь деньги, я выброшу их в окно.
Что мне оставалось делать? Наконец, такие деньги на дороге не валяются. Куплю ему какую-то мелочь, и все будет в порядке. Но как быть с дядей Альбином? Ведь он, выслеживая ту женщину, наверняка будет иметь дополнительные расходы. Не говоря уже о напитках, само посещение ресторанов немало стоит.
Немного подумав, я спросила Тото:
— А тот пан Альбин Нементовский много проиграл?
По требованию отца все в семье, когда уже не могли избежать упоминания дяди, должны были называть его «тот пан Нементовский», чтобы подчеркнуть, что нас с ним ничего не связывает.
— Не знаю, не обратил внимания. Думаю, что немного, каких-то несколько сот злотых. Он никогда не рискует, хотя играет замечательно. И знаешь что? Теперь я уже не верю тем слухам, которые ходят о нем. Если бы он был шулером, то, наверное, не проиграл бы. Люди слишком легко порицают всех, кто хоть раз на чем-то споткнулся.
Очень мне нравится в Тото эта его снисходительность. А на этот раз я была ему просто-таки благодарна за нее, так как не скрываю того, что люблю дядю. Сказать правду, я слишком хорошо знала, что Тото ошибается. Мать рассказывала, что когда-то дядю даже поймали на горячем в каком-то казино или клубе. Когда раздавали карты, он как бы невзначай клал перед собой золотой портсигар, который был так отполирован, что он видел в нем, как в зеркале, все карты. Вспыхнул скандал, и дядю чуть не посадили в тюрьму. Но кончилось тем, что он должен был вернуть все выигранные деньги и ему запретили ходить в казино. Правда, это было где-то за границей, но маловероятно, что дома он ведет себя иначе. Никак не могу понять, зачем он вчера проиграл.
Пани Реновицкая ошибается, считая, что шулерам непременно должны идти карты. Довольно часто случается, что по разным причинам всяческие их махинации не удаются. Еrrаrе humanum est. (Человеку свойственно ошибаться (лат.).) (Примечание Т. Д.-М.)
Все это заставило меня сразу же после прогулки отправиться домой, отказавшись от приглашения Тото в кафе. Я предчувствовала, что дядя Альбин позвонит, и не ошиблась. Не вступая в разговоры, я попросила его приехать.
Через четверть часа он явился с весьма кислой миной.
— Твой чичисбей уже, наверное, говорил тебе, — сказал дядя, здороваясь со мной. — Наверное, рассказал уже, что вчера я проигрался до нитки.
— Да, упоминал, что вам не шла карта.
— В последнее время меня преследуют неудачи. Должен признаться, что остался почти без гроша.
Я решила заставить его взять у меня деньги. Конечно, я не могла признаться, что его проигрыш лежит у меня в сумочке, но предложила ему ссуду.
— Ведь ссуду можно принять, не изменяя своим принципам, а для меня эти деньги ничего не значат.
— Нет, нет, — сопротивлялся он. — У женщины деньги я не возьму. В конце концов, занять можно, но надо быть уверенным, что будет чем отдать.
— Ах, дядюшка, — не унималась я. — Откуда такой пессимизм? Ведь вы почти всегда выигрываете. А мне совсем не горит. Можете отдать через год, через два — когда будут деньги. Из-за этого препятствия наше следствие может задержаться. Да и хорошо ли это с вашей стороны: вот я не сомневалась ни минуты, когда обратилась к вам за помощью. А вы не хотите принять от меня такой мелкой услуги, как ссуда.
Наконец он поддался моим мольбам. Я дала тысячу злотых, а дядя написал расписку по всей форме, хотя я пыталась убедить его не делать этого. И эти мужчины еще смеют насмехаться над женской логикой! Считают зазорным занимать у женщины деньги, а вот соблазнить ее или обмануть в игре — тут у них не возникает никаких этических возражений. Удивительные натуры!
Потом я рассказала дяде о своем открытии: та женщина живет в «Бристоле».
К великому моему удивлению, он не признал это бесспорным.
— Это еще ничего не значит, — покачал он головой. — Ведь портье мог позвонить и по поручению одного из знакомых Яцека. В этом отеле проживает немало ваших знакомых. Может, это был кто-то из дипломатов или какой-то родственник из провинции.
— Но точно также это могла быть и она.
— Конечно. Я, безусловно, не упущу из виду этот след, как и любой другой. Сейчас же прямо отсюда поеду и расспрошу портье. Однако, ты должна назвать мне точное время того звонка. Портье меняются, работают посменно, их помощники тоже.
— Сейчас спрошу у Юзефа, — сказала я и чуть не нажала кнопку звонка. Но, к счастью, тут же вспомнила, что никто из прислуги не должен знать о дядиных визитах, потому что, если бы это дошло до отца, вспыхнул бы хороший скандал.
Я попросила дядю, чтобы он подождал и пошла расспросить Юзефа. К сожалению, он точно не помнил. Сказал, что это было где-то около десяти. Между тем, пока я разговаривала с Юзефом, произошло то, что следовало предусмотреть: в гостиную заявилась тетя Магдалена. Посмотрела, сказала «извините» и вышла, но наверняка успела присмотреться к дяде. Правда, она его не знает и никогда раньше не видела, но это такая болтушка, что не замедлит раздуть из этого целую историю. Жаль, что я согласилась, по просьбе Яцека с тем, чтобы привезти эту его тетушку из провинции. В конце концов, в доме от нее пользы мало, а неприятностей более чем достаточно.
Едва я спровадила дядю, тетушка уже ждала меня в кабинете. Нужно было быстро что-то придумать.
— Кто этот приличный пан? — спросила тетя Магдалена.
— Ах, пустяки, — ответила я как можно равнодушнее. — Он приходил по поводу участка на Жолибоже. Я сказала ему, что мужа нет в Варшаве, а я не в курсе его дел.
Тетя подозрительно посмотрела на меня.
— Он похож не на посредника, а на какого-нибудь аристократа.
Я пожала плечами.
— Тетушка, теперь многие из аристократов зарабатывают себе на жизнь довольно странным образом. И если кто-то прилично выглядит, то ему, пожалуй, легче добиться успеха. И чтобы отвлечь тетино внимание от этой темы, я добавила: — Напрасно вы не сказали, тетушка, что этот мужчина вас так заинтересовал. Я бы вас познакомила.
— Оставь свои шутки, — буркнула тетя Магдалена и вышла.
Я условилась с Тото встретиться в три. Решила его проучить и позвонила Мушке Здроевской. К счастью, застала ее дома. Мы щебетали друг с дружкой так сладенько, как две птички. (Я всегда говорила, что она неискренняя). Пригласила Мушку на обед в «Бристоль», ни словом не упоминая Тото, сказала лишь, что будет Доминик Мирский и, может, кто-то из его приятелей. Отказаться она, конечно, не могла. Через полчаса я заехала за ней машиной и не могла не порадоваться ее виду: Мушка слишком сильно подвела брови и напялила смехотворную шляпку. Вот теперь пусть Тото посмотрит на нас обеих. Больше мне ничего не надо. Мирский с Тото уже ждали в вестибюле, и настроение у них сразу испортилось. Педантичный Мирский раздражался из нашего почти получасового опоздания. Тото расстроился, когда увидел со мной Мушку. Состроил такую мину, как наглотавшийся камешков индюк. Лучшего отношения он не заслуживал. В ресторане было многолюдно. Если бы Тото не зарезервировал столик, нам пришлось бы уйти ни с чем. Знакомых было множество, и в основном из провинции. В такой толпе вряд ли можно было разглядеть особу, ради которой я сюда пришла. Поэтому я занялась Мушкой, осыпая ее такими излишне восторженными комплиментами, что надо быть наивной, как она, чтобы принять все это за чистую монету. Почти после каждого слова я обращалась за поддержкой к Тото, и он, хоть и сворачивался каждый раз штопором, все же должен был поддерживать мои комплименты. Да, это была замечательная забава. Но ее нарушила мне Данка, появившись вдруг в «Бристоле» в обществе своего жениха и его сестры. Оказалось, что в это «гнездо гуляк, бездельников и транжир», куда никогда не ступила бы ни одна из четырех ног этой влюбленной пары, они притащились в результате стихийного бедствия. Данку пригласили на обед к матери Станислава, однако их кухарку внезапно свалил страшный прострел. При таких обстоятельствах она и слушать не хотела о приготовлении обеда, и мать Станислава отправили всю троицу в «Бристоль».
Мои отношения с Данкой никогда не были очень близкими. Мы решительно не могли служить образцом для других сестер. Даже будучи еще девочками, обе упорно отказывались носить одинаковые платья. Хотя разница между нами только два года (Данка младшая, но все говорят, что она выглядит старше меня), однако характеры и темперамент у нас диаметрально противоположные. Данка никогда не любила танцев, развлечений, путешествий. В театр ходит только на «Дзяды», на Виспянского, считает шедевром «Перепелочку» Жеромского, а выдающейся фигурой в том шедевре — Юлиуша Остерву. (Не хочу, чтобы меня не так поняли. Я сама очень люблю пана Юлиуша и никогда этого перед ним не скрывала, но «Перепелочку» видела только раз, да и то ужасно скучала. Данка не представляет себе жизни без каких-то собраний, митингов, обществ, союзов и другой скукотищи. Все бы ей к чему-то стремиться, все бы способствовать какому-то развитию, все бы что-то организовывать…
Я нисколько ее за это не упрекаю. Наконец, каждый может делать то, что ему угодно. Мы просто не подходим друг к другу. Не думаю, что после основания своего домашнего очага они станут часто приглашать меня к себе. Но представляю, каким адским мучением будет для меня их дом. Потому что она со своим Стасем одного поля ягоды. Как по мне, то сам его вид может вызвать раздражение. Высокого роста, худой, нордического типа с так называемыми «льняными» волосами и высоким лбом. Он никогда не говорит просто. Всегда или мечет громы, или клеймит, или поднимает свой голос, или добивается, или указывает. Производит такое впечатление, словно каждое мгновение готов взойти с поднятой головой на костер и, не моргнув глазом, дать сжечь себя вместе с грузом своих убеждений. Впрочем, мне не в чем его упрекнуть. Он очень приличный мужчина, прекрасно управляет своей фабрикой и делает людям много добра. То, что он происходит из мещанской семьи, для меня лично ничего не значит. Так же, как не импонируют мне мои аристократические кровные связи с материнской стороны. Короче говоря, Станислав меня не привлекает. А уж Тото чувствует себя в его обществе совсем неловко.
Они не могли найти свободный столик, поэтому нам пришлось пригласить их к своему. Единственным утешением была Лула, которую злые языки прозвали «святой Леонией» (что и говорить, невеселое имя!). Я совсем мало ее знаю. Станислав показывался с ней редко. Так или иначе, это была, несомненно, самая милая старая панна из всех, каких мне доводилось видеть. Все знали, что в молодости она пережила драму — ее жених погиб на фронте в 1920 году, и с тех пор она ни на день не сняла траура. Что за анахронизм! Типичная романтическая история в духе прошлого века.
Своей внешностью Лула походила на женскую фигуру с «Полонии» Гротгера. Однако в общении была очень приятна. Сколько изящества в этой женщине! Никогда не видела ее лица без улыбки. Никогда не замечала в ее глазах недоброжелательности, неприязни или хотя бы осуждения. В разговоре она была утонченная, снисходительная и остроумная, однако ее остроумие было старосветского толка — слишком изысканное, обтекаемое и безличное. Несмотря на свою репутацию «святой Леонии», она не избегала никаких тем, по крайней мере, они ее не возмущали. И хотя ей уже наверняка перевалило за сорок, она вся дышала свежестью.
Инициативу в разговоре сразу взял Станислав и принялся рассказывать о последних политических событиях.
Насколько интересует меня внешняя политика — ведь Яцек часто разговаривает со мной о всевозможных дипломатических делах, — настолько плохо я разбираюсь во внутренней, а для Станислава это любимая тема.
Воспользовавшись тем, что разговор приобрел общий характер, я спросила Данку, что слышно дома. Я не была у родителей уже целую неделю и, кроме того, что несколько раз звонила матери, с ними не общалась. Данка известила меня (Данка никогда не говорит — она всегда извещает), как расстроило отца то, что Яцек уехал не попрощавшись. Других новостей нет. Отец ведет теперь какой-то большой процесс о возвращении конфискованного имущества, и его ничто больше не интересует. На следующей неделе собирается поехать куда-то за город, где должна быть охота на волков.
— Если хочешь увидеть отца, приходи завтра. Ты почти не бываешь дома.
В ее взгляде был осуждение. Я хорошо знаю, что она не досказала. Хотела дать мне понять, что я бываю дома только тогда, когда меня приводит туда собственная выгода. Я бы зря потеряла время, если бы стала разъяснять ей, что это не так. Я не скучаю по дому, поскольку, во-первых, имею свой собственный, а во-вторых, мне у них неинтересно. Я очень уважаю отца и очень люблю маму. Правда, мама не отличается большим умом, но это еще не повод считать ее совершенно глупой, как это делает дядя Альбин.
Другое дело, что ее занятия меня не интересуют. К тому же мама порой бывает очень рассеянна, и об этой ее черте даже рассказывают анекдоты. Люди любят посмеяться над другими — дай им только такую возможность. Вот даже об отце рассказывают, что, отвечая на тост во время своего юбилейного банкета, он начал словами: «Высокий суд», — а между тем невозможно представить себе более серьезного человека, чем он. Человека, не только полностью лишенного забавных черт, но прямо-таки удручающего своим достоинством.
Можно ценить все это, можно уважать, но выдержать действительно нелегко. Домашней атмосферой я надышалась до отвала еще до замужества. И, кроме всего прочего, меня дрожь берет, когда я подумаю, что в случае катастрофического разрешения дела Яцека придется вернуться к родителям.
Теперь уже я вряд ли могла бы жить в тех условиях. Ни в Варшаве, ни в Голдове. В Голдове лучше разве что тем, что имеешь дело либо с матерью, либо с отцом. Потому что или мать едет в Виши, или отец в Карлсбад. Зато приезжает немало милых соседей. Всегда там играют в бридж, ездят на охоту, по крайней мере есть хоть немного свободы. А в доме на Вьейской все как в церкви. Вот Данка выросла в той атмосфере, и чувствует себя в ней прекрасно. А почему я не такая? Не раз уже об этом думала.
У меня нет особого влечения к забавам и развлечениям. Меня больше интересует общение с людьми другого типа. Я вполне осознаю то, что, объективно говоря, они, возможно, имеют меньше достоинств, имеют меньший вес по своему общественному положению и культурному уровню, но они свободнее, веселее и не взбираются на котурны.
Прошлой весной я познакомилась на Ривьере со знаменитым Эдуардом Эррио. Человек тоже весьма достойный, несколько раз был премьером, возглавлял парламент, однако в обществе не говорит о скучных вещах и умеет быть очень остроумным. И почему это у нас такие господа считают святым долгом носиться со своей серьезностью и подавлять ею всех вокруг. Оставляют ее только тогда, когда остаются один на один с приглянувшейся им женщиной. Боже мой, и какие они бывают тогда смешные! Хотя бы той же самой разницей. «Люблю вас горячо», «Вся жизнь целовал бы такие ножки». Хорошо еще, если не говорят: «Солнышко ты мое». Или: «Съел бы тебя с косточками». А достаточно кому-нибудь через минуту войти в комнату, как такой пан вдруг запнется и его лицо тут же становится как мраморное.
Меня не раз разбирал смех, когда я представляла себе отца в такой ситуации. Не знаю, есть ли у него теперь какая-нибудь приятельница, но что-то мне не верится, чтобы всю жизнь он был верен матери. Именно потому и не верится, что мать так часто и с таким упоением об этом говорит. И его седая бородка, и роговые очки, и эти важные манеры… Как бы оно все выглядело в уютном гнездышке некой куколки! А может, и правду как говорит мать, он ей не изменял. Но это не означает, что он того не хотел бы, потому что убеждения часто подавляют в человеке предпочтения.
Все-таки навещу завтра родителей. А при случае загляну в библиотеку и найду соответствующий параграф закона. Интересно, какое наказание грозит за двоеженство.
В ресторане стало свободнее, и я увидела дядю Альбина. Он сидел за столиком у окна с каким-то неприметным с виду молодым человеком и что-то, писал на открытке. Я была уверена, что это связано с нашим делом.
И действительно, когда мы выходили из ресторана, слуга подал мне сложенную открытку. Он сделал это так ловко, что, к счастью, никто этого не заметил. Делая вид, будто ищу что-то в сумочке, я прочла записку и едва скрыла, как она меня поразила. Дядя Альбин писал:
«Есть новости. Особа, поручившая портье позвонить вам домой, была мисс Элизабет Норман, англичанка, не владеющая ни одним языком кроме родного. Прибыла в Варшаву 22 декабря прошлого года. Туристка. Езжай домой и жди моего звонка».
Я была разочарована. Или портье, информируя дядю, ошибся, или здесь какое-то недоразумение. Женщина, писавшая Яцеку, в совершенстве владела польским. Это раз. Во-вторых, она подписалась буквой «Б», а тем временем ее инициалы состоят из букв «Э» и «Н».
Я, конечно, попросила, чтобы меня сразу же отвезли домой, хотя перед тем уже согласилась поехать по приглашению Станислава на кофе к его матери. Я приняла это приглашение только потому, что Станислав чувствовал себя обязанным перед Тото, который заплатил за обед в «Бристоле». Лучше было согласиться на черный кофе, чем подвергаться опасности, что педантичный Станислав когда-нибудь пригласит нас на обед.
Я вскоре была дома, и дядиного звонка ждала недолго. Он подробно рассказал обо всем. А именно: особа, интересовавшаяся, приехал ли Яцек, была эта панна Норман. Портье точно это вспомнил. Однако дядя предполагал, что панна Норман может не иметь ничего общего с женщиной, которая нас интересует. Она могла просто знать Яцека за границей или даже познакомиться с ним в Варшаве в каком-либо посольстве.
В любом случае, не стоило оставлять и этого следа, и дядя пообещал, что в течение суток наверняка узнает, кто такая панна Норман и как она выглядит.
Я сказала:
— Есть у меня такое предчувствие, что если это и не она, то все же каким-то образом с ней связана. Бога ради, дядюшка, хорошо все разведайте, потому что такая шантажистка, в конце концов, может сделать вид, что не умеет разговаривать по-польски. Поверьте в мое предчувствие.
— Детка, я приму все это во внимание, — засмеялся он. — Однако то, что я знаю о ней сейчас, вроде не подтверждает твоего предчувствия. Я сделаю все…
Наш разговор неожиданно прервался. Позвонили с междугородной и сказали, что меня вызывает Париж.
Все-таки он поехал в Париж!
После нескольких «алло, алло!» я услышала голос Яцека. Прежде всего, он спросил меня о здоровье, сказал, что скучает по мне и все время был очень занят, а потом сообщил, что важные дела задерживают его в Париже еще на несколько дней. До сих пор его звонок ничем не отличался от обычных. Но вот он спросил:
— Как поживаешь, Ганечка, ничего нового не произошло?
— Ничего. А что могло произойти? Он несколько мгновений колебался, потом сказал:
— Ну, значит, все в порядке. Будь здорова, вспоминай меня и ни в коем случае не думай обо мне плохо.
Это был слишком выразительный намек.
— А чего бы я должна о тебе плохо думать?.. И что значит «ни в коем случае»?..
Он немного смутился. В голосе его послышалась неуверенность.
— Ну, может, ты думаешь, что я здесь развлекаюсь и поэтому не спешу возвращаться.
— Я так совсем не думаю, — ответила я отчетливо.
Это должно его насторожить. Но Яцек непринужденно ответил:
— Ты лучшая жена в мире. Поверь, я работаю здесь как вол, с утра до вечера. До свидания, любимая.
— До свидания, Яцек. До встречи.
Я положила трубку и не могла сдержать улыбки. Следовательно, он не сбежал от меня! Он все-таки меня любит! Кто знает, может, задержка с возвращением связана с этой его скандальной женитьбой?.. Так или иначе, разговор этот очень меня успокоил.
Наконец, задержка Яцека была мне только на руку. Не из-за Тото, нет, упаси боже, а из-за той женщины. Неужели мне изменяет интуиция? Действительно ли эта мисс Элизабет Норман — его первая жена?
Что касается разницы ее инициалов с написанной под письмом буквой «Б», то тут у меня вдруг исчезли всякие противоречия. Ведь буква «Б» могла быть сокращением ласкательного имени: Бесси, Бетси, Бет, Бес или Бетти. Англичане очень часто называют таким образом своих Элизабет. Как она выглядит — вот что самое важное. Она явно старше меня. Но достаточно ли она красивая, чтобы со мной соперничать? Ведь в этом деле имеет значение не только то, согласится ли она исчезнуть, получив определенную сумму денег, но и то, захочет ли Яцек к ней вернуться. Из телефонного разговора с ним я могла сделать вывод, что у него такого намерения нет. Однако кто знает, не сумеет ли та ужасная женщина заставить его изменить свое решение. О, она очень ошибается, если думает, что я легко отрекусь от своих прав! В конце концов, я не остановлюсь даже перед скандалом. Даже перед тем, чтобы вмешать в это дело отца.
Мое хорошее настроение испортила мысль: когда моя соперница много лет назад покинула Яцека, он, видимо, любил ее или, во всяком случае, она имела на него такое влияние, что осталась в его памяти как нечто добытое и утраченное, а, следовательно, тем больше желаемое. Трудно сказать, не оживет теперь в нем это чувство.
Эти мои размышления прервала тетя Магдалена, которая услышала звонок междугородной станции и пришла надоедать мне своими вопросами: «А что Яцек делает?.. А что говорил?.. А когда вернется?..» Я никак не могла от нее избавиться, а было уже четверть седьмого. А я ведь еще в шесть должна была позвонить пану Тоннору. Но, в конце концов, я нашла способ ее напугать. Я вспомнила, что тетя очень боится инфекции, потому и сказала:
— Вы знаете, тетушка, наверное, я съела сегодня за обедом что-то плохое. Мне так дурно…
И состроила кислую мину, которая не оставляла никаких сомнений в правдивости моих слов.
Тетя немного побледнела и вдруг поднялась. Не глядя на меня, воскликнула:
— Дорогая, немедленно прими какое-то лекарство! И, может, ложись в постель. Или выйди на свежий воздух… Прости, но у меня дела.
Когда она была уже у дверей, я умышленно начала икать. Не могла отказать себе в таком удовольствии. Тетя рванулась вперед, словно лошадь, подхлестнутая кнутом, и, в конце концов, перешла на рысь.
Не изымая этого отступления из дневника п. Реновицкой, хочу, однако, определенно отметить, что ничуть не одобряю такого поведения автора относительно тети собственного мужа. Вообще, устрашение теток с помощью симуляции неприятных физиологических проявлений — метод, давно уже осужденный и по большей части, как я сам не раз имел возможность убедиться, неэффективный. Тети по самой природе своей скорее склонны помочь близким лицам в случае каких-либо возмущений в их организме, чем бежать прочь. Они делают это, я бы сказал, даже с немалым удовольствием. (Примечание Т. Д.-М.)
Я боялась, что уже не застану Тоннора. Однако он был дома и сразу узнал мой голос.
— Я ждал вашего звонка, — сказал приветливо.
— Не думайте, пожалуйста, — отметила я, — что я позвонила бы вам, если бы не забыла у вас Гальшкиних писем. Речь идет о ней и только о ней.
— О-о-о, — сказал он своим приятным баритоном. — Я никогда не осмелился бы предположить, что вы изволите вспомнить обо мне по какому-либо другому поводу.
В его голосе чувствовалась самоуверенность, и я решила дать отпор.
— Ваша скромность говорит о том, что у вас есть чувство реальности, но это не имеет отношения к делу. У меня мало времени. Не хотелось бы посылать никого из прислуги, потому что не могу ни на кого положиться. Предпочла бы уладить это дело сама.
— И я, простите, тоже так считаю.
— Могу ли я прийти к вам сейчас? То есть, примерно через полчаса?
— Сделайте одолжение.
Я надела свое красивое гранатовое платье с белой отделкой. Правда, я его уже давно ношу, но сейчас это не имело значения, так как он никогда не видел этого платья. К нему выбрала шляпку на три тона светлее, вроде зуавского кепи, и беличьи меха. Они меня молодят. А в каракулевых, в которых я была у него первый раз, я выгляжу хотя и намного нежнее, но старше. Надушилась духами «Voyage de noce». («Свадебное путешествие» (франц.)), которые имеют весьма пикантный запах.
Он вновь открыл мне сам. Поздоровался как хороший знакомый. Все-таки эти опытные соблазнители умеют обращаться с женщинами. По выражению его глаз я увидела, что он отметил каждую деталь моего туалета и что все ему понравилось. Я сразу почувствовала себя увереннее. В комнате, где я тогда была, на этот раз царил беспорядок. На диване, на столике, на креслах лежало множество граммофонных пластинок.
— Извините за беспорядок. Час назад получил новые пластинки из Лондона. Вот и начал прослушивать. Сейчас я уберу. Некоторые просто замечательные. А вы любите музыку?
У меня не было повода отрицать.
— Хорошо, что у нас одинаковые вкусы. Вот послушайте это.
Он поставил действительно красивую вещь, которой я еще не знала.
— Это все последние новинки, — пояснил он, собирая остальные пластинки и составляя их на полочку возле патефона. — Есть люди, которые считают, будто петь лучше на итальянском языке. Что касается меня, то я не разделяю этого мнения. Каждая мелодия, каждый вид музыкальной фактуры требует своего языка. Вот представьте себе, например, куявяк, который поют по-немецки, или испанское болеро по-английски. Не правда ли?.. А тот красивый «мерседес», в котором я видел вас сегодня утром на Модлинском шоссе, ваш собственный?
— Вы меня видели?
— Мельком. Рядом с вами сидел какой-то пан, но я не успел его разглядеть. Очень сожалею. Узнал бы, какой у вас вкус. Но, к сожалению, вы ехали очень быстро. И так из-за вас чуть на фуру не налетел.
Я сделала равнодушную мину.
— Если вы засматриваетесь на всех женщин во встречных машинах, то когда-нибудь наверное так и будет.
— Я вижу, вы считаете меня донжуаном.
— Донжуаном?.. Нет, извините. Это было бы слишком высоким званием… Скажем, обычным соблазнителем.
— Вы ошибаетесь. За всю свою не очень короткую жизнь я знал многих мужчин. Однако не видел еще ни одного соблазнителя. Я бы гордился, если бы мог считать себя исключением. Так научите же меня по крайней мере, как заслужить хотя бы это самое низкое звание.
Он слегка наклонился ко мне и с улыбкой в глазах как-то странно разглядывал меня. Я взяла себя в руки и перевела разговор в более безопасное русло.
— У меня нет педагогических способностей. И уверяю вас, что не для того отнимаю ваше время. Я пришла сюда, чтобы забрать письма своей приятельницы.
— Ах, да! Письма…
Он неторопливо поднялся и вышел в соседнюю комнату. Но вернулся не с письмами, а с бутылкой и двумя довольно большими бокалами.
— Что касается писем, — начал он, — то дело несколько осложнилась. Не выпьете ли чашечку кофе?..
Не дожидаясь моего ответа, он нажал кнопку звонка.
— Благодарю вас, но я спешу.
— Я учел это, потому кофе уже готов. Вы понимаете, я действительно хотел отдать вам эти письма, но, к сожалению, возникло обстоятельство, поломавшее мои планы. Вы говорите по-французски?
Я сразу поняла, почему он об этом спросил. Где-то в глубине квартиры открылась дверь, и через минуту в комнату вошла горничная с подносом. Ее вид поразил меня. Просто неприлично, чтобы молодой мужчина держал у себя такую горничную. Она, конечно, не была классической красавицей (у девушек такого типа рано портится лицо), но пока была довольно хорошенькой. Хрупкая брюнетка с вздернутым носиком и свеженьким личиком. Вела себя она как врожденная и опытная кокетка, хотя ей вряд ли было двадцать лет. А хуже всего то, что каждое ее движение производило впечатление вполне естественного. Следовало бы издать постановление, которое запрещало бы молодым мужчинам пользоваться услугами женщин, особенно моложе сорока лет или еще лучше пятидесяти. Надо поговорить об этом с отцом и с сенатором Дарновским. Лучше всего мог бы это сделать Станислав, но он такой идеалист, что не усмотрел бы в этом факте ничего аморального.
Эта маленькая обезьянка была так уверена в себе, что улыбалась даже мне, видимо, считая меня безопасной. Пан Тоннор, казалось, не обращал на нее никакого внимания и продолжал уже по-французски:
— Очень рекомендую вам этот напиток. Это настоящий старый коньяк, который трудно теперь найти не только в Варшаве, но и в самом Париже. Он достался мне случайно от одного из моих друзей… Но вернемся к письмам вашей приятельницы. Здесь произошла непредвиденная вещь. Дело в том, что она сама сегодня утром соизволила меня навестить и потребовала, чтобы я отдал ей эти письма. Вы не можете себе представить, с каким огорчением я исполнил ее волю. Конечно, не из-за писем, — многозначительно добавил он.
То, что он сказал, так смутило меня, что я даже не заметила, когда вышла та развязная горничная. Я не сомневалась, что он говорит правду. От Гальшки всего можно ожидать. Почему же она не предупредила меня? Ведь из-за нее я оказалась в ужасно фальшивом и досадном положении. Этот пан может подумать, будто я знала, что письма забрали, и все-таки пришла. Нужно было непременно это выяснить. С трудом овладев собой, я сказала:
— Ах, вот как! Прошу прощения. Я ничего об этом не знала. В конце концов, Гальшке некогда было меня предупредить, я сегодня совсем не была дома. Обедала в «Бристоле», а перед тем, как вы знаете, ездила на дальнюю прогулку. Так что я и в самом деле ничего об этом не знала и еще раз прошу прощения.
Я протянула руку к перчаткам и сумочке, но он решительно задержал меня.
— Нет, нет, подождите. Я знаю, что это произошло без вашего ведома. Даже имею довольно забавное доказательство.
— Имеете доказательство? — обрадовано спросила я.
— Ну да. Гальшка устроила мне ужасную сцену. Поскольку у меня мягкий характер и я боюсь сцен, то от страха чуть не выскочил из окна. И представьте себе, эта сцена была из-за вас.
— Как это из-за меня?!
— Вот так. Пришлось мне выслушать немало горьких упреков по поводу моей неделикатности. Потому что именно так определила Гальшка мою готовность отдать ее письма в чужие руки.
Я невольно покраснела.
— Ничего не понимаю. Я готова вам поклясться, что Гальшка сама меня просила, чтобы я взяла у вас эти письма. Она уверяла меня, что нет другого способа забрать их у вас. Можете ли вы мне поверить?
Он непринужденно рассмеялся.
— Да, я верю вам, очаровательная пани Ганка.
Он знает мое имя! А может, и фамилию. Наверное, та идиотка все выболтала! Вот попала я в историю! Я так разозлилась на нее, что готова была в свою очередь выложить о ней все. Пусть пан Тоннор знает, что она считала его шантажистом, что рассказывала о нем как о темной личности. Только благодаря своему сдержанному характеру я в последний момент прикусила язык.
— Откуда вы знаете мое имя? — спросила я.
— Его назвала в пылу ваша приятельница. Но вы не беспокойтесь, она ничего больше не говорила, — и он ласково заглянул мне в глаза.
— Вы можете дать слово?
— Хоть десять.
— Хотела бы вам верить… — вздохнула я. — Ведь вы понимаете, как мне обидно. Я предложила Гальшке свою помощь, когда она в этом нуждалась. А теперь вижу, что вы любите друг друга и что мое вмешательство в ваши дела было совершенно излишне.
Он встал и с весьма серьезным выражением лица взял меня за руку.
— Поверьте мне, что этот случай был, пожалуй, самым счастливым в моей жизни. И если я чувствую к Гальшке не любовь, потому что ее никогда не было, а только симпатию, то лишь потому, что она невольно дала мне возможность познакомиться с вами. — Он смотрел мне прямо в глаза и продолжал: — Я ничего о вас не знаю. Мы с вами перемолвились лишь несколькими словами, но и этого достаточно, чтобы убедиться, что встреча с вами будет важной вехой в моей жизни. Не знаю, захотите ли вы поддерживать наше знакомство. Не знаю, не посмотрите ли вы на меня с усмешкой после этой трагикомической истории. Не знаю, увижу ли я вас еще когда-нибудь. Но даже если с этой минуты между нами станет непреодолимая преграда, вы все равно останетесь в моей памяти на долгие-долгие годы.
Сосредоточенное выражение его лица, серьезные и грустные глаза, горячие ладони и низкий голос, в котором звучало глубокое чувство — все говорило о том, что он говорит правду, он искренен, что впечатление, которое я на него произвела, не поверхностное и не забудется быстро.
Вдруг он показался мне куда более близким, чем многие другие люди, которых я знала давно. Боже мой, как это странно! Ведь совершенно ясно, что я шла к нему как к незнакомому и даже враждебному человеку, и вдруг несколько этих его слов так все изменили.
О, теперь я еще больше уверилась: все, что рассказывала мне о нем Гальшка, было ложью. Вероятно, он немало для нее значит. В его поведении столько достоинства и деликатности. И никакого лицемерия.
— Я вовсе не собираюсь прекращать с вами знакомства, — ответила я. — По-моему, оно очень милое.
Он без слов взял мою руку и слегка, совсем слегка коснулся ее губами. Еще какую-то минутку он задумчиво смотрел на меня, затем улыбнулся и подал мне чашечку кофе, одновременно придвинув ко мне бокал с коньяком.
— Гальшка ввела меня в заблуждение, — начала я, но он тут же остановил меня.
— Не будем больше о ней говорить. Для меня она прошлое, а прошлое никогда не возвращается. — Он протянул ко мне свой бокал и добавил: — А теперь выпьем за будущее. Чтобы оно было хоть немного таким прекрасным, каким я себе его желаю.
— Себе? Вы эгоист.
— В данном случае нет, — возразил он. — Дело в том, что в данном случае я имею в виду будущее двух людей.
Он засмеялся так искренне и нежно, что и я не могла сдержать улыбки. Затем придвинулся ко мне и легонько, очень легонько, будто положив руку на спинку моего кресла, обнял меня. Я не могла отвести взгляд от его глаз…
В этом месте я считаю целесообразным прекратить описание п. Реновицкой как несущественное для дневника в целом. В то же время мне, как и читателям, кажется вещью нормальной, что во время того двухчасового визита п. Ганки к п. Роберту Тоннору между ними завязались так называемые «дружеские связи». Вместе с тем я убежден, что там не произошло ничего такого, что могло бы бросить тень на доброе имя п. Реновицкой, равно как и на безупречную репутацию джентльмена, которую, как она сама считает, вполне заслуживал п. Роберт Тоннор. Угрожающее и неопределенное положение, в котором оказалась автор дневника вследствие выявления первого брака своего мужа, делает для нас понятным, как нужна была ей настоящая дружба и сильное мужское плечо, на которое она могла бы опереться.
Вероятно, не один из читателей упрекнул бы п. Ганку в том, что она слишком легкомысленно отнеслась к трагедии собственного семейного очага, чрезмерно распыляет свое внимание на дела, которые не имеют непосредственной связи с приближающейся угрозой. По-моему, эти упреки незаслуженные. Пани Ганке едва минуло двадцать три года, и у нее была широкая, жаждущая новых впечатлений натура. Неторопливое следствие, которое вел ее дядя, не могло полностью заполнить время такой живой, импульсивной и активной особы. Если впоследствии окажется, что в выборе средств проявления своей активности она допустила какие-то ошибки, то это не значит, что такие же ошибки на ее месте не допустили бы сотни подобных ей женщин.
Поэтому, не бросая камни упреков, ограничимся признанием факта, что в то воскресенье между п. Ганкой Реновицкой и п. Робертом Тоннором завязалась дружба. Доказательством этого может быть то, что они наверняка выпили замечательный коньяк п. Тоннора на брудершафт, поскольку с этого дня п. Реновицкая в своем дневнике называет его просто Робертом. (Примечание Т. Д.-М.)
Я вернулась домой, потрясенная всем этим. К тому же выпила слишком много коньяка. Какой удивительный мир! Человек никогда не знает, что его ждет, что с ним может случиться. Вот если бы жизнь всегда радовала меня такими неожиданностями! Роберт просто замечательный!
У меня было еще два часа времени, и я немедленно взяла свою тетрадь, чтобы все это записать. Чтобы не пропустить ни малейшей детали этого дня. Заканчиваю. Звонит телефон. Вероятно, это Тото из «Бристоля». Всегда и везде я опаздываю.
Вторник
Весь вчерашний день не было ни минуты, чтобы взять в руки перо. Сейчас ночь. Вокруг полнейшая тишина. Розовый свет лампы падает на бумагу, оббитая мягкими драпировками спальня кажется мне тихим и безопасным пристанищем, где ничто мне не угрожает. Часы, тихо тикая, отсчитывают секунды. Наконец я могу сосредоточиться. Заглянуть в недавние события и в собственную душу.
Наконец я таки увидела ее!
Да. Потому что теперь уже нет ни малейшего сомнения, что это она. Зовут ее Элизабет Норман. В паспорте значится как жительница Бельгии, двадцати шести лет. Однако выглядит, по меньшей мере, на двадцать восемь. А я готова заложить голову, что ей все тридцать. Она красива, это трудно отрицать. Что касается ее возраста, дядя Альбин не ошибся. Зато его предсказания относительно ее внешности не оправдались. Она не блондинка, а рыжеватая шатенка. Глаза у нее не голубые, а зеленые. Ростом она не такая, как я, а значительно ниже и тоньше. Вот вам доказательство постоянства мужских вкусов! Бог знает, какими еще женщинами мог восхищаться Яцек. Теперь я уже ни во что не верю. Могли там быть и брюнетки, и рыжие, может, даже китаянки или негритянки. От мужчин можно ожидать чего угодно.
В первый момент, когда я ее увидела, мне показалось, что это та самая женщина, которую я встретила на лестнице у Роберта во время своего первого визита. Но, оказывается, я ошиблась. Во-первых, та была совсем рыжая, во-вторых, несколько выше, а в-третьих, сам Роберт на мой вопрос, знает ли он мисс Элизабет Норман, ответил, что никогда не слышал о такой. Он даже удивился, откуда я взяла это имя. Я очень доверяю Роберту и охотно рассказала бы ему обо всем. Ясно, что такой сообразительный человек, как он, нашел бы выход из положения. Сумел бы что-то мне посоветовать, каким-то образом помочь. Но, к сожалению, я торжественно пообещала дяде не доверяться никому ни словом. В конце концов, если дядя считает, что нужно молчать, то, наверное, он прав. Надо положиться на его опыт.
Удивил он меня своим опытом. Ведь благодаря ему открылось то, что открылось. Но расскажу обо всем по порядку.
Когда в воскресенье вечером мы с Тото и его кузеном Лобоневским проходили через вестибюль «Бристоля», я увидела дядю, внимательно читающего газету. Он был в смокинге. Кстати, он единственный человек, который в смокинге не похож на официанта. Во время ужина меня вызвали к телефону. Конечно, это был не телефон, а дядя. Не теряя времени на лишние разговоры, он показал мне полоску почтовой бумаги.
— Узнаешь этот почерк? — спросил он.
Я сразу его узнала. Это был ее почерк. Я бы узнала его даже в аду. Оказывается, дядя дал хорошие чаевые горничной, убиравшей номер панны Норман, чтобы она получила хоть клочок бумаги исписанный англичанкой. На отрывке можно было прочесть слова: «… nd I now in War …»
Как видно, это должно было означать: «и я теперь в Варшаве». В конце концов, и бумага была та же.
— А теперь, — спросил дядя, — хочешь ее увидеть?
— Где она? — забеспокоилась я.
— Сидит в ресторане. Маленький столик за второй колонной. Она одна, одета в темно-зеленое платье и горжетку из серебристых лис.
— Она красивая? — спросила я.
Дядя блеснул моноклем и сказал:
— First class. (Первый сорт (англ.).)
Я была неприятно поражена и подумала, что дядя преувеличивает. Но он добавил:
— Опомнись, детка, и не вздумай гримасничать. Постарайся обращать на нее как можно меньше внимания. А то все испортишь. Нельзя чтобы она заметила, что ты к ней присматриваешься. Подумай сама: ей достаточно узнать у официанта твою фамилию. А тебя здесь знают очень хорошо.
Я торжественно поклялась дяде, что буду держать себя в руках. И за весь ужин лишь три или, может, четыре раза посмотрела в ее сторону. Больше не могла, потому что сидела к ней спиной. Зато Лобоневский откровенно ел ее глазами. Но недолго, потому что, поужинав, она сразу же вышла. Что я могу о ней сказать? Она изящная, имеет хорошую фигуру. Походка у нее тоже красивая. Одета первоклассно, хотя модель ее платья скорее напоминает Вену, чем Париж.
На протяжении всего ужина Тото надоедал мне вопросами, что со мной и как я себя чувствую. Ох, эти мужчины! Им и в голову не приходит, что в женской душе может бушевать целый океан чувств. Если бы они читали Налковскую, то поняли бы, что в нас творится. Я уже не говорю о Тото, который, кроме «Всадника и коневода», не возьмет в руки печатного издания. И если даже такие, как мой Яцек, зевают, читая «Богумила и Барбару», то это действительно немыслимо. Они глубокомысленно заявляют, что женщины непостижимые загадки. Они неспособны нас понять, а когда имеют возможность узнать о нас побольше из женской литературы, то предпочитают играть в бридж. Интересно, что думает об этом Роберт. Надо будет поговорить с ним на эту тему.
Вернувшись домой, я даже позвонила ему, но никто не ответил. Правда, было уже два часа ночи. Он мог спать и выключить телефон. Это даже хорошо, что он так делает. Женщины, видимо, не дают ему покоя, названивая за полночь.
Поскольку утром тетя Магдалена принялась убирать в квартире, мне пришлось назначить дяде свидание в небольшой кондитерской на углу. Я могу встречаться с ним там совершенно спокойно, потому что никто из общества в такие кондитерские не заглядывает.
Дядя был доволен собой. Оказалось, что ночью ему хорошо шла карта, а кроме того, он собрал дальнейшие сведения о той женщине?
Он видел собственными глазами ее паспорт. Узнал, что она очень редко выходит из отеля, не посылает, по крайней мере через прислугу, никаких писем и что приехала из Вены. (Об этом я и сама догадалась по ее платью. Мой глаз никогда мне не изменяет).
— Что же дальше? — спросила я дядю.
— Будет нелегко, — начал он, — так как теперь придется идти двумя путями. Прежде всего, следует обратиться в какую-нибудь бельгийскую розыскную контору или детективное бюро. Сейчас я объясню тебе, детка, почему это важно. Дело в том, что мисс Элизабет Норман не представляется мне обычной, ординарной особой, каких можно встретить тысячи.
— Почему это? — сказала я. — Не потому ли, что крашена в рыжий цвет?
Он улыбнулся и покачал головой.
— Нет, дорогая, не потому. Вот подумай сама: оставит ли нормальная девушка своего мужа сразу после свадьбы, ни словом ничего не объяснив? Может ли нормальная девушка много лет подряд не давать о себе знать, а впоследствии появиться, разыскать мужа, удачно женившегося второй раз, и требовать от него, чтобы он вернулся к своему первому семейному очагу? Нет, милая. Так обыкновенные панны себя не ведут. А чем отличаются обыкновенные от необыкновенных? Да тем, что необыкновенные имеют и необычную жизнь.
— Ага, — догадалась я. — Вы, дядюшка, думаете, что через розыскное бюро мы узнаем об этой женщине нечто такое, что ее компрометировало бы?
— Да, — подтвердил он. — А если и не компрометировало, то, во всяком случае, позволило бы нам в свою очередь загнать ее в угол. Надо иметь в виду тот факт, что мы не знаем, на какой стадии переговоров с ней находится Яцек, и как развиваются их отношения. Однако из того, что я о нем знаю, я охотнее склонен предположить, что ничего позитивного в этом направлении он не сделал. Он, наверное, ограничился уговорами, которые совсем на нее не повлияли.
— Я тоже такого мнения.
— То-то и оно. Вполне понятно, что при таких условиях его положение почти безнадежно. А вот если бы ты смогла дать ему в руки какие-то средства борьбы, то кто знает, не обретет ли это дело совсем другую окраску. Это одно. Второе направление наших действий не менее сложное. А именно: я постараюсь лично познакомиться с этой панной.
— Вы, дядюшка?
— Да, я.
— Зачем? Чтобы поговорить с ней?
— О, вовсе нет. Чтобы изучить ее. Каждый человек имеет свои уязвимые места, а женщина — особенно. Каждый человек может чем-то себя выдать, а женщина — тем более. Каждый человек поддается настроению, а женщина — сверх меры. Вот я и ставлю себе целью воспользоваться всем этим. А так как мисс Элизабет Норман не производит впечатления ни безобразной, ни отталкивающей женщины, то я думаю, приступая к этому делу, я не нарываюсь ни на какие неприятности.
— Хорошо. А каким образом вы с ней познакомитесь?
— Я же сразу сказал тебе, что это будет нелегко. Из тех сведений, которые я собрал на сегодня, следует, что эта дама ни с кем не встречается и почти совсем не пользуется телефоном. Это, конечно, сведения от прислуги отеля. Разумеется, вне отеля она может иметь знакомых и встречаться с ними. Итак, чтобы познакомиться с ней, мне придется прибегнуть к какой-то выдумке, к какому-то трюку.
— Вы уже придумали что-то определенное, дядюшка?
— Я придумал много чего, но пока не подвернется подходящего случая, не сделаю ни одного шага в этом направлении, чтобы не испортить всего дела.
Потом дядя достал из кармана листок бумаги, где уже были записаны несколько адресов розыскных бюро в Брюсселе. Немного посовещавшись между собой, мы выбрали одно из них, вызвавшее наибольшее доверие. Дядя взялся сам написать в эту контору.
На прощание я предостерегла его:
— Не забывайте, что та женщина, наверняка, знает мою девичью фамилию. Или по крайне мере ей не составит труда ее узнать. То есть, вам нельзя представиться ей как Нементовский, потому что это сразу вызовет у нее подозрение.
Он иронично улыбнулся и успокоил меня:
— Не бойся. Если бы я всем женщинам представлялся под своей фамилией, то давно уже должен был бы основать гарем.
«Как жаль, — подумала я про себя, — что я не знала его, когда он был молодым». Восемь лет назад он был для меня воплощением покорителя женских сердец. Все мои подруги, знакомые с ним, думали так же. Писали ему письма, пытались заполучить его фотографии и караулили под его виллой. К сожалению, для бедной Лильки это закончилось весьма печально. Интересно, знает ли об этом ее муж. Я слышала, что они очень любят друг друга. Надо будет как-то ей написать.
Вернувшись домой, я была встречена неожиданностью. Едва я открыла наружные двери, как в прихожую выбежала тетя Магдалена и, испепеляя меня взглядом, шепотом сказала:
— Хорошо, что ты пришла. Тут кое-кто тебя ждет.
В первое мгновение я растерялась. Как бы ни был Роберт сдержан и рассудителен, все же ему вдруг могло прийти в голову явиться сюда. Правда, я не сказала ему свою фамилию, но он знает мой номер телефона. А через справочное бюро нетрудно узнать, кому он принадлежит. Я просила, чтобы он этого не делал, и он пообещал мне, а его слову я верю безоговорочно. Но также понимаю и то, что бывают такие минуты, когда мужчина не может сдержать свои порывы. (И это даже хорошо). Я невольно покраснела, однако дальнейшие тетины слова развеяли мои опасения.
Метнув на меня уничтожающий взгляд, тетя добавила:
— Опять пришел посредник по поводу участка.
Я онемела от изумления. Это никак не мог быть дядя. Ведь я только что оставила его в кондитерской.
— Что-то он странно изменился, — прошипела тетя. — Совсем не такой на вид, как был в прошлый раз. А может, это какой-то мошенник, который перевоплощается к каждому визиту?
Сказав это, она фыркнула, вышла в столовую и слегка хлопнула дверью.
Я зашла в гостиную. У зеркала, на краешке кресла сидел маленький господин с брюшком, красными щечками и похожим на картофелину носом. Он вскочил на ноги, но это ему ничуть не прибавило роста. Я чуть не засмеялась, представив, что дядя Альбин мог бы так перевоплотиться. Этот приземистый, округлый человечек с идеальной лысиной имел бы немалый успех, выступая в балагане как человек-яйцо.
Он начал велеречиво распространяться об участке на Жолибоже, о курсовых ценах и кандидатах на покупку. Говорил быстро, с той невыносимой вежливостью, которая присуща плохо воспитанным людям. По-моему, они пользуются этим, чтобы их сразу же не выставили за дверь. Общаясь с таким типом, человек поневоле должен быть любезным, как бы ему ни было противно.
В конце концов, я не слушала, что он говорил. Ломала себе голову над тем, как выкрутиться перед тетей. И все же мне удалось вставить несколько слов в речь посредника, чтобы объяснить ему, что я решительно ничего не знаю о том участке, и что все это дело касается только моего мужа.
Когда он убрался прочь, в гостиной, как по мановению волшебной палочки, появилась тетя с победным и осуждающим выражением на лице.
— Не представляю себе, — начала она, — что может побудить обычного посредника прибегнуть к таким удивительным метаморфозам. Вчера он был изысканным, представительным джентльменом, а сегодня это некий низкий субъект, весьма неприглядный с виду. То он обязательно застает тебя дома, а тут, видите ли, ему изменяет интуиция и он появляется в то время, когда тебя нет.
— Тетушка, это был просто другой посредник. Если вы считаете, что в Варшаве только один посредник по продаже недвижимости, то вы очень ошибаетесь.
Тетя так энергично кивнула головой, что я даже испугалась, что у нее повыпадают из прически все заколки.
— Дорогая моя, — сказала она, — все это было бы понятно, если бы я не знала, что Яцек поручил это дело одному, одному-единственному посреднику. Не трем и не пяти, а одному, тому, который вот только что вышел отсюда.
Я была готова к этому возражению.
— И я об этом знаю. Но знаю также и то, что, когда нужно быстро найти покупателя, посредники обращаются за помощью к своим коллегам. И тот, что был в прошлый раз, именно и говорил мне, что одному из его приятелей поручена продажа нашего участка и что он нашел покупателя. А вообще, если вас, тетушка, так интересуют люди этой специальности, то жаль, что вы не сказали мне об этом раньше. Вскоре карнавал, и я с удовольствием устрою специально для вас бал посредников. Надеюсь, вы не будете скучать.
Тетя ушла обиженная и до самого вечера не сказала мне ни слова. Может, я наконец выбила у нее из головы неуместные подозрения.
Сегодня только на минуту смогла зайти к Роберту. Во-первых, он очень занят в связи с каким-то балансом или чем-то таким, а во-вторых, должна была быть у своих. Отец завтра уезжает на охоту.
Роберт чудесный. А какой деликатный! Достаточно было намекнуть ему, что мне не нравится его горничная, как он сейчас же согласился ее уволить. Я, конечно, запротестовала. Ведь это меня совершенно не касается. С меня хватит и того, что я уверилась, как мало он придает значения ее присутствию в своем доме. Наконец, вполне понятно, что человек с определенными эстетическими требованиями хочет иметь прислугу, не отпугивающую своим внешним видом. Ведь и Яцек тоже об этом заботится. И Юзефа, хоть какой он неуклюжий, держит в доме только ради его степенного вида.
У родителей я застала генерала Длугоша, товарища отца со школьных лет. Это самый милый из его приятелей. Он привечал нас с Данкой еще с детства. Но охотнее вьется вокруг Данки. Это для меня лишнее доказательство того, что я от природы не завистливая. Иначе я не любила бы его за то, что он откровенно отдает предпочтение сестре.
Мама встретила меня с целым ворохом всевозможных историй и историек, которые меня ничуть не интересуют. Я узнала, о чем говорили на приеме у канонички Валевской, о чем у Здзеховских, а вдобавок о том, что врачи признали у дяди Казя рак печени. Мама, кажется, этим расстроена, хотя дядя Казь постоянно живет в Шотландии и она не видела его уже добрых сорок лет.
Удивляет меня все-таки этот избыток семейных интересов у старшего поколения, то, что дядя Альбин с отвращением называет «родственными путами». Как отец, так и мать пишут множество писем самым дальним родственникам, велят мне называть дядюшками людей, которых я сроду не видела, чмокать ручки таким же теткам, десятую воду на киселе, интересоваться венчаниями и крестинами в сотнях домов, разбросанных по всей Польше и Европе. Отец называет это родственными связями, дядя — родственными путами, а мама, не запнувшись, может сказать: «Ведь это совсем не чужой человек, а троюродный брат моей двоюродной сестры».
И вот из-за всего этого я должна была быть на «ты» с каким-то увальнем и выслушивать, какие премии он получил, за своих телят, выкормленных где-то на Подолье.
Отец коротко спросил, как я себя чувствую, сделал довольно мягкий намек на то, что Яцек перед отъездом не зашел попрощаться, а затем забрал генерала, чтобы целый час показывать ему две картины, которые он только что приобрел. Ох, эти картины! Весь огромный дом набит ими от пола до потолка. Отца считают покровителем искусств, и я ничего против этого не имею. Я и сама люблю красивые пейзажи или портреты. Но нельзя же жить в картинной галерее.
Помню, какая была неприятность, когда мы с Яцеком обустраивали свое жилье. Отец великодушно пожертвовал нам несколько замечательных полотен. Как уверяла мать, он пережил целую трагедию, отрекаясь от них ради любимых дочери и зятя. Он так трясся над теми картинами, что несколько недель не мог на это решиться. Каково же было возмущение отца, когда он увидел, что мы повесили их в будущей детской комнате и у тети Магдалены. Он не хотел слушать никаких объяснений о том, что мы сделали это только временно. Не мог понять, что в наших современных апартаментах они просто не подходили ни в гостиную, ни в спальню, ни в кабинет. Он почти полгода был на нас обижен, но, как я узнала от Данки, высказал осуждение лишь одним словом: «Варварство!..»
И вообще, отец считал недостатком Яцека то, что он недооценивает значение литературы, музыки и изобразительного искусства. Отец не принимает во внимание, что Яцек имеет много других интересов.
Яцек прекрасно знает историю, занимается почти всеми видами спорта, смело может считаться одним из лучших автомобилистов-любителей в Европе, а кроме того, мало кто разбирается так в международной политике. Да и к искусству он в конце концов не так уж равнодушен. Зачем же преувеличивать. Что касается отца, то меня всегда удивляло, как он находит время на все эти вещи. Ведь он всегда принимал самое активное участие в общественной жизни, а служебные дела и большая практика забирают у него немало часов ежедневно. И все же он не пропускал ни одной заметной премьеры в театре, специально ездил за границу на некоторые концерты и знал наизусть километры стихов, польских и иностранных. Странные они, эти старики.
Только в одном плане родительский дом незаменим. Я имею в виду покой, который там царит. Обусловливает его не только устоявшийся образ жизни отца с матерью, Данки и даже прислуги, но и нечто неопределенное, охватывающее меня всякий раз, когда я туда прихожу, какая-то атмосфера безопасности, сознания того, что здесь не может произойти ничего внезапного, неожиданного, такого, что нарушило бы привычное равновесие.
Я, правда, не стану утверждать, что могла бы всегда предвидеть, что скажут обитатели этого дома или их гости. Но знаю: они никогда не скажут ничего такого, что вызвало бы решительный протест или кого-нибудь глубоко задело. И если я обладаю немалым тактом (Тото уверяет, что я самая тактичная женщина в мире), то, по-моему, обязана этим той духовной атмосфере, которая всегда поддерживалась в родительском доме.
Дядя считает, что моя мама дура. Возможно, она не отличается особым умом. Но в повседневной жизни нечего бояться, что она совершит большую глупость. Да и, боже мой, если уж такой умный человек, как отец, мог выдержать ее столько лет и до сих пор ее любит, или по крайней мере уважает, до сих пор к ней привязан, то согласиться с дядей я никак не могу. Или должна признать, что среди женских добродетелей умственные способности не играют важной роли.
Я пробовала разговаривать о маме с Данкой, но эта праведница всегда уклонялась от обсуждения. Она, вне всякого сомнения, значительно умнее мамы. Я готова поклясться, что она прекрасно видит ограниченность, так сказать, нашей мамы во многих вопросах. Однако она неизменно делает вид, что ничего этого не замечает, и вполне серьезно обращается к маме за советом по разным вопросам. Даже с каким-то благоговением. Я не раз присутствовала при этих церемониях, и меня разбирал смех, когда я видела, как Данка каждый раз навязывала маме собственное мнение, а потом весьма почтительно благодарила ее за совет, которого, собственно, и не получала.
Что касается меня, то я с раннего детства не признавала в маме (видимо, подсознательно) никакого авторитета. Конечно, я люблю ее и всегда любила. Но в критические минуты инстинкт всегда вел меня в отцовский кабинет или — в более мелких делах — к бонне или учительнице. При этом у меня хватало ума не скрывать от мамы своих переживаний, но я разговаривала с ней о них как об интересных вещах, одинаково касающихся нас обеих, однако не требующих ни помощи, ни наставлений. Благодаря этому между мной и мамой установилась дружба, в которой ни одна сторона не имела преимуществ — по крайней мере, пока я не начала мыслить самостоятельно и не научилась смотреть на мир критически, уже не через окна родительского дома, а собственными глазами. А с тех пор, как я вышла замуж, отношения эти заметно ослабли по той простой причине, что теперь у меня был Яцек, на ум которого я полагалась и, который интересовался всеми моими делами.
Отец собирался в Голдов на кабанов. Это должна была быть большая охота, с участием более двух десятков охотников, и мама решила тоже поехать, так как некоторые из них брали с собой жен. Правда, она пыталась уговорить меня, чтобы я поехала в Голдов вместо нее, но могла ли я хоть на несколько часов покинуть Варшаву, когда вот-вот должны были поступить новые сведения в деле Яцека!
Домой я вернулась рано. Оказалось, что дядя не звонил, зато Гальшка звонила пять раз. Ну и пусть. Мне нечего ей сказать и не думаю, что она может сообщить мне что-то такое, что меня интересовало бы. Она неприятная и неискренняя женщина. Очень хорошо, что судьба так ее наказала. Пусть держится за своего глупого Павела, который уже тоже, пожалуй, сыт ею по самую завязку.
Кончаю писать, но наверняка еще долго не засну.
Среда
Опять меня постигла неудача. Оказывается, осторожность никогда не может быть излишней. Тете Магдалене, которая никогда не выходит из дома до обеда, на этот раз вдруг захотелось полакомиться, и она направилась в кондитерскую за пирожными. И, конечно, я сидела там с дядей Альбином. Я думала, что тетя преставится от удивления.
Собственно говоря, я и сама не знаю, почему захотела встретиться с дядей, когда он сказал мне по телефону, что никаких новостей не добыл. Такая уж моя злая доля, просто злая доля. Теперь уже тетя Магдалена не даст отвести себе глаза никакими посредниками. Правда, она сделала вид, что не видит нас, но от моих глаз не скрылось, что даже ноги у нее подкосились. Она купила шесть пирожных. Три бисквитных и три с кремом. Какая гадость — объедаться с утра сладостями, да еще и хорошо зная, что ей угрожает диабет.
Целый день она не обмолвилась со мной ни словом, если не считать повседневных общих фраз. Она считает своего Яцека чуть ли не богом, и если меня что-то и утешает при мысли о возможном скандале, то это перспектива крушения всех тех святынь, к которым она причислила своего любимого племянничка. Того и гляди, отравится вероналом. Да и, наконец, не только на нее произведет тяжелое впечатление падение Яцека. Представляю себе, скольким людям, которые считают его образцом всех добродетелей, придется проглотить язык и беситься от его двуличности. Это была бы неплохая расплата за все глупые разговоры, будто бы я не доросла до Яцека и он достоин лучшей жены.
Интересно, какая бы это женщина была ему лучшей женой! У кого было бы столько такта, столько замечательных качеств, кто сумел бы создать ему такой милый и признанный всеми дом, настоящее семейное гнездышко! Какие сейчас все-таки люди.
А хотела бы я посмотреть, какая женщина в моем нынешнем положении поступила бы так сдержанно и деликатно. Другая уже давно бы отправилась с жалобами к родственникам или побежала бы к той рыжей выдре и задала бы ей хорошую трепку. А уж что касается его самого, то головой ручаюсь, что любая без исключения устроила бы ему страшный скандал.
А говорят, что я до него не доросла. Что он достоин лучшей. И это говорит моя лучшая подруга, эта лживая Гальшка.
Я узнала об этом от Мушки Здроевской. Они были вместе с Зигмундом Карским в «Кафе-клубе». Мушка наверняка не врет. Из всего, что она рассказала, неправда только то, что они говорили обо мне при Карском. Зигмунд не позволил бы сказать обо мне плохого слова. И вообще в этом отношении мужчины в сто раз выше женщин. Вот хотя бы Роберт, у которого было из-за Гальшки столько неприятностей, — он никогда не говорит о ней плохо. Он слишком снисходителен. К сожалению, я не смогла сегодня с ним увидеться. Он все время занят.
Мне представляется, что значение этих мужских дел очень преувеличено. Каждый из них считает свое дело некой святыней. Каждому кажется, что если он скажет нам «у меня много работы» или «у меня важное заседание», то уже нечего и думать провести время как-то иначе. Конечно, это не всегда уловки с их стороны. Я даже склонна им верить. Но они просто переоценивают свои дела. Мир не перевернется, если кто-то из них опоздает на заседание, или не пойдет в свою контору.
В прошлом году я однажды имела серьезный разговор с Яцеком. Мы должны были ехать на бал к Ленским. Мне было очень важно появиться там до одиннадцати. А тут Яцек мне звонит и сообщает о затянувшемся собрании какого-то там союза или общества, что надо выбрать какой-то совет, и что-то еще, и всякие глупости. Он не хотел понять, что я должна приехать к одиннадцати, потому что пани Кавинская пошила себе туалет, очень похожий на мой, и я не могла, ну просто не могла появиться после нее. В этих тонкостях мужчины слепы, как кроты.
В конце концов, может, и хорошо, что у Роберта не было сегодня времени. Благодаря этому я осталась дома, и как раз в семь позвонил из Парижа Яцек. Он очень торопился, сказал только, что не знает, когда вернется и что к нам придет адъютант полковника Корчинского, чтобы забрать желтый конверт, запечатанный сургучом, лежащий в среднем ящике письменного стола. Я напомнила Яцеку, чтобы он привез мне большой флакон «Voyage de noce». Подозреваю, что те духи, которые можно достать в Варшаве, намного слабее.
Конечно, сразу же после этого разговора я нашла в письменном столе тот конверт. Мне было очень интересно, что там внутри. К сожалению, огромная сургучная печать вовсе не позволяла его открыть. Впрочем, не думаю, чтобы он содержал что-то интересное для меня. Думаю, что там были какие-нибудь правительственные бумаги, и то, наверное, такие, которым Яцек придает большое значение. На конверте было написано красным карандашом: «Л. К. 3.-425». Что ж, у них всегда какие-то свои тайны.
Где-то около восьми появился тот адъютант, о котором говорил мне Яцек, — стройный молодой офицер. Я предложила ему чашечку кофе, но он отказался. Вел себя очень вежливо, и я заметила, что понравилась ему. Но несмотря на это, он сказал, что очень спешит, что пришел за запечатанным конвертом, о котором мой муж должен был позвонить мне из Парижа. Я не задержала его, тем более, что он видимо нервничал. Офицер любезно поблагодарил меня и вышел.
Когда за ним закрылась дверь, я посмотрела его визитную карточку: «Поручик Ежи Сохновский». Вполне приличный молодой человек. Можно будет смело пригласить его на файф-о-клок. Если он из тех Сохновских с Подолья, то может быть даже дальним родственником Яцека. Надо будет спросить о нем маму.
Не знаю, чего это я сегодня так устала. Не хотелось даже пойти с Тото поужинать, и я осталась дома. Совсем не было аппетита. Съела только три кусочка спаржи, выпила стакан чая и немного красного вина. За столом тетя Магдалена внимательно присматривалась ко мне, видимо подозревая, что отсутствие у меня аппетита — проявление запретной любви к предполагаемому посреднику. Бог с ней. На самом деле причина куда серьезнее: за последний месяц я поправилась на килограмм четыреста граммов.
Четверг
Набрасываю спешке эти несколько слов. Рано утром поступила телеграмма из Голдова. Отец опасно заболел. Я должна взять профессора Вольфрама и доктора Ярка и немедленно ехать в Голдов. К счастью, оба могут поехать со мной. Я очень обеспокоена болезнью отца. Плохо, что не могу сообщить о своем отъезде дяде Альбину. Ведь за время моего отсутствия здесь могут произойти очень важные события. Машина стоит у подъезда.
Вторник
Что творилось, что творилось!
Я должна привести свои мысли в порядок, иначе не смогу внятно и подробно рассказать обо всем. Ранение отца, скандал, операция, желтый конверт, и рыжая шантажистка, дядя Альбин, Яцек, поручик Сохновский, следствие — все это вертится у меня в голове, как в водовороте. А вдобавок еще и ненормальная тетя Магдалена. Бедный Роберт! Наверное, он думает, что я о нем забыла. Так мне хотелось послать ему из Голдова письмо, но в последний момент я сдержалась. Вспомнилась мне давняя мудрая пословица: ничто так не пятнает женщину, как чернила. Письмо всегда может попасть в чьи-то посторонние руки, в чем я только что убедилась.
Не хватало еще только того, чтобы и Роберт всплыл на поверхность!
Но расскажу все сначала.
Прежде всего, отцова рана оказалась не такая уж опасная, как думали сначала.
Тот португалец (я никак не запомню его фамилии), конечно, не имел намерения причинить отцу какой-то вред. Он сам был в отчаянии и настаивал на том, чтобы оплатить все расходы на лечение. Понятное дело, отец не мог на такое согласиться. Тогда португалец пожертвовал весьма солидную сумму на какую-то благотворительную цель. Они там, в Португалии, не охотятся, поэтому, когда он увидел вепря, то как сумасшедший начал стрелять во все стороны ему вдогонку. К счастью, пуля пробила отцу только мякоть бедра. Однако я должна была шесть дней просидеть в Голдове. О том, чтобы уехать, не могло быть и речи. Мама от страха чуть не сошла с ума. А тут еще почти двадцать человек гостей! Да еще и эта напасть.
Странно еще, как у меня самой не помутился разум. До сих пор не могу прийти в себя. Тем более, что, кроме здоровья отца, все, кажется, ухудшилось.
На другой день после приезда в Голдов я получила телеграмму от дяди. Очень осторожными, непонятными для непосвященных лиц фразами он сообщал, что из Брюсселя поступили вполне определенные сведения. О той особе там никто ничего не знает, кроме того, что она останавливалась несколько раз в разных отелях. Достоверно установлено, что она не является жительницей ни одного из крупных бельгийских городов. Розыскное бюро высказывает предположение, что эта особа не заслуживает доверия. Они не прекращают поиски, но дядя ясно давал понять, что не надеется получить никаких существенных сведений.
Это меня не очень порадовало. Если бы мы знали об этой дамочке что-то конкретное, то могли бы разговаривать с ней совершенно иначе. Вся надежда на дядю.
В довершение всего со мной случилась еще одна неприятность. А именно: в субботу утром в Голдов приехало двое господ. Когда я вышла к ним и удивленно сказала, что я их не знаю, они представились. Оказалось, что старший из них — полковник Корчинский, а младший — ни кто иной, как его адъютант поручик Сохновский. А так как я не поверила этому, потому что новый Сохновский был совсем не похож на своего предшественника, они показали мне свои документы. И только теперь все всплыло на свет.
Они мучили меня более трех часов. Я должна была подробно рассказать все о визите первого (фальшивого) адъютанта, назвать точное время его визита и описать, каков он из себя. Как видно, дело было серьезное, потому что полковник слово в слово записывал мои показания, а поручик тщательно запер дверь, чтобы никто не смог нас услышать. Оказалось, что в желтом конверте были какие-то чрезвычайно важные документы. Получение их имело большое значение для какого-то сопредельного государства.
Кстати, я со стыдом должна признаться, что не имею представления, какое государство нужно считать сопредельным. В разговорах мужчин время от времени можно услышать это слово, а я не решаюсь спросить. Ведь мне, жене Яцека, не годится этого не знать. Однако я додумалась, что под словами «сопредельное государство» надо понимать Россию.
А теперь, после этого происшествия, я окончательно в этом убедилась. Полковник очень интересовался, не было ли у того самозваного поручика Сохновского русского акцента. Я ответила, что он разговаривал на чистейшем польском языке, как и было на самом деле. Оба господина упрекали меня в том, что я поступила легкомысленно, отдав конверт незнакомцу, который за ним пришел, и не проверила у него документы.
Это было возмутительно. И я не скрывала от них своего возмущения. Как же так? Сначала муж звонит мне из Парижа, что появится поручик такой-то, адъютант полковника такого-то, за таким-то предметом. Затем появляется пан в мундире, даже с какими-то орденами, причем привлекательный на вид и с безупречными манерами, называет свою фамилию и просит дать ему тот предмет. Как же я должна была поступить? Ведь было бы смешно, если бы я стала требовать у него какие-то бумаги или устанавливать его личность. Я же не полицейский. Мне и в голову не могло прийти, что это какое-то мошенничество. Да и откуда бы кому-то постороннему знать, что Яцек звонил мне и какие дал наставления?
Полковник посмеялся над моими доказательствами и пояснил, что в парижском отеле, из которого звонил Яцек, вчера обнаружена линия подслушивания, благодаря которой шпионы узнали о его поручении и сразу же приказали своим варшавским агентам похитить тот конверт.
Это ужасно. У меня мороз пошел по коже, когда я подумала, что и мои разговоры с Тото или Робертом тоже может кто-то подслушать. Сразу же как вернусь в Варшаву, вызову электротехника по телефонам, чтобы разобрал наш аппарат и посмотрел, нет ли там какой линии. Это вполне возможная вещь. Правда, Яцек никогда и ни с кем не разговаривает по телефону о политических делах, но шпионы могут думать иначе.
Как он отвратителен, этот шпионаж. Я просто понять не могу, чего они выискивают в Польше. Почему другие государства все шлют и шлют к нам этих шпионов. Почему их так интересует все, что у нас творится? Почему мы не озабочены их делами и не посылаем никого подглядывать за ними, а они нам покоя не дают? Я бы еще поняла, если бы эти шпионы улаживали свои дела с мужчинами. Но впутывать в свои грязные махинации порядочную женщину — это уже совсем не по-джентльменски.
Полковник сказал, что меня еще вызовут, чтобы я опознала того фальшивого поручика по фотографиям. Только еще того не хватает, чтобы я теряла время на всякую ерунду!
Я спросила, каким образом стало известно, что я отдала тот конверт. Полковник объяснил, что у меня дома уже проведено расследование. Допрошена тетя Магдалена и прислуга. В заключение он стал выспрашивать у меня, кто этот пожилой приличный пан, выдававший себя за посредника по продаже земельных участков.
Тут уж мое терпение лопнуло. Я с трудом сдержалась от гневной отповеди. Глупая тетя снова заварила кашу. Теперь они того и гляди, заподозрят дядю Альбина в пособничестве шпионам. Черт знает что вытворяет эта тетка! Чем бы ни закончилось дело Яцека, я сразу же по его окончании поставлю перед ним условие: или он тут же отошлет тетю в провинцию, или я расстаюсь с ним. (Конечно, на самом деле я и мысли не допускаю о разводе, но припугнуть его могу).
Я сказала тем господам, что это был настоящий посредник, и что я видела его лишь дважды в жизни. Тогда они начали спрашивать, не разговаривал он со мной о Яцеке и о его поездке. Я заверила их, что нет, но, кажется, они не очень мне поверили и, наверное, постараются разыскать дядю Альбина. Чтобы хоть немного их задобрить, я пригласила их к обеду, но они сослались на неотложные дела и уехали.
Я долго не могла опомниться, а вечером пришла телеграмма из Варшавы от… Яцека.
Оказалось, что в связи с тем проклятым конвертом его вызвали в Варшаву, он прилетел самолетом на несколько часов и должен в тот же вечер вернуться в Париж. По всей видимости, он был так озабочен этой историей со шпионами, что даже забыл спросить в телеграмме о здоровье отца. Я заметила, как это его обидело.
Я оказалась в ужасном положении, потому что о выезде из Голдова не могло быть и речи, а тем временем у Яцека наверняка найдется достаточно свободного времени, чтобы повидаться с той выдрой. Только бог знает, что мне делать.
Получив телеграмму, я сразу же послала за ним машину и написала, что состояние здоровья отца безнадежно и что он непременно должен приехать хоть на полчаса. Однако к вечеру шофер вернулся ни с чем, а точнее, с запиской от Яцека, что он никак не может вырваться из Варшавы. Все эти истории так вывели меня из равновесия, что пришлось на ночь выпить брома, хотя я и знаю, что от него у меня портится цвет лица. Вдобавок под правым ухом у меня выскочил прыщик. А та бестолочь Валерка разлила лак для ногтей, и руки мои тоже выглядят ужасно. Еще никогда не переживала я такие тяжелые времена. Все, абсолютно все как будто в сговоре против меня.
К счастью, сегодня утром приехала Данка, и я смогла тотчас вернуться в Варшаву. С тетей поздоровалась весьма многозначительно. Улыбнулась ей холодно и вежливо подала руку. Чтобы еще убедительнее подчеркнуть, что я здесь хозяйка, велела пооткрывать все окна в столовой, в гостиной, в кабинете и в буфетной, так чтобы той ведьме нечего было и думать высунуть нос из своей комнаты. Правда, везде стало ужасно холодно. Но, к счастью, я должна сейчас же идти на свидание с дядей.
Как я и предполагала, дома его не было. Не имея другого выхода, я села у окна в маленькой грязной молочной напротив его дома и, сидя над чашечкой чая, стала ждать. Кроме меня и хозяйки, хлопотавшей за прилавком, там был только какой-то скучный, неинтересный на вид пан. Я бы совсем не обратила на него внимания, если бы не его крайне раздражающая манера есть и вообще все его поведение. Сначала он проглотил огромную тарелку яичницы, а затем принялся противно ковыряться в зубах, прикрывая рот второй рукой. При этом он бездумно пялился в окно с таким выражением лица, будто вот-вот заплачет. Не понимаю, зачем существуют на свете такие люди.
Было уже четыре, когда я увидела дядю. Он приехал на такси и скрылся в подъезде. Я быстро рассчиталась и вышла. Дядю я догнала, когда он уже открывал дверь. Он, как всегда, приветствовал меня комплиментами. Был в прекрасном настроении и уже само это немного меня успокоило.
— Есть что-то новое, дядюшка? — спросила я, воодушевившись.
Он поправил монокль и подмигнул мне.
— А если добрый дядюшка имеет много, очень много новостей, что он за это получит?
— Я обниму дядюшку, особенно если новости будут такие же добрые, как он сам.
— Прекрасно, но гонорар вперед.
После этих слов он обнял меня и поцеловал в губы. Хотя это было совершенно неожиданно, но никак не могу сказать, что неприятно. Эти пожилые господа по-своему привлекают женщин и могут позволить себе весьма смелые жесты в какой-то естественной и безобидной манере.
— Знаешь, откуда я вернулся? — спросил дядя, придвигая мне кресло.
— Откуда же мне знать.
— Так вот, я был на приятной прогулке, прекрасной прогулке с одной очаровательной дамой. Редко встретишь женщину, которая имела бы столько достоинств. А вдобавок была еще и умна. Редкая женщина, без преувеличения редкая. Особенно как для англичанки. Потому что с грустью должен признать — прежний мой опыт не оставил у меня высокого мнения об уме англичанок.
Сердце гулко застучало у меня в груди.
— Дядюшка, — прошептала я, — вы с ней познакомились?
Он сделал удивленную мину.
— С той панной, с которой был на прогулке?.. Ну конечно же, детка. Неужели ты думаешь, что дамы, общества которых я ищу, относятся к той категории женщин, что станут шпацировать с незнакомыми господами?
— Да не мучайте вы меня, дядюшка, — жалобно пискнула я. — Эта дама — она?
— Не знаю, кого ты имеешь в виду, но не собираюсь делать из этого тайны. Та англичанка имеет звучное имя Элизабет и носит фамилию Норман.
— Ах, боже мой! И как же вы с ней познакомились? Какая она из себя? Что сказала? О Яцеке не вспоминала?
— Подожди, детка, — улыбнулся он. — Прежде всего установим хронологию и иерархию твоих вопросов. Так вот, во-первых, мы с ней пока (тешу себя надеждой, что имею право применить это многообещающее «пока»), мы с ней пока на весьма официальной ноге. «Как вам нравится Варшава, пани?.. Вы много путешествуете, пани?..»И так далее в таком духе. Так что для какого-либо упоминания о Яцеке как минимум рано. Ты знаешь, что Яцек сейчас в Варшаве?
— Как это «сейчас»? — серьезно забеспокоилась я.
— А так, обыкновенно. Я видел его позавчера собственными глазами, когда он заходил в «Бристоле» в лифт, и потом когда он выходил из того же лифта вместе с мисс Элизабет Норман.
— Значит, он виделся с ней!
— Думаю, что успел на нее наглядеться, и есть основания предполагать, что не откажет себе в этом удовольствии и в дальнейшем.
— Вы ошибаетесь, дядюшка, — ответила я немного раздраженно. — Яцек был в Варшаве буквально несколько часов. Его вызвали из Парижа по поводу каких-то документов, и он должен был тем же вечером вернуться. Я наверняка знаю, что он уехал обратно.
— Пусть будет так, — согласился дядя Альбин. — Во всяком случае, он виделся с ней.
Я с трудом смогла спросить;
— А… а долго он у нее был?
Дядя неделикатно засмеялся.
— Ах вот ты о чем! Ну, как тебе сказать… Яцек пробыл в ее номере что-то около часа. Поскольку ты знаешь своего мужа лучше чем я, то тебе проще сделать из этого какие-то выводы.
Я взглянула на дядю почти со злостью. Он потешался, явно потешался над моим беспокойством. Видно, думал, что я ревную. Я совсем не ревнивая, но не очень приятно, когда твой муж на целый час запирается в номере отеля с какой-то рыжей выдрой!
— Вы опять ошибаетесь, дядя! — ответила я холодно. — Мне доподлинно известно, что Яцека ничто уже с ней не связывает…
— Я не имею ни малейшего намерения подрывать твою веру в добродетели мужа, — добавил он с уважением, очень похожим на издевательство.
— Потому что ничто не может ее подорвать, — отметила я, однако на всякий случай тайком, чтобы не заметил дядя, трижды постучал пальцем по дереву.
— Тем лучше, — покачал он головой. — В конце концов, и у меня не возникло никакого подозрения, по крайней мере, в данном случае. Выходя с ней, Яцек был бледен, зол и, как видно, с трудом владел собой. У меня сложилось впечатление, что их разговор был не очень приятным.
— Не понимаю только, — заметила я, — зачем они вели этот разговор в номере, а не в вестибюле или ресторане.
— А меня это совершенно не удивляет, — пожал плечами дядя. — Мы можем догадываться, какая была тема их разговора, а такие вещи, согласись, ни к чему слышать другим, будь то прислуга или случайные соседи. Как по мне, то их встреча нисколько нам не мешает.
— Почему?
— А потому, детка, что при первом же удобном случае я спрошу ее о Яцеке.
— Вы скажете, что знаете его?
— Что ты, боже упаси! Скажу, что видел ее в обществе молодого пана, которого иногда встречаю. И постараюсь вытянуть из нее, что она о нем думает. Таким образом, можно будет завести разговор на тему, которая нас интересует. А поскольку я дам понять очаровательной Бетти, что мое любопытство вызвано ревностью, то смогу зайти достаточно далеко в нескромных вопросах.
Мы как можно подробнее обсудили все эти дела. Когда я уже выходила, дядя задержал меня.
— Чуть не забыл, детка. Позволь вернуть тебе долг с благодарностью. Вот тысяча злотых.
Я вовсе на это не надеялась и попыталась возразить.
— Но, дядюшка, мне сейчас совсем не нужны деньги. И вообще это не горит…
— Нет, нет, — настаивал он. — Еще как горит. Если бы на почтовом переводе не надо было указывать фамилию отправителя, я послал бы тебе эти деньги в Голдово.
— Наверное, вам в последнее время сильно везло в игре, — заметила я, пряча деньги в сумочку.
— Да, дорогая. Видно, только твое присутствие в Варшаве приносит счастье в игре Тото. Я таки содрал с него немалую денежку. С него и с его приятелей. Они очень порядочные люди.
Только теперь я вспомнила о Тото. Даже сама удивилась, что так долго могла о нем не думать. По сути, следовало бы задуматься над этим глубже. Собственно говоря, Тото скучный. О чем с ним можно разговаривать?.. Он интересуется такими вещами, которые меня ничуть не задевают. Забавным бывает только тогда, когда я притворяюсь равнодушной, задумчивой или увлеченной кем-то другим. Тогда он способен оживиться. Единственное его неоспоримое достоинство — это широкая натура. Год назад, когда мы с Яцеком были в Таормине, я написала Тото, что соскучилась по Блумсу (тогда мой любимый Блумс был еще жив). Тото за один день получил паспорт и визу и самолетом привез мне Блумса. Вез его из Варшавы на Сицилию. И не забыл о трубочках с кремом. Да, он безусловно имеет свои достоинства. Но ни к чему скрывать перед собой, что он мне уже немного надоел. Тогда в Таормине он расположил к себе даже Яцека, который давно уже привык к тому, что за мной всегда ухаживает немало мужчин. Помню, Яцек сказал мне тогда:
— Я думал, он просто ухаживает за тобой, но теперь мне кажется, что это более глубокое чувство. Вот уж не подозревал, что он способен на такое.
Я коротко сказала:
— А я и теперь этого не подозреваю.
Это успокоило Яцека. Он почтительно поцеловал мне руку и сказал:
— Я всегда верил в твой инстинкт и хороший вкус. В тот же вечер Тото вылетел обратно в Варшаву, и мы больше о нем не вспоминали. Это был с его стороны широкий жест. Правда, возвращаясь домой, я имела с Блумсом много хлопот. В Неаполе он потерялся, и Яцеку пришлось целый день его искать. Поэтому мы опоздали на поезд. А в Венеции бедняга прыгнул в воду за какой-то чайкой, а поскольку именно тогда к нам приближался пароходик и я боялась, что он наедет на Блумса, то Яцек и еще один пан из местного консульства прыгнули в канал спасать его.
Это было весьма по-рыцарски с их стороны. Единственное, что было мне неприятно, — это то, что собравшаяся на берегу толпа людей глупо хохотала. Правда, оба имели довольно забавный вид в своих костюмах, с которых струилась вода. Но все закончилось благополучно, и все путешествие вместе с хлопотами, доставленными Блумсом, оставило бы у меня самые приятные воспоминания, если бы не плохое настроение Яцека. Правда, он ничего мне не сказал, но я догадалась, что его снова стала мучить ревность к Тото. Поэтому он даже к Блумсу охладел.
А когда Тото встретил нас на вокзале в Варшаве, Яцек поздоровался с ним с такой ледяной вежливостью, что Тото даже немного испугался.
Я решила, что не сообщу ему о своем приезде из Голдова. Но, к сожалению, меня ждала досадная неожиданность: когда я позвонила Роберту, трубку взяла горничная и сказала мне, что хозяина уже два дня нет в Варшаве. Кажется, он во Львове, но наверняка она не знает. Не знает также, когда он вернется. Поскольку вечер у меня был свободный, мы пошли с Тото ужинать. А после того с несколькими приятелями зашли к нему на бокальчик шампанского.
Уже где-то за полночь появился Владек Бжесский и притащил с собой двух танцовщиц, когда-то выступавших в «Адрии». Это были молодые очаровательные венгерки, весьма забавные. Они показали нам несколько танцев, конечно, таких, которых нельзя показывать в общественных местах. Это было довольно непристойное, однако интересное зрелище. Туля напилась до бесчувствия и начала кричать, что спляшет со старшей из девушек тот же танец. Конечно, получилось чудовищно. Мужчины чуть не лопнули от смеха.
Признаюсь, что мне очень хотелось тоже рискнуть, но я побоялась, а к тому же после неудачной попытки Тули общество было настроено слишком легкомысленно. Я разговорилась с теми венгерками. Как все же ярка и разнообразна их жизнь! Они уже объездили чуть ли не весь мир. Танцевали в Токио и в Бомбее, в Мельбурне и в Оттаве, Лиме и еще бог знает где. Сколько у них интересных знакомств с мужчинами, и каждый раз с новыми! Из-за одной из них застрелился какой-то фермер на Филиппинах. Младшую похитил в Шанхае какой-то корейский миллионер, который влюбился в нее. Обе они приблизительно моего возраста, а уже так много успели пережить. К тому же они происходят с довольно приличной венгерской семьи. Они говорили мне фамилию, но я уже не помню ее. Их отец даже был министром. Правда, Тото высмеял меня, что я этому верю, но почему бы мне и не верить. Они аристократично выглядят и имеют безупречные манеры.
В кабаре их толкнуло банкротство и материальные затруднения семьи. Им было в то время одной шестнадцать, а второй восемнадцать лет. И я подумала, как бы сложилась моя жизнь, если бы, например, мои родители умерли и потеряли имущество. Конечно, меня бы взяли под свою опеку родственники, но могло бы произойти и иначе. Возможно, пришлось бы мне самой зарабатывать на хлеб. Тогда, наверное, я бы в тысячу раз охотнее стала танцевать, чем сидеть в какой-нибудь скучной конторе и переписывать бумаги. Или, скажем, стала бы учительницей. От каких незначительных обстоятельств зависит все будущее человека!
Вечером я выпила слишком много кофе и теперь не скоро засну. На улице еще совсем темно, хотя уже шесть утра. Я оставила в столовой записку, чтобы меня ни в коем случае не будили раньше часа, но боюсь, что та ведьма будет нарочно хлопать дверями. Нет, нужно будет решительно потребовать от Яцека, чтобы он придумал какой-то повод и отправил тетку в провинцию.
Лучше уж я сама буду заниматься хозяйством, хотя это для меня страшно утомительно. Достаточно тете дать один-два приказа прислуге и позвонить в несколько магазинов, и она уже считает, что переработалась. А разве это работа! Но Ядвига легко справилась бы со всем этим сама. Или, наконец, можно нанять какую-то экономку. За несколько злотых у меня будет то же самое, но без сплетен и постоянного вмешательства в мою личную жизнь. Надо будет об этом подумать.
Среда
Роберт еще не вернулся. Вот такие они, мужчины. Он считает, что может уехать, даже не сообщив мне, куда и на какое время. Правда, меня не было в Варшаве, а он обещал, что не станет узнавать моего адреса. Может, он даже звонил мне, но, услышав незнакомый голос, положил трубку. Я сама его об этом просила. Но, если бы хотел, мог бы все же найти какой-то способ. А потом они еще хотят от нас верности!
Сегодня я поиграла у тети на нервах! Пригласила тех венгерок, Тото и Лешека Хоминского. Поскольку тетя не знает ни английского, ни немецкого, а разговаривали мы теми двумя языками, она чувствовала себя как последняя дура. Я заранее условилась с Лешеком и с Тото, что представим тех девушек как дам из дипломатических кругов, из будапештского высшего света.
И она поверила! Состроила такую мину, будто она на королевском приеме в Букингемском дворце. Мы делали совершенно серьезный вид, но в душе умирали от смеха. Сначала я думала было попросить тех венгерок, чтобы в заключение этого церемонного приема они продемонстрировали свой вчерашний танец. Вот была бы бомба! Тетю бы черти взяли! Хотелось мне этого ужасно, однако Лешек ни за что не соглашался и, возможно, был прав.
Наутро меня вызывают к полковнику Корчинскому. Снова будут меня мучить. Я уже имела в связи с этим еще одну историю. Встретила Владека Морского, приехавшего из Рима в отпуск. Не имея понятия, что это такое важное дело, я рассказала ему о своих горестях, связанных с проклятым желтым конвертом, отравляющем мне жизнь. А этот глупый пустомеля, наверное, сболтнул об этом в министерстве или еще где-то, потому что уже два часа спустя ко мне явился поручик Сохновский (настоящий) и начал мне вычитывать, что я рассказываю всем подряд об этом деле. Он сказал, что чрезвычайно важно, чтобы все это происшествие осталось в тайне в силу каких-то там их комбинаций. Вел себя он почти нелюбезно. Поэтому я холодно сказала ему:
— Меня это нисколько не интересует. И не понимаю, зачем вы, господа, впутали меня в это досадное дело.
— Вы правы, оно таки досадное, и от имени пана полковника я настоятельно прошу, чтобы вы никого о нем не информировали.
Вот чудеса! Я кого-то информирую! Стоит лишь пожать плечами, да и только. Гораздо хуже то, что отсутствие Роберта заставляет меня часто видеться с Тото. Боже мой, скорей бы уже возвращался Яцек!
А Роберт получит от меня наказание: я вообще не отзовусь. Когда приедет и позвонит мне, то будет как минимум три дня ждать свидания.
От дяди опять нет никакой весточки. Было бы смешно, если бы та рыжая англичанка закрутила с ним роман. А такое вполне возможно. Я даже хотела бы этого ради Яцека. Пусть бы убедился воочию, что это за женщина. Приехала якобы к нему, а пользуется каждым удобным случаем, чтобы соблазнить другого, да еще и не кого-нибудь, а дядю его жены. Конечно, это не самое важное, но наверняка не повредило бы, если бы удалось поймать их с поличным. Только сомневаюсь, согласится ли на это дядя Альбин. Мужчины любят болтать о своей самоотверженности, однако когда им приходится доказать ее, они уклоняются под всякими незначительными предлогами. Сразу начинают идти в ход такие слова, как честь, обещание, личное достоинство и т. д.
Встретила на Краковской площади Гальшку. Она шла с Павелом и с мужем. Сначала я хотела сделать вид, будто не вижу ее, но заметила, что у нее новая прехорошенькая сумочка из кожи какой-то змеи. Я еще таких не видела и должна была спросить, где она ее достала.
Если бы она была сама, то, конечно, не сказала бы мне правды. Она страшно ревнивая в отношении своих вещей. И все только потому, что я не говорю ей, где беру свои домашние туфли. Неужели мне нельзя иметь хоть что-то оригинальное! Кому хочется носить вещи, которые видишь на всех женщинах! Однако теперь, при мужчинах Гальшка не могла мне соврать и должна была сказать, что купила сумочку в «Мадам Жозетт».
Странное дело, как я могла с ней дружить.
Четверг
Возвращаясь от Лолей, я миновала Познанскую улицу и зашла к Роберту. Правда, застать его я не ожидала, а заглянула просто так. И оказалось, что очень хорошо сделала. Много интересного узнает он от меня о своей красотке! Вот пусть только вернется.
Уже на лестнице слышались звуки патефона. Я должна была ждать минут пять, пока мне открыли. Наконец она таки услышала мой звонок. Я сразу поняла, чем здесь пахнет. Лицо ее пылало, волосы были растрепаны. Хоть она и преградила мне дорогу, чтобы я не могла пройти, я велела ей посторониться и зашла.
Готова отдать голову на отсечение, что кто-то сбежал из комнаты вглубь квартиры. К сожалению, у меня не было возможности осмотреть все закоулки. На столе стояли две чашки недопитого кофе и фрукты. Итак, пользуясь тем, что хозяина нет дома, она принимает здесь своих любовников, а потом они обворуют его или даже убьют. Ведь об этом все время пишут в газетах.
Я спросила ее:
— Что это, у вас гости, панна?
Она нагло посмотрела мне в глаза и соврала:
— Простите, пани, но никаких гостей здесь нет.
— Пан Тоннор позволяет вам пользоваться патефоном?
— Он никогда мне этого не запрещает, пани.
Я не могла больше смотреть на ее наглую физиономию и поклялась себе, что разобьюсь вдребезги, но добьюсь, чтобы Роберт выгнал ее прочь. Пусть возьмет себе лакея. Куда же это годится, чтобы молодой человек был без лакея. Это даже просто безвкусица. А если уж держать прислугу, то пусть наймет кого-нибудь постарше, солидную женщину.
Хуже всего было то, что я не могла объяснить этой гусыне, зачем пришла. Видимо, не стоит забывать о такой важной вещи как предлог.
Не знаю, задумывался ли кто над этим вопросом. А жаль. Следовало бы написать об этом целое исследование. Для первобытного человека предлог — вещь ненужная. Он ведет себя грубо, не подыскивая себе никаких мотивов, реальных или вымышленных… А мы, люди культурные, во множестве случаев должны прибегать к поводу. Например, в довоенное время было принято упускать на пол платок, чтобы человек, на которого мы положили глаз, его поднял. Конечно, теперь к этому способу уже не прибегают и каждый раз нужно придумывать что-то новое. А это совсем нелегко.
Иногда сближение с кем-то зависит от такой вот мелочи: найдет ли мужчина повод, чтобы взять женщину за руку. Речь идет только об этом первом шаге. Дальше все происходит по инерции. Надо будет поговорить об этом с дядей. Роберт тоже очень умен, но мне кажется, что проблемы повода для него не существует. Он принадлежит к вполне современному типу мужчин. А кто знает, не является ли современность той же самой первобытностью. Так по крайней мере, утверждает отец. Эти старики иногда правы.
Даже дядя Альбин не в восторге от современности. Когда-то он сказал мне:
— Самая приятная вещь в любви — это вступление, предварительная игра. Добиваться взглядов женщины, пленить ее воображение, тонко играть на ее нервах, возбуждать в ней первые чувственные порывы. Если я и не виртуоз в этой игре, то, во всяком случае, заслуживаю минимум на звание весьма одаренного дилетанта. А что из этого я имею сегодня? Современная женщина не дает мне возможности, не дает мне времени показать во всей красе все мои знания, умение и искусность. Современная женщина жаждет любви, как голодный еды. И всей точной механики так называемого обольщения теперь избегают, как чего-то ненужного, вышедшего из употребления, и даже немного смехотворного. Я бы понял еще, почему от нее готовы отречься мужчины. Но женщины должны ценить этот так называемый анахронизм выше всего. Каким бы путем ни пошла дальше феминизация мира, неоспоримо типичным свойством женщины останется одно: стремление, чтобы ее добивались.
Вне всякого сомнения, дядя определенно прав. Однако он не принимает во внимание темпа нынешней жизни. Сегодня просто нет времени на все эти забавы. Отец добивался маминой привязанности целых три года.
Странное и смешное слово: «добивался». Всегда, когда я слышу это слово, мне кажется, что я вижу привязанную собаку, которая, хрипя и высунув язык, силится так натянуть цепь, чтобы достать кость, лежащую поодаль. Она тоже чего-то добивается. Это сравнение невольно приходит мне в голову всякий раз, когда я слышу, что та или иная панна имеет кого-то, добивающегося ее расположения. Я сразу представляю его себе на цепи и с высунутым языком.
Это тоже анахронизм. Сегодня никто никого не добивается. Просто люди сходятся или нет. Или любят, или обдуманно женятся. Яцек тоже не добивался меня. Он познакомился со мной, убедился, что я под стать ему родовитостью, обеспеченностью, возрастом, красотой, умом, а тогда уже позволил себе влюбиться в меня. А когда влюбился, просто сказал мне об этом. Было бы смешно, если бы он поступил иначе или думал по-другому.
Все это вместе продолжалось две недели. Правда, бывают случаи, когда какой-то поклонник не нравится девушке. Тогда он, конечно, добивается, но совсем не ее. Он добивается, чтобы она признала его лучше, милее и вернее, чем он показался ей вначале. Когда некто, как говорится, добивается благосклонности женщины, это не делает ей чести, а его только унижает. К тому же на все эти причуды не хватает времени. По крайней мере, в городской жизни. Когда-то все великосветские люди жили в деревне. В городе они только встречались между собой. Все эти карнавалы, конные скачки, корсо (уличные гуляния) и тому подобное — пережитки. Сегодня люди встречаются на танцах или в кафе, иногда в гостях у знакомых. Кавалер может месяцами не знакомиться с родителями девушки, ведь они и так знают все о нем из сплетен. Удивляет меня только, что в прежние времена, когда сплетничание якобы было еще более распространено, люди не довольствовались теми сведениями.
Сегодня я настроена философски. Недаром ведь мой отец говорит, что, отвлекаясь от повседневных дел, человек приоткрывает ворота к тем залежам собственных мыслей, о существовании которых так легко забыть в вихре повседневной жизни. Я люблю время от времени углубляться в такие материи. Тогда я вижу, насколько я умственно выше многих таких пустышек, как Гальшка или Мушка. Я уверена, что ни одна из них не способна мыслить абстрактно. Вспоминая об этом, я вовсе не имею в виду чего-то особенного. Нисколько не хочу показаться читателю какой-то исключительной особой. Наоборот. Заверяю всех, что я вовсе не самоуверенна. Своими духовными достоинствами и умственным превосходством я обязана только собственной натуре.
В этом нет никакой моей заслуги. Я с детства имела выраженные наклонности к умозаключениям. Всегда много читала. Знаю все романы Ванды Милашевский и все стихи Казимежа Верзинского. Их я прочитала просто назло отцу. Не могу понять, почему они ему не нравятся. Стихи как стихи. Зато автор их действительно очаровательный. Он на удивление привлекательный и миловидный. Раз уж речь зашла о поэзии, то он далеко превосходит красотой всех поэтов, которых я знаю.
Никогда не забуду его великолепное стихотворение об осени:
Как игуменья, из безмолвия
Седьмая осень моя — сладкая самая -
Приблизилась по увядшему сену.
Моя родная, единственная, любимая!
Приблизилась она тропинкою тени
Из дней наших давних, осенних
И вшепталась в сердце, рахманная …
Даже Тото, ничего не смыслящий в прекрасном, был в восторге от этого стихотворения.
Хотя я полностью разделяю восхищение автором цитируемого выше стихотворения, однако хотел бы дать здесь небольшое опровержение. Дело в том, что это стихотворение, а точнее начало стихотворения, под названием «Седьмая осень», принадлежит перу Юлиана Тувима. Пани Реновицкая ошиблась, приписав его кому-то другому. (Примечание Т. Д.-М.)
Я читаю очень много поэзии. Даже когда куда-то еду, всегда беру с собой «Тоi еt mоi» Жеральди. («Ты и я» (франц.)) Боже мой! Уже девять, а я еще не одета. В десять у меня свидание с Тото. Опять встретит меня с кислой миной. А вообще, пусть благодарит бога, что у меня есть охота с ним встречаться.
Четверг
Наконец приехал Яцек. Видимо, в Париже он очень много работал или гулял, так как похудел и стал более нервным. Приехал он очень рано, когда я еще спала. От Юзефа я узнала, что сейчас же после ванны он почти час беседовал с кем-то по телефону. Мне нетрудно было догадаться, что разговаривал он с ней.
Завтракали мы вместе в спальне. Яцек сказал:
— Не хочу тебя пугать, но, кажется, я подам в отставку.
Я онемела от изумления. Яцек, так любящий свое дело, стоящий на пороге блестящей карьеры, и которому все прочат большое будущее, — и вдруг должен отречься от своего положения. Я сразу догадалась, что все это из-за той женщины. Как видно, она пригрозила ему разоблачением, и он не нашел иного способа избежать скандала. Если та баба выполнит свои угрозы, скандал будет и так. Его все равно не миновать, но Яцек, уже не как официальный чиновник, а как частное лицо, по крайней мере, не скомпрометирует свое министерство.
— Можешь сказать честно, — спросила я, — совершенно честно: что принуждает тебя к отставке?
Я это сказала как могла сердечнее, надеясь, что этот скрытный человек, наконец, поговорит со мной откровенно. Однако он вновь прибегнул к уловкам и сказал:
— Да это же ясно как день. По моей вине попали в руки шпионов чрезвычайно важные государственные документы.
Я посмотрела на него чуть ли не с презрением.
— Как это? Неужели ты хочешь, чтобы я поверила, будто тебе грозит отставка из-за какого-то ничтожного конверта?
— Во-первых, тот конверт был совсем не ничтожный. Во-вторых, я не имел права держать его дома или, по крайней мере, был обязан не забыть о нем перед отъездом в Париж и отдать полковнику Корчинскому. Правда, документы написаны шифром, но вполне вероятно, что те, кто его захватил, найдут ключ. А из-за того, что они получили его таким простым и легким способом, мое начальство будет считать меня, а может, и считает, человеком недалеким и легкомысленным, которому нельзя доверять государственных тайн, поскольку он не умеет их беречь. А если уж…
Я перебила его:
— Мой милый! Прежде всего, здесь нет никакой твоей вины. Ведь это я отдала конверт. И только какой-то идиот может переложить на тебя ответственность за то, что сделала я. Во-вторых, если ты называешь это легким способом, то интересно, какой бы ты назвал трудным. Когда у меня в доме появляется офицер в мундире, подает визитную карточку и говорит, что он адъютант полковника Корчинского, причем все это происходит сразу же после твоего звонка из Парижа, то я не знаю, заколебался бы хоть на мгновение на моем месте бывалый человек отдать эти бумаги или нет. Нет, мой милый, я понимаю, что, может, есть какие-то другие причины, о которых ты не хочешь говорить, и именно они заставляют тебя отречься от дипломатической карьеры, но не говори мне, что за такую глупость, да еще и не тобой, а мной совершенную, тебя должны отстранить от должности. Большое дело — документы! Достаточно написать другие, и все будет хорошо. Не знаю, какие там были тайны, но ведь всегда можно что-то придумать. Вот хотя бы, например, объявить в прессе, что те документы потеряли уже свою ценность. И наконец, чего тебе переживать по этому поводу? Виновата я, так что пусть меня и привлекают к ответственности. И уж будь уверен, я им все как следует растолкую и приведу их в чувство.
Яцек явно огорчился. Он не мог отрицать, что мои доказательства неопровержимы. Поэтому только пробормотал:
— Ты, моя дорогая, в этих вещах не разбираешься.
Смех, да и только. Такие вещи не требуют никакого понимания. Достаточно обычной логики. А если имеешь к тому же хоть немного здравого смысла, то отличить вымышленный повод от истинных причин уже совсем нетрудно. Несмотря ни на что, я решила не соглашаться на отставку Яцека. И вовсе не из-за материальных соображений. Наконец, мы достаточно богаты, чтобы не считаться с такими мелочами, как его зарплата. Но было бы просто глупостью отречься от своего положения и блестящих перспектив, тогда как есть надежда уладить дело с той Элизабет Норман втихомолку. Яцеку не хватает силы воли и настойчивости.
— Я и слушать не хочу о твоей отставке. Запомни, что я приму такое малодушие за неуважение ко мне. Да и что ты будешь делать, чем займешься, кем будешь, если уйдешь из министерства?.. Я ни за что на это не соглашусь. К тому же я считаю твое намерение преждевременным.
— Как это преждевременным? — удивился он.
— А так. Сейчас тебе ничто не угрожает, — уклончиво ответила я.
Он наморщил лоб и сухо сказал:
— Угрожает то, дорогая, что они сами могут заставить меня подать в отставку.
— Могут, но неизвестно заставят ли. Как бы там ни было, а я не вижу большой разницы, сам ты подашь в отставку, или тебя уволят. А если ты поторопишься, то можешь потерять свое положение. Сейчас же поклянись мне, что ни в коем случае не сделаешь ничего в этом направлении, не посоветовавшись со мной.
Он пожал плечами.
— Это я могу тебе обещать.
Ничего больше я и не хотела. Я уже составила себе план действий. Сегодня же поговорю с несколькими дамами, которые имеют вес в министерстве. Во-первых, узнаю, какие там витают настроения относительно Яцека и действительно ли ведутся разговоры о том злополучном конверте, а во-вторых, привлеку на свою сторону союзников на случай, если таки выплывет на свет божий история с этой проклятой англичанкой. Я не сомневаюсь, что Яцек любит меня и ценит. Однако он не подозревает, какая у него жена. А та кретинка еще говорит, будто я не доросла до Яцека. Если он сохранит свое положение и избавится от той шантажистки, то благодаря мне и только мне.
Жаль, что я никому не могу довериться. Нужно быть очень осторожной. Перед полуднем я должна была быть у полковника Корчинского. Принял он меня на удивление сердечно. И это еще одно доказательство того, что Яцек неудачно хитрит, ссылаясь на тот конверт как на повод к отставке.
Полковник угостил меня чаем и весьма любезно говорил со мной на разные темы светской жизни. Спрашивал, у кого я бываю, хорошо ли провожу время. Оказывается, он знает многих людей из нашего круга и полностью разделяет мое к ним расположение. Он даже упомянул вскользь о дяде Альбине, но, очевидно, ему тоже было известно о его темном прошлом, так как понял мое молчание и больше ни словом о дяде не обмолвился.
Во время разговора в кабинет вошел высокий представительный пан, которого полковник представил как своего приятеля. Фамилии я не расслышала, но вид он имел очень благородный. Он тоже попросил чашечку чая. Так мы просидели с полчаса, очень мило беседуя. Вот какие они, мужчины. А Яцек пугал меня, что у полковника меня ждут одни неприятности. Всегда они все преувеличивают. Я на собственном опыте убедилась, что государственные дела совсем нетрудные и неутомительные. В их устах слово «заседание» звучит слишком патетично, а у меня было настоящее заседание и я теперь знаю, что оно ничем не отличается от обычной светской беседы.
Приятель полковника ушел, на прощание заверив меня, что будет счастлив когда-нибудь увидеть меня снова. Очень милый и культурный человек.
Когда мы опять остались одни, полковник сказал:
— Ой, я совсем забыл, что хотел попросить вас посмотреть фотографии. У меня здесь много карточек моих бывших и нынешних сотрудников…
— Как? Выходит, речь идет не о шпионах? — удивленно воскликнула я.
— Вовсе нет, пани, — засмеялся полковник. — Сначала мы действительно думали, что это дело рук шпионов, однако затем пришли к выводу, что поскольку те документы касаются, некоторых личных дел… Вы меня понимаете?.. Вопрос служебных повышений, перемещений, назначений…
— Да, понимаю, — кивнула я.
— Значит, все это не могло касаться шпионов. Здесь мы скорее имеем дело с чьим-то чрезмерным любопытством. Похоже, что кто-то из обманутых в своих надеждах господ переоделся в офицерский мундир, чтобы выдать себя за поручика Сохновского. Дело от этого не перестало быть ни досадным, ни важным. Вы, конечно, понимаете, что я не могу позволить таких фортелей и должен найти виновника. Он получит за это хороший выговор, а может, и недели две ареста.
Это меня вполне успокоило. Значит, вот из-за какой мелочи Яцек наделал столько шума. Я сказала полковнику:
— А представьте себе, мой муж так близко принял к сердцу это дело и так его раздул, что даже хотел подать из-за него в отставку. Только вы не говорите ему, пожалуйста, что я об этом упоминала.
Полковник будто посерьезнел, но только на мгновение, и тут же улыбнулся.
— Боже упаси. Даже если бы это было самое серьезное дело, вина пана Реновицкого вовсе не из тех, что становятся причиной отставки. Вы можете передать мужу, что сами от меня слышали, что я виделся с его начальниками и они вполне разделяют мое мнение.
— Я с самого начала была в этом уверена, пан полковник. Мой муж слишком щепетильный в вопросах ответственности, даже в том случае, когда вся ответственность падает на меня.
— На неблагоприятное стечение обстоятельств, — поклонившись, поправил меня полковник. — Ведь пан Реновицкий, имея такую умную и сообразительную жену, какой мог бы позавидовать не один дипломат, и предположить не мог, что какие-то посторонние лица могут прибегнуть к таким хитроумным проискам. Вот, собственно, что касается посторонних лиц, у меня к вам большая просьба. Мне докладывали, что вы говорили об истории с этим конвертом с одним коллегой вашего мужа. Понимаете, если бы слухи о ней пошли по городу, это была бы для меня огромная неприятность. Это повредило бы мне лично. Начали бы говорить, что в моем учреждении среди моих подчиненных есть люди, способные на такие безответственные и просто отвратительные поступки… Возможно, я слишком переживаю за честь своего учреждения, но прошу вас, очень прошу, как о большой личной услуге, чтобы вы больше никому, абсолютно никому об этом не говорили.
Я тут же заявила ему, что я не болтушка, личные дела его учреждения меня ничуть не интересуют, но его я считаю весьма приятным человеком и ни в чем не могла бы ему отказать. Поэтому я пообещала ему забыть всю эту историю. Это его вполне удовлетворило. Он трижды поцеловал мне руку, сказал, что полагается на меня, как на каменную стену, а потом добавил:
— А теперь я покажу вам галерею моих подчиненных.
Он вытащил из ящика письменного стола целую пачку фотографий различного формата — от маленьких любительских снимков до больших кабинетных. Я пересмотрела их все очень внимательно, некоторые по несколько раз, но не нашла среди них изображения фальшивого поручика Сохновского. Зато меня искренне развеселила одна фотография. На ней был снят некий почтальон или лесник (я никогда не могла научиться различать мундиры — вот Данка знает их все точно), молодой человек с усиками под Адольфа Менжу и испанской бородкой. Он был удивительно, ну просто удивительно похож на Роберта. Если бы не усы и борода, да еще мундир и очки, выглядел бы его близнецом.
Я невольно немного задержала ту фотографию в руке, и это привлекло внимание полковника.
— Вы знаете этого человека? — спросил он.
Я немного испугалась и самым категоричным тоном возразила:
— Простите, откуда?! Откуда мне знать какого-то почтальона?
— А может, он вам кого-то напоминает? Кого-нибудь из знакомых?
Я засмеялась уже вполне непринужденно.
— Уверяю вас, что никого. Я стараюсь подбирать знакомых, как можно меньше похожих почтальонов.
Мы посмеялись оба, и хотя я не нашла фальшивого поручика, полковник, как видно, нисколько не расстроился. В глубине души я была даже довольна. Не хотела бы стать причиной неприятностей, которые бы имел фальшивый или настоящий поручик узнай я его на какой-то из фотографий. Хоть у меня и было из-за него много хлопот, однако я не привыкла долго злиться на кого-то. Моей натуре мстительность не присуща. Если тот милый молодой человек сумеет открутиться от тюрьмы, я буду искренне рада.
Теперь, когда закончилась вся эта история, я смогу полностью посвятить себя делу двоеженства Яцека. Каждый раз, когда произношу это отвратительное слово, меня охватывает страх. Сразу начинаю думать, что Яцек поступил подло, женившись на мне и даже не предупредив о том, что уже был женат. А теперь он зашел в своей низости еще дальше, не желая на меня положиться и оставляя меня в полной неопределенности, в постоянном страхе перед чем-то таким, что может свалиться на меня, как гром среди ясного неба, и погубить если не всю мою жизнь, то во всяком случае, мое общественное положение, доброе имя.
Я вернулась домой с горечью в душе и обидой на Яцека. Я улаживая его дела, должна ходить по каким-то военным учреждениям, отбывать там заседания и заботиться о его карьере, а он считает меня чужим человеком, которому не хочет сказать правду, с которым не хочет говорить о делах, от которых зависит наше будущее. Это очень нехорошо с его стороны. Даже просто невежливо. Еще немного — и я бы высказала ему все это прямо в глаза. Однако опыт научил меня сдерживать свои сильные порывы.
Я спокойно и складно рассказала ему о своем визите к полковнику. Он как бы обрадовался, когда я повторила то, что говорил полковник относительно его отставки. Но от моего внимания не ускользнуло то, что его радость была ненатуральна. Он должен был ломать комедию до конца. Интересно, какой новый повод он придумает, чтобы устраниться от общественной жизни?.. Я как бы невзначай спросила его, зачем он забрал из банка деньги. Ах, как же он умеет владеть собой! Даже глазом не моргнул. Как видно, был готов к этому вопросу.
— Станислав попросил меня, — спокойно сказал он, — чтобы я ему одолжил. У него возникли какие-то неожиданные материальные затруднения в связи с капиталовложениями в его фабрику.
Мне это сразу показалось неправдоподобным. Данкин жених всегда имел много денег. Я даже знаю, что он недавно с моим отцом финансировал какое-то изобретение. «В конце концов, легче всего, — подумала я, — узнать у самого Станислава».
Однако Яцек оказался хитрее меня, так как тут же добавил:
— Только, пожалуйста, дорогая, никому об этом не говори, потому что Станислав очень просил меня, чтобы о той ссуде никто не узнал. Особенно не хочет он, чтобы это дошло до твоего отца.
Я не могла удержаться, чтобы не заметить как бы между прочим:
— Очень остроумная выдумка.
— Что именно? — удивился он:
— Ну, вся эта история со Станиславом. Но это не имеет значения.
Он взял меня за руку.
— Слушай, Ганка, — сказал с усмешкой, — а может, ты думаешь, что я прогулял эти деньги в Париже?
Я пожала плечами.
— Не имею права проверять, на что ты тратишь свои деньги. Если бы ты даже их прогулял, чего я, впрочем, не подозреваю, то имел бы на то полное право. Ты же сам знаешь, что деньги меня не интересуют. Вот только одно обидно: что ты не счел нужным сказать мне об этом хоть слово. И вообще, в последнее время ты стал какой-то скрытный. Почти совсем со мной не разговариваешь. У меня такое впечатление, будто тебя что-то угнетает, и ты скрываешь это от меня.
Яцек стал очень серьезным и несколько минут молчал. Потом заговорил:
— Дорогая моя Ганечка, я не хочу скрывать от тебя ничего, что хоть в какой-то мере касается нас обоих. И если ты видишь проявление моей предполагаемой скрытности в том, что я не сказал тебе об одолженных Станиславу деньгах, то сейчас я все объясню. Пятьдесят тысяч я взял из банка и отдал Станиславу в день своего отъезда в Париж. В тот день я буквально не имел ни минуты свободной и был озабочен множеством всевозможных дел. Ты и сама это хорошо знаешь. Если же говорить о том, что меня что-то угнетает… — Он на мгновение замолчал и, не глядя мне в глаза, продолжал: — Должен признаться, что интуиция тебя не обманывает. У меня действительно есть некоторые неприятности. И даже весьма серьезные. Но они не касаются ни нашей жизни, ни моего положения, ни вообще современности.
Он опять замолчал, а я затаила дыхание.
— Видишь ли, любимая, — сказал Яцек, — будучи еще молодым и неопытным, я допустил некое легкомыслие. Я имел все основания считать, что последствия того легкомыслия уже не могут принести никакого вреда. Но вот недавно, совершенно неожиданно для меня появились определенные отголоски моего опрометчивого поступка, и отголоски эти ставят меня в затруднительное положение. Я предпочел бы не посвящать тебя во все это. Более того: я считаю это молчание необходимым по многим соображениям.
Я покачала головой.
— Не признаю никаких соображений, которые возводят между мужем и женой стену непонимания. Муж должен считать жену своим вернем другом, если он ее действительно любит.
Яцек встал передо мной на колени и, глядя мне в глаза, спросил:
— Неужели ты можешь сомневаться в том, что я тебя люблю? Что люблю тебя всем сердцем и душой?
Он был просто великолепен со своими повлажневшими глазами и легкой дрожью в голосе. В один миг я поняла, что должна ему верить, что не только он меня любит, а и я люблю его одного и сильнее, чем когда-либо. Я была уже готова отбросить все свои подозрения, отказаться от всяких расспросов и дознаний, однако некий дух противоречия заставил меня произнести:
— Я знаю, что ты меня любишь, не знаю только, почему не хочешь дать мне никаких доказательств этого.
— Ганка! — воскликнул он. — Каких же еще доказательств ты от меня требуешь?
— Я ничего не требую. Но имею право ожидать от тебя откровенности.
Он взял мою руку и, сжимая ее, сказал:
— Ты должна мне верить, когда я говорю, что слишком тебя уважаю, чтобы, не уладив это дело, пятнать твое воображение и твои чистые мысли отвратительными вещами.
— Даже отвратительными?..
— Да. Вот когда все это минует (а я имею основания на это надеяться), то я совсем иначе смогу тебе все описать, и ты воспримешь это совсем по-другому.
Он говорил еще долго и весьма убедительно, ссылался на свою честность по отношению ко мне, чему я, конечно, не могла возразить, и, наконец, я должна была поверить в его добрые намерения.
При всем этом, я и на минуту не допускала мысли, чтобы оставить решение вопроса на Яцека и отказаться от собственного расследования. После сегодняшнего своего визита к полковнику Корчинскому во мне еще сильнее укрепилось убеждение, что я сумею уладить все куда лучше, чем Яцек.
Беспокоит меня молчание дяди Альбина. Еще, глядишь, и рыжая выдра так задурит ему голову, что он забудет, зачем с ней познакомился. Правда, он опытный волокита, но в этих делах самый ловкий мужчина перед красивой женщиной становится беспомощным ягненком. Нужно только уметь с ним обращаться. А уж та англичанка наверняка имеет богатейшую практику.
Одного не могу понять: почему она оставила Яцека вскоре после свадьбы? Ведь он действительно чудесный. И для любой женщины был бы блестящей партией.
Вечером у нас обедали несколько гостей. Все удалось замечательно. Даже такой требовательный гурман, как Тото, сказал, что никогда не ел такого филе из косули. Соус с каштанами тоже был великолепный. Только мадеры никто не оценил, хотя она была несравненно лучше, чем на последнем обеде у министра. Зря я выпрашивала ее у мамы.
Наконец, где-то около двенадцати, все разошлись, и теперь я могу спокойно записать впечатления прошедшего дня. У Яцека в спальне сидит тетя Магдалена и утомляет его какими-то рассказами. Я уже не такая злая на нее, потому что прием действительно удался на славу. Как я рада, что Яцек снова в Варшаве! Даже сказала Тото, что теперь не смогу встречаться с ним так часто. Он ужасно расстроился. Вот и хорошо. Пусть не думает, что все в жизни дается так легко.
Что будет завтра? Теперь каждый день приносит мне что-то новое и удивительное. Немногие женщины могут похвастаться такой насыщенной жизнью, как моя. Я уже думала о том, что, возможно, со временем напишу о себе роман. Когда я сегодня вечером сказала о своем намерении Витеку Гомбровичу, он очень меня в этом поддержал. Как же это он выразился?.. Ага! Что перед моим романом поблекнет исповедь Ренара. (Я не уверена, то ли Ренара, то ли Руссо, а может и Рембо. Во всяком случае, какого-то французского писателя на «Р»). Он очень хорошо это сказал. Надо будет обязательно прочесть какую-нибудь его книгу. Хотя Мушка читала и утверждает, что там ничего нельзя понять. Я всегда считала, что она бестолковая. Как это можно не понять книги! А вот я понимаю абсолютно все, даже астрономические трактаты Джинса.
Завтра надо непременно отдать заузить каракулевое манто и немного уменьшить клеш внизу.
Наконец тетя ушла. Правду говоря, соскучилась я за Яцеком.
Пятница
Приехал Роберт. Для меня была приятная неожиданность, когда я услышала в трубке вместо голоса той избалованной горничной его теплый баритон. Это взбодрило меня на целый день, потому что проснулась я в ужасном настроении. Да и любая женщина на моем месте, вышла бы из себя. Разве так должен вести себя муж после долгого отсутствия?
Еще когда я зашла вчера в его спальню, он не соизволил заметить, что на мне новый прехорошенький халатик. Трижды его переделывали, пока закончили. Настоящее чудо: белый матовый шелк, очень плотный, покроенный по образцу францисканской рясы. С капюшоном и широченными рукавами. Прекрасно собирается в складки и потрясающе эффектно обрамляет голову. Если бы я могла показаться в нем Роберту, тот был бы вне себя от восторга. Надо быть совершенно лишенным эстетического вкуса, чтобы не заметить такую красоту.
А Яцек в ответ на мой поцелуй спросил:
— Ты ничего не хочешь мне сказать?
Тон его был холодноватый, а во взгляде ощущалось осуждение.
— А в чем дело? — спросила я.
И тут же меня осенило, что, видимо, это тетя на меня наговорила. Целый день в поведении Яцека было столько сердечности, и вдруг такой тон!
— Дело в том, — сказал он, — что я предпочел бы узнавать не от третьих лиц, что моя жена в отсутствие мужа принимает у себя кого-то, незнакомого мне, встречается с каким-то паном по каким-то пивнушкам и тому подобное. Пойми меня правильно. Я ни в чем тебя не подозреваю. Однако считаю, что когда ты заводишь какие-то флирты, то простое приличие требует рассказать об этом мне.
Я была так возмущена, что с трудом сдержалась, чтобы не сказать:
«Какое право имеешь, ты, двоеженец, читать мне мораль?"
Однако взяла себя в руки и спросила:
— А ты хотел бы, чтобы я тоже верила всем сплетням, которые кто-то может выдумать о тебе?
Яцек покраснел. (Может, кроме той рыжей выдры, у него еще что-то на совести?) Он нахмурился и покачал головой.
— Речь не о сплетнях, а о вполне конкретных вещах.
— Знаю, знаю. Это все твоя любимая тетушка. Вбила себе в голову, что посредник по продаже земли — мой любовник. Страшно даже подумать, сколько гадости в голове таких протухших старых панн!.. Конечно! Меня разоблачили, я имею одного любовника посредника, второго трубочиста и третьего дворника! А не говорила тебе твоя тетя о кавалерийском эскадроне?
— Успокойся, дорогая, — сказал Яцек. — Она вовсе не говорила, что у тебя есть любовник. Напрасно ты обвиняешь ее в таких нелепых подозрениях. И вообще, как ты можешь позволить себе такие безобразные слова? Она просто рассказала мне, что дважды видела тебя с неким паном, которого описала как очень приличного и благородного с виду, совсем непохожего на посредника.
— Не знаю, может, у твоей тети есть какие-то специальные предписания по поводу внешнего вида посредников, — пожала я плечами. — Во всяком случае, я тут совершенно ни при чем.
— Но тетя Магдалена утверждает, что впоследствии приходил настоящий посредник …
— Твоя тетя — кретинка. У нее не укладывается в голове, что в Варшаве может существовать два посредники по продаже земельных участков.
— Пусть так. Но я поручил продажу нашего участка тому самому толстому Ляскоту.
— Мой милый, ты такой же зануда, как и твоя тетя. Неужели ты не можешь себе представить, что он, твой Ляскот, или как его там зовут, в свою очередь мог перепоручить дело какому-то Драпачу?
— Драпачу?
— Ой, мне безразличны фамилии тех посредников! Надеюсь, ты не хочешь, чтобы я вела геральдические книги варшавских посредников!
Яцек задумался и ответил:
— Твоя правда, дорогая. Но если я принял во внимание то, что рассказала мне тетя, то лишь потому, что ты ни словом не обмолвилась мне, что виделась с каким-либо посредником. Не понимаю только одного: зачем тебе было встречаться с ним в какой-то пивнушке?..
— Как бы ни так, в пивнушке! Какая удивительная правдивость! Вероятно, это твоя тетя Магдалена ходит по пивнушкам. Ты просто утратил здравый смысл, если можешь такому поверить. Я просто выходила из дома за пирожными и встретила того посредника в подъезде. Он провел меня в кондитерскую на углу, вот и все. А если тебе недостаточно моего объяснения и ты не оставишь эту тему, то запомни: еще раз услышу слово «посредник», сейчас же собираю свои вещи и уезжаю в Голдов.
Я кипела вся от злости, просто кипела!
— И еще одно, — добавила я. — Хватит с меня твоей тети Магдалены. Одна из нас здесь лишняя. Я не хочу больше видеть в доме эту пани. Или она уберется отсюда, или я. И знай — я своего решения не изменю.
Сказав это, я ушла в свою спальню и демонстративно повернула ключ в замке. Яцек минут пять стоял под дверью, извиняясь и умоляя, чтобы я не сердилась. Я не отозвалась ни словом. Конечно, и сама полночи глаз не сомкнула.
Утром я не поздоровалась с тетей. Она наливала кофе в столовой, и я прошла мимо нее, как мимо пустого места. Я заметила, как это ее напугало. Вот уж проучу я эту идиотку!.. Яцеку сказала «добрый день» тоном владелицы пансионата, которая обращается к новому жильцу:
— Что желаете на завтрак?
У него был расстроенный и виноватый вид, но это меня не тронуло. Мне было интересно, перестал ли он верить теткиным глупостям, но, к сожалению, его вызвали по телефону в министерство. Вот тогда я и позвонила Роберту. Это сразу подняло мне настроение. Хотелось увидеть, как он меня встретит. Мы условились на пять.
Порадовало меня еще одно дело: вдруг вспомнила, что именно сегодня приглашена Гальшкой на завтрак. Я знала, как ей важно, чтобы я была. Она нарочно устроила этот завтрак, чтобы познакомиться поближе с директором Гуцулом, который видел меня когда-то у моря и теперь специально приехал из Катовице встретиться со мной. Тот Гуцул очень нужен ее мужу в связи с какими-то там делами. Я, конечно, пообещала, что буду, а сегодня за несколько минут до двух позвонила и сказала, что у меня ужасно болит голова и я не приеду. Представляю себе, как взбеленится Гуцул. Так ей и надо!
Приняв все возможные меры предосторожности (кажется, Яцек таки серьезно меня подозревает), я поехала на Жолибож. Дядю не застала. Что с ним происходит? Я все сильнее беспокоюсь. Домой вернулась расстроенная и с порога попала в Данкины объятия. Они все уже приехали из Голдова. Отец, слава богу, чувствует себя лучше. Через несколько дней уже сможет ходить. Португалец прислал ему (странный способ искупления греха!) четыре шкуры пум, которых якобы подстрелил где-то в Южной Америке. А отец хочет отдать их мне. Как же! Я должна превратить свой дом в склад всякого хлама! Разве что положить те шкуры в комнате тети Магдалены, чтобы окончательно отравить ей жизнь…
Ровно в пять я была на Познанской. Право, Роберт таки самый обаятельный мужчина из всех, которых я когда-либо знала! Мне было интересно, как он оправдает свое длительное отсутствие, но он верен своему стилю. Он вообще не упомянул об этом ни словом, только воскликнул:
— Наконец-то!
Как много может означать одно слово! Чудо, да и только! Он был такой милый, что я даже решила не говорить ему ничего о горничной. Пусть себе… В глазах у него поблескивают золотые огоньки. Он, видимо, мечтатель, только скрывает это от всех. Какой он романтичный! Мы прекрасно провели два часа. Если бы я и могла его чем-то упрекнуть, то только в его чрезмерной любви к музыке. Все время он показывает мне какие-то новые пластинки Баха, Бетховена и тому подобное.
Сегодня он сказал мне:
— Стоит уезжать, если знаешь, что кто-то ждет твоего возвращения.
Как он красиво говорит! Нет в нем ничего банального. Тото рядом с ним выглядит как манекен из папье-маше. Бесспорно, если учитывать манеры или материальные возможности, он несравненно выше Роберта. Но ему не хватает внутреннего содержания. А в этом мужчине угадывается глубокая душа. Нет в нем ничего поверхностного. Каждая встреча с ним — путешествие в неведомое. Чувствуешь легкий трепет какой-то призрачной опасности и одновременно доверие к нему. Женщины меня поймут. Я никогда не знаю, о чем он думает. Никогда не знаю, что он скажет, как себя поведет.
Я написала, что он мечтатель, но это вовсе не означает, что он сентиментален. Скорее наоборот. Этим он, собственно, отличается от Яцека. В чувственности Яцека много нежности, что тоже не лишено привлекательности. Однако во многих отношениях они сходны. Думаю, что Роберт тоже мог бы быть хорошим дипломатом. Однако я чувствую в нем, хотя он этого ничем не выдает, склонность к насилию, а может, даже и жестокость. Странно, что такой человек занимается таким прозаическим делом, как торговля. Не хотела бы я видеть его во время торга или слышать разговоры о поставках товаров. Это принизило бы в моих глазах образ его души.
К тому же он умеет слушать. Как живо реагируют его глаза и все черты лица, когда я рассказываю ему о себе. Я рассказала ему о случившемся с отцом и всю историю с этим конвертом. Кому-кому, а ему я могла смело об этом рассказать. Я уверена, что если есть в мире человек, достойный доверия, то это именно он. Он принял близко к сердцу мои переживания и искренне смеялся, когда я пересказала ему свою последнюю беседу с полковником Корчинским.
— Ну, и показали тебе те фотографии? — спросил Роберт.
Тут я вспомнила того почтальона (или лесника) и сказала:
— Конечно. И представь себе, какая забавная штука: среди изображений было одно, поразительно похожее на тебя.
— На меня? — удивился он.
— Да. Ты уж прости меня, но если бы не одежда, я подумала бы, что это действительно ты. Какая-то униформа… не сердись… то ли почтальона, то ли еще кого-то такого… Ты только не обижайся. Когда-то в Париже, в салоне Ворта, я видела манекенщицу, которая была вылитая я. Ты носил когда-либо усы и бороду?
Он нетерпеливо пожал плечами.
— Никогда в жизни. Почему ты об этом спрашиваешь?
— Потому что тот пан на фотографии имел усы и испанскую бородку.
— Отличное сходство! — засмеялся Роберт — И что же дальше с этой фотографией?
— Как это «что»? — переспросила я.
— Ну, ты сказала тому полковнику, что знаешь кого-то похожего?
Это меня рассмешило.
— Ах ты, наивный мальчик! Конечно, не сказала.
Он спросил меня еще, в котором часу я была у полковника. Не понимаю, почему его это заинтересовало. Потом вдруг посмотрел на часы, извинился и на минуту вышел в кухню. Вернулся как будто немного встревоженный и сказал, что, к сожалению, не может меня больше задерживать, потому что ждет визита одного клиента, о котором совершенно забыл. Выглядел он несколько раздраженным. Может, я зря сказала ему о сходстве. Кому же приятно, что на него похож кто-то из низших слоев. Я постаралась смягчить это впечатление и, кажется, добилась своего. Он попрощался со мной очень ласково и попросил, чтобы я и завтра ему позвонила.
Домой я возвращалась в прекрасном настроении. Забавная вещь, как порой запоминаются некоторые лица. Уходя от Роберта, я встретила на улице того типа, который напихался яичницей в молочной на Жолибоже. Пожалуй, я потому так хорошо его запомнила, что таких дурацких физиономий никогда еще не видела.
Дома я убедилась, что Яцеку действительно запали в душу мои слова. Еще в прихожей Юзеф сообщил мне, что тетя Магдалена завтра утром выезжает в провинцию. Наконец я избавлюсь от этой назойливой женщины! Я быстренько приняла ванну и поехала к парикмахеру. Сегодня бал во французском посольстве.
Воскресенье
Ужас, да и только! Я до сих пор не могу прийти в себя. Какое счастье, что Яцек ничего не знает! Сколько буду жить, не забуду деликатности полковника. Он действительно очень добр ко мне. Подумать страшно, в чем мог бы заподозрить меня Яцек, если бы все узнал. А в морге я чуть не потеряла сознание.
Я узнала обо всем вчера утром. Когда Яцек ушел из дома, я позвонила Роберту и услышала в трубке совершенно незнакомый голос. Разумеется, я положила трубку. Однако когда минуты через две снова взяла ее, то убедилась, что телефон еще не разъединен. Поскольку мне срочно была нужна Туля Вощевская, это начало меня раздражать, тем более, что мне совсем не хотелось, чтобы мой телефон был соединен с Робертом. Так продолжалось около получаса, и только тогда я смогла позвонить Туле. А минут через пять явились какие-то два господина. В доме беспорядок, тетя собирается уезжать, а они показывают мне какие-то удостоверения и начинают допытываться, не я ли звонила на номер пана Роберта Тоннора. Я, конечно, категорически отрицала. Меня стало страшно. Тогда они сказали, что надо немедленно допросить всех в доме — кто-то звонил с моего аппарата пану Тоннору. У меня не осталось другого выхода кроме как признать, что это я. Наконец, телефонный звонок — вполне обычное дело. Мы звоним разным лицам, с которыми нас ничего не связывает, кроме обычного знакомства или деловых интересов.
Тогда они попросили меня, чтобы я оделась и поехала с ними. Когда я ответила, что у меня нет времени, старший из них улыбнулся и спокойно сказал:
— В таком случае я буду вынужден вас арестовать. Я обмерла. Меня — арестовать!
— Да вы что? Я жена советника Реновицкого!
— Даже если бы вы были женой самого министра, это ничего бы не изменило. Даю вам пять минут на то, чтобы одеться.
Я хотела позвонить Яцеку, чтобы он спасал меня, но они не позволили. Если бы я только что не подвела глаза, то заплакала бы.
— За что… за что вы меня арестовываете? Что я плохого сделала?..
— Мы вас вовсе не арестовываем. Вы только должны дать показания. И прошу вас поторопиться.
Что было делать? Я поехала с ними, еле живая от страха. Немного успокоилась только тогда, когда увидела, что они привезли меня в учреждение полковника Корчинского. Я уже знала, что здесь ничего плохого мне не сделают. Однако полковника не было. Меня отвели в другой кабинет, и там меня принял его приятель, с которым я недавно познакомилась. Теперь он был в мундире майора. Поздоровался со мной очень сухо. Будто совсем другой человек. Затем строго спросил:
— С каких пор вы знаете Альфреда Валло?
Я сделала большие глаза.
— Валло? Я вообще такого не знаю.
— Что ж, допустим. С каких пор вы знаете Тоннора?
— И его не знаю… То есть знаю, но очень мало.
Майор нахмурился.
— Предупреждаю, что вы должны говорить только правду. Человек, о котором я вас спрашиваю, — очень опасный шпион. Меня не интересуют ваши интимные отношения. Но вы обязаны прямо отвечать на вопросы, которые я вам и буду задавать. Итак, как давно вы его знаете?
— Боже мой!.. Я познакомилась с ним в начале прошлого месяца.
— Где?
Не могла же я рассказывать ему эту историю с Гальшкой! Ну и сказала:
— Теперь уж и не вспомню… Кажется, в каком ресторане или кафе. Я тогда познакомилась с несколькими людьми, а среди них и с паном Тоннором.
— Кто вас с ним познакомил?
С какой радостью я бы втянула во все это Гальшку! Пусть бы она попробовала тот же мед, что я. Ведь все это случилось по ее вине. Кто мог бы подумать, что Роберт — шпион? Страшные люди. Как они умеют маскироваться!
— Никак не могу вспомнить, — заверила я майора. — Видимо это был какой-то случайный человек.
— А вашего мужа Тоннор знал?
— Что вы, упаси боже!
— Как часто вы с ним виделись?
— Да почти совсем… Откуда я знаю? Может, раза два в жизни…
Майор поглядывал на меня с видимым недоверием.
— Простите, пани, но вы должны говорить только правду. Если окажется, что вы действительно не знали, кем является Тоннор, о ваших показания никто не узнает. Как часто вы бывали у него?
— Н-ну… несколько раз…
— А он у вас также бывал?
— Нет-нет, упаси боже!
— Разговаривал ли с вами пан Тоннор о служебных делах вашего мужа? Знал ли он вообще, какое положение занимает пан Реновицкий в министерстве?
— Он совсем этим не интересовался.
— Вы наверняка это помните?
— Абсолютно, — подтвердила я. — Мы никогда не разговаривали о политике или о таких вещах, которые могли бы быть важными для шпионов. Меня они тоже не интересуют. И конечно, я и не предполагала, что он шпион. Он производил впечатление очень приличного и порядочного человека. Мне и теперь трудно поверить, что он был шпионом. Я знала, что у него есть экспортная или импортная контора, которая находится на Электоральной.
Майор кивнул.
— Эта контора была создана, чтобы замаскировать его настоящую деятельность. Когда вы видели Тоннора последний раз?
— Кажется, вчера.
— В котором часу?
— Вечером, между пятью и семью.
Майор нажал кнопку звонка, и на пороге, к моему большому удивлению, появился тот гадкий тип, которого я видела в молочной на Жолибоже. Он не сказал ни слова, только посмотрел на меня и кивнул.
Майор жестом велел ему выйти и посмотрел на меня уже немного мягче.
— Я вижу, вы говорите мне правду. Держитесь этой линии и в дальнейшем. Уверяю вас, мы знаем очень много. И если вы скажете нам неправду, мы легко это обнаружим.
Я была так напугана, что мне и в голову не приходило прибегать к каким-то уловкам. Сама мысль о том, что они могут рассказать обо всем Яцеку, пронизывала меня ужасом. Они очень опасные люди.
Майор стал меня расспрашивать, о чем я говорила с Тоннором последний раз. Больше всего его интересовало, не упоминал ли он о своем намерении уехать, не называл ли какого-то города или страны, не обещал ли мне написать.
Я сказала, что он вовсе не собирался уезжать, наверняка и теперь в Варшаве, так как только что вернулся из какой-то коммерческой поездки. Майор задумался и, минуту помолчав, очень сурово произнес:
— Этот субъект сбежал. Но он еще должно быть в Польше. На всех пограничных пунктах ведется пристальное наблюдение. Поэтому нет сомнения, что рано или поздно его схватят. Однако я думаю, что он попытается как-то связаться с вами, если ваши с ним отношения имели какие-то чувственные основы…
— Но, пан майор… — перебила его я. — Меня ничего с ним не связывало. Даю вам честное слово.
По выражению его лица я поняла, что майор не поверил мне. Он нетерпеливо махнул рукой.
— Это меня мало волнует, уважаемая пани. Зато мне очень важно, чтобы вы сразу же сообщили мне, если Тоннор пришлет вам телеграмму или письмо. Вы знаете его почерк?
— Нет.
Майор положил передо мной несколько листков бумаги. Каждый был исписан другим почерком.
— Вот образцы. Если вы получите письмо, написанное одним из этих почерков, вы должны немедленно, не открывая конверта, принести его мне. Если Тоннор вам позвонит, постарайтесь выведать у него, где он находится. Ни в коем случае не кладите трубку на аппарат. Понимаете? Это позволит нам выяснить, откуда вам звонили. Надеюсь, что могу вам доверять, и что вы будете строго придерживаться этих предписаний. В противном случае мне пришлось бы установить контроль над вашей корреспонденцией и телефоном, что, конечно, вовсе не относится к приятным вещам.
Я заверила его, что он может полностью на меня положиться. Тогда он спросил, видела ли я кого-нибудь у Тоннора. Я сказала, что не видела никого, за исключением горничной.
— Могли бы вы ее опознать?
— Конечно.
Когда он стал надевать плащ, я догадалась, что мы поедем в тюрьму. Однако все оказалось куда хуже.
Машина остановилась перед моргом. Боже, какой ужас! Меня повели через мрачное помещение, в котором лежало множество трупов, накрытых белыми простынями. В воздухе стоял невыносимый смрад. Я чуть не потеряла сознание. Никогда в жизни не сталкивалась с таким ужасным зрелищем.
Когда открыли лицо, я сразу узнала ее. Она была очень синяя и лежала с открытыми глазами.
— Да, это она, — сказала я. — А что… ее убили?
Майор отрицательно покачал головой. А когда мы вы шли из морга, объяснил:
— Она сама отравилась, когда ее арестовывали на вокзале.
— Отравилась? Почему? Разве она тоже была шпионка?
— Да. Ее сообщнику удалось бежать только благодаря гриму. Она предпочла умереть, чем попасть в тюрьму.
Я была потрясена. Вернувшись домой, сейчас же легла в постель. Боже мой, какие ужасные вещи творятся в мире! Как все гнусно и подло! Я не любила ее, но она была молодая и хорошенькая. Эти преступники втягивают в свои грязные дурацкие дела даже женщин. Разве это по-человечески! Если бы я была президентом страны, я бы категорически запретила пускать в Польшу шпионов.
А к тому же во все это впутали и меня. Сколько буду жить, не прощу этого Гальшке. Меня в жар бросает, как подумаю, какой поднялся бы страшный скандал, если бы мои показания получили огласку. Для Яцека это был бы настоящий удар. А отец!.. Нет, лучше об этом и не думать!
Теперь я дрожу от мысли, что Тоннор может мне позвонить. Боже мой, я не желаю ему зла, но все же предпочла бы, чтобы его скорее схватили.
Разумнее было бы уехать. Хоть бы в Голдов. Но я не могу. В мое отсутствие может произойти бог знает что между Яцеком и той женщиной. Должна сама за всем присматривать. Завтра надо будет поехать к дяде Альбину. Не могу понять, почему он не подает признаков жизни.
А теперь спать, любой ценой спать.
Понедельник
Оказывается, Яцек не врал. Он действительно занял деньги Станиславу. Сегодня я убедилась в этом воочию. Яцек при мне распечатал конверт, который принес служащий с фабрики. В конверте были векселя на пятьдесят тысяч.
По этому поводу я сказала дяде:
— Сомневаюсь, чтобы та женщина была шантажисткой. Если бы она потребовала от Яцека деньги, он на всякий случай захотел бы их придержать и не одолжил бы никому. Это меня все сильнее тревожит.
— Почему тревожит? — удивился дядя.
— Ну, если ей не нужны деньги, то, вероятно, нужен он сам.
Дядя задумался и покачал головой.
— Мне до сих пор не удалось сориентироваться в ее намерениях. Я виделся с ней раз пять или шесть, но мы все еще на очень официальной ноге. Пока меня не было случая для основательной беседы. Когда я упомянул, что знаю в лицо того молодого человека, с которым она выходила из лифта, она оставила мое замечание без ответа. Это женщина с большим опытом поведения в обществе. Прекрасно умеет говорить ни о чем.
Я была несколько разочарована.
— С вашими талантами, дядюшка, я ожидала от вас большего.
— Я и сам ожидал большего, — улыбнулся он. — Но поверь, это очень интересная женщина, и я ничуть не жалею, что познакомился с ней.
— Но не может же быть, чтобы она хоть чем-то себя не выдала. Ведь должна она что-то о себе рассказать?
— Да, — признал дядя, — но сомневаюсь, что те сведения нам могут пригодиться. Она говорила мне, что ее отец был женат на бельгийке и владел промышленными предприятиями где-то под Антверпеном. После смерти родителей она все ликвидировала и сначала училась в Академии искусств в Париже, потому что хотела стать художницей, а потом путешествовала, очень много путешествовала. Из ее рассказов можно понять, что она объездила почти весь мир. Несмотря на то, что материальные условия давали ей независимость, она некоторое время была журналисткой и посылала из разных стран корреспонденции в американские журналы. Больше всего времени она проводит на Французской Ривьере. Однако всегда и везде живет в отелях.
— Ну, она рассказала вам достаточно много.
— Вроде бы и много, но пользы от всего того нам мало. Я, конечно, перешлю все эти сведения в розыскное бюро в Брюсселе. Однако сомневаюсь, чтобы они им там пригодились.
— Так что же нам делать?
— Придется набраться терпения. Нужно рассчитывать на случай.
— А вы не пробовали ее просто напоить?
Дядя засмеялся.
— К сожалению, все мои попытки были тщетны. Мисс Элизабет Норман утверждает, что ее организм имеет идиосинкразию к алкоголю. Когда-то, еще маленькой девочкой, она выпила бокальчик шампанского и так отравилась, что чуть не умерла.
— Может ли такое быть?
Дядя Альбин пожал плечами.
— Может и да, но для дела это не имеет никакого значения. Что касается твоего замечания, что она не гонится за деньгами, то оно кажется мне вполне справедливым, потому что эта женщина наверняка богата. Она имеет прекрасные украшения, которые стоят несколько сот тысяч, очень дорогие меха и великолепные туалеты. Я немного разбираюсь в этих вещах. Она наверняка очень состоятельная. Что касается всего прочего, это обычная женщина. Имеет живое воображение, всесторонние интересы, разбирается в музыке, в живописи, в архитектуре. Любит знакомиться с новыми людьми.
— А вы ее с кем-то познакомили?
— О, да. С несколькими своими приятелями.
Я встревожилась.
— Как же вы могли позволить себе такую оплошность? Ведь они в разговоре с ней могут назвать, и уже наверняка не раз называли, вашу фамилию. Она сразу поймет, что не случайно пан, с которым она познакомилась, имеет ту же фамилию, что и моя девичья.
— О, этого можешь не бояться, — успокоил меня дядя. — Женщине, не владеющей ни одним славянским языком, всех наших фамилий не только не запомнить, но даже и не произнести. Я уже не раз в этом убеждался.
— Но это она писала Яцеку, и писала на чистейшем польском языке.
Дядя кивнул головой.
— Это для меня еще нерешенная загадка. Я уверен, что писала или она, или какая-то особа, знающая польский язык. Если она сама, то я скорее склонен предположить, что она переписала текст с чужой рукописи, просто копируя буквы и не понимая смысла. Для меня вполне очевидно одно: польского языка она не знает. Я проделал множество экспериментов. Например, сидя в ресторане, делал вид, что плохо понял ее, и заказывал кельнеру совсем другое. Или же неожиданно вставлял польское слово, или же в беседе, которая велась при ней, говорил что-то о ней. Я не могу не верить своему опыту. Ни разу в ее взгляде, поведении или выражении лица не было заметно ни малейшей реакции. Она не может знать польского языка. Это для меня бесспорная истина.
Я задумалась и покачала головой.
— И все же для меня остается непонятным, почему она писала Яцеку по-польски… Если ей пришлось доставить себе столько хлопот, копируя чье-то письмо, почему она просто-напросто не написала письмо на английском или французском языке, которым хорошо владеет? Ведь она должна знать, что Яцек также их понимает. Нет, дядюшка, все это дело кажется мне загадочнее и сложнее, чем вам. И вообще, в мире происходят вещи слишком сложные и неожиданные…
Мне очень хотелось рассказать дяде, о своих неприятностях в связи со злосчастным Тоннором. Однако пришлось промолчать.
Дядя согласился, что все это выглядит весьма подозрительно. Я видела, что он серьезно встревожился. Это очень поколебало мою веру в него.
Я вернулась домой в подавленном состоянии. А тут еще узнала от Яцека, что он в ближайшее время будет очень занят. В Польшу приезжает маршал Геринг. Он несколько дней пробудет в Варшаве, а затем поедет на охоту в Беловежи. Мы будем присутствовать на рауте в министерстве и на приеме в немецком консульстве.
Интересно, узнает ли меня Геринг. Когда я в прошлом году познакомилась с ним в Берлине, он очень долго со мной разговаривал и был удивительно мил. Если пойду в посольство, нужно будет сделать гладкую прическу. Они там любят, чтобы женщины выглядели поскромнее. Яцек, кажется, должен будет ехать с ними в Беловежи.
Яцек был немногословен, но я поняла, что этот визит Геринга чрезвычайно важен. Речь идет якобы об Австрии — чтобы мы не препятствовали ей объединиться с Германией. Тогда немцы не будут препятствовать нам в нашем продвижении к Балтийскому побережью. Лично я не понимаю, почему бы мы должны были им препятствовать. Я никогда не чувствовала к венцам никакой неприязни. Очень милые, веселые люди. Я нигде так не развлекалась, как в Вене.
Я пыталась выяснить у Яцека, почему у нас придают такое значение Балтике. Ну понятно, что морская торговля, Гдыня, что с экономической точки зрения это имеет большое значение. Но если говорить об обществе, то оно не будет иметь с того почти никакой пользы. Редко выпадает такой год, чтобы на польском побережье можно было высидеть два месяца. Вода очень холодная, часто идут дожди, о каком-либо комфорте кроме Юраты нечего и мечтать, а в той же Юрате ужасное общество. Одна плутократия низшего сорта.
Я, как можно старательнее, пыталась убедить Яцека, чтобы он, пользуясь присутствием Геринга, подсказал ему такую идею: пусть они за наше согласие на аншлюс лучше дадут нам выход к Черному морю. Где-то между Румынией и Россией наверняка есть местечко, где мы могли бы найти такой выход. Правда, Яцек делал вид, будто смеется над моим предложением, но мне кажется, что эта идея ему понравилась.
В конце концов, я не остановлюсь на Яцеке. Сегодня же поговорю об этом на приеме у пани Собанской.
У меня столько своих забот, а тут еще приходится ломать себе голову над будущим государства.
Вторник
Боже мой, что мне теперь делать? Как поступить? Если я сделаю так, как велит мне совесть, — совершу преступление. Если так, как велит долг — совершу подлость, да еще и подлость по отношению к человеку, который не только никогда не причинил мне ничего плохого, но и любит меня так искренне и глубоко.
Утром с почты принесли посылку. Я была очень удивлена по двум причинам. Во-первых, посылка была продовольственная, а во-вторых, ее прислала из Ковеля какая-то неизвестная мне Зофья Патрич. Это меня так заинтриговало, что я решила открыть ее сама. Но еще больше удивилась, когда я обнаружила внутри две ощипанные курицы. Я уже хотела позвать Юзефа, чтобы он забрал их на кухню, как вдруг увидела под той гадостью конверт. Сердце мое забилось сильнее. Я уже знала, что это от Роберта. И не ошиблась.
Я долго колебалась, не зная, что с ним делать (с тем конвертом). Адреса на нем не было. Я еще раз посмотрела на обертку. Адрес, бесспорно, писал кто-то другой. Какая-то женщина с неразборчивым почерком. Да еще и противным химическим карандашом.
Вдобавок от кур пахло сырым мясом или они просто были несвежие. Мне стало дурно. Я оставила их в столовой и заперлась в своей комнате.
Конечно, я имела право вскрыть конверт. Ни майор, ни полковник не могут предъявить мне никаких претензий. Разве могла я подумать, что это от Роберта? Какой бы мужчина послал даме из высшего света дохлых кур?
Я разорвала конверт, и из него выпал ключик. Маленький изящный ключик. Кроме него, внутри было какое-то удостоверение и письмо. Поскольку я еще не знаю, как поступлю и что со всем этим сделаю, а письмо это едва ли не лучшее из всех, которые я когда-либо получала, то я переписываю его сюда.
«Ганка!
Это ужасно, когда мужчина, даже очень сильный мужчина, должен протягивать руку за помощью к женщине, которую стремился бы защитить от любой опасности, от всего, что могло бы поразить ее весьма деликатное воображение, нарушить ее покой, внести диссонанс в ее беззаботные дни.
Я впадаю в отчаяние, когда думаю, что должен это сделать, и ничто в мире не оправдывает меня, даже то, что я так сильно, так безумно тебя люблю. Скорее это можно считать еще одним камнем, который падает на мою бедную голову и мою изуродованную жизнь. Я вынужден так поступить.
А теперь выслушай меня. Совершенно неожиданно меня постигло несчастье. Несчастье, глубины которого я еще сам не могу осознать. Мне пришлось внезапно бежать из Варшавы, чтобы спасти свою жизнь. Я не смог взять даже дорожный несессер. Даже деньги. Только благодаря случайным людям я еще не умер от голода. А что со мной будет завтра или через час — не могу предсказать.
А тут еще любовь, которая сжигает мое сердце, эта огромная и безнадежная тоска по тебе. Любовь, которую я должен подвергнуть такому страшному испытанию. Я знаю, что ты мне не откажешь. Но вместе с тем знаю и то, что подвергаю тебя, тебя единственную, мое самое дорогое сокровище, на возможные неприятности. Поэтому прошу тебя, будь как можно осторожнее. Заклинаю тебя, пусть никто не узнает об этом письме ни слова.
Просьба моя такая: в Северо-Восточном банке у меня есть сейф. Посылаю тебе ключик от него, а также удостоверение с паролем. Пойди туда и забери все, что там лежит. Там есть два пакета. В одном техническая документация на фабрику, которую я намеревался строить, во втором — деньги. Забери их и тщательно спрячь. По дороге в банк и в самом банке старайся не привлекать к себе внимания. Эти пакеты для меня чрезвычайно важны. Может, даже не меньше жизни.
Если услышишь обо мне что-то плохое, можешь верить всему. Можешь проклясть меня и вычеркнуть из своей памяти. Я готов ко всему. Возможно, я даже заслужил это, хотя, зная тебя, я уверен, что ты никого не осудишь, предварительно не выслушав, не приняв во внимание трагического стечения обстоятельств, которое могло толкнуть не на тот путь, к которому стремилось сердце. Я испытал в жизни немало катастроф, но наибольшую переживаю теперь, когда надо мной нависла угроза потерять тебя в тот момент, когда я уже собирался устранить все препятствия, которые нас разделяли. Я люблю тебя, и если ты узнаешь о моей смерти, знай одно: я умер с твоим именем на устах.
Роберт».
Когда я дочитывала это письмо, у меня дрожали руки. Да, я не ошиблась в этом человеке. Я знала, что меня в нем привлекает. Он настоящий мужчина. Подумать только, за все то время, пока ему везло, он ни разу не сказал, что любит меня. А мог же тогда на многое надеяться. Вот и из этого письма видно, что он связывал со мной немалые надежды. Возможно, даже рассчитывал, что ради него я расстанусь с мужем. Но на признание решился только сейчас, когда уже все надежды рухнули. Это человек с характером.
Я чувствовала, что должна без раздумий сделать все, о чем он просит. К этому стремилась моя женская душа. Только бог знает, какие ужасные обстоятельства могли толкнуть его на скользкую дорожку. Только бог знает, сколько добра я могу для него сделать, как могу облегчить его возвращение к честной жизни. Имею ли я право даже размышлять об этом?..
Однако, с другой стороны, страх меня охватывает от самой мысли, что я держала бы в доме эти его бумаги и деньги. Ведь их мог бы найти кто-то из прислуги или сам Яцек. И почему он хочет, чтобы я забрала их к себе? Право, безопаснее, чтобы они лежали в банке.
А тут еще этот майор. Каким грозным был его взгляд, когда он потребовал от меня, чтобы я немедленно известила его, как только Роберт даст о себе знать. Видно, это не игрушки, если эта бедная девушка покончила жизнь самоубийством. Мне все время мерещится ее посиневшее лицо. Это ужасно, что люди занимаются всеми этими отвратительными делами. И почему, собственно, меня в них втянули?
Что же делать?..
Довериться дяде Альбину я не могу. Да и потеряла я веру в него после того, как он не сумел справиться с загадкой письма.
Что касается меня, то я убеждена, безоговорочно убеждена, что та ловкая женщина водит его за нос, как хочет, и отлично маскируется. Может, она вообще никакая не иностранка. Перед находчивой женщиной мужчины теряют способность мыслить критически и дают себя обмануть, как малые дети. Кажется, все дело в том, что они оценивают мотивы и причины нашего поведения с точки зрения собственной логики. А это обманчивый путь.
Не могу отделаться от мысли о Роберте, который где-то в далекой провинции должен покупать битых кур, чтобы дать мне знать о своей трагедии, чтобы признаться в своих чувствах, чтобы просить меня о спасении.
Роберт! Если когда-нибудь (кто может знать!), если когда-нибудь ты прочтешь эти слова, помни, что я всем сердцем была с тобой. Я еще не знаю, как поступлю. Не могу сама отважиться на решение. Но чувствую, что, если бы у меня хватило силы и смелости, я выполнила бы твою просьбу.
Боже мой, уже первый час, а я в двенадцать должна была быть на примерке! Из-за всех этих дел я еще останусь без платья для бала в посольстве.
Вторник, вечер
Наконец с моего сердца свалился этот камень. После него осталась глубокая рана. Потому что я никогда не прощу себе того, что совершила. Радует меня только то, что часть моей вины ложится на Ромека Жеранского. Как я могла забыть о его существовании! Только благодаря случайности судьба позволила мне воспользоваться его советом и помощью.
А собственно, только он один из всех мужчин в Варшаве и достоин доверия. К тому же я всегда верила в его здравый смысл и разум. Уже не говорю о том, что Ромек скорее застрелился бы, чем причинил мне хоть малейшую неприятность. Его верность меня умиляет. Он все еще не женился, хотя прошло уже три года, как я вышла замуж за Яцека. За эти три года я видела его едва ли дважды, да и то издалека. Он не бывает там, где мог бы встретить Яцека.
Ну и я этому не удивляюсь. Яцек без всякого злого умысла вызвал его тогда на дуэль и ранил в руку. К тому времени ни один из них еще не получил моего согласия, и оба имели равное право добиваться моей взаимности. Разошлись они непримиренными. Два ближайших друга стали злейшими врагами.
Сам бог послал его мне сейчас. (Ведь важно и то, что Ромек, не встречаясь с людьми нашего круга, никому не проговорится). Я как раз выходила после примерки, когда встретила его. И чуть не вскрикнула от радости. Он слегка побледнел (как это мило с его стороны!), но поскольку мы столкнулись лицом к лицу, ему не удалось ограничиться одним поклоном. Кроме того, я уже протянула ему руку.
Я сказала ему, что он возмужал и похорошел. Так в конце концов и было. Раньше у него были узковатые плечи, он был слишком худой, и в его поведении чувствовалась какая-то наивность. Сейчас он быстро пришел в себя и сразу согласился меня провести. Я умышленно шла очень медленно, чтобы иметь время обо всем ему рассказать.
Вот я и сказала ему, что со мной ухаживал один пан, оказавшийся шпионом. Поскольку его видели в моем обществе, то военные власти полагают, что хоть он и бежал из Варшавы, но попытается связаться со мной. Меня обязали, немедленно дать знать, как только это произойдет. Затем я подробно пересказала Ромеку содержание письма Роберта и спросила, что мне делать. (О курах я, конечно, не упоминала, так как эта деталь несущественная, а историю романтического ореола лишает).
Внимательно выслушав меня, Ромек сказал:
— Как ты можешь хоть минуту колебаться! Если бы ты даже и хотела выполнить просьбу того шпиона, то не смогла бы этого сделать, а только навлекла бы на себя серьезные неприятности.
— Почему?
— Это же очень просто. После его бегства наверняка кто-то приставлен следить за его сейфом в банке. Было бы слишком наивно не сделать этого. И каждый, кто попытается открыть сейф, будет тут же арестован.
Я вздрогнула.
— Какой ужас!
— Еще бы. Тем более что тебя признали бы, и вполне справедливо, сообщницей шпиона.
Я посмотрела на него с недоверием.
— Ты шутишь? А положение моего мужа?..
— Даже если бы твой муж был министром, это не спасло бы тебя от обвинительного приговора и тюрьмы.
— Так что же мне делать?
— Как можно скорее отдай это письмо, как тебе сказано.
— Но это все равно, что приговорить этого человека к смерти!
— Тем лучше. Он шпион, и его надо обезвредить.
— Ты рассуждаешь по-мужски, — ответила я через минуту. — Все совсем не так просто. Ты не принимаешь во внимание, что, последовав твоему совету, я выдам человека, который не имеет в мире никого, кроме меня. Человека, который мне доверился. Если бы ты был на его месте, то смотрел бы на все иначе.
Ромек улыбнулся.
— Я не мог бы быть на его месте по двум причинам. Во-первых, я не представляю себе такой ситуации, в которой согласился бы подвергнуть тебя опасности, а во-вторых, я не шпион. А ты, прежде всего, должна исходить из того, что ты полька, жена польского дипломата. Как же ты можешь даже думать о том, чтобы стать союзницей человека, который является врагом государства?
Я не могла не признать справедливости его слов. В конце концов, я, пожалуй, и сама поступила бы так, как он посоветовал. Но это не может освободить меня от угрызений совести за свой поступок.
Ромек был бы милым молодым человеком, во всех отношениях милым, если бы не его основательность, если бы не это странное желание выискивать в каждом обычном повседневном деле какие-то великие знамения. Я уверена, что если бы я его поцеловала, когда мы прощались в подъезде (а у меня, к слову, было такое желание), то он расценил бы это как согласие на развод с Яцеком и опрометью бросился бы к портному, чтобы заказать себе свадебный фрак. Ромек не желает мириться с реальной действительностью. Я уверена, он не понимает, что такое флирт, а роман мог бы себе представить только как чистое единение душ, и непременно где-то на Капри. Конечно, единение пожизненное. И чтобы быть погребенными в одной могиле. Подумать только, сколько этот человек теряет удовольствий, которые заведомо его не обошли бы, если бы не это его убийственно серьезное отношение к жизни. А жаль…
Я взяла с собой все. Так велел мне майор по телефону. Кур, обертку и письмо. Как только я появилась в кабинете майора, туда сразу же пришли полковник Корчинский и еще двое каких-то господ в штатском. Страшно вспомнить, что они вытворяли. Рассматривали все сквозь лупу, даже и кур. Изучали бумагу, веревки, клей, чернила. Что-то там забирали на просвечивание, порезали тех несчастных кур складным ножиком, словно надеялись найти что-то и в них. Наконец майор вытер руки и сказал:
— Все складывается замечательно. Возьмите, пожалуйста, этот ключик.
Я испугалась.
— А зачем он мне?
— Сейчас я вам все объясню. Сегодня уже поздно, а завтра утром вы пойдете в банк и откроете сейф. Это последняя дверь справа в третьем ряду снизу. Вы заберете то, что там лежит, спрячете в сумочку и пойдете пешком домой.
— Но простите! — возмутилась я. — Почему я должна это делать?
— Сейчас и это вам растолкую. Тоннор, а точнее Валло, еще надеется на то, что мы не выследили его сейф. Если он еще в Варшаве, то все равно не хочет нарываться на арест. Вот он и решил прибегнуть к вашим услугам. Он, конечно, мог бы послать кого-то из своих сообщников, но, стоя перед выбором — рискнуть сообщником или вами, — предпочел избрать вас.
— Я вас не понимаю, пан майор… — иронично посмотрела я на него. — Во-первых, могу вас заверить, что ни один влюбленный мужчина, имея какой-то выбор, не стал бы подвергать опасности женщину, которую он любит, — конечно, платонически. Во-вторых, как он может быть в Варшаве, если пакет пришел из Ковеля?
— Это не имеет значения, — сказал майор.
Вот такие они, мужчины. Когда их поймаешь на какой-то глупости, они всегда говорят: «Это не имеет значения».
— Но почему я должен все это делать?
— Для того, уважаемая пани, чтобы не вспугнуть птичку. Возле банка, а может и внутри, наверняка, караулит кто-то из его сообщников. Тоннор, очевидно, сообщил ему, что вы должны взять те пакеты из сейфа. Ведь он обратился к вам с этой просьбой, имея в виду одну цель: потом спокойно забрать у вас свои вещи. Это «потом» может быть одно из двух: либо кто-то явится за теми вещами к вам домой, либо их заберут у вас, не теряя времени, тогда, когда вы будете возвращаться из банка. Сомневаюсь, чтобы это был сам Тоннор. Даже в гриме он вряд ли решится показаться на улицах Варшавы. Но не исключено и такое. Поэтому, если на улице к вам кто-то подойдет и потребует, чтобы вы отдали ему пакеты для Тоннора, отдайте их.
— Отдать?
— Конечно. За вами будут идти наши агенты, поэтому ничего не бойтесь. Однако вам надо быть готовой ко всяким неожиданностям. Самым простым действием с их стороны было бы инсценировать обычную уличную кражу. К вам неожиданно подбежал бы некто, выхватил сумочку и бросился наутек. Мы, конечно, тут же его схватили бы, но в таком случае мы не имели бы доказательств, что он принадлежит к шпионской шайке. Понимаете, он мог бы прикинуться обычным воришкой. Так что, направляясь в банк, вы вообще не берите с собою сумочку. Я надеюсь, в вашем манто есть карман?
— Да, есть, в каракулевом.
— Вот и прекрасно. Пакеты небольшие. Вы легко спрячете их в кармане. Это все, о чем я вас прошу. Когда вы вернетесь домой с пакетами, я буду ждать вас там, и вы получите дальнейшие инструкции.
Это было для меня уже слишком. Я должна была не только предать Роберта, отдав его письмо, но еще и участвовать в унизительном спектакле!
— Нет, пан майор, — решительно сказала я. — К такому делу вы можете привлекать кого угодно, только не меня. Я к таким вещам непривычна. Вы, пан майор, кажется, не принимаете во внимание, кто я такая.
Это его ничуть не смутило.
— Я принимаю во внимание, что вы единственная особа, которая может помочь нам поймать шпионов, не возбуждая в них подозрения.
— Пусть так, но я на это не согласна. Это не входит в мои обязанности. Я уже и так сделала многое, чего не следовало бы делать. Можете приставить к нему полицейских, жандармов или кого хотите. Я категорически отказываюсь.
Майор бросил на меня неприязненный взгляд.
— И все же я очень прошу вас не отказать нам в помощи. Это займет у вас не более получаса времени.
— Речь не о времени, — возмутилась я, — а о том, что вы хотите сделать из меня полицейского шпика.
— Ах, зачем же так преувеличивать! Я просто считаю, что вы, как добрая гражданка польского государства, не можете отказать нам в помощи.
— К сожалению, отказываю, — решительно сказала я.
Майор развел руками.
— Какая неприятность, — вздохнул он. — Наверное, я не умею убеждать. Ну что ж… Мне не остается ничего иного, как обратиться к вашему мужу. Возможно, он сумеет вас уговорить…
Тут я уже испугалась не на шутку.
— Но вы мне обещали, что мой муж ни в коем случае ни о чем не узнает. Мне нечего от него скрывать, но вы понимаете, я не хочу огорчать его. Не хочу, чтобы он хоть на миг увидел это дело в невыгодном свете.
— Я вас понимаю, — перебил он меня, — но, поскольку вы ставите меня в безвыходное положение, я буду вынужден прибегнуть к этому средству. Уверяю вас, что говорю это вовсе не с целью какого-либо давления на вас, а лишь в надежде, что ваш муж признает мои доводы уместными и уговорит вас выполнить эту просьбу.
Я прикусила губу. Что я могла ему сказать? Пришлось согласиться. Не могу без отвращения думать о том, что ждет меня завтра. Милый боже! Пусть бы его уже, наконец, схватили или пусть бы он смог убежать. Хоть бы уже все это закончилось!
Дома застала записку от дяди Альбина. В ней только два слова: «Никаких новостей».
Знаю только одно: так жить я больше не могу.
Среда
Все произошло так, как было предусмотрено детально разработанным планом. В одиннадцать я пошла в банк. В сейфовом зале и в вестибюле было человек двадцать человек. Бледная от волнения, я отворила дверцу. Руки у меня дрожали. Внутри действительно было два небольших пакета. Я спрятала их в карман.
Как неприятно, когда за тобой следят. Правда, я не знала, кто следит за мной, но прямо-таки ощущала на себе пронзительные взгляды. Хоть меня и уверяли, что мне ничто не угрожает, я почувствовала страх. Вдруг мне вспомнились все гангстерские и шпионские фильмы. Каждую минуту откуда-то сбоку или сзади могли прозвучать револьверные выстрелы…
Ничего такого, однако, не произошло. Я вышла на улицу, перешла на другую сторону. Оглянулась вокруг. Позади меня были обычные прохожие, ничем не отличавшиеся от тех, которых я видела каждый день. И все же я ускорила шаг.
Когда я, наконец, оказалась дома, ноги подкашивались. Меня уже ждал майор, одетый в гражданскую одежду. Какое счастье, что не было Яцека. Как бы я выкрутилась перед ним по поводу этого визита? Майор взял у меня пакеты, внимательно их осмотрел и сказал:
— Я должен забрать их с собой. Часа через два вы получите их обратно.
— Зачем они мне? — испуганно воскликнула я.
— Нужно, чтобы они были у вас. Тоннор или сам за ними явится, или кого пришлет. От вас требуется лишь отдать эти пакеты. Если это будет днем, то сразу же, как только тот человек выйдет, вы приподнимите занавеску на этом окне таким образом.
Он показал мне, как я должна поступить.
— Ну, а если, — продолжал, — будет уже темно, вы трижды зажжете и погасите свет. А уж мои люди будут знать, что это значит.
Я хорошо знала, что никакие просьбы и уловки не помогут. Поэтому пришлось согласиться. Особенно меня возмутила мысль, что из-за всего этого мне придется все время сидеть дома. Не могла же я допустить, чтобы Роберт или его посланец пришел сюда в мое отсутствие и попал — что вполне возможно — на Яцека.
Я сказала об этом майору, но он меня успокоил:
— На этот счет можете не бояться. Уверяю вас, тот, кто придет, будет совершенно точно знать, дома ли вы и даже одна или нет. Таких вещей наугад они не делают.
Мы как раз сидели с Яцеком за обедом, стараясь выглядеть непринужденными и веселыми, когда в прихожей раздался звонок. Я подхватилась как ужаленная. Наверное, я с ума сойду от этих звонков. Каждый раз бросаюсь сама открывать дверь. Яцек смотрит на меня с все большим подозрением. Пусть думает что хочет.
На этот раз на пороге стояла девушка. Она спросила меня:
— Вы пани Реновицкая?
Когда я это подтвердила, она кивнула головой и протянула мне пакеты.
— Это прислал вам пан майор.
Я прямо из прихожей направилась в ванную комнату и спрятала пакеты за ванну. Туда наверняка никто никогда не заглядывает.
— Что там такое, дорогая? — спросил Яцек, когда я вернулась к столу.
Я чуть не плакала. Ну что я должна была ему ответить?
— У каждого свои неприятности… — прошептала я.
Больше он ничего не спросил. Ведь он такой деликатный. Понял намек и счел уместным не добиваться от меня объяснений, потому что и сам не хочет говорить о своих горестях.
Я почти с радостью узнала, что он до конца дня будет занят. А вечером едем на бал. После него буду усталая и наверняка засну.
Обычная женщина на моем месте уже давно бы сошла с ума.
Четверг
На балу я не была. У меня был такой приступ мигрени, что не помогли никакие порошки. Сегодня под глазами — темные круги, и выгляжу старше своих лет. Как обычно, после порошков я плохо спала. Однако эта усталость имеет и свою положительную сторону: все события, все опасности, весь окружающий мир — все это кажется мне не таким важным, и куда меньше волнует меня. Решила целый день провести дома, в халате. На пять пригласила нескольких знакомых и Тото. Сидели до семи. Они показались мне скучными, а разговоры их были такие банальными и однообразными, что, когда они ушли, я почувствовала настоящее облегчение.
Собственно говоря, я и сама не знаю, что меня удерживает возле Тото. Странно, что я до сих пор не порвала с ним. Пожалуй, разве оттого лишь, чтобы эта дура, Мушка Здроевская, не вообразила, будто Тото бросил меня ради нее. А так мне бы было безразлично.
Яцек вернулся к ужину. Был чуть веселее и дал мне понять, что его личные дела могут наладиться. Весь вечер он был удивительно мил со мной. Он действительно единственный мужчина, которого я могу любить. Я даже сказала ему об этом. Это тронуло его не меньше, чем мое согласие выйти за него замуж.
Пятница
Яцек поехал в Беловежи. Наша прощальная ночь была замечательная, и, как завершение этой ночи, день, пришедший ей на смену, тоже прекрасен. Утром выпал свежий снег. Все вокруг побелело. А над этим белым великолепием — голубой свод неба без малейшего облачка. Солнце светит так ярко, что глаза слепит.
Я проснулась радостная, с ясным предчувствием, что меня ждет нечто удивительно приятное.
Я не ошиблась: едва я успела позавтракать (все было такое вкусное!), как позвонил дядя Альбин. Я вскрикнула от удивления, услышав новость: розыскное бюро в Брюсселе напало на след мисс Элизабет Норман. Они там просто гении. Смогли обнаружить, что три года назад она жила в Биаррице на вилле «Флора» с мистером Фолкстоном и сама подписывалась как миссис Фолкстон. Они провели там целый сезон и считались влюбленным супругами. Доказательства и свидетелей найти будет нетрудно.
Это было уже хоть что-то определенное. Вот оказывается, какая она, эта пани! Сначала уходит от мужа, а затем шалит с каким-то паном, представляясь его женой.
Мы с дядей условились встретиться в кондитерской, чтобы все обсудить. Теперь я уже не имела причин избегать этой кондитерской. Опасность со стороны тети Магдалены мне больше не грозила. Дядя тоже был в прекрасном настроении. Известие из Брюсселя он получил перед самым вечером и уже успел его проверить. Он пригласил ту выдру на ужин и во время ужина направить разговор на Биарриц. Поскольку он бывал там не раз и хорошо знал все Бискайский побережье, ему удалось между прочим намекнуть, что когда-то он пережил там интересное приключение. С одной очаровательной испанкой, которая жила на вилле «Флора».
— Я рассказывал ей об этом, — сказал дядя, — как бы растроганный приливом воспоминаний, и она попалась на крючок. «Флора»? — сказала она. — Это забавно. Представьте себе, что я тоже когда-то снимала эту виллу. Она расположена в великолепной местности».
Этого дяде было вполне достаточно. Мы решили немедленно телеграфировать в Брюссель, чтобы они там держались этого следа и постарались разузнать все возможное, о мистере Фолкстоне.
Вместе с тем у дяди возникла неплохая идея: связаться с дядей Яцека, который был тогда послом и под опекой которого Яцек жил за границей. У него наверняка можно будет что-то узнать.
Меня так увлекла эта идея, что я тут же, из кондитерской, позвонила Тото и спросила, не знает ли он, где теперь живет пан Влодзимеж Довгирд. Тото не знал, но сказал, что в Охотничьем клубе это безусловно известно, и что у него через полчаса будут для меня нужные сведения.
С тех пор как дядя Довгирд заболел каким-то особенно злокачественным ревматизмом, он оставил дипломатическую службу и либо путешествовал по жарким странам, либо сидел в своем поместье под Ленчицей. Сама я знала дядю Довгирда очень мало. Он два или три раза был у моих родителей, когда я обручилась с Яцеком, потом приезжал на нашу свадьбу и, наконец, год назад я встретила его в Гелуане. Египетский климат якобы лучше всего влияет на его ревматизм.
Хотя мы с ним мало знакомы, он искренне меня любит. И я всегда чувствовала к нему расположение. Он привлекает одной своей внешностью. Меньше всего похож на дипломата. По крайней мере относится не к международному типу, а к чисто польскому. Он очень похож на пана Эдварда Платера из Осухова и на Войцеха Коссака.
Я с нетерпением ждала звонка Тото и страшно обрадовалась, когда он сказал, что дядя Довгирд сейчас в Косинцах под Ленчицей.
— О, это замечательно! — воскликнула я, а так как решения возникают у меня на удивление быстро, то тут же добавила: — Ты знаешь, мне ужасно хочется его навестить. Не поедешь ли ты со мной?
Такие предложения Тото не надо повторять дважды. Он никогда не может долго усидеть на одном месте. Через час он заехал к нам своей машиной. Я была уже готова. Только лишь мимоходом заглянула в ванную. Пакеты были на месте. Успокоенная, я заперла ванную комнату, а ключ спрятала между старыми журналами, лежавшими в вестибюле.
Тото удивленно следил за мной.
— Что это за странные манипуляции? — спросил он.
Я засмеялась. От всех подозрений Тото следует отделываться смехом. Он не может думать о чем-то одном более двух минут. Разве что о лошадях, охоте или автомобилях.
Садясь в машину, я внимательно огляделась вокруг: не замечу ли тех агентов, которые следят за моими окнами, но никого не увидела. Наверное, им уже это надоело, и они прекратили наблюдение.
Только когда выедешь за город таким морозным, снежным днем, начинаешь понимать, как много мы теряем, постоянно находясь среди каменных зданий. Боже, какая же это красота!
Тото рассказывал мне о какой-то, по его словам, исключительно важной коммерческой операции, которую он провернул в последние дни. Он продал из своего табуна в Америку два десятка арабских лошадей. Важна ему была не так значительная сумма, которую он за них получил, как тот факт, что американский коневод признал его табун лучшим в Европе. Я слушала его одним ухом, думая одновременно о замечательных пейзажах и о том, почему я, собственно, не пишу стихов.
Я с детства была удивительно чувствительна к красоте цветов, восхода и заката солнца, заснеженных полей и всяких таких вещей. Уже в третьем классе я пробовала писать стихи. Мама говорила, что они были очень хороши. У меня их было около трех тетрадей. К сожалению, они где-то потерялись. В той суете, среди которой я теперь живу, так редко выпадает свободный часок, чтобы сесть и написать стихотворение.
Если поеду на лето в Голдов, непременно этим займусь.
В Косинцах я никогда еще не была, хотя, собственно, должна была бы ими интересоваться, потому что рано или поздно они достанутся нам в наследство от дяди Довгирда.
К имению подъехали длинной аллеей через густой парк. Само здание не произвело приятного впечатления. Это был массивный двухэтажный дом, который напоминал какой-то железнодорожный вокзал в Пруссии. Когда мы стояли перед дверью и нашего стука, казалось, никто не слышал, мы даже подумали было, что заблудились и попали куда-то не туда. Но тут из-за дома прибежал лакей и объяснил, что главный вход зимой закрыт, потому что первый этаж не отапливается. Тогда мы подъехали к боковой двери.
Наверх вела довольно широкая лестница. У входа нас встретил дядя Довгирд, одетый весьма оригинально: на голове меховая шапка, на плечи накинута бекеша, подбитая белой мерлушкой, а на ногах — клетчатые немецкие домашние туфли на меху. Как изменился этот мужчина! Я помнила его изысканным худощавым паном с моноклем, с тем самым моноклем, который так прекрасно шел его сухому, удлиненному лицу с резкими, энергичными чертами. Затылок и щеки его немного отвисли, на носу — массивные очки. Давно нестриженные усы торчали, как седая щетка.
Тото, после каждого слова величая дядю «уважаемым паном послом», напомнил ему, что когда-то имел честь с ним познакомиться. Как забавны эти мужчины, разделяя весь мир на ранги! Даже для Тото, который ни от кого не зависит, дядя Довгирд представлял собой важную персону, и его присутствие так увлекло Тото, что он совсем забыл обо мне. Правда, когда-то дядя Довгирд действительно играл видную роль в политической и общественной жизни. Кажется, до сих пор к нему обращаются за советом в важнейших вопросах. Но мне-то видно, что дядя Довгирд — всего-навсего милый старичок, который ведет довольно оригинальный образ жизни.
Откуда ни возьмись, появилось еще пять или шесть человек. Какие-то дальние родственницы, отставной генерал, молодой человек, сердечно поздоровавшийся с Тото. Мы перешли в большую библиотеку, несколько заброшенную, но очень красивую. Гамбургский ампир лучшего образца. Кресла, обитые флорентийской кожей, стол, покрытый плотным зеленым сукном.
Дядя, казалось, прямо был счастлив, что мы приехали. Он топтался на месте в своих туфлях, долго давал лакею наставления относительно завтрака, то и дело обращаясь за советом к генералу и Тото, — он был все такой же гурман. Тото, восхищаясь гравюрами, висящими на стенах, уже начал было переводить разговор на коней, но я дала ему понять, что имею к дяде важное дело.
Когда мы перешли в кабинет, дядя уставился на меня своими маленькими, чуть поблекшими глазами и спросил:
— Ну, так что там, дорогая? Как поживает мой племянник? Если не ошибаюсь, он что-то натворил?
— Что вы, совсем нет, — возразила я. — Яцек достойный племянник своего дядюшки. Как мог бы он допустить бестактность или нанести какую-то обиду?
Дядя галантно поклонился и с улыбкой сказал:
— Ты, моя дорогая, всегда слишком добра ко мне, но на этот раз я склонен подозревать худшее. Если уж ты решилась на такое тяжкое испытание, как визит ко мне, старому скучному пеньку, то, наверное, случилось нечто необычное.
Надо было повести разговор очень деликатно. Не могла же я откровенно рассказать дяде, о чем речь, и все же непременно должна выведать у него то, что мне нужно.
— Да нет, ничего особенного, — ответила я. — Вы же знаете, дядя, какая я ревнивая.
— Никогда не поверю, чтобы Яцек давал тебе поводы для ревности! — воскликнул дядя с притворным возмущением.
— Нет, дядюшка. Но я ревную его даже к прошлому.
— Это должно ему льстить.
— Может, он был бы польщен, если бы об этом знал, но я думаю, что этот разговор останется между нами.
Дядя кивнул.
— Тайна за семью печатями!
— Таким образом, дядюшка, меня интересует подзабытое прошлое. Помните ли вы женщину по имени Элизабет Норман?
— Элизабет Норман? — дядя наморщил лоб и задумался. — Столько фамилий на свете… Элизабет Норман… Какого возраста эта дама?
— Сейчас ей где-то под тридцать.
— А какая она из себя?
Я, как могла подробнее, описала ее, учитывая, разумеется, то, что тогда она должна была выглядеть намного моложе. Дядя покачал головой.
— Очень жаль, но не припоминаю такой.
— И все же, дядюшка, вы наверняка ее знали. В свое время Яцек очень интересовался ею.
Он поднял брови.
— О… Кажется, что-то такое припоминаю. Весьма пригожая панна… Совсем молоденькая и удивительно очаровательная… Да, да. Яцек привел ее на прием в посольство… Ну, конечно же. Ее звали Бетти, Бетти Норман. Шатенка с зелеными глазами. Ее отец, очень приличный пожилой пан, был владельцем какого пароходства или чего-то подобного. Их принимали в лучших домах. Конечно, помню. Бетти Норман. Кажется, она даже приходилась какой-то родственницей леди Нортклиф… Тогда Яцек был весьма ею увлечен… — Дядя с улыбкой взял меня за руку и добавил: — Но разве можно быть на него за это в претензии? Все это было так давно…
— Да никто и не говорит о каких-то претензиях. Просто я хотела бы что-то о ней узнать.
Он задумался.
— Конечно, помню. Бетти Норман. Очень красивая девушка. Да еще такая воспитанная… Кажется, она серьезно поглядывала, на Яцека. Да, да. Даже изучала польский язык, а это ведь не так просто для иностранки. Она была очень способная. А потом как-то исчезла с горизонта. Оно и понятно. Яцек поехал на несколько месяцев в Америку, а она вернулась в Бельгию, к родителям. Да, она часто бывала в посольстве. Милая, непосредственная натура. Все ее любили. Была у нее даже такая необычная особенность: ее интересовали политические вопросы. Но все в прошлом… А ты что, видела ее недавно?..
«Итак, это наверняка она писала это письмо, — отметила, я мысленно. — Видно, дядя Альбин дал-таки обвести себя вокруг пальца». Все для меня постепенно прояснялось. Если ее не было в то время, когда Яцек уехал в Америку, то она, безусловно, не вернулась ни в какую Бельгию, а последовала за ним. Теперь мне стало понятно, почему Яцек всегда обходил молчанием свое пребывания в Соединенных Штатах. Я даже думала одно время, что он вообще там не был. Лишь после того, как однажды он встретил в швейцарском посольстве некоего пана, с которым познакомился в Чикаго, я убедилась, что Америку он знает достаточно хорошо.
Все-таки блестящую идею подал дядя Альбин — обратиться к старому Довгирду.
Ситуация начала вырисовываться отчетливее. Очень похоже на то, что Яцек тайно женился на ней, а отъезд в Америку был, по сути, свадебным путешествием. И все же одна вещь остается для меня необъяснимой: почему эта женщина его бросила?..
Это такая же загадка, как и ее приезд в Польшу теперь, когда прошло столько лет. Вряд ли она тешит себя надеждой, что Яцек согласится к ней вернуться, хотя бы и под угрозой разоблачения. А как понимать сказанные Яцеком слова, что его дела улучшаются?.. Может ли это означать, что ему удалось достичь с ней какого-то согласия?.. Во всяком случае, она не производит впечатления уступчивой женщины. С виду она скорее упрямая. Может, даже непоколебимая. Женщины такого типа не останавливаются ни перед чем.
Дядя Довгирд больше не мог дать мне никаких сведений. Однако и те, которые я получила, были чрезвычайно важны. Интересно, какую мину сделает дядя Альбин, когда я скажу ему, что эта его англичанка знает польский язык.
Завтрак был чудесный, и все чувствовали себя очень приятно. Когда мы в сумерках возвращались в Варшаву, то уже перед самым Ловичем Тото задел крылом машины какую телегу. Я очень испугалась, но, к счастью, никто не пострадал. Это просто безобразие, что на наших дорогах до сих пор полно этих телег. И что это мужичье туда-сюда ездит? Просто не понимаю, какие у них могут быть дела. Столько болтают о механизации, а никто за это как следует не возьмется.
Дома меня ожидала серьезная неприятность с ключом от ванной. Никак не могла вспомнить, где я его спрятала. Вместе с прислугой перевернула вверх дном весь дом, и только тогда, когда послала за слесарем, Юзеф нашел ключ между газетами.
К счастью, пакет лежал на месте, никто его не трогал. Я уже немного успокоилась. Думаю, Роберт вообще за ним не явится.
Сегодня иду с мамой в оперу. Будут там и Станислав с Данкой. Вот уж скучища, представляю себе!
Суббота
Дядя Альбин был поражен моими сведениями. Я не отказала себе в удовольствии сделать несколько язвительных замечаний относительно его опыта. Он безропотно выслушал их и сказал:
— В таком случае это очень хитрая женщина. Поверь, детка, я не принадлежу к наивным простакам. Если она и меня сумела ввести в заблуждение, то это свидетельствует, что она продувная бестия и имеет какую-то очень важную причину скрывать свое знание польского языка.
— Но какую?..
— Понятия не имею. Ведь она не скрывает, что владеет несколькими другими языками. Кроме английского, она знает французский, немецкий и итальянский. Почему же ей так важно скрывать один этот язык?.. Может, она просто хочет иметь надо мной преимущество, чтобы понимать, что я говорю? Или притворяется перед прислугой, желая знать, что о ней говорят.
Я забеспокоилась.
— А может, вы, дядюшка, чем-то выдали себя перед ней?
— О, не беспокойся. Я для этого слишком осторожен. Так, говоришь, пан Довгирд о ней хорошего мнения?
— Во всяком случае, ничего плохого он о ней не сказал.
— Ну, мы можем положиться на него. Когда-то его считали одним из лучших дипломатов.
Я иронично улыбнулась.
— Так же, как вас считают одним из лучших знатоков женщин.
— Слушай, детка, — сказал он, — твои стрелы летят в пустоту. Каждый знаток женщин знает о них, по сути, только одно: что они скрывают в себе немало неожиданностей. В этом, впрочем, и заключаются ваши чары. Но будем говорить серьезно. Не знаю, может стоит немного приоткрыть карты. Не нужно ли хотя бы сказать ей, что фокус с сокрытием знания польского языка не удался.
— А зачем ей это говорить?
— Хотя бы затем, чтобы спросить, почему она это делала.
— По-моему, лучше подождать. Прежде всего, нужно отправить в Брюссель те сведения, которые я получила у дяди Довгирда. Это очень облегчит им дальнейшие поиски,
— Да, — согласился дядя. — Я сейчас же им напишу. Так или иначе, а мы уже знаем об этой пани немало. Я вижу, что тебе не терпится, но напрасно. Спешка здесь ни к чему.
Я покачала головой.
— А, по-моему, наоборот.
— Ты ошибаешься, детка. Если бы Яцеку угрожала с ее стороны какая-нибудь серьезная опасность, если бы ее поджимало время, она уже давно пустила бы в ход оружие, имеющееся в ее руках. Но ей, видимо, не так уж обязательно нужно скомпрометировать Яцека. Похоже, что она ведет с ним переговоры.
— О чем?
Дядя пожал плечами.
— Этого я не знаю. Если не о деньгах, то можно предположить, что она хочет вернуть себе Яцека. Чего еще она может хотеть? Во всяком случае, достойно внимания то, что она его не торопит. Она согласилась на его отъезд в Париж, а теперь вот в Беловежи. Говорила мне даже, что и сама вскоре собирается поехать на несколько дней в Криницу, которая ее якобы заинтересовала с тех пор, как там побывали наследницы голландского престола и принц Бернард. А позавчера я спросил ее, долго ли она думает пробыть в Польше. Она ответила, что еще не задумывалась над этим. Отсюда следует, что по крайней мере в ближайшее время выезжать она не собирается. Таким образом, у нас есть время и мы можем спокойно ждать.
— Но чего ждать?
— Прежде всего сведений из Брюсселя. Я уверен, что в ближайшее время мы узнаем о чем-то интересном, о чем-то таком, что позволит нам загнать мисс Норман в угол.
Я попрощалась с дядей, оставаясь разочарованной. Ждать и ждать… Не говоря уже о том, что ждать вообще не в моей натуре, я хочу наконец-то знать. Бывают такие минуты, когда меня тянет просто пойти к той женщине и с глазу на глаз выяснить все. Ведь я имею на это полное право.
Прийти бы к ней и сказать:
«Чего вы хотите от моего мужа? Зачем вы его шантажируете? И если вас действительно связывали когда-то чувства, то я ни за что не поверю, что вы сохранили их до сих пор».
Интересно, что бы она мне на это ответила.
Я во всех отношениях имею перед ней преимущество. Лишь с юридической точки зрения первенство принадлежит ей.
После полудня приехал Яцек. Много рассказывал мне об охоте и о своих разговорах с немцами. Он, конечно, ничего не сказал им о Черное море. Мы даже немного поссорились из-за этого. Яцек пытался меня убедить, что женщины не должны интересоваться политикой, поскольку они в ней не разбираются. Смехотворный аргумент! Скажем, тетя Магдалена или моя мама действительно ничего не понимают. А возьмем хотя бы ту же Данку… Женщины не понимают в политике! Я положила Яцека на обе лопатки, сказав:
— А кто же был более мудрым политиком, чем Екатерина Великая, чем Елизавета английская, чем королева Виктория? При их правлении их страны достигли наибольшего расцвета и могущества. Только и того, что они имели на голове корону. Да если бы я была польской королевой, а ты, скажем, моим министром или даже принцем-консортом, ты должен был бы покорно слушаться моих повелений. И уверяю тебя, что результаты были бы лучше, чем при мужском правлении.
Яцек на это ответил:
— Именно при мужском правлении женщины слишком вмешиваются в политику, и поэтому так много возникает ошибок. Во времена Екатерины правили ее фавориты, во времена Елизаветы — также мужчины, которых она, правда, умела выбирать, а с Викторией принц Альберт делал все, что хотел.
— Какой же из этого вывод? — спросила я.
— А такой вывод, — через силу улыбнулся он, демонстрируя галантность, — что вы должны быть нашими королевами, но не править нами.
Я пожала плечами.
— Обидно, что ты не знаешь истории. Все те три монархини таки правили, и следует только поставить им в заслугу в политике, что они умели выбирать себе фаворитов. Если бы я была королевой, я выбрала бы себе…
К сожалению, здесь я вынужден прервать ход рассказа п. Ганки Реновицкой. Дело в том, что автор в этом месте назвала несколько фамилий, которые принадлежат общеизвестным лицам. Я, конечно, не сомневаюсь, что каждый из тех панов был бы счастлив получить титул фаворита такой очаровательной монархини даже в том случае, если бы она не была монархиня, но большинство из них люди женатые. Читатель легко поймет, что, публикуя дневник п. Ганки, я не могу подвергать этих уважаемых и милых людей семейным неприятностям. Женщины же, как правило, не любят, чтобы их мужья были фаворитами, хотя бы in sре. (В предположениях, в перспективе (лат.))
Второй причиной, побудившей меня вычеркнуть приведенные п. Ганкой фамилии, было то, что я не хотел бы внушать польской общественности мнение о необходимости таких изменений в общественной жизни, которые вытекали бы непосредственно из предпочтений п. Ганки. Те изменения охватили бы такие широкие сферы и привели бы к таким рискованным перемещениям на разных высоких должностях, что это угрожало бы серьезными беспорядками.
Достаточно сказать, что дела культуры и искусства перешли бы под влияние некого (правда, весьма красивого) ротмистра одного из лучших кавалерийских полков; национальные вопросы решал бы один молодой граф, который довольно прилично знает несколько языков; оборона страны была бы поручена известному легкоатлету, а к рулю государства стал бы один из выдающихся варшавских актеров, который так прекрасно играл роль Юлия Цезаря. Впрочем, я не имею ни малейшего намерения подвергать сомнению правильность взглядов п. Ганки и прошу простить мне это небольшое сокращение ее дневника. (Примечание Т. Д.-М.)
— Будь уверен, — добавила я, — при моей власти не было бы, скажем, безработицы. Вы, мужчины, создаете себе проблемы из таких простых вещей, которые сами подсказывают, как их решить. Что может быть легче, чем ликвидировать безработицу. Достаточно объявить, что каждый, кто не хочет работать, будет посажен в тюрьму. Или, например, эти споры с украинцами. Не волнуйся, если бы я с ними поговорила, то наверняка сумела бы убедить их, чтобы сидели тихо. Не говорю уже о дипломатии. Ручаюсь, что если бы на месте Бриана (Премьер-министр Франции в 20-х гг.) была, скажем, Даниель Дарье (Известная французская киноактриса), то она уже давно организовала бы Соединенные Штаты Европы, и все войны были бы отменены.
Яцек, как обычно, не признал моей правоты и отделался какими-то шутками. С ним нельзя говорить серьезно. Любой ценой хочет сохранить свое убеждение о превосходстве мужчин в области политики. В конце концов, пусть себе остается при своих иллюзиях. Пожалуй, без них он не чувствовал бы себя счастливым.
В конце концов, если уж говорить начистоту, мне бы не хватило терпения изо дня в день заниматься политикой. Не говоря уже о том, что у меня вряд ли нашлось бы на это достаточно времени. Я несколько раз была на прениях в сейме. Какая же это скука! Выходят на трибуну разные паны и часами болтают о совершенно неинтересных вещах.
Однако хорошо, что вспомнилась мне Даниель Дарье. Я еще не видела ее последнего фильма, а от Мушки знаю, что Тото уже смотрел его дважды. Она действительно очаровательна, эта Даниель, но нос у нее некрасивый. От такого болвана, как Тото, всего можно ожидать. У него хватит ума поехать к ней и в Голливуд. Но ничего это ему не даст, потому что я читала в «Кино», что она замужем и любит мужа. А деньги Тото ей безразличны. Сама зарабатывает миллионы.
Мне уже не раз приходило в голову, что и я могла бы играть в фильмах. Если говорить о красоте, то я наверняка не уступаю ни одной из наших кинозвезд и могу посоревноваться и со многими зарубежными. Со своим ростом 160 сантиметров и весом 53 килограмма я бы выглядела фигурой не хуже самых выдающихся. К тому же я фотогенична. Вполне понятно, я не стремлюсь стать актрисой вообще, но сыграть раз, скажем, под псевдонимом, мне очень хотелось бы. Думаю, что и Яцек не имел бы ничего против. Ведь играла когда-то княжна Сапежина и другие девушки из высшего света. В пансионе я не раз принимала участие в любительских спектаклях, и наш полонист (а он в этом разбирался) говорил, что я имею несомненный талант.
Эта идея так увлекла меня, что я решила тут же звонить Тото, — пусть найдет среди своих знакомых кого-нибудь, кто мог бы устроить меня в кино. К сожалению, Тото не было дома.
Мы с Яцеком на часок поехали в кафе «Европейское», встретили там много знакомых. Я уговорила всех пойти в кино, а потом пошли ужинать в «Бристоль».
Едва переступив порог ресторана, я увидела ее: она сидела с дядей Альбином, юристом Непшицким и еще одним паном, который все время вертится на скачках. Я искоса следила за Яцеком. Он делал вид, что не смотрит в ту сторону, однако слегка побледнел и чувствовал себя, видимо, неловко. Нетрудно было догадаться почему.
Уже то, что он увидел ее неожиданно, непременно должно было вывести его из равновесия. К тому же, несомненно, поразило его и ее общество: дядя Альбин. Правда, Яцек не поддерживал с ним отношений и знал, что никто из семьи не общается с дядей, но все же это зрелище наверняка его всполошило. Это я сообразила сразу.
Правду говоря, я немного надеялась, что мы застанем ее здесь, и мне было интересно, как они оба будут реагировать. Но мисс Норман вела себя вполне непринужденно. Она несколько раз взглянула в нашу сторону, но сделала это с очевидным равнодушием, и создавалось впечатление, что она вообще не знает Яцека. Но раз их глаза встретились. Я напрягла все свое внимание, чтобы ничего не пропустить. Во взгляде Яцека был гнев, ее глаза скользнули по нему без всякого выражения.
Это, несомненно, опасная женщина.
Я умышленно начала ластиться к Яцеку. Делала это очень демонстративно, тем самым вызывая его на взаимность. Правда, он пытался как-то сдержать меня, но я не уступала. Наконец я сказала ему, что хочу танцевать. Он на мгновение заколебался, но я, опасаясь, чтобы он не придумал какую-то отговорку, встала и протянула к нему руки.
Я видела, что он раздражен, потому что улыбался неестественно. Итак, когда мы оказались среди танцующих пар, я вполголоса сказала ему:
— Не понимаю, что с тобой происходит?
— Со мной? — переспросил он, чтобы выгадать время.
— Раньше ты так любил танцевать.
— Почему раньше? — притворился он возмущенным — Я всегда люблю танцевать с тобой.
— Почему же тогда у тебя такое лицо, будто тебя ведут на эшафот?
— Что ты выдумываешь? — неискренне засмеялся он.
— Ты ведешь меня так неестественно и с таким видом, будто пригласил меня просто из вежливости.
Яцек поморщился.
— Ты предъявляешь мне какие-то странные претензии. Я немного устал. Вот и все.
Мы как раз двигались мимо столика той женщины. Я нежно погладила Яцека по руке. Правда, она этого не заметила, но Яцек покраснел, и я увидела, как у него сжались челюсти. Наверное, он очень боится этой женщины.
Я коварно сказала:
— Ты ведешь себя так, будто хочешь показать, что тебе неприятны мои ласки.
Яцек слегка нахмурил брови и, стараясь придать лицу любезное выражение, сказал:
— Ты же знаешь, что это неправда.
— Возможно, — не унималась я. — Но ты хочешь, чтобы все тут думали, что это правда.
— Уверяю тебя, Ганечка, что все это тебе просто кажется.
— А я тебя уверяю, что никогда больше с тобой не буду танцевать.
— Я действительно тебя не понимаю. Ты упрекаешь меня в том, чего вообще нет. Ведь не так уж трудно понять, что человеку иногда, не хочется танцевать.
— Почему же, я это понимаю. Но зачем же ты тогда пригласил меня на танец?
Яцек прикусил губу.
— Прости, но ты сама захотела.
— Ну и что?.. Ты мог сказать, что тебе не хочется, что я уже до смерти тебе надоела, что… Разве я знаю… Что ты стесняешься со мной танцевать, что…
Он остановил меня, крепко сжав мою руку. Был очень зол. Не знаю почему, но меня охватило такое раздражение, что я не могла сдержать язвительных слов:
— Если хочешь, чтобы я закричала от боли, сожми мне руку чуть сильнее.
— Слушай, Ганечка, — сказал он сдавленным голосом, — чем я перед тобой провинился?.. Признаюсь, я не хотел танцевать и, если бы ты не встала, я попросил бы тебя выбрать другого партнера. Но если уж ты встала, мне не оставалось ничего другого, как тоже встать.
— Да, — согласилась я, — возможно. Но не считаешь ли ты, что, танцуя с женой, следовало бы по крайней мере делать вид, что это для тебя не мучение?
Оркестр закончил играть, и мы вернулись к столику, отчужденные и возбужденные спором. Из-за трусости Яцека (а может, и из-за моего раздражения) сорвался весь мой план. Мне хотелось показать той выдре, как влюблен в меня Яцек. А получилось совсем наоборот. Даже за нашим столиком все заметили, что мы ссорились, и кое-кто даже отпустил по этому поводу несколько неумных острот.
Во время следующего танца появился Тото. Он, конечно, сейчас же пригласил меня, но я отказалась.
И здесь Яцек показал, на что он способен! Когда снова заиграли вальс, он встал и с улыбкой склонился передо мной. Пожалуй, преодолел в себе страх перед той женщиной или испугался, что я на него серьезно рассердилась. Во всяком случае, это было еще одно доказательство того, как сильно он меня любит. Ах, если бы я могла ему сказать, сколько благодарности испытывала к нему в тот момент!
Он был очень мил, а так как вальс он танцует превосходно, то мы привлекали к себе всеобщее внимание. Когда во второй половине мы немного замедлили темп, он наклонился к моему уху и шепнул:
— Ну, а теперь хорошо?
Врожденное упрямство не дало мне уступить сразу.
— Так должно было быть и тогда, — ответила я.
— Твоя правда, дорогая. Только, видишь, тогда это было бы неискренне, а сейчас — от души. — Он помолчал и добавил: — Я люблю тебя так, как никого и никогда уже не буду любить.
Я была вполне счастлива. И от того, что он мне говорил, и от тех взглядов, которыми провожали меня мужчины, и от своего привлекательного вида, и из того, что на мне прекрасное платьице, скромность которого еще больше подчеркивала мою молодость по сравнению с той рыжей выдрой. Правда, на ней было весьма пышное вечернее платье украшенное пучком ятрышника, но выглядела она как минимум тридцатилетней. И то хорошо законсервированной.
Наверное, и она это почувствовала, потому что вскоре поднялась и со всей своей компанией перешла в коктейль-бар.
Простодушный Тото по наивности своей спросил, обращаясь ко мне и Яцеку:
— Вы не знаете, что это за дама в обществе пана Нементовского?
Яцек не знал, что сказать, а я ответила:
— Откуда нам знать? Ведь для тебя не тайна, что мы не поддерживаем с паном Нементовским никаких отношений.
Сам не свой от стыда, Тото пробормотал:
— Простите…
Каждый раз все сильнее удивляюсь, что я в нем нашла. Я ведь всегда ценила в людях острый ум. Представляю себе, каким был бы Тото, если бы не его происхождение и воспитание. И что бы он тогда делал? Наверное, стал бы грумом или камердинером. Когда я вижу их обоих вместе, Тото не выдерживает никакого сравнения с Яцеком. Яцек чуткий, впечатлительный и горячий, его сдержанность и деликатность не скрывают этого от внимательного взгляда. Лучше всего охарактеризовал его Ярослав Ивашкевич. Он сказал мне когда-то:
— Это романтик в образе классика.
Правда, я не совсем хорошо понимаю смысл этого определения, но, вне всякого сомнения, оно замечательное. Все, кому я его пересказывала, согласны со мной.
Домой мы вернулись в полном согласии.
Воскресенье
Терпеть не могу воскресений. Они скучны, однообразны и бесцветны. К тому же своей исключительностью они нарушают нормальное течение жизни. Вдруг человек вспоминает, и что он не может пойти на примерку, не может купить какие-то вещи, и все лишь потому, что кто-то празднует. А к тому же и все родственники считают воскресенье лучшим днем для визитов и телефонных звонков. Страшно даже подумать, сколько у человека есть родственников. Эти родственники просто какая-то божья кара. Я уже не раз задумывалась над тем, как бы выглядел мир, если бы каким-то образом ограничить родственные связи. Скажем, оставить только родителей. Ну и, конечно, детей. Каждый раз, как, подумаю о детях, у меня портится настроение. У Гальшки есть хорошенькая дочурка, которую она, разумеется, не умеет воспитывать. Из нее, вне всякого сомнения, вырастет невесть что. У Мушки растут двое сыновей. Прекрасные мальчики. Все спрашивают меня, почему до сих пор не имею детей. Честно говоря, это меня и радует, и огорчает. Думаю, что будь у меня ребенок, я бы не могла развлекаться и заниматься собой. Ведь ребенок — это такая отрада, что я посвятила бы ему всю свою жизнь. Однако, с другой стороны, я еще совсем молодая и так мало успела пожить. И радуюсь мысли, что я еще свободна, что мне не грозит необходимость придерживаться какой-то диеты и не возникает перспектива надолго отстраниться от нормального образа жизни. И все же я завидую и Гальшке, и Мушке. К тому же и Яцек уже несколько раз намекал, что наша детская комната стоит пустая.
У женщины с детьми действительно много забот, но есть у них и свои преимущества. Они очень нравятся мужчинам. Помню, в Римини одна датчанка или голландка всегда выходила на прогулку со своим пятилетним мальчиком. Она просто обольщала им всех. Одевала его в прекрасные костюмчики — в бархатный гранатового цвета или в белый пикейный. Вероятно, она его хорошо вышколила, а то бы он не задевал всех мужчин. Однако делал он это так очаровательно, что ни один из них не находил в себе силы сопротивляться.
Благодаря этому ее всегда окружало почти такое же общество, как и меня.
Боже мой! Я вот думаю о ребенке, а еще сама не знаю, не следует ли благодарить судьбу за то, что мы бездетные. Ведь неизвестно еще, как кончится дело с той бельгийской англичанкой. Дядя сегодня не звонил. Наверное нет никаких новостей. Яцек целый день был дома, только около шести я уговорила его сходить к моим родителям. Они ведь действительно были неприятно поражены этими несколькими проявлениями его невнимания.
Пока его не было, я вытащила из-за ванны пакеты Роберта и перепрятала их в комод. Яцек туда никогда не заглядывает. Что касается прислуги, то я могу прятать ключ в туалетный столик.
Наверное, я все-таки поступила несколько легкомысленно, добившись от Яцека, чтобы он отправил из дому тетю Магдалену. Теперь на меня навалилось множество всевозможных дурацких дел. Ведь это нелепость, чтобы я вела счета, следила за бельем и занималась подобной чепухой, особенно теперь, когда на меня свалилось столько неприятностей. Экономка, которую я взяла в дом, представляет собой непревзойденный образец беспомощности. Все время надоедает мне вопросами о каких-то глупостях. А уж чтобы составить меню или разместить за столом гостей — об этом нечего и говорить. Яцеку сегодня уже в третий раз подали на завтрак чай, которого он терпеть не может. Лучшее доказательство, как его этим доняли, — это то что он сам мне об этом сказал. Кто знает, может, стоит написать тете Магдалене. В конце концов мы расстались с ней тихо-мирно и все дружно можем делать вид, что ее отъезд не был следствием каких-либо недоразумений — мол, мы просто хотели, чтобы тетушка немного отдохнула.
Надо будет посоветоваться с Яцеком.
Понедельник
Правда, дядя Альбин уже упоминал об этом, и все же новость была для меня совершенно неожиданной. Мисс Элизабет Норман вчера вечером уехала в Криницу. Как видно, ненадолго, так как оставила за собой номер в гостинице. Дядя дал мне понять, что охотно поехал бы с ней, но этого ему не позволяют текущие дела. Я догадалась, что у него просто нет денег.
Да, впрочем, мне и ни к чему, чтобы дядя ехал в Криницу. Возможно, было бы разумнее, если бы я сама туда отправилась. В тех условиях, где завязывается много случайных знакомств, нетрудно было бы сблизиться с ней, не возбуждая подозрений, что мне столько о ней известно. Я уверена, что куда лучше дяди сумела бы склонить эту даму к откровенности. Вот дядя до сих пор не смог прижать ее к стенке по поводу польского языка. Говорит, что никак не получается завести разговор на эту тему.
Видно, все ложится на меня. Я должна обо всем думать, все предвидеть. Никто не может мне помочь. Яцек снова очень занят. В мире происходят важные вещи. Постоянно приезжают дипломатические курьеры. Яцек говорит, что вполне может вспыхнуть война. Этого еще только не хватало. Хоть я и считаю, что в рассказах стариков о прошедшей войне много преувеличений, но все же неоспоримо то, что приходилось есть всякую дрянь, потому что продукты подорожали, а о том, чтобы привозить что-то из-за границы, не было и речи.
Если вспыхнет война, Яцеку придется идти на фронт, и Тото тоже. Мы с Тулей уже решили, что вступим в Красный Крест сестрами милосердия. Ведь чепец хорошо подчеркивает овал моего лица, и я буду иметь в нем прекрасный вид. К тому же убор сестры милосердия налагает на женщину un cachet de virginite. (Печать невинности (франц.))
Единственное, что меня пугает, это противогазы. Мало того, что они уродуют человека, но в них еще и задохнуться можно. К тому же от них противно пахнет резиной! И зачем люди затевают войны? Я еще могла бы понять, если бы они были такие красивые и живописные, как во времена Наполеона.
Но я вот недавно прочла в «Лондон Ньюс» описание будущей войны. Это просто ужас какой-то. Мужчины будут сидеть в окопах под градом пуль с каждой стороны, а женщинам в городах, придется изнывать в противовоздушных убежищах, спасаясь от бомб, газов, бактерий холеры и других ужасов. Вода в реках будет отравлена и заражена различными инфекциями. Все автомобили будут реквизированы. Железные дороги также будут служить только армии. И подумать, зачем все это?! Только потому, что одна страна хочет урвать у другой какой-то клочок земли. Будь моя воля, я охотно перенесла бы Польшу куда-то на другой конец света, например, в Австралию. Там мы, наконец, обрели бы покой.
Вацек Мяновский был консулом в Австралии и говорит, что там очень приятно. Есть театры, кино, спортивные соревнования, клубы, и все — как в Европе. Самое удивительное то, что в Австралии живут одни преступники. Англичане вывозили их туда тысячами и выпускали на волю. Это куда лучший метод, чем наш. А у нас их неизвестно зачем годами держат в тюрьмах. Естественно, когда они выходят оттуда, то вновь берутся за свое. И так без конца. А вот в Австралии преступники сразу же исправляются. Вацек был там года три и уверял меня, что его ни разу не обокрали.
Однако это должно быть ужасно интересно: общество, состоящее из одних преступников. Поэтому я не удивляюсь тем английским девушкам, которые охотно едут туда целыми отрядами и выходят за них замуж.
Надо будет сегодня поговорить обо всем этом на балу в британском посольстве. Сшила себе платье из белого тюля с настоящим кружевом. Выгляжу в нем очень эффектно. Интересно, будет ли лучше у пани де Рошандье. Тото говорил мне, что получил из Лондона последнюю модель воротничков к фраку с уродливо выгнутыми уголками. Я посоветовала ему, чтобы он их пока не надевал. Элегантный мужчина всегда должен отставать от моды по крайней мере на месяц. С этой точки зрения Яцек прав.
Вторник
Ну вот, случилось худшее, чего можно было ожидать!
Постараюсь рассказать обо всем спокойно и складно. Я вернулась с бала где-то после шести утра, поэтому спала почти до часу. Когда встала, Яцека уже не было дома. Я выпила слишком много шампанского, и поэтому у меня немного болела голова. Решила не выходить из дому до вечера, а, следовательно, и не переодеваться. Позвонив нескольким знакомым, я уже собиралась сесть за свои заметки, когда пришел Юзеф и доложил, что в прихожей ждет посыльный с письмом, которое ему велено отдать мне лично.
В первое мгновение я подумала, что это Тото придумал для меня какой-то новый сюрприз. Он любит такие нелепые неожиданности. Ничего плохого я не предчувствовала.
В прихожей стоял обыкновенный посыльный: старый сгорбленный человек с седой бородой и с красной шапкой в руке. Я даже и не взглянула бы на него, если бы он не сказал:
— Может, уважаемая пани сделает милость и закроет дверь? Я оглянулась. Действительно, дверь в кабинет осталась открытой. Я немного забеспокоилась.
— А зачем ее закрывать?
— Сейчас объясню, уважаемая пани. Я посмотрела на него с недоверием, однако подумала, что такой старичок не может иметь никаких плохих намерений. Когда я закрыла дверь, он протянул ко мне руки и шепнул:
— Ганечка!..
Я чуть не вскрикнула от испуга и отскочила назад. Как я вспоминаю, мне показалось, что передо мной сумасшедший. Нет, вы только представьте себе: сгорбленный старикан, неряшливый на вид, с грязными седыми волосами, протягивает руки и шепчет мне, словно мы состоим с ним в интимных отношениях. А вдобавок еще у него красные воспаленные глаза. Какой ужас!
— Ты не узнаешь меня? — спросил он.
И тут я его узнала. Это был Роберт. Но как он изменился! Какие тяжелые невзгоды он должен был перенести, чтобы так постареть независимо от грима. А грим! Я могла бы часами присматриваться к нему и не понять, что это он.
— Ты не узнаешь меня? — снова спросил он.
От страха и удивления у меня даже голос пропал. Руки у меня дрожали.
— Узнаю, — еле проговорила я.
— У меня мало времени, любимая. Я пришел забрать то, что ты вынула из сейфа. В другой раз, примерно через два или три дня, я позвоню тебе. Пакеты у тебя?
Я кивнула головой:
— Конечно.
Сердце мое стучало, как молот.
— Вот и хорошо, — сказал он. — Вот и прекрасно. Я тебе бесконечно благодарен. А теперь, Ганечка, поспеши, пожалуйста. И постарайся принести пакеты так, чтобы никто в доме не увидел. Это для меня очень важно. Где они у тебя?
— В спальне. В комоде.
— Ну, так поспеши.
Ноги мои подкашивались, голова шла кругом. Как назло, я не могла найти ключик от комода. Прошло почти пять минут, пока я вынула пакеты и вернулась в прихожую.
Он встретил меня чуть ли не с гневом.
— Что ты так долго делала? Сейчас же говори, что делала! Где у вас телефон?
Он больно сжал мою руку. Я была так потрясена, что не знала, как на это реагировать.
— Пусти меня, — прошептала я. — Я искала эти пакеты. Где-то делся ключ от комода.
— Где у вас телефон? — зашипел он, еще сильнее сжав мою руку.
— Тут рядом, в кабинете.
Он смотрел мне в глаза с яростью и ненавистью. Вид у него был ужасный. Сколько жестокости в этом человеке! Он грубо оттолкнул меня и зашел в кабинет. Только убедившись, что телефон действительно там, он несколько успокоился и стал вскрывать пакет. Вдруг у него вырвалось страшное проклятие, и он со злостью швырнул пакет на пол. По ковру рассыпались обрезки газет. Вне себя от ярости, он посмотрел на меня и произнес сквозь зубы:
— А все из-за тебя. Почему ты не пошла в банк в тот день, когда получила мое письмо? Они успели найти и подменить. Почему не пошла сразу?
Он двинулся ко мне, и я просто из страха соврала:
— Но я пошла. Сразу…
— Врешь! — почти крикнул он. — Ты пошла на другой день в одиннадцать. Я был дураком, что доверил тебе это дело!
Он пнул ногой разбросанные газеты и сказал:
— Впрочем, теперь уже все это не имеет значения. А теперь слушай: ты должна молчать, как могила. Если выдашь, что я здесь был, убью тебя без малейшего сожаления. Учти, что я умею держать свое слово, поняла?
— Поняла.
— Никому не скажешь?
— Никому.
Он погрозил мне кулаком и добавил:
— Запомни!
Потом повернулся и, даже не попрощавшись, вышел.
Трудно найти слова, чтобы рассказать, что со мной произошло. Знаю одно: я совершенно поверила первому ошеломляющему впечатлению. Ведь этот человек еще недавно был совсем другим. Вместе с внешностью он изменил и свой характер. Он, который умел одаривать меня самыми прекрасными ласковыми словами, сегодня разговаривал со мной, как со злейшим врагом. Смотрел на меня, как на бездушную отвратительную вещь. В те минуты я понимала только это. Меня охватил какой-то безграничный пронзительный стыд — стыд за поруганную честь, стыд за собственную доверчивость, стыд за то, что я могла верить этому человеку.
Он вел себя со мной, как с прислугой. Даже хуже.
С грохотом закрылась наружная дверь, и этот звук вернул меня к действительности. Не знаю, зачем я побежала в гостиную, не знаю, проснулась ли во мне жажда немедленной мести, или это был просто бессознательный порыв. Знаю только, что я отчетливо помнила наставления майора. Надо было подойти к окну и условленным способом приподнять занавеску. Правда, помнила я и то, что надзор за моими окнами, очевидно, давно уже прекращен. Я не видела на улице никого, кто следил бы за ними. Вместе со стремлением наказать Роберта, родилась и досада на майора. Почему за ним не следили? Вот теперь могли бы его схватить.
Еще никогда в жизни не испытывала я такого потрясения. Я чувствовала себя совершенно опустошенной, жестоко обиженной, униженной. Значит, он врал, что любит меня, подло меня обманывал! Он видел во мне лишь орудие для своих гнусных махинаций. И теперь я была счастлива, что хотя бы эта его махинация не удалась. Он заслужил это. Заслужил, чтобы его схватили.
«Что делать?» — думала я лихорадочно.
Я уже хотела бежать в кабинет, чтобы позвонить майору, но тут же осознала, что они все равно не успеют.
Именно в этот момент я увидела Роберта внизу. Он переходил улицу. Вдруг от толпы прохожих отделился приземистый дородный пан и направился к нему.
И тут произошло нечто страшное. Роберт молниеносным движением выхватил из кармана револьвер. Раздался выстрел, за ним второй и третий.
Прохожие панически бросились врассыпную. Теперь я увидела, что из машины, стоявшей поодаль, какой-то мужчина в коричневой шляпе тоже начал стрелять. Роберт метнулся в сторону и побежал к перекрестку. За ним гнались уже двое или трое мужчин. Они стреляли в него, а он то и дело оборачивался и отстреливался. Выстрелы звучали непрерывно, откуда-то издалека доносились свистки полицейских. Я открыла окно и высунулась наружу.
На углу Роберт, по всей видимости, увидел полицейских, бежавших ему наперерез, и на мгновение остановился. Этого было достаточно. Видимо, в него попало несколько пуль сразу, потому что он упал, как подкошенный. На снегу вокруг него быстро начало расплываться красное пятно крови.
Я вздрогнула и отошла от окна. Мне стало дурно. В глазах замелькали красные точки. Вся комната вокруг меня закачалась. Я еле дошла до дивана и упала без чувств.
Только через час меня нашла там прислуга. Накрывая на стол в столовой, Юзеф заметил, что из-под двери гостиной тянет холодом. Он догадался, что в гостиной открыто окно, и зашел туда. Все так испугались, что сейчас же побежали за врачом. Но пока пришел врач, горничная привела меня в чувство. Хуже всего было то, что я больше часа пролежала в выстуженной комнате, одетая в легкий халатик. Уж насморк будет наверняка. Вот только бы не присоединился еще и грипп. Я так не люблю болеть! Когда у меня насморк, я не могу показываться на людях, так как у меня сразу краснеет кончик носа.
К счастью, до возвращения Яцека я успела настолько прийти в себя, что убрала из кабинета обрезки газет, которые разбросал Роберт. Сразу же после этого я легла в постель.
Весь дом растревожен уличной стрельбой. У каждого свои сведения. К счастью, никто не связывает этого происшествия с посыльным, который был у меня. Да, впрочем, его видел только Юзеф. А так как Юзеф выбежал на улицу уже тогда, когда все закончилось, то я могу не бояться его длинного языка. Он утверждал, что на улице подстрелили мужчину, который хотел ограбить ювелирный магазин. Горничная уверяла, что это была какая-то любовная драма, потому что один пан стрелял в женщину, которая шла в обществе другого мужчины. Экономка слышала от очевидцев, что это было нападение на полицейского. А кухарка доказывала, что произошла обычная драка между пьяницами.
Следовательно, с этой стороны я могла быть спокойна. К тому же Яцек, придя домой обедать, не проявил большого интереса к этому случаю. Его встревожило лишь то, что я потеряла сознание, и он упрекал меня, что во время стрельбы я выглядывала в окно.
— Ведь ты могла поплатиться за свое любопытство серьезным увечьем, — сказал он.
Хорошо, что он должен был вернуться на какое-то заседание. Мне надо было побыть одной. Надо было собраться с мыслями и обдумать эти потрясающие события.
Постепенно я пришла к выводу, что в первое мгновение несправедливо осудила Роберта так строго. В конце концов, его поведение вполне понятно. Можно очень любить кого-то, но в минуту, когда человеку угрожает смерть, не совладать со своими чувствами и сказать что-то обидное или даже грубое. Когда пришел Роберт, я еще не осознавала толком положения, в котором он оказался. Подумать только: в грязной одежде посыльного, с приклеенной бородой и в парике бродить улицами и знать, что первый попавшийся прохожий может посягнуть на твою жизнь.
А тут еще его постигло такое разочарование. Он надеялся найти свои вещи, рисковал ради этого головой, а когда вскрыл пакет, увидел там жалкие обрезки газет. Надо быть ангелом, чтобы при таких обстоятельствах владеть собой.
Нет, я определенно осудила его несправедливо. Теперь я вспомнила, что он приветствовал меня на удивление сердечно и, только обнаружив обман, взорвался гневом.
А не попрощался просто потому, что, как видно, предчувствовал опасность, которая нависла над ним. Да и неудивительно. Увидев, что содержимое пакета подменено, он легко мог догадаться, что следят и за человеком, вынесшим пакет из банка. То есть за мной. А если за мной следят — так он, наверное, мыслил, — то присматривают и за домом, в котором я живу.
Бедняга. Наверное, он чувствовал себя как затравленный зверь, которого подстерегают охотники.
Что с ним случилось? Убит он или только ранен? Горничная говорила, что его забрала карета скорой помощи. По этому можно судить, что он был еще жив. Но сколько крови было на снегу! Да и что ему, наконец, сулит жизнь? Все равно осудят на смертную казнь или пожизненное заключение, раз он был таким опасным шпионом. Может, и мне было бы куда лучше, если бы он умер. Кто знает, не вызвали бы меня в суд как свидетеля. Я скорее бы отравилась, чем скомпрометировала себя участием в таком процессе.
Вероятно, узнаю обо всем завтра из газет.
Беспокоит меня и собственная совесть. Виновна ли я, и в какой степени, в том, что произошло с Робертом? Видимо, я имею право считать, что стала лишь невольной причиной его несчастья. Потому что если бы я даже ничего не дала знать полковнику, события и так пошли бы тем же путем. Если бы я сама пошла в банк, как требовал в письме Роберт, они бы все равно следили за мной и за моим домом. И это закончилось бы только тем, что меня признали бы сообщницей шпиона. И я бы погибла.
Нет, я ни в чем не могу себя упрекнуть. И как же меня радует, что Роберт ушел из моего дома, ничуть не подозревая меня в связях с полковником. Насколько тяжелее было бы ему умирать, если бы он знал, что женщина, которую он любил, вошла в сговор с его преследователями.
Мне даже пришло в голову, что Роберт рисковал жизнью не только ради того, чтобы забрать свои пакеты. Что там в них было? Какие проекты фабрики, деньги? Кто же из-за таких мелочей будет подвергать себя смертельной опасности?
Хотя он и не сказал мне этого, но теперь я уверена: главная причина его возвращения в Варшаву было желание увидеть меня. Он же ясно сказал, что зашел лишь на минуту, но на днях будет иметь возможность видеться со мной дольше. А взрыв чувств, который произошел потом, вполне оправдан. Ведь надо учесть и то, как повела себя я сама. Была так потрясена, что не удосужилась даже ни на одно теплое слово.
Он имел все основания подумать, что меня напугал его приход, что я недовольна им. И это разозлило его еще сильнее. Нужно уметь заглянуть мужчине в душу, чтобы понять истинные причины его поведения. Большинство женщин на это не способно. Если бы я была заурядная натура с неразвитым интеллектом, я наверняка осталась бы при своих первых впечатлениях и порицала бы его, того, кто перед лицом ужасной опасности пробрался сюда, чтобы увидеть меня.
Теперь я понимаю, почему надо так осторожно судить других.
В шесть измерила температуру. Мое предсказание сбылось. Тридцать семь и пять десятых. А поскольку меня все время лихорадит, то нет сомнения, что жар усиливается. Хорошенькая история! Придется пролежать в постели несколько дней, а может, даже и неделю. Лишь бы это не обернулось серьезной болезнью. Правда, легкие у меня вполне здоровы, но кто знает… Мама очень испугалась и приехала ко мне, прихватив с собой доктора Яроцкого. Она верит только ему. Я тоже чувствую к нему полное доверие, а к тому же он очень милый.
Он очень тщательно осмотрел меня и сказал, что пока трудно предсказать, к чему это может привести. Однако он считает, что это будет обычный грипп, который быстро пройдет. Конечно, запретил мне вставать с постели и прописал лекарство. Но есть можно все и визиты принимать тоже. Последнее меня особенно радует, потому что лежу я в красивой пижаме из кремового шелка и выгляжу в ней очень мило. Среди знакомых в городе уже распространилась весть о моей болезни. Несколько человек звонили и спрашивали, как я себя чувствую. Это интересует их тем более, что все связывают мое недомогание с уличной стрельбой, о которой уже тоже успели узнать.
Если бы они только догадывались, если бы могли представить себе правду! Я сразу стала бы героиней дня. Но и так приятно чувствовать себя куда более значительной особой, чем думают другие. Имеешь превосходство над людьми, превосходство внутреннее.
С нетерпением жду следующего утра и газет. Правда, я могла бы и сегодня позвонить майору или полковнику и узнать, что случилось с Робертом. Но боюсь, чтобы они снова не предложили мне каких-то поручений. К тому же они могут предположить, что я переживаю за него. Уж лучше набраться терпения и ждать.
Тото, видимо, принесет мимозы. Иногда я подозреваю, что у него есть календарик с заметками, что и когда полагается дарить женщине. Такой себе учебник хорошего тона для тех, кто не умеет самостоятельно мыслить.
Право, просто удивительно, что меня может с ним что-то объединять. Объясняется это разве тем, что я читала недавно в «Трех сердцах» Мостовича. А именно: совершенство не ищет совершенства. Только женщина средних достоинств, стремится пополнить их высокими достоинствами мужчины. По правде говоря, соскучилась я за Мостовичем. Что он так долго делает там, в деревне? И когда, наконец, приедет? Мне так нравится его остроумие. Если бы даже он не был известным писателем, я, наверное, чувствовала бы к нему не меньше симпатии и сердечной привязанности. Нравится даже когда он немного посмеивается над моими умственными способностями, так как знаю, что в целом ценит их очень высоко. Просто он не любит показывать этого. Между нами сохранились эти полные очарования взаимоотношения свободной привязанности. Надо написать ему сегодня. Да, отличная идея. Напишу ему длинное письмо с просьбой, чтобы он приехал.
Заканчиваю, в передней звонят.
Среда
Неудобно писать в постели. Сегодня у меня тридцать восемь и две десятых. Но чувствую себя прекрасно. Яцек шутит, что за время болезни я поправлюсь. Действительно, когда у меня температура, я имею отменный аппетит. Врач говорит, что это свидетельствует о здоровье организма, который при более интенсивном обмене веществ, требует большего пополнения.
Я велела купить все газеты. Но, к сожалению, нашла в них только короткую, везде одинаковую заметку, которую и вклеиваю сюда.
«Стрельба на улице Монюшко.
Вчера около полудня агенты следственной службы пытались задержать на улице Монюшко подозрительного субъекта, который в ответ на требование показать документы выхватил револьвер и несколько раз выстрелил в полицейских чинов.
В результате стрельбы этот субъект был трижды ранен и в безнадежном состоянии доставлен в тюремный госпиталь на Мокотове.
Из найденных при нем документов оказалось, что это давно разыскиваемый бандит Ян Гусак, виновный во многих преступлениях: кражах со взломом, вооруженных грабежах и убийствах. В ходе операции, которая была сделана немедленно с целью удаления пуль, Гусак умер.»
Очень некрасиво с моей стороны, но я прочла известие о его смерти с чувством облегчения. Все-таки я эгоистка. Но ничего, я искуплю свою вину: как только поправлюсь, узнаю, где он похоронен, и отвезу на его могилу цветы. Думаю, что больше всего подойдут красные розы. (Кстати, что касается цветов: Тото, конечно, принес-таки мне вчера огромную охапку мимозы. Я не удержалась от нескольких шпилек.)
Не понимаю, почему они сделали из Роберта бандита. Трудно поверить, что они его не узнали, — ведь специально подстерегали его. Вероятнее всего, дали в прессу такую заметку, потому что не хотели проговориться, будто убит шпион соседнего государства. Да я вовсе и не уверена, что он действительно был шпионом соседнего государства.
И уж точно трагическим является то, что я теперь никогда не узнаю, какие обстоятельства толкнули его на скользкий путь. Он унес свою тайну в могилу. Видимо, это были какие-то чрезвычайно тяжелые и увлекательные переживания. Бедняга. Я так мало могла ему дать, а он столько от меня ожидал. Однако не может быть простой случайностью то, что я всегда встречаю в жизни людей необычных (потому что и Тото в определенном смысле необычный человек).
Перед полуднем позвонил дядя Альбин и сказал, что получил открытку от мисс Норман из Криницы. Ничего интересного в ней нет — только обычные приветствия. Но для меня вполне понятно: именно то, что она прислала открытку, красноречиво свидетельствует о ее хитрости. Она, несомненно, знает мою девичью фамилию и не может не задуматься над тем фактом, что ею очень интересуется пожилой пан, который имеет такую же фамилию. Если, даже выехав из Варшавы, она старается не потерять с ним связи, это безошибочно говорит о ее намерении поддерживать с ним отношения. Какие же из этого могут быть выводы?.. Во всяком случае, она странная женщина. Мне трудно понять, что побуждает ее тянуть дело с Яцеком.
Сегодня я убедилась, что Яцек знает о пребывании мисс Норман в Кринице. Когда я сказала ему, что, выздоровев, думаю поехать на несколько дней в Криницу, он стал меня отговаривать. Вместо этого склонял ехать в Закопане, хоть и знает, что я его не люблю. Интересно, переписывается ли он с ней. Во время обеда я даже встала на минутку и тщательно обыскала ящики в его письменном столе. Но он очень осторожен. Ничего я там не нашла. Впрочем, в календаре была заметка: «Патрия» — 6–8.
Можно было догадаться, что это имеет какую-то связь с мисс Норман. По моему мнению, это означает, что она остановилась в «Патрии» и что он может звонить ей с шести до восьми. И я твердо решила: как только поправлюсь, сразу же еду в Криницу и тоже остановлюсь в «Патрии». Сегодня я прочитала в газетах, что туда должен приехать Кипура с женой. (Известный американский певец польского происхождения) С ним я уже познакомилась два года назад в Париже. А вот она меня очень интересует. У нее действительно прекрасный голос. Некоторые из знакомых говорил мне, что мы с ней очень похожи друг на друга, но я с этим никак не согласна.
Вчера отправила письмо Мостовичу. Знаю, что он ужасно не любит писать письма, но телеграммой мне ответит наверняка. Ему я смогу доверить некоторые свои переживания и спросить, что он о них думает.
Сегодня ожидаю неприятность: вечером обещал прийти отец. Чтобы как-то разрядить атмосферу, пригласила еще нескольких лиц.
Утром была Данка. Она теперь организует новое общество, которое будет заботиться о девушках, которые плохо себя ведут. Забавно, что те девушки не стремятся к реваншу и в свою очередь не основывают союзов, которые бы заботились о паннах, которые хорошо себя ведут.
Не понимаю, почему люди вообще вмешиваются в жизнь других. Каждый устраивает свою жизнь, как сам хочет, и сам отвечает за последствия. Конечно, я оставляю за собой право иметь об этом свое мнение, но оправдать вмешательство в чужие дела никак не могу.
Четверг
Сама не знаю, как возник этот разговор. Я запомнила из него каждое слово. Не могу только понять, что побудило Яцека заговорить. Кажется, причиной стал отец, который очень строго осуждал Тоню Потоцкую за ее отношение к мужу.
Когда вечером все ушли, Яцек сел возле моей кровати и сказал:
— Меня часто удивляет, почему люди так редко понимают друг друга. По-моему, на свете было бы куда меньше недоразумений, если бы одни старались объяснять мотивы своих поступков, а другие — понимать их и оценивать по совести.
Он говорил как будто сам с собой. Был задумчивый и грустный. Я непринужденно сказала:
— Люди слишком заняты собой.
— Наоборот, — покачал он головой. — Они заботятся о своих ближних, но заботятся поверхностно. Отсюда столько предвзятых мнений и столько горечи. Я более чем уверен, что в рай попадает куда больше людей, чем нам кажется.
Я подумала о Роберте и подтвердила:
— Конечно. Я полностью разделяю твое мнение. Никогда ведь не знаешь, какие страшные или просто неблагоприятные обстоятельства обусловливают чей-то дурной поступок.
Он пристально посмотрел на меня.
— Ты правда так думаешь?
— Совершенно серьезно. Каждый может допустить ошибку.
Яцек поцеловал мне руку.
— Меня радует, что ты так думаешь, Ганечка. Тем более что снисходительность — весьма редкая черта. Особенно у женщин. Ты знаешь, я иногда думал о тебе… Никогда не имел ни малейшего сомнения, что ты мне безоговорочно верна. Однако задумывался над тем, что я сделал бы, как поступил и что чувствовал, если бы узнал, что ты мне изменяешь.
Я засмеялась.
— Ты никогда об этом не узнаешь. Если я тебя и изменю, то сделаю это так ловко, что ты и понятия иметь не будешь.
Он улыбнулся и бросил на меня не очень уверенный взгляд.
— Я знаю, что ты шутишь, дорогая. А я хочу поговорить об этом серьезно. В таком случае, прежде всего я поговорил бы с тобой. Мне надо было бы выяснить, не лежит вина за это на мне. Ведь во многих случаях так бывает. Муж пренебрегает женой, уделяет ей слишком мало времени или безразлично относится к ее делам. Не интересуется ее духовной жизнью… В общем, причин может быть немало… Например, мужья часто пренебрежительно отзываются о своих женах или в их присутствии позволяют себе флиртовать с другими женщинами. Я полностью отдаю себе отчет в том, что каждая из этих причин в значительной степени оправдывала бы измену со стороны жены.
Я удивленно посмотрела на него.
— Почему ты об этом говоришь?
— Ах, просто так, без конкретного повода… Итак, в этом случае я прежде всего искал бы вину в самом себе. Я не смог бы осудить тебя, не осудив прежде собственного поведения. — он подумал и добавил: — То же самое касается и прошлого.
— В каком смысле?
— А в таком, как было, например, у супругов Яворских. Ты не знаешь и, вероятно, не слышала об этом. Здзиш женился на ней по любви. Лили была во всех отношениях приличная девушка. Она очень его любила, и они могли служить образцом счастливого супружества. И вдруг через год после свадьбы Здзиш случайно узнает о том, что у Лили, еще когда она училась в пансионе, был роман… то есть нечто вроде романа… словом, бывала на холостяцкие квартире у одного пана.
— Вот так история… Ну, и что же он сделал?
— По-моему, он поступил грубо и несправедливо. Во-первых, он несколько месяцев мучил ее расспросами и ежедневно устраивал скандалы, хотя она ему сразу во всем призналась. Она была тогда еще почти ребенком и не имела представления о жизни. Ей казалось, что она полюбила того пана. Некому было дать ей совет. Ее мать была занята собственной жизнью… Так что же тут странного?.. При таких обстоятельствах это может случиться с любой или почти любой девушкой. Когда она через несколько лет выходила замуж за Здзиша, она уже совсем забыла об этом.
Я перебила его:
— Ну, этому трудно поверить.
— Что ж, я не настаиваю. Может, и не забыла. Может, даже придавала слишком большое значение той ошибке молодости…
— В таком случае, почему же она не призналась во всем мужу перед свадьбой?
Яцек покачал головой.
— Ну вот! Видишь! Тут я с тобой уже не согласен. Ведь она могла надеяться, что эта история никогда не выплывет на свет. Зачем же ей было омрачать жизнь любимому мужу, зачем подрывать в нем веру в ее целомудрие и добродетель, если, уже став его женой, она перед собственной совестью чувствовала себя невинной и добропорядочной. Конечно, с формальной точки зрения ты права. Но к жизни нельзя относиться формально. Нельзя делать из людей какие-то параграфы. Если бы она призналась во всем перед свадьбой, то Здзиш наверное отменил бы помолвку.
— Кто знает, мой милый. Если он так сильно ее любил…
Яцек пожал плечами.
— Да он и до сих пор ее любит. А все же оставил. Испортил жизнь и себе, и ей, потому что не нашел в себе снисходительности, потому что поддался эмоциям, потому что хотел видеть в ней ангела, а не человека, способного ошибаться. Подумай только, милая, какую обиду он нанес и себе, и ей…
— Ну что ж, наверное, и тебе не было бы приятно, если бы тебе сказали что-то подобное вот хотя бы и обо мне.
— Да, — кивнул он головой. — Но я не раздувал бы из этого трагедии. Я бы смог понять и простить. Простить по-настоящему, в душе. И будь уверена, что во мне не осталось бы ни капли обиды, ни капли горечи.
Наступила тишина, и только примерно через минуту я сказала:
— А почему ты, Яцек, мне об этом говоришь?
Он ответил не сразу. Я видела, сколько внутренних усилий стоит ему искреннее признание, которое он хотел сделать. Наконец он сказал:
— Потому что я, видишь ли, задумывался и над оборотной стороной ситуации.
— Как это над оборотной?
— Ну, например, если бы ты узнала что-то плохое о моем прошлом.
Сердце мое забилось сильнее. Следовательно, он сам признал своим долгом затронуть эту тему! И я решила не выпускать его из рук.
— Ах, мой милый, я никогда не думала, что до нашей свадьбы ты был святым. Уверена, что ты, как подавляющее большинство мужчин, имел много приключений и, наверное, не один серьезный роман. Но я не считаю что это плохо.
Яцек прикусил губу.
— Ах, с этой точки зрения, конечно. Но я имел в виду нечто иное. Я думал, как бы ты восприняла известие о том, что я когда-то совершил неэтичный поступок.
— Это зависит от того, какого рода был поступок, — без нажима сказала я.
— Не имеет значения, какого рода.
— Нет, имеет. Скажем, я бы по-разному оценила то, что ты в гневе убил кого-нибудь, или что-то украл или, например, жил на иждивении у какой-то старой женщины. Одно дело ограбить банк, и совсем другое — соблазнить девушку и бросить ее с ребеночком. Я говорю не о тяжести преступления, а о его характере. Хочу, чтобы ты меня правильно понял. Есть такие поступки, которые навсегда изменили бы тебя в моих глазах, а есть такие, которые я могла бы понять и простить.
Не глядя на меня, Яцек спросил:
— Как ты разделяешь их на эти две категории?
Я задумалась и наконец сказала:
— Думаю, что сумела бы найти оправдание неэтичного поступка, допущенного под воздействием сильных чувств. Любви, ненависти, внезапного гнева, ревности. И наоборот — не могла бы принять любой злонамеренности, хитрости, коварства и, может быть еще обиды, нанесенной более слабым.
Яцек снова долго не отзывался. Его красивое лицо приняло какое-то горестное выражение. Он слегка шевелил губами, словно хотел сдержать слова, рвущиеся наружу.
Испугавшись, что мое определение может удержать его от признаний, я добавила:
— И наконец, это очень трудно разграничить, когда речь не идет о конкретном факте. Разве я знаю?.. Может быть, то, что решительно отвратило бы меня от одного человека, у тебя, например, в сочетании с какими-то чертами твоего характера и не произвело бы такого отталкивающего впечатления.
Он, казалось, не услышал моих слов и, уставившись в одну точку на стене, сказал:
— Бывают неэтичные поступки, которые нельзя вместить в рамки такого разделения.
Я придвинулась к нему и ласково взяла его за руку. Он вздрогнул и на миг, на один краткий миг, поднял на меня глаза. Я знала, что этот ласковый жест облегчит ему признание. Он еще ниже склонил голову и заговорил. Наконец заговорил!
— Видишь ли, Ганечка, я хотел тебе кое в чем признаться. Ты сразу догадалась, что я не случайно заговорил на эту тему. Я хотел признаться тебе в том, что, как заноза сидит в моей совести…
— Я слушаю тебя, Яцек, — сказала я, затаив дыхание.
— Давно, когда я был еще совсем молодым и неопытным, я полюбил одну девушку. Полюбил так сильно, что, если бы она потребовала от меня чего-то ужасного, я сделал бы это без колебаний. Ты сказала, что подозреваешь, будто у меня был не один роман, когда мы еще не были вместе. Так вот, это неправда. У меня был лишь один роман, который к тому же и нельзя назвать романом. Когда я ищу для него соответствующее название, мне приходят в голову слова «фарс», «драма», «трагедия», «комедия ошибок» — все, что угодно, только не роман. Недавно я говорил тебе, что крайне неприятные дела отозвались мне теперь. Я употребил слишком мягкое выражение. Дела просто-таки убийственные. Теперь, когда передо мной отчетливо предстали два возможных пути, когда я полностью собрался с мыслями, я могу искренне поговорить об этом с тобой. Я знаю, ты сможешь меня выслушать и постараешься не судить слишком строго.
— Можешь быть в этом уверен.
— Спасибо тебе.
— Знай, Яцек, у тебя нет лучшего друга, чем я.
— Мне и не надо лучшего. Собственно, как к другу, я и обращаюсь к тебе, Ганечка, с огромной просьбой. Ты представить себе не можешь, как тяжело мне об этом говорить. И потому прошу тебя, очень прошу принять то, что я скажу, как объективную и безоговорочную правду. Пойми, я говорю, тебе все, что могу сказать, и не задавай мне никаких вопросов. Можешь ли ты это мне пообещать?
— Да, обещаю, — серьезно заверила я. — Ты ведь знаешь, что я никогда не надоедаю тебе вопросами относительно того, что ты не хочешь или не можешь говорить.
Он сделал такой жест, словно хотел взять мою руку, чтобы поцеловать ее, но тут же отодвинулся. Как видно, его уколола мысль, что перед истинным признанием это было бы неблагородно с его стороны.
Бедный Яцек! Если бы я могла дать ему понять, что его признание не будет для меня такой уж большой неожиданностью! Если бы могла ему сказать, что заранее готова простить ему все!.. Однако надо было молчать. Надо было вооружиться терпением и облачиться в панцирь строгости. Во всяком случае, отнюдь не следовало бы сразу же простить ему все, чтобы он не подумал, что его опрометчивый, скандально-дерзкий поступок, который непосредственно угрожал мне, моему счастью, моей доброй репутации, не заслуживает самого сурового осуждения. В сознании моем вновь отчетливо предстали все те страшные невзгоды, которые обрушились бы на меня и на моих родителей, если бы стало известно, что Яцек — двоеженец.
Я знала, как мне поступить. Надо было облегчить ему признание, вытянуть из него как можно больше, оставив ему далекую перспективу возможного прощения, но одновременно не скупиться на проявления оскорбленного достоинства и горькой печали обиженной души.
Яцек начал рассказывать:
— Это было восемь лет назад. Мне тогда исполнилось уже двадцать четыре года. И если кое-кто из моих сверстников и имел в то время немалый жизненный опыт, то я, как теперь понимаю, принадлежал к тем, кто не был знаком с жизнью, слишком легко поддавался своим порывам и легкомысленно хватал все, что давала судьба. Говоря просто, был наивен. Оканчивая университет, я пребывал под опекой дяди Довгирда, которого ты наверняка помнишь, он был у нас на свадьбе.
— Помню, — подтвердила я. — Очень милый человек.
— Я всегда его ценил. И если бы в то время больше доверял его опыту, то многое, наверное, сложилось бы иначе, и меня сейчас не терзали бы последствия ошибок того времени. Но, впрочем, дядя, занимая высокое и чрезвычайно беспокойное положение посла, был всегда очень занят и не мог уделить мне много времени. К тому же я и сам не хотел доверять ему свои дела — во-первых, потому, что считал себя вполне взрослым, а во-вторых, потому, что, оканчивая курс обучения в университете, стремился к как можно большей независимости. Именно тогда я и познакомился с одной девушкой. Познакомился довольно необычный способом, который, как мне тогда казалось, был пророческим. Вот как это было. Когда я отъезжал машиной от посольства, молоденькая и очень красивая девушка чуть не попала под колеса. Она так испугалась, что мне пришлось отвезти ее, почти без сознания, домой, а точнее, в отель, в котором она жила вместе с отцом. Это знакомство быстро перешло во взаимное чувство. Отец этой девушки был иностранец, приехавший по своим коммерческим делам. Он взял с собой дочь, чтобы она познакомилась с великой столицей и ее жителями. Поскольку я дружил со многими дипломатами, то упросил одну из женщин в нашем посольстве, чтобы она ввела мою девушку во все те салоны, в которых я был принят. Она везде произвела прекрасное впечатление, и наши имена стали упоминать вместе.
Яцек на мгновение замолчал и коротко сказал:
— Мы стали любовниками.
— И что же дальше?
— Дальше события развивались в таком направлении, что ими уже не руководило ни мое сознание, ни воля. Одно вытекало из другого. Посольство в это время должно было послать в Вашингтон дипломатического курьера с какими-то важными документами. А так как путешествие в Америку меня очень привлекало, да и девушка моя, когда я ей об этом сказал, горячо взялась строить планы отъезда, то мне удалось уговорить дядю, чтобы эту миссию поручили мне. Отец Бетти — ее звали Бетти, — разумеется, не знал о том, что мы едем вместе. Я забыл еще сказать, что у Бетти на родине был жених. Брак их был делом давно решенным, и его нельзя было сорвать из соображений материальных и семейных. Я хочу быть искренним с тобой, Ганечка, и поэтому признаюсь тебе, что, хотя мое чувство к той девушке казалось мне тогда, а может, и действительно было большой любовью, все же в душе я радовался тому, что не стану ее мужем. Однако бывали минуты, когда ревность к ее жениху могли довести меня до чего угодно.
— Ты знал его? — спросила я.
Он отрицательно покачал головой.
— Нет. Видел только его фотографию. Весьма привлекательный на вид мужчина. Но это не имеет значения. В начале апреля мы отплыли в Америку на большом лайнере. В Соединенных Штатах должны были пробыть несколько месяцев, путешествуя и развлекаясь. Это приключение казалась мне чем-то прекрасным — возможно, потому, что оно было первым в моей жизни. Я был просто очарован его романтичностью, а мои чувства к Бетти росли и крепли по мере того, как я убеждался в том, что все мужчины вокруг завидуют мне и засыпают ее комплиментами.
— Она действительно была такая красивая?
— Да, красивая. В свои восемнадцать лет она была на удивление очаровательна. В Америке, где молодые девушки вообще ведут себя очень свободно, наша дружба и совместное путешествие никому не казались чем-то особенным. Кроме знакомых в дипломатических кругах, я имел там еще много приятелей и университетских товарищей из зажиточных слоев. Развлекались мы замечательно. Я невольно приспособился к местным обычаям. Ночи проводили в пирушках. Вот тогда я и научился пить. Почти ежедневно мы возвращались домой под утро, изрядно навеселе. Наконец, однажды я получил из Вашингтона запрос, не собираюсь ли я возвращаться в Европу. Мол, если бы я назначил свое возвращение на ближайшие дни, наше посольство в Вашингтоне воспользовалось бы этим, чтобы поручить мне перевозку чрезвычайно важной дипломатической почты. А поскольку и Бетти уже должна была возвращаться домой, я охотно согласился. Тут и наступила наша первая разлука. Она не хотела ехать со мной в Вашингтон за теми бумагами, а предпочитала остаться в Нью-Йорке и ждать меня там. Разлука наша длилась едва три дня, однако убедила меня, как сильно я привязался к Бетти.
Яцек замолчал, а потом сокрушенно тоном обратился ко мне:
— Извини, что я об этом говорю. Я знаю, это неделикатно. Но мне надо объяснить тебе свое тогдашнее душевное состояние, потому что именно в нем заключается причина допущенной мной ошибки.
— Я слушаю тебя, Яцек, рассказывай дальше.
— Так вот, когда я вернулся в Нью-Йорк, меня как громом поразила весть: Бетти получила телеграмму, что приезжает ее жених. Это совершенно вывело меня из равновесия. Как мне казалось, она тоже была в отчаянии. Мы пили всю ночь в обществе нескольких знакомых, а под утро Бетти сказала мне: «У нас есть только две возможности. Или мы расстанемся навсегда, или поставим моего жениха и всю мою семью перед свершившимся фактом».
Яцек потер лоб и добавил:
— Ты понимаешь, что таким свершившимся фактом мог быть только брак.
Я не сказала ни слова. Яцек нервно мял пальцами давно потухший окурок.
— Ты знаешь, — сказал он, — как легко и просто улаживаются эти дела в Америке. У меня до сих пор такое впечатление, что мы оба были просто пьяны. Мы сели в машину одного из далеких кузенов Бетти, которого встретили в Америке, и поехали в ближайшую брачную контору. Проснувшись где-то после полудня следующего дня, я не мог понять, не было ли то, что я сделал, просто сном.
Я ждала этого признания, знала, что оно наступит, и все же слова Яцека потрясли меня. Следовательно, все это правда! Итак, моя призрачная надежда, что это была некая мистификация со стороны Элизабет Норман, оказалась заблуждением.
Впервые дело Яцека предстало передо мной в таком ярком свете. Теперь у меня не оставалось никаких сомнений: женившись на мне, он совершил преступление. Совершил подлость, потому что скрыл правду.
Я уже давно привыкла к этой мысли, но только в этот миг ясно увидела действительность во всей ее неприглядной наготе, лишенную дымки таинственности и той окраски, которую придавали ей чувства. И вдруг в корне изменилось мое внутреннее отношение к Яцеку. Если до сих пор оно определялось скорее сочувствием и страстным стремлением удержать его при себе, то теперь я смотрела на этого человека почти как на чужого, который к тому же причинил мне зло. Теперь уже это не был Яцек, близкий мне человек, с которым я прожила три счастливых года, а просто мужчина. Субъект, исполнявший обязанности мужа, который и впредь будет занимать определенное положение в моей жизни. Однако положение всего лишь официальное, которое лишилось всех чувств. Ясное дело, я все так же стремилась по возможности тихо уладить это дело, так же стремилась избежать скандала, но теперь уже только из личных, эгоистических соображений.
Если бы, несмотря на все усилия, скандала не удалось избежать, мне было бы уже совершенно безразлично, осудят Яцека за двоеженство или нет, останется ли он в конце концов со мной, вернется ли к той женщине, которую, как он сам только что признался, любил когда-то до безумия и, наверное, любил бы и сегодня, если бы она его не оставила. Какое же это все отвратительно!
Может, это не совсем похоже на правду, что я равнодушно восприняла бы возвращение Яцека к той женщине. Нет, на такое самоотречение я вряд ли способна. Но исключительно из честолюбивых соображений. Он как таковой мне больше не нужен. Я не хотела бы только, чтобы он достался той женщине.
Яцек так увлекся рассказом, что, наверное, и не почувствовал той огромной перемены, которая произошла во мне в течение последних нескольких минут. Он не знал, что обращается уже к совершенно другому существу, которое слушает его уже только как человека, повествующего о деталях какой-то абстрактной неудачи в делах. Как человека, который сам несет ответственность за ту неудачу.
Яцек продолжал:
— К сожалению, это был не сон. Постепенно я вспомнил все. Брак был официально оформлен, и возврата назад не было. Можешь поверить мне, Ганечка, что я с первой же минуты знал, что совершил ошибку.
Я пожала плечами.
— Почему же ошибку?.. Ты ведь сам говоришь, что она была на удивление хороша, что ты любил ее до безумия, что она происходила из семьи, вполне тебе соответствующей с точки зрения общественного положения, к тому же была богата… Я не вижу здесь никакой ошибки.
Он посмотрел на меня с волнением, которое я приняла за оскорбление.
— Спасибо, что ты так хорошо все поняла.
— Никакое это не понимание, дорогой, а просто неверие в то, что ты был недоволен.
— Как?.. Ты мне не веришь?..
Я засмеялась.
— Жаль, что ты не мог слышать собственного тона. В твоем вопросе звучало такое негодование, как будто ты человек, который заслуживает наибольшего доверия если не во всем мире, то по крайней мере в Центральной Европе.
— Ах, — закусил он губу, — вот как ты это понимаешь.
— Именно так. А как бы еще ты посоветовал понимать женщине, которая после трех лет супружеской жизни узнает не о каких-то там компрометирующих фактах из мужниного прошлого, а о том, что, несмотря на брак, который оказался обыкновенной фикцией, она всего-навсего любовница… Или, лучше сказать, содержанка…
Яцек покраснел и опустил голову.
— Ты имеешь право судить меня строго, но такой жестокости я от тебя не ожидал.
— Ах, какая там жестокость! У меня и в мыслях ничего такого нет. Наоборот — готова спокойно выслушать тебя до конца. И не имею относительно тебя никаких дурных намерений. Я только считала своим правом призвать тебя подумать, когда ты требуешь от меня, чтобы я безоговорочно поверила во все эти сладенькие украшения, которыми ты сдабриваешь свое признание.
Он наморщил лоб.
— Ну что же, ладно. В дальнейшем буду избегать всяких комментариев.
— Это будет разумнее. Итак, я слушаю.
Теперь он заговорил быстро, сдавленным голосом, то и дело прерывалось.
— В тот же день мы выехали в Европу уже как супруги. Прости, что я должен еще на мгновение вернуться к тому моменту, который пробудил в тебе обоснованное или необоснованное недоверие. Поэтому, оставляя в стороне мои чувства, я знал, что совершил ошибку хотя бы с точки зрения дяди. Как я уже говорил тебе, Бетти не нравилась дяде Довгирду. Она почти каждый день бывала в посольстве, где мы жили, и, когда дядя заметил, что я увлекся ею, он вытянул у меня обещание, что никаких близких отношений между нами не будет.
— О, еще один выполненное обещание, — заметила я довольно небрежно.
— Я дал обещание, чтобы отвязаться. Просто я думал, что это у дяди какие-то беспочвенные причуды. Я пытался выпытать у него, что он имеет против Бетти, но он отделался общими фразами. Одно время мне даже казалось, что его неприязнь к ней возникла вследствие собственной неудачи. Ведь чего греха таить, дядя всегда был падок на женщин. Так или иначе, но, когда мы с Бетти сблизились, я тщательно скрывал это от дяди, потому что не хотел его раздражать. О нашем совместном отъезде в Соединенные Штаты он, разумеется, тоже не знал.
— А почему ты так с ним считался?
— Очень просто: я полностью от него зависел. Прежде всего, материально. Ты ведь знаешь, что мой отец, помня о своей несчастливой жизни с покойной мамой, оставил это странное завещание. Он завещал все дяде Довгирду с условием, что я должен был получить наследство лишь в день своего бракосочетания.
— Не понимаю, — перебила его я. — Ведь поскольку ты женился, то имел право войти во владение наследством. Собственно, благодаря тому, что ты назвал ошибкой, ты получил независимость.
— Нет, так как согласно завещанию моя женитьба требовала дядиного согласия.
— Ах, ты боялся за свои деньги!
— Не только за деньги, — сердито посмотрел он на меня. — Я считался с дядей и потому, что испытывал к нему большую благодарность. Ведь он воспитывал меня с самого детства. Кроме того, я должен был посвятить себя дипломатической карьере, и здесь тоже все зависело от дяди. Словом, как видишь, я уже на второй день после той легкомысленной женитьбы имел основания думать, что совершил ошибку.
Я окинула его холодным взглядом.
— А на второй день после нашей свадьбы тебя не мучила такая мысль?
— Ганечка! — воскликнул он. — Как ты можешь так издеваться надо мной! Ты ведь знаешь, что я был самым счастливым человеком в мире!
— Ну и зря. Ты еще, собственно, тогда должен был знать, что совершаешь не только ошибку, но и преступление. Только теперь я тебя поняла. Когда женитьба угрожала тебе потерей денег и препятствиями в карьере, ты был в отчаянии. А тогда, когда она подвергало осмеянию и бесчестью меня, ты был счастлив.
Мои аргументы были неоспоримы. Яцек опустил голову и сидел совершенно подавленно. Еще полчаса назад это тронуло бы меня. Но теперь я только равнодушно спросила:
— Ну и скрыл ты от дяди свою женитьбу?
— Да. От него и от всех, кто мог бы ему об этом рассказать.
— Наверное, это было нелегко?
— Конечно. Мы поселились в маленьком городке недалеко от Кадикса, где не могли встретиться ни с кем из знакомых…
— Рай в шалаше, — добавила я.
— Это было фальшивый рай для нас обоих, потому что и Бетти так же мучилась в душе. Ведь и ей пришлось ради меня порвать с семьей. Мы никогда не разговаривали об этом между собой, но оба знали, что совершили глупость, хотя и не показывали того. Оправдывало нас только то, что мы были очень молоды и поженились — чего уж там подыскивать слова — просто с пьяных глаз.
— Ну, к тому же вы любили друг друга, — отметила я.
Он ничего не возразил. С минуту сидел молча, потом сказал:
— Однажды, вернувшись домой, я не застал ее. Она уехала. Не оставила мне ни малейшего следа. Не буду описывать тебе тех противоречивых, чувств, которые тогда охватили меня. Это не относится к делу и не имеет для него никакого значения. Если я разыскивал ее везде, то делал это из чувства долга. Однако все мои поиски были тщетны, хотя я не жалел ни усилий, ни денег. Так проходили годы, и можешь быть уверена, что я не прекращал тех поисков до дня нашего бракосочетания. Ты, наверное, помнишь свое недовольство по поводу того, что я несколько раз откладывал эту дату. Я был вынужден это делать, опасаясь, что Бетти неожиданно найдется. Но когда прошло пять лет, я окончательно убедился, что она или умерла, или вообще никогда уже не даст о себе знать. Поразмысли, разве я не имел права так считать.
— Пусть так, но ты ни в коем случае не имел права утаивать этого от меня!
— Это мой самый тяжкий грех, но, Ганечка, пойми мое положение. Я любил тебя безумно и боялся, что, если скажу тебе правду, ты не захочешь стать моей женой.
Я пожала плечами.
— Не знаю, как я поступила бы в таком случае, но это не умаляет твоей вины. Ты просто обманул меня и моих родителей. К тому же, видимо, должен был подделать свои документы, чтобы выдавать себя за холостяка.
— Нет, в документах я никогда не имел никаких отметок. И не думай, что я не предпринимал усилий, чтобы получить формальный развод. Однако они также закончились ничем.
— Почему же?.. Если она тебя бросила, если столько лет даже не давала о себе знать, любой суд, особенно американский, дал бы тебе развод.
— Да, — согласился Яцек. — Однако чтобы развестись, надо прежде всего быть женатым. То есть подать в суд брачное свидетельство. А у меня такого свидетельства нет. Его забрала Бетти.
— Но ты мог взять копию в той конторе, где вы поженились.
Яцек грустно улыбнулся.
— К сожалению, я не знал, где именно это было. В таком городе, как Нью-Йорк, этих контор много. Люди, нанятые моим адвокатом, пересмотрели книги, как он уверял, во всех. Он ручался, что они сделали это очень добросовестно. И ничего не нашли. Что же я должен был делать?.. Я оказался в такой ситуации, что именно моя женитьба превращалось в фикцию. У меня не было ни жены, ни одного доказательства того, что я когда-то вступал в брак. Разве при таких обстоятельствах, да еще и учитывая, сколько прошло времени, я не мог быть уверен, что ничего из моего прошлого уже не вернется?..
Я покачала головой.
— Согласна, с этой точки зрения ты прав. Но ты был обязан рассказать мне обо всем.
— Я думал об этом тысячу раз. Бывали минуты, когда я даже чувствовал уверенность, что, несмотря на все это, ты согласилась бы выйти за меня. Но и тогда появлялись сомнения: зачем нарушать твой покой?.. Зачем ставить между нами этот досадный факт?.. Зачем пугать тебя опасными осложнениями, в возможность которых я сам уже давно перестал верить?..
— И все же они возникли теперь, когда ты меньше всего этого ожидал?..
— Да. Я вообще их не ожидал. Прошло восемь лет. Восемь лет! Кто бы мог подумать, что та женщина вспомнит обо мне, что снова появится на моем пути!
— Где она?
— Ах, это не имеет никакого значения, — уклончиво сказал он. — Важно лишь то, что она вообще есть, что существует на свете.
— И чего же она от тебя хочет?
— Хочет, чтобы я вернулся к ней.
— Она что, с ума сошла? Как это так? Восемь лет где-то шаталась по свету, жила, как я могу предположить, совсем не как святая, а теперь достаточно ей поманить пальцем — и ты должен к ней вернуться?
— Она говорит, что любит меня.
Я засмеялась.
— А ты по простоте своей, конечно, ей поверил?..
— Нисколько, но это ничего не меняет в моем положении. Она знает, что я женат и что меня осудили бы за двоеженство, и этим держит меня в руках.
— Так возвращайся к ней! — крикнула я, уже не владея своими нервами.
Он хмуро посмотрел на меня.
— Да я лучше пущу себе пулю в лоб.
Он сказал это, несомненно, искренне, и я снова почувствовала к нему легкий прилив симпатии.
— Не понимаю я этой женщины. Неужели она не понимает, что даже если бы ты вернулся к ней, то не имел бы к ней никаких чувств, кроме ненависти!
— Она это понимает.
— Чего же она хочет? Денег?
— Нет, боже упаси! — возразил Яцек так живо, как будто брал ее под защиту.
— Это очень благородно с твоей стороны, — сказала я, — что ты так горячо заступаешься за нее. Однако это не меняет факта, что та пани ведет себя, как шантажистка.
— Ты ошибаешься. Любой шантаж состоит в том, что человек, угрожая плохими последствиями за невыполнение его требований, стремится к какой-то выгоде для себя. Между тем я не могу считать, что, скажем, то, чего она от меня требует, даст ей какую-то выгоду. Если бы я вернулся к ней, она не имела бы от этого никакой пользы, ни моральной, потому что я ее не люблю, ни материальной, так как, насколько я могу судить, она куда богаче меня. Даже в том, как она ставит передо мной требования, я не вижу признаков шантажа. Шантажист, обычно, ультимативно определяет какой-то срок и предупреждает, какие меры он предпримет, если этот срок не будут соблюден. Здесь этого нет. Я даже отметил бы склонность этой женщины уладить дело без угроз и спешки. Поскольку она верит, что ей удастся меня убедить, она дала мне немало времени на размышления и на ожидаемое отречение от моей теперешней жизни.
— Ну, так что же? — пожала я плечами. — Давай отрекайся. С моей стороны ты не встретишь никаких препятствий. Не заставляй это благородную, терпеливую и влюбленную пани слишком долго ждать.
Я знала, что каждое мое слово больно ранит Яцека. Но он заслужил это. Пусть терпит, пусть искупает свое беспримерное легкомыслие.
— Нет, Ганечка. Хоть я и заслуживаю твоего сурового осуждения, однако не верю, что ты на самом деле так думаешь. Даже надеюсь, что все еще можно как-то уладить. На это мне позволяет надеяться, собственно, отсутствие злонамеренности со стороны Бетти.
Тут я уже не сдержалась.
— Отсутствие злонамеренности! Ей-богу, мне кажется, что ты теряешь здравый смысл. Отсутствие злонамеренности! Бросает тебя кто знает на сколько лет, имеет кто знает сколько любовников и вдруг нагло угрожает тебе тюрьмой, добиваясь, чтобы ты к ней вернулся, словно ничего не произошло. Это коварная, злая, лживая и гадкая женщина. И хоть ты так самоуверен, что вообразил, будто она тебя безумно любит, можешь мне поверить, что за всем этим скрывается какая-то мерзость!
— У меня нет оснований даже предполагать такое.
— Зато у меня есть! У меня есть интуиция, которая никогда не обманывает. Это неважно, что она богата. Богачи бывают очень жадные. Предложи ей деньги и увидишь, возьмет ли она их. Если она и дала тебе столько времени, то только для того, чтобы укрепить тебя в убеждении, что дешево ты не отделаешься. По тому, что ты о ней рассказал, я могу видеть ее насквозь. Это хитрая низкая баба! Предложи ей деньги. Но, конечно, не давай ни гроша, пока не получишь от нее письменного заявления, что она согласна на развод и берет всю вину на себя, и пока она не вернет тебе брачное свидетельство, которое забрала с собой.
Горячая убежденность, с которой я говорила, бесспорно, должна была повлиять и на Яцека.
— У нас нет столько денег, — тихо сказал он, — сколько бы она, наверное, потребовала, если бы и речь шла о деньгах.
— Ничего не поделаешь. Продашь мой дом, одолжим что-то у родственников. Мы не имеем права допустить скандала. В крайнем случае, расскажем обо всем отцу. Я уверена, что он без всяких колебаний даст сколько сможет, лишь бы замять это унизительное дело.
Яцек несколько минут сидел молча.
— Может, ты и права, — сказал он наконец. — Я подумаю над этим вопросом. К счастью, это не горит.
Я возмутилась.
— Как это не горит! Ты думаешь, для меня большая радость — жить в такой атмосфере? Каждую минуту ждать скандала?
Яцек слабо улыбнулся.
— И для меня это не радость. Если бы ты знала, какие гнетущие и тяжелые были для меня эти долгие недели… Я ничего тебе не говорил, потому что надеялся, что мне удастся все это уладить. Однако теперь я счел необходимым рассказать тебе правду. Я так устал… Мне нужен был твой совет, и я благодарен тебя за него. Ты очень добра ко мне, хоть и считаешь, что я этого не заслуживаю. — Он встал и добавил: — Поступай так, как считаешь нужным. Помни только одно: доверить эту тайну хоть кому-нибудь — это все равно, что разгласить ее на весь город.
— Не бойся. Я сама это понимаю.
— Если бы можно было обратиться за помощью к твоему отцу… Он выдающийся адвокат и, может, сумел бы найти какой-то выход.
— Да, — согласилась я, — но это навсегда похоронило бы тебя в его глазах.
— Я знаю. И поэтому ты единственный человек, которому я доверился.
— Жаль, что ты не сделал этого три года назад, — ответила я как могла холодно.
Куда девалась его обычная непринужденность! Я чувствовала, что он не уходит, потому что не знает, как со мной попрощаться. Спросил, не нужно ли мне чего-нибудь на ночь, затем быстро поцеловал мне руку и вышел.
Было уже около часа ночи. Конечно, нечего было и мечтать о том, чтобы заснуть. А может, оно и к лучшему. По крайней мере, я смогла сейчас же, «по горячим следам», записать весь разговор.
Уже седьмой час утра. Сквозь щели в шторах в спальню пробивается свет. Вот измерю еще температуру и засну. А завтра уже как-то соберусь с мыслями и подумаю, какие выводы надо будет из всего этого сделать. Пока же знаю только две вещи: что Яцек заслуживает осуждения меньше, чем я думала, и, что он меньше достоин моей любви, чем мне казалось. Как он мог так любить ту выдру!
Суббота
Вчера у меня была такая высокая температура, что даже писать не хотелось. Дважды приходил врач. Яцек был настолько тактичен, что не навязывал мне своего общества. Хотя врач объясняет температуру нормальным течением болезни и утверждает, будто она не имеет ничего общего с нервами, но я уверена, что это результат ночного разговора с Яцеком. Так я ему, впрочем, и сказала.
Мама сидела возле меня целый час и была крайне напугана. Об этом свидетельствует хотя бы то, что она ошибочно подала мне вместо микстуры ложку перекиси водорода. К счастью, я это заметила и не выпила. Все же дядя Альбин, наверное, отчасти прав в своей оценке маминых умственных способностей. Вечером я, видно, бредила. Это еще хорошо, что в то время в комнате не было никого, кроме мамы. Из ее рассказа я узнала, что говорила о Роберте, о стрельбе и битых курах. Называла якобы еще много всяких имен. Но напрасно я расспрашивала маму: она ничего не могла связно передать. Тем лучше. Порой и не очень острый ум может пригодиться.
Сегодня я чувствую себя вялой, но спокойной. На свои переживания последних недель смотрю словно издалека, как на вещи, не касающиеся непосредственно меня.
Сейчас прекращаю писать. Приехал Доленга-Мостович и через час должен быть у меня. Как это хорошо! Наконец нашелся кто-то, кому я могу доверять, и кто может дать мне совет. Я заранее решила, что сделаю так, как он скажет. Надо сказать, чтобы сменили постель, и переодеться самой. Слава богу, случайно осталось еще полфлакона «L'Аimаnt» («Любовник» (франц.)). Ему так нравились эти духи. (Кстати, они уже вышли из моды).
Представляю себе, как его удивят мои страшные испытания. Я имею все основания думать, что он никогда не считал меня глупой гусыней, однако ему невдомек, что со мной могут произойти такие из ряда вон выходящие события.
Суббота, вечер
Итак, он был у меня. Едва вступив в прихожую, он встретился с Яцеком, который выходил из дома. Я слышала, как они обменялись несколькими общими фразами. Мне кажется, Тадеуш не любит Яцека, хотя он никогда мне об этом не говорил и даже не намекал. С самого начала, как только они познакомились, отношения между ними не выходили за пределы обычной светской любезности.
Здесь автор дневника ошибается. У меня нет, и никогда не было ни малейшей причины чувствовать неприязнь к п. Реновицкому. Всегда считал его человеком, достойным всяческого уважения, одаренного большими способностями и незаурядным вкусом, о чем может свидетельствовать хотя бы тот факт, какую он выбрал себе жену. Если за несколько лет нашего знакомства мы и не сошлись с ним поближе, то это объясняется двумя обстоятельствами: во-первых, сферы наших интересов были весьма далеки, а во-вторых — собственно, сам п. Реновицкий давал мне почувствовать определенную холодность и сдержанность по отношению ко мне. Да, впрочем, я его за это не осуждаю, принимая во внимание хотя и несправедливые, однако для него, может быть, и небезосновательные мотивы этой неприязни. (Примечание Т. Д.-М.)
Яцек проводил его в мою комнату. Не знаю, догадывался ли он, что перед ним человек, чье мнение будет иметь решающее влияние на мое дальнейшее поведение. Во всяком случае, он смог сделать не лишенное глубокого смысла замечание, сказав с непринужденной усмешкой:
— Вот еще один врач: специалист по делам души. Доктор! Отдаю под вашу опеку мою пациентку.
Мостович, видимо, усмотрел в его словах какую-то тень недоброжелательности, потому что сказал:
— Было бы точнее, если бы вы назвали меня знахарем.
В свою очередь Яцек сказал ему несколько банальных комплиментов по поводу романа «Знахарь», а я добавила, что знахарям верю больше, чем дипломированным врачам.
После этого Яцек попрощался и ушел.
— Из вашего письма, пани Ганечка, — присаживаясь, заговорил Мостович, — я понял, что здесь нужен не один знахарь, а целый консилиум. Неужели у вас действительно такие уж большие неприятности?
— Это очень серьезное дело. Но мне не нужны ни врачи, ни знахари. Помочь мне могут лишь двое: друг и умный человек. А так как в вашем лице, пан Тадеуш, эти двое объединяются, то я и решила обратиться к вам.
Он засмеялся.
— На всякий случай, вы бы нашли еще какого умника. Надеюсь, что ваша болезнь не имеет связи с происшествиями, на которые вы мне намекали?
— И да, и нет. У меня обычный грипп. Но простудилась я как раз из-за них. Представьте себе: лишилась чувств при раскрытом окне и целый час мерзла, пока меня нашли. Да, впрочем, этот случай не имел никакой связи с тем чудовищным бедствием, которое нависло надо мной с начала этого года, а точнее, с Рождества.
И тут я обстоятельно, не пропуская ни одной подробности, рассказала ему все с самого начала. По выражению его лица я видела, какое большое впечатление произвело все это на него. Он слушал сосредоточенно, и я неоднократно замечала в его взгляде удивление.
Мне чрезвычайно важно опровергнуть одну неточность в словах п. Ганки Реновицкой. Как видно, ей изменяет память, когда она утверждает, что рассказала мне об этом деле с мельчайшими подробностями. На самом же деле, то ли в спешке, то ли из-за болезни, она очень много их упустила, что в значительной мере привело к несколько иному освещению ее драмы по сравнению с тем, что я узнал только через год из этого дневника. Если бы я еще тогда знал все обстоятельства так, как знаю их теперь, то наверняка мой взгляд на все это дело, а также соответствующие советы и наставления имели бы совсем иной характер. Этим примечанием я хочу реабилитировать себя. Однако я не имею ни малейшего намерения свалить вину за те осложнения, которые возникли позже, на мою очаровательную рассказчицу. (Примечание Т. Д.-М.)
Когда я изложила все, пан Тадеуш задал мне несколько вопросов в связи с делом Роберта, немного пожурил меня за легкомыслие и, переходя к Элизабет Норман, сказал:
— Здраво рассуждая, у вас нет другого выхода: пан Реновицкий должен развестись с той дамой, а потом где-то потихоньку вступить с вами в новый брак. Тогда с точки зрения закона дело будет улажено.
— Новый? — испугалась я. — Зачем?
— Видите ли, дорогая пани Ганечка, с точки зрения церкви ваш брак действителен и останется действительным и в дальнейшем. А вот по закону он не имеет ни малейшей силы, потому что ваш муж, будучи уже женат, не мог вступить в этот брак. Поэтому он должен получить развод, а потом вы должны вступить в гражданский брак. Тогда все будет хорошо.
— Это же страшно подумать, сколько хлопот, — сказала я. — Но самое главное то, что та ужасная женщина не дает ему развод. Вот вы скажите: как ее к этому принудить?
Он развел руками.
— Ну, я же не адвокат.
— Но вы писатель. Представьте себе, что вы должны разрешить такую ситуацию в романе. Что бы вы предприняли?
Мостовича это видимо позабавило, потому что он долго смеялся. Потом задумался и сказал:
— Сюжетный выход из такой ситуации был бы, может, и легче, чем в жизни, но он тоже требует довольно рискованных мероприятий и определенного мотивирования.
Я вся обратилась в слух…
— Итак, мы имеем в этой драме три действующих лица: вас, ее и вашего мужа. Обе женщины хотели бы удержать его при себе. Он, несомненно, хочет остаться с вами, но та другая, имеет в руках оружие, с помощью которого может вынудить его к капитуляции, или погубить. Как в этих обстоятельствах должна поступить первая женщина, то есть вы?.. Ей надо постараться лишить соперницу ее оружия.
— А именно?..
— А именно: завладеть документом, подтверждающим, что упомянутый мужчина был уже перед тем женат. Однако, только это не устраняет проблемы. Потеряв документ, та другая, если она помнит название и адрес учреждения, которое его выдало, сможет получить копию. Итак, польза от этого мероприятия ограничится лишь определенным выигрышем во времени, потому что мы должны исходить из того, что эта особа не столь наивна, чтобы не просмотреть хоть несколько раз брачное свидетельство. А на нехватку памяти с ее стороны автор рассчитывать не может. Но есть тут еще одна польза: имея в руках свидетельство, мужчина может немедленно начать бракоразводный процесс. В романе это можно было бы устроить с молниеносной быстротой. Он просто звонит своему нью-йоркскому адвокату и дает ему соответствующее поручение. Ну, а на практике ему, наверное, пришлось бы самому поехать в Америку. Но не будем отступать от романа. Итак, собранных первой женщиной, то есть вами, сведений о бурной жизни второй, вместе с тем фактом, что она сама бросила мужа, будет вполне достаточно для развода без всякого возмещения. Более того. В суде непременно будет освещена бурная жизнь той дамы, в которой наверняка более чем достаточно таких деталей, разглашение которых ей вовсе не нужно. Вы меня понимаете?..
— Говорите, говорите… Боже, какое счастье, что я обратилась к вам, дорогой пан Тадеуш!
— Направив действие таким образом, какую бы я получил ситуацию в романе? Существенно изменившуюся. Правда, вторая женщина и в дальнейшем имеет в руках свое грозное оружие, но должна хорошо подумать, прежде чем к нему прибегнуть, потому что теперь и ее противники небезоружные.
— То есть я и Яцек? — спросила я.
— Да. Если первой женщине и мужчине нужно скрыть факт совершенного им двоеженства, то той, второй, не менее нужно скрыть свои скандальные похождения. При таких обстоятельствах уже куда легче прийти к не очень почетному для обеих сторон, но все же желанному компромиссу. Уже вижу, как моя героиня (та вторая) с ненавистью в глазах соглашается на то, чтобы скрыть двоеженство, поскольку она, несомненно, женщина из высшего общества, которая должна ценить свою хорошую репутацию. Мужчина бросается в объятия первой, и наступает happy end.
— Э, не так просто! — воскликнула я. — Много, воды утечет, пока я прощу Яцека.
— И плохо сделаете, дорогая пани Ганечка. Вы испортите мне всю эффектную концовку.
— Если бы такая концовка вообще была возможна.
— Ба!.. В романе еще надо было бы накопить немало трудностей, чтобы подразнить воображение читателя и держать его в напряжении. А в жизни, скажу вам по секрету, проблемы решаются намного проще.
— Во всем этом одно кажется мне невыполнимым: как добыть у нее тот документ?
Я с беспокойством присматривалась к пану Тадеушу. Однако надежды не теряла. Ведь он в своих произведениях не раз решал такие ситуации, как у меня. Не раз один его герой добывал у другого какие-то важные бумаги. Наверное, он и здесь найдет какой-нибудь приемлемый способ.
Я не ошиблась, потому что он тут же заговорил:
— Обычно авторы пользуются одним из трех способов: либо наемный бандит запугивает владельца документа и забирает то, что нужно автору; либо автор спаивает владельца до потери сознания, тем самым облегчая задачу своему другому герою, и тот просто похищает документ. И, наконец, третий способ, употребляемый авторами, которые не любят легких путей, — это сложное и коварное выманивание.
— Ага! — воскликнула я. — Это так, как эти ужасные шпионы забрали у меня желтый конверт.
— Именно. Это свидетельствует об их творческой изобретательности. Правда, я, если бы имел в своем романе подобную ситуацию, никогда не прибег бы к этому способу. По-моему, это пахнет иллюзионизмом. Простые вещи лучше убеждают читателя и кажутся ему более вероятным.
— Так как же поступить мне? Предупреждаю: та женщина вообще не употребляет алкоголя.
Мостович покачал головой:
— Это не важно. Обойдемся без алкоголя. Не будем привлекать благородную жидкость к этим темным делам. Вы говорили, что та панна — или, кажется, пани — Норман теперь в Кринице?
— Да. И наверняка живет в «Патрии».
— Отлично. Так что, наверное, она не сидит там целыми днями в своем номере, а катается на лыжах, санках и всякое такое. Нормальная женщина, отправляясь на лыжную прогулку, не берет с собой ни документов, ни даже денег. Итак, в романе я описал бы это следующим образом: во время ее отсутствия вы под каким-либо предлогом заходите в ее номер и обыскиваете ее вещи. В девяноста девяти романах из ста такой обыск дает замечательные результаты.
— Э! А как же пробраться в ее номер?
— Ну, это уж положимся на изобретательность исполнительницы. Беллетристика имеет в этой области к своим услугам бесчисленный набор способов, начиная от отмычек и поддельных ключей и заканчивая подкупом прислуги. Все зависит от местных условий и от того, кто должен осуществить эту операцию.
— А есть люди, которых можно нанять для этого? — спросила я.
Мостович громко рассмеялся.
— Ну конечно! Хоть они и не объединены в один цех или профсоюз. Однако, если бы я замыслил такую ситуацию для романа, то поручил бы это дело своей первой героине.
— Мне?
— Конечно. Надо избегать излишней сложности в сюжете. Зачем вводить слишком много действующих лиц? Я всегда был сторонником строгой экономии средств.
— Да что вы! Я же не сумею!
— Больше веры в свои силы, дорогая пани Ганка!
— Да я бы умерла от страха от самой мысли, что меня может кто-то там застать. Еще, чего доброго, подумают, что я воровка!
— Не стоит бояться. В худшем случае вас заподозрят в клептомании. Достаточно принадлежать к высшему свету и иметь хорошие доходы — и можно воровать сколько душе угодно. Каждый скажет: «Вот бедняга! Болеет клептоманией…» Это страшный недуг. И только бедные люди никогда им не болеют.
— Дорогой пан Тадеуш! Так скажите же, как мне это сделать.
— Гм, — задумался он, — вы можете изобразить очаровательную невнимательность. И может произойти небольшая ошибка, и вы возьмете у портье вместо своего ключ от ее номера.
— А если портье это заметит?
— Сомневаюсь. В крупных отелях всегда много суеты. К тому же они доверяют своим постояльцам. И, наконец, если вы сделаете это в первые же дни по приезде, они еще не запомнят вашей внешности.
— Ну, допустим, что это мне удастся.
— Героиня, сжимая в дрожащей руке полученный ключ, осматривается в коридоре и, выбрав момент, когда ее никто не видит, быстро открывает дверь в комнату страшной вампирки. Там она производит обыск, находит бесценный документ, а затем заметает за собой следы, запирает дверь и относит ключ вниз с просьбой заменить на ее собственный. Не медля ни минуты, она быстренько пакует свои пожитки, платит по счету и уезжает ближайшим поездом.
Я покачала головой.
— На словах все это выглядит очень легко. Но как, например, вы представляете себе такой обыск? Ведь она, наверное, имеет много вещей, чемоданов, картонок. Чтобы сделать тщательный обыск, понадобилось бы не несколько минут, а несколько часов.
— Не надо обыскивать все. Нужно искать только там, где можно найти документ.
— Но где?
— Этого я не знаю. Но думаю, что когда героиня номер один окажется в номере героини номер два, инстинкт подскажет ей, где искать.
— Как это инстинкт?
— Говоря просто, вы, дорогая пани Ганка, поставьте себе вопрос: «А где бы я на ее месте спрятала эту бумагу?..»
— Неужели вы думаете, — сказала я, немного обижено, — что я так похожа на других женщин, и не придумала бы ничего оригинального?
— Нет, наоборот. Я уверен, что вы нашли бы чрезвычайно оригинальный тайник, но нужно учесть, что героиня номер два, стремясь, скрыть столь важный для нее документ, наверное, максимально напрягла бы свой разум и изобретательность.
— Хорошо. А если его не будет в комоде?
— Так поищите с ванной.
— Ах, правда! Может быть еще в ванной.
— Ну, вот видите. В конце концов, вам придет в голову еще несколько мест, которые так же хорошо могут быть пригодны для этого.
— А что значит замести следы?
— Ну, закончив поиски, надо привести все в комнате в такое состояние, в котором оно было до того. Не рекомендуется оставлять на месте преступления свои перчатки, сумочку, туфли, шляпку или еще какие-либо предметы туалета, то, что авторы криминальных романов называют визитными карточками преступников.
— Боюсь, страшно боюсь, удастся ли мне все это. Но я безмерно, ну просто несказанно вам благодарна за эти советы. Как хорошо иметь такого друга…
Здесь я должен вычеркнуть из дневника дамы Реновицкой еще несколько строк. Они не имеют существенного значения ни для описания событий, ни для характеристики автора. Там были лишь пространные выражения благодарности мне со многими незаслуженными комплиментами в мой адрес, которые мне просто неудобно отдавать в печать… Что касается воссоздания нашего тогдашнего разговора, то должен признать, что п. Реновицкая проявила здесь исключительную память и почти полную точность. Однако, поскольку magis amicа veritas (истина превыше всего (лат.)), то надо отметить, что п. Ганка выпустила здесь несколько горьких упреков, которые услышала из моих уст по поводу ее легкомысленного знакомства с таким человеком, как Тоннор. Я не сторонник заскорузлых условностей, но по собственному опыту знаю, что случайные знакомства лучше немедленно прекращать. Это, собственно, я и сказал п. Ганке. (Примечание Т. Д.-М.)
Итак, решено. Я непременно еду в Криницу. Еду сразу, как только позволит врач. Тадеуш правильно мне советует, не брать с собой дядю Альбина. Это только усложнило бы мое положение. Как хорошо быть писателем! Выстраивает свою собственную жизнь, как сюжет романа, и с ним не могут случиться никакие неприятности. А если и произойдет какая-то неожиданность, он всегда с ней справится и найдет счастливый выход.
Я пыталась объяснить это бедняге Тото. Он пришел сразу же после Мостовича, и теперь я окончательно поняла, что он не заслуживает того, чтобы я хоть немного им интересовалась.
Я сказала ему, что, как только поправлюсь, сейчас же еду в Криницу, а он даже не удивился, даже не спросил, что случилось. Какой же он толстокожий! Воспринял это как нечто совершенно обычное.
К сожалению, я здесь опять должен вычеркнуть из дневника немалый абзац. На этот раз — учитывая определенное, весьма значительное, число читателей. Дело в том, что пани Ганка Реновицкая высказала в нем много неодобрительных мыслей относительно помещиков и аристократии.
Я знаю по опыту, который бы это произвело эффект. Имею в виду кастовую щепетильность. Да и, наконец, не только кастовую, но и профессиональную.
Каждый раз, когда я вводил в свой роман какой-то отрицательный персонаж, всегда находилась группа возмущенных людей. Из разных концов страны поступали письма, полные недовольства, злой иронии и едких заверений, что я могу так неправильно судить о данной среде только потому, что не знаю ее. Таким образом, в течение нескольких лет я узнал, что не знаю помещиков, крестьян, зубных врачей, рабочих, адвокатов, промышленников, парикмахеров, шоферов, инженеров, волостных писарей, железнодорожников, литераторов, владельцев паровых катков, мясников, акушерок, журналистов, радиолюбителей, евреев, банковских служащих, слесарей-водопроводчиков, актеров, трубочистов, женщин, мужчин и детей. Если никто до сих пор еще не поставил под сомнение моих знаний о мире младенцев, то это только потому, что младенцы не умеют писать писем.
Один знакомый редактор рассказывал мне, что когда-то к нему явилась делегация союза акушерок с решительным протестом против того, что я ввел в один из своих романов образ акушерки, которая занималась непозволительными делами. Вот тогда только я понял, что в Польше «черным» персонажем может быть только неграмотный или младенец.
Мне трудно избавиться от убеждения, что эта чрезмерная щепетильность, профессиональная или кастовая, является проявлением обычного комплекса неполноценности, и мне становится страшно, когда подумаю, каким повсеместным явлением стал в Польше этот комплекс. Дошло уже до такого идиотизма, что заменили названия некоторых профессий. Из многих тысяч ночных сторожей за два-три года не сохранилось ни одного. Остались одни охранники, хотя я никак не могу понять, чем охранник выше сторожа. Единственным сторожем на сегодня остался ангел на ратуше. Надолго ли?..
Кроме того, чтобы утолить комплекс неполноценности у домашней прислуги, достигнуто молчаливое согласие не употреблять термин «служанка» и заменить его названием «домработница». Так же изъят из обращения и «лакей». Лакеи стремятся быть камердинерами. Какая суета кретинизма! Но самым печальным в этом печальном явлении является то, что оно реально и с ним надо считаться. Потому я и хотел уберечь п. Ганку Реновицкую от последствий ее высказываний о помещиках и аристократии. Мне не хотелось бы, чтобы она получила в прессе и в письмах столько жалоб и протестов, острых шипов и осуждающих слов, сколько получил их я после издания своих «Высоких порогов». (Примечание Т. Д.-М.)
Понедельник
Сегодня я проснулась в прекрасном настроении. Жара как и не бывало. Я немного похудела, но это мне даже идет. Голубые тени под глазами делают мое лицо еще более нежным. Пишу это не с тем, чтобы похвастаться, но такого нежного цвета лица я еще ни у кого не видела. Даже Норблин когда-то сказал мне об этом. Кто-кто, а он в таких вещах разбирается. Придется позировать ему во второй раз, потому что Тото непременно хочет иметь мой портрет. Я уже знаю, как оденусь. Белая туника ампир, а на голове гладкий золотой обручик. Туника, конечно, с разрезом от бедра. Так, чтобы видно было всю ногу. Это будет прекрасно.
Сегодня я уже встала с постели, а завтра смогу выйти из дома. В четверг еду в Криницу. Я специально до сих пор не сказала об этом Яцеку. Не хотела, чтобы он меня отговаривал или еще (кто его знает!) уведомил ее о моем приезде. Этим он поломал бы все мои так тщательно продуманные планы.
Я подумала было, не поговорить ли о них с дядей Альбином. Однако решила, что лучше не надо. Беспокоит меня только, что он так давно не звонил.
Очень интересно сложились мои отношения с Яцеком. Ведем мы себя как бы вполне нормально. Говорим о ежедневных делах, видимся за столом, но той истории не касаемся ни словом. Как будто заключили между собой об этом неписаное соглашение.
Насколько я знаю Яцека, он должен чувствовать себя подавленным. Он понятия не имеет, что я о нем думаю и как собираюсь поступить. Я для него всегда буду тайной. И это вполне осознанно. Мужчина интересуется женщиной лишь до тех пор, пока не знает ее и не уверен, чего может от нее ожидать. Правда, и мы, женщины, могли бы сказать о себе то же самое. Да и, наконец, ничего удивительного. Ведь нет ничего скучнее, чем мужчина, о котором все знаешь. Когда я смотрю на Тото, у меня даже челюсти сводит от скуки. Я всегда точно знаю наперед, что он скажет или сделает. С этой точки зрения весьма интересны всевозможные мастера искусств. Поэты, актеры, музыканты, художники, писатели. Но у них это доходит до излишеств.
Думая о Яцеке, я не могу отрицать, что хоть какую боль и грусть принесло мне открытие того скандального дела, однако он сам — чего скрывать — вырос в моих глазах. Конечно, не с точки зрения этики, а чем-то более существенным, чего я не могу определить словами.
Что касается этики, то, по-моему, люди вообще придают ей слишком большое значение. Само собой разумеется, что воры, мошенники и другие преступники заслуживают осуждения. Но это не меняет факта, что часто среди осужденных попадаются лица весьма интересные или даже просто-таки чудесные. Возьмем хотя бы того же Роберта, того же Яцека или дядю Альбина. Или даже того шпиона, что выдавал себя за адъютанта полковника Корчинского. Если бы Тото, который является образцом всех добродетелей, имел хотя бы долю их обаяния! Тогда он мог бы быть по-настоящему интересным приятелем.
Это хорошо, что я еду. Так давно уже не высовывала нос из Варшавы! Надоели одни и те же лица. Надо передохнуть. Мушка, которая щеголяет своими якобы расстроенными нервами, сказала, что в городе ей душа увядает. Комедиантка… Моя душа не увядает. Просто мне скучно слишком долго сидеть на одном месте.
Надо заканчивать. Сегодня к нам приглашены на обед двадцать две персоны, и я должна управляться со злосчастным хозяйством. Сказала утром Яцеку, чтобы написал письмо тете Магдалене. Пусть уж приезжает.
Вторник
Прекрасная погода! Ездила на прогулку с Тото. Возле Бельведера мы вылезли из машины и пошли пешком на Кредитовую, где он хотел показать мне у ювелира какие-то комиссионные сережки. Они мне совсем не понравились. Если не ошибаюсь, принадлежат они Жушке Ольшановской. Неужели у них такое тяжелое положение, что приходится продавать драгоценности?
Обед вчера не удался. Я была ужасно злая. Хорошо хоть решила вызвать тетю Магдалену.
Сегодня у меня голова идет кругом. Естественно, оказалось, что мне не в чем ехать. Даже лыжи рассохлись, потому что их положили на антресоли рядом с каким-то дымоходом или чем-то в этом роде. Пришлось спешно пополнять свой гардероб. Не могу же я показаться в Кринице в своих прошлогодних нарядах из Давоса! Из-за трудностей с валютой многие проводит эту зиму в самой Польше.
Мне повезло. Направляясь к дяде Альбину, я встретила его на Медовой. Он сказал мне, что смотрит на все это дело оптимистично. По его мнению, та женщина не имеет дурных намерений, иначе бы она не медлила, а постаралась бы как можно скорее прижать Яцека.
Мы сидели в «Лурсе», и дядя раздражал меня тем, что посматривал на какую-то экзотическую брюнетку, которая, однако, вовсе не была красавицей. Собственно говоря, хороши у нее были только глаза. Эти мужчины ужасно неприхотливы. Даже такие опытные, как дядя Альбин. Если бы я подала ему хоть маленькую надежду, он, наверное, с ума сошел бы от счастья. Странно, что я иногда об этом думаю. Вся вина за это ложится на Тото. Как хорошо, что я теперь так долго его не увижу!
Среда
Завтра уезжаю. Сегодня за обедом сказала об этом Яцеку, добавив, что так посоветовали врачи. Ожидала от него каких-либо возражений или препятствий, но он повел себя вполне нормально. Всегда ценю в нем самообладание. При слове «Криница» он и глазом не моргнул. Да и, наконец, это не могло его удивить, так как в Криницу сейчас едут все. Встречу там много знакомых.
От Тото узнала, что там также и Ромек Жеранский. Это очень хорошо. Может, в курортной обстановке избавится хоть немного от своих чудачеств. Может, поумнеет. Я полчаса искала в библиотеке «Сезонную любовь» Запольской. Дам ему прочитать. Насколько я помню, этот роман может помочь ему понять, что мужчина должен смотреть на любовь как на сезонное явление. Перескажу ему и то, что когда-то говорил мне Мостович. Он утверждал, что знает три вечные вещи: вечное перо, вечная любовь и вечный перманент. По его мнению, самой стойкой из этих трех вещей является вечное перо.
Не могу понять, почему эти двое так дружат между собой. Ромек бывает на всех четверговых приемах у Мостовича, и кажется, что они видятся и кроме того. Кстати, насчет тех четвергов. Я не могу отказать Тадеушу. Завтра обещала быть. Если говорить искренне, это меня совсем не радует, хотя и встречу там много знакомых. Единственное, что склоняет меня пойти на этот четверг, — это то, что таким образом я дам понять Яцеку, что мне нет дела до его предубеждений.
Впрочем, я еще не знаю, пойду ли. Во всяком случае, Тадеуш всегда проявляет ко мне много доброжелательности и неизменного дружелюбия.
Четверг
Сижу в вагоне. Тот, кто никогда не пробовал писать в поезде, не знает, как это тяжело. Буквы выходят неразборчивые, а некоторые и вовсе уродливые. Интересно, сумею ли я сама разобрать эту запись, если все-таки решусь упорядочить эти свои заметки и издать их в форме дневника. Вот была бы штука — издать свой дневник!
Слежу за лицами пассажиров. Они смотрят на меня как на обычную красивую женщину. А может ли кто из них догадаться, сколько умных мыслей скрыто в моей голове?! Я тоже смотрю на них как на обычных, рядовых людей. Тот лысоватый брюнет, видимо, какой-то торговец или фабрикант. Тот толстый похож на банкира. Пожилая дама с крашеными перекисью волосами, как видно, жена железнодорожного чиновника. Она не производит впечатления пассажирки, позволяющей себе ехать первым классом. Наверное, имеет бесплатный билет. У молодого человека спортивного вида все лицо усеяно прыщами. Какая гадость! Наверное, работает где-то в редакции и тоже имеет бесплатный проезд.
Так подумала о них я. А откуда мне знать, кто они на самом деле. Я посмотрела на толстяка. Может, он едет, чтобы застрелить свою неверную жену и уже через два дня будет сидеть в тюрьме? Та женщина может быть урожденной княжной, а неприятный юнец — каким-то знаменитым иностранцем. Ведь приняла я когда-то за коммивояжера, самого принца Виндзорского. Никогда не знаешь ничего наверняка. Каждый человек таит в себе какую-то тайну, имеет свою жизнь. Собственно говоря, люди никогда не могли и не могут оценивать других справедливо. Этот лысоватый брюнет, который кажется мне человеком ничем не примечательным, возможно, скрывает в своей душе целый ад или целый рай. Только несчастья, которые сваливаются на людей, открывают перед другими их душевное богатство или нищету.
Я действительно должна переработать эти заметки в дневник. Все больше убеждаюсь, что многие ценные мысли, которые у меня возникают, вполне заслуживают опубликования. Сколько женщин, и даже мужчин, смогут ими воспользоваться! Самой большой трудностью, которая появится у меня при составлении такого дневника, несомненно, будут фамилии. Конечно, я не смогу назвать свою, принимая во внимание родителей и Яцека. А придумать какую-нибудь фамилию ужасно трудно. Впрочем, как говорит Гомбрович, самая невероятная фамилия, придуманная автором, всегда может найти своего законного владельца. А это, мол, подвергает автора немалым неприятностям.
Автор дневника, а точнее Витольд Гомбрович, абсолютно прав. Я сам записал много подобных случаев. Законный владелец любой фамилии вообще-то не имеет ничего против, если его фамилию носит тот или иной герой. Он читает роман с блаженным удовольствием. И только когда тот герой совершает какую-то мерзость, законный владелец начинает голосить.
Со мной был, например, такой случай: в одном из романов я наделил фамилией Икс (не хочу называть ее здесь, чтобы не вызвать новых осложнений) двух панн, каких — поскольку это было мне на руку — причислил к аристократии. Фамилия, вроде была красивая и хорошо звучала по-польски. Роман этот, как и все мои произведения, прежде чем выйти отдельной книгой, печатался частями в одном из варшавских журналов. Так что пока о тех паннах рассказывалось только то, что они красивы, прекрасно воспитаны и вращаются в высших сферах общества, никто не протестовал. Но вот с одной из них произошла досадная неприятность. При довольно забавных обстоятельствах она лишилась того, что наша традиция, вопреки всем реальным фактам, считает непременной принадлежностью девичества. И каковы же были последствия?.. Мне не пришлось их долго ожидать. Через два дня я получил от некоего адвоката Фенстергласса грозный протест. Оказывается, его клиент имел ту же фамилию. От имени своего клиента адвокат угрожал мне какими-то параграфами, если я в течение и т. д. не заменю фамилии Икс на какую-то другую, потому что, мол, родовую честь Иксов обижает тот факт, что одна из Иксовен поступает таким образом.
Итак, пани Ганка Реновицкая права, говоря, что подбор фамилий героям представляет большие трудности для автора. Причем речь идет не только о «черных» характерах, но и о «белых». Дайте, скажем, одному из благородных красавцев такую, казалось бы, неправдоподобную фамилию, как Циниан. И что же?.. Не проходит и месяца, как вся пресса начинает криком кричать о никому до тех пор не известном Циниане, продавшем какой-то деревенщине за несколько сот злотых Знгмундову колонну, трамвай и главный вокзал. Фамилия мошенника Циниана становится синонимом преступного коварства. И как же тогда выглядит мой благородный герой, обремененный таким именем?
То же касается и географических названий. Однажды я получил от бургомистра одного из небольших городков самые официальные опровержения. Мол, в его Пикуткове никогда не проживал ни один пан Александр Поварицкий, и потому не мог бегать голый улицами того городка и поджечь конюшню пожарной охраны. В связи с этим должен признаться, что мы с п. Ганкой долго ломали себе голову, пока придумали для нее фамилию Реновицкая и ряд других фамилий для ее дневника. Что касается п. Тото, то мы решили вообще не давать ему фамилии. Однако, чтобы избежать любых недоразумений, я хочу решительно подчеркнуть, что Тото из «Дневника пани Ганки» не имеет ничего общего с князем Тото Радзивиллом, хотя, может, он и не менее известен в Варшаве и некоторых других районах Польши. (Примечание Т. Д.-М.)
Я решила на один день задержаться в Кракове. Там как раз находится тетя Баворовская, и я должна ее навестить. Ведь я не видела ее с детства.
Забавно, что я должна называть ее тетей — ведь она на два года младше меня. К счастью, я никому не прихожусь тетей. Ведь это так старит женщину! Однако избежать этого мне не удастся. Данка уже сейчас заявляет, что заведет не менее шестерых детей. Какой ужас! В конечном счете, от Станислава можно этого ожидать. Представляю себе его почтенным отцом семейства, который, словно патриарх, гладит по головкам своих шестерых чад. Я уверена, что даже во время любовных игр они оба будут думать больше о необходимости натурального прироста населения в нашей стране, чем о чем-либо другом. Жизнь, собственно говоря, неправдоподобно смехотворна.
На «четверг» я все же не пошла. Мне конечно хотелось, но учитывая задержку в Кракове и тетю Баворовскую я имела солидное оправдание для себя и для Тадеуша. Выехала послеобеденным поездом и завтра вечером буду уже в Кринице.
Я цепенею от мысли о том, что мне надо там сделать. Как вспомню, что мне придется столкнуться лицом к лицу с той опасной женщиной — вмиг теряю всякую уверенность. Удастся ли мне перехитрить ее? Удастся ли получить это проклятое брачное свидетельство?
Хоть я и не набожная, однако в Кракове все же пожертвую толику на какой-нибудь костел, чтобы мне повезло. Всегда нужно обезопасить себя на всякий случай.
Я не раз задумывалась над вопросами веры. Собственно говоря, я ничего не имела бы против того, чтобы быть доброй католичкой. Но на это мне просто не хватает времени. Молитвы и посещение костела, исповеди и тому подобное, если это делать основательно (а я не люблю небрежности ни в чем), отнимали бы у меня каждый день по несколько часов. Надеюсь, что Господь Бог в своем бесконечном милосердии простит мне.
Суббота
Вот я и в Кринице. «Патрия» переполнена. Хорошо, что Тото заказал мне номер. К сожалению, все большие номера уже заняты. Много знакомых. Все уверяют, что проводят время замечательно.
Первой особой, с которой я столкнулась в вестибюле «Патрии», была… мисс Элизабет Норман. Она как раз спускалась в ресторан ужинать. Уже успела загореть. Не без огорчения, должна признать, что вид она имеет привлекательный. Однако теперь я удостоверилась, что ее рыжие волосы крашеные. К рыжим женщинам загар так хорошо не пристает; зачастую они покрываются веснушками, чего я желала бы ей от всей души. Или она не помнит меня по Варшаве (мы виделись в «Бристоле» едва ли несколько раз), либо прекрасно умеет притворяться, ее зеленые глаза скользнули по мне с полным безразличием. Я уже успела узнать, что она живет на втором этаже и, по всей видимости, занимает большой номер. Это немного испортило мне настроение. Директор обещал, что как только освободится номер на третьем этаже, где пока живет какой-то богатый немец из Верхней Силезии, он переселит меня туда.
Я немного утомлена путешествием и краковскими визитами. Человек даже не знает, как много у него дальних родственников.
Все же Тото мастер на широкие жесты. Я бы сказала даже, что это произвело хорошее впечатление в отеле: в моем номере меня ждал большой букет роз. Видимо, он заказал его телеграфом.
Поужинала я у себя в номере. Теперь записываю эти несколько слов, чтобы скорее принять ванну и лечь в постель. Снизу доносятся звуки оркестра. Интересно, завязала ли и Бетти уже тут какие-то знакомства. Представляю себе, какие она имеет наряды! Но пусть знает, что и у меня есть что показать!
Суббота
Встретила Ромека. Приятно все же, когда кто-то при каждой встрече с тобой краснеет, как гимназистка. Это укрепляет веру в собственные достоинства. Я задержала сани и позвала его. Он стоял перед каким-то магазином и, обернувшись, споткнулся о сугроб на краю тротуара. Когда увидел меня, страшно смутился, что при его видной внешности просто очаровательно. Одет он был, как всегда, безупречно. Это его огромное преимущество. Терпеть не могу плохо одетых мужчин. Вот, например, Лешек Понимирский никогда не заботится о своей одежде. Подозреваю даже, что он очень редко моется.
Ромек поцеловал мне ручку и сказал:
— Ой, я даже не подозревал, что ты в Кринице, Если бы… Он не закончил, но я спросила:
— А если бы ты знал об этом?..
Я подвинулась, освободив ему место рядом с собой. Когда лошади тронулись, он многозначительно произнес:
— Если бы я знал об этом, то не проклинал бы так своего врача за то, что он меня сюда сослал. А ты… ты здесь одна?..
— Да, Яцек сидит в Варшаве. А ты?..
— Я?.. — удивился он. — А с кем я мог бы здесь быть?
Я засмеялась.
— Ну, дорогой Ромек! Не станешь же ты меня уверять, что вечно живешь отшельником.
Он отвернулся. Все эти вопросы его ужасно смущают. Порой мне даже смешно при мысли, что этот молодой человек вообще еще не знает, что такое женщина. Правда, это может быть очень интересно. Представляю себе, как бы он повел себя при таких обстоятельствах. Все женщины оглядываются на наши сани. Я не удивляюсь. Ромек может понравиться любой. Вот потеха. Наверное, не одна его преследует. А этот бедняга защищается, как лев.
— Я не избегаю людей, — сказал Ромек наконец.
— Только противоположного пола?..
Он пристально посмотрел на меня и произнес тоном сурового приговора:
— Ты очень изменилась.
— Стала хуже?
Ромек отвернулся и чуть не с гневом сказал:
— Да.
Все это начинало меня развлекать.
— Что, плохо выгляжу?
— Я не об этом.
— Пополнела?
— Ой, нет. Ты притворяешься, что не понимаешь меня. Изменилась своим поведением… Иначе смотришь на жизнь, чем раньше, чем тогда, когда…
— Что — «когда»?
— Когда я так рассчитывал на тебя…
Это просто несчастье, какой он патетический, этот юноша! Если бы меня не прельщало его безмятежное целомудрие, я уже начала бы скучать. Интересно, как повел бы себя такой человек, если бы попал в ловкие руки той же, например, Бетти Норман. Это была бы неслыханная комедия. Она, конечно, подстраивалась бы к нему. А я слишком большая сибаритка, чтобы доставлять себе столько хлопот. Если его шокирует мое поведение, пусть терпит. Или утратит привязанность ко мне, или сумеет приспособиться к моему facon d'ёtre (Образ жизни (франц.)). В конце концов, не так уж он мне и нужен, и я могу позволить себе такой риск.
Я сказала ему:
— Мой дорогой Ромек. Я уже не та глупенькая девочка. А ты, кажется, всегда собираешься витать над облаками, собирать цветочки и играть на свирели. Это, может, и интересно в восемнадцать лет. Но подумай, что когда-нибудь, став министром или председателем, отрастив животик, ты будешь выглядеть с этой своей манерой довольно смешно.
Я чувствовала, что от моих слов его коробит. Очень похоже на то, что его поведение объясняется робостью. Хотела бы я знать, о чем он мечтает. Наверное, это полностью противоположно тому, чем он живет. Его мечты должно быть полны дерзкими любовными достижениями. Возможно, присутствует и цинизм.
— Я стараюсь не иметь никакой манеры, — недовольно сказал он.
— Ну, может, я не так выразилась. Просто твое отношение к жизни страшно неудобно.
— Как это понимать?
— Ты ходишь на котурнах. Стука много, а ноги словно связаны.
— Стука?
— Да, — я решила быть откровенной. — Своей кротостью и ненавязчивостью ты создаешь вокруг себя рекламный шум. Словно приглашаешь добиваться себя.
Он нетерпеливо пожал плечами.
— Я совсем не хочу, чтобы меня добивались.
— Тем хуже.
— Мне это просто не нужно.
— Однако впечатление ты создаешь именно такое, — продолжала я дальше — Вот, мол, человек не от мира сего, который ревностно хранит сокровища своего сердца, зачарованная королева, неприступная крепость, ожидающая победоносную завоевательницу.
Он искренне засмеялся.
— Поверь, не жду. И вообще эти вещи занимают слишком мало места в моей жизни, чтобы уделять им такое внимание.
— А, это ты хочешь сказать, что я слишком много о них думаю.
— У меня не было такого намерения, но если уж мы об этом заговорили… Не стану отрицать. Мне действительно кажется… Мне может показаться, что ты уделяешь им слишком много времени.
— Можно ли уделять слишком много времени любви?!
Он снова покраснел и ответил каким-то совсем иным тоном:
— Любви можно отдать всю жизнь.
Даже странно, что этот Ромек с его красотой такой серьезный. Я присматривалась к его профилю. Есть в нем что-то от Савонаролы. Классические линии лба, носа, подбородка и какое-то непримиримое выражение лица. Он мог бы быть жестоким. Если бы не любил меня, я наверняка его боялась бы. Странно все же, какую большую власть может дать чувство. Я сидела рядом с ним и говорила ему досадные и неприятные вещи, зная, что ничто мне не угрожает, что одна моя улыбка, одно прикосновение руки могут сделать его счастливым.
— Жизнь была бы очень скучной, — сказала я, — если бы я смотрела на нее твоими глазами.
— Скучной? — удивился он. — Я вовсе не скучаю.
— Ты относишься к ней слишком серьезно.
— Так, как она того заслуживает.
— Совсем не заслуживает. В том-то и дело, что не заслуживает. Ты, например, знаешь, что такое приключение?
Он пожал плечами.
— У меня было много приключений.
— Сомневаюсь. Во всяком случае, ты наверняка ничего не сделал, чтобы они случились с тобой. Все у тебя должно быть запланировано и предусмотрено. По крайней мере то, что является осознанным. Какая-то убийственная последовательность.
— Я тебя не понимаю.
— Да очень просто. Ты всегда знаешь, что сделаешь. Знаешь, что и зачем.
— Я думаю, каждый знает, что и зачем он делает.
— Вовсе нет. Тот, кто знает, в чем вкус жизни, любит чувствовать себя, как лодка без руля на волнах.
— О-о-о… То есть куда ветер занесет?
— Нет. Общего направления можно придерживаться. Но некоторые отклонения просто необходимы, чтобы уберечь нас от скуки.
Ромек прикусил нижнюю губу. Это еще больше подчеркнуло упрямое выражение его лица.
— Прошу прощения, Ганечка, что я не умею быть забавным товарищем, — сказал он. — Прости, что тебе со мной было скучно. Если позволишь, я здесь сойду. Именно к этому фотографу мне надо по одному делу.
Я засмеялась.
— Неправда. Никуда тебе не надо, и вовсе ты не скучный. Или точнее, твоя скучность довольно забавная.
Он посмотрел на меня почти с ненавистью.
— У тебя очень оригинальный лексикон.
— Спасибо за комплимент.
— Это вовсе не комплимент. Как раз наоборот. Что за странный способ делить людей на две категории: скучных и забавных?
— А какие есть другие категории?
— Да боже мой… Выдающиеся, ничтожные, толковые, этичные… Тысячи определений.
Меня немного уязвило это замечание.
— Ты хочешь этим сказать, что мои категории поверхностные?
— Я хочу сказать, что ты не удосуживаешься вдуматься в проблемы глубже.
Я окинула его ироническим взглядом.
— В проблемы?.. Ты действительно считаешь, что ты для меня проблема?
Он густо покраснел и буркнул:
— Я не говорил о себе.
— А я говорила о тебе. Я очень люблю тебя, мой милый, и даже не скрываю этого, но ты не представляешь для меня никакой проблемы. Я вижу тебя насквозь. Знаю, как свои пять пальцев…
— Не слишком ли ты самоуверенна в своих оценках?
— Нет, не слишком. Ты весь сделан из одного материала. Если и были в тебе какие-то примеси, ты постарался от них избавиться.
Он задумался и ничего не говорил. Лишь после долгой паузы сказал:
— Не знаю. Может, ты права. В таком случае я действительно скучен тебе.
— Вовсе нет, — запротестовала я. — Просто я хотела бы, чтобы ты немного изменился.
Он посмотрел на меня испуганными глазами.
— Изменился?
— Ой, ты невозможно серьезный. Неужели ты никогда не совершил ни одной глупости?
Он подумал и сказал:
— Совершил. Один раз.
— Ты поражаешь меня.
— Один раз — когда, узнав тебя, не бежал куда глаза глядят…
Хорошо сказал. Это уже заслуживало награды. Я сняла перчатку и легонько погладила его по щеке. Он действительно очень смешной. Отшатнулся так, будто я прикоснулась к нему раскаленным железом. Ну что ж, это даже интересно.
— Прости, — сказала я, — я не хотела сделать тебе неприятно…
Он сидел, стиснув зубы, и на его щеках под натянутой кожей заходили желваки. Не много я знаю мужчин, которые могли бы сравниться с ним красотой, той по-настоящему мужской опасной красотой. Он прекрасно владеет собой, но его любовь должна быть как буря, как ураган. Сколько исступления скрывается под этим кажущимся спокойствием!
Однако я хорошо сделала, что не вышла за него замуж. Он был бы прекрасен на некоторое время. Но навсегда, на каждый день, это было бы слишком однообразно. А к тому же и опасно. Я отчетливо почувствовала, что боялась бы его. Он не оставил бы мне ни минуты, незаполненной собой. Такая жадность должна привлекать и наверняка привлекает к нему не одну женщину, однако а lа lоnguе это было бы мукой. (Длительное время (франц.).)
Как ему все это объяснить? Мужчины такого душевного склада не способны понять чего-то такого, что не является пожизненным, окончательным и бесповоротным. Он не признает ничего, кроме собственных принципов. А как хорошо очерчены у него ноздри, как они едва заметно раздуваются! И меня вдруг охватило непреодолимое желание поцеловать его. Крепко, прямо в губы.
Санки миновали последние здания. Дорога была пустынна. Как трудно иметь дело с таким высоким мужчиной, который и не думает наклониться, чтобы облегчить тебе задание! Мне ведь нелегко тянуться к нему. А хотелось мне ужасно. Я просто-таки непременно должна его поцеловать.
Но на то и существует изобретательность. Я уронила перчатку справа от себя, где-то между меховым покрывалом и сиденьем. Чтобы достать ее, ему пришлось перегнуться через меня. И вот его щека оказалась у самого моего лица. Достаточно было легкого движенья головы, чтобы коснуться губами уголка его глаза. Я сделала это очень осторожно и сразу же отклонилась, опасаясь, чтобы он снова не отшатнулся и не выбил мне зубы. Моя осмотрительность не была напрасна. Я вовремя избежала опасности. Что касается Ромека, то он от испуга выпустил перчатку, которую ему только что удалось поднять. Это небольшое происшествие освободило меня от каких-либо объяснений. Пришлось остановить лошадей, и кучер побежал за перчаткой.
Ромек сидел окаменев.
— Какая прекрасная сегодня погода, — непринужденно сказала я. — Люблю такой мороз, когда под полозьями скрипит снег и ослепительно светит солнце.
Я искоса посмотрела на него и немного испугалась. Наверное, я все-таки поступила слишком легкомысленно. Он, кажется, вот-вот потребует от меня, чтобы я оставила Яцека и убежала с ним минимум в Южную Америку. Или сам соберется и опрометью уедет, оставив мне патетическое письмо.
— Зачем ты это сделала? — глухо сказал он после добрых пяти минут молчания.
Я притворилась удивленной.
— Что я сделала?.. Поцеловала тебя?.. Боже мой, да разве я знаю? Просто захотелось вдруг… Ты хороший и всегда мне нравился.
— Так это… это только прихоть?
— Возможно. Ведь так скучно обдумывать каждый свой поступок. Анализировать всякие мелочи…
— Я знаю, что для тебя это пустяк, — выдавил он из себя таким тоном, словно заявлял мне: «Я знаю, что ты отравила целую семью и убила шестерых младенцев».
Это меня немного разозлило.
— А чем же оно должно для меня быть? Что такое, объективно говоря, обычный поцелуй?
— А ты… ты и с другими мужчинами… ведешь себя так же?
Я уже еле сдерживала злость.
— Да. Со всеми без исключения. Но поверь, ни один из них не устроил мне до сих пор скандала по этому поводу.
— Потому что ни один из них тебя не любит! — воскликнул он.
— Знаешь, у тебя странное представление о любви. Я всегда считала, что проявлением этого чувства является скорее поцелуй, чем упреки и грубости.
Он изо всех сил схватил меня за руку и заглянул мне глубоко в глаза. Гнев, беспокойство и надежда сделали его просто прекрасным. Боже милостивый! Ну почему он такой глупый?
Он спросил прерывающимся голосом:
— Как это понимать?.. Ганечка, как это понимать?.. Или… ты могла бы меня… полюбить?
Я покачала головой.
— Нет, не могла бы. Не могла бы именно потому, что ты так серьезно относишься к этим вещам. Терпеть не могу, когда чувством придают большее значение, чем они заслуживают. Я боюсь всяких стихийных бедствий. Меня не привлекают землетрясения. Я их просто боюсь. В сто раз больше люблю хорошую погоду и тишину. И если говорить откровенно, именно поэтому я тебя не полюбила.
Он снова отодвинулся от меня и застыл в молчании. Но, к счастью, мы подъехали к крутому повороту, и ему волей-неволей пришлось прислониться ко мне. Чтобы смягчить свои слова, я сказала:
— И наконец, Ромек, я же говорила тебе, что не люблю углубляться в анализ своих поступков и чувств. Разве это не так просто?.. Ты мне нравишься, мы чувствуем друг к другу большую симпатию. Тогда почему бы мне тебя не поцеловать?
— Потому что то, что для тебя только минутная прихоть, растравляет мои незажившие раны.
— И опять ты преувеличиваешь. Нет, Ромек, надо нам поговорить обо всем этом толком. Может, во время такого разговора я и сумею осознать свое душевное состояние. Если хочешь оказать мне дружескую услугу, приходи сегодня в пять ко мне. Я живу в «Патрии».
Он ничего не ответил. В этот момент сани остановились у парикмахерской, где я заранее записалась на время. Я вылезла и, прощаясь с Ромеком, добавила:
— Буду ждать.
При этом я нарочно кокетливо улыбнулась. Не люблю ни в чем промедления. Я хотела отчетливо дать ему понять, что если он решится прийти, то попадет просто льву в пасть. А если он считает, что я растаптываю его чувства, растравляю его раны и делаю много других неподобающий вещей — пусть себе едет прочь.
Первой, кого я увидела в парикмахерской, была Бетти Норман. Она пыталась объяснить парикмахеру, какая ей нужна прическа. Пользовалась она английским, французским и немецким языками, но тот никак не мог понять. Мало помогло и услужливое вмешательства еще двух дам, которые не владели толком ни одним из тех языков. Сердце мое встрепенулось. Ведь это была замечательная возможность завязать знакомство.
— Если желаете, — обратилась я к ней по-английски, — я могу взять на себя роль переводчика.
Видимо, она сразу поняла по произношению, что я прекрасно владею английским, потому что дружелюбно улыбнулась мне и ответила:
— Я вам очень благодарна. Это так мило с вашей стороны. Завидую вам, что вы смогли выучить польский язык.
— Мне не надо было его учить. Я полька.
— Не может быть! Вы говорите, как урожденная англичанка. Я в Польше недавно, а ваш язык такой трудный…
Она объяснила мне, что ей нужно, а я в свою очередь передала это парикмахеру. На свое место я села почти без сознания от волнения. Все-таки я сумела познакомиться с ней, хотя и не официально! Что же из этого выйдет?..
Конечно, теперь при каждой встрече мы будем кланяться друг другу, а возможно, что она и в каком-то другом случае обратится ко мне за помощью. Надо быть начеку. Может, все-таки вызывать телеграммой дядю Альбина?..
Нет, пока что я этого не сделаю. Посмотрю, как будут развиваться наши отношения. Вообще то, она производит не такое уж плохое впечатление. Возможно (правда, я об этом и не мечтаю), я ей даже понравлюсь, и она сама поймет, какую гадость хочет мне сделать. Есть же у нее сердце, в конце концов. А меня женщины вообще любят. Даже Мушка Здроевская, хотя она и чуть не лопнет, ревнуя ко мне Тото.
Когда я вошла в ресторан, там уже было почти полно. Много знакомых. Некоторые делали мне знаки, чтобы я подсела к их столику, но я сделала вид, что не замечаю этого. По опыту знаю, как неверно где-то на курорте сразу же присоединиться к какому-нибудь обществу. Потом тяжело покинуть его, хотя, может, хотелось бы быть с кем-то другим. Так что не буду сближаться ни с кем, пока толком не огляжусь. В конце концов, нужно увидеть, с кем здесь водится Бетти Норман. Она зашла через несколько минут после меня и тоже села за отдельный столик. Когда увидела меня, снова улыбнулась. Ведет себя она вполне прилично. В оправдание Яцека, должна признать, что она соmmе il faut (Вполне приличная (франц.)). Вот только не могу понять, почему она так упорно делает вид, будто не знает польского языка.
С удовольствием убедилась, что одета я ничуть не хуже других дам. Посмотрим, что будет вечером. Хотя я лично меньше нажимаю на вечерние туалеты. Я считаю, что по-настоящему элегантная женщина должна отличаться вкусом в подборе утренних и дневных нарядов. Меня просто возмущает хотя бы, например, Гальшка, которая одевается хуже, чем посредственно, а вечерние туалеты заказывает в Париже. Это самый верный признак новоиспеченного панства.
Когда я вернулась в свой номер, меня ждала отрадная неожиданность: Ромек прислал букет мимоз и карточку с извинением, что не сможет прийти, потому что его якобы задерживают важные дела.
Ишь какой упрямый! А эта мимоза! Это так на него похоже — прислать именно мимозу. Вероятно, на языке цветов это что-то да значит. Жаль, что у меня нет бабушки. А то послала бы ей телеграмму с вопросом. Во времена наших бабушек люди боялись использовать язык для выяснения своих интимных дел и с этой целью пользовались цветами. Какое счастье, что я не жила в ту эпоху! Если бы не лопнула от смеха, то умерла бы со скуки.
Мимоза! Вероятно, это должно означать, что он не осмелится меня коснуться. Вот забавный молодой человек! Цвет тоже, наверное, имеет какое-то значение. Ромек был бы вполне на своем месте примерно в конце прошлого века. Впрочем, я и так одержала достаточно большую победу, что он не уехал отсюда. Прятаться от меня он может очень долго, потому что я опрометчиво не спросила его, где он остановился.
Интересно, а Бетти знает, что она имеет дело с женой Яцека? Ведет себя она так, словно ничего не подозревает. Но надеюсь, что уже сегодня вечером я сумею это выведать. А Яцек что думает?.. Ведь он знает, что мы живем в одном отеле, и наверняка боится, чтобы между нами не возникло каких-либо недоразумений. Если это действительно так, он или приедет сюда под каким-то предлогом, или позвонит, чтобы о чем-то узнать. Во всяком случае, я не думаю, чтобы ему там беззаботно жилось. Так ему и надо. Пусть знает, что всякий грех надо искупить.
Заканчиваю писать. Время одеваться к ужину.
Понедельник
Вчера не писала, не было времени. Да и ничего существенного не произошло. Бетти Норман, кажется, не стремится подружиться со мной. Мы любезно раскланиваемся и улыбаемся друг другу. Вот и все. Сегодня я заметила, что она забрасывает сети на генерала Кочирского. Странный вкус. Правда, Кочирскому не больше лет пятидесяти, но он совершенно гадкий. И к тому же совсем неэлегантный. Или, может, ее привлекает то, что он занимает какую-то высокую должность? Они вместе были в Жегестове и вернулись уже к вечеру.
Мой лыжный костюм производит фурор. Похожий, но куда худшего качества (это сразу бросается в глаза), есть у некой пани Ретц или Рентц из Лодзи. Кроме этого, во всей Кринице нет ничего интересного. Никогда себе не прощу, что не научилась хорошо кататься на коньках. Те две сопливых Гольдиновны все время буквально в осаде. Катаются они действительно хорошо. Конькобежный костюм чрезвычайно идет женщинам. Каждый раз, как те девушки идут на каток, туда движется пол-Криницы.
Познакомилась с очень интересным мужчиной. Это пан Джо Ларсен Кнайдл, американский дипломат из Москвы. Приехал сюда на отдых. Бываю с ним немало времени. Я гордилась, что хожу на лыжах лучшее его, и это ему понравилось. Оказалось, что он знает Яцека еще по Лиге Наций, а с Тото охотился когда-то в Конго. Очень милый, воспитанный человек. Не жует резинку и не распространяется после каждого третьего слова о прелестях Америки. Все американцы просто противны с этим восхвалением своей страны. Все американское для них высшего качества. Когда кто-то из них хочет сделать мне комплимент, он говорит:
— Да вас легко можно принять за американку…
Какой ужас! Американки!.. Не спорю, в основном они красивые, холеные, имеют спортивную фигуру. Но этот их образ жизни — курение за обеденным столом, выпивки в ночных клубах со случайными знакомыми — их, попросту говоря, некультурность и невоспитанность… Бр-р-р… Этого я не смогла бы так же, как жить в эпоху наших бабушек. Яцек говорит, что Европа постепенно американизируется. Во Франции, например, американизация зашла уже достаточно далеко. К счастью, к нам она еще не дошла.
Однако, оказывается, что и американцы могут европеизироваться. Лучшим свидетельством этого является Ларсен.
Ромек не подает признаков жизни. Кто-то говорил мне, что его видели на прогулке с пани Жултовской. От нее его добродетели ничто не угрожает. Пани Жултовской шестьдесят лет.
Такие нынче мужчины.
Вторник
Мы встретились на лестнице один на один. Увидев ее, я сразу почувствовала, что сейчас должно состояться знакомство. Она остановилась и с улыбкой протянула мне руку.
— Позвольте представиться, — сказала по-английски. — Меня зовут Бетти Норман.
Я так же любезно назвала свою фамилию.
— Я слышала о вас много хорошего от генерала Кочирского, — сказала она.
— Генерал очень милый… А как вам нравится в Кринице?
— Здесь замечательно. Человека, которому надоел комфорт всевозможных заграничных курортов, Криница очаровывает именно своей милой простотой.
Было очевидно, что она стремится поддержать и продолжить разговор. Теперь я не сомневаюсь, что она знает, кто я такая. Начинается опасная игра. Ну что же, ладно. Я не отступлю…
Я с интересом спросила:
— Вы, наверное, много путешествуете?
— Да, — ответила она. — Путешествия — это моя страсть.
— А постоянно живете в Лондоне?
Я спросила об этом, чтобы показать ей, что я о ней понятия не имею. Яцек, насколько я его знаю, вряд ли разговаривал с ней обо мне. А если и разговаривал, разве только в том смысле, что хотел бы уберечь меня от неприятностей, связанных с этой историей.
Мисс Норман отрицательно покачала головой.
— О нет. Я, собственно говоря, нигде постоянно не живу. Разве что в основном в Париже. Провожу там ежегодно два или три месяца.
— Завидую вам, — сказала я. — Но вы скорее англичанка, чем американка. Судя по произношению и обращению.
— Спасибо, — улыбнулась она. — Я действительно англичанка. Родилась в Бирмингеме и прожила в Англии свою юность. Но потом как-то так все сложилось, что я очень редко бывала на родине. Мои родители почему-то приняли бельгийское подданство.
— А в Польше вы впервые?
— Да. Когда-то я была здесь проездом всего несколько часов. Это не считается, правда? Но и вы, кажется, много путешествуете? По крайней мере генерал говорил мне, что ваш муж дипломат, а дипломатическая служба связана с частой переменой мест. Не так ли?
— Да, — согласилась я. — Однако я не путешествовала столько, сколько вы. А теперь мы давно уже сидим в Варшаве.
Мы обменялись еще несколькими любезными фразами, и мисс Норман ушла к себе. Она производит вполне приятное впечатление. Интересно, почему она не упомянула ни словом о дяде Альбине. Ведь он наверняка не сказал ей, что семья не поддерживает с ним отношений.
Загадочная женщина. Не могу избавиться от какого-то подсознательного ощущения, что она скрывает в себе тайны, куда страшнее тех, которые мне известны.
Я еще не строила никаких планов. Однако хорошо уже то, что теперь я смогу, не возбуждая ее подозрения, зайти-то к ней и осмотреться в ее номере. Надо заполучить, такой же этажом выше. Если меня поймают, я смогу сказать, что ошиблась этажом.
Я разговаривала с директором, и он пообещал мне, что через два дня тот номер освободится.
Пан Ларсен теперь ходит обедать в «Патрию», и мы сидим за одним столиком. Он интересный собеседник.
Среда
За этим наверняка что-то скрывается. Поскольку я знаю, что в свое время в Биаррице она уже пользовалась чужой фамилией (да и своей девичьей пользуется, по сути, незаконно, потому что она должна носить фамилию Яцека), то я склонна скорее поверить памяти Ларсена, чем поведению этой женщины.
Дело было так.
Мы с паном Ларсеном как раз обедали, когда в ресторан зашла мисс Норман. Минуя наш столик, она поздоровалась со мной чуть ли не с большей сердечностью, чем это позволяло наше короткое знакомство. Я ответила ей тем же. Ларсен также встал и поклонился. Она ответила ему едва заметным кивком головы. Когда она уже села за столик в другом конце зала, Ларсен сказал:
— Никак не могу избавиться от ощущения, будто я знаю эту даму. Кто она такая?
— Ее зовут мисс Элизабет Норман.
— Странно, — пробормотал он. — Готов поклясться, что когда-то ее звали иначе. И что я встречал ее довольно часто. — Он посмотрел в ее сторону и добавил: — Разве что волосы у нее было тогда другого цвета и еще… О, я чуть не сказал глупость.
— Нет-нет, говорите, — настаивал я, страшно заинтригованная.
— Да ведь и правда чушь.
— А все-таки!..
— Не могу избавиться от впечатления, что я когда-то видел, как она танцевала в весьма эксцентричном костюме.
— На маскараде?
— Вовсе нет. В каком-то кабаре.
— Не понимаю…
— Конечно, я не могу полагаться на свою память. Но кажется мне, что одна особа, необычайно похожая на эту пани, была танцовщицей в кабаре… Где это было, я уже не помню. И когда — тоже. Простите, если я бросил тень на вашу знакомую.
Я пожала плечами.
— Я знакома с этой пани недавно. Однако мне не кажется правдоподобным, чтобы она могла танцевать в кабаре. Она, несомненно, богата, и чтобы сыграла такую штуку из прихоти — тоже не похоже. Она производит впечатление уравновешенной и порядочной женщины. Но вы меня заинтересовали. Не могли бы вы вспомнить, как звали ту особу?
Он наморщил лоб и, помедлив, сказал:
— Если не ошибаюсь, ее звали Салли Ней… Да, Салли Ней. Один мой коллега интересовался ею поближе. Потому я и запомнил эту фамилию… Да-да, конечно. Теперь я точно помню. Это было четыре года назад в Буэнос-Айресе. Мой коллега уделял ей много внимания. Я, конечно, говорю о танцовщице, а не об этой пани, так на нее похожей. Та, несомненно, была брюнеткой. Такого, знаете, южного типа.
— И чем же все кончилось?
— К сожалению, скорою разлукой. Мы тогда ездили в Буэнос-Айрес заключать одну торговую сделку. Переговоры закончились довольно быстро, и нам пришлось вернуться в Соединенные Штаты.
— Я хотела бы вас о чем-то попросить, — заискивающе улыбнулась я ему. — Не могли бы вы дать мне фамилию и адрес вашего коллеги?
— Это мне, простите, немного неудобно, учитывая то, что я о нем рассказал.
— Но вы не сказали о нем ничего плохого.
— Но он человек женатый… — сказал Ларсен.
— О, боже мой, я напишу ему как можно деликатнее. Даже если мое письмо попадет в руки его жены, у нее не будет повода заподозрить его в неверности. А я была бы вам за это так благодарна!
— Значит, вы все же считаете, что эта пани действительно могла быть танцовщицей в кабаре?
— О нет, отнюдь. Но, видите ли, похоже на то, что это касается ее сестры. У нее такая ветреная сестра… Однако я не могу дать вам более подробных объяснений, ибо сама немного знаю. Так вы уже не откажите мне, пожалуйста.
Он еще минуту колебался, и, наконец, решился.
— Хорошо. Но я полагаюсь на вашу деликатность.
— Об этом не беспокойтесь.
Он вырвал из блокнота листок и написал на нем: Чарльз Б. Бакстер. Испания, Бургос, отель «Континенталь». Я прочитала и удивилась:
— Но Соединенные Штаты не имеют дипломатических отношений с генералом Франко?
— Официальных нет. Бакстер находится там как дипломатический наблюдатель.
— Ну вот, видите, — заметила я. — Ваши опасения были безосновательны. Ведь он там наверняка без жены.
— Ничего подобного. Они оба там.
— Как? И он не побоялся подвергать ее тяготам войны?
— В Бургосе довольно спокойно. Правительственные самолеты добираются туда редко. Да и, похоже на то, что война скоро закончится. Преимущество повстанцев ощущается все сильнее.
— Мой муж говорит, — сказала я, — что испанская война своей жестокостью далеко превосходит прошлую мировую.
— Это правда, — согласился Ларсен. — Так бывает всегда, когда в игру примешиваются идейные мотивы. Кроме того, надо учитывать и национальный темперамент испанцев. Не забывайте, что Испания — родина самой кровавой инквизиции, боя с быками и другой подобной мерзости.
Он продолжал разглагольствовать на эту тему, что было мне только на руку: перед тем, как написать письмо Бакстеру, я хотела вытянуть из Ларсена еще какие-то сведения об этой танцовщице, поскольку была почти уверена, что речь идет ни о ком другом, как именно о Бетти Норман.
Однако в ее поведении относительно Ларсена я не заметила никаких признаков того, что она когда-то в жизни его видела. Наконец, вполне вероятно и такое: она могла когда-то по прихоти танцевать в кабаре. Я, может, и себе позволила бы такое где-то очень далеко, где меня никто не знает. Просто для того, чтобы увериться в своей привлекательности и успешности. Танцуя в кабаре, наверное узнаешь сотни мужчин. Так что вполне понятно, что потом можно большинства из них не помнить.
Закончив обедать, она снова прошла мимо нашего столика и снова очень приветливо улыбнулась мне, не обращая никакого внимания на моего собеседника. Когда она вышла, Ларсен сказал:
— Нет. Та была наверняка ниже ростом…
— А было ли ее поведение таким же, как у большинства танцовщиц кабаре?
— Я бы этого не сказал. Насколько, конечно, я могу судить. Я знал ее очень мало. Однако, как мне вспоминается, Бакстер считал это большим плюсом в ее пользу.
Ничего существенного я больше извлечь из него не смогла. Вернувшись в свою комнату, я сразу села писать письмо. Написала так:
«Милостивый государь!
Наш общий знакомый, п. Джо Ларсен Кнайдл, упомянул в разговоре со мной одну девушку, которая из сугубо личных соображений очень меня интересует. Поскольку я много лет назад потеряла ее из виду, то была бы Вам бесконечно благодарна, если бы Вы дали мне о ней хоть какие-то сведения. Для меня это чрезвычайно важно.
Зовут ее Элизабет Норман. Однако в кабаре она выступала под псевдонимом Салли Ней. Из некоторых источников мне известно, что четыре года назад она была в Буэнос-Айресе.
Не знаете ли Вы, где она теперь? Где была в течение этих лет? Какие имела намерения? Не вышла ли замуж? Не собиралась ли сменить профессию? Все, что Вы о ней можете сообщить, мне очень пригодится. Если случайно у Вас есть ее фотография, умоляю — пришлите мне. Клянусь честью, что верну ее.
Естественно, что никто, кроме п. Ларсена, не знает ни об этом письме, ни обо всем этом деле. Заранее искренне благодарна Вам за доброту и покорно прошу прощения, что отнимаю у вас драгоценное время.
Г. Реновицкая.»
Я сама отнесла письмо на почту и отправила заказным срочным. Когда я возвращалась с почты, мне пришло в голову, что даже в том случае, если этот американец не захочет мне ответить или откажется дать нужные сведения, остается еще один путь: наткнувшись на этот новый след, я могу сообщить о нем в брюссельское розыскное бюро. Для них не составит никакого труда проверить эти данные в Буэнос-Айресе. Ах, если бы я могла послать им ее фотографию!
И тут меня вдруг осенила счастливая идея. Ведь в Кринице на каждом шагу фотографируют прохожих! Фотографы здесь кишат. Не может быть, чтобы ее ни разу не сфотографировали. Надо только поискать во всех крупных фотографиях, и я, несомненно, найду то, что мне надо.
Я потратила на это четыре часа и, конечно, нашла. Нашла два снимка. Вполне четкие, с безупречно схваченным сходством. Опасаясь, что мне их не захотят отдать, я поступила немного некрасиво, но другого выхода не было. Когда девушка за рабочим столом отвернулась, я спрятала оба снимки в сумочку. А чтобы они не потерпели на этом убытка, заказала увеличить свою фотографию, которую нашла там же. Теперь брюссельским детективам будет куда легче искать. Может, они сумеют найти и другие ее следы.
Погоди-ка, пани-панна! Я тебе докажу, что не так и легко отнять мужа у женщины, которая способна постоять за себя и имеет достаточно выдержки, чтобы вести бескомпромиссную борьбу.
Среда
Наконец Ромек нашелся. Это было очень забавно. Но сначала о более важных вещах. А именно: вчера я направила в Брюссель письмо с одной фотографией. Вторую оставила себе. Спрятала ее в шкафу между носовыми платками. Детективам написала, чтобы не жалели расходов: пусть сделают с фотографии как можно больше копий и разошлют по таким же самым агентствам в разных странах.
Теперь дела пойдут быстрее. Если получу от Бакстера подтверждение моих подозрений, буду иметь достаточно компрометирующих фактов. Тогда можно будет смело сказать, что эта женщина — международная авантюристка со скандальным прошлым. В конце концов, кто знает, может, она и сама двоемужняя женщина. Может случиться даже, что тот пан, с которым она жила в Биаррице, был ее настоящим мужем.
Сегодня утром мы встретились с ней в холле. У меня был прекрасный повод для разговора, потому что мои вещи как раз переносили в номер на третьем этаже, прямо над ее комнатами.
— Теперь мы соседи, — сказала я. — Но вы не бойтесь, я не буду устраивать у себя танцев и гонок.
— Вы такая грациозная, — любезно сказала она, — что от этого не было бы никакого шума.
У каждой из нас были свои дела, поэтому мы вышли вместе. Со мной то и дело здоровались встречные, и Бетти заметила:
— У вас здесь так много знакомых.
— О да. Из-за валютных ограничений многие люди не могут выехать за границу и вынуждены ехать на отдых сюда. А вы, кажется, много времени проводите в уединении?
— Да. Я не люблю большого общества. Есть несколько знакомых — и довольно… Ах, хорошо, что вы мне напомнили. Мне надо зайти в это кафе и извиниться перед моим партнером по лыжам за то, что не пришла утром на тренировку. Не зайдете ли на минутку со мной? Это очень приятный молодой человек.
Конечно, я сразу же согласилась. Во-первых, мне было интересно, какой вкус у этой женщины, во-вторых, тот пан мог быть ее любовником. Не следует пропускать случай заглянуть в ее интимные дела. И вдруг эта презабавная неожиданность! Заходим, а навстречу Бетти вскакивает из-за столика… Ромек! Я чуть не залилась смехом.
— Да мы хорошо знакомы! — воскликнула я.
Ромек, красный как рак, смутился и чуть не перелетел через кресло. Он был похож на мальчишку, которого застали в кладовой с вареньем. Он охотно выскочил бы в окно. Его положение было действительно незавидное. Потому что, с одной стороны, его игра в прятки ничего не дала, а с другой, можно было подумать, что, притворяясь влюбленным в меня, он завел роман с Бетти.
Но я была уверена, что это неправда. Слишком хорошо я его знаю. О романе здесь не может быть и речи. Они действительно только партнеры по спорту. Однако, если говорить начистоту, меня не очень радовало то, что они сблизились. Это не ревность с моей стороны, упаси боже. Я не собираюсь отбивать ни у кого мужчин, особенно Ромека. Думаю, могу еще себе такое позволить. Но с какой стати ему с ней общаться!
Я хорошо понимала, как ему хочется, чтобы мы быстрее оставили его одного, и именно поэтому преспокойно подсела к столику и заказала себе чай. Разговор я повела так, что его, пожалуй, сводило судорогой. Я каждый раз обращалась к ним обоим: «А вы как думаете?.. Что вы сегодня делаете?.. Какие намерения у вас на ближайшие дни?»
Бетти не заметила в моем поведении никакой злонамеренности, потому что ничего не знала о наших с Ромеком отношениях. Зато он терпел в душе адские муки. Я хорошо знала, что он готов на все, лишь бы я не подумала, что он любовник этой женщины. Теперь уже мне не нужно будет искать его. Сам прибежит с объяснениями.
Чтобы окончательно добить его, я сказала:
— Ну, не буду вам больше мешать. Желаю приятно провести время. Уже поздно, а у меня еще столько всяких дел…
Ромек попытался заикнуться, что он также спешит, но я не дала ему закончить и вышла.
Через полчаса после обеда он позвонил мне и спросил, можно ли со мной встретиться.
Я сказала:
— Ну конечно, Ромек. Буду очень рада. Панна Норман в это время отдыхает у себя. Так что, ты можешь воспользоваться этим временем.
В его голосе чувствовалась почти ярость:
— Меня нисколько не волнует распорядок дня панны Норман. И мое время от нее никак не зависит.
— Не понимаю, зачем ты хочешь скрыть отношения с такой очаровательной особой, как панна Норман. Я полностью одобряю твой выбор.
Я уже подумала, что перехватила. Он с полминуты молча держал трубку. Пожалуй, колебался, не прервать ли на этом разговор. Но желание убедить меня взяло верх.
Он сухо спросил:
— Ты можешь принять меня сейчас?
— Пожалуйста. Я буду ждать тебя через четверть часа. Мне нужно немного приодеться, чтобы избежать досадного контраста…
Он перебил меня:
— Хорошо, я буду через четверть часа.
Вот забавный! Однако я не стану уверять, что он мне совсем не нравится. У него несгибаемый характер настоящего мужчины. Тем лучше. Невелика заслуга получить такого, который прибежит по первому знаку любой пустышки. Я никогда не была сторонницей легких побед. Но тут уперлась на своем, потому что к игре присоединилась эта женщина. Я готова поклясться, что между ними ничего нет, но все же хоть немного она ему, видимо, нравится. И он ей нравится, это несомненно. Пресыщенные женщины таких любят. Я ведь видела, как она на него смотрит. Некоторое время я даже думала, не прибегнуть ли мне к другой тактике. Если бы она заинтересовалась им серьезно, то, может, оставила бы в покое Яцека. Но, в конце концов, я рассудила, что такая женщина серьезно им не заинтересуется. А отрекшись от него, я только признаю ее превосходство.
Ромек был, как всегда, страшно пунктуален.
Он успел овладеть собой и поздоровался со мной совершенно спокойно. За окном уже начало смеркаться, и я зашторила окна — искусственное освещение всегда помогает создать интимное настроение. Затем велела горничной принести кофе, а Ромека любимый коньяк у меня был припасен заранее.
Он пристроился в неудобном кресле, прокашлялся и сказал:
— Прежде всего, я хочу объяснить, почему не пришел тогда…
Я перебила его:
— Оставь, Ромек. Я не имею права требовать от тебя никаких объяснений. Признаюсь, мне было немного обидно, потому что… Видишь, я даже приготовила для тебя коньяк… Но разве можно заставить человека, чтобы он отдавал тебе предпочтение перед тем, кто ему милее!
Он попытался улыбнуться:
— Стрелы твоей раздражительности, Ганечка, не могут меня поразить, я уверен, что ты и сам не веришь серьезно в то, что говоришь.
— Серьезно? — удивилась я. — Но я вовсе не говорю, что твоя дружба с мисс Норман такая уж серьезная.
— Ни о какой дружбе не может быть и речи.
— Ах, не важно, как это назвать. Скажем — liaison (Связь (франц.).)
— Тем более нет.
Я улыбнулась примирительно.
— Оставим этот разговор. Он тебя раздражает, да и, в конце концов, даже неделикатно с моей стороны вмешиваться в твои дела. А заинтересовалась я этим лишь потому…
— Господи! Да ничего тут нет! Просто мы познакомились с этой женщиной и изредка катаемся вместе на лыжах. Вот и все.
— Охотно верю тебе, Ромек. Хотя сама она говорила о тебе несколько иначе.
— Я не могу нести ответственности за то, что кто-то обо мне скажет.
— Ой, какое громкое слово, — засмеялась я. — Ответственность! Думаю, мисс Норман не очень обрадовалась бы, если бы узнала, что ты так горячо и решительно от нее открещиваешься, как от какого-то злого духа. Лично я считаю, что она обаятельная и вполне приличная дамочка. Знаю и еще одно: она очень богата. Так что не было бы ничего удивительного, если бы молодой мужчина твоего возраста заинтересовался такой женщиной.
— Конечно. Ничего странного не было бы. Но я ею не заинтересовался. Я не могу флиртовать с женщинами. И ты хорошо знаешь почему…
— Я?.. И понятия не имею.
Он опустил глаза и сказал:
— Если бы я даже никогда не говорил тебе об этом, ты и так должна была бы знать.
Принесли кофе, и нам пришлось прервать разговор. Когда горничная вышла, я сказала:
— Я знаю, на что ты намекаешь. Ты утверждаешь, что любишь меня. Я много думала об этом. И знаешь, к какому выводу пришла?.. Что твое чувство ко мне никак нельзя назвать любовью.
Губы его шевельнулись в ироничной улыбке.
— Так уже и нельзя?..
Я убежденно ответила:
— Решительно нельзя.
— Так как же ты его назовешь?.. Как ты назовешь то, что меня не привлекает ни одна другая женщина, я думаю только о тебе, что каждый час моей жизни полна тобою… Как ты это назовешь?
Я пожала плечами.
— Не знаю. Но так или иначе, нельзя назвать любовью что-то совершенно абстрактное, то, что не стремится осуществиться. Ты избегаешь меня. И всегда избегал.
— Избегал с тех пор, как убедился, что ты отдала предпочтение другому.
— Но, дорогой мой, неужели ты не можешь себе представить, что между мужчиной и женщиной вовсе не обязательно должно быть нечто такое, что свяжет их навеки и в конечном итоге сведет в одну могилу? Почему бы нам, например, не быть друзьями? Почему бы не встречаться, не делиться мыслями, улыбками, печалями и радостями?.. Ведь существуют тысячи разновидностей и проявлений дружбы, тысячи способов выражения симпатии. Почему ты, скажем, считаешь проводить время с мисс Норман приятным и возможным, а проводить время со мной — невозможным?
— Это очень просто. Она мне совершенно безразлична.
— Ах, вот как!.. Вот почему. Значит, людей, к которым мы питаем серьезные чувства, нужно сознательно избегать?..
— Да, — кивнул он. — Если не можешь обрести любовь такого человека, лучше избегать его, чтобы не терзать…
— …Себе сердце, — закончила я насмешливо.
Он прикусил губу.
— Очень смешно, правда?
— О нет, — возразила я. — Это совсем не смешно. Это возмутительно. Меня возмущает мысль, что ты лишаешь меня своего общества ради каких-то призрачных иллюзий. Неужели ты действительно не понимаешь всю нелогичность своих взглядов? И если тебе предлагают телячьи котлеты, ты вскакиваешь и убегаешь, поскольку непременно хочешь иметь целого теленка. С копытами и хвостом. Ничуть не меньше.
— Это сравнение здесь ни к чему, — нахмурился он.
— Наоборот. По-моему, аналогия полная. Я предлагаю тебе дружбу, искреннюю дружбу. Даже поцеловала тебя, и это, должна признаться, не было мне неприятно. А ты не можешь пожертвовать мне немного времени без того, чтобы не требовать пожизненной верности до страшного суда. Подумай, как это раздражает. Ладно, я верю тебе, что мисс Норман ничего для тебя не значит. Охотно этому верю. Но не могу терпеть, чтобы ты пренебрегал мною.
Он покачал головой.
— Ты не хочешь понять меня, Ганечка.
— Так научи меня. — Я взяла его за руку.
— Не могу. Наверное, мы никогда не найдем общий язык.
— Опять «никогда»! Научи меня. Попробуй. Ведь когда мы часами разговаривали между собой, ты не сетовал на то, что не можешь найти со мной общий язык. Может, и теперь мы сможем достичь взаимопонимания.
Он поднял на меня печальные глаза и молчал.
Я стала рядом с ним и начала поглаживать его волосы кончиками пальцев. Я думала, что он уклонится, но он только сказал:
— Прошу тебя, не делай этого.
— У тебя такие мягкие волосы, — сказала я тихо. — Это значит, что ты добрый. А почему ты недобрый со мной?.. Я лелеяла столько надежд после нашей случайной встречи в Кринице. — Я провела ладонью по его щекам и добавила: — Может, у тебя и есть ко мне какие-то чувства, но это вовсе не любовь… Скажи, почему ты меня не любишь? Вот и теперь, когда я касаюсь твоих губ, кажется, что мне грозит скорее опасность, чем поцелуй.
Его голос звучал глухо сквозь зубы:
— Ганка… Ты играешь с огнем.
Я чуть не засмеялась. Это прозвучало точно как в каком-то довоенном романе. А самое смешное, что говорил он, несомненно, искренне.
Здесь я хочу добавить к дневнику п. Реновицкой некоторые пояснения. Безусловно, слова п. Ромека Жеранского звучат в нашей сегодняшней речи как анахронизм. Новейшая литература, кино и театр по возможности избегают таких высказываний. Однако — предлагаю это читателям как эксперимент, — если вы подслушаете разговоры влюбленных, по-настоящему влюбленных, вы услышите там все что угодно, начиная от удивленных вопросов, почему вокруг не цветут цветы, и кончая криками: «Ты мой май! Ты мой рай! Ты моя весна!» В этом отношении искусство опережает жизнь. Но это, впрочем, и неудивительно. Ведь у влюбленных людей в наиболее волнующие моменты нет времени думать над тем, как выразить свои чувства по-современному. Поэтому я хотел бы, чтобы мои читательницы не утратили симпатии к п. Жеранскому из-за этой его реплики. (Примечание Т. Д.-М.)
— К сожалению, — сказала я, — всякий раз, как мы остаемся вдвоем, у меня складывается впечатление, будто я имею дело со льдом. Почему ты так холоден ко мне?
— Ганка, ты не знаешь, до чего ты можешь меня довести, — сказал он почти неразборчиво. Голос его дрожал и прерывался.
Смех, да и только. Это я не знаю, что делаю! Боже, какие же наивные эти мужчины! (Правда, не все).
Я легонько прижалась к нему. И вот наконец свершилось! Он набросился на мою руку, как изголодавшийся волк. Еще никто в жизни не целовал мне так руки. Это было великолепно и многообещающе. Ромек сорвался с места и с силой схватил меня в объятия.
Это замечание касается исключительно автора дневника. Хочу отметить, что п. Ганка, которая минуту назад смеялась над словами п. Ромека, сама употребляет устаревшее выражение «схватил меня в объятия». Так что критиковать других всегда легче.
В оправдание п. Реновицкой должен добавить, что, подбирая слова, чтобы описать те или иные человеческие чувства или поступки, я и сам как писатель часто сталкиваюсь с немалыми трудностями. Мастер изящного стиля Флобер, часами мучился, освобождая свою замечательную прозу от всевозможных несуразностей, огрехов и банальных высказываний. Сегодняшний темп жизни делает невозможной такую кропотливую работу.
Не раз, краснея от стыда, я находил в своей прозе такие ужасные упущения, как, например, непроизвольные рифмы. Возьмем хотя бы такое предложение: «Он претерпел немало невзгод и лишений, но они не потушили его юношеских рвений…» Радует меня разве только то, что такие находки в моих произведениях наполняют искренней радостью многих моих коллег по перу, не говоря уже о критиках и рецензентах.
Возвращаясь к вопросу о шаблонных оборотах, я хотел бы заметить, что изобретательство в этой области очень редко бывает удачным. Улучшение писательской техники нередко приводит к вычурности и искажению стиля, что противоречит простоте. А я считаю самым первым и самым главным правилом в любом творчестве именно простоту. Когда увидели свет мои первые книги, то со всех сторон я слышал приветственные или осуждающие голоса именно по поводу этой простоты стиля.
В Польше после Пшибышевского и Жеромского, во времена Кадена Бандровского, считалось, что простота несовместима с высоким мастерством. В это верили так безоговорочно, что даже не замечали существования Пруса, Сенкевича и «Пана Тадеуша», этих великих образцов простоты. А потом очень удивлялись, почему на западе не имеют никакого успеха бережно изданные произведения Жеромского. Между тем английский или французский читатель просто не мог их переварить. Они были для него слишком экзотические как по форме, так и по содержанию. Учитывая большую популярность моих произведений критика милостиво связывает ее с простотой языка, найдя для меня определение «поставщика широкого читателя». Возможно, критика и права. Но что мне делать, если это меня нисколько не пугает? В свое время Мицкевич мечтал, чтобы его книги попали в дома под соломенными крышами. А если об этом мог мечтать великий наш гений, то почему бы не позволить этого и мне, скромному литератору.
Прошу прощения у читателей за то, что отвлек их внимание своими личными делами. А если не чувствую по этому поводу слишком больших угрызений совести, то это лишь потому, что большинство читателей наверняка пропустит этот мой комментарий, чтобы быстрее припасть к дальнейшему ходу событий дневника. Поэтому спешу снова предоставить слово его автору. (Примечание Т. Д.-М.)
— Ты сводишь меня с ума… С ума… — шептал он, задыхаясь.
Он обнимал меня все крепче, и признаюсь, это было мне приятно. Вот странность — когда меня так же обнимает, скажем, Тото, на меня это не производит никакого впечатления. Я думаю только об измятом платье и о том, что у меня могут остаться синяки. А тут видела лишь горящие глаза, прикрытые длинными пушистыми ресницами.
— Ты все-таки любишь меня, — прошептала я.
— Как безумный! Как безумный!..
Он говорил что-то еще, но я уже не могла разобрать слов. А жаль! Может, услышала бы еще такие перлы, как эта «игра с огнем». Далее он уже ничего не говорил, только целовал меня.
Приятно вдруг попасть в такой ураган. Чувствуешь себя и под угрозой, и одновременно в безопасности. Он просто обжигал меня своим дыханием.
— Опомнись, Ромек, — опрометчиво прошептала я, хотя тон мой побуждал к обратному действию. Однако этот безумный ничуть не обратил внимания на тон и ухватился за эти слова, как утопленник за соломинку.
Неожиданно, в тот момент, когда я меньше всего этого ожидала, он отскочил от меня как ошпаренный, конвульсивным движением взъерошил себе волосы, другой рукой рванул галстук и простонал:
— Боже, боже!..
Не успела я понять, что к чему, как он схватил шляпу и пальто и выбежал в коридор. Что я должна делать? Не могла же я бежать за ним. Ужасало меня только то, что его увидит кто-нибудь в коридоре, и тогда догадкам и сплетням не будет конца. Ей-богу, репутация женщины отнюдь не выигрывает, если из ее комнаты стремглав вылетают до смерти испуганные мужчины и в панике бросаются наутек.
Но вот странное дело: взволнованный необычными переживаниями мужчина может забыть обо всем на свете: об этикете, о необходимости сохранить видимость, — но никогда не забудет свои шляпу и пальто.
Собственно говоря, вся эта история больше насмешила меня, чем разозлила. Я предполагала, что он так себя поведет. Вот дурак… Чтобы не думать больше о нем, я принялась за журналы, дня два назад приобретенные в газетном киоске. Но как бы то ни было, а Ромек таки испортил мне настроение. Я просто не могла сосредоточиться на чтении. Этому мужчине надо было бы родиться во времена рыцарства и носить на шлеме перчатку своей дамы сердца. А в нашей эпохе такой тип совершенно неуместен. Я так рассердилась на него, что хотела назвать его в дневнике настоящей фамилией. Да Доленга-Мостович меня отговорил. Он сказал, что это было бы несправедливо. Возможно, он и прав.
Написала письма Яцеку и маме. Конечно, о мисс Норман не упомянула в них ни словом.
Мне не хотелось идти ужинать, тем более, что пана Ларсена сегодня нет, а тут еще приехали Скочневские. Пришлось бы сидеть и томиться с ними целый вечер. Я попросила, чтобы мне принесли поесть в номер. Теперь сижу и пишу. Интересно, когда поступит ответ из Бургоса.
Четверг
День у меня сегодня был полон различных событий. Утром позвонил Яцек. Он позвонил из Кракова, где находится с каким-то шведским министром, который гостит в Польше. Разговор был вполне банальный — образец обоюдной любезности и супружеской заботливости. Правда, хотелось мне сказать ему что-то душевное, но ведь надо было выдержать характер. Возможно, он надеялся, что я проговорюсь о той рыжей, очень уж подробно расспрашивал, кто отдыхает в Кринице. Я специально долго рассказывала о Ромеке. Пусть же знает. К Ромеку он всегда меня ревновал. Вот обезумел бы, если бы узнал о письме, которое я получила сегодня утром. Однако я пожалела его.
Вот оно, то письмо. Его принесли мне вместе с завтраком. Ромек писал:
«Начинаю без обращения, потому что не имею права употреблять слов, которые просятся на бумагу. А слов формальных употреблять не хочу, не могу. Еще направляясь к тебе вчера, я хотел с тобой серьезно и откровенно поговорить. Однако убедился, что это мне не по силам. В твоем присутствии я теряю власть над своими чувствами и над собой, что приводит к такому непростительному поведению, как мое вчерашнее. Поэтому я убедительно и искренне прошу у тебя прощения. Когда ты велела мне прийти в себя, я понял, что единственный способ спасти твою репутацию и мою честь — эти две святыни, которые я чту больше всего на свете, — это немедленно уйти от тебя.
Однако это ничего не решило и оставило мою драму, мою трагедию незаконченной. А я стремлюсь, я должен закончить ее тем или иным способом. К сожалению, наши взгляды на жизнь совершенно противоположные. Не думай, что я такой наивный. Я понимаю, что не совсем безразличен тебе. Досадно писать о таких вещах, но я чувствую себя обязанным это сделать. Итак, я понял, что ты сама хотела сближения между нами, такого сближения, которое унизило бы как твое достоинство, так и мою любовь к тебе.
Да, ты хотела этого, а точнее, тебе казалось, что ты этого хочешь. Я очень хорошо знаю тебя, чтобы это понять. В твоей ясной душе, в твоем девичьем воображении нечто недостойное может появиться лишь мимолетно и случайно, как прихоть, порожденная духом противоречия, как вспышка бунта против тех моральных начал, с которыми ты выросла, и которые тебе были привиты.
Я мужчина, и моя обязанность знать все эти вещи, потому что я и только я несу за все ответственность. Тем тяжелее упрекаю я себя за то, что на мгновение поддался безумию. Это была с моей стороны непростительная слабость.
Но я благословляю ту минуту, когда ты — возможно, это звучит слишком смело, — подала мне искорку надежды. Прости, что я пишу так откровенно. Я убедился, что ты чувствуешь ко мне не только дружбу и симпатию, как говорила, но и — еще раз прошу простить мне это слово — но и влечение. Сколько буду жить, не забуду того прекрасного мгновения, когда ты дрожала в моих объятиях, не забуду твоих закрытых глаз и раскрытых губ. Однако это не мог быть только голос плоти. Правда, у меня нет большого опыта в таких вещах, но уверяю тебя, что нельзя пережить момент неистовства так, как пережили его мы, и не понимать, что он означает для нас обоих куда больше, чем обычное чувственное влечение. Я говорю «для нас обоих», и я в этом уверен.
Единственная! Заклинаю тебя всем светлым и прекрасным, заклинаю тебя самой тобой! Загляни в свою душу и спроси себя, не рождается ли в тебе чувство глубже, весомее и существеннее, чем все, что ты испытала до сих пор.
Если ты ответишь мне, что не знаешь, еще не знаешь, я дам тебе столько времени, сколько сама захочешь. Я не тороплю тебя. Если ты уже теперь можешь ответить мне утвердительно, то немедленно поезжай в имение своих родителей, а я начну предпринимать формальные мероприятия по расторжению твоего брака. Надеюсь, что в Риме улажу все достаточно быстро. У меня есть там влиятельные знакомства (через родственников моей покойной мамы).
Я всю ночь не спал, сгорая в этих мечтах. Но теперь уже успокоился и прошу тебя основательно и серьезно обдумать свое решение, которое станет для меня приговором.
Утром, до двенадцати, буду ждать твоего ответа. Если не получу его, буду понимать это как отказ. Тогда я уеду прочь и уже никогда в жизни тебя не увижу.
Как трудно подобрать слова, чтобы закончить такое письмо, когда с одинаковым успехом можно написать и роковое короткое «прощай», и полное радостного ожидания «до завтра».
Целую твои руки. Целую с глубочайшим уважением и любовью.
Неизменно и навсегда твой Роман».
Когда я закончила читать это письмо, в моих глазах были слезы. Так горячо меня еще никто не любил. Просто беда, что он такой принципиальный. Я уверена, что мы были бы счастливы.
Не понимаю, зачем так усложнять себе жизнь. Ведь не человек живет ради принципов, а принципы должны служить ему в жизни. Бедный Ромек! Конечно, я не отвечу ему ни слова. Так будет лучше. О разводе с Яцеком и речи не может быть. Наконец, я люблю только его.
Не представляю себе жизнь без Яцека. Да если бы даже я его потеряла, то все равно не вышла бы за Ромека. Как все незаурядные индивидуальности, я прежде всего стремлюсь к свободе. А Ромек со своей ревностью, принципами и всеми глупостями лишил бы меня той свободы, которую я получила, выйдя замуж. Нет. Ничего ему не отвечу. Пошлю цветы. Это будет красиво.
Когда-то, когда мы с Яцеком состаримся, я покажу ему это письмо. Да и другие письма. Надо же ему узнать, как он должен благодарить меня за то, что я не хотела его покинуть.
В Кринице становится скучновато. Мужчин все равно что и нет. Сидят с мрачными лицами, обложившись стопками газет. Я напрасно заверяю их, что войны не будет. Уж кому-кому, а мне могли бы поверить. Если бы дело шло к войне, Яцек первый знал бы об этом и приехал бы за мной. Гитлер заберет Австрию, и на этом все закончится.
Единственное, что меня пугает, это роint de reverie относительно Отто Габсбурга (И не мечтайте об этом (франц.), в значении: решительный отказ, фиаско) Он такой милый. В прошлом году меня познакомили с ним в Ментоне. Представляю себе, какой замечательный вид он имел бы в коронационном наряде. Я даже сказала ему об этом.
В целом нет ничего хорошего, что везде сделали республики. Пусть кто-нибудь скажет, после какого из президентов останется Версаль, Сан-Суси, Виндзор или хотя бы Виланув и Лазенки. А эти живописные церемонии при дворе, мундиры, титулы — как это все красиво. Вот и теперь, хотя монархии уже нет, в республиках также введены при президентах церемониалы. Отец говорит, что это идиотизм. И очень раздражается, когда в обществе над этим смеются. Он говорит, что не смеяться надо, а грустить, потому что смех всегда хоть немного, но снисходительный.
Здесь автор дневника привела несколько примеров, которые я счел нужным вычеркнуть, поскольку, касаясь жен некоторых государственных деятелей, они могли бы поразить самолюбие тех панов и привести к международным конфликтам. Да и, наконец, совершенно излишне распространять такие вещи печатным словом — ведь на эту тему и так ходит множество анекдотов. (Примечание Т. Д.-М.)
Я еще мечтаю побывать при английском дворе. Ведь граф Эдвард обещал мне это. Еще тогда, когда речь шла о переводе Яцека на постоянную работу в Голландию. Бал при дворе — это должно быть нечто замечательное. Меня очень радует, что пани Симпсон никогда не побывает на таком балу. Терпеть ее не могу.
Поскольку п. Реновицкая, как она сама далее признает, не знакома лично с п. Симпсон, то бишь с принцессой Виндзорский, я подумал, что будет лучше, когда ее личное мнение об этой даме останется и дальше только при ней. (Примечание Т. Д.-М.)
Сегодня меня удивила странная неожиданность. Где-то задевалась фотография Бетти. Я обыскала все, перевернула вещи вверх ногами. Но она как сквозь землю провалилась. Не могу понять, как это произошло. При переселении потеряться она не могла, потому что я умышленно сама переносила платочки и видела, что фотография между ними была. А может, я в спешке ошибочно взяла именно тот платок, в которой ее спрятала?.. Нет, это кажется мне невозможным. Завтра поищу еще. Как хорошо, что я тогда взяла два отпечатка!
Я уговорила пана Ларсена поехать в Краков посетить Вавель и тому подобное. Попутно привезет мне чулки лучшего качества, чем можно купить здесь. Просто невероятно, как ненадолго хватает хороших чулок.
Пятница
Сегодня я впервые побывала у мисс Норман. Таки удалось мне напроситься в гости. Мы встретились именно тогда, когда она заходила к себе. Я спросила:
— У вас уже убрано? А у меня как раз убирают, поэтому должна полчаса ждать в холле.
Ей не оставалось ничего другого, как пригласить меня.
— Буду рада, если вы посидите у меня.
— О, я бы не хотела вам мешать!..
— Да нет, я сейчас свободна. И мне действительно будет очень приятно.
Ее номер ничем не отличался от моего. Я увидела только, как много она имеет хороших дорожных вещей, и какой у нее образцовый порядок. Она угостила меня шоколадом и сказала:
— Нигде не ела такого вкусного шоколада, как в Польше. Если говорить о горьком шоколаде, то лучше разве что голландский. Однако и ваш — просто замечательный.
— Да, — согласилась я. — Многим иностранцам нравятся наш шоколад и пирожные. Когда в польское посольство в Лондоне привозят из Варшавы пирожные, англичане охотно их едят.
— Еще бы, ведь в Англии пирожные никудышные. Вы это заметили?
Так мы разговаривали с ней ни о чем. При этом я имела возможность внимательно оглядеться вокруг. Я подумала, что если брачное свидетельство где-то спрятано, то наверняка или в бельевом шкафу, или же в несессере, который стоит за креслом в спальне. Но вполне возможно, что я найду его в ящике письменного стола. Когда мисс Норман выдвинула его, чтобы что-то мне показать, я увидела там много бумаг.
И я твердо решила уже завтра найти способ посетить номер мисс Норман в ее отсутствие.
Суббота
Сегодня все мои усилия ни к чему не привели. В конторке все время сидел тот усатый старикан, который каждый раз безошибочно подавал мне мой ключ, хотя я показывала на ключ мисс Норман.
— О, да. Возможно, я ошиблась, — оправдывалась я.
А тот остолоп с галантной улыбкой уверял меня:
— Нашим уважаемым гостям можно ошибаться. А мне нельзя.
Наступила оттепель. Стало сыро. Я начала уже немного скучать.
Воскресенье
Боже, какой ужас я пережила! Бр-р-р… Нет, профессиональной воровки из меня не получилось бы. Но расскажу все по порядку.
Казалось, все складывается как нельзя лучше. Утром, спускаясь вниз, я увидела, что Бетти с каким-то паном садится в сани. Они видно собирались ехать далеко, потому что Бетти взяла свой плед. И я тут же решила: сейчас или никогда. Старый портье, видимо, пошел к мессе в костел, потому замещал его помощник, долговязый верзила с тупым выражением лица. Эта замена была мне на руку.
Где-то с четверть часа я пересматривала «Vogue» («Мода» — английский женский журнал), а затем, пытаясь скрыть страх, приблизилась к верзиле и попросила дать мой ключ. При этом я показала на ключ от номера мисс Норман. Он подал не раздумывая.
В коридоре второго этажа не было ни души. Мне повезло. Я быстро открыла дверь и вошла. Сердце бешено колотилось у меня в груди. Как трудно все же быть вором!
Первое, что я увидела, были ключи, которые торчали в ящиках письменного стола и комода. Это меня успокоило. В шкафу был безупречный порядок. Какое у нее прекрасное белье! Хоть каждая минута грозила мне опасностью, я не могла не рассмотреть ее гарнитуры. Ах, если бы я имела время зарисовать некоторые из них! Особенно понравились мне два, обшитые кружевом ручной работы. А какие ночные рубашки! Наверное, американские. Такая красота стоит бог знает каких денег.
Я тщательно обыскала полку за полкой. Однако ничего не нашла. Заглянула даже в обувной ящик, полный туфелек. Сколько же их у нее! Одна пара была без распорок и поэтому привлекла мое внимание. Я засунула пальцы внутрь и чуть не вскрикнула, пораженная. Там лежал какой-то предмет, завернутый в бумагу. Торопливо развернув его, я разочарованно вздохнула. Это был миниатюрный револьвер, украшенный золотом и эмалью.
Я сложила все, как было, и принялась за несессер. Там лежала только почтовая бумага, та самая, на которой она писала Яцеку. Если она держит бумагу в несессере, то, по всей видимости, сейчас с Яцеком не переписывается.
Потом я принялась искать в письменном столе. Там лежала немалая пачка различных бумаг, документов, проспектов и счетов. Я внимательно все просмотрела, но не нашла ни нужного мне документа, ни чего-то такого, что могло бы направить меня на какой-то след. Я была совсем расстроена. Обыскала все уголки, заглянула под диван, под матрас, на шкаф, за радиатор — все бесполезно.
Пожалуй, эта продувная бестия все носит при себе или положила на хранение в гостиничный сейф в Варшаве.
Когда я уже отчаялась и хотела уходить, в дверь вдруг постучали. Сердце мое замерло. О побеге не могло быть и речи. Номер имеет только одну дверь. В первый момент я подумала, что можно спрятаться в ванной. Но это мне не помогло бы: войдя, я заперла дверь изнутри. Если это стучала горничная, то у нее был свой ключ, и она сразу поняла бы, что в номере кто-то есть. Стук послышался снова.
— Кто там? — спросила я по-английски, пытаясь подражать голосу мисс Норман.
Я вздохнула с облегчением, когда мне ответил мужской голос, также по-английски:
— Здесь живет мисс Элизабет Норман?
Итак, тот, кто стучал, был незнаком с обстановкой. Что я должна ответить? В конце концов, мне нужно было только одно: чтобы он на минуту отошел от дверей — этого мне хватило бы, чтобы убежать. Надо было отослать его к портье. Поэтому я сказала:
— Нет. Вы ошиблись.
Однако тот человек не отошел от двери, и меня охватил настоящий ужас. Наконец он тихо сказал:
— Завтра.
После этого я услышала, как удаляются его шаги.
Что это могло значить? Я отчетливо слышала: «Завтра». Может он хотел сказать, что придет завтра, а может, имел в виду нечто иное?
Мне было некогда размышлять над этим. Я быстро отворила дверь, а через две минуты была уже внизу, отдала ключ и вернулась к себе. От волнения у меня разболелась голова. Надо написать Тадеушу, что его план не оправдал себя.
Теперь, собственно, у меня нет здесь больше никаких дел. Можно уже и возвращаться в Варшаву. Вот только дождусь письма от Бакстера.
Как бы там ни было, а он должен мне написать. Джентльмен не оставит даму без ответа. Надо набраться терпения.
Моя «вылазка» совершенно расстроила мои нервы. Пришлось принять бром и лечь в постель. К тому же я не уверена, что не оставила в номере Бетти каких-либо следов своего визита, а еще беспокоит меня тот пан со своим непонятным «завтра». Мир кажется мне грустным и противным. И погода этому способствует. Хоть бы снова подморозило.
Понедельник
Этот Тото просто сумасшедший! Надо же такое придумать! Однако это мило с его стороны. Приехали шестью машинами десятка три человек. На машинах вывесили таблички с надписью: «Зимний рейд к пани Ганке». Вся Криница только об этом и говорит. Я вдруг стала здесь самой популярной личностью. Представляю себе, как все дамы корчатся от зависти.
Тото и его компания приехали в десять утра, а так как все были голодны, то первый завтрак превратился в какой-то дикий банкет. В ресторанном зале сдвинули столы, а в час, когда начали подавать нормальный обед, директор должен был умолять Тото, чтобы мы перешли в бар. Тото сказал, чтобы туда послали оркестр, и мы замечательно развлекались до шести вечера, а потом почти все, подвыпившие и усталые, пошли спать.
Однако Тото ничего не берет. Он и слышать не хотел об отдыхе, хотя вел машину от Варшавы до Криницы. Не один человек мог бы позавидовать его здоровью. Мы пошли на каток, где как раз проходил хоккейный матч с латышами.
Тото, как и следовало ожидать, привез огромное количество шоколада и отборного порто (сорт вина), которое я так люблю. Он, бесспорно, имеет свои достоинства.
Ужинали мы вдвоем внизу. Все в ресторане посматривали на нас. И неудивительно. Тото вел себя как влюбленный паж. Ничуть не обращал внимания на то, что все нас видят. Во время десерта он заметил мисс Норман и сказал:
— Посмотри-ка, Ганечка. Кажется, мы видели эту даму в Варшаве. Ты знаешь, кто она?
— Конечно. Она англичанка. Зовут ее мисс Норман.
— Ты знакома с ней?
— Познакомились здесь. А что, понравилась?
Он искренне засмеялся.
— Разве при тебе может понравиться какая-то другая женщина?
Я смерила его холодным взглядом.
— Кто неприхотлив, тому любая нравится.
— Но меня ты таким не считаешь?
— Иногда нет.
— Только иногда?
— Именно так. Ведь ты ухаживаешь за несносной Мушкой Здроевской. Я иногда думаю: о чем вы можете разговаривать между собой? Вот, пожалуй, единство интеллекта, взглядов и интересов.
Тото обиделся. Я знала, что ничто ему так не задевает, как иронические замечания относительно его интеллекта. Но он сам разозлил меня, разглядывая мисс Норман.
— Если ты считаешь меня дураком, — сказал он, — то зачем же водишься со мной?
Я пожала плечами.
— Я вовсе не считаю тебя дураком. Но знаешь сам, что звезд с неба ты не хватаешь.
Тото покраснел.
— Теперь я вижу, что зря сюда приехал. Ничего, кроме неприятностей, из этого не выйдет.
— С превеликим удовольствием вознагражу тебя ею, — сказала я и встала, чтобы поздороваться с мисс Норман, которая как раз выходила. Я сделала это под влиянием какого-то бессознательного импульса, но отступить уже не могла. Мисс Норман остановилась. Я познакомила ее с Тото и пригласила немного посидеть с нами. Я наблюдала за выражением его лица. Он разыгрывал столько разных чувств одновременно и делал это так бездарно, что я видела его насквозь. Притворялся возмущенным моим поведенным, безразличием к красоте мисс Норман (она действительно хороша собой), сдержанно вежливым и скучающим. Наконец, он счел нужным высказать это еще более отчетливо. Через пять минут банального разговора сослался на усталость, попрощался и пошел спать. Наверное, думал, что я позвоню ему в номер или сама приду. Долго придется ему ждать.
Собственно, я и сама не знаю, чем он меня так разозлил. Но во взгляде, которым он смотрел на эту Бетти, было что-то отвратительное.
В сердцах я долго не могла уснуть. Умышленно выключила телефон и не отвечала, когда стучали в дверь. Лучше бы уехать завтра утром. Это была бы хорошая наука Тото. Вот и сейчас, когда я это пишу, опять стучат в дверь. Это уже третий раз. Ничего ему не поможет. Пусть себе идет к той рыжей выдре. Завтра он будет притихшим и покорным. На нее и взгляд не бросит. Конечно, только когда я буду рядом. Зря я их познакомила. Уже двенадцать. Иду спать.
Вторник
Между мной и Тото все кончено. И я очень этим довольна. Давно уже надо было это сделать. Вот как все произошло.
Я проснулась рано и включила телефон. В восемь пришел парикмахер, а через четверть часа раздался телефонный звонок. Я взяла трубку, но оказалось, что это Мирский. Он ничего не знал о нашей вчерашней ссоре с Тото и поэтому спросил, какие у нас (то есть у меня и Тото) планы на сегодня. Я сказала ему, что не знаю, так как Тото еще спит.
— Как это спит? — удивился он. — Ведь он час назад был у меня.
Я онемела. Итак, встал и не позвонил мне. «Ну, хорошо, — подумала я. — Ты обиделся, а извинишься сам». Я предложила Мирскому покататься на санях. Он с радостью согласился. В десять мы уже были внизу.
Когда мы проезжали мимо кинотеатра, нас обогнали сани. Я не поверила собственным глазам. В них сидел Тото рядом с мисс Норман. Тото смутился, но поклонился мне подчеркнуто холодно. А так как выдра смотрела в другую сторону, то я тоже позволила красноречивый жест: не шелохнулась. Мирский заметил, что я не поздоровалась, но ни о чем не спросил. Это было весьма тактично с его стороны.
Такого простить Тото я уже не могла. Он перехватил через край. Просто не могу описать, как я была зла. Мне он, конечно, безразличен, но ведь тут речь идет о моей чести. Так меня скомпрометировать! В первое мгновение я решила немедленно уехать прочь, однако, немного успокоившись, рассудила, что это было бы не в мою пользу. Тото мог бы подумать, что я им интересуюсь. Нужно остаться здесь еще хоть на пару дней. Плохо даже то, что я не ответила на его приветствие. Ну да ничего уже не поделаешь. Так и будет.
Вернувшись в гостиницу, я написала длинное и очень теплое письмо Яцеку. Это лучший человек, которого я знаю. Я даже готова простить ему его двоеженство. Во всяком случае, от него мне не приходится ждать таких неожиданностей, как от Тото.
Обедала я с Ларсеном. Как хорошо, что он пришел. Это очень облегчило мое положение. Но выдра была одна, а все мое общество шумно пировало в конце зала. Я притворялась веселой, и это видимо удивило моего партнера, поскольку он как раз рассказывал мне какие-то скучные вещи о России и о своих тамошних знакомых.
Тото, видимо, нарочно сел спиной к залу. Интересно, как он объяснил другим то, что мы не вместе. Наверное, придумал какую-то несусветную чушь. А впрочем, мне все равно. Я вернулась к себе, чуть не плача. Что-то неладно у меня с нервами. Да и не удивительно. Любая женщина на моем месте после таких переживаний уже сошла бы с ума. А тут еще этот Тото.
Наконец в пять он мне позвонил.
— Чем могу служить? — спросила я спокойно.
— Можно зайти к тебе на минуту? Я хочу поговорить с тобой.
— О чем? — спросила я таким тоном, который должен означать только одно: говорить нам не о чем.
Тото помолчал, тогда неуверенно сказал:
— Ну, надо же нам как-то поладить. Хотя бы для того, чтобы это не выглядело так дико. Для отвода глаз.
— Ну что же, ладно, — согласилась я. — Только с одним условием…
— А именно?..
— Обещай мне, что мы будем говорить только о том, каким образом закончить наше знакомство, и ни о чем другом.
— Обещаю тебе это.
Через пять минут он пришел. Впервые я присмотрелась к нему вполне беспристрастно. Не понимаю, как я могла иметь с ним что-то общее. Он просто вульгарный. Естественно, на определенном уровне. Но вульгарный. Живой образ банальности. Мог бы служить формой для изготовления таких же, как он, лиц, лишенных какого-либо внутреннего содержания, урожденных аристократов, шаблонно воспитанных и никчемных.
Он поклонился мне, но руки не протянул: видимо, боялся, что я не подам своей. Это опасение было не напрасно. Я показала ему на кресло и села сама.
— Собственно говоря, — начал он, — после того, как ты не поздоровалась со мной, я не должен разговаривать с тобой. Однако признай…
— По-моему, — перебила я его, — ты не должен был делать этого еще раньше.
— Что ты хочешь этим сказать?
— То, что ты мог предупредить меня о спектакле, который устроил перед обществом, публично разгуливая с той дамочкой. Ты поступил так, что Мирский подумал обо мне бог знает что. Я выглядела в его глазах несчастным и покинутым жалким существом. Так не делают. Конечно, ты волен щеголять перед всей Криницей своими успехами у всех международных авантюристок, какие только есть на свете. Это твое дело. Но ты мог бы по крайней мере предупредить меня. Именно так я понимаю приличия.
— К сожалению, ты сама лишила меня такой возможности, — ответил он. — Вчера я раз пятьдесят тебе звонил. Ты даже не соизволила взять трубку. Несколько раз стучал в дверь. Ты не соизволила отозваться. Что же мне было делать?
— Мог позвонить утром…
— Да? Утром? А зачем? Лишь бы убедиться, что твое плохое настроение не прошло? Какая у меня была гарантия, что ты будешь так добра и захочешь со мной разговаривать? Я приехал к тебе и только ради тебя. Устал, не спал, а ты меня так принимаешь. Нет, моя дорогая. Я не имею в чем себя упрекнуть.
— Напрасно. Я так не считаю. Но это уже не имеет значения.
— Да, — вызывающе согласился он.
— Ну, а дальше что?
— Хотя нам себя и жаль… — начал он.
Я перебила его.
— Мне тебя нисколько не жалко.
— Ну ладно, все равно, как это назвать.
— Совсем не все равно. Если так, ты можешь сказать своим друзьям, что я просто в отчаянии.
— Ганка, — укоризненно посмотрел он на меня. — Ты же сам знаешь, что я никогда такого не сказал бы. Что я никогда и ни с кем не буду говорить о тебе иначе, чем с искренней симпатией.
— Я в этом совсем не уверена.
— Даю тебе слово. Не знаю, почему ты вдруг так возненавидела меня, но я сохраняю к тебе те же чувства, что и всегда.
Я подняла брови.
— Ах, вот это новость! У тебя были ко мне какие-то чувства? Никогда бы не подумала.
Тото нервно дернулся в кресле и сказал обиженно:
— Мы условились не говорить о прошлом.
— Это ты начал.
— Ну, хорошо. И довольно. Теперь я хочу предложить тебе поддерживать в дальнейшем такие отношения, которые не привлекали бы внимания. Ведь мы так часто встречаемся. Не говорю уже о Кринице, где живем в одном отеле, но и в Варшаве тоже. Зачем давать повод к сплетням? Надеюсь, это не будет тебе очень неприятно. Ведь приходится тебе здороваться со многими людьми, которые тебе безразличны, а то и несимпатичны. Так мы сможем избежать сплетен. А это самое важное. Я хочу лишь одного: сохранить видимость прежних отношений.
— Не знаю, как это будет выглядеть после всех твоих выходок. Хороша видимость, когда ты неожиданно публично набрасываешься на ту рыжую англичанку. А во время обеда не берешь на себя труд поздороваться со мной.
Он горячо возразил:
— Чтобы ты опять не ответила мне? Будь же справедлива. А если тебе досадно, что я провел немного времени с той пани, то я могу не делать этого.
— Мне? Мне досадно! Смех, да и только! Да что мне до того? Хотя бы ты родил с ней кучу детей… Твое самомнение переходит всякие границы. Как будто мне нечего делать, кроме как беспокоиться о том, что ты за кем-то ухаживаешь, или добиваешься чьего-то расположения?
Он был страшно зол, но молчал. Поэтому я заявила:
— Хорошо. Я согласна на твое предложение. При встречах будем вести себя, как прежде. Разумеется, только в присутствии посторонних. Но запомни: никого мы не обманем, если одновременно ты будешь выставляться напоказ с той женщиной. Кстати, это жертва немного бы тебе стоила. Я пробуду здесь самое большее день или два.
— Это мне вообще ничего не будет стоить, хотя бы потому, что я сегодня уезжаю.
— Уезжаешь? — удивилась я. — Почему?
— Странный вопрос. Ведь я приехал сюда только ради тебя.
Я недоверчиво посмотрела на него.
— А она? Она тоже уезжает?
Он заметно смутился.
— Понятия не имею. Откуда мне знать?
— Это было бы интересное стечение обстоятельств, — засмеялась я.
— Что? — возмутился он. — Ты подозреваешь, что мы с мисс Норман сговорились и едем вместе!
— Это меня не интересует, — пожала я плечами.
— У тебя нет сердца.
— О нет, мой милый. Есть, даже в избытке. Уж если мне чего не хватает или не хватало, так это трезвого ума, чтобы не давала сердцу свободы там, где не надо. А ты никогда не ценил меня надлежащим образом.
Он возмущенно вскочил.
— Я не ценил? Я? Да будь справедлива, Ганка! Я никого и ничего не ценил в жизни так, как тебя. И ты это знаешь лучше меня.
Правду говоря, он таки был прав. Он слишком проявлял свою любовь ко мне. Во всяком случае, такое беспощадное наказание за эту свою выходку не заслужил. Конечно, я и мысли не допускала простить ему это. Он меня оскорбил, а причиненных мне обид я забывать не умею, хотя совершенно не мстительная. Я сказала:
— Допустим, так было на самом деле. Но мы собирались говорить только о соблюдении приличий. Так как же с этим?.. Не считаешь ли ты, что было бы неплохо, если бы я пошла ужинать с тобой и со всей твоей компанией?
— Как это ужинать? Ведь я уезжаю еще до ужина.
— Да. У тебя было такое намерение. Но ничто тебя не вынуждает к немедленному отъезду.
Он заколебался.
— Да конечно… Хотя с другой стороны… собственно… некоторые дела требуют моего присутствия в Варшаве… Должен приехать пан Голембиевский с отчетом. Я сам назначил ему на завтра… Неудобно…
— Пан Голембиевский приезжает раз в неделю, — холодно заметила я, — и сидит в Варшаве по несколько дней. Может подождать.
— Да, впрочем, есть и другие дела. Я хотел бы уехать сегодня.
— Так и уедешь. Не думай, что я задерживаю тебя. Но прекрасно можно сделать это и после ужина.
Он вертелся в кресле, словно насаженный на вилку. Теперь я ничуть не сомневалась, что здесь причастна мисс Норман. Как видно, он пообещал подвезти ее своей машиной. Этого я ни в коем случае не могла допустить. Это был бы для нее слишком большой успех.
— Я уже приказал упаковать мои вещи, — вздохнул Тото.
— Так свели распаковать.
— И предупредил, что освобождаю номер. А людей понаехало столько, что его уже, видимо, кто-то ждет. У меня не будет где переночевать.
— А зачем тебе ночевать? Ведь ты уедешь до ночи. Я решила не уступать. Пусть та выдра знает, что мое слово здесь еще что-то значит. Тото был очень обеспокоен. Он неуверенно поглядывал в мою сторону и в душе, наверное, проклинал себя за то, что напросился на разговор со мной. Я знала, что ему не хватит смелости открыто настаивать на своем. Ненавижу этого мямлю. Настоящий мужчина на его месте просто заявил бы: «Я никогда не меняю своих намерений. Если ты хочешь сохранить видимость, пожалуйста. Спустимся сейчас же вместе к вечернему чаю и всем покажемся».
Тото крутил пуговицы на пиджаке и молчал.
Я спросила:
— Ну, вот и все, что мы должны обсудить. Не так ли?
— Да. Но… С этим моим отъездом…
Я притворилась возмущенной:
— Как? Ты делаешь проблему из нескольких часов?.. Требуешь, чтобы я для виду не порывала с тобою, чтобы хлопала глазами перед всеми после той обиды, которую ты мне нанес, а сам не можешь поступиться такой мелочью и отложить поездку до вечера?! — Я встала и решительно добавила: — Впрочем, мне все равно. Разговор окончен. Если я приду ужинать и не застану тебя в ресторане, то буду считать, что тебе эта видимость ни к чему. Тогда, конечно, я вправе буду объяснить причины нашего разрыва знакомым как здесь, так и в Варшаве.
Я кивнула ему, повернулась и вышла в спальню.
Честно говоря, я не знала, как поступит Тото. Направляясь на ужин, была даже взволнована: что же меня там ждет?
В коридоре второго этажа я увидела картину, наполнившую меня искренней радостью. Я чуть не рассмеялась вслух: слуга вносил в номер мисс Норман ее чемоданы. Я обратилась к нему:
— К панне Норман кто-то приехал?
— Нет, пани, — ответил он. — Эта дама намеревалась уехать, а теперь передумала и остается. Поедет ночным поездом.
Ишь, авантюристка! Думала, что достаточно ей пальцем поманить, чтобы выхватить Тото у меня из-под носа. Не так это просто, моя дорогая! Интересно, что придумал Тото, чтобы оправдаться перед ней, какую побасенку придумал? Но где ему с его дипломатией! Видимо, ее не обманешь никакими уловками, а даже если и так, то достаточно ей будет увидеть меня за одним столом с Тото, чтобы все понять. А вечером пусть себе мирно едет, потому что я твердо решила задержать Тото в Кринице на весь завтрашний день.
Тото сидел растерянный, подавленный и смирный у большого стола в конце зала. Видимо, ждал уже давно, и Мирский и другие также были на своих местах. Когда я приблизилась к их столу, они встали и не слишком убедительно выразили свою радость «по поводу улаживания конфликтов». Я обратилась к Тото так, будто между нами ничего не случилось:
— Я страшно голодная. И с удовольствием выпила бы рюмочку рябиновки или еще чего на твой выбор.
Он был так потрясен моим непринужденным поведением и улыбкой, что с трудом извлек из себя несколько невнятных звуков. Пришел в себя только под конец ужина.
Мисс Норман вообще не спустилась вниз. Вероятно, ужинала в номере, или, может, от досады у нее пропал аппетит. Пусть знает, что я не какая-то глупая девчонка. И если даже в этой мелочи ей не удалось добиться своего, придется ей считаться со мной как с серьезной противницей и в более важных делах.
Мы просидели в баре внизу до трех часов ночи. Ну и наивный же этот Тото! Он совсем раскис, забыл о своем отъезде и ел меня глазами, как в лучшие времена. Поклялась бы головой, что он уже лелеял большие надежды. Хотела бы я видеть его лицо, когда он узнал, что я пошла спать. Я вышла на минутку из бара, предупредив, что сейчас вернусь. Но, конечно, не вернулась.
Я долго прислушивалась, не постучит он в мою дверь, но как видно, он все понял и даже носа не показал.
Завтра вечером уедем вместе.
Среда
Наконец пришло письмо из Бургоса. Я нетерпеливо распечатала длинный узкий конверт американского типа и сразу разочаровалась. Внутри было только письмо — ни одной фотографии.
Бакстер писал:
«Уважаемая пани! К сожалению, я не могу служить Вам ни многими, ни подробными сведениями относительно особы, которая Вас интересует. Мое знакомство с панной Салли Ней было совершенно случайным и кратковременным. Действительно, четыре года назад я был по делам службы в Буэнос-Айресе и там встретил девушку с такой фамилией. Если мне не изменяет память, это был не псевдоним, потому что она пользовалась им не только для рекламы, как танцовщица, но и в частной жизни. Эту мою мысль подтверждает и то, что мы разговаривали об ее семье, которая испокон веков живет в Северной Ирландии.
С тех пор я не виделся больше с той девушкой и не переписывался с ней, однако сохранил к ней наилучшие дружеские чувства и вспоминаю ее как милую, хорошо воспитанную, интеллигентную и культурную особу. При своей тяжелой профессии танцовщицы, вращаясь в среде, которая отнюдь не способствует развитию хороших привычек, она не потеряла свежести и добродетели девушки из хорошей семьи.
Насколько я знаю, танцами она занялась из-за материальных затруднений родителей. Она терпеливо повиновалась своей судьбе, хотя и мечтала о замужестве. С уверенностью могу сказать, что тогда она не была замужем. А поскольку она обращалась ко мне за советом относительно визы, то я держал в руках ее документы, выданные английскими властями на фамилию Салли Ней.
Она говорила мне, что ей предлагают выступать в одном казино в Каннах, и очень по этому поводу радовалась, потому что ее брат якобы работал в Ницце на одном из английских промышленных предприятий. Я не уверен, но кажется, его имя Джеймс.
В Буэнос-Айресе панна Ней жила со своей тетей, пани Колларс, почтенной пожилой дамой с безупречными манерами и веселым нравом. Они очень любили друг друга.
Из всего, что я знаю о панне Ней, можно судить, что здесь какая-то ошибка и что Вы имеете в виду не ее. Все могла бы решить фотография, но, к сожалению, ни одного снимка панны Ней у меня нет.
Очень прошу Вас при возможности передать мои дружеские поздравления Ларсену.
С уважением. Ч. Б. Бакстер»
Я очень внимательно прочитала письмо. Оно противоречило моим подозрениям только с первого взгляда. Вполне вероятно, что Бетти Норман могла иметь фальшивый паспорт. Она происходила из приличной семьи и, естественно, не хотела, чтобы кто-то знал, что она выступает в кабаре. Если она могла пользоваться чужой фамилией в Биаррице, да и сейчас живет под девичьей вместо законной фамилии Яцека, то нет сомнений, что ее принципы вполне позволяют ей воспользоваться фальшивыми документами.
Теперь относительно ее тети и брата. Тетя, конечно, могла быть настоящая, тем более, что вообще принято называть тетями даже далеких родственниц. А вот брата она выдумала. И Яцек, и дядя Довгирд определенно говорили о ней как о единственном ребенке у родителей. Да, впрочем, она и сама говорила, что одна в целом мире.
Какое-то предчувствие подсказывало мне, что я не ошибаюсь. Ну, вот уж бельгийские детективы все выяснят. Надеюсь, их ответ не заставит себя ждать. Как жаль, что исчезла та фотография мисс Норман. Я послала бы ее Бакстеру и за несколько дней знала бы все наверняка. Я еще раз очень внимательно обыскала все, но карточки не нашла. Поэтому решила опять наведаться в фотографии, где уже была раньше. Теперь, когда мисс Норман в Кринице нет, я могу смело говорить, что делаю это по ее поручению, и забрать все невыкупленные снимки.
Тото покорно позвонил с самого утра. Сказал, что у него болит голова, потому что вчера он много выпил и сам не знает, в котором часу лег спать. Я поняла, что он умышленно говорит обо всех этих вещах, избегая интимного тона, потому что не знает, как я к нему отнесусь. Очень хорошо. Пусть не знает. Собственно, это будет самое лучшее — держать его в неведении.
Я решила во что бы то ни стало не допустить его сближения с той рыжей авантюристкой. И хорошо знаю, что мне достаточно незначительного усилия, чтобы удержать его при себе. Не ради него самого, а из-за нее. Надо только в те моменты, когда он будет отдаляться от меня, давать ему небольшую надежду. К тому же Тото боится, что я выставлю его на посмешище перед знакомыми. Не стану скрывать, я бы сделала это с превеликим удовольствием, да и способностей мне не занимать.
Сразу же после завтрака я забрала Тото и отправилась на поиски фотографий. Во-первых, потому, что лучше уж общество Тото, чем никакого, а во-вторых, мне надо было показаться с ним, чтобы заткнуть рты болтунам. Вчера все видели, что Тото собирается уезжать, равно как и та баба. Поэтому, наверное, связывали эти два отъезда между собой. Пусть убедятся, что он остался, и остался ради меня.
Хоть как я ни искала, хоть пересмотрела около двух тысяч фотографий, однако ни одной фотографии мисс Норман не нашла. Оказалось, что перед отъездом она выкупила все свои снимки. Это меня очень удивило, потому что всегда, когда мы вместе бывали в городке, она пыталась избегать фотографов. Говорила, что такой у нее предрассудок. В ее номере я тоже не нашла ни одной фотографии. Зачем же она тогда так скрупулезно их все выкупила?
Для Тото наш поход была настоящей мукой, потому что я сказала ему (надо же было как-то это объяснить), что ищу фотографии для него. Только за обедом он немного расшевелился. Мы решили выехать в шесть. На день или два остановимся в Кракове. Я уговорила Мирского поехать с нами. В его присутствии Тото не решится ни на какие фамильярности. Да и мою сдержанность можно будет объяснить необходимостью сдерживаться при Мирском. Пишу второпях. Мои вещи уже вынесены к машине. Большие чемоданы портье отправит вечером поездом.
Уезжаю из Криницы, хотя и не достигнув того, ради чего приехала, однако с большим запасом новых сведений.
Четверг
Я очень недовольна собой. Слишком много пила на обеде у Гуцев. До сих пор в голове гудит. Если бы не проклятое шампанское, то наверняка не сделала бы такой глупости. Шампанское и краковская скука.
Здесь совсем нечего делать. И я все себе испортила. Всю свою стратегию.
Тото снова готов взять себе в голову бог знает что. Надо будет завтра подумать о новой тактике. Сегодня не имею на это сил. Вокруг такая тишина. Первый час ночи.
Краков давно уже спит. Правда, прошлой ночью я немного подремала в машине, но все равно очень усталая, и глаза у меня сами слипаются.
Что-то я хотела еще важное записать. Никак не припомню. Ага, вот что: Тото дал мне понять, что может рассчитывать на успех у той рыжей. Это просто его самомнение, не правда ли?
Пятница
Сегодня большой бал у Потоцких. Будет весь малопольский высший свет, а также молодой Эстерхази, который, кажется, просит руки Люси. Очень интересно, какой он из себя. На любительских фотографиях производит весьма приятное впечатление. Меня ужасно просили остаться. И Тото уговаривал, как мог. Он надеялся, что Эстерхази, который два года назад охотился на волков в его имении, не захочет остаться в долгу и пригласит его к себе на муфлонов.
Собственно, я потому и не согласилась, что Тото так настаивал, вот сегодня вечером перед началом бала мы выезжаем. Мне еще осталось сделать несколько визитов. Разговаривала по телефону с Яцеком. Он искренне обрадовался, что я еду домой. Все больше убеждаюсь, что люблю только его.
Воскресенье
Врач сказал, что шрам на лбу заживет бесследно. Я просто дрожу от мысли, что он может в этом не разбираться. Хотя он вроде один из лучших специалистов в Европе по косметическим операциям. К тому же правый бок у меня так болит, что могу лежать только на левом.
Мирскому раздробило нос. Представляю себе, какой вид он будет иметь, когда выздоровеет. Но больше всего пострадал Тото. Вот только что мне позвонили и сообщили, что у него сложный перелом левой руки. В общем, он это заслужил. Дорога была скользкая. Я дважды просила его, чтобы ехал не так быстро. А он от злости еще сильнее нажимал на газ. Это должно было закончиться катастрофой. Нам еще повезло, что дерево, падая, не придавило машину. А то были бы мы все трупами. От «мерседеса», разумеется, осталась груда металла.
Люди из низших слоев завидуют нам, что мы ездим машинами. Если бы они знали, каким опасностям мы подвергаемся, то благодарили бы бога, что им на роду написано пользоваться трамваями, поездами и тому подобным.
Яцек дает мне столько доказательств своей любви, он такой внимательный, просто не насмотрится на меня. Сегодня утром, когда я жаловалась, что у меня может остаться безобразный рубец, он сказал:
— Мне стыдно за свой эгоизм, но признаюсь: я, может, даже хотел бы, чтобы ты стала некрасивой, совсем некрасивой и никому не нравилась, только мне.
— Боюсь, что тогда я и тебе перестала бы нравиться.
Яцек засмеялся так искренне, что у меня пропали всякие сомнения.
— О нет! — воскликнул он. — Я недавно читал достаточно умную книгу какого-то английского автора. Называется она, кажется, «Технология брака». Там есть не лишенное смысла наблюдение, что через несколько лет совместной жизни муж и жена уже не обращают внимания на внешность. Они привыкают к ней так же, как ребенок к красивым игрушкам. С тех пор значение имеет суть и только суть.
— Если и суть существует, — заметила я.
Он нежно посмотрел на меня.
— А разве в самом браке ее нет?
Я охотно признала бы его правоту, но, помня о его еще не искупленной вине передо мной, сказала:
— Что была такова суть, я знаю… А вот вернется ли она — не уверена.
Яцек сразу прекратил этот разговор, потому что именно в тот момент пришла мама. Она была очень встревожена и, поцеловав меня, воскликнула:
— Вы уже слышали?
— О чем? — спокойно спросил Яцек.
— Ну как же, о том, что уже принято решение о войне в Европе. Немцы разозлились на чехов, потому что якобы Ротшильд, тот, знаете, у которого гостил принц Виндзорский, бежал в Прагу, и немцы сказали: или им отдадут Ротшильда, или они забирают Карлсбад. Ну, вот в Париже и приняли решение начать войну.
Яцек засмеялся.
— Да что вы, мама, говорите! Это же какие-то дурацкие выдумки людей, которые абсолютно не разбираются в международной политике. Во-первых, Ротшильд не убежал, а во-вторых, пусть даже и сто Ротшильдов сбежало в Прагу и Чехословакия дала им убежище — из-за этого не было бы войны.
Мама успокоилась.
— Ах, какое счастье! Но ты в этом действительно уверен?
— Совершенно уверен.
— Потому что пани Сарницкая говорила, что знает от надежных людей, будто Гитлер хотел забрать Чехословакию. Говорят, часть ее он отдаст итальянцам, часть нам, но наибольшую часть, вместе с Карлсбадом, заберет себе. Вот была бы история! У них там в Германии нет масла. А я просто не представляю, как можно жить без свежего масла. Как ты думаешь, позволили бы мне привозить масло из Польши?
— А почему бы могли запрещать? — сказала я.
Яцек начал немного раздражаться.
— Послушайте, мама, все, что вы говорите, не имеет под собой никаких оснований. Во-первых, немцы не решились бы посягнуть на Чехословакию. Да и не захотели бы. Гитлер хочет объединения Германии и поэтому ни за что не согласится иметь в пределах немецкого государства какие-то чужие народы. Но если бы он даже и претендовал на Чехословакию, все равно никогда бы ее не получил.
— Почему же? — возразила мать. — Пани Сарницкая говорит, что он мог бы завоевать ее за несколько недель.
— Мог бы, если бы ему позволили другие государства. Но Чехословакия находится в военном союзе с Россией и Францией. А за Францией стоят Англия и Америка. И это еще не все. Как член Малой Антанты, Чехословакия может всегда рассчитывать на поддержку Румынии и Югославии. И над теми глупостями, которые рассказывает пани Сарницкая, можно только посмеяться.
— Ах, если бы только ты был в этом уверен!
— Мамочка, — возмущенно сказала я, — кому же лучше знать об этом, если не Яцеку? Им, дипломатам, все сверху видно.
— Спите спокойно, мама, — добавил Яцек. — Ни Карлсбад, ни масло никуда от вас не денутся. И вот вам лучшее доказательство неосведомленности вашей рассказчицы: она утверждает, что Италия тоже может забрать часть Чехословакии. Но итальянцы не имеют общей границы с этой страной. К тому же Италия никогда не согласится на то, чтобы немцы забрали Чехословакию.
— Почему не согласится? Ведь Гитлер и Муссолини друзья…
— Видите ли, мама, в международной политике так заведено, что никто не хочет, чтобы его друг слишком окреп. Чрезмерная мощь Германии была бы для Италии очень опасна.
Я всегда поражаюсь Яцеку: как логично и убедительно умеет он все объяснить. Как спокойно может решить самые запутанные вопросы международной политики.
— Видите ли, мама, — продолжал он, — Германия, особенно теперь, прибрав к рукам Австрию, в силу чисто экономических потребностей должна тяготеть к Средиземноморскому бассейну. Уже сегодня ощущается немецкое влияние на Югославию, и Италия потихоньку пытается противодействовать ему. Выход немцев к Адриатике был бы для Италии катастрофой. Правда, возможно и такое — я не могу сейчас говорить об этом подробно, — что в устройстве Чехословакии таки произойдут определенные изменения. Однако это произойдет без войны, путем переговоров. Речь идет об определенных льготах для немецкого населения Судетов. Что касается войны… О войне в ближайшие несколько лет нечего и думать по той простой причине, что ни Германия, ни западные государства не готовы к ней как следует. Наконец, во всех странах у власти находится поколение, которое уже пережило мировую войну, и это поколение к новой войне отнюдь не стремится.
Маму это убедило, и она сказала, что Яцек снял камень с ее сердца.
Сразу же после обеда начали собираться знакомые и родственники. По всей видимости, источником сплетен была не пани Сарницкая, потому что об этом уже говорили все. Я очень радовалась, имея возможность авторитетно опровергать ту ерунду. Даже заслужила за это похвалу от Станислава (он также пришел вместе с Данкой).
Станислав сказал:
— Ты очень рассудительная и, как я вижу, неплохо осведомленная в этих делах. У нас безосновательно преувеличивают силу Германии и преуменьшают значение Франции. Правда, нынешнее положение в этой стране оставляет желать лучшего. Но так будет продолжаться недолго. Французы на протяжении своей истории уже не раз доказывали, что они способны преодолеть временную слабость. Вот и теперь, в случае опасности, они куда легче, чем нам кажется, освободятся от влияния своих масонов.
Станислав большой знаток в вопросах масонства. Может часами разговаривать об этом с отцом. Я не раз прислушивалась к их разговорам. Пожалуй, было бы ужасно, если бы в мире царили масоны. Как говорит Станислав, почти все выдающиеся личности в Польше и за границей принадлежат к масонству. Не понимаю только одного: если уж они такие мощные и не гнушаются даже убийствами из-за угла, то почему же до сих пор не сумели избавиться от всех своих врагов, и не только таких незначительных, как, скажем, Станислав, но и таких, как Гитлер и Муссолини.
Что касается Польши, то она действительно в невыгодном положении, потому что вынуждена выбирать между большевиками, гитлеровцами или масонами. С кем тут можно дружить? С каким облегчением я вздохнула бы, если бы Яцек стал министром иностранных дел. С его головой он наверняка справился бы со всеми проблемами. Хотя, с другой стороны, всю эту историю с мисс Норман можно бы уладить куда лучше, чем это делает он.
Наверное, надо будет завтра позвонить Мостовичу, чтобы провести с ним новый военный совет. С повязкой на лбу я выгляжу довольно мило. Она немного напоминает серебристую шапочку.
Вторник
Сегодня впервые встала с постели. Собственно говоря, ничто меня уже не беспокоит, но так приятно быть на правах больной. Тетя Магдалена дохнуть на меня боится. У нее действительно доброе сердце. Поскольку Яцек был сегодня целый день занят, мы с ней несколько часов разговаривали. Она впервые рассказала мне, почему осталась старой панной. Вот никогда бы не подумала, чтобы она могла такое пережить, именно она. Есть все-таки на свете прочные чувства. Тетя Магдалена уверяет, что и теперь любит его так же пылко, как и тогда.
Ей было в то время едва восемнадцать лет. Родители ее умерли, поэтому, закончив обучение в пансионате, она поехала к своей старшей сестре, пани Сулигво. Супруги Сулигво жили в своем имении в Западном Полесье. У них было уже двое сыновей. (Я знаю их обоих. Один служит в военном флоте, а второй занимает высокую должность в промышленности Силезии). Тогда ребятам было около десяти или двенадцати лет. Пан Сулигво, намного старше жены, был полностью поглощен хозяйством и не уделял никакого внимания воспитанию детей. К мальчикам приставили гувернера и учителя в одном лице, пана Анзельма. Кроме этих пяти обитателей и еще немногочисленной прислуги, в большом мрачном доме не было никого.
Вскоре после приезда тетя Магдалена заметила, что отношения между ее сестрой Анелей и учителем далеко не те, которых мог бы желать хозяин дома. Но он, казалось, ничего не замечал.
Соседей у них почти не было. Но даже и те знакомые, живущие в радиусе пятнадцати-двадцати километров, избегали имения Сулигво. Там всегда царила гнетущая тишина. Хозяин, освобождаясь от дел, запирался в библиотеке. Мальчики кроме уроков проводили время в тихих развлечениях, в которые никого не посвящали. Анеля сновала по дому бесшумно, словно тень. Тогда она еще была хороша собой. (Я ведь познакомилась с ней, уже когда она была парализованной старушкой. Был ли между ней и паном Анзельмом роман, тетя Магдалена до сих пор не знает. Но думает, что нет. Это была какая-то болезненная, ненормальная любовь, которая неизбежно должна была возникнуть в том захолустье.
— Может, теперь, — сказала тетя Магдалена, — когда я знаю свет и многих людей, я бы смотрела на пана Анзельма совсем другими глазами. И все же в одном я уверена: равнодушно бы не прошла мимо него, так как это был человек необыкновенный. Ему тогда едва минуло тридцать, а знал он столько всякого, что просто чудо. Окончил два факультета, объездил многие страны. Широта его интересов свидетельствовала о недюжинном уме и несомненной интеллигентности. Но при всем том он был совершенно не приспособлен к жизни. В таком возрасте и с таким образованием он томился в той глуши нищенски оплачиваемым гувернером, кое-как выполнял свои обязанности, собирал разные растения, зная название каждого из них, но собирал беспорядочно и, в конце концов, выбрасывал их на помойку. И так было во всем. Единственное его развлечение, если это можно назвать развлечением, составляли несколько ежедневных партий в шахматы с паном Сулигво. Он всегда выигрывал. Вечерами, когда все ложились спать, пан Анзельм оставался в малой гостиной с Анелей. Он читал ей стихи или играл на стареньком фортепиано, им самим настроенном. О чем они говорили и говорили ли вообще, я не знаю. Анеля уходила к себе слишком поздно. Я каждый раз слышала, как под ее ногами скрипел пол в коридоре.
— А вы никогда не спрашивали у тетушки Анели, что их связывает?
Тетя Магдалена покачала головой.
— Нет. Сначала это меня нисколько не интересовало. Я впервые в жизни радовалась полной свободе. Делала себе, что хотела. Никто не обращал на меня внимания. Да и, наконец, мы с Анелей никогда не были в близких отношениях. Нас разделяла разница в возрасте, характерах, условиях, в которых мы воспитывались. Однажды я встретила п. Анзельма в отдаленной аллее заброшенного парка. Мы разговаривали часа два. С этого все и началось. Была осень…
— И вы сразу же в него влюбились.
— Нет. Тогда еще нет. Но настала зима. А надо тебе сказать, что здоровье я имела весьма слабое, и наш дядя хотел, чтобы я хотя бы год отдохнула в деревне, а потом уже приехала к нему. Запертая в четырех стенах того унылого дома, я все больше тянулась к п. Анзельму. Никто этого вроде бы не замечал, за исключением Анели. Она стала относиться ко мне недоброжелательно, а порой и грубо. Тогда я сказала пану Анзельму, что нам нельзя бывать столько времени вместе, потому что это раздражает Анелю. Он ничего не ответил, но ничуть не изменил своего поведения. И далее искал моего общества. Впрочем, неправда: я искала его общества. А он этого не избегал. Был счастлив. Я влюбилась в него до беспамятства. А Анелю просто возненавидела. Я начала шпионить за ними. Однако ничего не обнаружила. Однажды я зашла в его комнату. Это был… это был наш первый и единственный поцелуй. Вдруг в дверь постучали. Анзельм непроизвольно повернул ключ в замке. Тогда Анеля начала изо всех сил стучать в дверь кулаками. Ее крик тревожно разнесся по всему дому. Муж ее сидел в библиотеке внизу. Там же, в соседней комнате, были и мальчики. В столовой прислуга убирала после обеда. Однако никто не пришел, никто не подал признаков жизни. Тогда Анеля побежала прочь от двери. Предчувствуя несчастье, я бросилась за ней. Когда вбежала в ее спальню, она держала в руке револьвер. Я подоспела вовремя, чтобы не дать ей натворить беды. Между тем, как я пыталась забрать у нее оружие, прозвучал выстрел. Пуля попала в п. Анзельма, возникшего в тот момент на пороге. Он упал. Его только ранило… Но она об этом не знала. Несколько минут спустя ее нашли в петле на чердаке. Веревку сразу перерезали и Анелю спасли. Ночью я тайком вышла из дома и по снежным сугробам добрела до ближайшей деревушки. Там наняла подводу… Больше я никогда его не видела…
— И не знаете, что с ним случилось?
Она молча покачала головой.
Я изумленно присматривалась к этой небольшой увядшей женщине. Могла ли я хоть на мгновение предположить, что она когда-то пережила такой ужас, эта кислая святоша, живой катехизис приличий. Бр-р-р!.. Как я должен благодарить бога, что мне не выпала такая судьба!
Рассказ тети Магдалены тронул меня до глубины души. Как одна такая минута искренних признаний может изменить наше представление о человеке! До сих пор я считала ее скучным и совершенно неинтересным существом, лишенным какой-либо личной жизни. Такой себе старой панной, которую никто не пожелал, которая поседела, не встретив мужчину, хотя бы из жалости женившегося на ней.
То-то мне казалось немного странным, что старые фотографии тети Магдалены красноречиво свидетельствовали о былой красоте, и незаурядной. Ее несчастная жизнь и вечное девичество я объясняла себе плохим характером, который был настоящим мучением для окружающих. Считала, что все поклонники бежали от нее, как только узнавали ее ближе.
Могла ли я подумать, что она сама им отказывала? Что сама избегала мужчин, лелея в себе эту болезненную и никому не нужную любовь к какому-то неприкаянному. Любовь несбыточную, странную и печальную. Не скажу, что после тетиных признаний я прониклась к ней большей симпатией. Скорее наоборот. И именно потому, что рядом с ней показалась себе более пустой и менее достойной. Я знаю, что это впечатление ложное и что со временем это пройдет. Однако суть от этого не меняется: глядя на нее, я должна сдерживаться, чтобы не сказать чего-то слишком вольного или пренебрежительного.
Интересно, все ли пожилые люди, мимо которых я равнодушно прохожу, словно это обыденные бездушные вещи, прячут где-то в себе, как и тетя Магдалена, незатухающие угли прошлых переживаний? Наверное, не все… Но возьмем, например, того же Ромека… Что я о нем знаю? Откуда мне знать, не останется ли в его душе вечная неизлечимая рана. Я обошлась с ним так легкомысленно. Ах, если бы человек мог каким-то чудом разделиться на несколько существ! Во мне наверняка нашлось бы такое, которое пошло бы за Ромеком, и такое, которое осталось бы с Яцеком, и такое, что безутешно плакало бы над могилой бедного Роберта… Много бы нашлось различных существ.
Когда заглядываю в свою душу, я вижу, какая она сложная. Из скольких добрых и злых, мелочных и умных элементов состоит моя личность.
К сожалению, я не могу разделить ни своего тела, и ни души. А каждую попытку такого разделения называют предательством. Вот и должна сохранять видимость, заслоняться вуалью обмана, пятнать душу ложью и хитростью. Почему над человеком, вот хотя бы надо мной, всегда тяготеет это проклятое требование верности одному человеку?..
Яцек, с которым я когда об этом говорила, объясняет это довольно прозаично: мол, каждому из нас от рождения присущ инстинкт обладания, чувство собственности. А почему бы любви не быть как воздух, которым дышат все и никто ей не завидует, не забирает, не запрещает. Ведь любовь и есть нечто вроде воздуха. Оно наполняет весь мир, начиная от растений и кончая людьми.
То, что я чувствовала к Тото, было также, бесспорно, своеобразной любовью. Любовь имеет столько форм и степеней, столько различий и разновидностей. Как же их все определить и разложить по полочкам, как оценить хотя бы любовь тети Магдалены к тому мужчине с причудливым именем Анзельм, позаимствованным из какой-то комедии Фредро, будто для контраста с его образом, живьем взятым из русской литературы.
Я знаю, что долго не избавлюсь от тягостного впечатления и не забуду той жуткой истории. Мостович, которому я ее рассказала, высказал мнение, что мне не помешает время от времени вот так заглядывать «за кулисы жизни».
— Это побуждает к размышлениям, — сказал он, — и углубляет наши знания о себе. Ведь важно не то, что нас умиляет, а то, какую реакцию оно у нас вызывает и к каким приводит выводам.
Услышав такое, я даже немного обиделась на Тадеуша. И это он, который знает меня так хорошо, предполагает, что я мыслю поверхностно и не способна глубоко прочувствовать свои впечатления!
Но довольно об этом. Я составила Тадеушу полный отчет о своем пребывании в Кринице. Показала письмо Бакстера и сообщила, что ожидаю ответа из Брюсселя, от розыскного бюро. Он ничем мне не помог. Спросил только, не встречается ли мисс Норман с Яцеком. Я сказала, что, пожалуй, нет, поскольку Яцек последнее время немного спокойнее. И он посоветовал мне ждать. Затем поддержал мое предположение, что, судя по всему, мисс Норман и танцовщица Салли Ней — одна и та же особа.
— Люди этого типа часто оказываются в совершенно противоположных ситуациях. Эта женщина могла стать танцовщицей в кабаре не только по собственной прихоти, но и по необходимости. Тратящие деньги без счета, не очень разборчивы и в способах их добычи.
— Это вполне вероятно, — заметила я. — В Кринице Бетти сразу разнюхала, что Тото очень богат. И уже закинула было на него свои сети.
Тадеуш с улыбкой посмотрел на меня.
— Но вы положили конец ее посягательством?
— Я? — переспросила я возмущенно. — Да мне что до Тото? Я бы и пальцем не шевельнула, если бы не желание дать ей щелчок по носу.
— Дорогая пани Ганка, — сказал Тадеуш, целуя мне руку. — Я узнал бы вас даже в аду…
Не понимаю, что он хотел этим сказать. Но как бы там ни было, а после разговора с ним я всегда чувствую себя спокойнее и увереннее в себе. Как хорошо иметь друга, от которого ничего не нужно скрывать.
Здесь я вынужден внести ясность в слова п. Реновицкой. Отнюдь не хочу утверждать, будто она не питает ко мне тех дружеских чувств, о которых говорит и за которые я ей бесконечно благодарен. Речь идет лишь о том, что я вообще принципиально считаю невозможным существование такой дружбы, в которой обе стороны проявляют взаимную и полную откровенность. Всегда остаются те или иные недомолвки, всегда самые близкие друзья скрывают друг от друга те или иные свои тайны. Вот и п. Ганка не сказала мне всего. Иначе я, наверное, смог бы в тот же день дать ей совет, и дельный и полезный. Впрочем, может, это кажется мне только теперь, когда я уже до конца прочитал ее дневник и знаю последующий ход событий. (Примечание Т. Д.-М.)
Пятница
Сегодня впервые смогла выйти из дома. Повязку с меня сняли еще вчера. На лбу остался довольно заметный розовый шрам. Но теперь и я верю, что он исчезнет, как уверяют врачи. Пришлось дать отцу слово, что я больше никогда не сяду в машину с «этим безумным мальчишкой средних лет».
Тото хохотал как сумасшедший, когда я передала ему эти слова отца. Пожалуй, второго такого самодовольного субъекта нет на свете, а уж в больнице — это наверняка. Когда я приехала к нему, то не могла даже подойти к кровати. Со всех сторон его окружали подносы с многочисленными яствами: Тото как раз обедал. Его Антоний время от времени извлекал из кармана бутылку коньяка и наполнял рюмку.
— Как видишь, — засмеялся Тото, — приняты все меры предосторожности. А то вчера доктор Гурбович выбросил за окно в сад почти полную бутылку старого булестена.
— Ты дурак, — сдержанно сказала я. — Так у тебя месяцами не будет заживать. Алкоголь в этом случае очень вредит.
— Еще сильнее вредит отсутствие аппетита, — заявил Тото. — А мне, если не выпью чего-то крепкого, совсем не хочется есть.
Но это была неправда. Тото всегда ест как не в себя. Даже за завтраком может слопать столько, что с избытком хватило бы трем англичанам его комплекции. Просто ему хочется обойти врача. Он еще ребячливее, чем другие мужчины. А может, именно в этом его привлекательность.
Конечно, он очень извинялся передо мной за этот несчастный случай, и все с уловками и недомолвками. А когда Антоний убрался из палаты вместе с подносами, сказал:
— Во всем виновата ты сама. Я на тебя был зол как черт. Никогда еще никто так не выводил меня из себя. Придумала бог знает что об этой мисс Норман, которая мне совершенно безразлична.
Я иронично улыбнулась.
— А откуда у тебя цветы? — спросила, показывая на букет роз в очень красивой вазе.
— От Мушки Здроевской, — ответил он не запнувшись.
— О-о-о! — сказала я, — очень мило с ее стороны. Вот уж не думала, что она такая щедрая.
— Да, — выпятил он губу. — Как видишь, не для всех я такой никчемный.
Это был намек на то, что я не послала ему цветов. Я не сделала этого нарочно, хоть он и прислал мне две больших корзины. У меня не было ни малейшего основания высказывать ему сочувствие. И все же не очень верилось, что именно Мушка расщедрилась на такой дорогой знак внимания.
— Это она тебе случайно не призналась в любви?
Он громко рассмеялся.
— Если бы признавалась в любви, то прислала бы целую оранжерею.
— Но уж должна была приложить к этому хотя бы растроганное письмо.
Видимо, он был готов к такому моему замечанию, ибо тут же протянул руку и достал из-под портсигара визитную карточку — corpus delicti (Вещественное доказательство (лат.)). Это была действительно карточка Мушки, а на обороте — несколько шаблонных слов с пожеланием здоровья. Но я таки, наверное, родилась детективом. Другая на моем месте наверняка не обратила бы на это внимания, а я только взглянула на дату, как все поняла.
Карточка была послана четыре дня назад!
Я окинула взглядом цветы. Они выглядели совсем свежими. Все указывало на то, что они срезаны не раньше сегодняшнего утра. Я думала вполне логично. То что Мушка прислала ему цветы — это само собой, но те цветы уже завяли, и они выброшены, а эти, вместе с вазой, по всей видимости, от мисс Норман. Но нервы у меня крепкие, и я не показала, как это меня разозлило.
Я молча вернула Тото карточку, а он спросил?
— Ну, теперь веришь?
В голосе его звучали победные нотки. Я окинула его презрительным взглядом и сказала:
— Конечно. Верю тебе безгранично.
Тото, видимо, засомневался.
— Ты ведь знаешь ее почерк?
— Да, конечно.
— Ну вот, видишь, — вздохнул он с облегчением.
Внутри у меня все дрожало от ярости. Дерзость той особы хоть кого вывела бы из равновесия. Что уж говорить обо мне. Какое удивительное пристрастие к моим мужчинам. Охотится на каждого, с кем меня хоть что-то связывает. Пытается отобрать у меня Яцека, соблазняла Ромека, а теперь взялась за Тото. Вот противная баба! Я бы с удовольствием ее убила.
Чего я только в тот момент не отдала бы, чтобы иметь возможность вывалить на Тото все, что думаю о нем и знаю о ней! Но, к сожалению, вынуждена была терпеть и вести себя разумно и дипломатично. И откуда та выдра узнала, что Тото попал в аварию и лежит в больнице? Ведь в газетах по моей просьбе о несчастном случае не упомянуто ни словом. Это уже Яцек постарался, воспользовавшись своими связями.
Мол, ему было бы очень досадно, если бы всем стало известно, что я ехала ночью одна с двумя посторонними мужчинами. У Яцека старомодные взгляды на эти вещи, и он никак не отучится лицемерить. Если уж согласен на то, чтобы я бывала в такой обстановке, нечего стыдиться этого перед людьми.
Пожалуй, Тото велел Антонию позвонить ей в «Бристоль». Или, еще вероятнее, это сделал по его просьбе Мирский. Это уже было бы невесть что! Если Тото действительно доверил Доминику свою измену мне, это с его стороны такой неподобающий поступок, который я могла бы ожидать только от человека, напрочь лишенного тактичности и деликатности. Возможно, Яцек и прав, когда говорит, что Тото толстокожий.
Я бы не была сама собой, если бы хоть на мгновение решила отступить. Нет, этого он от меня не дождется!
Я сказала:
— А знаешь, у меня сегодня нет никаких дел, да и не очень хотела бы я показываться на людях с этим шрамом на лбу. Могу вечером прийти к тебе еще раз.
Если бы я даже до сих пор ничего не подозревала, то теперь уже не имела никакого сомнения. Тото растерялся, сделал несколько идиотских гримас и брякнул:
— О, это была бы для меня такая радость!.. Но не хочу причинять тебе лишних хлопот.
— Никакие это не хлопоты. Ведь посещение больных, кажется, записывается на небе в заслуги.
— Ты очень добра ко мне, — поморщился он. — Но понимаешь… У меня всю ночь страшно болела рука, и я почти не спал. Так что, наверное, засну теперь как убитый…
— Ну, это не страшно. Посижу у тебя и почитаю книжку.
Он отчаянно кашлянул, и вдруг ему пришла в голову замечательная идея.
— Видишь ли, может быть еще и так, что ко мне явится целая компания приятелей из клуба, захотят рассказать какие-то новые анекдоты… Мне даже звонил Зулек Тышкевич…
— Да? Буду рада его увидеть.
Я хорошо все взвесила и попала точно. Если она утром прислала ему цветы, то наверняка дала знать, что после обеда придет. Но я вела себя так, что Тото никак не мог меня в чем-то заподозрить.
— Как же ты добра ко мне… — сопя, сказал он. — Как это мило с твоей стороны… Ведь сама знаешь, что мне ни с кем не бывает так хорошо, как с тобой…
Он лихорадочно искал еще какую-то зацепку, тем самым окончательно укрепив мое убеждение, что договорился с мисс Норман. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как заверить его, что я не приду.
— Ой, постой! — воскликнула я. — Чуть не забыла. Мне же сегодня надо навестить родителей. Я им твердо пообещала. Отец едет по каким-то делам за границу, и я должна с ним попрощаться. Ты же не рассердишься на меня?
Тото сделал преувеличенно сокрушенную мину.
— Это правда? Обязательно должна пойти к родителям?
— Да, непременно.
— Ну, ты меня огорчила. Какая досада, что у меня нет здесь телефона. Могли бы хоть по телефону поговорить. А может, вечером, где-то после восьми, выберешь часок?
Я решительно сказала:
— Нет, нет. Так поздно уже неудобно.
— Очень жаль.
— Увидимся завтра.
Он сладенько прищурился.
— Зато завтра придешь пораньше?
— Да, милый. Как можно раньше.
За дверью я с облегчением вздохнула. «Вот я тебе покажу пораньше», — подумала.
План возник сам собой. Препятствовало одно: вблизи больницы были только жилые дома. Никакой кондитерской или кафе, где можно было бы подождать. Но одно я знала наверняка: до пяти она к нему не придет. Скорее всего — в половине шестого.
Во время обеда Яцек заметил, что я возбуждена. Даже спросил, не случилось ли у меня чего-то неприятного.
— Нет, наоборот, — ответила я. — Скорее приятное.
Он посмотрел на меня с подозрением, которое время от времени стало появляться у него в глазах после его признания. Однако ничего не сказал.
В четверть шестого я села в такси на площади Наполеона и через несколько минут была уже на месте. Велела водителю остановиться за два дома до больницы. Оттуда было хорошо видно не только всю улицу, но и вход в больницу.
Мои предсказания не обманули меня. Прошло едва двадцать или, может, двадцать пять минут, как появилась и она. Сколько же у этой женщины пальто! В этот раз она была в темно-синем, очень эффектно украшенном голубым песцом. А фигурка у нее все-таки хорошенькая и походка элегантная. Право, какое счастье, что Яцеку она не нравится.
Передо мной встала проблема: как долго оставить их наедине?.. Или дать добраться до какого-то более интимного разговора, или прервать сразу же?.. От первого я, несомненно, имела бы куда больше удовольствия. Это было бы нечто вроде застать их с поличным. Вот бы позабавилась я выражением ее лица и перепугом Тото! Но, с другой стороны, не стоило ради небольшого удовольствия жертвовать важными делами. Ведь речь шла прежде всего о том, чтобы не дать этой международной авантюристке взять верх надо мной.
Значит, так. Для приличия я подождала с часами в руке еще пять минут и зашла в больницу. Совсем не обдумывала заранее, что им скажу и как поведу себя. Слава богу, сообразительности мне хватает, сумею постоять за себя в любой ситуации. Я не страдаю ёsprit de l'escalier, как, например, Тото, который, если его застать врасплох, не может извлечь из себя надлежащий ответ (Тугодумие (франц.)) Только на второй день, в результате долгого и тяжелого раздумья, находит язвительные и остроумные слова (конечно, язвительными и остроумными они кажутся только ему).
Я остановилась перед дверью. Створки были тонкие, и я отчетливо слышала, как в палате смеются.
«Сейчас я вам посмеюсь» — подумала, стиснув зубы. Пришлось постоять еще несколько минут, потому что меня вдруг охватила такая ярость, что если бы я зашла тотчас же, то наговорила бы им неизвестно каких грубостей и только скомпрометировала бы себя. Они тогда наверняка подумали бы, что я умышленно подстерегала мисс Норман, ревнуя к ней Тото.
Я легонько, но решительно постучала в дверь. Долгая пауза — и наконец голос Тото:
— Прошу.
Нажала ручку и впорхнула в комнату так непринужденно, словно, там давно уже меня ждали.
— Ах, какая встреча! — воскликнула я. — Мисс Норман, я так рада вас видеть! Ну что вы думаете об этом шалопае, который едва не убил и себя, и меня? Как мило, что вы его проведали!
Лицо мисс Норман, с которого не сходила любезная улыбка, не дрогнуло. Зато черты Тото исказились и застыли в какой смешной и уродливой гримасе. У него был такой вид, будто он проглотил крутое яйцо, и оно застряло у него в горле.
С первого же взгляда я отметили две вещи: та выдра сидела в кресле на приличном расстоянии от кровати, зато нахально сбросила не только пальто, но и шляпку. Это панибратство было просто возмутительно. Если она думала сидеть там бог знает сколько, то очень ошибалась.
Делая вид, будто не замечаю его смущение, я обратилась к Тото:
— Представь себе, как все счастливо сложилось! Отец отложил свой отъезд, и у меня появилось время для тебя. Вот я принесла тебе грильяж — ты же так его любишь.
Тото даже съежился под моим взглядом.
— Как ты себя чувствуешь? — непринужденно и заботливо тараторила я. — Рука не очень болит?.. Может, немного поднять тебе подушки?.. Вы себе не представляете, мисс Норман, как беспомощны все мужчины, когда болеют. Правда, я всего три года как замужем, но, пожалуй, все-таки имею в этих делах больше опыта, чем вы… Тото, дорогой, тебе не жарко? Может, открыть окно?
Из уст Тото вырвался неразборчивый лепет, который должен был означать, что ему таки слишком жарко. Между нами говоря, это меня нисколько не удивило. Ничего, еще не так жарко будет!..
Я заботливо укутала его в одеяло и открыла окно. Правда, на дворе было почти так же тепло, как и в палате. Я все время ощущала на себе взгляд мисс Норман. Она пытливо поглядывала на меня, пока я наводила порядок на столике у кровати. Интересно, не использует ли она мое поведение по отношению к Тото как аргумент, чтобы убедить Яцека вернуться к ней?
Конечно, Яцек не обратил бы на это никакого внимания. Во-первых, он безоговорочно доверяет мне, а во-вторых, я никогда не скрывала от него (по крайней мере в последнее время) своего мнения о Тото. Он не раз смеялся до слез, когда я рассказывала ему разные истории об этом шалопае. Я уверена, что его еще больше рассмешило бы, если бы кто-то стал ему доказывать, что между мной и Тото существует нечто большее обычной дружбы. А тем более не поверил бы мисс Норман. Но она этого знать не может, поэтому вполне вероятно, что попытается интриговать.
С этой мыслью я стала еще более откровенно и безоглядно выставлять напоказ свою фамильярность по отношению к Тото. Даже ласково погладила его по лицу, хотя мне и хотелось сделать совершенно противоположное. При этом убедилась, что его совсем недавно побрили.
И все это для мисс Норман!.. Убирая на столике, я обернулась к ней и сказала:
— Какая прекрасная ваза! Где это вы такую достали?
Тото дернулся на кровати и так громко проглотил слюну, будто его что-то душило. Она не могла этого не заметить, однако, к его большому ужасу, сказала:
— Я плохо знаю Варшаву, и мне трудно объяснить. На такой длинной улице, в каком-то очень большом магазине.
— Прекрасно подходит к цвету роз, — кивнула я головой. Имей в виду, Тото: чтобы в этой вазе всегда были такие же розы. Ну, а как… как вы поживаете после возвращения из Криницы?
— О, спасибо. Очень хорошо.
— Не встречали в Варшаве пана Жеранского?
— Кого? — спросила она с искренним удивлением.
— Пана Жеранского, вашего партнера по лыжным прогулкам. Ой, мисс Норман, короткая у вас, как я вижу, память на поклонников.
— Нет, что вы! — живо возразила она. — Просто мне трудно с польскими фамилиями. Они для меня все как будто одинаковые. Если вы говорите о пане Роме, то я хорошо его помню. Но в Варшаве с ним не виделась. Кажется, он собирался уехать в Швейцарию.
— Очаровательный мужчина. А к тому же и по-настоящему красивый. Вы согласны со мной?
Мисс Норман, не моргнув глазом, подтвердила это. Ничего не скажешь, держаться она умеет.
— Бесспорно, — сказала непринужденно, — он едва ли не самый красивый мужчина из всех, которых мне доводилось видеть.
У меня даже язык чесался сказать, что этот пан Ром уже много лет безумно влюблен в меня, и стоит мне пальцем поманить, как он вернется не только из Швейцарии, но и с края света. Однако такого удовольствия позволить себе не могла. Мне надо было подавить Тото. Зная его простодушие, я была уверена: он уже не имеет ни малейшего сомнения, что между мисс Норман и Ромеком был роман.
Тото неспособен понять, что мужчина может терять время и показываться с женщиной по другим причинам и с другой целью. Наконец, он знал Ромека и не раз имел возможность завидовать его успеху у женщин. Но ему, конечно, и в голову не приходило, что Ромек этим успехом не пользуется.
В этот момент я почти ненавидела этого болвана. Подумать только из-за него я потеряла лучшие годы своей жизни! А могла бы посвятить это время кому-то более достойному, мужчине с незаурядным интеллектом, и, обмениваясь с ним мнениями, обогащать не только свой разум, но и его. Что касается Тото, то я уверена: хоть как долго мы с ним ни были знакомы, однако воспользовался он этим очень мало. Конечно, немного поумнел, но, к сожалению, только немного.
Я охотно поговорила бы об этом откровенно с мисс Норман. Правда, она не производит на меня впечатление очень интеллигентной особы, но сообразительности и жизненного опыта у нее вполне достаточно, чтобы раскусить Тото. И что она в нем нашла?.. Если бы потянулась к деньгам, я еще поняла бы, но деньги ее не интересуют. А флиртовать с Тото — удовольствия мало. Насколько я помню, весь его обольщающий репертуар состоит из трех затертых фраз:
1) «Вы сегодня просто очаровательная».
2) «Если бы я имел право вас полюбить, то был бы самым счастливым человеком».
3) «Если не придешь в пять, я сойду с ума».
Таких мужчин, как он, тысячи. А может, ее влечет его титул и общественное положение. Но вряд ли она так наивна, чтобы думать, что Тото на ней женится. С этой точки зрения он, слава богу, не настолько глуп. Да еще и горд. Если бы даже взял в жены принцессу, то и тогда не считал бы, что ему оказана честь. Да и, наконец, женщины типа мисс Норман, особенно в ее возрасте, после стольких лет полной свободы, не стремятся выйти замуж. А то, что она требует от Яцека вернуться к ней, — или же просто какая-то прихоть, или же в ней вдруг проснулось настоящее чувство. Мне кажется вполне возможным и такое, хотя это и маловероятно.
— А вы вроде тоже собирались ехать в Швейцарию? — спросила я и, не дожидаясь ответа, который, конечно, была бы отрицательным, начала рассказывать о Швейцарии и ее красотах.
Видимо, она поняла мое намерение, потому что едва заметно улыбнулась краешком губ. А я тут же перевела речь на интеллект и широкие интересы Ромека. Каждое мое слово было для Тото как острая шпилька. Я специально преувеличивала добродетели Ромека, чтобы сильнее досадить Тото.
Мисс Норман вежливо слушала, а Тото только вытирал пот со лба, не в состоянии возразить ни словом, хотя Ромека не любил и называл его ортодоксом.
Немного погодя я завела с мисс Норман разговор о новейшей французской литературе. Тото, у которого я то и дело спрашивала его мнение, не имел об этом никакого представления и бормотал что-то невнятное. Наконец мисс Норман решила, что ее визит слишком затянулся, и встала. Когда она начала прощаться, я сделала то же самое. Бедный Тото, который, видимо, весь дрожал от мысли, что останется со мной с глазу на глаз и ему придется каяться, на радостях немного оправился и извлек из себя несколько складных фраз.
Мы вышли вместе. Я и далее играла свою роль, изображая из себя наивную ветреницу. Хотя и не надеялась обмануть ее таким образом, но не позволяла начать настоящий разговор. Возле стоянки такси мы попрощались. Я вернулась домой гордая собой. Не всякая женщина постояла бы за себя в такой ситуации.
Суббота
Хоть я и в мыслях не имела посещать Тото, однако утром позвонила в больницу и велела Антонию передать своему хозяину, что приду к нему. Таким простым способом связала Тото по рукам и ногам на целый день.
Воскресенье
Перед полуднем послала Яцека в больницу и попросила сообщить Тото, что приду к нему вечером. Пусть ждет. Сегодня в пять должна быть на приеме у жены министра Горицкого, а вечером еду на большой званый обед в Неборов. Имею чудесное платье от Шанель. Обошлась мне очень дорого, зато выгляжу в нем замечательно.
Понедельник
Утром Яцек постучал в дверь моей спальни и несколько удивленно сказал:
— Там тебе звонит какой-то иностранец, который не хочет назвать своей фамилии. Будешь с ним разговаривать?
В первое мгновение я подумала, что это Роберт, и страшно испугалась. Только через секунду вспомнила, что бедного Роберта уже нет в живых. Почему же все-таки тот человек не хочет сказать своей фамилии? Я знаю многих иностранцев, но ни с одним меня не связывают такие отношения, чтобы делать из них тайну.
А может, это какой-то коммивояжер, — пожала я плечами. — Они часто прибегают к такой наглости. Спроси его, по какому делу.
Словно предчувствуя, что это нечто важное, я все же соскочила с постели и накинула халат. Яцек вернулся и сказал:
— Тот пан утверждает, что ему надо поговорить с тобой по очень важному для тебя делу. Он прекрасно говорит по-французски, но с каким-то вроде голландским акцентом. Я сказал ему, что я твой муж, однако он хочет разговаривать только с тобой.
Подходя к телефону, я и не предполагала, кто это может быть, но как только отозвалась, сразу услышала вопрос:
— Это вы обращались в наше бюро в Брюсселе по поводу одной дамы?
— Да-да, я.
— По поручению шефа я приехал в Варшаву, чтобы сообщить вам о результатах наших поисков.
— Слушаю… Слушаю вас.
— Это не телефонный разговор. Я просил бы вас назначить мне время и место встречи.
Я заколебалась. Показываться прилюдно с каким-то детективом никак не годилось. Уже и так имела достаточно неприятностей из-за встреч с дядей Альбином. Но пригласить его к себе домой я не могла, учитывая присутствие Яцека. Другого выхода не было. Я должна была решиться пойти к нему.
— Где вы остановились? — спросила я.
— Отель «Полония», номер сто тридцать шестой. Вы изволите прийти ко мне?
— Да. Буду в двенадцать.
Я положила трубку, но не сразу отошла от аппарата. Яцек из соседней комнаты слышал все, что я говорила. Что он мог из того понять?.. Только то, что я условилась о встрече с каким-то иностранцем у него в гостинице. Можно было не сомневаться, что Яцек от этого не в восторге. Но говорить осторожнее никак не получалось. Поэтому, не имея возможности дать Яцеку объяснения, я должна была просто отказать ему в этом.
Я перешла в столовую и велела принести мне завтрак. Яцек подсел к столу напротив меня, делая вид, будто просматривает газеты. Но через минуту не выдержал:
— Кто же это был?
Я укоризненно посмотрела на него.
— Дорогой, а я разве спрашиваю, когда тебе звонят какие-то женщины?
— Нет. Прости, я не думал, что это какая-то тайна.
— А таки тайна. Каждый может иметь свои секреты. Представь себе, например, что это… мой первый мужчина, за которого я тайно вышла замуж.
Это был болезненный удар. Яцек побледнел, встал и вышел из комнаты. Мне стало немного жаль его. Бедняга и так ходит по дому, как преступник, которому любую минуту грозит изгнание. С тех пор как признался во всем, он ни разу не решился приласкать меня. Ну, а я, конечно, поощрять его не могла, хотя иногда — буду откровенна — мне очень этого не хватало.
Через несколько минут после двенадцати я уже была в отеле. И, надо сказать, меня ждало приятное разочарование. Не знаю почему, но я представляла себе детектива пожилым толстяком с маленькими проницательными глазами и плохо выбритым лицом. А увидела высокого молодого человека скандинавского типа: худощавого блондина с голубыми глазами и выразительными чувственными губами. Он был безукоризненно одет, а телосложение имел такое, что лучшего нельзя и желать.
С интересом окинув меня взглядом, он спросил:
— Пани Реновицкая, не так ли? Разрешите представиться: Ван-Гоббен.
— Где-то я уже слышала эту фамилию, — сказала я, потому что она была действительно мне вроде бы знакома.
— Вполне возможно, если вы бывали во Фландрии.
— Ах, да, — сверкнула у меня догадка. — Ну, конечно же. Замок Гоббен. Прекрасный средневековый замок.
Молодой человек наклонил голову.
— Когда-то это было родовое гнездо моих предков.
Он явно говорил правду. Каждая черта его лица, каждое движение, даже речь свидетельствовали о хорошей породе. Он придвинул мне кресло. Садясь, я спросила:
— А теперь у вас розыскное бюро?.. Или это так, из спортивного интереса?
Он непринужденно рассмеялся.
— Где там! Я всего-навсего один из сотрудников этого бюро. А почему взялся за такое дело… ну что же, здесь, несомненно, сыграли определенную роль мои спортивные наклонности.
— Вы еще такой молодой, — заметила я. Он действительно выглядел максимум на двадцать два или двадцать три года. Если бы не губы, на которых порой появлялась грустная и будто саркастическая улыбка, я могла бы подумать, что передо мной зеленый студентик.
— Молодость и отсутствие опыта — не всегда тождественные вещи, — многозначительно произнес он.
Однако мое замечание, по всей видимости, ему было неприятно, потому что он прокашлялся, взял в руки папку и достал из нее пачку бумаг. Затем сказал:
— Хорошо, перейдем к делу. Прежде всего должен вам сообщить, что мисс Элизабет Норман и танцовщица Салли Ней — одно и то же лицо. Ее узнали несколько человек в Буэнос-Айресе. Так, что в этом не может быть никакого сомнения.
— А что я говорила! — радостно воскликнула я.
— Да, вы не ошиблись. В конце концов, эта особа, как нам удалось установить, в разных частях света пользовалась различными фамилиями. Пока мы насчитали их двенадцать.
— А не пользовалась ли она где-либо моей фамилией? — обеспокоенно спросила я.
Он пристально посмотрел на меня.
— Разве она имела на это какие-то основания?
Я пожала плечами.
— Когда кто-то использует много фамилий, то можно не сомневаться, что делает это без каких-либо законных оснований.
Он отрицательно покачал головой.
— Как пани Реновицкая она не появлялась нигде. И вообще только раз, в прошлом году в Риме, а затем в путешествии по Ливии, пользовалась польской фамилией…
Он склонился над бумагами и с напряжением произнес:
— Галина Ящолт. Очень трудная фамилия. — и сочувственно улыбнулся мне. — А что, полякам так же трудно произносить иностранные фамилии?
— О нет, — возразила я, — вот разве только фламандские. С ними я никогда не могла справиться.
— С удовольствием поучил бы вас, если бы вы когда-нибудь к нам приехали, — не без рисовки поклонился он.
— Так, значит, вы недолго пробудете в Варшаве?
— Я должен уехать как можно скорее. Есть два неотложных дела. Одно в Гданьске, а второе в Копенгагене. В Варшаве я впервые. С удовольствием побыл бы здесь еще, потому что и сам город, и его жители мне очень нравятся.
Его поведение и манера говорить свидетельствовали о значительном опыте и явно не вязались с его молодостью. Признаться, я не люблю таких молодых людей. По-моему, настоящий мужчина начинается с тридцати лет. Так что не понимаю, например, Тулю, которая бегает за сопляками. Такие мальчишки или забавно представляются пресыщенными циниками и потому не способны сохранять секреты, или же требуют «настоящей большой любви», хотят быть единственными избранниками, пишут длинные признания, подстерегают в подворотнях, вздыхают по телефону и делают множество других глупостей.
Помню, где-то через год после свадьбы я познакомилась с молодым де Годаном. Он дважды потанцевал со мной на балу в «Лятарне», а на другой день пришел в визитке к Яцеку и заявил: он, мол, любит меня и как настоящий джентльмен хочет предупредить Яцека, что будет бороться за мою благосклонность. В конце концов, пустил слезу и с месяц ежедневно присылал мне цветы. Кончилась эта идиллия лишь тогда, когда он попал в военное училище.
Однако пан Ван-Гоббен не производил впечатления сосунка. Его моложавость была полна какого-то скрытого и глубокого содержания. Уже только то, что он выбрал себе такую странную профессию, как детектив, невольно возбуждало любопытство.
— Жаль, что вы так скоро уезжаете, — сказала я, намеренно добавляя голосу тепла — Независимо от наших дел, я хотела бы, чтобы вы мне что-нибудь рассказали о своих приключениях. Это должно быть ужасно увлекательно. Вы любите свою профессию?
— «Люблю» — не то слово, пристрастился к ней, как алкоголик к рюмке. Это своего рода страсть. И не знаю, избавлюсь ли когда от нее.
— Вас часто подстерегают опасности?
Он кивнул головой.
— Да. Именно это меня и привлекает. И еще возможность поразмыслить. Как только мне в руки попадает какое-то дело, я, следуя примеру Шерлока Холмса, выдвигаю ряд гипотез. Из них и вырисовывается концепция следствия. А потом уже берусь за работу. Когда шеф поручил мне ваше дело, я должен сказать, очень им заинтересовался. Это дело вовсе не ординарное. На мой взгляд, под именем мисс Элизабет Норман скрывается весьма опасная особа.
— Вы так думаете? А чем же она опасна?
— Я еще не имею всех данных. Однако мне кажется, что здесь, может быть торговля наркотиками, контрабанда или еще нечто в таком роде. Люди, так часто меняющие место пребывания и фамилию, как правило, делают это не с добрыми намерениями.
— Мне тоже приходило такое в голову, — кивнула я. — А вы знаете, что она теперь в Варшаве?
— Ну конечно, — улыбнулся он. — Я приехал вчера вечером и в первую очередь взялся разыскивать эту женщину. Она живет в отеле «Бристоль», не так ли? Сегодня я постараюсь ее увидеть. Было бы очень хорошо каким-то образом обыскать ее вещи. Однако думаю, что она слишком осторожна, чтобы дать мне такую возможность.
— А представьте себе, что вовсе не так уж и осторожна. В Кринице — это у нас такая курортная местность, откуда я прислала вам фотографию, — так вот, в Кринице я имела возможность обыскать номер этой женщины. Но не нашла ничего, что могло бы направить на какой-то след. Никаких писем или документов. Ничего.
Он взглянул на меня, искренне удивленный.
— Как? Вы сами обыскивали ее вещи?
— Да, сама.
Он сделал неопределенный жест рукой.
— Оно-то так, знаете… Но вы не могли сделать этого профессионально. Такие обыски дают определенные результаты только в том случае, когда их делает человек, знакомый с этим делом. К тому же есть детали, которые ничего не говорят дилетанту, тогда как специалист сразу же извлечет из них существенные доказательства. Но вернемся к моему отчету. Итак, нам удалось установить, что женщина, которую вы знаете под именем Элизабет Норман, более полугода была стюардессой на немецком трансатлантическом пароходе «Бремен» под именем Каролины Бунше. А несколько месяцев спустя находим ее в Барселоне — она работает библиотекаршей в архиве каталонского правительства. Представляется вдовой известного американского летчика Говарда Питса, причем под своим нынешним именем, Элизабет. Но еще через три месяца опять исчезает из виду. Позже живет в Ницце, в отеле «Негреско», якобы со своим мужем, итальянским эмигрантом Паулино Даниэли…
Я слушала и не верила своим ушам. Столько сведений! Какая это опасная вещь — такое розыскное бюро! У меня мороз пошел по коже от мысли, что кто-то мог бы таким же образом следить и за мной. От этих людей ничего не скроешь. А я же всегда была слишком легкомысленна, надо вести себя осмотрительнее.
Ван-Гоббен сыпал сведениями, как из рога. Приводил даты, географические названия, фамилии. Из его рассказа я узнала, что этот ангел имел по крайней мере семь несомненных романов, которые нетрудно доказать. Этого хватит любому суду, чтобы добиться развода.
Наверное, и с точки зрения уголовного права у нее не все чисто. Пан Гоббен прав, подозревая ее в торговле наркотиками, потому что когда-то ее видели в Шанхае в обществе известного торговца опиумом, и, вне всякого сомнения, она имела с ним деловые связи. Как видно, заработала на тех бесчестных спекуляциях немало денег, а теперь ей надоело блуждать, и она вспомнила о Яцеке.
Слушая отчет очаровательного Ван-Гоббена, я, однако, дрожала от мысли, что они могли раскопать и женитьбу Яцека на той выдре. Правда, Ван-Гоббен отнюдь не походил на шантажиста, а скорее на некоего привлекательного джентльмена-разбойника, причем больше на джентльмена, чем на разбойника. Однако надо учитывать и то, что его шеф может быть обычным шантажистом, а неизвестно, скрыл бы Ван-Гоббен от него факт американского бракосочетания моего мужа или нет. Если бы он пообещал мне сохранить тайну, я охотно призналась бы ему и в этом. Может, такая открытость облегчила бы ему дальнейшие поиски.
И здесь я совершенно отчетливо осознала, что могла бы рассчитывать на молчание Ван-Гоббена только в том случае, если бы он имел по отношению ко мне какие-то моральные обязательства весьма частного характера: если бы нас связывала взаимная дружба, любовь или хотя бы просто любовная связь. Обязательно надо подумать над этим серьезно. Ведь я столько уже сделала добра для Яцека, лишь бы спасти его честь и репутацию… Он никогда и не догадается, на какие жертвы я готова ради него.
Не стану приводить здесь всех тех сведений о мисс Норман, которые дал мне пан Ван-Гоббен. В этом нет смысла, поскольку те детали сами по себе ничего существенного не представляют. Важно разве только то обстоятельство, что этой женщине удивительно везло в ее опасной карьере: ни разу она не была поймана на преступлении и нет никаких данных, что она когда-нибудь отбывала наказание в тюрьме. Только раз ее арестовали, — два года назад в Сингапуре, — но после допроса сразу же выпустили.
Привлекает внимание и то, что она почти год жила в Праге в исключительно скромном положении. Снимала комнатку в семье некоего сержанта, питалась в убогой харчевне и работала в одной из гостиниц телефонисткой. Мне даже не верится, чтобы женщина из высшего света (ничего не поделаешь, это нельзя отрицать), привыкшая к роскоши, не зная счета деньгам, могла без какой-то крайней необходимости пойти на такое долгое и страшное, полное самоотречение. Но Ван-Гоббен считает, что здесь стоит скорее предполагать противоположную возможность. По его мнению, мисс Норман именно таким образом должна была скрывать в Праге свои преступные махинации.
Было уже начало третьего, когда он закончил свой доклад. Тогда я сказала:
— Ну нет, пан Ван-Гоббен. Теперь я ни за что не соглашусь, чтобы вы оставили меня одну. Вы же можете так мне помочь! Прошу вас, останьтесь хоть на две недели… Ну хоть на неделю!
В его красивых глазах на мгновение блеснул огонек, и я уже была почти уверена, что он согласится. Да и он уже хотел было сказать что-то подходящее, но только прокашлялся, а потом развел руками.
— Увы, мадам, как я уже вам говорил, меня ждут дела в Гданьске и Копенгагене.
— Боже мой! — возмутилась я. — Ну неужели это непременно должны делать именно вы? Разве не может ваше бюро послать туда кого-то другого?
— Теперь уже это невозможно, потому что у меня все нужные материалы.
— Ой, бросьте… Вам, наверное, очень не понравилось в Варшаве. Вот вы и хотите как можно быстрее уехать отсюда. Да и что для вас значит просьба какой-то чужой, случайной клиентки…
— О, напрасно вы так думаете, — ответил он несомненно искренне. — Поверьте, мадам, ради такой клиентки, как вы, я остался бы не только в Варшаве, но и на Северном полюсе, и на сколько бы вы захотели.
Я грустно улыбнулась.
— Вы так любезны только на словах. К сожалению.
— Увы, — подхватил он, — у меня нет никакой возможности доказать вам, что это далеко не простая любезность с моей стороны. И если уж говорить о словах, то за ними скрывается куда более существенное содержание, чем вы можете предположить.
— Если бы я могла в это поверить, то сказала бы, что нет ничего проще, чем отправка в Брюссель тех бумаг, которые вы имеете при себе.
Пан Ван-Гоббен задумался.
— Вы правы, — отозвался через минуту. — Но я не уверен, найдется ли там кто-то, у кого есть возможность немедленно выехать в Копенгаген и Гданьск. Дело в том, что весной у нас начинается самая горячая пора.
— Почему именно весной? — удивилась я.
— Да очень просто. В основном нам поручают дела обманутые мужья или ревнивые жены. Понимаете? Это, дела, требующие тайны, которые нельзя доверить полиции. Поэтому весной таких дел бывает больше всего.
Я улыбнулась.
— Так значит, вам нужно подбирать очень надежных сотрудников.
— Да, — подтвердил он с ударением. — Если бы мы не держали язык за зубами, это могло бы стать причиной многих скандалов по всей Европе. Поэтому в наших собственных интересах брать на работу в бюро исключительно людей определенного общественного и нравственного уровня.
После этого признания он стал мне еще симпатичнее. Я уже не имела и тени сомнения, что, несмотря на его молодость, этот юноша вполне заслуживает доверия. Да и я, видимо, произвела на него большое впечатление. Это было видно по тому, как он смотрел на меня, каким тоном говорил, и вообще из всего его поведения. Тешу себя надеждой, что немного разбираюсь в этих вещах.
В конце концов, он согласился удовлетворить мою просьбу. Я, конечно, заявила, что безоговорочно возмещу все расходы, которые будет иметь вследствие этого розыскное бюро. Поскольку я торопилась на примерку, то не могла за раз обсудить с ним всего. Мы условились, что в семь вечера я приду опять и тогда мы составим подробный план действий.
Понедельник, вечер
Он ел меня глазами, как волк ягненка. Да я и действительно имела великолепный вид в своем новом платье. Эти вечерние туалеты без плечиков, как утверждает Доминик, всегда оказывают на мужчин впечатление «легкодоступности». Конечно, я нарядилась так не ради пана Ван-Гоббена. Но обед у Казей начинался в восемь, и после визита к Ван-Гоббену меня не было бы времени переодеться, поэтому и решила поехать к нему в этом платье.
У меня есть свой надежный способ обращения с мужчинами и с помощью этого дневника хочу раскрыть секрет для моих читательниц. Заключается он в том, что я позволяю себе быть тем более кокетливой и даже агрессивной, чем скромнее я одета. В закрытом под шею костюме и спортивных сапожках я становлюсь фривольной и доступной. Зато чем глубже у меня декольте, тем скромнее, наивнее и невиннее я себя веду. А в купальном костюме мое поведение уж точно как у пансионерки из Sacre-Coeur (Монастырь Святого сердца (франц.)).
Уверяю, что эта система дает поразительные результаты. Она одинаково сильно влияет на воображение разных мужчин и, следовательно, обеспечивает неизменный успех.
Далее автор дневника подробно развивает свою теорию. Но хоть как интересна во всех отношениях может быть эта философия успеха для читательниц, я решил вычеркнуть остальные ее соображения. Ведь этот дневник попадет в руки не только женщин, но и мужчин. А я считал бы большой потерей для последних, если бы, узнав о закулисной механике женских чар, они испытали бы разочарование и прониклись недоверием к естественности мотивов, которые руководят поступками женщин. Что касается читательниц, то, надеюсь, этих нескольких вышеприведенных слов п. Реновицкой будет для них вполне достаточно, чтобы развить ее теорию на практике с соответствующими результатами. (Примечание Т. Д.-М.)
План мы составили такой: завтра пан Ван-Гоббен поселится в «Бристоле», в соседнем с мисс Норман номере. Это даст ему возможность принять некоторые меры. А именно: познакомиться с ней, обыскать ее вещи, а может, даже и узнать, кто у нее бывает и о чем они разговаривают.
Он уже успел увидеть ее, но так, что она его не заметила. Такая осторожность была необходима: пусть мисс Норман думает, что он приедет только завтра утром. Он зарегистрируется как агент одной крупной голландской фирмы, прибывший в Польшу по служебным делам. Конечно, мы, то есть я и пан Ван-Гоббен, будем делать вид, что незнакомы друг с другом. Наибольшее его желание — получить номер непосредственно над помещением мисс Норман. Но он не уверен, что это ему удастся.
На прощание он впервые поцеловал мне руку. Сделал это так уважительно, как будто я королева. Прикосновение его губ удивительно возбуждающее. И откуда столько галантности у такого мальчишки!
На обеде было довольно весело. Даже Яцек хорошо развлекался, что в последнее время выдается ему очень редко. Казева кокетничала с ним вовсю. А мне только смеяться над этим хотелось. Бедная дуреха! Представила себе, что может иметь у него какие-то шансы со своими искусственными зубами и тридцатью годами. У него, кто имеет такую жену, даже две такие жены!
Познакомилась, наконец, с этим силезским промышленником, который давно уже добивался, чтобы его мне представили. В общем, милый человек. Типичный американский self-made man в лондонском стиле (Человек, который всего достиг сам (англ.)). Это совсем не то, что европейские новоиспеченные богачи, которых нет сил терпеть. Пан Юргус не претендует на хорошие манеры. Он имеет свои собственные. Корявые и примитивные, но именно этим и приемлемые.
Он не умеет говорить комплименты. Зато не нагоняет скуки рассказами о своих делах. Карьеру свою он начал мальчиком на судне, плававшем по Висле. Затем работал на алмазных рудниках в Южной Африке. Его заподозрили в краже, но он кого-то застрелил и бежал не то в Бразилию, не то в Чили, где стал совладельцем медного рудника. А несколько лет назад приехал в Польшу и орудует какими-то большими делами в Силезии. На правой щеке у него глубокий шрам — след от пули. На вид ему лет сорок — сорок пять. Все время за обедом и после он уделял внимание только мне. Даже когда разговаривал с кем-то другим, все равно неотрывно смотрел на меня издали. Я еще никогда не была знакома с мужчиной такого типа. Представляю себе, сколько неожиданностей может скрываться в его простой с виду натуре.
Выбрав удобный момент, он сказал мне вполне обычным тоном:
— Я хотел бы видеть вас чаще. Мои дела связывают меня с Силезией, но я могу перенести свою главную контору в Варшаву. Что вы на это скажете?
Я засмеялась.
— Но я совсем не разбираюсь в делах.
— Вы хорошо знаете, что я говорю не о делах, — буркнул он, не глядя на меня.
В это время к нам подошел Яцек, и нам пришлось прервать разговор. Только когда мы уже уходили от Казей, пан Юргус вполголоса спросил меня:
— Не могли бы вы завтра уделить мне десять минут времени?
— Ну конечно, с удовольствием, — ответила я. — Приходите завтра в пять.
— У нас будет возможность поговорить свободно?
— Да, конечно.
Странный он человек. Гальшка лопнет от ревности, узнав, что я познакомилась с ним без ее участия. Надо будет завтра же ей похвастаться. Правду говоря, мне ее немного не хватает. Хотя Гальшка глупая, лживая и завистливая, но, в конце концов, это моя лучшая подруга.
Заканчиваю. Очень хочется спать. Пан Ван-Гоббен обещал позвонить утром.
Вторник
Я специально встала очень рано. Не хотела, чтобы Яцек взял трубку. В последнее время он просто-таки караулит у телефона.
Пан Ван-Гоббен позвонил незадолго до десяти. Оказалось, что временно он поселился на четвертом этаже, но вечером ему пообещали тот номер, который он хочет. А так как день был очень хороший, я предложила ему прогуляться вместе, напрочь забыв о том, что если бы нас встретила мисс Норман, все наши планы полетели бы кувырком. Но, к счастью, он об этом помнил. Однако нам следовало обсудить некоторые вопросы, поэтому я сказала, что наведаю его в четыре.
Дел у меня сегодня множество. Не знаю даже, как сумею все их охватить и совместить. Прежде позвонила Гальшке. Как ни в чем ни бывало. Впрочем, у меня был для этого удобный повод, так как узнала, что муж ее потерпел убытки со своим предприятием. Гальшка страшно мне обрадовалась. Я сказала, что соскучилась по ней и очень удивилась, не увидев ее вчера на обеде у Казей. Это была хорошо рассчитана шпилька, Гальшка всегда из себя выходила, чтобы ее туда пригласили. Такая уж она тщеславная. Но окончательно я ее добила, сказав:
— И представь себе, дорогая, вчера я познакомилась там с паном Юргусом. Очень интересный человек. Никогда не думала, что кто-то может так влюбиться в женщину, которую видел только издали, да еще на фотографии. Веришь, ну просто не отходил от меня ни на мгновение.
Мы беседовали с полчаса. Она такая разговорчивая. Все же надо будет пойти к ним завтра на чай.
К Ван-Гоббену я, конечно, опоздала. К счастью, ни в вестибюле, ни в лифте не встретила мисс Норман. Какой он забавный! На столе стояла бутылка мадеры и блюдо с пирожными. В вазах были цветы. Мне хотелось обнять его за эту наивную романтичность. Правду говоря, пирожные оказались очень кстати, потому что у меня не было времени пообедать. Однако я ни на миг не забывала, что на пять пригласила к себе пана Юргуса. Он из тех, видимо, что приходят минута в минуту.
Ван-Гоббена зовут Фред. Фред Ван-Гоббен. Фредди. Красиво звучит. На руке у него был перстенек, несомненно женский, и я спросила, не помолвлен ли он. Он живо возразил:
— Нет, что вы. Это перстень моей матери. Я ее очень любил. А это единственная памятная вещь после нее.
В голосе его не было слышно печали, но выражение глаз свидетельствовало о том, что каждое воспоминание о матери глубоко трогает его. Это очень хорошо. Я уже убедилась, что мужчины, которые относятся к своим матерям с благоговейным почтением, лучшие из всех. Такие не бывают ни толстокожими, ни легкомысленными в отношении женщин. Даже если они грубоваты внешне, то в душе, все равно, нежные и ласковые. В них много чуткости, доброжелательности, они способны на самопожертвование. Именно таким и казался мне Ван-Гоббен.
Мы несколько минут поговорили о его матери. Оказалось, что она умерла три года назад. Отца он потерял уже давно. Сначала ему помогали родственники, а впоследствии пришлось заботиться о себе самому.
Во время этого короткого разговора нас связали нити искренней дружбы. Единственный недостаток таких молодых людей — это робость, присущая людям, которым не хватает достаточного опыта. Им всем кажется, что малейшая агрессивность по отношению к женщине может оскорбить ее достоинство. Я, конечно, имею в виду агрессивность в пределах хорошего воспитания. А Ван-Гоббен не только не позволил себе какого-то смелого движения, но и не решился сказать слов, которые, как я видела, готовы были сорваться с его губ.
Однако и при той вынужденной сдержанности знакомство с таким молодым человеком имеет свои прелести. И я, безусловно, хорошо сделала, настояв, чтобы он остался в Варшаве.
— А у вас бывает отпуск? — спросила я.
— Конечно. Летом я обычно езжу где-то на месяц в Спа или Остенде.
— Да? — сказала я. — Тогда вполне возможно, что мы там встретимся. Я тоже люблю проводить лето на Северном море.
Фред влюблено посмотрел на меня.
— Это была бы для меня просто-таки счастливая встреча.
— Ах, перестаньте шутить.
— Нет, это вы шутите, подозревая меня в неискренности.
Какое-то мгновение я смотрела на него, потом вложила руку в его ладонь.
— Нет-нет, я верю, что вы говорите искренне. — И через минуту добавила: — И хочу верить.
Когда он поднял мою руку к губам, я как бы невзначай провела пальцами по его губам.
— Мне пора, — сказала тихо. — В пять ко мне должны прийти.
Он расстроился. Как видно, ожидал от моего визита куда большего. Но я этому, впрочем, и не удивляюсь. Мы очень приятно провели время, и я не представляю себе ни одного мужчины, который при таких обстоятельствах попрощался бы с легким сердцем. Но, к сожалению, я должна была идти.
Хорошо еще, что я успела домой где-то сразу после пяти. Пан Юргус, конечно, был уже на месте. Развлекала его тетя Магдалена, и особого удовольствия это ему, как видно, не доставляло. Когда она вышла дать распоряжение прислуге (гость попросил виски с содовой), пан Юргус сказал мне:
— Я уже давно хотел познакомиться с вами.
— Я тоже о вас слышала.
— Не знаю, что именно вы слышали. А хотел бы, чтобы вы знали обо мне все.
— Ну, знать о ком-то все — это очень трудно, — заметила я.
— Да. Если этот кто-то скрытничает. Я же буду вполне искренен. Так вот, как я уже вчера вам говорил, я много чего пережил. Объездил почти весь мир. Многому научился и понял. И именно поэтому не чувствую себя счастливым, хотя и достиг той цели, которую себе поставил.
— Вы меня заинтересовали. А к чему именно вы стремились?
— К богатству. Я родился и вырос в нужде. А позже представил себе, что наибольшее счастье дают деньги. Вот и решил стать миллионером. Только не подумайте, что я был так глуп и стремился к деньгам просто ради богатства. Я не считаю их и средством к беззаботной и роскошной жизни. Мне нужно могущество, которое они дают владельцу. Я мечтал… впрочем, нет, мечтать я никогда не умел… Я строил планы учредить фабрики и предприятия, стать душой организованных человеческих масс, привить им мое мировоззрение, мои идеалы и тому подобное.
— Это весьма благородная цель, — сказала я.
Он кивнул головой.
— И я так считаю. Всегда считал. И, вероятно, буду считать так до конца жизни. Так вот, цели своей я достиг. На сегодня у меня немало миллионов. Я руковожу многими предприятиями. Воспитываю тысячи людей согласно своим взглядам. Однако убедился, что этого недостаточно для счастья.
— Почему? — спросила я.
Его высокий лоб прорезали глубокие поперечные морщины.
— Дело-то в том, что каждый мужчина, по моему мнению, как бы состоит из пары: человека вообще и собственно мужчины. Я не могу выразить это как следует, совсем не имею образования, но вы меня и так поймете. Итак, как человек я счастлив. Знаю, что работа моя приносит пользу обществу, что представляю собой достаточно большую величину, что меня ценят и уважают. Если бы я сегодня умер, обо мне сожалели бы как о честном дельце, справедливом работодателе, хорошем гражданине. Но, понимаете, никто бы по мне не заплакал.
— Вы в этом уверены?
— Полностью. У меня нет близкого человека. Как частное лицо я совершенно одинок. Одинок как мужчина. Вы меня понимаете? Ни жены у меня, ни семьи, никого нет.
— Да боже мой! — возразила я. — Если человек и не женат, это еще не значит, что нельзя иметь чувств не связанных законом, и наслаждаться взаимностью.
— Я понимаю, что вы хотите сказать. Но на такое я, извините, согласиться не могу. Просто не желаю. Вы уж простите мне мою грубую искренность, но я не хочу перед вами притворяться. Я никогда не имел любовницы. То есть такой женщины, с которой меня связывали бы хоть малейшие чувства. Не люблю половинчатости. Не люблю комедий. Те женщины, с которыми я сталкивался, смотрели на это так же. Я платил, они брали деньги.
— Это ужасно. Не верю, чтобы вам этого хватало.
— Много лет я верил, что хватает. Но…
Он вдруг замолчал, потому что вошла тетя Магдалена, а за ней Юзеф с подносом. Когда Юзеф вышел, пан Юргус обратился к тете Магдалене:
— Глубокоуважаемая пани, я прошу прощения, но у меня с пани Реновицкой очень важная и сугубо частная беседа, которую я должен как можно быстрее закончить, так как через час отходит мой поезд. Будьте так любезны и не обижайтесь на мою искренность.
Тетю как громом поразило. Она покраснела, несколько раз беззвучно, словно рыба, открыла рот, затем подхватилась из кресла и, бормоча какие-то слова, которые невозможно было разобрать, быстро засеменила из гостиной. Если бы этот человек знал, каких усилий мне стоило не засмеяться вслух! Никогда еще не видела, чтобы кто-то вот так в чужом доме выпроводил из комнаты какую бы там ни было, но старшую женщину!
Он заговорил снова, как будто ничего, абсолютно ничего не произошло:
— Я убедился, что этот второй Юргус, тот тайный Юргус, который скрывается во мне, забытый и заброшенный первым, тоже имеет свои права и тоже добивается своего счастья.
— Думаю даже, что и заслуживает него.
Он посмотрел на меня и спросил:
— Вы это серьезно говорите?
— Да, вполне серьезно.
— А почему вы так считаете?
— Ну, я не собираюсь говорить вам комплименты, но вы молодой, деятельный… Я бы сказала, настоящий мужчина. Поэтому заслуживаете личного счастья.
Он ничего не ответил. Казалось, искал слов, с которых можно начать дальнейшую беседу. В душе я дрожала от нетерпения, хотя, конечно, догадывалась, что он хочет мне сказать. Наконец он заговорил:
— Когда-то я увидел вас. И с тех пор не мог забыть. Впоследствии, у одной вашей знакомой случайно увидел вашу фотографию. Я много раз приезжал в Варшаву, надеясь, что мне удастся познакомиться с вами.
Он налил себе в стакан виски и, видимо, забыв о содовой воде, выпил одним глотком.
За дверью что-то скрипнуло. Я была почти уверена, что если кто-то нас подслушивает, то это только тетя Магдалена. Но на этот раз мне нечего было скрывать. Наоборот. Пусть послушает, пусть знает, какой я имею успех. Пусть даже передаст Яцеку то, что услышит. В какой-то мере это было бы мне даже на руку, так что, когда пан Юргус спросил, можно ли говорить совершенно свободно (видимо, он тоже услышал этот звук за дверью), я заверила его, что нас никто не слышит.
Он заговорил медленно, словно каждое слово давалось ему с большим трудом:
— Я не мастер на эти вещи… Вполне понимаю всю нелепость своего поведения. Но другого выхода нет. Вы замужняя женщина. Одного этого достаточно, чтобы закрыть мне рот. Не хотел бы ни на миг показаться вам самонадеянным. Могу предположить, что вы довольны своим браком, и усматриваю едва один шанс из тысячи, что это не так. Однако, я до конца жизни не простил бы себе, если бы не испытал этот единственный шанс. Понятное дело, всякие сравнения здесь бессмысленны. Я имею в виду сравнение, которые вы могли бы сделать между мужем и мной. В этих делах не может быть сравнений. Здесь просто или лежит душа, или нет. А всякие соображения и основания должны молчать… — Он посмотрел на меня и после короткой паузы решительно спросил: — Согласны ли вы стать моей женой?
Сказал это сухо, почти сердито. Боже мой! Сколько девушек, сколько женщин были бы счастливы услышать такой вопрос! Я уверена, немного нашлось бы таких, которые сказали бы «нет». Правда, у некоторых могло бы вызвать отвращение его мужицкое происхождение. Да и фамилия у него не из приятных. Зато какой мужчина! Наверное, преклонялся бы перед женой, как перед божеством. Она бы всю жизнь чувствовала себя в безопасности рядом с ним — сильным, умным, смелым и покорным. Покорным только ей. И хотя я очень мало была с ним знакома, однако эти вещи чувствуешь инстинктивно. Я знала, что нет в нем ничего банального, ничего будничного, что вся его сущность наполнена глубоким смыслом. Характер у него должно быть такой же сильный, как и его плечи и мышцы…
Он неторопливо закурил, а я думала: «Кто я, наконец, такая? Чего я стою? Не слишком ли низко себя ценю? Ведь должны быть у меня какие-то особые, какие-то существенные достоинства, если так легко овладеваю чувствами таких мужчин… Таких, как этот пан Юргус, как Яцек, Ромек или Роберт. Вряд ли они так добивались бы меня, если бы их привлекала только моя красота. И пусть завистливые приятельницы хоть тысячу раз мне говорят, что своим успехам я обязана только внешности, — я ни за что им не поверю! Я еще согласилась бы с этим, если бы речь шла о таких пустых поклонниках, как Тото. (Да и то не полностью! Он ценит также и мое внутреннее содержание). Но эти разумные мужчины — они видят мое духовное богатство. Потому-то меня каждый раз так трогает их преклонение, как и теперь…»
Я так задумалась, что даже вздрогнула, когда он заговорил снова:
— Чаще всего в таких случаях мужчины просят не торопиться с ответом. Но я не умею и не люблю тешить себя напрасными надеждами. Мне милее горькая правда, чем сладкие мечты. А поскольку я знаю, что в таких делах сердце или откликнется сразу, или же никогда не откликнется, то и прошу вас дать мне ответ сейчас же.
А как было хорошо с его стороны, ничего мне не обещать, не пытаться ничем приманить, или даже поощрить. Вот так просто пришел и спросил, дорог ли он мне. Спросил, хотя и сам понимал, что имеет один шанс из тысячи. Но что я могла ему сказать?..
Особенно обидно было дать ему свой отказ. Ответить на его чувство холодным «нет»… Помолчав с минуту, я сказала:
— Мой дорогой пан, я искренне тронута… Если бы услышала ваше предложение раньше, когда была еще свободна, то кто знает, не считала бы его счастьем. Я вполне осознаю ваши высокие достоинства. Должна вам сказать, что немного встречала в жизни людей, которых так хотела бы одарить своей благосклонностью и уважением… Действительно, вы во всех отношениях заслуживаете самой счастливой судьбы. Однако я замужем. У меня есть муж, с которым меня связывают не только обеты, данные перед алтарем, но и любовь, и дружба…
— Понимаю… — Голос его осекся. — Вы счастливы… В конце концов, я это знал…
Я отрицательно покачала головой и грустно улыбнулась.
— Я этого не говорила. Любить кого-то и хранить ему верность — не всегда счастье.
Он озабоченно посмотрел на меня. Не сказал ни слова, но я почувствовала, что он думает. Знала, что хочет дать мне понять: он, мол, в любой момент готов стать на мою защиту, прийти на помощь, жениться на мне, даже если бы я его не любила.
Но он овладел собой, поднялся и сказал:
— Прошу прощения за это вторжение. Я бы никогда на такое не решился, если бы не заставила меня внутренняя потребность… — И, немного поколебавшись, добавил: — И благодарю вас за искренность. Благодарю за то, что вы такая… такая, какой я вас себе и представлял и которую мог бы…
Он не закончил. Низко и неуклюже поклонился, едва коснулся губами моей руки и вышел.
Я нажал кнопку звонка и услышала, как в прихожей Юзеф открыл ему дверь.
Вечером мне принесли огромную корзину цветов без открытки.
Когда я легла в постель, то не могла читать и в конце расплакалась. Яцек, пришедший пожелать мне спокойной ночи, спросил, не случилось ли со мной чего-то неприятного. Ах, ничего он обо мне не знает! Ничуть не понимает меня! Он показался мне ординарным и слабовольным. Нервы у меня совершенно расстроены.
Этот день был очень полезен для меня и с такой точки зрения: я твердо и окончательно решила порвать с Тото. Пусть его забирает себе мисс Норман, или Мушка или кто хочет. Меня теперь это нисколько не волнует. Я намеренно пишу это здесь, чтобы закрепить свое решение на бумаге и лишить себя возможности отступиться от него.
Сегодня я торжествую. Оказалось, что обыск я сделала безупречно. Пан Ван-Гоббен должен был признать это, потому что и сам не нашел в номере мисс Норман ничего интересного. Все его находки свелись к записи названий швейных фирм в разных городах, которым она заказывала одежду.
Я, конечно, согласилась, что это тоже какой-то след, однако выразила сомнение — и пан Фред не мог мне возразить, — что вряд ли он много добавит к тому большому объему сведений, который нам уже удалось получить.
На обыск ему хватило полчаса. Он таки подстерег момент, когда мисс Норман куда-то ушла. Но мог смело быть в ее номере и добрых часа два. Я ведь знала, где она. Впрочем, это нетрудно было выяснить. Просто позвонила в больницу и спросила, приехала ли уже к Тото такая-то дама с рыжими волосами. Получив утвердительный ответ, я все же невольно почувствовала досаду. Вот же вцепилась! К счастью, ни о каких ласках между ними не может быть и речи, из-за сломанной руки Тото.
Чтобы отомстить ему, я поехала в «Бристоль», хотя перед тем и не собиралась видеться с паном Фредом. Меня несколько удивило, что на мой стук долго никто не отзывался. Я уже подумала, что его нет, как вдруг дверь открылась. Он был немного обеспокоен. В первое мгновение я даже подумала, что у него какая-то женщина. Но когда он приветствовал меня с радостной улыбкой и пригласил войти, я поняла, что мое подозрение безосновательно. Фред был один.
Он тщательно запер дверь в коридор и спросил:
— А вы знаете, что я делал?
Голос его звучал таинственно. И, зная уже, что у мисс Норман он ничего не нашел, я была-таки заинтригована.
— Вот сейчас я вам покажу, — и он прищурился с видом мальчишки-школьника, который вот-вот собирается выкинуть какую-нибудь штуку.
Потому на мгновение исчез в ванной и вернулся с какими-то причудливо изогнутыми железками.
— Что это такое? — изумленно спросила я.
— Сверла и трубочки для закрепления стенок отверстия.
— Боже мой, какого еще отверстия?
Он молча вывел меня на середину комнаты и сдвинул ковер. В самом центре пола я увидела кучку стружек и отверстие шириной с палец. Но и теперь не могла ничего понять.
— Зачем вы сделали эту дыру?
— Как зачем?.. Для того, чтобы слышать, что происходит в комнате той уважаемой пани, которая живет этажом ниже.
— Вот оно что! — радостно воскликнула я. — Ну знаете, это же просто гениально!
Он засмеялся.
— Да не очень. Так всегда делают.
— Всегда?.. Я действительно не раз читала о таком в книжках, однако мне и в голову никогда не приходило, что к этому прибегают и в жизни. Я думала, так было только прежде.
— Так будет всегда, — улыбнулся он, — пока будет существовать человеческое любопытство. Вам не помешает, если я снова приступлю к работе?
— Нет-нет, прошу. Это очень интересно.
— Я прервал ее, когда вы постучали. А надо спешить. Боюсь, что вот-вот вернется мисс Норман или как там ее действительно зовут. Потому что тогда шорох, которого не избежать при сверлении, может привлечь ее внимание и свести на нет весь мой план.
— Пусть это вас не тревожит, — успокоила я его. — Она так скоро не вернется. Я знаю, где она.
— Знаете? — удивился он.
— Да. Она сейчас у одного человека, на которого охотится в последнее время. Не знаю только, на него самого, или на его миллионы.
Пан Фред задумался, прекратил работу и, посмотрев на меня, сказал:
— Понимаю. Это ради него вы стараетесь.
Я не могла не заметить, каким расстроенным голосом он сказал это. Поэтому искренне засмеялась.
— Да нет, боже упаси! Я могу подарить ей того пана бесплатно и даже в обертке.
Он повеселел и благодарно посмотрел на меня.
— Это очень мило с вашей стороны.
Теперь я уже не сомневалась, что я ему не безразлична. Когда он снова склонился над своей дырой в полу, я нежно погладила его по голове. Волосы у него были жестковатые, но рассыпающиеся и приятные на ощупь.
— Вы так тяжело работаете, — сказала я.
Он слегка побледнел и видимо колебался, не ответить ли на мое проявление привязанности более решительным образом, однако сдержался и только сказал:
— Если бы даже эта работа не была моей обязанностью, я бы все равно выполнял ее с удовольствием, потому что делаю это для вас. — И, помолчав, добавил: — Правда, я не знаю, почему вас интересует та подозрительная пани, и что вы собираетесь делать дальше, но прошу мне поверить: я готов сделать все, чтобы содействовать вашим намерениям.
— Вы очень… Вы удивительно милый.
В этот момент я решила: расскажу ему все как есть. Сказала, что хочу доверить ему правду, поэтому он оставил свою работу, и мы сели на диване. Я последовательно и подробно пересказала ему всю эту историю — от первого письма мисс Норман вплоть до последнего дня перед тем, как он приехал в Варшаву.
В заключение я сказала:
— Вы понимаете, я никогда не прибегла бы ко всем этим мероприятиям, если бы не угроза моему семейному и общественному положению. И если бы не людская молва, с которой я тоже должна считаться.
— Ну, и если бы не муж, — добавил он, — которого вам пришлось бы потерять.
Я посмотрела на него с печальной улыбкой.
— Неужели вы действительно можете предполагать, что любая женщина, не лишенная чувства собственного достоинства, держалась бы за мужчину, который так подло ее обманул?.. А если бы даже и так, то можете ли вы себе представить, чтобы, узнав об этом, она сохранила к нему те же чувства, что и раньше?..
Мои слова произвели на пана Фреда большое впечатление, но он лишь сказал коротко:
— Я вас понимаю.
— Вы только подумайте, что я переживала и до сих пор переживаю!.. Представьте себе, как постоянно дрожала от мысли, что эта тайна может стать общим достоянием. Что о ней узнает кто-то несдержанный на язык и разнесет ее везде, погубив мою репутацию и нанеся смертельный удар моей чести и гордости…
Он озабоченно посмотрел на меня.
— Надеюсь, вы никому не рассказывали?
— Конечно, никому. Вы первый и единственный, кому я могу полностью довериться. Даже вынуждена довериться, потому что нуждаюсь в вашей помощи, потому что не в силах сама уладить это слишком сложное для меня дело.
Пан Фред нахмурил брови.
— Спасибо. И могу заверить вас словом Ван-Гоббена, что от меня никто не услышит ни звука. Прошу также поверить, что с этой минуты я буду помогать вам не как платный агент брюссельского розыскного бюро, а как джентльмен, который считает своим долгом помочь женщине.
Я благодарным жестом протянула ему руки. Он крепко схватил их и поднес к губам. Я не сомневалась, что он пойдет и дальше, но, видимо, в душе он робкий, или, может, эта стеснительность объясняется молодым возрастом и недостаточным опытом.
Зато после этого он с еще большим рвением взялся вертеть эту свою дыру в полу. Сверло уже углубилось на добрых десять сантиметров, и я встревожено спросила:
— А вы не боитесь, что этот ваш инструмент пробьет штукатурку на потолке под нами и оставит мусор на полу? Тогда вся ваша работа пойдет прахом. Достаточно будет мисс Норман взглянуть на потолок — и она сразу заподозрит, что кто-то на верхнем этаже хочет подслушивать или подсматривать.
Он беззаботно рассмеялся.
— Пусть это вас не тревожит. Для решения этих проблем есть свои методы. Во-первых, все досконально измерено. Дыра, которую я сверлю, получится точно между лампами люстры.
— А штукатурка?
— Тоже предусмотрено. Для этого есть специальные пластыри. На пол не упадет ни крошки. В конце концов, я уже имею опыт.
— И часто вы такое делали? — с интересом спросила я. Он кивнул головой.
— Конечно. Много раз. Ясное дело, это не очень достойное занятие для джентльмена, но поскольку речь идет в основном о защите чьей-то гордости или чести, имущества или законных прав, то утешаешь себя тем, что цель оправдывает средства.
— А если бы вас на этом поймали?
— Ха! — засмеялся он. — Имел бы тогда немало неприятностей. Прежде всего — от администрации отеля, а там и от полиции… Пришлось бы объяснять, что да как… — Он махнул рукой и добавил: — Наверное, отсидел бы день-два под арестом, до выяснения обстоятельств.
— Видите, каким страшным вещам вы подвергаетесь ради меня.
— Будем надеяться, что все пройдет хорошо.
Он вдруг перестал сверлить и, сделав мне знак рукой, чтобы я помолчала, приложил ухо к дыре.
— Нет. Только показалось… К вечеру все будет готово. Установлю микрофон, усилитель, и вы сможете удобно сидеть тут на диване с наушниками на голове и слышать все, что происходит внизу, как по радио.
— Вот чудо! А видеть тоже можно будет?
— Это сделать сложнее, да и времени больше отняло бы. К тому же у меня нет с собой нужного прибора, нечто вроде перископа. Однако думаю, что мы прекрасно обойдемся и без этого, распределив между собой роли. Если нам нужно будет узнать, кто там у той пани, вы сможете слушать здесь, а я спущусь этажом ниже и увижу, кто от нее выходит.
Ну, разве могла я не сказать ему, что он гений? С удовольствием осталась бы у него дольше, но меня начала беспокоить мысль, почему не возвращается та выдра. О чем они там могли так долго разговаривать? Разве что Тото рассказывал ей о своем конном заводе. Так или иначе, а надо было это выяснить. Однако на этот раз мне вовсе не хотелось встретиться с ней у Тото.
Я переждала еще несколько минут и попрощалась с паном Фредом, пообещав поддерживать с ним связь по телефону.
В больнице я узнала, что «та пани» уже с час как ушла. Вид Тото меня просто поразил: он уже встал с постели и в халате сидел в кресле. В вазе, разумеется, были свежие цветы. Она так разбалует его теми цветами, что он действительно возомнит, что заслуживает их. От меня он никогда не получал никаких цветов. Я дарила ему только галстуки, да и то чтоб обезопасить себя от его ужасной безвкусицы. Однажды он явился на люди в таком галстуке, что мне было стыдно сидеть с ним за одним столиком.
Тото был в прекрасном настроении и встретил меня с такой самодовольной непринужденностью, которая порой походила на снисходительность. Я думала, что лопну от смеха. По одному этому я всегда узнала бы наверняка, что у него была какая-то женщина. Наименьший успех у первой попавшейся бабы наполняет его самоуверенностью и укрепляет в идиотском убеждении, будто он настоящий донжуан, перед которым никто не устоит и расположения которого все добиваются.
Я, конечно, сделала вид, что ничего этого не замечаю.
Чтобы немного сбить с него спесь, я начала рассказывать, что встретила графа Батильйони и приятно провела с ним время до обеда. Тото всегда ему завидовал. Батильйони не только почти так же богат, как и он, но вдобавок еще и кровный родственник савойским князьям. Они оба никогда терпеть не могли друг друга и каждый раз, если где-то встречались, вступали в пререкания, причем побеждал всегда итальянец, намного превосходя Тото не только умом и остроумием, но и осведомленностью как в коневодстве, так и в охотничьем деле.
— Он такой милый, — сказала я, — даже выразил желание немного подучить тебя водить автомобиль.
Тото покраснел.
— Тот пустобрех?.. Меня? Да он сам не умеет водить машину!
— Что ж, возможно. Однако получил первый приз в альпийских гонках и никогда еще не бывал в авариях…
— Это он тебе такое сказал? — взорвался Тото. — Но ведь врет! Бесстыдно врет. В двадцать девятом году во время соревнований на Сицилии он вылетел с шоссе и разбил машину вдребезги.
— Зато сам остался цел.
— Дуракам везет.
— Слушай, Тото, — укоризненно сказала я. — Нехорошо с твоей стороны отрицать талант и умение человека и сворачивать все это на счастливое стечение обстоятельств. Ты и три года назад, когда Батильйони занял второе место в ралли в Монте-Карло, говорил, что ему просто повезло. Тогда, когда ты сам сошел еще на втором этапе. Ты должен быть благодарен за то, что он согласен дать тебе несколько уроков. Да и, наконец, он такой славный человек.
Тото с трудом сдерживал себя. Но, зная, что он слишком хорошо воспитан и не позволит себе сорваться, я уколола его еще несколькими мелочами. И только после того спросила, как он себя чувствует и когда его выпишут из больницы. Оказалось, что уже на следующий день он должен переехать домой.
— Конечно, дома тебе будет удобнее, — согласилась я. — Ну, а как поживает мисс Норман?
Он пожал плечами.
— Откуда мне знать?
— А, это она не сама принесла тебе эти цветы?
Он проглотил слюну и буркнул:
— Нет. Прислала. И наконец, почему ты думаешь, что я могу получать цветы только от нее? Ты всегда недооценивала меня.
Я пронзила его острым взглядом.
— Как раз наоборот. Вспомни-ка, как я свято верила, что ты сам подстрелил тех двух тигров, шкуры которых висят в твоем кабинете в имении. Да и верила бы до сегодняшнего дня, если бы случайно не увидела на изнанке фабричных штемпелей. Я ведь…
— Тс-с… тс-с… Тише. Бога ради, зачем же так громко! — застонал Тото. — Хочешь, чтобы кто услышал? Тебе обязательно надо меня скомпрометировать?
— Вовсе нет, мой милый. Не хочу тебя ни компрометировать, ни выставлять на посмешище. И лучшее доказательство этому — то, что я до сих пор никому и словом не обмолвилась.
Слова «до сих пор» я слегка подчеркнула, однако Тото это заметил и в душе съежился от страха. Пусть знает, что со мной надо считаться. Он сразу стал удивительно нежным и предупредительным. Мне противно было смотреть на его потуги. Я еще не упала так низко, чтобы требовать вынужденной благосклонности. Поэтому, посидев еще четверть часа, попрощалась и пошла домой.
Яцек был раздраженный и подавленный. Я сразу же заподозрила, что это связано с той чертовой бабой. Но на мой вопрос он отговорился неприятностями на службе, и я не стала расспрашивать дальше. И так скоро обо всем узнаю. Я очень рада, что доверила все это дело пану Фреду. Ни на секунду не сомневаюсь, что он никому не выдаст моей тайны.
К последним словам п. Реновицкой я должен добавить небольшое опровержение. Как видно, ее изменила память, когда она уверяла п. Ван-Гоббена, что он единственный, кого она одарила своим доверием. В действительности же, кроме него, она доверила свою тайну не только п. Альбину Нементовскому и мне, но и еще нескольким лицам.
Я сам убедился в этом еще тогда, когда происходили описываемые в дневнике события: по городу прошел слух, что п. Яцек Реновицкий причастен к какому-то делу о двоеженстве. Януш Минкевич, крупнейший сатирик среди сплетников и сплетник среди сатириков, даже спрашивал меня, не стоит написать на эту тему фрашку в «Шпильки». Я ему, конечно, отсоветовал. Но это уже не имеет отношения к делу.
Это небольшое отклонение от истины со стороны п. Реновицкой можно оправдать тем, что, сравнительно мало зная п. Ван-Гоббена, она хотела своей невинной ложью заслужить его благосклонность и побудить помочь ей. (Примечание Т. Д.-М.)
На следующий день я уже в двенадцать появилась в «Бристоле» у пана Фреда. Установка была вполне готова. Зайдя в комнату, никто бы и не подумал, что в ней есть вся эта машинерия. Из-под ковра выглядывал лишь маленький кончик проводка. Пан Фред прицепил к нему другой проводок и подал мне наушники.
Это было просто чудо! Я совершенно отчетливо слышала, как мисс Норман ходит по комнате, тихо напевает «Вei mir bist du schoen», передвигает кресла, открывает дверцы шкафа. Видимо, она одевалась.
Фред стоял передо мной и удовлетворенно наблюдал впечатление, которое отражалось на моем лице. Я уже хотела отложить наушники, когда услышала телефонный звонок и ее «алло». Она говорила по-французски, называя собеседника «mon cher monsieur». По ее коротким общеупотребительным репликам трудно было понять, о чем речь. Впрочем, похоже, что она выслушивала чьи-то указания или распоряжения. Дело, пожалуй, касалось торговли, так как звучали такие слова как «груз», «прислать» и тому подобное. Весь разговор длился едва две или три минуты. Потом я услышала шуршание бумаги, а еще через минуту — стук в дверь. Видимо, она вызвала звонком прислугу. Я не ошиблась. Она сказала по-английски:
— Прошу сейчас же отослать эту телеграмму.
После того внизу наступила тишина.
Я отложила наушники и передала пану Фреду все, что услышала, добавив от себя:
— Очень вероятно, что она таки промышляет контрабандой наркотиков.
— Я еще не совсем уверен в этом, — сказал он через минуту колебания. — Однако надеюсь, что вскоре мы будем иметь более конкретные сведения.
— Да, благодаря вашей замечательной идее с этим аппаратом. Гениальное изобретение! Слышишь не только каждое слово, но и малейший шорох.
Он кивнул головой.
— Я поставил усилитель собственной конструкции. Однако самое важное то, что моя соседка внизу, как видно, и не подозревает о существовании этой установки. Иначе была бы более осторожна в телефонном разговоре.
— А разве этот разговор так уж важен? — поинтересовалась я.
— Безусловно. Ведь эта дама изображает здесь из себя туристку. Тем не менее мы теперь знаем, что она поддерживает какие-то связи и причастна к делам, которые не имеют ничего общего с туризмом.
Он записал что-то в свой блокнот и сказал:
— Сегодня мисс Норман получила два письма. Когда она выйдет, я опять наведаюсь в ее номер. Впрочем, думаю, что она уничтожает письма сразу же по прочтении. Что же касается вашего дела, то я тут немного поразмыслил и пришел к некоторым выводам. Вся эта история с женитьбой вашего мужа на той пани кажется мне очень запутанной. В частности, я никак не пойму, почему нью-йоркский адвокат не может разыскать контору, где они поженились. Насколько я знаю, с этим в Америке образцовый порядок. Боюсь, что именно здесь скрыта какая-то загадка.
— Какая новая опасность?
— Наоборот, скорее ловушка, которой трудно будет избежать.
— Боже мой, какое счастье, что я встретила именно вас! Теперь я верю, что все кончится хорошо. Я вам так благодарна, пан Фред, что просто задушила бы вас в объятиях!
Он слегка покраснел, однако решился сесть рядом со мной, а затем сказал:
— А что вы сделаете, если я стану добиваться этой благодарности?
Я засмеялась:
— Попробую поторговаться. Может, сойдемся на компромиссе. Ну, хотя бы на таком сестринском поцелуе в лоб.
С этими словами я взяла в ладони его лицо и коснулась губами лба.
Здесь я должна предостеречь всех женщин, которые могут оказаться в такой ситуации, имея дело с неопытным юнцом. Пан Фред неожиданно дернул головой и очень больно ударил меня носом в подбородок. Поэтому вполне понятно, что хотя он добился своего и таки поцеловал меня в губы, однако этот поцелуй не доставил удовольствия ни мне, ни, насколько я могу судить, ему самому.
Добрых несколько минут спустя бедняга потирал себе нос, а я с интересом присматривалась, ожидая, когда он начнет пухнуть. Мы оба не очень естественно рассмеялись. Впрочем, сидели мы теперь вплотную друг к другу, и я не могла не заметить, что уже через минуту эта близость начала распалять пана Фреда.
Но вдруг в наушниках снова послышался шорох, и мы приникли к ним. Видимо, мисс Норман уже ушла, теперь до нас доносились звуки уборки. Мы обменялись еще несколькими фразами, и я начала собираться. Прощаясь, он, видимо, смущенный предыдущей неудачей, уже не пытался меня поцеловать.
Что ни говорите, а нехватка опыта у мужчины — это нешуточный недостаток.
Четверг, вечер
Пан Фред прислал мне цветы. Я отчитала его по телефону. Зачем он делает такие глупости? Его материальное положение — я уверена — не позволяет такой расточительности. Вон как тяжело ему приходится работать. Я растолковала ему, что мне было бы в сто раз приятнее получить от него скромный букетик фиалок. Надо придумать ему какой-нибудь хороший подарок. Я имею на это право хотя бы с той точки зрения, что это будет как бы дополнительный гонорар. Куплю ему, скажем, элегантный портсигар к фраку. Отдам, когда будет уезжать из Варшавы. Хочу, чтобы он имел памятку от меня. В конце концов, может ему пригодиться, когда не будет хватать денег.
Яцек оставил мне записку, что допоздна задержится на службе. Ничего удивительного, если учесть то, что творится в Европе. Кажется, все-таки будет война. Пани Люцина утверждает, что в случае войны в моду войдут высокие шнурованные ботинки и маленькие шляпки наподобие военных фуражек. С этой точки зрения войны я не боюсь. Моих ног, слава богу, стыдиться нечего, да и маленькие шляпки мне к лицу.
К ужину неожиданно появилась Данка. Ее Станислав поехал на два дня в Будапешт по своим делам, а она в тот вечер, к величайшему моему удивлению, не имела никаких собраний или совещаний. Сидела у меня почти два часа.
Пятница
Неизвестно в который уже раз убеждаюсь, что Яцек любит меня. Да и сама я, впрочем, уверена, что никто другой никогда мне его не заменит. Мы с Яцеком действительно идеальные супруги. Недаром ведь все завидуют нашему счастью. А если бы они знали, какая грозная туча нависла над нашим семейным очагом, то наверняка почувствовали бы к нам еще больше симпатии и расположения. Так как трудно отрицать, что в целом нас очень любят.
Сегодня утром Яцек вел телефонный разговор, который показался мне весьма подозрительным. Обычно он говорит по телефону, не скрывая, кто на связи — мужчина или женщина. Но на этот раз заметно избегал каких-либо обращений. К тому же я видела, что он едва сдерживает гнев. Голос его дрожал, а порой и прерывался — явное свидетельство того, что он говорил о каком-то чрезвычайно важном деле и хотел скрыть от меня его суть.
В конце концов, мне не пришлось долго ждать подтверждения моих опасений. Как только Яцек ушел из дома, я сразу же позвонила пану Фреду и узнала, что та женщина говорила по телефону в резкой и категорической форме с каким-то мужчиной, дав ему сорок восемь часов на окончательное решение их общего дела.
Пан Фред попросил меня, чтобы я в этой связи немедленно приехала к нему, не боясь встретить мисс Норман ни в вестибюле, ни на лестнице, потому что она сидит у себя в номере, ожидая чьего-то визита.
Он не имел ни малейшего понятия, кого она ждет. Не знал даже, должен ли это быть мужчина или женщина. Однако моя интуиция никогда не изменяет, и мне представился случай лишний раз в этом убедиться. Я была почти уверена, что к ней придет Тото. И уже заранее радовалась, что с помощью подслушивающего аппарата узнаю наконец, как далеко зашли их отношения. Хоть мне и совершенно безразличен Тото, однако должна признаться, что эта его коварная игра за моей спиной немало меня раздражает. Единственная радость — то, что я в любую минуту могу заставить его уехать в деревню или даже за границу.
Когда я пришла, мисс Норман была еще одна в своем номере внизу. Я отложила наушники, и пан Фред уже куда смелее подсел ко мне и как бы невзначай положил руку на спинку дивана так, что почти обнял меня.
— Красивая у вас тут в Польше весна, — сказал он. — Красивая и удивительно благоприятная для чувств, которые в течение остального года заглушает избыток повседневных дел и забот, а потом они вдруг просыпаются, чтобы напомнить нам, что существует в мире красота.
— Неужели бельгийская весна в этом отношении уступает нашей? — спросила я.
— Не знаю. Чтобы судить об этом, мне надо бы прожить весну в Бельгии рядом с таким очаровательным существом, живым образом весенней красоты, которым являетесь вы…
— Вы не жалеете, что остались в Варшаве?
— Да вы что! — возмутился он. — И ни одну секунду не жалел. Разве не говорят вам об этом каждый день мои глаза?
Я засмеялась и покачала головой.
— Возможно, я еще не научилась понимать их язык. А ну закройте их. Хорошо?.. А теперь говорите…
Он послушно закрыл глаза. Я наклонилась и поцеловала его в губы. Не могла же я предположить, что он так бурно отреагирует на такой невинный поцелуй, на такое легкое прикосновение, и схватит меня в объятия.
Здесь я должен на минуту прервать рассказ п. Реновицкой. Я также считаю, что неожиданное и непредсказуемое движение упомянутого молодого пана заслуживает сурового осуждения. Негоже поступать так относительно молодой замужней женщины, которая доверчиво приходит к мужчине, не сомневаясь в том, что он настоящий джентльмен. Упадок морали, который в последнее время наблюдается среди молодежи, способствует тому, что женщины иногда подвергаются таким безобразным нападениям, хотя и всячески стараются их избежать.
Что касается данной ситуации, то если та легкомысленная выходка упомянутого юнца и не привела к неприятным последствиям, это объясняется как прочными и непоколебимыми моральными устоями п. Реновицкой, так и ее уступчивостью и тактичностью. Как следует из дальнейшего текста дневника, она сумела не только повести себя с надлежащим достоинством, но и не отвратить от себя того излишне горячего молодого человека. Наоборот — сумела завоевать его дружбу, доказательство чего находим в дальнейшем рассказе об их взаимоотношениях.
К этому добавлю, что я счел уместным вычеркнуть здесь из дневника несколько десятков строк, где приводятся детали, не имеющие никакого влияния на дальнейший ход событий. Автор еще не очень опытная писательница, поэтому время от времени пренебрегает правилами композиции, позволяя отдельным эпизодам чрезмерно разрастаться в ущерб целостности произведения. (Примечание Т. Д.-М.)
Когда я вспомнила о наушниках, у мисс Норман уже был тот неизвестный гость. Она смеялась и с оживлением (конечно, искусственным!) рассказывала ему о приключениях какого-то своего кузена на конных скачках в Ливерпуле. Вот змея! Уже успела разнюхать, чем можно заинтересовать Тото!
Вскоре откликнулся и сам Тото. Да, теперь я уже не имела и тени сомнения, что это он. Узнала его хотя бы по тем любимым прибауткам, которые он не решается повторять при мне, потому что я всегда их высмеиваю.
Они обращались друг к другу на «вы». Из их разговора трудно было понять, дошло ли уже между ними до чего-то существенного. Однако она откровенно кокетничала с ним, старалась понравиться, и, возможно, Фред прав, утверждая, что таким образом женщина ведет себя только с тем мужчиной, который ей в самом деле нравится. Что ж, поздравляю ее с таким выбором!.. Тото, в свою очередь, не оставался в долгу, осыпая ее банальными любезностями и идиотскими комплиментами.
Сама не знаю, почему я так спокойно переносила то нудное «слушанье». Может, потому, что была еще полна радости и душевного умиротворения, а может, и потому, что рядом со мной сидел Фред, такой милый и во всех отношениях куда лучше Тото.
Что ни говори, а не может быть чистой случайностью, что я в своей жизни встречаю людей исключительных, незаурядных, хотя и таких разных, и что именно они видят во мне те добродетели, которые для обычных, рядовых мужчин остаются незамеченными.
Вернувшись домой, я позвонила Тото. Он, конечно, не признался, что был у нее, и когда я предложила ему встретиться в шесть на вечернем чае у Ледуховских, согласился без всяких отговорок, хотя я слышала собственными ушами, как он договаривался именно в шесть идти с той выдрой в кино. Как видно, еще соблюдает приличия в отношении меня. Ничего, это ему не поможет. Вот пусть только все выяснится, и я расскажу кому надо об этих тиграх. Представляю себе, сколько месяцев Тото не сможет показаться не только в Охотничьем клубе, но и вообще в Варшаве!
Суббота
И до сих пор гудит в голове от мыслей, которые невозможно собрать вместе или привести в порядок. Столько вдруг страшных и потрясающих новостей!
Наконец та подлая женщина сбросила маску. Я не могла поверить своим ушам, слушая их разговор. Если бы рядом не было Фреда, то не знаю даже, что сделала бы. Возможно, совершила бы какую-нибудь непоправимую глупость. Был момент, когда я хотела бежать вниз, позвонить в полицию…
Но постараюсь описать все поподробнее. Итак, часов в десять утра мне позвонил Фред и сказал, что скоро к мисс Норман придет тот человек, которому она вчера поставила сорокавосьмичасовый ультиматум. Фред считал — и весьма резонно, — что последующий разговор будет очень важен для меня.
Я быстрее оделась и почти через двадцать минут была уже у него. Когда выходила из дома, Яцек брился в ванной, насвистывая какую-то мелодийку. Могла ли я предположить, что мисс Норман условилась именно с ним? Но не буду забегать вперед.
В номере мисс Норман царила тишина. Фред тоже был видимо взволнован необычной ситуацией. Он ничего мне не сказал, хотя, безусловно, догадывался, что мисс Норман назначила встречу моему мужу. Присутствие Фреда очень поддерживало и успокаивало меня. Любая женщина поймет, что я хочу этим сказать. Близость сильного, смелого и умного мужчины всегда приглушает у женщины чувство опасности, сводит его к минимуму.
Мы сидели молча, и каждый прижимал к уху один из двух наушников. Наконец в одиннадцать, или, может, через несколько минут после одиннадцати, внизу послышался стук в дверь и короткое «Соmе in», которым отозвалась мисс Норман (Заходите (англ.)).
Я сразу узнала голос Яцека. Он сказал:
— Кажется, я пришел вовремя. К вашим услугам. Поскольку оба говорили по-английски, я так и не смогла толком понять, они между собой на «ты» или на «вы». Ведь английское «уоu» может одинаково означать и то и другое. Но, судя по общему тону разговора, пришла к выводу, что Яцек старался говорить как можно официальнее, тогда как она хотела придать разговору более интимный тон. По крайней мере, в начале. Итак, попробую точнее передать то, что я услышала.
Мисс Норман непринужденно сказала:
— Я так долго и терпеливо ждала вашего решения, что несколько лишних минут уже ничего не значат. Прошу садиться. Вот здесь сигареты. А вы осунулись. Вам было бы полезно отдохнуть на Сицилии. Надеюсь, мы поедем туда вместе, я уже даже позвонила в туристическое бюро, узнала о маршруте. Не выпьете рюмку коньяка?
Фред сжал мне руку.
— Врет. Ни в какое бюро она не звонила.
Яцек принужденно засмеялся:
— Вы шутите?.. Ведь я давно сказал вам о своем решении. Я люблю свою жену и не имею ни малейшего намерения расставаться с ней не только навсегда, но и на короткое время. Я люблю ее, понимаете?
— Конечно. Однако для меня это не имеет значения.
— Не имеет? Я могу понять это только как шутку. Что толку, если бы я даже вернулся к вам? Ведь я никогда не буду иметь к вам никаких других чувств, кроме…
Он запнулся, а она подсказала:
— Кроме ненависти?.. Видите ли, как вы уже справедливо когда-то заметили, я не принадлежу к женщинам банальным, ординарным. Собственно говоря, мне совершенно безразлично, какие там у вас ко мне чувства. Ведь и я не утверждаю, что я люблю вас. Или вы об этом другого мнения?
— Я над этим не задумывался, — буркнул Яцек.
— Потому что оно вас не касается, да?.. Нет, я не люблю вас. Просто хочу иметь при себе и для себя. Вы назвали это прихотью. Пусть так. Во всяком случае, я имею средства, которые дают мне возможность удовлетворить эту свою прихоть.
— Вы ошибаетесь, — твердо возразил Яцек. — Единственное, к чему вы можете меня принудить, это… уйти со сцены.
— Ах, какое безрассудство! — засмеялась она. — Вы хотите избежать скандала и уберечь репутацию своей нынешней жены, не так ли? И что же вы достигнете самоубийством? Нет, мой милый. Не будьте ребенком. Ведь вы меня достаточно хорошо знаете: я бы не колеблясь добавила к скандалу, вызванному вашим самоубийством, некоторые сведения, которые выяснили бы скрытые причины этого шага. Нет, друг мой, это не выход.
Внизу наступила тишина. Наконец Яцек отозвался как бы слегка охрипшим голосом:
— Не бойтесь, я сумел бы этому помешать. В его тоне звучала угроза, но мисс Норман беззаботно воскликнула:
— О, вы хотите убить и меня? Какое романтическое приключение! Два трупа в номере отеля! Новая звезда польской дипломатии, один из виднейших представителей варшавского высшего света убивает прекрасную иностранку! Какая добыча для сенсации! Да если бы вы действительно напали на меня, — продолжала она, — если бы даже отняли у меня жизнь, то поверьте, уже на утро все газеты знали бы, что побудило вас к убийству. Думаю, вы уже успели узнать меня настолько, чтобы понять, что я человек предусмотрительный.
Яцек сказал:
— И все же вы хотите, чтобы я к вам вернулся? Хотите вернуть себе мужчину, который готов вас убить?
— Именно так, — подтвердила она. — Это придает ситуации ту пикантность, к которой я всегда стремилась. Да и, наконец, я могу надеяться, могу верить в себя и просто быть уверена, что со временем смогу возвратить вашу любовь.
— Это абсолютно исключено! — взорвался Яцек. — Я уже теперь ненавижу вас! Брезгую вами! Вы это понимаете?
— Понимаю, — холодно отозвалась она. — Но это нисколько не влияет на мое решение. Поэтому повторяю свой ультиматум: или вы до завтра соглашаетесь немедленно уехать со мной и возбудить дело о разводе с вашей нынешней женой, или я буду вынуждена обвинить вас в двоеженстве и предать эту историю широчайшей огласке.
Опять наступило молчание. Потом вдруг послышался стук отодвигаемого или опрокинутого стула. Сердце замерло у меня в груди. Я уже рисовала себе в воображении сцену, которая там происходит: вот Яцек бросился на нее и… Однако вместо отчаянного крика услышала звук приглушенных ковром шагов. Потом все умолкло, и раздался тихий голос Яцека, взявшего себя в руки:
— Не могу поверить, что я так непременно вам нужен. Поэтому предлагаю выкуп.
— Выкуп?.. Мне кажется, вы недостаточно богаты, чтобы располагать суммой, в какую я вас оцениваю.
— Если обратить в деньги все мое имущество, получится примерно полтора миллиона злотых.
— Не очень большие деньги, по сравнению с моими запросами! — засмеялась она.
— Думаю, что смог бы найти еще на несколько сот тысяч. Пусть бы даже мне пришлось навсегда остаться бедняком.
— Нет, это меня никак не устраивает. Если бы я даже сама ничего не имела, то можете поверить, что в любую минуту могла бы разбогатеть. Не все ведь мужчины так боятся совместной жизни со мной, как вы. Ну, оставим этот разговор. Впрочем, поскольку вы уже упомянули о выкупе, то мне пришла в голову совсем другая идея… Одну минуточку, простите…
Я услышала, как она подошла к двери, открыла ее, потом заперла на ключ.
— Видите ли, — сказала она, возвращаясь к прерванному разговору, — осторожность никогда не помешает. А то, что я хочу сказать, никто не должен слышать. Ну, а теперь не выпьете рюмку коньяка? Отличная марка.
В голосе ее звучало как бы облегчение. Я услышала звон рюмок. В первое мгновение меня охватил страх, как бы та преступница не вздумала напоить Яцека каким-то зельем, но я сразу успокоилась, когда в наушнике зазвучал его голос:
— Нет, покорно благодарю, я не буду пить.
— Как хотите, — согласилась она почти весело. — Я думала, так у нас веселее пойдет разговор. Следовательно, должна вам сказать, что есть… что возможны определенные условия… на которых я бы согласилась освободить вас от моей персоны. Прошу только выслушать меня спокойно.
— Заранее уверяю, что соглашусь на любые условия, лишь бы они не затрагивали ни репутации моей жены, ни моей собственной чести.
— Вот как?.. Тем лучше. Думаю, мы придем к согласию.
— Это единственное, к чему я стремлюсь.
Наступила тишина. Очевидно, мисс Норман размышляла, как лучше сформулировать свои условия. Наконец она заговорила:
— У меня есть знакомые, которым очень нужно узнать содержание некоторых документов, и вы могли бы мне в этом посодействовать.
— О каких документах вы говорите?
— О тех, к которым вы имеете доступ по своему служебному положению. — Она приглушила голос. — Их очень тщательно охраняют, а вы сможете без особых усилий счастливо избавиться от меня и от всех последствий вашего двоеженства. Вам просто повезло, что кому-то так понадобились именно эти документы. Таким образом, вы вернете себе покой и семейное счастье, причем никто никогда не узнает, что вы помогли мне ознакомиться с содержанием этих соглашений.
— Каких соглашений? — испуганно спросил Яцек.
— Выслушайте меня до конца. В течение нескольких последних месяцев между Польшей и другими государствами велись переговоры, в результате которых достигнуты определенные условия …
Здесь автор дневника называет документы, интересующие мисс Норман. Но поскольку, по моему мнению, те документы, а также их содержание, и сегодня, как и прежде, составляют государственную тайну, я счел невозможным упоминать о них на печатных страницах. Изъятие этого отрывка нисколько не меняет сути того факта, что мисс Норман потребовала в обмен за свое молчание ознакомить ее с тайными дипломатическими бумагами — безразлично, с какими именно. (Примечание Т. Д.-М.).
— Теперь я вас, наконец, понял, — раздался внизу холодный голос Яцека. — Вся эта комедия с наплывом супружеских чувств была всего-навсего попыткой шантажировать меня, чтобы выведать государственные тайны. Вы — шпионка.
— Я поражена вашей проницательностью, — заметила она иронично. — Не понимаю только, к чему такие прямолинейные определения. Вы не ошибаетесь. И именно такова моя задача — получить документы, о которых я вам сказала. Я их у вас не заберу. Они будут нужны мне на какие-то полчаса. Как видите, мы и так знаем об их существовании. Да и довольно подробно знакомы с их содержанием. Насколько я успела сориентироваться в ситуации за время своего пребывания в Польше, вы легко можете взять или, так сказать, позаимствовать эти бумаги на полчаса, и за это время они будут сфотографированы без малейших повреждений. Я верну их вам в точно таком же виде, как они были, и никто даже не подумает, что они попали в наши руки благодаря вам.
Яцек молчал, и она продолжала:
— И наконец, кроме вас, к тем документам имеет доступ еще несколько человек. И если бы даже что-то выплыло наружу, то никто не сможет доказать, что в этом виноваты вы. Надо лишь немного ловкости, чтобы вся эта операция прошла безболезненно, не вызвав последствий. Со своей стороны обещаю вам сохранить все в полной тайне. Сразу же как будут сделаны снимки, вы получите мое письменное согласие на развод, а также признание, что вы вступили в брак со мной в бессознательном состоянии, одурманенный наркотиками. Одним словом, получите полную свободу.
Яцек продолжал молчать.
— О, я хорошо знаю, о чем вы сейчас думаете. Обдумываете, каким образом отдать меня в руки вашего Второго отдела. Я этого не боюсь. Но поскольку под влиянием минутного умопомрачения или вспышки вы можете сделать такой опрометчивый шаг, хочу вас предостеречь. Ничего вы этим не достигнете. Это было бы так же бесполезно, как и то, что вы послали свою хорошенькую жену в Криницу следить за мной. Она, бедная, так намучилась, обыскивая мои вещи, и ничего не нашла. Даже не получила моей фотографии. Напрасно вы привлекли ее к такой рискованной затее.
— Вы говорите неправду, — сказал Яцек. — Я никогда в жизни не унизил бы достоинства своей жены таким поручением.
— Охотно вам верю. В таком случае она сделала это по собственному почину. Но, право, это неважно. Я только хотела привести вам доказательство того, что я достаточно осторожна и достаточно опытна, так что не оставляю никаких компрометирующих меня следов. Конечно, по вашему обвинению меня могут арестовать и несколько дней, а то и недель, продержать в заключении. Однако доказать ничего не сумеют. И будут вынуждены освободить меня после вмешательства моего посольства, которое также не знает, с какой целью я сюда приехала. Причем учтите: все легко поверят мне, когда я разоблачу мотивы вашего наговора. А кончится все тем, что я таки уеду без нужных мне документов, но вы отправитесь в тюрьму не только как двоеженец, но и с клеймом подлого клеветника, который, чтобы избавиться от своей законной жены, обвинил ее в шпионаже. Да и ваша нынешняя жена, а по сути — ваша любовница, о чести которой вы так заботитесь, тоже не выйдет сухой из воды, поскольку я не буду делать тайны из ее копания в моих вещах. Оба вы будете не очень красиво выглядеть. Пара любовников, прикидывающихся супругами, задумали коварный заговор против покинутой законной жены.
— Ой, какая же вы подлая! — еле слышно прошептал Яцек.
— Это не имеет значения. У нас мало времени, чтобы играть дефинициями. Я хотела только разъяснить вам ваше положение. Оставим при себе то, что вы думаете обо мне и что я о вас. Для наших дел это ничего не значит. Впрочем, чтобы порадовать вас, могу сказать, что когда-то я действительно была с вами счастлива и за свою теперешнюю задачу взялась с огромной неохотой. Взялась только потому, что это должно быть мое последнее поручение в разведке. Достав эти документы, я получу свободу и смогу, наконец, начать спокойную частную жизнь. Но поскольку условием моего освобождения поставлено получение именно этих документов, вы можете быть уверены, что я не остановлюсь ни перед чем, чтобы выбить их из вас. Вот все, что я хотела сказать. Каков же ваш ответ?
— Вы ошиблись, — спокойно сказал Яцек. — Я вполне осознаю весь трагизм моего положения. Но предпочитаю охотнее принять на себя все возможные последствия, чем стать предателем. Поэтому честно предупреждаю вас: я сделаю так, как велят мне моя честь и совесть. Возможно, я не сумею доказать, что вы шпионка, но мой долг — составить соответствующее донесение. Прощайте.
— Подождите минутку, — задержала она его. — Я не требую от вас немедленного ответа. И хочу предостеречь от опрометчивого поступка. Вам потребуется некоторое время, чтобы все хорошо взвесить. А прежде всего, подумать о том, что дело это касается не только вас, но и вашей жены. Может, вы бы посоветовались с ней…
— Неужели вы думаете, что моя жена станет подталкивать меня к измене? Если да, то вы глубоко ошибаетесь, так же как и тогда, когда представили себе, что я способен на эту подлость. Предупреждаю, что прямо отсюда я пойду и заявлю на вас. Убежать вам не удастся.
Мисс Норман громко засмеялась:
— А я и не подумаю бежать! Будьте же все-таки рассудительны. Вы сейчас так возбуждены, что легко можете допустить ошибку, о которой потом будете сожалеть. Буду с вами вполне искренна. Я хорошо чувствую, как тяжело вы переживаете в эти минуты. И, несмотря на всю вашу неприязнь ко мне, симпатизирую вам ничуть не меньше. Вы и теперь тот самый добрый и благородный молодой человек, которого я так когда-то любила. Именно поэтому я хотела бы, очень хотела бы как-то облегчить ваше положение. Поверьте моему слову. Вы ведь прекрасно знаете, что я вас не боюсь, так что мне нет нужды кривить душой. Мы играем с открытыми картами. Правда, карты эти не очень привлекательны: с одной стороны — шантаж и шпионаж, с другой — двоеженство и донос, — но это еще отнюдь не означает, что у нас не осталось других душевных порывов. Так вот, я не желаю вам зла! Не хочу, чтобы вы вспоминали меня как омерзительную гадину! Вы мне верите?..
Эта страшная женщина, как я теперь убедилась, непревзойденная лицемерка. Достаточно сказать, что я сама, слушая ее, готова была поверить в искренность ее добрых намерений. Я! И не видя ее! Так чего уж требовать от Яцека, на которого она могла влиять не только точно рассчитанными модуляциями голоса, но и целым арсеналом мимики и жестов, взглядов и улыбок! Увы, а я не могла его предостеречь! Впрочем, может, и хорошо, что не могла!
Яцек остановился и сказал:
— Хотел бы вам поверить…
Это прозвучало довольно неуверенно, но ей было достаточно, чтобы возобновить свою дипломатию. Она начала доказывать, что сама изнемогает под навязанным ей бременем шпионской работы и что, согласившись на компромисс, Яцек не только спас бы себя, но и избавил бы ее от этих безжалостных грубых начальников, совершенно лишенных сердца. И, в конце концов, так все обернула, что получалось, будто это она, несчастная и затравленная, ждет от Яцека спасения.
Она таки убедила его, что и не думает об отъезде, и дала ему время на размышления до двенадцати часов завтрашнего дня. К тому же взяла с него слово, что он посоветуется со мной. Как видно, в своем высокомерии она рассчитывала на мой испуг и считала, что я глупее нее… Тем лучше! Скоро увидит, как иметь со мной дело.
Только я услышала, что внизу за Яцеком закрылась дверь, так сразу же захотела ехать домой, но Фред задержал меня:
— Погоди. Своего мужа ты застанешь дома и потом. В конце концов, можешь позвонить ему, чтобы подождал тебя. А здесь, я уверен, мы услышим такие вещи, которые могут нам очень пригодиться.
— О чем мы можем еще узнать!
— Ба! Неужели ты думаешь, что та пани действовала по собственному почину? Не сомневаюсь, что она сейчас будет отчитываться своему начальству о разговоре с паном Реновицким. Ведь если бы… — Он вдруг замолчал и поднял вверх указательный палец. — Внимание!
По его примеру я тоже припала к наушнику. Он был прав: мисс Норман разговаривала с кем-то по телефону.
Теперь, когда мы уже знали, что она шпионка, нас было невозможно обмануть. Хотя она и говорила якобы о каких-то торговых делах — о сроках уплаты, о векселях, импорте и так далее, — мы понимали, что это просто условные обозначения, а на самом деле она отчитывается о своих переговорах с Яцеком. Это было совершенно ясно, и Фред (вот гениальная голова!) начал быстро записывать все, что она говорила. Когда закончила, мы стали расшифровывать содержание всего разговора. Задача наше облегчалась тем, что мы знали его предмет: дело Яцека.
Фред показал себя незаурядным мастером разгадывать загадки, да и несколько моих замечаний очень пригодились. Через час мы уже имели полную картину. Из нее следовало, что мисс Норман верила в уступчивость Яцека, а особые надежды возлагала на мое влияние на него. Она также давала понять своему собеседнику (видимо, какому-то главному шпиону), что Яцек ничего не подозревает.
Именно этого мы долго не могли понять. Что же еще он должен был бы подозревать? И тут Фред выдвинул очень вероятное предположение. По его мнению, это могло касаться только документа, подтверждающего их брак. Во всяком случае, некоторые слова той женщины вроде бы свидетельствовали, что такого документа у нее нет. А может, даже его вообще не существует.
В разговоре по телефону мисс Норман дважды подчеркнула требование «приготовить средства для оплаты». Это могло означать, что, получив ожидаемые дипломатические бумаги, она непременно должна была отдать Яцеку брачное свидетельство. Фред зашел в своих предположениях так далеко, что подверг сомнению сам факт двоеженства. Он упорно утверждал, что никакого брака вообще не было, а если и был, то ненастоящий, фальшивый.
Потирая руки, он сказал:
— Во всяком случае, положение не такое уж и опасное — благодаря этому моему аппаратику. Понимаешь?.. Теперь твой муж имеет свидетеля своего разговора с мисс Норман.
— Оно-то так, — заметила я. — Но ведь ты не захочешь признаться, что подслушивал.
— Почему нет? Если нужно будет, признаюсь. Ведь это моя профессия. Я детектив. Придется только, конечно, открыть, что я следил за мисс Норман по твоему поручению.
— Это очень обидно. Вся эта история получит огласку, да и вообще я не вижу, какая бы нам с Яцеком была от этого польза.
— Очень большая. Прежде всего — мы выбиваем оружие из рук той женщины.
Благодаря тому, что я слышал весь разговор, твой муж, составляя свое заявление, может сам сразу сказать: «Эта женщина шантажировала меня вымышленным двоеженством, чтобы добиться от меня секретных государственных документов. А мой детектив, пан Фред Ван-Гоббен, был свидетелем того разговора».
— Ну и что с того?
— Как это что? Мисс Норман немедленно арестуют, она не сможет отпереться от своей шпионской деятельности, и никто не поверит ее историйке о бракосочетании.
— Но ведь она открыто угрожала Яцеку, что в случае его ареста кто-то другой непременно разгласит его двоеженство.
— Дорогая, поверь моему опыту. Я уверен, что это просто обычный и широко применяемый у преступников способ шантажа, точнее — попытка отвлечь от себя опасность. А на самом деле никто после ареста, как правило, ничего не разглашает по той простой причине, что или нечего разглашать, или же спасая собственную шкуру, предпочитает оставить сообщника на милость судьбы.
— И все же, Фредди, мне страшно подумать, что будет, если это не пустая угроза.
— А есть ли другой выход? Ведь твой муж не согласится выполнить ее требование?
— Наверняка нет.
— И ты не станешь уговаривать его сделать это?
— Никогда и в мыслях такого не имела.
— Тогда надо действовать. Будет разумнее, если ты сейчас же поедешь домой и расскажешь мужу о том, что мы слышали его разговор с мисс Норман.
Я испугалась:
— Как это — мы? Тогда придется рассказать ему все. Фред засмеялся:
— Нет, всего рассказывать не надо.
— Но то, что я давно уже знала о его двоеженстве, что обратилась в ваше бюро в Брюсселе, что… целыми часами была с тобой вдвоем в номере отеля…
Он развел руками.
— Ничего не поделаешь. Другого выхода нет. Да, впрочем, тебе не обязательно признаваться, что ты прочитала адресованное ему письмо. Он наверняка поверит, если скажешь, что сразу же после его признания решила, не теряя времени, действовать по собственному усмотрению и обратилась в наше бюро за помощью.
— Ты прав, — согласилась я.
— Что касается того, что мы оставались вдвоем без свидетелей… Ты же сама говорила, что твой муж безгранично тебе доверяет.
— Оно-то так, дорогой, но я хотела бы подать все это как-то иначе.
Фред покачал головой.
— Не вижу другой возможности.
Немного посовещавшись, мы решили, что я поеду домой, а Фред останется караулить у наушников. Условились поддерживать связь по телефону, сообщая друг другу все новости. А так как Яцека дома я не застала — он оставил записку, чтобы я ждала его, — то я села и начала записывать события, которые так глубоко потрясли меня.
Душу мою охватывает тревога: хоть бы Яцек тем временем не допустил каких-либо опрометчивых поступков!
Сейчас, когда я пишу эти слова, часы бьют пять, а его еще нет.
Суббота, вечер
Если бы я умела писать драмы, то сцена, которая состоялась между мной и Яцеком, произвела бы в театре колоссальное впечатление. Прежде всего — его появление. Вернулся он в таком виде, что его было не узнать: бледный, с синяками под глазами, во взгляде отчаяние. Казалось, даже его одежда отражала то совершенно подавленное состояние, в котором он находился.
Он не поздоровался со мной, как обычно, а тяжело опустился в кресло, опустил голову и долгое время молчал, нервно сжимая пальцы.
Мог ли он предполагать, что именно теперь, когда потеряв всякую надежду, пришел сказать мне, что не видит спасения ни для себя, ни для нашей супружеской жизни, он найдет у меня, своей жены, и помощь, и спасение, и добрый совет!
Когда он заговорил, голос его звучал глухо и то и дело прерывался:
— Дорогая Ганка… Вот оно и произошло… Та женщина, о которой я тебе говорил, наконец раскрыла мотивы своих требований. Приготовься к худшему… Она поставила такие условия, которые ни принять, ни выполнить я не могу. Не хочу ничего скрывать от тебя. Оказалось, что сам я ничуть ей не нужен. Нашу бывшую связь она стремится использовать так, чтобы принудить меня к бесчестнейшему поступку… Она потребовала, чтобы я заплатил ей за молчание похищением секретных государственных документов. А так как я не только не могу и на мгновение допустить мысль о том, чтоб принять это гнусное предложение, но и считаю своим долгом немедленно сообщить власти о том, что эта женщина — опасный агент иностранной разведки, то надо, чтобы ты была готова к любым последствиям. Если я не заявил на нее до сих пор, то только потому, что хотел предупредить тебя.
Когда он произносил эти слова, губы его дрожали. Он потер ладонью лоб и добавил:
— Еще сегодня та… особа будет арестована. Но я не имею против нее никаких доказательств. Она уверяет, что давно уже обезопасила себя на этот случай. И как мне кажется, говорит правду. Мое заявление она истолкует властям как неуклюжую попытку отомстить, как наивный оговор с целью избавиться… от законной жены, требующий, чтобы я вернулся к ней. Если ей поверят — а поверят наверняка, потому что улик против нее нет, — она будет освобождена, а я… я сяду в тюрьму по обвинению в двоеженстве и клевете. Он посмотрел на меня.
— Буду осужден и сяду в тюрьму. Поэтому, предвидя все, даже зная наверняка, что иначе эта история закончиться не может, я найду для себя другой… выход. Но речь идет не обо мне, а о тебе… Скандала и бесчестья не предотвратить. Однако надо найти способ хоть в какой-то мере уберечь от этого тебя. Сам я не могу придумать такого способа. Может, уже сегодня объявить знакомым, что ты порвала со мной… Может, хорошо было бы, чтобы ты уехала на длительное время за границу… Не знаю. Разумнее всего будет, если ты пойдешь к своему отцу и все ему расскажешь. Он человек умный. Думаю, даст тебе самый дельный совет.
— А ты еще не разговаривал с ним? — обеспокоенно спросила я.
Он отрицательно покачал головой.
— Нет, не разговаривал, хотя надо было бы. Но мне не хватило смелости. Я не прошу прощения ни у него, ни у тебя, так как знаю, что не заслуживаю и не получу его. Да впрочем, мои счеты с жизнью завершены. За непростительную ошибку молодости я заплачу высокую цену. Но вполне осознаю, что такие ошибки достойны строжайшего наказания. Только сегодня я понял, зачем эта женщина стала моей любовницей, а затем втянула меня в брак. Она уже тогда была шпионкой и использовала меня как простодушного дурачка, который облегчил ей доступ в дипломатические круги. Вполне вероятно, что, воспользовавшись ситуацией, она копалась и в тех документах, которые мне было поручено перевезти. Когда я стал им не нужен, она меня бросила, а теперь вот вернулась, надеясь шантажом выведать у меня новые государственные секреты. Да, впрочем, это неважно… Повторяю — это мои счета, и я их оплачу. Речь-то идет о тебе. Ведь та подлая женщина угрожала, что сумеет втянуть и тебя в свои грязные дела. Я ей, конечно, не совсем верю. Но есть случайное стечение обстоятельств, которое может придать ее обвинению некое правдоподобие. Всему виной твоя злосчастная поездка в Криницу.
— Моя поездка?
— Да. Там ты познакомилась с ней, не подозревая, что имеешь дело с женщиной, которая хочет нас разлучить. А поскольку, по ее словам, кто-то в Кринице обыскивал ее комнату, то теперь она утверждает, что это сделала ты в сговоре со мной. Это мерзкая ложь, но, чтобы избежать необходимости что-то объяснять, лучше всего тебе уехать на длительное время за границу, не оставляя здесь адреса. Женщина, о которой я говорю, — мисс Элизабет Норман.
Я кивнула головой:
— Знаю.
— Знаешь? — удивился он. — Догадалась?
— О нет. Я с самого начала считала это дело слишком серьезным, чтобы опираться на догадки. Я знаю, кем является и кем была женщина, называющая себя Элизабет Норман.
— Ничего не понимаю.
— А тут нечего понимать. Неужели ты думал, что, услышав твое признание, я сложите руки и пустила все на самотек?.. Нет, мой милый. Я решила действовать, и как можно энергичнее. Немедленно обратилась в брюссельское розыскное бюро, и благодаря этому мы теперь не безоружны.
— Как? Что ты говоришь? Ты прибегла к услугам детективов?
— Да, — я победно глянула на него, — и только поэтому мы можем сегодня не бояться той женщины.
— Почему же ты никогда не говорила мне об этом?
— Я предпочла действовать по собственному усмотрению. И, как оказалось, поступила правильно. Вот тебе, например, кажется, будто ты не имеешь ни одного доказательства того, что она шпионка. Зато я имею эти доказательства. Даже более чем доказательства. Имею свидетеля, который слышал собственными ушами, как она призналась в шпионаже. И как требовала от тебя эти секретные документы. Да и сама я слушала весь разговор.
И тут я рассказала Яцеку, как все было, с тем лишь небольшим отступлением, что не упоминала о помощи дяди Альбина, и что доверилась кому-нибудь в этом деле. Трудно даже описать, как удивился и обрадовался Яцек. Он расспрашивал меня о деталях и был просто поражен моей предприимчивостью. Но когда я закончила, снова погрустнел.
— Все это хорошо. Это во многом облегчает мое положение. Во всяком случае, этого хватит, чтобы обезвредить ее как шпионку. Однако не заставит ее молчать о двоеженстве.
Я покачала головой.
— А вот я смотрю на вещи более оптимистично. И детектив, который за ней следил, и я считаем, что у нее вообще нет никакого брачного свидетельства. А если и есть, то фальшивое. Ведь она ясно сказала тебе, что готова письменно подтвердить то, что, вступая с ней в брак, ты был одурманен наркотиком. Да и сам ты вспоминал, что был тогда пьян. Или уверен ты, что тебе не внушен тот брак? Если она уже тогда была шпионкой — а я в этом нисколько не сомневаюсь, — то наверняка имела сообщников, которые крутились около вас и убедили тебя, что ты стал ее мужем.
Яцек пожал плечами.
— Чепуха. К сожалению, это чепуха. Я действительно был пьян, но не настолько, чтобы не помнить, как составляли и подписывали акт в брачной конторе. Помню также и документ, который подтверждал наш союз. На его основании мы заняли совместную каюту на пароходе, а впоследствии зарегистрировались в гостинице в Испании. Собственно говоря, всеми формальностями занималась она сама. Нет, в этом вопросе нечего тешить себя напрасными надеждами.
— А даже если и так, — сказала я, — можно хоть сейчас пойти к ней и предложить сделку: она дает тебе брачное свидетельство и согласие на развод, а вместо этого сможет свободно уехать. Ведь собственная свобода ей дороже, чем мы с тобой.
— Да верно, — признал Яцек. — Но я так поступить не могу.
— Почему не можешь?
— Потому, дорогая, что мой долг — обезвредить шпионку, которая действует против Польши.
— Ты в своем уме? Ведь когда она уедет, то уже не сможет вредить Польше.
— Не совсем так. Мы же не знаем, не собрала ли она уже здесь какие-либо важные сведения. Я не имею права ради собственного спасения, или даже ради твоей репутации, равнодушно смотреть, как кто-то наносит вред государству. Нет, дорогая, об этом не может быть и речи.
Я немного разозлилась, но знала, что спорить с ним бесполезно. В таких вопросах он всегда был неуступчивый и упрямый, как осел. Да, впрочем, может и был прав. Значит, надо искать другой выход. Я предложила пригласить Фреда, которого, конечно, при Яцеке не называла иначе как детективом. Яцек согласился, однако, поморщившись, сказал:
— Ужасно не люблю иметь дело с людьми такого толка. Боюсь даже, как бы тот тип, узнав нашу тайну, не воспользовался этим и не попытался шантажировать нас.
— Этого нечего бояться, — успокоила я его. — Там, где речь идет о доверии к человеку, можешь всегда положиться на мою интуицию. Тот пан, хотя и очень молод (он еще почти мальчишка), производит впечатление очень порядочного человека, человека который умеет хранить тайны. Он наверняка никому ничего не выдаст. Да и происхождения он очень благородного. Ты помнишь замок Гоббен в Бельгии, где мы с тобой были?.. Так вот, он был некогда родовым поместьем предков этого детектива. Я специально просила Брюссельское бюро, чтобы они прислали мне своего лучшего сотрудника. Да, впрочем, и сама имела возможность убедиться, что он во всех отношениях достоин похвалы. Вот увидишь сам.
Я позвонила Фредди и от него узнала, что мисс Норман вышла, договорившись по телефону встретиться с неким паном в кафе «Европейское». Я сразу же догадалась, что тем паном может быть только Тото. Не стала бы ведь она прилюдно встречаться со своими сообщниками-шпионами.
Фред сказал:
— Сейчас я никак не могу выйти из отеля. Дело в том, что мисс Норман ожидает документы, которые ей должны доставить в семь. Мне нужно увидеть, кто принесет те документы, и, возможно, попытаться прибрать их к рукам. На это можно рассчитывать только в том случае, если бы что-то помешало мисс Норман вовремя вернуться в отель. Вот если бы ты могла каким-то образом задержать ее в том кафе, это было бы просто замечательно. Ты же ее знаешь, да и мне кажется, что этот тип, с которым она должна встретиться, тоже твой знакомый. Думаю ты могла бы это устроить. Что касается меня, то я где-то к восьми освобожусь и буду полностью к услугам твоего мужа.
Конечно, я согласилась на все. С Яцека взяла слово, что он будет ждать меня дома. Ровно без четверти семь я зашла в «Европейское». Увидела их еще издали. Они сидели за столиком в углу. Перед ними стояли пустые чашки. Увидев меня, Тото сразу онемел. А та выдра состроила сладкую мину и так хорошо изобразила радость, что простодушный Тото глаза вытаращил от удивления.
Свое появление я объяснила вполне естественно: сказала, что условилась встретиться там в шесть с Гальшкой и ее мужем, но задержалась у портнихи. Ведь я хорошо знала, что Гальшка почти каждый день бывает в этом кафе, и не ошиблась и на этот раз. Тото подтвердил:
— Наверное, они не могли ждать. Ушли где-то с четверть часа назад.
— Вот жаль! У меня сегодня столько всяких дел. С самого утра дома не была.
Я сказала это специально для мисс Норман. И, чтобы окончательно убедить ее, что до сих пор не виделась с Яцеком, добавила:
— Муж даже дважды звонил к портнихе, какое-то там у него неотложное дело ко мне. У мужчин всегда неотложные дела, — улыбнулась я к той выдре. — Но я не могла приехать. У портнихи так плохо получился подол на платье, из-за кроя по косой, — что я должна была сама присмотреть, как она его исправит. У вас тоже столько забот с туалетами?
Разговор пошел на лад, и я уже была уверена, что смогу задержать мисс Норман. Но она вдруг посмотрела на часы и встала.
— Прошу прощения, но мне непременно надо идти по одному делу.
— Ой, неужели вы оставите меня одну? — умоляюще сказала я им. — Ну побудьте еще хоть немного. Вот я сейчас допью кофе и тоже пойду.
Она кивнула головой:
— Хорошо. С большим удовольствием. Но в таком случае мне нужно позвонить. Я оставлю вас на несколько минут.
И я, дура, поверила ей. А когда опомнилась, было уже поздно. Она действительно вернулась, но через пятнадцать минут. Вот тогда я и поняла, что за это время она успела побывать в «Бристоле». Ведь это несколько шагов отсюда. Бедный Фред. Ничего у него не получилось, да еще, чего доброго, она могла поймать его на горячем, если он был недостаточно осторожен, надеясь на мой успех в кафе. Все это совершенно испортило мне настроение. Тото очень хорошо прочувствовал это на себе. Сама того не желая, я дважды упомянула об охоте на тигров, сказала, что у него ужасный галстук и подпустила ему еще несколько шпилек. Он совсем смутился. Утешала меня только мысль о том, как я буду над ним насмехаться, когда предмет его воздыханий окажется в тюрьме.
В восемь я попрощалась с ними и вернулась домой. В прихожей меня встретил Яцек и сказал, что «тот пан» уже ждет в гостиной.
— Я не выходил к нему, ибо не знал, о чем с ним говорить, — добавил он.
Фред вел себя прекрасно. Был деловой и официальный. О деле говорил так, словно оно не касалась ни меня, ни Яцека. Объяснял все удивительно квалифицированно. Я сразу же заметила, что Яцек успокоился и проникся к нему доверием. На вопросы Яцека Фред отвечал кратко, но исчерпывающе. А ко мне обращался с таким холодным уважением, что мне порой даже обидно становилось.
— Я предполагал, мадам, что вам не удастся задержать мисс Норман в кафе. Так что действовал как можно осторожнее. Я успел обыскать комнату и вовремя занять место в вестибюле. В номере я, конечно, ничего не нашел. Та особа слишком осмотрительная. Зато я был свидетелем того, как ей передали бумаги, которые она ждала.
— Были свидетелем? — переспросила я. — Значит, вы видели и того человека, который вручил ей их?
— Нет, не вручил. Вот как это было: мисс Норман зашла в вестибюль, спросила портье, не звонили ли ей, и сказала, что подождет. Она села за столик и начала просматривать журналы, а я ломал голову над тем, кто же из присутствующих должен передать ей эти бумаги. Но вскоре увидел. У другого столика листала иллюстрированный журнал какая-то пожилая пани в трауре. И вот она посмотрела на часы и вышла. Я опоздал лишь на мгновение. Тут же встал, чтобы занять место той пани, но слишком торопиться не мог, чтобы не выдать себя. И поэтому мисс Норман, успела подойти к столику первой и взять с него номер «Иластрейшен». Чтобы сохранить видимость, я взял какой-то другой журнал из лежащих на столике. Видно, мисс Норман не заподозрила меня ни в каких дурных намерениях, так как спокойно вернулась на свое место. Следя за ней краем глаза, я не пропустил момент, когда она переложила находящийся среди страниц журнала белый конверт к себе в сумочку. Надо сказать, что сделала она это очень ловко. Но нервы у нее, видимо, крепкие, потому что она посидела еще несколько минут, а уже тогда встала, дала какое поручение портье ушла. Очевидно, назад в кафе.
— Да, — подтвердила я. — Она вернулась через пятнадцать минут.
— А как вы думаете, — спросил Яцек, — что могло быть в том конверте?
— Вероятнее всего — фальшивое брачное свидетельство.
— Почему вы думаете, что фальшивое?
— Потому что не верю в подлинность брака, которым пытается шантажировать вас эта особа. По моему мнению, это просто мистификация.
— Я вас не понимаю.
— Сейчас я вам все объясню. Итак, насколько я знаком с делом, эта дама познакомилась с вами восемь лет назад, и ее спутником в обществе был мужчина, которого она выдавала за своего отца. Но поскольку в остальное время тот же пан жил с ней в Биаррице как ее муж, у нас есть основания предположить, что он был просто шпион. А отсюда следует, что и так называемая мисс Норман уже тогда была связана с разведкой. Теперь, когда я вас увидел, я не сомневаюсь, что она могла испытывать к вам благосклонность. Однако главным мотивом ее поведения были приказы разведки, на которую она работала. А так как вы уже тогда выполняли определенные дипломатические функции, то ей выгодно было вступить с вами в теснейшую связь, то есть в супружескую. Но ни один шпион не любит оставлять после себя следов. Поэтому она поступила бы очень опрометчиво, если бы зарегистрировала свой брак в государственном учреждении. Во-первых, должна была бы предвидеть, что рано или поздно вы захотите расторгнуть этот брак. Что будете разыскивать ее, давать объявления и тому подобное… Что, может, даже опубликуете ее фотографию — вы или ваши адвокаты.
— Я так и сделал бы, но она не оставила мне ни одной, — добавил Яцек.
— Вот видите, — кивнул Фред. — Зачем же ей было подвергать себя такой опасности, когда она могла устроить все куда проще: инсценировать бракосочетание и убедить вас, будто вы вступили в официальный брак. Я сегодня говорил по телефону с одним моим коллегой, который выполняет определенное поручение в Будапеште. Именно он и подсказал мне эту мысль. Я очень верю его опыту. Не раз уже убеждался, что он, как никто, знает толк в таких делах. В конце концов, он сам когда-то работал в английской разведке. Так вот, он считает, что, воспользовавшись вашей неосведомленностью в американских обычаях, а также и вашим опьянением, вас просто привели в некую контору, связанную со шпионской шайкой.
— В какую еще контору? — удивилась я.
— В первую попавшуюся. Это могла быть, скажем, контора по импорту безопасных бритв или офис какого-то адвоката. А в этом случае на двери повесили вывеску брачной конторы. Пан Реновицкий не имел никакого опыта в таких делах, но слышал, что в Америке их улаживают очень быстро, поэтому легко мог поверить, что сообщник мисс Норман, который регистрировал «брак», был государственным чиновником. И что свидетельство, которое он получил, — подлинное. Ну как, убедительны мои рассуждения?
Яцек задумался.
— Все это вроде бы вполне вероятно.
— Не только вероятно, а я уверена, что так все и было! — воскликнула я и чуть не добавила: «Ты гений, Фредди!»
Фред развивал далее свою мысль, доказывая, что мисс Норман не может иметь настоящего брачного свидетельства. Меня уже не нужно было в этом убеждать.
А Яцек сказал:
— Если бы все было так, как вы говорите, то дело обстояло бы для нас с женой вполне благоприятно. — Он вдруг приободрился и добавил: — В таком случае нечего больше медлить. Я сейчас же поеду в министерство и обо всем доложу.
— Подожди немного, — сдержала я его. — Зачем тебе ехать с этим в министерство? Разве иначе нельзя?
— Конечно, нет.
— Я так не думаю, — возразила я. — Министерству совсем необязательно об этом знать. Зачем нам, чтобы это дело получило огласку среди знакомых? Нужно уладить его таким образом, чтобы все обошлось как можно тише и осталось тайной. Кроме того, мне кажется, что шпионские дела не имеют ничего общего с твоим министерством… О! Придумала! Ведь этими вещами ведает полковник Корчинский. Этот человек умеет хранить тайны. У меня к нему большое доверие после той истории с желтым конвертом.
Яцек заколебался.
— Я слишком мало его знаю.
— Зато я знаю его прекрасно. И вовсе не настаиваю, чтобы именно ты это улаживал. Я и сама справлюсь со всем.
— Но это просто неудобно, — сопротивлялся он. — Это касается меня и моих служебных дел… Я не могу вмешивать в них свою жену.
— Дорогой мой, не смеши меня. Ты говоришь так, будто не знаешь, как обернулась бы эта история, если бы я в нее не вмешалась. Ты сам признаешь, что до сих пор я устроила все как можно лучше. Так позволь мне уж довести дело до конца.
Он не хотел согласиться, и я почти вынудила его к этому. Наконец он уступил, да и то когда меня поддержал Фред, сказав, что легче будет уладить дело не так официально, если именно я поговорю о нем с полковником Корчинским.
— Да, — решительно сказала я. — И пан Ван-Гоббен со мной поедет, чтобы сразу дать показания.
Оставалось еще обдумать, как подать историю с вымышленным двоеженством. Вот тут и пригодился опыт Фредди в таких вещах. Он считал, что не надо вообще об этом вспоминать. По его мнению, было вполне достаточно сказать, что мисс Норман пытается заставить Яцека передать ей тайные документы, шантажируя его письмами восьмилетней давности, с тех времен, когда их связывали близкие отношения.
Зная полковника, я тоже была уверена, что эти вещи не заинтересуют его глубже. А в том случае, если мисс Норман после ареста все же попытается выполнить свою угрозу, нужно будет решительно все отрицать. Если бы даже ее доказательства двоеженства имели достоверный вид или были-таки правдивы, достаточно поставить их под сомнение, чтобы это дело не только долгое время не всплывало на поверхность, но и, возможно, было похоронено навсегда. Тем более, как сказал Фред, иностранных шпионов обычно судят при закрытых дверях. При таких обстоятельствах, если бы до наших знакомых и дошли какие-то смутные слухи об обвинении той женщины против Яцека, можно было бы спокойно объявить их выдумками.
Когда мы условились обо всех деталях, я позвонила полковнику. Застала его уже дома, но он был так любезен, что согласился вернуться в свое управление и принять меня. Правда, я сказала, что у меня чрезвычайно важные сведения о весьма подозрительной личности, которая может в любую минуту бежать из Варшавы.
Мы с Фредом сели в машину и поехали. Последовав совету Фреда, я оставила его в машине с тем, чтобы вызвать по первому же требованию полковника.
В управлении уже не было почти никого. Только в приемной сидел тот вульгарный тип, которого я впервые увидела в молочной на Жолибоже. Полковник Корчинский вышел меня встретить, как всегда, галантно поздоровался и пригласил в кабинет.
— Это просто счастье, — начала я, — что мне суждено было познакомиться с вами, пан полковник. Теперь я не только нуждаюсь в вашей помощи, но и сама могу послужить делу, которое вы возглавляете.
Он вежливо улыбнулся и сказал:
— Я всегда к услугам прекрасных дам. О чем же идет речь на этот раз?
— Понимаете, мой муж, когда еще был молодым человеком, познакомился за границей с одной девушкой. Он был тогда еще очень неопытен и ввязался в роман, который вовсе не пошел бы на пользу его репутации, если бы та история выплыла на свет. Вы меня понимаете?
Полковник кивнул.
— Такие вещи в молодости случаются не редко.
— Да. Между тем упомянутая иностранка как-то узнала, что Яцек, то есть мой муж, находится теперь на дипломатической службе, он женат и что любая компрометация могла бы повредить его карьере и плохо повлиять на его положение в обществе. И она решила воспользоваться этим в своих низких интересах.
— А каковы же ее интересы?
— Та женщина — шпионка. Она приехала в Варшаву и заявила мужу, что наделает ему много неприятностей, если он не даст ей сфотографировать очень важные и секретные государственные документы. Конечно, мой муж решительно отказался и сказал, что сообщит о ней властям. Я упросила его, чтобы он доверил это дело мне, и получила возможность увидеться с вами, пан полковник. Ведь я заранее знала, что могу рассчитывать на вашу деликатность, за которую я бесконечно вам благодарна.
На вопрос полковника я перечислила по заметкам Фреда те документы, о которых шла речь, а потом спросила, будут ли приняты во внимание грязные обвинения той женщины против Яцека, если ее арестуют.
С самого начала меня удивила спокойная улыбка, которая не сходила с лица полковника. Теперь же он сунул руку в ящик и, положив передо мной фотографию, спросил:
— Вы говорите об этой женщине?
Я широко раскрыла глаза: передо мной лежало изображение мисс Норман.
— Да! — воскликнула я, не помня себя от изумления.
— Она живет в отеле «Бристоль» под именем Элизабет Норман, не так ли?
— Вы знаете о ней, пан полковник!
— Вы не ошибаетесь. Имеем ее на примете, еще с тех пор как она приехала в Польшу.
— С Рождества?
Он отрицательно покачал головой.
— Нет. Она здесь еще с осени. Правда, перед тем имела другую фамилию и другую внешность.
— Значит, вы знали, что она шпионка? Почему же вы ее не арестовали?
Он посмотрел на меня уже совсем весело.
— Видите, временами иностранный шпион может быть для нас весьма полезным. Например, благодаря этой даме мы смогли обезвредить нескольких ее очень опасных союзников и противников. Собственно, и в Польшу ее прислали именно затем, чтобы парализовать деятельность этих последних.
— Ничего не понимаю…
— Для специалистов это достаточно простые вещи. Одни государства посылают шпионов, а другие — своих агентов, чтобы следить за ними и таким образом узнавать о намерениях противника. Впрочем, не хочу нагонять на вас скуку. Достаточно будет, если скажу, что эта очаровательная пани, фотография которой лежит перед вами, сама того не желая, навела нас на след очень опасной птицы, нашего общего знакомого пана Валло, который действовал здесь под именем Роберта Тоннора. Кроме того, благодаря ей мы обратили внимание еще на нескольких лиц. А поскольку знали заранее о ее намерениях и целях, то соответствующим образом подготавливали сведения, на которые она охотилась, и тем вводили в заблуждение ее разведку. Теперь вы понимаете, почему мы ее не арестовали? Такой шпион, как эта дама, да и, наконец, каждый известный нам шпион приносит нам определенную пользу. Знаю я и о том, что главной ее задачей было получение дипломатических документов, которые вы назвали. Сначала даже намеревались просить вашего мужа, чтобы он передал ей соответствующие фальсификаты. Но обстоятельства сложились так, что теперь нам это уже не нужно.
Он посмотрел на меня, прищурив глаз, и добавил:
— Во всяком случае, спасибо вам и приношу свои поздравления. Вы целеустремленная женщина.
У меня сложилось впечатление, что он знает гораздо больше, чем сказал мне. В его улыбке было что-то задиристое. Неужели он догадался, что это я взялась выслеживать мисс Норман?.. А может, даже был проинформирован о приезде Фреда и о вымышленном двоеженстве Яцека. Мне ужасно хотелось об этом спросить, но я сдержалась, чтобы не оказаться в неприятной ситуации.
Прощаясь со мной, полковник сказал:
— Ни о чем не тревожьтесь и будьте такой же смелой и в дальнейшем. Каждый раз, когда у вас возникнет подозрение, что кто-то может быть шпионом, непременно сообщите мне. В последнее время их развелось слишком много, так что трудно за всеми уследить. И едва ли нужно добавлять, что и этот визит, и все, что вы от меня услышали, следует сохранить в строжайшей тайне. Можете сказать об этом только мужу, но чтобы дальше него это не пошло. Что касается шантажа этой пани, пусть просто не обращает на него внимания.
Я очень любезно поблагодарила его и заверила, что буду точно придерживаться его пожеланий. По дороге домой бегло рассказала Фредди, как складывается ситуация. Яцек ждал нас с тревогой, которую не мог скрыть. Но когда выслушал меня до конца, у него даже слезы на глаза навернулись. О, как я хорошо его понимала! Столько долгих недель беспокойства! Столько горьких угрызений совести, столько печальнейших перспектив на будущее… А теперь все это приближается к такому счастливому концу, о котором он мог разве что мечтать.
— Ты у меня настоящее сокровище, — сказал он. — Не знаю даже, заслуживаю ли я такую жену.
Мне было особенно приятно, что он сказал это при Фреде. Я даже сама растрогалась. Конечно, у меня есть свои недостатки. Иногда люблю надоедать близким людям, немного легкомысленна и немного ленива. Но как подумаю о том, что делал бы Яцек, если бы не мой ум, предприимчивость и решительность, то прихожу к выводу, что, возможно, он вынужден был бы совершить много опрометчивых поступков.
Кто знает, может, даже лишил бы себя жизни.
Все-таки правду говорил какой там греческий философ: самое большое богатство — это чувство довольства собой. Так мне сейчас хорошо и так легко на душе. Никогда еще не была и я такая удовлетворена собой тех пор, как на приеме у князя Монако претендент на французский престол, граф парижский, не отходил от меня ни на мгновение, и нас вместе сняли для кинохроники.
Но самое важное из всего было то, что я получила полную и всестороннюю победу над этой отвратительной бабой. Не говорю уже о том, что она ничего не получит, что Яцек заявил ей прямо в глаза, как сильно он меня любит, что и Тото придется от нее отречься. Кроме того, ведь это она принесла несчастье Роберту! Именно она виновата в его смерти. Значит, та первая вспышка интуиции меня не обманула. Это же ее я встретила тогда на лестнице. Вот змея!
Хотя полковник советовал не обращать больше на нее внимания, я никак не могла с этим согласиться. Ни за что на свете! Мне было крайне необходимо своими глазами увидеть ее поражение и унижение. Я просто не могла отказаться от такого удовольствия. Поэтому сказала Яцеку:
— Во всяком случае, нужно проверить, какие именно фальшивые документы хотела дать тебе та женщина.
Яцек горячо возразил:
— Нет, нет. Я не хочу больше ее видеть. Поскольку вы уверены, что документы фальшивые, и полковник Корчинский вполне определенно посоветовал пренебречь ее угрозами, то нет такой силы, которая заставила бы меня еще раз встретиться с ней. При одной мысли об этом у меня возникает чисто физическое отвращение. Не люблю сталкиваться с подлостью. Нет, поедем лучше в имение и отдохнем после всех этих ужасных переживаний.
Я успокоила его:
— Я и не думаю уговаривать тебя увидеться с ней. Сделаю это сама.
— И на это я не согласен, — решительно сказал он. — Она может обидеть тебя, или еще что.
— Не бойся. Я не так легко дам себя обидеть. Да и, наконец, со мной будет пан Ван-Гоббен.
Кажется, у Яцека было большое желание высказать свои возражения и относительно этого пункта моего плана, но поскольку я дала понять, что вопрос исчерпан, он воздержался от любых дальнейших замечаний. Я оставила Фреда ужинать с нами. Сколько же в нем тактичности и какое знание людей! За какие-то два часа он сумел заполучить расположение Яцека и внушить ему лучшее мнение о детективах вообще, а особенно о себе самом. Я наблюдала, как он это делает. Не было в этом ничего слишком мудреного. Просто он воспринимал все, что говорил Яцек, как откровение, как новость, о которой до этого он не имел ни малейшего представления. Иногда высказывал несколько отличную точку зрения, но, лишь для того, чтобы дать возможность тут же себя переубедить. Когда он ушел, Яцек сказал мне:
— Очаровательный молодой человек. А вдобавок и незаурядный резонер. Когда станет чуть взрослее, может рассчитывать на большой успех у женщин.
Я охотно согласилась с Яцеком.
Воскресенье
С самого утра следила, чтобы Яцек не подошел к телефону, и, как оказалось, предчувствие меня не обмануло. Едва взяв трубку, я сразу узнала ее голос и сказала:
— Из некоторых соображений пан Реновицкий не может подойти к аппарату. Ведь это мисс Норман? Я узнала ваш голос. Муж рассказал мне обо всем и поручил довести дело с вами до конца. Устраивает ли вас одиннадцать часов?
И тут я впервые поймала ее: она же говорила по-польски и ответила мне чистейшим польским языком:
— Хорошо. Буду ждать вас ровно в одиннадцать.
Я сразу же позвонила Фредди, и мы условились, что я все же пойду к мисс Норман сама, а он останется наверху и будет слушать наш разговор. А в случае необходимости спуститься вниз. Нужно было учитывать, что мисс Норман не захочет обсуждать дело при свидетеле и станет изображать, будто ничего не знает. Фред дал мне еще несколько ценных наставлений, а когда я вскользь упомянула о том, что разговаривала с мисс Норман на польском языке, предостерег меня:
— Ради бога, не разговаривай с ней больше по-польски. Ведь я не знаю этого языка.
Как хорошо, что он меня предупредил! А то я совсем бы об этом забыла.
Должна признаться, что я все же немного нервничала, стуча в дверь той опасной женщины. Хотя все козыри были в моих руках, однако надо учитывать и то, что имела дело с опытной и хитрой шпионкой, которая могла застать меня врасплох чем-то неожиданным, к чему я не была готова.
Она приняла меня вполне непринужденно. Я сразу же заметила, что все ее вещи уже упакованы. Видимо, собиралась немедленно уехать. После двух-трех незначительных фраз я сказала:
— В принципе мы с мужем согласны на ваши условия.
Она посмотрела на меня со скрытым недоверием.
— Я была уверена, что вы послушаете здравого смысла.
— Да, — подтвердила я. — Однако прежде чем передать вам бумаги, которые вас интересуют, мне нужно убедиться в том, что вы даете нам взамен подлинное брачное свидетельство. Можете ли вы показать мне этот документ?
Не говоря ни слова, она встала и развернула передо мной — однако так, чтобы я не могла достать ее рукой, — какую-то бумагу с несколькими печатями. Я внимательно присмотрелась к ней и засмеялась.
— Простите, но ведь это фальшивка. Фальшивка, и тем более неудачная, что мы имеем письмо именно от этой брачной конторы, в котором говорится, что в указанный период там никакой Реновицкий и никакая Элизабет Норман не регистрировали брак. Если вы изволите подождать, я сейчас позвоню домой и велю принести сюда все письма из разных нью-йоркских контор, чтобы вы смогли наглядно удостовериться, какая наивная и опасная ваша интрига. Это фальшивка. Обыкновенная фальшивка!
Она пронзила меня взглядом, полным ненависти, но взяла себя в руки и пожала плечами.
— Извините, но то, что я от вас услышала, — полная чушь. Этот документ подлинный. Да если бы даже его не было, ваш муж не посмеет возразить, что восемь лет назад женился на мне. Наконец, есть свидетели.
— Свидетели? Таким свидетелям никто не поверит. Те свидетели — ваши сообщники, шпионы. Весь тот процесс бракосочетания был разыгранной комедией. Но вы просчитались. Вы думали, что по поручению мужа я следила за вами в Кринице. Да, действительно следила. Однако мой муж ничего об этом не знал. Вот так, дорогая пани. Все это я делала по собственному почину. И вы ошибаетесь, считая, что я не получила вашей фотографии. Да, ошибаетесь. Достала и разослала отпечатки по всему миру. Благодаря этому и узнала, кто вы такая и что где делали.
Здесь я назвала ей немало фамилий, которыми она пользовалась, и немало мест, где находилась за эти восемь лет.
Должна отдать ей должное: то, что она от меня услышала, наверное наполнило ее страхом, но она и виду не подала.
— Вам казалось, что мой муж в ваших руках и что вам удастся извлечь из него шантажом все, что вы захотите. Между тем вышло как раз наоборот. Это я держу вас в руках и в любой момент могу сделать так, чтобы вас арестовали. Вас бросят в тюрьму, и вы выйдете оттуда только через много-много лет, совсем старая и противная.
Я говорила возвышенно, и под моим взглядом с лица ее сбежала последняя тень бледной улыбки.
— Вы ничего не сможете доказать, — сказала она вполголоса.
— О, вы так думаете?.. Так знайте же, что каждое слово, которое вы здесь сказали, точно записано. Посмотрите-ка на эту люстру.
Я засмеялась, а она посмотрела вверх и заметно побледнела.
— Да, дорогая пани. Были свидетели, которые слышали ваш разговор с моим мужем и по первому моему требованию готовы подтвердить перед властями, что вы сами признались в шпионаже. Что вы поддерживали телефонную связь со своими сообщниками, передавали им информацию и получали указания. Да я могла бы уничтожить вас одним движением пальца. Но брезгую любой местью. И потому согласна оставить вас в покое на следующих условиях: во-первых, вы немедленно уедете из Польши и никогда больше сюда не вернетесь, во-вторых, вы отдадите мне этот ваш фальсификат и подпишите заявление, что никогда не были женой моего мужа и что ваш так называемый брак — это просто инсценировка. Кроме того, вы дадите слово, что до отъезда не будете ни с кем общаться, абсолютно ни с кем.
Она недоверчиво присматривалась ко мне и, с минуту поколебавшись, ответила:
— Откуда мне знать, что ваши угрозы имеют под собой какие-то основания?
— О, вы можете очень легко в этом убедиться. — Я подняла голову и, повысив голос, сказала: — Пан Ван-Гоббен, оставьте, пожалуйста, своего помощника наверху и спуститесь сюда, к нам.
Мы молча ждали. Не прошло и трех минут, как Фред постучал в дверь. Он вежливо поклонился и улыбнулся, хотя она встретила его взглядом, полным ненависти.
— Ну что же, ладно, — процедила сквозь зубы. — Я принимаю ваши условия.
Менее чем через полчаса все было готово. Поскольку ближайший поезд отходил около часа, мисс Норман согласилась, чтобы к этому времени ее опекал Фред. Когда уже вынесли чемоданы, она спросила меня:
— Можете вы мне объяснить, почему не захотели заявить на меня?
— Все очень просто. Во-первых, вы показали себя совершенно неспособной как шпионка, и мы с мужем считаем, что вы не могли бы причинить вред нашей стране. Во-вторых, не в моих обычаях мстить людям, которых я так презираю как вас. Не хочу, чтобы вы имели повод думать, будто я отдаю вас в руки властей из-за того, что не в состоянии иным способом сохранить чувства тех мужчин, которых вы пытались — да и то безуспешно — у меня отбить. Я не боюсь вас ни как шпионки, ни как шантажистки, ни как соперницы. И своей свободой вы обязаны не чему иному, как моему чувству собственного превосходства.
Боже мой! Сколько сил, сколько нервов, сколько унижений, бессонных ночей, тревог и страхов пришлось мне испытать, чтобы, наконец, бросить в лицо этой женщине эти слова! Как многому я научилась за эти два месяца, как много пережила, перетерпела, передумала! Я созрела душой, возмужала как человек, однако любая женщина меня поймет, когда я искренне признаюсь: как только Фред позвонил мне домой и сказал, что мисс Норман уехала, нервное напряжение, которое так долго не давало мне расслабиться вдруг прошло. Я снова стала только женщиной и в слезах прижималась к любимому мужу — моему мужу, за которого я вела такую опасную борьбу и, наконец, закончила ее победой.
Пятница
Вот уже четыре дня не заглядывала в дневник. Четыре дня сидим с Яцеком в Голдове. Это у нас нечто вроде второго медового месяца. К сожалению, он продлится недолго. Через несколько дней Яцеку надо возвращаться в Варшаву. Радуюсь только тому, что завтра приедет Тото, а в воскресенье — Гальшка, которую я пригласила на отдых. Правду сказать, сделала это главным образом ради того, чтобы она не поехала на лето в Шотландию. Ее муж такой скупой, что стоило ему услышать мое приглашение, как он сразу заявил, что о Шотландии не может быть и речи.
Тото купил новую роскошную машину и будет учить меня водить. По сути, он очень милый мальчик. К тому же такой забавный! Написал мне, что в сентябре отправляется в Маньчжурию охотиться на тигров, если к тому времени не будет войны. Эти мужчины прямо как дети. Я ответила ему, что в этом нет необходимости, поскольку я никогда никому не скажу про эти штемпели на тигровых шкурах.
В Голдове замечательно. Побуду здесь до конца июля, а в августе поеду в Спа или Остенде.
Жизнь прекрасна.
ЭПИЛОГ
На этом кончается дневник п. Реновицкой. Отдавая его в руки читателей, я, как «крестный отец» этого произведения, хотел бы добавить к нему несколько замечаний общего характера.
Я бы оказался в весьма затруднительном положении, если бы должен был ответить на вопрос, считаю ли это произведение симптоматичным для психики и морали молодой варшавской дамы нашего времени. Отнюдь не умаляя высоких добродетелей пани Ганки, ее ума, характера, порядочности и развитости, я склонен скорее предполагать, что другие дамы одного с ней круга во всех отношениях превосходят ее. Это я знаю от них самих. Они ведь меня убеждают в этом, а я не смею им не верить. За то время, пока «Дневник» печатался частями, я получил много писем, предостерегающих меня относительно автора как женщины, не достойной доверия. В некоторых из писем даже высказаны грязные подозрения в адрес п. Реновицкой, обвинения в грехах, которых она не совершала. Более того — даже поставлено под сомнение ее благородство и бескорыстие в отношениях с некоторыми мужчинами, представленными в ее дневнике. Но я, понятное дело, не могу принимать во внимание те домыслы. Замечу только, что автор, записывая свои воспоминания и готовя их к печати, сама решила отдать себя на суд читателей, злой или добрый.
Что касается меня, то я ей не прокурор и не адвокат. Поэтому прошу читателей принять это произведение таким, какое оно есть, и вынести приговор на основании собственного, непредвзятого мнения.
Т.Д.-М.



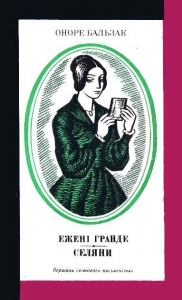
Комментарии к книге «Дневник пани Ганки», Тадеуш Доленга-Мостович
Всего 0 комментариев