Серия
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕЙ ЯПОНИИ
Издательство «Гиперион» выражает благодарность Японскому Фонду (г. Токио) за финансовую помощь в издании
этой книги
Publication of this book was generously supported by a grant from The Japan Foundation
НИХОН СЁКИ
Анналы Японии
О
Перевод со старокпонского и комментария А. М. врмаковой и А. Н. Мещерякова
ТОМ I
(свитки I-XVI)
«Гиперион» Санкт-Петербург
1997
ББК 84(5ЯПО) Н571
Работа выполнена в Институте Востоковедения РАН
Научный редактор В. Н. Горегляд
Н571 Нихон секи — Анналы Японии: В 2 т. /Пер. и коммент. Л. М. Ермаковой и А. Н. Мещерякова. Т. 1. Свитки I—XVI. СПб.: Гиперион, 1997. — 496 с. — (Литературные памятники древней Японии. IV).
Мифологическо-летописный свод «Анналы Японии» («Нихон секи» 720 г.) — основной памятник раннеяпонской словесности. Он представляет собой своеобразную энциклопедию древней Японии, содержащую в себе богатейшие данные по мифологии, истории, этнографии и поэзии.
В первый том настоящего издания памятника, впервые публикуемого на русском языке, вошли мифы, предания и хроники первых правителей древней Японии.
ББК 84(5ЯПО)
Перепечатка данного издания или отдельных его частей запрещена. Любое использование материалов данного издания возможно только с разрешения издательства.
4603020200-005 Н 241(06)-95
ISBN 5-89332-002-6 ISBN 5-89332-003-4
© Перевод, комментарий Л. М. Ермакова, 1997
© Перевод, комментарий А Н. Мещеряков, 1997
© Обложка, А. Ю. Юнов, 1997
© «Гиперион», 1997
БиБЛиоТЕ-Ки
Содержание
Л. М. Ермакова. «Нихон сёки» — культурный полицентризм
и выбор культуры.................................................................................3
Л. Н. Мещеряков. «Нихон сёки»: историческая мысль и
культурный контекст...........................................................................71
От переводчиков...............................................................................111
НИХОН СЁКИ — АННАЛЫ ЯПОНИИ (СВИТКИ I-XVI)
Свиток 1.......................................................................................115
Свиток II ....................................................................................147
Свиток III...................................................................................177
Свиток IV...................................................................................195
Свиток V...................................................................................206
квиток VI...................................................................................219
Свиток VII................................................................................234
Свиток VIII...............................................................................258
Свиток IX.................................................................................264
Свиток X...................................................................................284
Свиток XI.................................................................................297
квиток XII.................................................................................319
Свиток XIII...............................................................................328
Свиток XIV..............................................................................343
Свиток XV...............................................................................372
Свиток XVI..............................................................................392
КОММЕНТАРИИ........................................................................401
Использованная литература.................. ....................................492
Список сокращений...................................................................493
«Нихон секи» — культурный полицентризм и выбор культуры
С изданием перевода «Нихон сёки» отечественное востоковедение располагает практически полным кругом наиболее важных письменных памятников ранней японской культуры. Назовем здесь вышедшие ранее работы: «Идзумо-фудоки» («Записи о землях и обычаях»), «Древние фудоки», поэтическая антология «Манъё:сю:» («Собрание мириад листьев») в 3-х томах, «Свод законов "Тайхорё:"», «Норито. Сэммё», «Кодзики» («Записи о деяниях древности») в 2-х томах, «Нихон рё:ики» («Японские легенды о чудесах»).
Совокупность этих памятников образует фундамент и неисчерпаемую источниковедческую базу для исследований японской культуры периода Нара, — как исторических, геополитических и хозяйственно-экономических, так и религиозно-философских, этнографических, фольклористских, лингвистических и литературоведческих. В этом круге источников можно найти сведения, соотносимые с результатами археологических раскопок на территории Японии и с данными, содержащимися в летописных хрониках древних царств Китая и Кореи, в них отыскиваются начала многих свойств японской культуры.
В то же время эпоха создания этих первых письменных памятников всегда осознавалась в Японии как особая, резко отличающаяся по характеру от последующих. Это была эпоха становления, период усвоения материковой культуры, перехода от мифологии к истории, от родового общества к раннему государству, время грандиозного культурного проектирования и строительства, когда японская культура в нынешнем ее понимании еще только начинала складываться и обретать индивидуальную конфигурацию.
Вместе с тем это эпоха первой фиксации памяти культуры, иногда неверной, почти всегда искаженной — то бессознательно, а то и вполне
6
Л. М. Ермакова
намеренно; время осмысления и собирания воедино разрозненных воспоминаний о предшествующих культурных смыслах и состояниях.
«Нихон сёки», самый обширный по содержанию и объему письменный памятник эпохи Нара, переведен и откомментирован двумя переводчиками: свитки I—XVI — Л. М. Ермаковой, свитки XVII— XXX — А. Н. Мещеряковым, соответственно; тексту памятника предпосылаются два предисловия, которые, отчасти, быть может, совпадают в некоторых наиболее общих пунктах, — скажем, отдельные вопросы текстологии и функционирования памятника в культуре, но в принципе их цели в главном разнятся. Данное предисловие, написанное Л. М. Ермаковой, включает краткую историю текста и обзор различных точек зрения и теорий, существующих на сегодня в научной литературе относительно самого произведения и содержащихся в нем мифов. В этом же предисловии в самом общем виде исследуется литературный пласт произведения, в его фольклорно-поэтических частях и нарративе, как мифологическом, так и квазилитературном, а также основные проблемы генезиса литературных форм в связи с созданием текста «Нихон сёки» и т. д.
В предисловии А. Н. Мещерякова больше места отводится культурно-исторической проблематике, информационным и геополитическим процессам, типам хозяйственной деятельности, социальным трансформациям, ценностно-идеологической ориентации раннего государства Ямато и т. д.
КРАТКИЙ ОЧЕРК ИСТОРИИ ТЕКСТА Обычно исследования по «Нихон сёки» или новые публикации текста начинаются с констатации того факта, что, в сущности, не вполне известно, как же правильно называть этот памятник — «Нихон сёки» или «Нихонги», и с обоснования предположительно правильного выбора из этих двух возможностей. Разница между этими двумя вариантами примерно такова: «Нихон сёки» — буквально «Начертанные [письменно] анналы Японии», «Нихонги» — «Анналы Японии», при этом выпущенный во втором случае иероглиф сё («писать кистью») соответствует названию китайского исторического жанра шу в названиях таких летописей, как «Ханьшу», «Суйшу» и т. п. Так что если бы «Нихон сёки» ставило целью прямое подражание этим, обильно цитируемым в памятнике, китайским классическим книгам оно могло бы именоваться и просто «Нихонсё», без иероглифа «анналы» (яп. ки
«Нихон сёки»
— культурный полицентризм и выбор культуры
7
или ги) в конце. Однако в отличие от этих китайских хроник, повествующих о разных хронологически сменявших друг друга династиях, правивших в определенное время в определенной зоне страны, пафос японского памятника — рассказ об одной, вечной и бессменной династии, происшедшей от богов и отождествляемой с понятием страны и государства.
Китайский жанр шу — это, как правило, летописание только одной определенной династии, поэтому, возможно, в японском памятнике для отличия и было прибавлено слово «анналы» в конце, а, в скором времени, слово шу (яп. сё) стало и вовсе порой выпадать, приведя к образованию слова «Нихонги» — сокращенному варианту названия книги.
И в самом деле, в синхронных источниках встречаются оба названия. Так, в следующей после «Нихон сёки» летописи, именуемой «Продолжение Нихон сёки» («Сёку нихонги», 797 г.), в записи, датированной «4-й год Ё:ро: (720 г.), 21-й день 5-го месяца», говорится о том, что принц Иппон Тонэри выполнил данное ему ранее повеление составить государственные исторические анналы «Нихонги» и представил их ко двору. Однако самый старый из сохранившихся списков памятника, относящийся к периоду Хэйан, носит название «Нихон сёки». Несколько более ранний источник, хоть и тоже хэйанских времен, где собраны только песни из данного памятника, сложенные во время обрядовых трапез, именует книгу «Нихонги», однако в Предисловии к тому же собранию песен фигурирует название «Нихон сёки». В «Манъёхю:» название «Нихон сёки» встречается 2 раза, «Нихонги» — 9 раз.
В новейшем критическом издании первых десяти свитков памятника1 указывается, что самый древний источник, в котором упоминается «Нихон сёки», — это «Рё:-но сю:гэ», детальный комментарий к кодексу законов «Тайхорё:», датируемый 738 г. В 31-м свитке этого комментария цитируется некая «Летопись древности» («Коки»), содержащая объяснение происхождения древнего названия Японии — Великая Страна Восьми Островов. Объяснение это дается со ссылкой — «в Первом свитке "Нихон сёки" сказано...». Отсюда следует, что, во всяком случае сегодня, можно считать, что «Нихон секи» — наиболее достоверный вариант первоначального названия книги.
«Нихон сёки» создавалось в 720 г., через восемь лет после написания «Кодзики». Эта книга, состоящая из тридцати свитков, намного
в
Л. М. Ермакова
превосходит по объему «Кодзики», первый мифолого-летописный свод, содержащий всего три свитка.
Поэтому одна из ключевых проблем, связанных с этим памятником и так до конца и не разрешенных, — это причина и побудительные мотивы самого факта создания «Нихон сёки» на фоне уже существующего памятника «Кодзики».
Надо сказать, что вопрос возникновения и соотношения этих двух памятников сейчас стал одной из наиболее притягательных для исследователей проблем; к тому же загадки древней японской истории, в частности, представленные в самых ранних ее текстах, двух летописно-мифологических сводах, в последнее время привлекают внимание не только ученых, но и публицистов, и широкого круга любителей словесности и древности. Если в 60—70-е годы в фокусе общественного интереса были различные теории японской культуры и национального характера (нихондзинрон, нихон бункарон) или гипотезы о происхождении и родственных связях японского языка (в том числе породившие самые диковинные предположения), то теперь это место заняли древние связи Японского архипелага с континентом, вопрос о времени заселения и путях переселенцев, иноземные компоненты древней культуры, обряды, обычаи, верования и материальный быт на Островах в первые несколько
2
веков н. э.
В целом, как считается в исследовательской литературе, наиболее общая цель создания «Кодзики» и «Нихон сёки», этих двух памятников, излагающих мифы о создании Японии и исторические предания о ее ранних правителях, в обоих случаях одна и та же — восстановление или, вернее, сотворение так называемой «правильной» истории.
Итак, вскоре после создания «Кодзики», потребовался новый идеологический манифест, и было создано «Нихон сёки». Видимо, оба текста, хотя и в разной степени, имели хождение в культуре, хотя области и характер их функционирования оказались разведены, а сфера применения «Кодзики», по всей вероятности, стала несравненно более ограниченной, хотя обе книги были созданы по высочайшему указанию.
Одна из возможных точек зрения на предмет состоит в том, что в «Кодзики» не хватало какого-то весьма существенного элемента для того, чтобы обрести статус государственной летописи, «правильная история» по «Кодзики» была не вполне удовлетворительна или перестала быть адекватной сразу же после ее составления; но можно предположить также, что изначально цель создания «Кодзики», при
«Нихон сёки»
— культурный полицентризм и выбор культуры
9
всем внешнем и структурном сходстве этих двух памятников, была принципиально иной (примером иной цели мифологического свода может послужить, скажем, более поздний и весьма краткий памятник «Кого сю:и», тоже содержащий свод мифов и преданий, изложенных в конспективно-назывном стиле, который ставил задачу с помощью священной истории восстановить прежнюю роль жреческого рода Имибэ, потесненного могущественными Накатоми).
Наиболее распространенная точка зрения, утвердившаяся и в современном научном мире, и, через школьные учебники, в сознании японцев, состоит в том, что «Кодзики» было создано, так сказать, для внутреннего употребления, обращено к аудитории внутри страны и имело целью прежде всего составление генеалогии рода, пришедшего к власти, возведение этой генеалогии к «эпохе богов» и тем самым ратификацию сложившегося положения вещей.
«Нихон сёки», как предполагается, в свою очередь, было обращено к «зарубежным читателям», адресовано дворам Китая и Кореи, и имело целью удостоверить не только древность и могущество рода, объединившего (покорившего) другие племена на большой части японской территории, но и утвердить статус возникшего государства как сильного и авторитетного образования, имеющего божественное происхождение, мифологические корни и давнюю историю, а также засвидетельствовать этим памятником высокий культурный уровень японского двора, владение летописно-исторической традицией в китайском ее понимании и языком классических памятников китайской древности.
И, безусловно, в целом, на некотором уровне рассмотрения проблемы, так оно и есть. Однако стоит обратиться конкретно к текстам, как тут же возникает множество разных вопросов и сомнений. Например, если «Нихон сёки» — это созданная и поданная в самом выгодном свете история государства, то почему тогда в этом памятнике основные (в первых свитках почти все) сюжеты и имена богов, на радость мифологу, даны в большом количестве вариантов, словно составители стремились к бесстрастной научной объективности, точности этнографа-фольклориста. Например, рождение Аматэрасу, Тукуёми и Сусаново, главных персонажей японской мифологической истории, дано, помимо основного сюжета, в одиннадцати версиях, при этом, вариативность, хоть и не в такой высокой степени, характерна и для повествований о более поздних, исторических временах и царствований Реально существовавших правителей. Определенность и безвариантность
10
Л. М. Ермакова
в «Нихон сёки» начинаются, собственно, только с 26-го свитка, правления Саймэй, матери Тэмму, при котором, по-видимому, началось составление памятника.
Однозначный, не допускающий иных толкований текст «Кодзики» в этом отношении кажется куда более программной и идеологически направленной, обдуманной книгой, чем множественный, поливалентный текст «Нихон сёки». Тем не менее, утвердившееся мнение состоит в том, что именно «Нихон сёки» стало своего рода декларацией, государственным документом, а «Кодзики» было собранием «неподдельных мифов» древности.
По мнению, скажем, французского исследователя Франсуа Масэ3, «Кодзики» было текстом сугубо мифопоэтическим, наподобие протяженной и сюжетно организованной одической поэмы. Как предполагает Ф. Масэ, «Кодзики» отличает явственный внутренний ритм, прослеживаемый на уровне нарратива и композиции памятника, троичное развертывание мифологических событий и т. п.
Исследователь считает, что «Кодзики» находится между фольклорной и письменной традицией, структура памятника при этом своими рефренами, создающими определенный ритм, напоминает каё:, то есть жанр древних песен, в обилии включенных в оба памятника. Фольклорность «Кодзики» при этом может быть окончательно удостоверена с помощью следующих его особенностей — уведомление о намерениях, возглашаемое персонажем перед совершением того или иного действия, как прием часто встречающееся на протяжении текста, а также подробное выписывание образа и результатов совершенного действия, то есть определенная перформативность текста. И, внимательно читая «Кодзики», пишет Ф. Масэ, мы «можем почувствовать совершенную целостность и равновесность частей, увиденную глазами человека, сроднившегося с мифом и песней». Весь корпус «Кодзики», считает он, организован на основе трех взаимодействующих элементов: первый и второй, тесно связанные между собой, находятся в отношениях инверсии или оппозиции, им наследует третий, ослабленный по тону; таков и есть постоянный ритмообраэующий остов текста.
Например, первая подгруппа мифов, повествующая о порождении порядка [вероятно, из хаоса, когда «Небо-Земля еще не были разделены». — Л. Е. ], завершается эпизодом рождения из огня [по-видимому, имеется в виду рождение бога огня]; этот первый элемент
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 1 1
противопоставлен второму, то есть следующей подгруппе мифов, которая завершается эпизодом рождения у кромки воды и повествует о путешествии в иной мир [надо думать, речь идет о путешествии Изанаки в страну мертвых Ёми-но куни, его последующем очищении в морских водах и порождении при этом богов]; третья часть объединена мотивом завоевания. По Масэ, все мифы «Кодзики» организуются в девять подобных групп, содержащих рождение в огне и рождение в воде (или у воды) как два противопоставленных элемента, и ослабленный третий элемент; на макроуровне их тоже три — установление божественного порядка, затем человеческого, затем исторического. Ввиду этой жесткой структурной организации, «Кодзики», по Масэ, и не могло быть продлено далее, в исторические времена, да в «истории» и не было нужды, поскольку создатели «Кодзики» коснулись только возникновения человека, остальные же вопросы для них были бы не более чем переделками мифологической точки зрения.
«Кодзики», как формулирует Масэ, извлекает из истории мифологический слой, «Нихон сёки» же ставит основной целью уловить все, что только можно, в сети хронологий и датировок, ибо для составителей «Нихон сёки», по Масэ, только то истинно, что датировано, возможность же датировок, становящаяся все более реальной и актуальной по мере приближения к недавнему прошлому, предполагает принципиальную открытость текста «Нихон сёки», возможность его продления в будущее, в противоположность замкнутому пространству «Кодзики».
При этом «Кодзики» вовсе не представляет собой некий неизменный, идущий из глубин времен комплекс мифов, — скорее, говорит Масэ, это был акт оформления мифологических представлений, отклик традиционного мифологического сознания на импульсы материковой Цивилизации, попытка сохранить местные особенности культуры. Поэтому-то, по теории Масэ, «Кодзики» и оставалось долгое время в безвестности, поскольку образованная часть тогдашнего общества, включая и тех, кто имел непосредственное отношение к синтоистским обрядам, мыслила, по большей части, в китайских категориях, не располагая еще упорядоченным собранием специфически мифологических образов. «Нихон сёки» же, как пишет Масэ, прежде всего исторично. Поставив первую дату в свитке о правлении легендарного императора Дзимму, составители «Нихон сёки» тем самым определили понятие «теперь», основали историческую ось, сотворив и потенциальное будущее.
12 Л. М. Ермакова____
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 13
Арэ для памяти и передачи будущим поколениям, потому что в передаваемых устно преданиях уже накопилось изрядное количество ошибок и искажений).
Однако, если возможно, что в создании этих двух памятников участвовали одни и те же люди, тогда, вероятно, фундаментальные различия между «Кодзики» и «Нихон сёки» надо искать в сфере их конечных целей, их функций в культуре, то есть, в некотором смысле, в сфере возможных замыслов составителей.
Одну из любопытных гипотез предложил в этой связи Уэно Макото5, суммировавший данные относительно так называемого могари, предварительного или временного захоронения, то есть совокупности обрядов, которые проводились в связи со смертью правителя и продолжались, бывало, по нескольку лет, вплоть до погребения тела в кургане (кофун). Уэно приводит фрагменты «Кодзики», «Нихон сёки» и древнекитайской книги обрядовых установлений «Лицзи», описывающие этот обряд как приношение даров духу усопшего, исполнение ритуальных танцев (судя по данным ранних памятников, с некими особыми подпрыгиваниями) и возглашение соответствующих случаю текстов. Из этих фрагментов явствует, что, во всяком случае, к VII веку возглашение эпитафий во время могари уже оценивалось «людьми того времени» (выражение «Нихон сёки») с точки зрения мастерства читающего, притом, как правило, среди исполнителей были ближайшие члены семьи скончавшегося правителя и претенденты на престол (часто читали не они сами, а придворные от их имени, что, по мнению Уэно, и привело к формированию профессиональных возглашателей эпитафий), то есть выбор читающего был напрямую связан с вопросом о престолонаследнике.
Ссылаясь на известного исследователя «Нихон сёки» Ёкота Кэнъити, Уэно делает следующее предположение: до того, как мифы о наследовании престола, содержавшие генеалогии скончавшегося правителя и тем самым обоснование фигуры престолонаследника, обрели определенную письменную форму, устные эпитафии и их исполнители, очевидно, имели особо важное значение. Но здесь правителям приходилось полностью полагаться на того или иного сказителя, в свою очередь опиравшегося на фрагментарные данные «исконных сказаний» и летописей разных родов, которые были, вероятно, кратки и весьма несовершенны по системе записи. И тем не менее, именно это обрядовое чтение эпитафий в период могари, по мнению
Теория Масэ, вероятно, достаточно характерна для привычной типологии двух памятников, хотя и содержит несомненные новации, — таков, например, увиденный им в «Кодзики» троичный повествовательный ритм (такую же структуру с двучленной оппозицией и третьим, снимающим или смягчающим ее элементом, он кроме «Кодзики» усматривает в структуре основных храмов Исэ, состоящих из внешнего и внутреннего, а также третьего, ослабленного по уровню сакральности, храма принцессы-жрицы, или в архитектуре и сценарии основного обряда при инаугурации правителя — возведение двух павильонов Юки и Суки, а также третьего павильона, соединяющего проходы в два первых ).
Тем не менее, эта теория имеет, как представляется, ряд уязвимых мест. Исследователь говорит о том, что даже в сознании синтоистских священнослужителей не было морфологически стройной системы мифических образов, однако представляется, что у носителей мифологического сознания не было и потребности в этой стройности. Оформленный мифологический свод — это свидетельство рефлексии культуры, вступающей в следующую, письменную фазу своего существования, и осознающей необходимость в упорядоченности и морфологической связности своего наследия в новом, более широком культурно-идеологическом контексте и в подражание более продвинутым в этом отношении соседям. (В. В. Иванов сравнил когда-то распространение культурных изобретений с распространением эпидемических болезней, среди японских исследователей бытует природная метафора воды, всегда льющейся с высоких зон ландшафта на более низкие.) Мифологическое сознание как таковое не требует иерархической организации пантеона, равно как и сюжетной, в нынешнем понимании, логики нарратива.
Остается непонятным также, какой культурный тип мог представлять собой этот оберегавший мифологическое наследие создатель «Кодзики», если его миросозерцание, по словам Масэ, до того отличалось от всех остальных, китайски ориентированных literati того времени, что предложенное им кредо так и не пришлось никому по вкусу.
Добавим к этому также, что, по предположению, разделяемому рядом современных японских историков, в группу составителей «Нихон сёки», может быть, входил и тот самый Оно-но Ясумаро, создатель «Кодзики» (который, как он сам утверждал в Предисловии к «Кодзики», записал древние предания со слов сказителя Хиэда-но
14
Л. М. Ермакова
исследователя, играло ключевую, можно сказать, решающую роль при смене правителя.
Об этой роли свидетельствуют, например, эпизоды «Нихон сёки», где прямо говорится: «Придворные вельможи произнесли траурную речь, говоря каждый по очереди о своих предках, и о том, как они служили [разным прежним государям]. Эмиси, числом более ста девяноста человек, произнесли траурное слово и поднесли на спинах подати. <...> Минуси, Пусэ-но асоми, и Миюки, Опотомо-но сукунэ, выходя по очереди, произнесли траурное слово. Тагима-но мапито титоко <„.> в траурном слове перечислил предков государя. Таков обряд. В древности он назывался "наследование Солнцу". После чего государь был погребен...» (Дзито:, 2-11-4, 5, 11).
В этой цитате ритуалы предварительного погребения могари прямо отождествлены с процедурой перехода престола от скончавшегося правителя к новому, что в текстах этого периода именовалось «наследованием Солнцу».
По Уэно, именно об этом и говорится в Предисловии Оно-но Ясумаро — перефразируя на современный лад мысль Ясумаро, можно сказать, что ввиду фольклорной вариативности устной эпитафики было затруднительно осуществлять контроль над мифами и мифическими генеалогиями, то есть легитимно осуществлять смену правителей. Из этого положения было два выхода: первый — чтобы, по возможности, исключить вариативность, можно было сосредоточить функции официального возглашения эпитафий в лице одного сказителя. По мнению Уэно, именно таким, избранным и официально назначенным исполнителем эпитафий и был Хиэда-но Арэ (на основе заученных им, а потом скорректированных сказаний, предположительно, создавалось «Кодзики»); на смену ему пришел Тагима-но мапито титоко, исполнявший эпитафии при дворах Тэмму, Дзито и Момму и не раз в этой связи упоминаемый в «Нихон сёки».
Тагима-но мапито титоко получил это важное назначение при правителе Тэмму. Тэмму же пришел к власти в результате смуты Дзинсин (672 г.), и ему, разумеется, было крайне необходимо идеологическое обеспечение новой власти, затеявшей масштабное государственное строительство и новое законоуложение.
Однако эта мера — назначение возглашающего эпитафии во время временного захоронения — могла быть лишь чисто временной. Вторым, более радикальным способом решения вопроса было полностью исключить
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 15
зависимость от этих сказителей-исполнителей эпитафий, носителей сверхавторитетного статуса, создать надежную систему записи и впредь полагаться на определенный письменный текст. Именно так, по мнению Уэно, и было создано «Кодзики» — прежде всего как исходный нормативный текст со специфической задачей — как основной источник для составления «правильных» траурных речей-плачей во время предварительного захоронения могари, с целью установить контроль над функционированием мифов в обществе и обеспечить государственный приоритет в трактовке генеалогий и истории престолонаследия.
Эта теория эпитафий может показаться чересчур новаторской, однако, она, как представляется, отражает один из возможных мотивов создания «Кодзики» и до некоторой степени служит объяснением различий между «Кодзики» и «Нихон сёки» и причин ограниченности функционирования «Кодзики» в японской культуре.
Эти две теории, западного японоведа Ф.Масэ и японского ученого Уэно М., приводятся здесь не потому что они получили всеобщее одобрение и известность в ученом мире, скорее, это частные гипотезы из числа новейших, одни из многих, нарождающихся сейчас в мире исследователей «Кодзики» и «Нихон сёки». Однако на их примере, как представляется, можно наглядно представить и общепринятую концептуальную основу, и направление нынешнего научного поиска.
Из области других, более известных теорий, нельзя не упомянуть об исследованиях искусствоведа и историка культуры Уэяма Сюмпэй.6 Уэяма обратил внимание на то, что в первом свитке «Кодзики», рассказывающем об эпохе богов, практически не фигурируют боги-предки рода жрецов Накатоми — Такэ-микадути и Амэ-но Коянэ (Ама-но коянэ). Первый упоминается мельком всего два раза, второй — один раз. В «Нихон сёки» же оба бога выписаны ярко, встречаются многократно в разных мифологических сюжетах, вплоть До этиологического мифа о первопрецеденте обрядового служения богам, проведенном Ама-но коянэ.
Могущественный род Накатоми дал ответвление в виде рода Фудзивара [др.-яп. Пудипара], откуда вышли многие государственные мужи, ученые, прославленные поэты периода Нара-Хэйан. Женщины из этого же рода часто становились супругами правителей. Периодами именно вельможи из рода Фудзивара фактически заправляли всеми Делами в стране (начиная, вероятно, с канцлера Фудзивара-но каматари). По мнению Уэяма С, Фудзивара Фубито (в древнем
16
Л. М. Ермакова
произношении Пудипара-но пубито, возглавлявший и продвигавший работу по составлению и претворению в жизнь Свода законов Рицурё), будучи с 702 до 720 гг. самым высоким лицом в государстве, определял и пафос составляемой государственной летописи «Нихон сёки». С точки зрения Уэяма, авторитет становящегося единовластия в древнем государстве был всего сильнее в V веке, называемом еще временем «пяти владык Ямато». (Это выражение почерпнуто из китайской истории династии Сун — «Суншу», 478 г., где говорится о пяти сменявших друг друга могущественных правителях государства Ямато. До сих пор не установлено, какие именно правители имеются в виду, скорее всего, выбор возможен из кандидатур Нинтоку, Ритю:, Хандзэй, Инге:, Анко: и Ю:ряку.) После «эпохи пяти владык», считает Уэяма, верховная власть слабеет, реформы Тайка, на поверхностный взгляд, возвращают роду правителя прежнюю силу, но это лишь видимость, на деле же возвышение авторитета правителя — лишь средство и предлог для утверждения фактической власти представителей рода Фудзивара, стоящих за спиной императора в виде канцлеров или братьев и дядьев императрицы.
Фубито в этой исторической ситуации ставил целью с помощью мифологической структуры «Нихон сёки» утвердить авторитет императорского рода (не забывая и о своем собственном, который при этом повышался автоматически); в частности, поэтому, считает исследователь, Ниниги-но микото, бог-предок рода правителя, спустившийся с Неба на землю, мифологический основатель императорской династии, приходится богине Аматэрасу внуком — это, по его словам, небесная проекция того исторического факта, что правительница Дзито передала престол не сыну и не какому-либо другому родственнику, а своему внуку, правителю Момму.
Этим эпизодом передачи престола Момму как раз и завершается «Нихон сёки» — в последней фразе 30-го, последнего свитка памятника, говорится: «Находясь во дворце, государыня решила отречься в пользу престолонаследника». Ряд интерпретаций предполагает, что эта фраза — нечто вроде намеренного обрыва исторического повествования, предполагающего принципиальную открытость «Нихон сёки» будущей истории, потенциально бесконечное продление временной оси. Если же толковать эту фразу как намеренную концовку, то, в свете теории Уэяма, эта последняя фраза на историческом уровне представляет конечную цель памятника, генеалогически обосновавшего
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 17
появление Момму в цепочке владык древней Японии, что на мифологическом уровне соответствует рождению Ниниги-но микото.
Итак, «Нихон сёки», как уже было сказано, было завершено в 720 г. Исходя из данных следующей императорской летописи, «Сёку нихонги», историки заключают, что официальный приказ о составлении «Нихон сёки» был отдан за два года до завершения работы, то есть примерно в 718 г. Однако на деле эта работа началась, по общепринятому мнению, лет на тридцать раньше и отчасти продолжалась и после 720 г. В 718 г. был произведен очередной пересмотр «Свода законов Рицурё:», составленного в 701 г. (первый год Тайхо:). Поскольку главным составителем Свода законов был Фудзивара Фубито (в древнем произношении Пудипара-но пубито)7, ему и был поручен пересмотр. Одновременно, как предполагает Нисимия Кадзутами, был отдан и официальный приказ о создании «Нихон сёки», хотя неофициально подготовка к этому велась, вероятно, и до этого.
Движение же по исправлению или, вернее, созданию истории началось, по всей видимости, еще до создания кодекса «Тайхо:рё:», при императоре Тэмму (правил с 673 (?) по 686 г.) — как говорится в Предисловии Оно-но Ясумаро к «Кодзики», это по приказу Тэмму создавалось «Кодзики», завершенное к 712 г.
«Нихон сёки» было представлено на августейшее рассмотрение в 5-м месяце 720 года, а в 8-м месяце Фубито умер в возрасте 62-х лет. На следующий же день после его смерти сорокапятилетний принц Тонэри был назначен главой государственного аппарата вместо покойного Фубито. Возможно, именно в связи с этим близящимся назначением, принцу Тонэри, члену правящего рода, и было предложено возглавить работу по составлению «Нихон сёки», поскольку основным содержанием памятника были летописи правления предшествующих императоров и обоснование исторической правильности политических мер, предпринимаемых как раз в период работы по составлению «Анналов».
Однако, разумеется, работа эта была выполнена не одним человеком. И здесь дело не только в большом объеме памятника, но и в значительной разнородности его частей. Многочисленные стилистические отличия, разные системы записи одних и тех же повторяющихся клише и другие признаки, в том числе не связанные даже с содержанием текста, а чисто технические текстовые мелочи позволяют сразу безошибочно диагностировать перемену руки. По мнению, например, Нисимия Кадзутами, первые два свитка, повествующие о временах
18
Л. М. Ермакова
эры богов, создавались совместно всеми участниками «творческой группы» составителей «Нихон сёки». Последующие свитки свидетельствуют о наличии двух разных подгрупп авторов, одна создавала свитки с 3-го по 13-й, а также 22—23 и 28—29-й; вторая — 14—21, 24—27 и 30-й свитки.8 При этом речь идет не то чтобы о разногласиях или несогласованности, — возможно, например, пишет Кадзутани, что в составлении текста участвовали авторы двух поколений, например, ровесники Фубито и ровесники Тонэри, и существующий разнобой ими и не осознавался.
Отметим также, что «Нихон сёки» написано на правильном, часто высоком китайском языке, что, вероятно, свидетельствует о том, что к составлению памятника были привлечены и так называемые торайдзин — «люди, пришедшие из-за моря», то есть китайские и корейские ученые писцы, располагавшие набором основных книг из китайского классического наследия, а также официальных летописей разных царств Китая и Кореи, вследствие чего «Нихон сёки» оказалось насыщено прямыми и скрытыми цитатами из этих памятников.9
Довольно скоро при дворе установился обычай обрядового чтения фрагментов «Нихон сёки», наподобие чтения сутр. В результате этого обычая сложилась традиция прочтения этого текста по-японски, которая, разумеется, дошла до нынешнего времени в крайне фрагментарном, много раз подновленном и измененном виде, к чему приложили руку переписчики протекших с тех пор двенадцати веков. Традиция эта восходит, согласно разным источникам, то ли к 721, то ли к 811 г., однако после X века сведения о коллективных чтениях и комментировании «Нихон сёки» в рамках ритуальной трапезы при дворе, с сочинением пятистиший на темы, связанные с различными сюжетами из этого памятника, прекращаются — не исключено, по мнению ряда авторов, что в период Камакура-Муромати «Нихон сёки» начинает играть роль священного синтоистского текста, и его текстология переходит в эзотерическую традицию жреческих родов Имибэ и Итидзё.
Японские антропонимы, теонимы, топонимы и т. п., а также тексты 128 песен, вошедших в памятник, записаны по-японски иероглифами, взятыми в отвлечении от смысла, в чисто фонетической функции, остальной же массив текста — китайский, что рождает принципиальную трудность для интерпретатора, — причем не только для переводчика на иностранный язык, но и для японского публикатора текста, и, надо сказать, трудность эта — не столько техническая, сколько теоретико-культурная.
«Нихон секи» — культурный полицентризм и выбор культуры 19
Приходится решать фундаментальный вопрос, чему отдать предпочтение, какую из альтернатив считать истинной. Один способ трактовки текста в целом — это считать «Нихон сёки» написанным по-китайски и тогда переводить весь текст на основе исходного иероглифического письма, но тем самым уж и трактовать «Нихон сёки» как памятник китайской культуры, понятный лишь в контексте предшествующей китайской книжной традиции, стало быть, пренебречь более или менее соответствующими японскими огласовками и осмыслением. Другой способ отношения к этому тексту основан на иной предпосылке. Поскольку эта книга рассказывает о «начале времен» японской истории, и, по свидетельству источников, бытовала в культуре как текст, по крайней мере частично оглашаемый вслух, разумно все же поставить на первое место функционирование этого памятника в японской культуре, и переводить не просто по китайским иероглифам, но и учитывая чтения (то есть интерпретации) этих иероглифов по-японски, как достоверные, так и реконструированные на основе других синхронных текстов (например, фонетической записи песен «Манъёгсю:») и пояснений раннесредневековых переписчиков.
Второй вариант кажется более предпочтительным, и во многих случаях такие местные «мифо-поэтические» чтения китайского текста были положены в основу перевода, хотя каждый раз трудно знать наверное, к какому периоду принадлежат эти выразительные обороты древнеяпонского языка, и не имеем ли мы дело с более поздними стилизациями и фантазиями переписчиков и комментаторов.
В то же время, в ряде случаев представлялось более правильным и разумным строго следовать иероглифическому тексту, игнорируя восстановленные текстологами гипотетические японские прочтения-трактовки: «Нихон сёки», как уже говорилось, памятник разнородный, не только потому, что он принадлежит не одной кисти, а многим, но и ввиду разнообразия его жанрово-стиле вой природы. Таким образом, способ интерпретации (иными словами, лексический и стилистический выбор переводчика) располагался в обширном поле между этими двумя возможностями, в соответствии с характером и смыслом контекста.10
ЯПОНСКИЙ МИФ И ЗАИМСТВОВАННЫЕ РЕЛИГИИ И ТЕЧЕНИЯ
«Кодзики» и «Нихон сёки» — основные источники для реконструкции мифологической картины мира в этот древний период японской
20
Л. М. Ермакова
истории и должны, казалось бы, составлять идеологическое ядро той совокупности верований, которая в современной литературе получила название «исконная японская религия синто». Но на деле все оказывается не так просто.
Во-первых, как мы уже видели выше и как происходит всегда и везде при первой письменной фиксации мифов, сам процесс их записывания есть процесс перевода из одной системы кодов в другую, — из устной традиции в письменную, при этом утрачиваются многие фундаментальные законы фольклорного бытования текстов. Для устно бытующих текстов, как правило, характерен музыкальный характер, перформативность, то есть текстовое единство слова, пластики и жеста, коллективность их исполнения, принципиальный отказ от понятия автора, вариативность. При переходе к письменной фиксации происходит множество разнообразных и коренных изменений — например, переадресовка текстов, — теперь они уже направлены не только (или не столько) к богам или младшим членам племени, как это было раньше; кроме того, появляется понятие достоверности излагаемых фактов и конкретной ответственности за эту достоверность, понятие исторической лжи и исторической правды, формируется определенный (для позднейших исследователей часто трудно определимый) идеологический вектор, в соответствии с которым организуется составляемый по высочайшему повелению мифологический свод. Наконец, происходит письменная циклизация отдельных и разрозненных мифов, процесс которой влечет коренные изменения на всех уровнях мифологического нарратива; сам процесс записи становится процессом мифотворчества, например, когда письменно фиксируется какой-либо обряд с объяснением его происхождения, описанием участников, сценария и т. п., записывается легенда о происхождении названия местности или какой-либо иной повествовательный сюжет с этиологической концовкой.
Не будем забывать также, что в японской культуре, как бывало и во многих других, запись мифов происходила средствами чужого, иностранного языка, который заимствовался не сам по себе, чего, в общем, не бывает, а, разумеется, вместе с текстами, привезенными носителями культуры-донатора и составлявшими духовно-исторический фундамент этой культуры. В случае с древней Японией это были разновидности китайской натурфилософии, отдельные космогонические и иные мифы, элементы даосизма, буддизм и конфуцианство.11
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 21
Не менее существенно также то обстоятельство, что на территории самой Японии одновременно находилось в то время несколько групп племен, разнящихся по типу хозяйственной деятельности, обрядовой практике, набору духов предков и божеств, по языку, по исходной точке, откуда они переместились в Японию, а также по степени давности пребывания на Японских островах.
Все это, в более или менее связном виде, подчинившись неким новым идеям и правилам, сложилось в те два свода, о которых идет речь.
Встает закономерный вопрос — так что же, в конечном счете, то, что записано в «Кодзики» и «Нихон сёки», это и есть национальная японская религия, называемая синтоизмом?
Раньше, под влиянием ученых так называемой Школы национальной науки XVIII века, считалось, что синто процветал в древности, пришел в упадок в средние века, а потом был возрожден упомянутыми учеными, прежде всего Мотоори Норинага (1730—1801). В XX веке выдающийся японский этнограф и фольклорист Янагида Кунио, исследовавший обряды, обычаи и верования разных районов Японии, стремился на их основе реконструировать этот самый исконный синтоизм, о котором писал Норинага. Янагида исходил при этом из предпосылки, что изначальная система японских верований не была до конца стерта и перекрыта иноземными религиями, в частности, буддизмом, и, на некотором уровне культурного сознания, продолжает быть основной духовной субстанцией, связующей воедино всех японцев. Такая точка зрения долгое время доминировала среди исследователей японской древности, однако в настоящее время появились и принципиально иные течения мысли.
Известная немецкая исследовательница Нелли Науманн, например, обобщая опыт предшественников, пишет, что во всех западных публикациях синто выступает как исконная японская национальная религия. Однако наименование синто, утверждает она, появилось в японской культуре достаточно поздно. Применительно же к периоду Яёи, пишет она, «концептуальное суммирование базовых религиозных тенденций невозможно. И здесь виной не недостаток наших знаний — скорее, причина в широком разнообразии религиозных феноменов».12
Таким образом, ставится под сомнение теория о том, что, изучая сохранившиеся древние памятники и доступный этнографический материал новейшего времени, можно восстановить некую древнюю, изначально присущую японцам систему религиозных представлений.
22
Л. М. Ермакова
В последние 10—15 лет термин синто и обозначаемое им аморфное явление стали вызывать все больший скептицизм исследователей. Некоторые считают, что никакого отдельно существующего синтоизма и не было — сначала, во времена Яёи, это была местная ветвь даосизма, в периоды же Нара и Хэйан — подчиненное буддизму течение. Курода Тосио, например, полагает, что синто как независимое учение возникает только в период Мэйдзи, раньше же это был буддизм, заимствованный неполно и неглубоко, перенесенный на японскую почву и сконтами-нированный с учением Инь-Ян.
В самом деле, благодаря предпринятой правительством Мэйдзи мере, называемой кокубундзи — «разделение храмов» — буддизм и синтоизм в XIX веке были разделены серией декретов. Тогда, в сущности, и появилось ныне сравнительно четкое деление всех храмов на две группы — буддийские и синтоистские; с Мэйдзи началась и выработка специфической для каждого синтоистского храма обрядности. Разумеется, основой для этой новообразованной традиции послужили прежние типы прихрамовых молений и ритуалов, в большой мере были использованы источники и материалы былых эпох, включая самые древние, в частности, «Кодзики» и «Нихон сёки», а также, разумеется, работы ученых Национальной школы периода Эдо. Однако, как всякая реставрация, это был процесс обновления и реформирования, и ныне, толкуя так называемые традиционные ритуалы синтоистских храмов, исследователь должен прежде всего разыскать, узнать и учесть, что именно произошло с этим храмом в процессе кампании кокубундзи. Тем более, что в некотором смысле это была реставрация не существовавшего ранее — хотя в «Нихон сёки» рассказывается о происхождении тех или иных кумирен и ритуалов, адресованных разным богам, со времен Хэйан все храмы носили смешанный синто-буддийский характер.13
При этом нельзя вовсе отказаться от храмового принципа исследования, поскольку в некотором смысле синтоизм, как бы его ни трактовали, всегда представлял собой набор локальных культов, и часто священнослужители не знают (и не должны знать), какие именно тайные обряды и культы проводятся в соседнем храме. (Более того, нередко настоятель храма не знает, какой именно культовый предмет — меч, зеркало, камень, ветка или что-то другое — является «телом божества» (синтай) его собственного храма, поскольку запрещено открывать ларец, в котором, по преданию, содержится этот предмет.)
«Нихон сёки» —
культурный полицентризм и выбор культуры
23
Развивая же далее радикальную точку зрения Курода, можно прийти к непосредственному выводу о том, что вообще синто было изобретено учеными-книжниками периодов Эдо и Мэйдзи.
Другую ветвь изучения японского менталитета и его религиозного уклада представляют собой исследователи японской буддийской и конфуцианской мысли. Они, в большинстве своем, ныне также исходят из понятия о сращенном воедино идеологическом комплексе, внутри которого сплетены в единый клубок основные нити заимствованных учений и местных культов. Такие исследователи, особенно не японские, а западные, отмечая существенные отличия между буддийской или конфуцианской традицией, сформировавшейся на японской территории, и ее заморским оригиналом, привыкли объяснять все японские отклонения от исходных форм именно влиянием местных верований и идей, которые эти ученые автоматически относили к синтоизму. В результате, синто — как «Путь богов», или «японский Путь» — стало принято усматривать во всем, что выпадало из понятия буддизма, даосизма или конфуцианства. Нередко синто интерпретировался как канал, служащий для восприятия и усвоения иностранных религий и учений, или как некий японизирующий их механизм.
Своего рода апофеозом научного недоумения по поводу синтоизма можно считать вышедшую недавно статью голландского исследователя М. Тэвина, который, суммируя взгляды представителей скептического направления японологов-религиоведов, пишет, что даже если рассматривать синтоизм как мусорный ящик, куда сбрасывается все то «несообразное логике», что не понадобилось японскому буддизму или японизированному конфуцианству, все же надо как-то внятно и связно объяснить содержимое этого ящика. Однако и это оказывается невозможным. Как пишет М. Тэвин, выход из положения некоторые ученые видят в том, чтобы включать в понятие синто не все традиционные верования, а лишь отдельные из них. Так, Хираи Наофуса, например, различает три категории верований в современном синто — гадание и шаманистические ритуалы; практика воздержания и очистительных ритуалов, а также культ дома и полевых божеств; элементы даосизма, буддизма и средневекового католицизма. При этом синтоизмом он соглашается считать лишь верования второй категории.14
Примечательно при этом, что многим исследователям синтоизма (можно сказать, большинству) их объект видится как совокупность
24
Л. М. Ермакова
обрядов и культов. «Кодзики» и «Нихон сёки» же, несмотря на то, что они являют собой первые и, собственно говоря, единственные подробные и систематизированные книги, рассказывающие об эпохе богов, о первопредках различных родов и о происхождении императорского рода от главной богини пантеона Аматэрасу, часто оказываются, тем не менее, вне сферы рассмотрения этих исследователей синто, которые, по всей вероятности, не усматривают непосредственной связи народных верований и храмовой практики с текстами этих памятников.
В ряде случаев, наоборот, говоря о синто и синтоистских богах, особенно в кратких, популярных изданиях, западные исследователи просто пересказывают мифы, изложенные в «Кодзики» и «Нихон сёки», следуя послемэйдзийской традиции, декларировавшей важное значение двух этих сводов, однако пересказанные мифы, в свою очередь, оказываются почти не связаны с реальной обрядовой практикой, храмовыми установлениями и сложными местными верованиями, вдобавок в разные эпохи приобретавшими то буддийскую, то даосскую, то христианскую окраску.
Итак, ни «Кодзики», ни «Нихон сёки», по всей видимости, не стали в Японии сакральным центром культуры, вроде Библии, Торы, Корана или буддийских сутр в соответствующих культурных ареалах, не приобрели они также и безусловной авторитетности писаний Конфуция или легендарного Лао-цзы. Отдельные мифологические сюжеты «Кодзики» и «Нихон сёки» были, разумеется, задействованы активно и в полной мере — как, в частности, сюжет о происхождении императорской семьи, культ Аматэрасу и т. п. Разумеется, в некотором слое культуры всегда располагался в качестве главного этот генеалогический миф о происхождении правящего рода, однако утверждение императора в качестве живого бога было наиболее значимым, как представляется, в самые ранние и в новейший периоды японской истории, в условиях же долгого сёгуната рассуждения японских книжников на эту тему носили схоластический характер. За императором были сохранены его функции в религиозной и эстетической сфере, а также от него требовались ратификации существующего положения в управлении страной, от какового занятия сам «потомок Неба» был практически отстранен. Остальные же мифы или почти не использовались в реальной храмовой практике, или их использование, в сильно сокращенном и трансформированном виде, началось, по-видимому, в период позднего средневековья и перехода к Новому времени, то есть в период сознательного «возрождения исконного синтоизма».
«Нихон сёки»
— культурный полицентризм и выбор культуры
25
Таким образом, получается, что японцы не могут быть названы, скажем, подобно древним иудеям, народом Книги.15 Но этот факт представляется вполне объяснимым. Вероятно, сильный сакральный центр и не может быть характерен для японского типа культуры с весьма расплывчатой границей сакрального и профанного, где множество культов, разнородных по происхождению и функциям, создают принципиальный культурный полицентризм.
Этот полицентризм поддержан был и географически — в сущности, Япония — страна, отнюдь не такая уж маленькая, она весьма разнообразна по климату и ландшафту, притом многочисленные горы и горные гряды с самого начала способствовали созданию в большой мере изолированных друг от друга культурных подгрупп, которые осмыслялись как своеобразные культурные автономии несмотря на возникшую достаточно рано сеть коммуникаций. Затем, в эпоху так называемых «воюющих династий», когда страна была разделена на военные кланы, усиленно оборонявшиеся и закрывавшиеся друг от друга, иногда даже ведшие каждый свой внутренний календарь, существовавший полицентризм приобрел историческое наполнение. И до нынешних дней в Японии сохраняются различия по традиционным типам хозяйственной деятельности и художественных ремесел, фольклорным жанрам, диалектам и говорам, традиционной диете и кухне и даже по общепринятым психологическим характеристикам обитателей той или иной местности.16
Помимо полицентричности культуры в целом, стоит учесть еще один фактор, возможно, помешавший этим двум мифологическим сводам сыграть роль главных книг культуры. Запись священных текстов была произведена на иностранном языке, и если применительно к буддийским сутрам, заимствованным из Китая и написанным по-китайски, эффект непонятности только усиливал действие новой могущественной веры, то местные культы все же всегда существовали на японском языке соответствующего периода, и таким образом, в их центре оказывалось звучащее японское слово с его котодама, «душой слова».17 Место, которое могли бы заполнить «Кодзики» и «Нихон сёки», оказалось поэтому занято первой антологией песен «Манъёхю:», составленной во второй половине того же VIII века, в которой «душа слова» котодама, представленная примерно четырьмя с половиной тысячами песен, стала в самом деле культурообразующим фактором. И самураи позднего средневековья перед совершением ритуального самоубийства
26
Л. М. Ермакова
харакири слагали пятистишия по подобию танка «Манъёхю:», а не гимны в духе священной истории по «Кодзики» или «Нихон сёки». Текст же сутры, заведомо более священный, чем мифологический свод, переписываемый золотыми иероглифами на ценнейшей бумаге, тоже оказывался не объектом благоговейного чтения, ввиду полной непонятности написанного, а, скорее, сакральной вещью, наделенной магическими возможностями. Отсюда, как представляется, и сдвиг центра тяжести культуры из доктринальной сферы — в эстетическую, а также перераспределение этой тяжести по разным религиозным и культовым сферам.
Кроме того, хочется высказать еще одно соображение. Синтот буддийский симбиоз (что бы ни входило в конкретно-историческое понятие синто), разумеется, факт доказанный и неоспоримый, реально существовавший на протяжении чуть ли не всей японской истории от Хэйана до Мэйдзи. Однако при этом все же, как представляется, это был именно симбиоз, а не полное поглощение буддизмом местных культов, верований и обрядов. Трудно было бы, вероятно, при виде кентавра утверждать с научной достоверностью, где кончается человек и начинается конь, но всегда можно сказать, что вот это — голова человека, а это — конский хвост. Другими словами, эта невидимость и мнимость синто, провозглашаемая многими нынешними учеными, представляется сильно преувеличенной.18
Приведем в качестве аргумента цитату из указа императрицы Сётоку, произнесенного ею в 756 г. перед проведением ритуала Дайдзёсай — то есть перед главным ритуалом при вступлении на трон: «Ныне возглашаю: сегодня день, когда с пышным румянцем на лице вкушают пиршество первого урожая. Однако же, нынешний раз от всех отличен, потому что стали мы послушницей Будды и приняли завет Босацу. Посему прежде всего мы хотим служить Трем Сокровищам [то есть Будде, Дхарме и сангхе — буддийской общине], затем почитать богов в храмах небесных и храмах земных [то есть совершать обряды местным божествам], затем жалеть и ласкать служащих нам принцев, вельмож, ста управ чиновников и весь народ Поднебесной. Вот так думаем мы править Поднебесной. <...> И еще возглашаю: думают люди, что с богами соприкасаться можно, только если Трех Сокровищ избегаешь. Однако если посмотреть в сутре, то окажется, что все божества священный закон Будды оберегали и чтили. Посему и те, кто дом покинул (принявшие буддийский обет), и "белые шелка" (миряне) вперемешку служить на празднестве могут —
«Нихон сёки»
— культурный полицентризм и выбор культуры
27
так мы мыслим. И без очищения, словно очищение уже пройдено, великий урожай новый вкушайте. И реченному повелению великому все внимайте — так возглашаю».19
Из приведенного фрагмента со всей определенностью видно, что, по крайней мере в VII—X веках, обряды богам Неба и Земли существовали обособленно от буддийских служб, и требовались специальные декреты, чтобы снять, хотя бы на время инаугурации, эти различия.
Из уложения X века «Энгисики» известны запреты для участников синтоистских обрядов на контакты с буддийским духовенством, участие в буддийских службах; из средневековых записей ритуалов при храмах Исэ мы знаем, что жрице Аматэрасу было запрещено прямое называние буддийских реалий. В случае необходимости обозначить их использовались эвфемизмы, такие, например: Будду называть накаго (средний ребенок), сутры — сомэками (крашеная бумага), могилу — арараги (название растения), буддийский храм — каварабуки (черепичный настил крыши), буддийского монаха — каминага (длинноволосый — видимо, от противного), буддийскую монахиню — мэ-каминага (длинноволосая), ритуал очищения после контакта с чем-либо буддийским — катасики.
Столь определенное разграничение двух типов религиозных ритуалов, буддийского и, условно говоря, синтоистского, на наш взгляд, позволяет говорить о несомненном наличии в культуре того времени по меньшей мере двух мировоззренческих, концептуальных и религиозных систем, какой бы зыбкой и текучей ни оказалась эта вторая.
Итак, употребляя здесь термин синто, мы не подразумеваем нечто доктринально определенное, существовавшее в более или менее постоянном виде от древности и поныне, и тем более синтоизм Нового времени и XX века. Словом синто будет условно именоваться совокупность верований, реконструируемых по письменным памятникам периода Нара и ряду других источников предшествующего периода, и отличающаяся по набору богов и принципиальному характеру от буддийской мифологии, независимо от того, могут ли эти боги и мифологические мотивы, в конечном счете, быть возведены к даосизму, китайской мифологии, практике Инь-Ян, номадическим культам Восточной Азии и т. п.
По классическому определению, данному Мотоори Норинага синтоистским богам ками, «это прежде всего боги Неба-Земли и их
28
Л. М. Ермакова
души [яп. митама], почитаемые в храмах, а также человеческие существа, птицы и животные, деревья и растения, моря и горы, имеющие особую силу и закономерно становящиеся объектом поклонения. В понятие ками включаются не только те таинственные существа, что добры и благодетельны, но и злые духи, которые имеют особую природу и достойны почитания».
В настоящее время среди японских исследователей считается, что в древний период, о котором здесь идет речь, благих богов не было, все боги были в некотором смысле злыми, от всех можно было в любой момент ждать татары — порчи, бедствий, зла, и именно поэтому проводились обряды их умилостивления. Однако представляется более целесообразным считать, что боги эти не были носителями этики и морали в христианском смысле слова, — причиняя вред, они тем самым подавали людям знак о своем существовании или о своей воле и устанавливали таким образом канал связи с ними (приказав воздвигнуть святилище, назначить определенного человека жрецом, принести такие-то дары и пр.).
Мифологическая история установления таких контактов дана в разных свитках «Нихон сёки», например: «"Думалось ли, что в мой век [правления] неожиданно начнутся столь многие бедствия? Уж не в том ли дело, что при моем дворе благие меры не принимаются, и боги Неба, боги Земли винят меня? Может быть, надо узнать о причине бедствий у священной черепахи?" — так рек [государь Суйнин]. Соизволил тогда государь отправиться в Каму-асади-пара, созвал восемь десятков мириад богов и предпринял гадание. И вот некое божество, вселившись в Ямато-тотопи-момосо-бимэ-но микото, рекло такие слова: "Зачем, государь, горюешь ты, что Поднебесная не управляется? Если будешь служить мне ритуалы надлежащим образом, все успокоится само собой". Спрашивает государь: "Что это за бог говорит?" Ему в ответ: "Я — бог, пребывающий на границе страны Ямато, имя мне — Опо-моно-нуси-но ками"». Или: «Весной 9-го года, в день Цутиноэ-но тора 3-го месяца, когда новолуние пришлось на день Киноэ-но нэ, государь увидел во сне человека, [обликом похожего на] бога, который так государя наставил: "Возьми восемь красных щитов и восемь красных копий и соверши ритуалы в честь бога Сумисака-но ками. Еще возьми восемь черных щитов и восемь черных копий и соверши ритуалы в честь бога Опо-сака-но ками", — так рек».
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 29
Однако не следует думать, что все японские божества, духи и души именовались ками — титулатура богов включает также понятие микото (господин), тама (душа), моно (дух), тути и ми (что иногда не очень понятно переводится в западной литературе как «анимистические духи») и иту (духи, наделенные магическими возможностями).21 Предполагается, что ками были выбраны из этих разновидностей сверхъестественных созданий, упорядочены и назначены ведать остальными как более низшими в иерархии: например, ками какой-либо горы стало верховным для духов растений, животных, и прочих божеств данной местности. Затем ками получили имена и стали родовыми божествами для обитателей той же местности.22 Отчасти эта структура воспроизводится и теперь — удзико («дети рода», относящиеся к данному храму), как правило, люди, живущие на прилегающей к храму территории, независимо от почитаемого там божества.
Скажем кстати несколько слов о храмах как таковых. Священным пространством в древней Японии, как и во многих других ареалах, служило большое дерево (хылюрогы, др. яп. пимороки), груда камней, уложенных в определенном порядке (ивасака, др. яп. ипасака), срезанные и воткнутые в землю деревья, образующие квадрат (и тоже именуемые химороги). Священное пространство обносилось веревкой (симэнава), украшалось тканями, мечами, зеркалами и т. п. Позже священные предметы стали играть роль так называемого синтай («тело божества»), которое обычно держали в шкатулках или завернутыми во многослойное полотно, и никто, включая священнослужителей, не имел права видеть их, и запрет этот строго соблюдается и поныне.23
Относительно существования храмов в периоды Кофун и Яёи, образующих совокупность синтоистских религиозных центров, мнения историков расходятся. Общепринята точка зрения, что в курганный период формируется понятие священного пространства, однако храмовая архитектура появляется позже и под влиянием материковых заимствований.
Доказательством того, что до материковых влияний храмы в Японии не строились, обычно служит пример с горой Мива. Храм у подножия г°ры, построенный в новое время, не содержит помещения для синтай, телом божества считается сама гора, что, как предполагается, представляет собой реликт древнего состояния культов, обходившихся без возведения храмов. (Есть, тем не менее, группа археологов,
30
Л. М. Ермакова
усматривающих следы архаической храмовой архитектуры в материалах современных раскопок, относящихся к курганному периоду, однако эта, новая точка зрения пока представляется недостаточно подкрепленной доказательствами.)
Скажем немного и о храмовой архитектуре как таковой. Она подразделяется на несколько типов, в зависимости от строения нижней части, крыши и формы конька. По-видимому, достаточно ранним типом можно считать свайную постройку, предназначенную под амбар, пол которого приподнят над землей на несколько метров — для защиты от мышей и влаги. Вход в храм, границу храмового пространства обозначают священные ворота тории (в случае с храмом Мива они стоят не перед храмом, а у подъема на гору). Постройка, где помещается тело божества (синдэн, «павильон бога»), обычно располагается так, что от главных тории он не просматривается насквозь, чтобы дойти до него, надо сделать несколько поворотов, что историк Окада Сэйдзи, например, объясняет идеей невидимости, неявленности синтоистских божеств (как говорится в «Кодзики», тела первых явившихся богов «были сокрыты», правда, в «Нихон сёки» эта характеристика отсутствует).
Ориентация храмов по отношению к поселению, по-видимому, была однозначно связана с заимствованной из Китая геомантией и магическими представлениями, навеянными буддийской мыслью.
Как предполагает, например, Хигути Тадахико, место для поселения и учреждения храма выбиралось на основе двух идеальных пре дставлени й.24
Первое — это идеальная страна между гор, тип Ямато. (Оригути Синобу, японский литератор и этнограф, предполагал, что первоначальное значение слова я.иато — ворота, вход в горы, в священную лощину между священными горами.) Такая обширная равнина, укрытая горами, как раз и была выбрана и воспета как местоположение двух древних столиц — Нара (Хэйдзё-кё) и Киото (Хэйан-кё). Открытое пространство считалось опасным с разных точек зрения. В сущности, до наступления Нового времени японцы избегали селиться на равнинах, где сливаются реки.
Типичный ландшафт, окружавший поселение того времени, представлял собой, пишет Хигути Т., такую картину. Сзади (то есть с севера поселения) располагалась гора, по бокам холмы, или горы поменьше, впереди же находилось открытое пространство (часто
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 31
вода — река, море, ср. расположение основных японских портов древности).
По мнению исследователя, из всех прочих типов пейзажа в древней провинции Ямато этому типу более всего был близок ландшафт Нара. Такая композиция ландшафта идеально увязывалась с китайской идеей о том, что император располагается на севере и видит всех подданных к югу от него. В соответствии с китайскими геомантическими представлениями, четырем направлениям стран света соответствовали животные-охранители: восток — зеленый дракон, юг — алая птица, запад — белый тигр, север — черная черепаха-змея. Дома для живых и гробницы для мертвых полагалось строить с учетом этого строения космоса, чтобы энергия {ии) улавливалась землей и не рассеивалась ветром, тогда ее возможно будет передать потомкам.
Часто поселение располагалось у подножия большой горы, рядом с горой поменьше. Эта маленькая представляла собой, по мнению Хигути, иной тип священной горы, чем большая. Маленькая была расположенным близ общины местом культов, чистым и священным пространством с рощей деревьев, где обитали боги, кроме того, по сравнению с большой горой, она была обозрима для обитателей поселения. Такая гора тоже, естественно, находилась на севере, и была для села своего рода священным задником. Кумирни богам нередко ставились у подъема на такую меньшую, поросшую деревьями гору. Часто также храмов воздвигалось два — один у подножия горы, другой на вершине.
В настоящее время каждый храм располагает текстом так называемого юисё, предания о происхождении храма и мифологической истории почитаемого божества, однако происхождение этих текстов, за рядом редких исключений, чаще всего позднее — тот же самый период Мэйдзи, время декретированного разделения буддизма и синтоизма, то есть время формирования синто XX века. Однако, разумеется, в большинстве случаев эти юисё, хоть и новы, но не безосновательны — в некоторых прослеживаются следы реальной истории храма и его ритуалов, и, благодаря усилиям синтоистских идеологов времен Мэйдзи, эта история задним числом приведена в более строгое соответствие с мифами «Кодзики» и «Нихон сёки». В некотором смысле, это соответствие в ряде храмов, ныне, может быть, более точное, чем, скажем, в период Эдо, поскольку основным источником для конструирования мэйдзийского синтоизма служили прежде всего эти два мифологических памятника.
32
Л. М. Ермакова
Рассмотрим, в самом общем виде, непосредственно содержащиеся в «Нихон сёки» мифы, рассказывающие о японских божествах Неба-Земли — ками.
Японские мифы, то есть мифы «Кодзики» и «Нихон сёки», излагающие мифологическую и земную историю Японии, принято делить на три основные группы или линии — линия богов Равнины Высокого Неба, линия мифов о схождении на землю Ниниги-но микото, внука Небесных богов, основавшего династию японских владык, и линия мифов Идзумо.
В предисловии к изданию второго и третьего свитков «Кодзики» нам уже доводилось писать о возможных сходствах и параллелях мифологий этих трех групп, в частности, о трех культурно-мифологических зонах — центральном Хонсю, Идзумо и юго-восточной части Кюсю. В давней работе известного японского этнографа Мацумото Нобухиро главные отличия между этими тремя циклами усматриваются в том, что для Ямато приоритетным был культ божества Солнца, на Кюсю преобладающими были племена, чья деятельность и круг верований по преимуществу были связаны с морем, а для Идзумо характерен культ водных божеств и божеств грома.
С другой стороны, известные японские этнографы Ока Macao и Ообаяси Таре полагают, что точнее будет делить японские мифы даже не на три, а на четыре цикла. Первый, повествующий о разделении Неба-Земли, имеет, по их мнению, параллели в мифах Центрального и Южного Китая, Южной и Восточной Азии, Полинезии. Второй, связанный с событиями на Равнине Высокого Неба, обители богов, — обнаруживает сходство с культами Неба (Тэнгри) в корейских и монгольских верованиях. Третий, повествующий о местности Пимука (Химука) на Кюсю, куда спустился с Неба легендарный первопредок земных императоров, в том или ином виде смыкается, по мнению этих исследователей, с верованиями Индонезии и Юго-Восточной Азии. По поводу этого, третьего цикла разного рода соображений высказывается немало — в частности, в настоящее время многие авторы отстаивают корейскую версию происхождения сюжета о схождении Ниниги (подробнее об этом см. наши комментарии ко 2-му свитку). Четвертый, цикл мифов области Идзумо, имеет параллели в мифах Центрального и Южного Китая и Юго-Восточной Азии.
По мнению Мацумото Нобухиро, сюжет о браке демиургов Изанаки-Изанами сходствует с фольклорными мотивами Юго-Восточной Азии,
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 33
2 3ак. 3015 т. I
рождение ими островов, смерть Изанами и ее уход в страну мертвых — с полинезийскими сюжетами. Ссора Аматэрасу с Сусаново и ее сокрытие в пещере — со сказками южно-китайского племени мяо.
Такого рода соображений можно было бы привести немало. К сожалению, на основании таких гипотез трудно судить достоверно, пришли ли на Острова носители этих сюжетов, или сюжеты оказались просто занесены, откуда они явились и когда это произошло.
Авторитетнейший исследователь японской мифологии Мисина Сёэй25 различает три разные стадии изменений в состоянии мифологических воззрений древних японцев. Первая — период Яёи (около 200 г. до н. э.—250 г. н. э.) — эпоха совершения обрядов, лишенных политического аспекта и сопровождаемых магическими действиями. Вторая относится к 250—500 гг. н. э. периода Кофун и характеризуется мифами, сфокусированными на ритуалах урожая и земного плодородия. В это время власть двора Ямато распространяется на все более обширные территории, и мифы начинают отражать подчинение местных вождей центральному. На третьей стадии, по Мисина, в мифах начинают преобладать политические тона, и в это время, то есть в VI—VII веках, происходит их письменная регистрация.
Разумеется, помимо теории Мисина есть и другие, в частности, гипотеза Мацумаэ Такэси, который восстанавливает историю синто как переход от анимистических форм природных культов к их антропоморфизации, учреждению специальных мест поклонения и отбору группы анимистических духов в качестве родовых божеств местных кланов. Затем, в VII—VIII веках, происходит оформление части этих верований и ритуалов в рамках государственного строительства и под влиянием заимствованных религиозных концепций. Таким образом, практически с самого начала, по мнению Мацумаэ, возникают два разных, но постоянно взаимодействующих течения — локальный прихрамовый синтоизм и государственный синтоизм, связанный с культом центрального вождя раннего государства (то есть верховного правителя, получившего титул тэнно).26
При всей разноречивости и разнонаправленное™ теорий, трактующих мифы «Кодзики» и «Нихон сёки», эти теории, как правило, исходят из постулата о существовании некоей, пусть нестройной, но единичной совокупности мифов, отраженных в «Кодзики» и «Нихон сёки», и разные версии, представленные в этих двух сводах, рассматривают именно как версии одного и того же мифологического сюжета,
34
Л. М. Ермакова
расходящиеся по причине закономерной вариативности фольклорных текстов, восходящих, тем не менее, к единому мифологическому образу. Эта интерпретация продолжает линию, начатую японским историком-новатором Цуда Сокити.27
Сейчас, однако, появляются и другие точки зрения на этот предмет. В частности, Кооноси Такамицу, представитель новейшего течения среди исследователей сводов, предполагает наличие двух разных идеолого-мифологических систем, к которым, соответственно, восходят два эти свода.28 С его точки зрения, общепринятое выражение «мифы "Кодзики» и "Нихон сёки"» — абсурд, не имеющий под собой никаких оснований. Он пишет: «Уровень, на котором произведение существует как целостное образование, это не совокупность эпизодов, а тот уровень, на котором возникает его структура и логика... Так, применительно к «Нихон сёки» средоточие всех вопросов — космология Инь-Ян, для «Кодзики», как показал в своей работе 1972 г. "Археологические слои исторического сознания» Маруяма Macao, — это космология типа мусухи. Здесь миром движут боги, представляющие начало мусухи, то есть энергию как таковую. И только когда мы выйдем на тот уровень памятников, где обретается эта космология, или, иначе говоря, ведущий тип сознания или способ видеть мир в целом, только тогда мы действительно получим доступ к этим двум текстам».
Другими словами, по мнению Кооноси, «Кодзики» и «Нихон сёки» надо рассматривать не как два текста одного и того же мифа, а как два принципиально разных текста. При этом, надо сказать, пишет Коноси, что «Кодзики» изучено и рассмотрено многократно и с разных сторон, «Нихон сёки» же исследовано довольно мало. Есть работы, трактующие мифы этих двух памятников, много исследований по политической истории того времени, восстанавливаемой по «Нихон сёки», однако при этом «Нихон сёки» часто считается противоречивым, лишенным единства, «незрелым» текстом.
Ряд расхождений между «Кодзики» и «Нихон сёки» представляются фундаментальными, хотя и непонятными. Среди таких фундаментальных числится, например, тот факт, что в «Кодзики» первоимператора Ниниги отправляет с неба на землю богиня Аматэрасу, а в «Нихон сёки» (в основной версии) — Таками-мусупи, Аматэрасу же словно и не существует, кроме того, в «Кодзики» центральное место занимает понятие обители богов, Равнины Высокого Неба (Такама-но хара, Такама-но пара), а в «Нихон сёки» (речь снова идет об основных
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 35
версиях) это понятие почти не упоминается. А между тем это смысловой и идеологический центр японской мифологии, ибо речь идет о мифе о схождении на землю внука богов, прародителя императорского рода.
Упоминавшийся ранее Мисина Сёэй29 выдвинул в 70-е годы теорию о том, что «Нихон сёки» было написано раньше, чем «Кодзики», и именно «Кодзики» представляет собой обдуманный и зрелый плод новой идеологии двора Ямато. Сходным образом объясняет расхождения «Кодзики» и «Нихон сёки» Окада Сэйдзи.30 По интерпретации последнего, «Нихон сёки» представляет собой шаг назад по сравнению с новой мыслью «Кодзики».
Выступая против этих теорий в духе исторической эволюции, Кооноси пишет, что манера писать исследования типа «мифы "Кодзики" и "Нихон сёки"» в конечном счете заводит в тупик и не дает результатов ни по «Кодзики», ни по «Нихон сёки». С точки зрения этого автора, рассматривая эти два текста по отдельности и лишь потом сопоставляя, можно увидеть в них гораздо больше.
Отправной точкой для него служит фиксируемая им разность космологии. Принцип инь-ян, заимствованный из Китая, считает он, становится в «Нихон сёки» космологическим началом, посредством которого излагается все сущее. Этот принцип воплощают Иэанаки-Изанами, породившие весь мир, вплоть до богов Солнца и Луны, поэтому естественно, что понятие Равнины Высокого Неба оказывается ненужным. При этом, в отличие от «Кодзики», где Изанами, родив бога огня, умирает и отправляется в Страну Мрака, в «Нихон сёки» (в основной версии) Изанами вовсе не умирает, Страна Мрака в этом сюжете «Нихон сёки» не фигурирует, да и, как доказывает Кооноси в другой своей работе, в ней вовсе и не темно.31
Как пишет Кооноси, различия между «Кодзики» и «Нихон сёки» принято объяснять как стадиальные, или ссылаться на то, что «Нихон секи» предельно китаизированный текст, однако с его точки зрения миф об Изанаки-Изанами именно в «Нихон сёки» впервые обретает конкретное оформление и даже, решается сказать исследователь, впервые становится мифом — мифом о сотворении земли посредством Двух начал Инь-Ян, выраженных рождением сначала божеств мужского пола, затем становлением принципа инь-ян и появлением пары первопредков.
По Кооноси, «Кодзики» и «Нихон сёки» находятся в отношениях взаимодополнительности и в сфере языка записи. Фиксирование знаками
36
Л. М. Ермакова
собственной мифологической истории означало поиск и утверждение самоидентичности, которая на уровне письма находилась в то время между китайским и японским язьжами. Отсюда — запись «Кодзики» по-китайски, но таким китайским языком, который легко конвертируется в японское прочтение и, по мнению многих, в случае «Кодзики» для того и предназначен. «Нихон сёки» же записано на так называемом «чистом камбуне», однако, в свете этой точки зрения, становится понятно, пишет Кооноси, почему чуть ли не с первого дня существования «Нихон сёки» непременным требованием было прочтение его на японский лад.32
Таким образом, в настоящее время есть две методики интерпретации мифов «Нихон сёки» — как один из вариантов мифологической истории, наряду с «Кодзики» восходящий к «протомифу», или же как более или менее самостоятельный мифологический мир.
Теория Кооноси в принципе представляется вполне приемлемой, во всяком случае, такое прочтение открывает ряд новых возможностей для исследования.
Еще один способ исследования «Кодзики» и «Нихон сёки» представлен в достаточно авторитетной ныне теории, выдвинутой известными японскими историками древности. Как уже говорилось, японские мифы принято делить на три основные группы — линия богов Равнины Высокого Неба, группа мифов о схождении на землю в области Кюсю первопредка императора Ниниги-но микото и линия богов Идзумо. Так вот, по мнению Окада Сэйдзи и Мацумаэ Такэси две первых представляют собой обрядовые мифы, отражающие принятые при дворе Ямато ритуалы. Ритуалы же эти, в свою очередь, были впоследствии определены в кодексах «Ёрорё» и «Энгисики». В трудах этих историков установлены следующие соответствия: 1) миф о порождении островов первопредками-сиблингами Изанаки-Иэана-ми — обряд Восьми Великих Островов (Ясосима-но мацури), то есть ритуал, по-видимому, предшествовавший Празднику Великого вкушения урожая (Оониэ-но мацури) и составлявший стержень церемонии возведения на трон; 2) миф о порождении той же первопарой бога огня, завершающий процесс порождения богов, — обряд усмирения огня (Хи-сидзумэ-но мацури); 3) омовение Изанаки на побережье — обряд пиров на дорогах (Митиаэ-но мацури); 4) эпизод, связанный с пребыванием Аматэрасу в ткацкой зале, предшествующий ее сокрытию в Небесной пещере — обряд ткания одежд для богов (Каму-мисо-но
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 37
мацури) при храме Исэ; 5) миф о затворении Аматэрасу в Небесной пешере — ритуал переноса храмов Исэ через определенные промежутки времени с места на место; 6) танец Амэ-но удзумэ — ритуал усмирения души [императора] (Тама-сидзумэ-но мацури); 7) изгнание Сусаново с Равнины Великого Неба — ритуал Великого изгнания скверны (Оохараи); 8) схождение Небесного внука Ниниги с неба на землю — предварительный ритуал возведения на трон в связи с началом нового года; 9) повествование о посещении дворца морского царя из мифов Кюсю — обряд подношения богам и вкушения плодов нового урожая (Ниинамэ-но мацури) и ежемесячные ночные обряды угощения богов.
В соответствии с этой теорией, мифы «Кодзики» и «Нихон сёки» представляют собой символическое истолкование происхождения обряда, или же его содержания, его религиозного смысла, а также запись исполняемых при этом песен и описание танцев и т. п. При этом, пишут они, основное содержание памятников составляют обряды, вошедшие в утвержденный в начале VIII века кодекс «Тайхо рицурё». Примечательно в связи с этим, что в этой теории подыскивается объяснение и большому количеству приводимых в «Нихон сёки» разноречивых версий — они, как утверждают эти исследователи, отражают обряды, не вошедшие в кодекс, но принятые при дворе до установления новых порядков.33
Итак, подведем черту под этим обзором общих гипотез и теорий, который, разумеется, не отражает и половины существующих. Все они настолько различаются по исходным посылкам и конечным выводам, что их трудно собрать в единый образ текста «Нихон сёки», но, думается, такой шаг был бы принципиально ошибочен — разноречивость гипотез как раз и отражает меру нашей нынешней способности интерпретации этого многослойного текста.
И, разумеется, если столько теорий построено по поводу памятника в целом, то уж по поводу каждого отдельного божества, мифологического мотива и сюжета, их связи и композиции существует еще больше различных предположений. Отметим лишь некоторые в качестве примера многосложности, многослойности и разновременности слоев мифологических понятий.
Аматэрасу, например, как признано всеми, стала верховным божеством лишь в период оформления пантеона. Некоторые считают ее божеством солярного культа, другие — жрицей-шаманкой при божестве солярного культа мужского пола (по какой-то причине
38
Л. М. Ермакова
выпавшем из культуры вместе с именем), третьи — матерью-первопредком рода переселенцев с материка, возглавивших раннее | государство Ямато, есть, наконец, точка зрения, что слово аматэрасу, «освещать небо», не имеет отношения к солярному культу, а представляет собой почтительный титул с общим значением «великий», постоянный эпитет к имени бога, которое было по тем или иным причинам утрачено, а этот эпитет стал именем. Добавим к этому, что в китайской хронике «Сань у ли цзи» содержится сюжет о рождении солярного и лунарного божеств из глаз Пань-гу, а в одной из версий японского сюжета Аматэрасу рождается из левого глаза Изанаки, а Тукуёми, божество Луны, — из правого, и стало быть, этот миф тоже можно связать с китайским влиянием.
Императрицу Дзингу также многие трактуют как жрицу при боге военных морских походов Сумиёси, обычно сопровождавшую войска правителя. В другой части повествования о Дзингу, от рождения ею Помута-вакэ (будущего правителя 0:дзин) до вступления на престол, миф этот трактуется как предание о божествах матери и сыне, первопредках правящего рода, пришедших на берег из краев по ту сторону моря. Та же Дзингу нередко отождествляется с Пимико (в современном произношении Химико), легендарной правительницей-шаманкой, отраженной в древнекитайской летописи «Вэйчжи».
Что же касается первоимператора Дзимму, то долгое время считалось, что военный поход Дзимму на восток, с Кюсю в Ямато, отражает реальную историю формирования государства Ямато, и первоначально род будущего объединителя Японии в самом деле высадился на Кюсю, откуда перебрался на Хонсю, в Кинай. В рамках этой точки зрения предполагалось, что правительница Химико и легендарное царство Яматай изначально были на Кюсю, и это Дзимму перенес Яматай в Кинки.
Цуда Сокити возражал против этой точки зрения, утверждая, что Кюсю привлечено в этот сюжет под влиянием мифа о схождении бога-первопредка императорского рода Ниниги с неба на землю именно в районе Кюсю. По Цуда, этот военный поход — чистая выдумку, не отражающая никаких исторических фактов.
После Второй мировой войны, на волне антинационалистических, антимифологических настроений многие исследователи мифа стали видеть в фигуре Дзимму отражение деяний более поздних, более исторических японских владык — Су:дзин, 0:дзин, Кэйтай, Тэмму и
«Нихон сёки»
— культурный полицентризм и выбор культуры
39
др., воспринимая его как искусственную, сочиненную персону, состоящую из элементов поздних свитков «Нихон сёки». Делаются также интересные попытки связать с помощью предания о походе Дзимму археологические данные о культуре Яёи на Кюсю и культуре курганов Кофун в Кинки.
Следующий пример, о котором хотелось бы упомянуть, связан с преданиями Идзумо. Они представляют иной мифологический мир с иным типом космологии, где творение страны происходит не путем порождения парой первопредков (как в мифах группы богов Равнины Высокого Неба) и не путем завоевания разных областей (как в мифах о схождении с неба Ниниги), а путем так называемого притягивания земель (кунихики), о чем говорится в «Идзумо-фудоки». Мифами Идзумо обычно именуются мифы «Кодзики» и «Нихон сёки», связанные с областью Идзумо и ее главным божеством Оонамути (Опо-ана-мути), однако наиболее принятая в настоящее время точка зрения состоит в том, что эти мифы вовсе не местные предания, имевшие в то время хождение среди обитателей Идзумо, а результат мифотворчества составителей двух официальных сводов. Соответственно, мифологический образ Оонамути, данный в «Нихон сёки», был составлен из богов, почитаемых в разных прилегающих областях (отсюда и большое количество вариантов имен Оонамути) — поскольку задачей обоих памятников было утверждение легитимности правителя Ямато и его притязаний на территорию Идзумо, ему были приданы мотивы и характеристики других персонажей. По мнению цитированного выше Окада Сэйдзи, мифы «Кодзики» и «Нихон сёки», посвященные Идзумо, отражают исторический факт — что Оонамути был верховным божеством племени, владевшим большей частью территории Хонсю, он в лице своего жреца (или же предполагаемого вождя племени) уступил власть нагрянувшим воинственным племенам во главе с тэнсон («небесным внуком»), оставив за собой область Идзумо. Аналогичным образом, изображение деяний Сусаново в Идзумо как культурного героя также представляет собой попытку составителей свода связать между собой предания Идзумо и Ямато в единую мифологическую историю. Наряду с этим существует, впрочем, и принятая ранее точка 3Рения, согласно которой речь шла не обо всей Японии того времени, а только об области Идзумо, верховный жрец которой по собственной воле передал право на управление своей землей владыке Ямато (кУНиюдзури, миф об «уступке страны»).
40
Л. М. Ермакова
Приведенные точки зрения представляют собой интересные, и при этом не безосновательные догадки. Однако в настоящее время появляется немало и сенсационных гипотез — таковы, например, выдвинутые предположения, что Японские острова вместе с Корейским полуостровом образовывали единое государство с ваном страны Пэкче во главе, и «Нихон сёки» представляет собой нечто вроде «декларации независимости»; что Химико — это и есть Аматэрасу; что Аматэрасу — это Аматэру, бог-предок рода правителя Судзин, и до этого правителя никакой Аматэрасу не было; что Сога Умако и Сётоку-тайси — один и тот же персонаж; что в образе Сусаново мифологическими средствами отражен политический образ Сога Умако; что на самом деле область Идзумо никто никому не уступал, и миф об «уступке» навеян кровопролитным путчем и поражением того же Умако в 645 г., и тому подобное. Упомянутые в этом абзаце гипотезы, пожалуй, больше говорят о росте популярности загадок древнеяпонской истории в современном обществе, чем приближают к их разгадке. Все же, при всей очевидной несостоятельности некоторых из них тем не менее трудно их аргументированно опровергнуть.
Итак, вместо отчетливой картины мы скорее видим неясные множащиеся силуэты, но, надо думать, таков и есть мифологический
34
мир «на самом деле», во всяком случае, в его нынешнем прочтении.
ПЕСЕННО-ФОЛЬКЛОРНАЯ ЧАСТЬ «НИХОН СЁКИ»
Сами по себе песни (каё) «Нихон сёки» представляют немалые трудности для интерпретации и поэтологического анализа (а многие и для понимания хотя бы самого поверхностного смысла), однако не меньшую проблему составляют отношения между песней и тем сюжетом, в котором она появляется в памятнике.
Прежде эти песни было принято изучать как древнюю разновидность фольклора, и на этом пути были достигнуты определенные успехи. Принципиально новый подход к проблеме предложил в конце 50-х годов Цутихаси Ютака, выдвинувший концепцию «самостоятельных песен». В сущности, на частое несоответствие песни нарративу обратили внимание еще ученые Национальной науки. Цутихаси же разбил все песни «Кодзики», «Нихон сёки» и «Фудоки» на «повествовательные», то есть согласованные с сюжетом, и «самостоятельные», из сюжета выпадающие. Благодаря этому, удалось и более точно классифицировать песни, сделать ряд предположений об их атрибутике по древним родам и т. п.
«Нихон сёки» —
культурным полицентризм и выбор культуры
41
Однако в 70-е годы и особенно в последнее время теория Цутихаси все чаще подвергается критике, дополняется и корректируется. Иную позицию занимает, например, цитировавшийся выше Кооноси Такамицу (с которым солидаризируется ряд других исследователей), который в противовес теории «повествовательной песни» Цутихаси выдвинул теорию «песенного повествования». Согласно этой теории, именно процесс записи, письменного оформления сводов и привел к сращению песен с повествовательными сюжетами и возникновению нового, уже чисто литературного результата.35
На слабые места в этой точке зрения Кооноси, равно как и в концепции Цутихаси Ютака, указывает, например, Масимо Ацуси, исследователь ритуальных текстов древности и современных обрядовых песнопений, еще сохранившихся в деревнях Окинавы, островов Амами и Хатидзёдзима. Он пишет, что на основе разделения песен на повествовательные и независимые Цутихаси Ютака блестяще исследовал такие одиночные, независимые песни и их функционирование в обществе. «Однако, сосредоточившись на функциональной стороне песен, он оставил за пределами исследования фольклорность песен. Вне поля зрения исследователя оказалось то обстоятельство, что в устной традиции песня все же передавалась в рамках нарратива».36 То есть, по мнению Масимо, в мифологических сводах запись производилась блоком — повествововательный сюжет, содержавший песню, записывался примерно так, как он и имел хождение в устной традиции. Занимаясь фольклором и обрядовой практикой, сохранившейся на Окинава и Рюкю37, где, как предполагается, остались следы давних обрядов и культов, Масимо рассматривает фольклорные песни (каё) как слова богов, произносимые во время ритуала, или же магические тексты, ведущие к состоянию транса. По его мнению, песни большой протяженности служат целям вхождения в транс, короткие же рождаются в сознании жрицы, одержимой божеством, как отклик на Длинную песнь.38 В то же время, как утверждают шаманки-жрицы Окинава и Амами (информанты Масимо и других исследователей), Речи богов не всегда бывают ритмизованы, слова, рождающиеся в состоянии глубокого транса, — особые. Поэтому часто бывает так, что эти тексты, сначала нередко загадочные и непонятные, в процессе исполнения постепенно становятся длиннее и со временем начинают приобретать более эпический характер. Такие тексты потом произносятся во время обряда перед данным божеством, однако не могут быть
42
Л. М. Ермакова
воспроизведены точно в том виде, в каком получены от богов. Поскольку в трансе шаманка часто находится в бессознательном состоянии, произносимые ею слова предстают как символы или аллегории, что требует соответствующего истолкования. Отсюда рождается фигура вспомогательного интерпретатора при шамане. В народной среде обе функции иногда совмещены в лице шаманки, которая и в трансе сохраняет сознание, а через некоторое время после выхода из состояния одержимости разъясняет смысл сказанного богом в диалоге с доверенным лицом (по свидетельству Масимо, таково положение на нынешних островах Мияко).
По мнению исследователя средневековой прозы Фукуда Акира, именно из таких толкований речей богов и рождается сказовый жанр повествований сэцува. Основываясь на теории Оригути Синобу, Фукуда полагает, что первоначально и буддийские священные тексты рассматривались как разновидность таких речений божества, полученных в соответствующем трансе, соответственно, буддийские повествования также родились в процессе объяснений слов буддийского проповедника.
Например, в 23-м свитке «Нихон сёки» говорится, что буддийского монаха попросили растолковать сутру. По-видимому, совершалось это по аналогии с толкованием речей богов — так, в 19-м свитке «Нихон сёки» сановник Сога, рассказывая о бедствиях, постигших прежнего императора, сказал: «И тогда государь повелел Управе палаты богов Неба-Земли получить совет у божеств. Жрецы выслушали слова божества, которые гласили: "Если ты вознесешь молитвы божеству-основателю страны, а потом отправишься на помощь вану, находящемуся в опасности, то страна умиротворится, и народ обретет спокойствие». Государь последовал реченному совету, помог вану, и в стране наступило спокойствие. А что это был за бог? — был это бог-основатель страны, который спустился с Неба и выстроил государство в те времена, когда разделились Небо-Земля и когда травы и деревья умели разговаривать». Заключительная фраза Сога выдержана как раз в жанре толкований речей божества и содержит формулировки, встречающиеся как в мифах «Кодзики» и «Нихон сёки», так и в более поздних молитвословиях норито.
По мнению Масимо А., ближе всего к ритуальной функции толкователя речей божества был министр Такэути-но сукунэ, каким он предстает в сюжете «Кодзики» и «Нихон сёки» о смерти правителя Тю:ай, не внявшего прорицанию бога, вселившегося в его супругу
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 43
Дзингу. Находясь в «священном дворике», Такэути возносит моленья божеству, а потом расспрашивает его (то есть Дзингу) по поводу
40 у
непонятных мест в прорицании и получает подробные разъяснения.
Само понятие юнива (др. яп. юнипа) исследователь, отвергая традиционное прочтение, предлагает, в соответствии со значениями иероглифов, понимать как слово синсинся, «толкователь богов». Таким образом доказывается, что древняя обрядовая песня возникла вместе с особым повествованием, толкующим темные речения богов, отсюда, как полагает Масимо, различия в глаголах, обозначающих исполнение песни — «спел», «сложил», «произнес». Затем эта песня фиксировалась вместе с толкованием, а также именем исполнителя и обстоятельствами возникновения песни (имя божества, место получения его речений и проч.).41
В цитируемой статье Масимо ограничивается постулированием вышеизложенных положений, однако очевидно, что его схема, кроме того, объясняет возникновение и структуру так называемых ута-моногатари, «песенных повествований» классической литературы эпохи Хэйан, таких, в частности, как «Исэ-моногатари» и «Ямато-моногатари».
Все же, надо думать, к периоду составления мифологических памятников, были и другие категории песен, которые, в соответствии с теорией Кооноси и Цутихаси Ютака, попали в сюжет на рабочем этапе составления летописей, при этом в некоторых песнях, вероятно, ряд слов был изменен, в некоторых, при том же тексте, под влиянием сюжета изменился вкладываемый смысл. Некоторые же песни, по всей вероятности, уже были авторскими, квазилитературными,
Примечательной особенностью «Нихон сёки», отсутствующей в «Кодзики», считаются песни, сложенные «людьми того времени», и Даже в отдельных случаях «стихотворцами того времени», а также так называемые «песни детей» (до:ё.\ ваза-ута, кит. тунъяо). В таких песнях исследователи обычно усматривают речения богов, вселяющихся в Детей, или политические аллегории с критикой или одобрением правителя, как это имело место в Китае, откуда заимствованы эти жанры (конкретные объяснения к текстам песен см. в комментариях).
Таковы, в самом общем виде, существующие интерпретации роли и функции песен в «Нихон сёки», хотя за рамками настоящего предисловия оказывается еще множество проблем и теорий.
44
Л. М. Ермакова
«НИХОН СЁКИ» И ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РАННЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
По принятому до недавнего времени обыкновению, литературность как таковая обычно рассматривалась лишь применительно к «Кодзики», которое считалось произведением наиболее этнографически чистым, мифопоэтическим, отражающим древнейшие пласты культуры. «Нихон сёки» же, как говорилось выше, трактовалось как памятник исторический, идеологический, политический, к тому же написанный по-китайски, и исследователи-филологи, как правило, обращались преимущественно к песням, лишь в них находя поэтическое слово, и лишь из них черпали материал по истории древней словесности, толкуя песню в сочетании с непосредственно примыкающим к ней повествованием.
Однако представляется, что «Нихон сёки» — текст несравненно более богатый и широкий, чем «Кодзики», созданный с гораздо большей степенью свободы; его создатели, быть может, ввиду обширности объема произведения, действовали и в более обширном пространстве культуры. В первой части предисловия были изложены некоторые теории, объясняющие функциональную заданность и религиозно-идеологические задачи обоих памятников; при всем разбросе подходов очевидно, что «Нихон сёки» не совпадает полностью ни с одним из них, и все гипотезы, вместе взятые, также не объясняют всей сложности и богатства этого памятника, который по традиции считается противоречивым.
Автора, которому как переводчику довелось непосредственно прикоснуться к текстам и «Кодзики», и «Нихон сёки», при переводе последнего не покидало ощущение смелой и масштабной эксперимен-тальности этого текста, — казалось, интерес его создателей распространяется на все обозримые формы жизни и культуры. Их труд был несомненно соотнесен с идеологическими задачами (какими бы ни были эти задачи, их существование чувствуется вполне определенно), но эта соотнесенность то и дело сменяется отступлениями, лирическими и не только, в которых очевиден главный вектор труда составителей — освоить этот мир, в котором одновременно происходит строительство государства, оформление имеющихся культов и создание новых, усвоение иностранных типов духовно-практической деятельности, войны и бунты, распространение рисосеяния и ремесел, — словом, мир, пришедший в движение, то и дело рождающий новые формы. В сущности, по времени, этому же миру соответствует и «Кодзики» — разница в восемь лет
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 45
несущественна, и в «Кодзики» отчасти говорится о том же: разделение Неба-Земли, боги, первоимператоры, учреждение культов богам, учреждение двора, привезенные зарубежными послами китайские книги, приезд ремесленников и мастеров и т. д., однако же мир «Кодзики» напоминает воронку, а «Нихон сёки», скорее, кажется неким испытательным стендом, экспериментальным полем культуры.
Начать с того, что в «Кодзики», памятнике, который считается более мифопоэтическим и архаическим, в сущности, гораздо меньше космологии. Космология мусухи, о которой говорят исследователи, отчетливо не проявлена в «Кодзики», она восстанавливается ими по ряду признаков — например, после первого божества, Ама-но минака-нуси, появляются Таками-мусуби и Ками-мусуби, и все эти три божества являются на Равнине Высокого Неба, когда уже «раскрылись Небо и Земля» (пер. Е. М. Пинус).
«Нихон сёки» же начинает раньше, со времен неопределенной «древности, когда Небо-Земля были не разрезаны и Инь-Ян не были разделены». Понятие Равнины Высокого Неба появляется в тексте на гораздо более позднем этапе, при омовении Изанаки, который, породив Аматэрасу, Тукуёми и Сусаново, сказал: «Великая богиня Аматэрасу пусть ведает Великой Равниной Неба. Тукуёми-но микото пусть ведает восемью сотнями приливов на Равнине Голубого Моря. Сусаново-но микото пусть ведает Поднебесной». К тому же, Равнина Высокого Неба появляется не в основном повествовании «Нихон сёки», а в одной из версий, со ссылкой типа «в одной книге сказано», и не исключено, что имеется в виду «Кодзики».
Разумеется, интерес «Нихон сёки» к акту творения мира легко объяснить китайским влиянием, но ведь то же влияние присутствует и в «Кодзики», где скороговоркой, в одной фразе, перечислены космологические мотивы рождения земли — подобно побегам тростника, подобно плавающему маслу, подобно медузе. Космология же «Нихон сёки» развернута и подробна, здесь к мифологемам «Кодзики» добавляются еще играющая рыба, облако, плавающее по морю и не обретшее места, к чему прикрепиться корнями, а также смесь, подобная куриному яйцу, в котором содержится «нечто», наконец, согласно одному из вариантов, между Небом и Землей первоначально имеется пустота, также содержащая нечто, «форму которого трудно описать», внутри же этого «нечто» пребывает или божество, ставшее-Родившееся само по себе, или, в другом варианте, божество-человек.
46
Л. М. Ермакова
Наверняка бесплодны претензии проникнуть в сознание составителей, собравших вместе все эти мифологемы, перетасовавших на все лады имена первобожеств, допустивших, например, чтобы главные боги пантеона, Аматэрасу и Сусаново, родились в тексте несколько раз, при разных обстоятельствах и от разных прародителей. Одно объяснение этих противоречий состоит в том, что Япония посредством «Нихон сёки» хотела доказать Китаю и Корее, что уже вошла в новый, просвещенный, исторический период и не придает значения мифам и сказкам (точка зрения Канаи Киёити), — но зачем тогда так тщательно собирать и выстраивать их, даже превзойдя «Кодзики» и отодвинув начало времен в эпоху до разделения Неба-Земли? Другое объяснение предполагает, что множественность версий мифов — дипломатический жест в сторону сильных и могущественных родов, имевших свое представление о мифологической истории и, может быть, даже письменные своды на этот счет. Но тогда остается непонятным, как же сами составители памятника представляли себе «эпоху богов», если Сусаново в одном случае родился у Изанаки и Изанами, в конце цикла порождения Восьми Великих Островов, гор, рек, трав и деревьев; в другом случае — в варианте того же цикла, но от одного Изанаки, когда тот повертел головой и оглянулся; в третьем случае Сусаново родился от Изанаки, совершавшего омовение и промывавшего нос после возвращения из Страны Мрака, куда удалилась умершая Аматэрасу. В одной версии Сусаново был назначен править Японией, в другой — подземной Страной Корней, в третьем — Равниной Голубого Моря.
Не отводя представленных выше объяснений, добавим к ним еще следующие соображения. В сущности, противоречия в космологической картине мира — достаточно часто встречающееся явление. Скорее, в согласии с теориями Е,. М. Мелетинского и др., стоит считать это явление не противоречиями, а множественностью, и множественность образов явления оказывается связана не только с локальными и стадиальными разновидностями культов, но и предпочтительным вниманием к индивидуальным особенностям явления, а не к неким общим законам. Какое-либо явление, по Мелетинскому, в мифологическом мире мыслится в разных обличьях, но воспринимается в единстве, и такая многосторонность образа помогает осознать сложность явления, его индивидуальность. Это, разумеется, не означает отсутствия логики и последовательности, разве что речь пойдет о логике в аристотелевском
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 47
смысле, — примером аналогичной многосложности и противоречивости объяснений может служить описание психических и эмоциональных процессов в современной науке и т. п.
До сих пор говорилось о мифологическом аспекте проблемы, однако, на наш взгляд, в «Нихон сёки» чрезвычайно сильна и другая линия, условно назовем ее дискурсивно-теоретической, и эта линия связана, с одной стороны, с теологическими построениями авторов памятника, обретших письменность и в рамках новой задачи размышляющих об устройстве мира, а с другой — эти авторы, оказавшись в поле китайской культуры и прежде всего китайских письменных памятников, взяли на себя задачу освоения новых жанров, находящихся уже в сфере письменной, теоретической культуры. Эти жанры, представляющие сферы мыследеятельности уже в большой мере дифференцированного мира, в Китае уже так или иначе разделялись на натурфилософские, исторические, литературные, поэтологические и прочие течения или учения, и в данном случае не так уж важно, в какой степени это разделение было осознанным и сформулированным. «Нихон сёки» же, как представляется, стало своего рода практикумом многих из этих направлений, своего рода письменным первопрецедентом, породившим впоследствии расчлененные, специфицированные жанры. Векторы, заданные в «Нихон сёки», оказались потом развиты в разных направлениях, в том числе летописные хроники, поэтические сборники, антологии, поэтические турниры ута-авасэ, ранние песенно-повествова-тельные ута-моногатари, поэтологические каноны, лингвистические труды и пр.
Скажем вкратце об этих, «экспериментальных» сторонах памятника.
Для авторов, как представляется, характерно пристальное внимание и неравнодушие к слову как таковому. В этом их интересе, разумеется, сплелось несколько мотивов — и восприятие слова как действенной магической субстанции, содержащей «душу слова», котодама, и отношение к имени как к мифу, и, наконец, думается, не последнюю роль сыграло и становящееся восприятие слова как эстетической категории.
В сущности, как и во многих других мифологиях, акт творения мира оказывается непосредственно связан со словом. В основной версии «Нихон сёки» Изанаки и Изанами на острове Оногоро-сима, образовавшемся в космическом океане, обходят вокруг Священного Столпа Середины Страны и обмениваются магическими формулами, в
48
Л. М. Ермакова
результате чего рождаются острова, боги, горы, реки и пр. Когда женщина заговаривает первой, рождаются негодные дети, когда первым формулу произносит мужчина, все идет правильно. Речь и рот как источник рождения, разновидность космической утробы присутствуют и в мифе о рождении детей между Аматэрасу и Сусаново, которые сначала произносят клятву-обет (укэпи, укэи), потом кладут в рот и жуют магический предмет, принадлежащий партнеру (воспроизведение полового акта), после чего рождаются божества-дети.
В одной из версий Изанаки рождает детей в одиночку, но тоже начинает с речи, с формулы: «"Хочу я породить чудесное дитя, которое будет править Обиталищем", — и взял в левую руку зеркало из белой меди, [зеркало же] превратилось в божество».
В одной из версий мифа «Нихон сёки» о сокрытии Аматэрасу в Небесной пещере мотивом ее выхода оттуда тоже становится слово: «Путотама-но микото, дальнему предку обито Ими-бэ, было поручено все это взять и возвестить широкие и крепкие славословия-моления.
И тогда богиня Солнца, услышав их, рекла: "Хоть часто люди возносят ко мне словеса, но таких великолепных речей я еще не слыхала", — так рекла и, чуть-чуть дверь приоткрыв, наружу выглянула». В основном тексте мифа словом же предотвращается опасность возвращения богини в пещеру — «и тогда бог Накатоми и бог Имибэ огородили [вход в пещеру] священным вервием сирикумэ-нава. И сказали: "Больше сюда не возвращайся", — так сказали».
Слово, речь — безусловный признак жизни, живого существа. Так, в девятой версии мифа о смерти Изанами, приведенной в «Нихон сёки», после смерти Изанами, Изанаки отправляется к месту ее временного захоронения {могари) для встречи с ней, «и она вышла к нему как живая и разговаривала с ним». Речь здесь выступает главной характеристикой живого, способного к жизнедеятельности существа.
Аналогично, в другом фрагменте текста Таками-мусупи объявляет, что землю надо подготовить для схождения туда божественного внука Ниниги-но микото, а потому необходимо послать на землю богов для усмирения земных духов, так как «в Срединной Стране Тростниковых Равнин корни скал, пни деревьев, листья травы все еще часто речи ведут».
Между непосредственными речами богов и текстами людей, обращенными к богам, находится жанр высказываний, ритмизованных и лишенных ритмической организации, которые произносят одержимые
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 49
божеством оракулы или люди, устами которых пожелало говорить божество. К этим жанрам могут быть отнесены как песни, чаще всего приписываемые детям (китайский жанр песенок-пророчеств тунъяо), так и песни, сложенные «людьми того времени» и пр.
В этом разряде особенно примечателен и, пожалуй, даже уникален для обоих летописей следующий текст из 5-го свитка «Нихон сёки», весьма напоминающий глоссолалию. Один из подданных обращается к наследнику престола с таким рассказом: «Среди моих детей есть один ребенок. И вот он сам по себе сказал такие слова: "Драгоценный камень, что погрузился в жемчужные водоросли. Подлинное прекрасное зеркало, что ритуалами чтят люди Идумо. Прекрасный бог, мощи полный, хозяин донного сокровища, священного сокровища. Душа священная, скрывшаяся в воде гор и рек, прекрасный сокрывшийся бог, хозяин донного сокровища, священного сокровища", — так сказал ребенок. Однако не детские это речи. Уж не говорит ли кто его устами?»
Речь в этом отрывке идет о сокровищах, хранившихся в храме Идзумо и конфискованных центральной властью. Правитель, узнав об этих словах, воспринял их как речение божества и распорядился, чтобы были возобновлены обряды служения Великому богу Идзумо. А следующий император возвратил сокровища храму.
Текст этот в наиболее ранних свитках памятника написан отдельным столбцом, выделен как песня или стихи, однако строение этого фрагмента не позволяет его отнести ни к японской песне, ни к китайским стихам. Скорее, на основании затемненности смысла, чередования назывных конструкций его можно отнести как раз к тем текстам, которые рождаются в состоянии транса, своего рода глоссолалиям вокруг определенной темы, которые продуцируются в состоянии одержимости. И если допустить, что такого рода тексты становятся исходным сырьем для последующего становления песенных фольклорных жанров, то можно считать, что авторы «Нихон сёки» в самом деле решили представить имеющуюся в их распоряжении литературную историю, начиная с ее обозримого начала.
Немалое место в «Нихон сёки» занимает произнесение всякого Рода клише, в частности, котоагэ, «поднятие слов», обращенных к божествам, укэи (др. яп. укэпи), своего рода обетов-гаданий, Провозглашаемых перед началом какого-либо действия, по результатам Которого можно будет судить о воле богов, посылающих свои знаки в
50
Л. М. Ермакова
ответ на укэи, и др. Эти типы словесного творчества достаточно изучены и складывались, вероятно, под китайским влиянием. В текст включены также заговоры и порчи, например, в сюжете о двух братьях, Отроке Горной Удачи и Отроке Морской Удачи. Морской царь говорит младшему брату перед расставанием: когда будешь старшему крючок отдавать, «такое заговорное слово скажи — источник бедности, начало голода, корень мучений — так скажи, а уж потом отдавай». В других версиях этого сюжета формулы видоизменены — «крючок бедности, крючок гибели, крючок дряхления» или «большой крючок, падающий крючок, нищий крючок, глупый крючок».
Понятно назначение, но не вполне понятно содержание других видов словесной магии, отраженных в Свитке третьем, повествующем о Дзимму: «А в день, когда государь впервые начал Небесные деяния, Мити-но оми-но микото, дальний предок рода Опо-томо, привел людей рода Опо-кумэ и, получив тайное наставление государя, изгнал дух бедствий посредством благой соэ-ута, намекающей песни [фэн, китайский жанр иносказательной лирики. — Л. Е. ], и сакасима-гото, слов наоборот. Отсюда и началось использование слов наоборот» (см. также комм. 35 к 3-му свитку).
Люди Опо-кумэ — племя воинов, охранявших ранних властителей Японии, и, скорее всего, их «намекающие песни» были для императора чем-то вроде оберега. Распространенное же среди японских комментаторов толкование «слов, [произнесенных] наоборот» как разновидности секретного языка (чтобы противникам не было понятно, о чем речь), кажется не вполне удовлетворительной, — может быть, это как раз доступный зловредным обитателям потустороннего мира способ речи (в ином мире многие явления этого проходят процесс инверсии, выворачивания наизнанку, оказываются устроены задом наперед и пр.). Стоит здесь учесть также, что в данном сюжете происходит изгнание духа бедствий перед вступлением на престол, и никаких реальных врагов или боевых действий в тексте далее не предвидится, — напротив, Дзимму уже совершил все возможные подвиги, вскоре взошел на престол и, по тексту, ему оставалось только раздать награды и сказать с чувством полного удовлетворения: «Души моих царственных предков, с Неба слетев, освещают мое тело и помогают мне. Всех врагов я уже усмирил, и недра морские не причиняют беспокойства». То есть обе принятые меры — и соэ-ута, и сакасима-гото были лишь чисто словесными приемами из разряда охранительной магии.
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 51
Вообще, именно свиток Дзимму представляется любопытным с рассматриваемой точки зрения. Его автор, несомненно, обладал повышенной чувствительностью к слову и почти филологическим интересом к словесности. В высшей степени любопытным представляется концовка этого свитка, своего рода happy end всего повествования 0б этом легендарном первовластителе, где, во-первых, дается мифопоэтическое, само по себе напоминающее краткий гимн наименование Дзимму: «И вот, старинными словами превознося [государя], говорили так: "Небесный повелитель, что в Касипара, в Унзби, столпы-опоры дворца в корни скал подземные крепко вбил, коньки крыши в Равнину Высокого Неба высоко вознес и впервые Поднебесной правил", — так говорили и имя ему дали — Каму-ямато-ипарэбико-поподэми-но сумэра-микото (Божественный Властелин, Юноша из Ипарэ в Ямато)». Впоследствии эта формула («Небесный повелитель, что правил из такого-то дворца») употребляется в сэммё, указах древних императоров, как эвфемистическая титулатура правителя.
Во-вторых, еще более примечательный факт — к концу свитка автор решил собрать вместе все известные ему поэтические названия его родины, создав своего рода список этих мифопоэтических метафор: «В 31-м году, летом, в 4-м месяце, в день новолуния Киното-но тори государь изволил совершить путешествие. Он взошел на холм Поломано вока в Вакигами, обозрел страну и рек: "Ах, какую прекрасную страну я получил! Хоть эта страна бумажной шелковицы узкая, но похожа она на выгнувшуюся стрекозу [яп. акиду]", — так рек. Отсюда впервые пошло название Акиду-сима, Стрекозиные острова.
В древности Изанаки-но микото, нарекая страну, сказал: «Ямато — это страна легких заливов, страна тысяч узких копий, воистину превосходная страна каменных колец", — так рек.
А великий бог Опо-ана-мути-но опоками, нарекая страну, сказал: «Это внутренняя страна, [обнесенная] яшмовой изгородью", — так рек.
А Ниги-паяпи-но микото, облетая толщи пустот на Каменном Корабле Неба, увидев эту страну, спустился вниз и поэтому назвал тогда ее «страной Ямато, которую видно с неба", — так рек».
Все эти определения, ранее в тексте не встречающиеся, явно довольно Древнего происхождения, и на их счет имеются различные объяснения.
Так, оборот акиду-но тонамэсэру-га готоки переведен как «похожа она на выгнувшуюся стрекозу» условно, — по-видимому, этот оборот надо толковать то ли как «стрекоза-самка, лижущая свой зад», то ли
52
Л. М. Ермакова
как «две спаривающиеся стрекозы, летающие, свившись в кольцо». «Каменные кольца» вообще не находят достоверного объяснения — может быть, имеется в виду место обрядового действа, обнесенное насыпью из камней. «Изгородь», о которой говорит Опо-ана-мути, божество Идзумо, обычно толкуется как «горные гряды, окружающие Ямато», но вообще, в связи с Идзумо разные изгороди появляются довольно часто — это и восьмислойная изгородь, которую строит Сусаново, и восьмислойная зеленая ограда из кустарника, куда во 2-м свитке удаляется Кото-сиронуси, сын Опо-ана-мути-но ками, «уступая страну» Идзумо «Небесному внуку». «Страна, которую видно с неба» — оборот, встречающийся потом в «Манъёхю:» в качестве макура-котоба, постоянного эпитета к топониму Ямато, но, видимо, значение его ко времени «Манъёхю:» уже было утрачено, и снова приходится давать перевод чисто условный.
Очевидно, что все эти обороты и магические формулы, возможно, не вполне понятные и на этапе составления «Нихон сёки», собраны в конце 3-го свитка с некоей целью. О ней трудно судить достоверно, в японской научной литературе автоту не удалось найти рассуждений на эту тему. На наш взгляд, таких целей можно предположить по меньшей мере две. Первая, магическая, состоит в том, чтобы запечатлеть, зафиксировать этот переход от мифологической истории к квазиисторическим временам и сделать это максимально безопасным образом, прибегнув к магическим формулам. Эпоха богов и первоимпера-тора и сама, таким образом, оказывается за некоторой «яшмовой изгородью». Следующий за этим 4-й свиток, включающий биографии восьми правителей (Суйдзэй, Аннэй, Итоку, Кохэй, Коган, Когрэй, Ко:гэн, Кайка), за исключением, и не столь существенным, истории Суйдзэй, состоит практически из одних генеалогий, и, по мнению многих исследователей, является не отражением исторически существовавших правителей, а результатом усилий составителей «Нихон сёки», восстанавливающих «правильную историю» и для этого максимально удревняющих ее. Тон и стиль этого свитка совершенно иной, — по сравнению с 3-м, свитком о Дзимму, 4-й скорее напоминает не текст, а некий остов текста, причем на все эти восемь правлений не пришлось ни одного случая взаимодействия этих древнейших правителей с богами и их волей, практически нет даже ни одного упоминания о чем-либо подобном, хотя дальнейшие свитки, включая определенно исторические, полны разных чудес, знамений, насылаемой порчи, вещих снов и т. п.
Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 53
Таким образом, представляется, что магическая граница между временами решена в тексте стилистическими средствами, кроме того, по-видимому, этому фрагменту авторы придавали большое значение. В сущности, появление и нанизывание этих метафор никак не мотивировано предшествующим повествованием, однако поданы они весьма значительно, как событие, потребовавшее точной датировки и указания на место развертывания. И, таким образом, вторая цель приведенных в конце 3-го свитка речений богов, можно думать, состоит в соположении этих мифологических метафор, как неких синонимов, образующих сложный квазилитературный образ.
Развивая далее эту тему работы со словом в «Нихон сёки», коснемся вкратце лингвистических замечаний авторов.
И в «Кодзики», и в «Нихон сёки» встречается немало этиологических сюжетов, заканчивающихся словами «вот почему это место прозвали так-то». Притом в «Кодзики», как правило, это и в самом деле мифологический рассказ о происхождении топонима. В «Нихон сёки» тот же ход преобразован уже в свете истории языка. Сравним, например:
«Кодзики»:
«Тогда они взяли щиты (яп. татэ), в ладье уложенные, сошли [на берег] и перед ним предстали. Посему и нарекли это место Татэту, Бухта Щитов. Сейчас его называют Кусака-но татэту».
«Нихон сёки»:
«Отступили они до бухты Кусака-но ту, восставили щиты (яп. татэ), и раздался боевой клич. Поэтому переименовали эту бухту и назвали Татэту, Бухта Щитов. Сейчас, бывает, называют Тадэту, Бухта травы тадэ, но это неправильно». Рассмотрим другой фрагмент.
«Кодзики»
«...встали они насупротив, так, что река отрезала их друг от друга, и начали вызывать (яп. идоми) друг друга на бой. Посему эта местность получила имя и стала зваться Идоми. (Теперь зовется Идуми.)»
«Нихон сёки»:
«Стали они бросать друг другу вызов (яп. идоми). Поэтому-то люди того времени переменили название реки и стали называть ее Идоми-гапа. Сейчас ее называют Идуми-гапа, но это неправильно».
В вышеприведенных парах обращает на себя внимание то обстоятельство, что для «Кодзики» имя, которым нарекается местность в Мифологическом сюжете, является первоименем, и повествования такого Рода — история топонимической классификации мира. Для авторов
54
Л. М. Ермакова
«Нихон сёки», как показывают эти примеры, было важно указать, что сначала место имело одно название, потом, в результате легендарного события было дано второе название, затем оно со временем было искажено и появилось третье. Из этих трех названий правильным признается второе, как правило, связанное с деяниями персонажей области Ямато и данное «людьми того времени». Бывает, что первое название не указывается, но все равно по поводу третьего названия авторы «Нихон сёки» всюду повторяют, что «это неправильно». Разумеется, данное утверждение есть отсылка к «истинной истории», однако хочется высказать догадку, что в данном случае авторы размечают не только политическую историю, но и историю языка.
К истории такого же рода, на наш взгляд, относятся содержащиеся в «Нихон сёки» указания на происхождение разного рода паремий — вроде пословиц («бойся вернувшейся стрелы», «была бы лестница, тогда и до кладовой богов поднимешься», «люди ама любят шуметь попусту», «хоть и не стонущий олень, а сон все же сбылся», «будь ты и ама, а из-за собственного имущества плакать приходится» и др.).
Объяснение происхождения устойчивых словосочетаний в «Нихон сёки» нередко носит характер, позволяющий назвать эти фрагменты текста ранними поэтологическими рассуждениями. Так, например, часто встречающееся в песнях «Манъёхю:» название водорослей нанорисо, означающее также «не говори имя» (то есть «храни тайну нашей любви») впервые встречается в «Нихон сёки». Когда возлюбленная правителя сложила песню и исполнила ему, «сказал тогда государь Сотопоси-но иратумэ: "Пусть никто другой не услышит этой песни. Узнает государыня, и возревнует не на шутку". Потому люди того времени и назвали прибрежные водоросли нанорисо-мо, "водоросли не-говори-свое-имя"».
Происхождение и смысл макура-котоба «сора миту Ямато» как «Ямато, которое видно с неба» толкуется в вышеприводившейся цитате из свитка о правителе Дзимму, где говорится, что Ниги-паяпи-но микото спускался на землю на Каменном Корабле Неба и обозревал ее, отсюда и его речение (в настоящее время есть совершенно иные этимологии этого макура-котоба). «Где дует ветер богов» — постоянный эпитет к топониму Исэ — также упоминается в «Нихон сёки» не только в песнях, но в речи Аматэрасу, которая говорит: «эта страна Исэ, где дует ветер богов, — страна, куда возвращаются волны из Токоё, Вечной Страны, тяжелые волны. Страна отдаленная [от Ямато] и прекрасная. Здесь я желаю пребывать», обосновывая
«Нихон сёки»
— культурный полицентризм и выбор культуры
55
этими словами новое местоположение храма, а также возникновение макура-котоба.
К ранним пробам классификации и интерпретации песенных текстов в «Нихон сёки» относятся, надо думать, многочисленные пометы к песням, способам их исполнения, смыслу и достоинствам. Выпишем некоторые из них:
Классификационные пояснения: «Все эти песни именуются песнями Кумэ. Наименованы они так по [родовому] названию людей, которые их пели». «Это песня Кумэ. Сейчас при Музыкальной палате, исполняя эту песню, руками двигают то размашисто, то понемногу, голос при этом то громкий, то тихий. Этот обычай идет из древности». «Эти песни именуются песнями тоски по родине». «Эти песни, которыми они обменялись, именуются агэута». А также в тексте встречаются такие определения, как «печальные песни», «мирные песни», «песни во славу государевой добродетели», «песня, чтобы подбодрить сердца воинов», «[песни]-славословия» и др.
Пояснения по характеру исполнения: «Отсюда пошло обыкновение — когда Кумэ поют свои песни, они после этого громко смеются». «Допели, стали бить себя по губам, смотрели в небо и смеялись».
Пояснения по возможному смыслу. «Все эти песни были спеты со скрытым смыслом, не просто — что в голову придет». «Смысл этой песни в том, что большой камень уподобляется холму Куними-но вока».
В сущности, многие из фрагментов «Нихон сёки», содержащие обмены песнями или песни, приписанные одному и тому же лицу, в жанровом отношении весьма напоминают ута-моногатари хэйанских времен, такие, например, как «Исэ-моногатари» и «Ямато-моногатари». Во многих случаях, особенно в свитках не самых последних, но уже несколько отстоящих от «эпохи богов», ряд фрагментов читается как законченные эпизоды жанра ута-моногатари. Таких примеров можно было бы привести несколько, ограничимся одним:
«Ямато-такэру-но микото из страны Пидаками-но куни отправился в обратный путь, прошел по суше в юго-западную сторону, дошел страны Капи-но куни и остановился во дворце Сакавори-но мия. Разжег светильник и сел там за трапезу. В ту ночь спросил он своих приближенных [словами] песни:
Сколько ночей провел я [в пути], Нипибари
И Цукуба пройдя? —
56
Л. М. Ермакова
так спел. Однако никто из его приближенных ему не ответил. А был среди них человек, который держал светильник. Подхватив окончание песни принца, он в продолжение сложил:
Наложились сутки друг на друга — Ночей — девять ночей, Дней — десять дней, —
так сказал. Владыка похвалил его и щедро наградил».
Этот фрагмент определенно помещен в повествование ради самого этого сюжета, то есть ради сугубо литературных целей. Примерно в том же виде он присутствует и в «Кодзики», однако там концовка иная — «похвалил его государь за песню и назначил куни-но миятуко в Адума». Сюжет таким образом оказывается преданием об учреждении в данной местности рода куни-но миятуко, в то время как в «Нихон сёки» он несет по преимуществу литературную нагрузку.
Собственно говоря, и в «Кодзики», и в «Нихон сёки» обнаруживается сходство ряда фрагментов с жанром ута-моногатари — особенно если учитывать главным образом 3-й свиток «Кодзики». «Нихон сёки», пожалуй, отличается большим богатством и разнообразием структур таких повествований, многообразны также оказываются сюжетные функции и возможности песни в нарративе, но эта тема, безусловно, заслуживает отдельного и подробного рассмотрения.
Скажем вкратце о нарративных особенностях памятника.
Выше уже говорилось о возможных путях развития повествовательной традиции из разъяснений религиозного специалиста, толкующего людям затемненный смысл речей богов, вложенных в уста жрецов и оракулов. Такого рода разъяснения вместе с текстами могли передаваться в устной традиции, претерпевая соответствующие изменения. Возможен и другой путь — складывание повествования в момент фиксации песни, комбинирование песни с повествованием, непосредственно к ней не относящимся и т. д. Здесь хотелось бы сказать о другом — о повествовательности, не связанной с песней как таковой, об элементах построения прозы, которые, как представляется, можно усмотреть в тексте «Нихон сёки». *
Например, одна из особенностей повествования «Нихон сёки» состоит в том, что в подавляющем большинстве случаев повествование ведется объективно-отстраненным тоном летописца. Точка зрения повествователя при этом совпадает с точкой зрения возможного очевидца событий, который не высказывает собственного отношения к происходящему. Однако есть несколько фрагментов, в которых этот
Нихон сёки»
— культурный полицентризм и выбор культуры
57
с
главенствующий прием нарушается. Например, в свитке об императоре Дзимму, то есть о временах, от повествователя весьма удаленных, вДРУг появляется эффект отождествления автора с группой персона-
еИ__«враги же об этом нашем тайном замысле не знали и пили
хмельное, сколько хотелось», «и тогда наши воины, заслышав песню, вынули свои мечи-молоты и всех врагов перебили». В другом месте, в свитке об императоре Суйнин, в сюжете о Сапо-бико и Сапо-бимэ повествователь позволяет себе даже поразмышлять по поводу излагаемого сюжета — «верно, все же собиралась она разубедить таршего брата?» Такого рода личные авторские высказывания, голос автора как таковой, в «Кодзики», пожалуй, не встретишь.
Скажем теперь несколько слов об авторской организации композиции памятника. Как уже говорилось, он поделен на свитки, соответствующие правлениям определенного императора щи нескольких, внутри же свитков материал выстроен хронологически (отвлечемся сейчас от проблемы достоверности этой хронологии), а начиная с третьего, он старательно датируется. Таким образом задано линейное развертывание повествования. Линейность эта однако неоднократно нарушается — прежде всего наличием нескольких версий одного и того же сюжета, что, в отличие от «Кодзики», создает эффект остановки, осматривания объекта с разных сторон. В версиях воспроизводятся не все мифологические мотивы, заданные в основном варианте, некоторые мотивы, наоборот, впервые появляются в версиях. И уже само соположение таких нарративов задает ситуацию сравнения сюжетов.
Возьмем, например, уже упоминавшееся сказание о двух братьях, Отроке Горной Удачи и Отроке Морской Удачи. Оно приводится в четырех версиях к основному повествованию, и пятикратно в этих версиях встречается фраза — «далее, как изложено в главном повествовании». То есть, не желая повторяться, авторы отсылают читателя к основному варианту. Тем самым, разумеется, обеспечивается связь разных звеньев текста, но, одновременно, выделяются именно различия в повествовательных ходах, сюжетном развитии, именах и поступках персонажей. Собственно, отличия-то, не только мифологические, но и повествовательные, при этом и выступают на первый план. Такая манера изложения также становится своего рода площадкой для литературного экспериментирования.
Весь текст «Нихон сёки», хотя и задуманный как единое целое, внутри каждого свитка оказывается поделен на эпизоды, имеющие законченный и часто самодостаточный характер.
58
Л. М. Ермакова
Рассмотрим проблему границ отдельного повествовательного эпизода. Сигналом его начала чаще всего служит новая дата или же отсылка к иному повествованию — «в одной книге сказано», «в "Летописи Кудара" сказано» и т. п. То есть эпизоды как бы чередуются в хронологическом порядке, основной единицей выступает при этом временная последовательность.
Иначе обстоит дело с границей эпизода, обозначающей его окончание. Часто конец обозначает не новая дата (в одном эпизоде может присутствовать несколько дат, если повествование растянуто во времени), а чисто литературный, повествовательный прием. Наиболее часто встречающийся тип концовки — этиологический мотив «с тех пор и повелось», «это и есть первопредок рода», «отсюда и пошло название» и т. п. Разновидностью этой концовки служат заключающие эпизод фразы, в которых фигурируют слова или песни «людей того времени». Еще одна разновидность — концовки типа «теперь это называется...» или «теперь этот меч хранится в...», «эта могила сохранилась до сих пор» и т. п. Такие концовки, как представляется, вводят в повествование момент настоящего, который предстает как проекция и следствие описываемого момента прошлого, то есть связывают два эти момента воедино.
Иногда в тексте в заключение фрагмента дается дата события, но данная по шестидесятилетнему циклу (а не по годам правления императоров) — «это было в год такой-то Великого цикла». Такая дата встречается нечасто, но тоже всегда венчает конец эпизода.
Эти типы концовок, по всей видимости, в конечном счете тоже связаны с понятием времени — они соединяют момент прошлого с моментом составления повествования. В случае организованных таким образом сюжетов, природа времени в начале и в конце эпизода оказывается различной: способ введения начала эпизода свидетельствует о дискретности, равномерности и линейности времени, концовки же замыкают временные круги в определенных точках пространства, то есть начало эпизода соответствует линейности времени, конец же чаще всего образует своего рода «петлю во времени», присоединяя сюжет к настоящему.
Приведем один любопытный сюжет из свитка 13-го, примыкающий, можно сказать, к новеллистическому жанру. Содержание его сводится к тому, что некая принцесса была провозглашена супругой правителя. Далее повествование возвращается к тем временам, когда она была еще юной и жила в доме матери. Проезжавший мимо придворный неучтиво
«Нихон секи» — культурный полицентризм и выбор культуры 59
пошутил с ней, и она этого не забыла. Став императрицей, она решила казнить того придворного, но он убедил ее, что тогда не мог знать, с кем имеет дело, и казнь была в конце концов заменена на понижение его рода в ранге. Начало этого сюжета соответствует династийно-линейному развертыванию повествования. Далее же приводится сцена и диалог из прежней жизни персонажей — достаточно редкое явление в «Нихон сёки». Затем вновь происходит возвращение к настоящему времени повествования, и концовка отчасти имеет тот же этиологический оттенок — происхождение звания инаки в данной местности.
Пример с этим сюжетом характерен в том отношении, что он полностью укладывается в рамки одного свитка и невелик по объему. В большинстве случаев, повествовательный сюжет в «Нихон сёки», независимо от того, отнесем мы его к мифу, волшебной сказке, легенде или ранненовеллистическому жанру, вполне компактен — при любой его протяженности он, как правило, весь помещается внутри одного свитка. Связь между свитками устанавливается обычно путем указания на то, что главный герой свитка является непосредственным потомком персонажа предыдущего свитка: сами же сюжеты за рамки свитка не выходят.
Чрезвычайно интересные композиционные ходы в этом смысле представляют свитки 13-й,14 -й и 15-й, дающие неожиданное богатство сюжетных ходов, причем по поводу главной, генеалогической линии повествования. Суть рассказа в его самом кратком виде заключается в следующем: правитель Анапо по ложному навету убил безвинного принца Опо-кусака. Потом взял в жены супругу убитого и был в свою очередь убит ее сыном от принца Опо-кусака, мстящего за убийство отца. Этим кончается свиток 13-й.
В следующем свитке на престол всходит правитель Ю:ряку, брат Анапо. Далее следует подробное и красочное повествование о том, как именно сын убитого прица Опо-кусака отомстил Анапо и убил его, что этому предшествовало и что за этим последовало, хотя, казалось бы, этому повествованию скорее место в предыдущем свитке, посвященном Анапо. Затем наконец излагаются неприглядные деяния Ю:ряку42 и история о том, как Ю:ряку убил принца Ити-но пэ осипа за то, что предыдущий правитель Анапо сначала хотел передать престол именно принцу, а не Ю:ряку.
Следующий, 15-й свиток состоит из трех разделов, повествующих ° правителях Сэйнэй, Кэндзо: (Вокэ) и Нинкэн (Окэ). В разделе о
60
Л. М. Ермакова
правителе Сэйнэй рассказывается, что один его посланец в провинцию встретил там сыновей принца Ити-но пэ, убитого предыдущим правителем, обрадовался, выстроил им дворец и поспешил вернуться в столицу, чтобы доложить императору о радостной встрече. Император велел выслать навстречу братьям торжественный кортеж. Далее следуют слова: «Рассказ об этом содержится в свитке о государе Вокэ». И снова повествование возвращается к императору и событиям, которыми было отмечено его царствование.
В следующем разделе, посвященном Вокэ, подробно рассказывается история о том, как братья, приняв имена простолюдинов, скрывались в далекой провинции, где затем поступили в услужение. И когда посыльный императора, много лет спустя, случайно оказался в доме их господина, они особым образом рассказали свою историю и подтвердили свое высокое происхождение с помощью песен (напомним, что та же сцена в разделе правителя Сэйнэй занимает две-три фразы и совершенно лишена какой-либо эмоциональной окраски, будучи решена в перечислительно-хронологической стилевой манере).
Здесь, как и в истории с дерзким придворным, начало повествования оказывается возможно после восхождения персонажа на престол, а после того, как хронология установлена, авторы позволяют себе совершать движения между сюжетом и фабулой, останавливаясь, в конце концов, снова в точке повествовательного настоящего.
Надо сказать, что история этих двух принцев по своим сюжетным и повествовательным ходам вообще чрезвычайно примечательна. Более всего она напоминает авантюрные новеллы европейского средневековья, где персонажи утрачивают родство и имя, затем путем счастливого совпадения и случайной встречи они полностью восстанавливают свои прежние права. В этом повествовании «Нихон сёки» какие-либо сказочные или мистические моменты не участвуют, и очевиден чисто литературный аспект этого повествования, содержащего перебивки сюжетного времени, намеки, разъясняющиеся потом, и даже некоторые элементы, напоминающие suspense.
Скажем еще о некоторых вариантах отклонения от «нормального» летописно-хронологического повествования. Как представляется, в «Нихон сёки», в отличие от «Кодзики», оказался возможен юмор. Во всяком случае, авторы считают нужным занести в свое монументальное произведение события явно несерьезного характера. По-видимому, можно говорить по меньшей мере о двух юмористических новеллах
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 61
(или анекдотах), также не имеющих особого отношения к предыдущему и последующему повествованиям и явно самоценных.
Один содержится в свитке 14-м (Ю:ряку): «В день Хиното-но и 3-го месяца, когда новолуние пришлось на день Каното-но ми, государь решил предложить государыне и младшим супругам-наложницам собственноручно собрать тутовые листья и заняться гусеницами шелкопряда. Он отдал приказ Сугару (это имя человека) собрать со всей страны гусениц шелкопряда (яп. ко). Сугару же по ошибке собрал младенцев (яп. ко) и поднес государю. Государь очень смеялся и, возвращая младенцев Сугару, сказал: "Вот и корми их сам!" [Сугару] растил этих детей внутри дворцовой ограды. И ему был пожалован титул главы рода Типиса-ко-бэ-но мурази, рода Маленьких Детей». (Отметим, что в концовке снова присутствует идея типа «вот почему появился такой титул», то есть введение юмористического повествования также оправдывается этиологическим мотивом.)
Другой анекдот гласит: «Зимой, в 11-м месяце посланцы из страны Силла отбыли назад, завершив срок траура. Один же человек из Силла очень полюбил горы Миминаси и Унэби, расположенные в окрестностях столицы. Вот, добрался он до склона Котопики-но сака, оглянулся и сказал: "Ах, Унэмэ, ах, Мими!" А он не обучался местному языку. Поэтому-то по ошибке назвал гору Унэби — "Унэмэ", а Миминаси — "Мими". А человек из Ума-капи-бэ в Ямато, сопровождавший людей Силла, услыхав эти слова, решил, что, верно, тот из Силла наведывался к какой-нибудь придворной даме в ранге унэмэ И вот он вернулся и доложил принцу Опо-патусэ-но мико. Принц задержал всех посланцев Силла и учинил дознание. Тогда человек из Силла сказал: "Я не соблазнял никакой унэмэ. И говорил только о тех двух горах, что расположены вблизи столицы". Так ошибка разъяснилась, и всех отпустили. Люди же из Силла, рассердившись, с тех пор уменьшили размеры дани и число кораблей». В концовке снова присутствует эффект, действующий после окончания повествования и продленный в сторону настоящего.
Отметим, что оба эти случая связаны с игрой слов, омонимией. Как представляется, здесь впервые в истории японской словесности омонимия использована не как способ воздействовать на потусторонние силы магией слов, и не для виртуозного выражения лирической эмоции, а ради шуточного каламбура, словесной игры, которыми так богата последующая японская литература.
62
Л. М. Ермакова
В «Нихон сёки» есть еще один любопытный фрагмент, которы хотелось бы истолковать как ироническую пародию, хотя этот отрывок текста явно не столь однозначен, и о его пародийной природе мы говорим здесь исключительно в качестве предположения. Приведем его в сокращенном виде: «В ту осень <...> обнаружилась одна женщина, жившая в священной бухте Нанипа, которая, рыдая, сказала: "И матери моей он — старший брат, и мне он — старший брат. Я — слабая былинка, о, мой муж!" В деревне Писики-но мура Касо, услышав ее плач, подошел к ней и говорит: "Почему плачешь ты так жалобно, так отчаянно?" Женщина в ответ: "Подумай об осенних двойных луковицах нэги!" "Да, понял", — сказал Касо. И так он узнал, почему она плачет. А его товарищ, не понявший смысла этих слов, спросил: "Как ты понял?" Касо ему ответил: "Пунамэ из Нанипа-но тама-сури-бэ вышла за Карама-но патакэ и родила Накумэ, плакальщицу. Накумэ вышла за Ямаки, человека из Сумути, и родила Акутамэ. И Карама-но патакэ, и его дочь Накумэ уже умерли. А Ямаки, человек из Сумути, сошелся с Пунамэ, из Тама-сури-бэ, и родился Араки. Араки взял в жены Акутамэ. А теперь Араки <.„> уехал в Когурё. Оттого эта женщина, Акутамэ, беспрерывно горюет, она в отчаянии"».
Этот текст потом повторяется иными словами дважды в комментариях средневековых переписчиков, которые, видимо, пытались разобраться и пересказать то же самое более понятным образом, но понятнее не становилось. Речь здесь, собственно, идет о запутанной системе родства, или, вернее, о ее нарушении — Ямаки женился на собственной теще, а его сын, рожденный в этом браке, женился на дочери Ямаки от предыдущего брака. Похоже, что в этом фрагменте травестируется, во-первых, система родства, а во-вторых (что, разумеется, предположение, которое доказать практически невозможно), приходит на ум, что авторы пародировали тут генеалогические тексты собственного исполнения, — так, древние правители, согласно генеалогиям «Нихон сёки», нередко брали в супруги (часто в младшие супруги или наложницы) сводных сестер, а в свитке 4-м, который как раз считается искусственно составленным повествованием — летописями правлений не существовавших в действительности восьми императоров, — правитель Суйдзэй женится на собственной тетке, а Кайка — на мачехе (младшей супруге отца).43
Из последних примеров очевидно, что составители (часто хочется сказать — авторы) «Нихон сёки» проявляли интерес к самым разным
«Нихон сёки»
— культурный полицентризм и выбор культуры
63
явлениям как жизни, так и культуры и ее истории. Они осуществили в своем тексте, по-видимому, все возможные в то время мыслительные процедуры и операции над текстом. Скажем, японские исследователи говорят о двух типах космологии в мифологических сводах — мусупи и инь-ян (см. выше), но ведь в одной из версий одного из мифов «эпохи богов» творение мира производится еще и путем «дуновения» («войдя в воду, он [Изанаки] дуновением произвел на свет Ипа-тути-но микото, выйдя из воды, произвел на свет Опо-напопи-но микото. Снова войдя, дуновением породил Соко-тути-но микото, выйдя, дуновением породил Опо-ая-ту-пи-но ками. Снова войдя, дуновением породил Ака-тути-но микото, выйдя, дуновением породил все множество богов Опо-тути-унапара, богов Великой равнины земли и моря»). В «Нихон сёки» есть и элементы натурфилософии («деревья и травы, а также мелкая галька родственны между собой, ибо включают в себя огонь»), и истории о полезных открытиях (хранение и использование льда в летнюю жару, соколиная охота и пр.), и регистрация разных необычных явлений природы, вроде человека с двумя головами и четырьмя руками и ногами (в тексте дано точное описание сиамских близнецов; кстати, этот человек был убит по приказу властей, но не потому, что отличался от других, а потому что занимался разбоем, пользуясь способностью стрелять сразу в две разные стороны), оленя, погибшего оттого, что птица выела ему кожу из уха, и проч.
В «Нихон сёки» помимо мифов и династийных цепей можно увидеть прообразы разных литературных жанров — здесь и фу доки («описания нравов и земель»), ута-моногатари, волшебная сказка (например, история о потерянном рыболовном крючке), бытовая сказка (история о том, как человека хотели заложить в фундамент плотины, а он спасся только благодаря своей смекалке), элементы эпических сказаний, поэтологические соображения, наблюдения над языком и др. Хотя, разумеется, всегда остается сомнение, в самом ли деле все то, о чем здесь говорилось, «объективно» существует в тексте или вчитывается в него сознанием современников.
Ранее уже говорилось, что текст «Нихон сёки» дошел до нас в копиях, сделанных средневековыми переписчиками, оставившими в тексте свои пометы «мелкими знаками», разъяснения отдельных иероглифов, а также выписки из разных подручных источников. В конце 17-го свитка «Нихон сёки» один такой безымянный переписчик, не в состоянии разобраться в несоответствиях между японскими и
64
Л. М. Ермакова
корейскими датировками, завершая свои рассуждения, выразил наде; на то, что пытливые потомки, верно, разберутся, в чем истина. Этой его фразой, но без его надежды, нам и хотелось бы закончить.
Примечания
1 Нихон сёки: Свитки 1-Х /Под ред., коммент. Кодзима Н., Наоки К. Нисимия К., Куранака С, Мори М. Токио: Сёгаккан, 1994. Т. 2. (Нихон котэн бунгаку дзэнсю).
1 Возможно, это связано с археологическими достижениями последнего времени — ранее раскопки велись, по религиозно-идеологическим соображениям, в более ограниченном масштабе; теперь, хотя далеко не все запреты сняты, возможности значительно расширились, и результаты их подчас приводят к пересмотру многих устоявшихся представлений. Ныне чуть не каждую неделю венчает какая-либо археологическая сенсация — например, не так давно пришлось пересматривать устоявшиеся представления о времени распространения иероглифической письменности на Японских островах, когда при раскопках могильного кургана в преф. Сайтама был обнаружен меч с иероглифической инскрипцией (об этом мече подробнее говорится в Предисловии А. Н. Мещерякова), датируемый рубежом V-VI веков. Однако в январе 1996 г. при раскопках в преф. Миэ был найден сосуд с иероглифом, написанном индийской тушью, относящийся к первой половине IV века, то есть, по меньшей мере, на сто лет раньше. Как говорилось в связи с этой находкой в японской прессе, «это эпохальное открытие предполагает, что китайские иероглифы были в употреблении уже во времена раннего государства Ямато, и ставит под сомнение общепринятую теорию, что письменные знаки стали распространяться на территории Японии только начиная с рубежа VI-VH веков» (The Japan Foundation Newsletter. May, 1996. V. XXIV. No.1. P. 13).
Другой пример: в преф. Сайтама обнаружена глиняная фигурка ханива VI века, изображающая коня со стременами справа. Эта фигурка, говорится в статье, — древнейшее свидетельство уникального японского способа садиться на коня справа и в этом смысле представляет собой ценнейший материал в истории распространения в Японии культуры коневодства и верховой езды (The Japan Foundation Newsletter. May, 1996. V. XXIV. No.2. P. 12-13).
Некоторые ученые связывают с нынешними археологическими открытиями большие надежды, но реальнее, по-видимому, ожидать расширения круга загадок.
Впрочем, археологи сталкиваются и с немалыми трудностями — Япония с ее ограниченным используемым пространством вся изрезана сетями железных дорог, часто копающие вынуждены останавливаться у ворот частных владений, что бы ни сулил раскоп. Забавно, что жители преф. Нара (ареал древнего Ямато) при
«Нихон сёки» — культурный полицентризм и выбор культуры 65
перестройке дома или работе в саду опасаются копать глубже, чем сантиметров на пятьдесят — совесть не позволит им утаить находки от ученых, а археологическая экспертиза займет долгое время.
3 Масэ Ф. Нихон-но дэнсё кидзюцу-ни миру футацу-но экритюру. Кодзики то Нихон сёки-но бунтай хикаку-но кокороми [Два вида «письма» в японских фольклорных нарративах. Опыт стилистического сравнения «Кодзики» и «Нихон сёки»]. (Гэндай сисо:. Revue de la pensee d'aujourd'hui. 1992. V. 20. № 4). P. 58-64.
4 См. описание структуры храмов Исэ и Великого обряда вкушения урожая в работе: Норито. Сэммё /Пер., иссл. и коммент. Л. М. Ермаковой. М., 1991. (Памятники письменности Востока. XCVII). С. 116—117, 227—230, 232—234.
5 Уэно Макото. Хоруйся-но кэйфу [Генеалогии в эпитафиях]. Доклад на заседании Ученого общества по японской древности/ Киото, июль 1995.
6 Уэяма Сюмпэй. Камигами-но тайкэй [Система японских богов]. Токио: Тюокоронся, 1975. Т.1—2.
7 Действие этого свода, перестраивающего всю систему государственного жизнеустройства, началось в годы Тайхо: (с 701 г.) и продолжалось до 757 г., причем разные его положения на протяжении этого срока неоднократно пересматривались и комментировались. Так, в 718 г. (2-й год Ёро) Фубито стал вносить небольшие поправки, и в новом виде свод получил название «Кодекса Ёрорё».
8 Нихон сёки: Свитки 1-Х. Указ. изд. С. 513.
5 Перечень цитируемых в «Нихон сёки» китайских и корейских источников см. в предисловии А. Н. Мещерякова.
10 Надо сказать, что самый первый перевод «Нихон сёки» на европейский язык, то есть перевод на английский В. Г. Астона (Aston W. С. Nihongi. Chronicles of Japan from the Earliest Times to A. D. 697), вышедший в Лондоне в 1896 г. и много раз переиздававшийся, содержит на титульном листе помету: «Translated from the Original Chinese and Japanese», однако, как представляется, Астон, скорее, следовал китайскому варианту прочтения текста.
11 В настоящее время в японской научной, а еще больше в околонаучной литературе появилось множество гипотез, прослеживающих следы иных (помимо китайских и корейских), прямых и косвенных, влияний, восходящих, в конечном счете, к Великому шелковому пути.
Нередко говорят об отдаленном влиянии зороастризма на складывание группы мифов о солярном божестве; в становлении паломничества в Японии некоторые наблюдают элементы влияния индо-буддийской концепции паломничества, преломленной в духе японских природных культов и т. д. Маститый ученый-философ Умэхара Такэси выдвинул гипотезу о следах раннехристианского влияния, которое °н усматривает, например, в свитке «Нихон сёки», рассказывающем агиографию Сё:току-тайси (последнего всегда было принято считать «апостолом японского буддизма»). Эти, точечные и пунктирные следы, по Умэхара, в частности, состоят о мотиве рождения в конюшне (ясли), подчеркнутой роли накидки, после смерти персонажа ставшей его погребальной пеленой и т. п. Однако академическая японская
33ак. 3015 т. 1
66
Л. М. Ермакова
наука не принимает предположений такого рода, поскольку все они, по необходимости, чисто умозрительны и почти не имеют подкрепления в других источниках.
12 Naumann, Nelly. Die Einheimische Religion Japans. Leiden; N.-Y.; Koln, 1988 & 1994. V. 1-2. P. 23.
" Этот смешанный характер до сих пор можно наблюдать в архитектуре и оформлении многих синтоистских храмов, которые до этой меры правительства Мэйдзи были, в нынешнем понимании, вполне буддийскими.
м Teeuwen, Mark. Western Understanding and Misunderstanding of Shinto. Progress of Studies of Shinto in the West and Some Remarks //Shinto — Its Universality. International Symposium Commemorating the Founding of the International Shinto Foundation. Tokyo, 1995. P. 77, 78, passim.
15 Под влиянием заимствованных религий и вероучений во времена позднего средневековья, а потом в новое время часть памятников древности объявляется чем-то вроде синтоистского канона, однако эта мера — запоздалая и чисто формальная, ничуть не меняющая существо дела.
16 Общими чертами для всех ареалов ныне становятся иностранные заимствования вроде европейского искусства, одежды, мебели, блюд и т. п., впрочем, все это подгоняется под японский вкус, привычки, представления, под японское телосложение, цветовосприятие и проч., — как, видимо, всегда в Японии, образуется и работает весьма специфическая комбинация всеядности и жесткой избирательности. Некоторые японские интеллектуалы, под влиянием западных работ, авторы которых изо всех сил стремились сформулировать суть японской специфики, но так и не сумели уловить ее, иногда с горькой усмешкой говорят о Японии как о «сточной канаве всех мировых цивилизаций». В самом деле, остается один выход — объяснить избирательность и специфику влиянием этого самого фантома, именуемого синтоизмом (синтоизм же, как обычно утверждается, совпадает с понятием национального характера: «быть синтоистом значит быть японцем»). Однако и эта фантомная интеллектуальная лазейка уже разоблачена (?) М. Тэвином.
17 Чтение монахом буддийских сутр, произносимых по китайским японизирован-ным чтениям, и сейчас непонятно верующим на слух, да и, в общем, на взгляд тоже — китайский язык сутр не прочитать без длительной специальной подготовки. То есть можно сказать, что сутра представляет собой для японца ритмизованный магический текст, понимание которого невозможно и не ожидается без многолетнего периода ученичества. Совсем другого рода непонятность молитвословий норито, возглашаемых перед синтоистскими богами, — это как старославянский текст для современного русского слушателя, который вполне способен расслышать и понять корневые основы слов, общую интонацию, часто — общий смысл, а, главное, почувствовать архаическую стилистику и историческую глубину произносимого.
18 Возможно, сомнения относительно синтоизма тоже связаны с нынешними историческими и археологическими открытиями. Если раньше полагали, что синто — уникальная, самобытная, идущая из толщи времен национальная религия, то теперь стали очевидны ее истоки, связанные с даосизмом, магией инь-ян, китайскими
«Нихон сёки»
— культурный полицентризм и выбор культуры
67
мифологическими представлениями, конфуцианством, буддизмом и пр. Разочарование в идее самобытности привело ряд ученых, как представляется, к полному отрицанию самобытности. Однако это было бы все равно, что отрицать существование, например, славянской мифологии на основании того, что она является частью, ответвлением и вариантом развития общего индо-европейского мифа.
С другой стороны, статус религии в Японии вообще сильно отличен от христианского мира. Фундаментальный религиозный плюрализм и политеизм иногда видится иностранцам, да и самим японцам, как отсутствие религиозного чувства. Однако это отсутствие, по нашему мнению, стоит понимать лишь как отсутствие веры в христианском или любом другом монотеистическом смысле. Недаром способность современного японца быть одновременно причастным к буддизму, синтоизму и христианству породила классическую шутку журналистов: население Японии составляет 125 миллионов человек, число же верующих превышает 200 миллионов.
19 Норито. Сэммё. Указ. изд. С. 172—173.
20 Подробнее об этих табуациях и эвфемизмах, связанных с буддизмом, а также с менструацией, болезнями, смертью см. там же. С. 238.
21 Некоторые авторы полагают, что разнообразие типов божеств свидетельствует о наличии разных этнических групп, со своим пантеоном каждая. Относительно верховного титула микото упомянем, что из Китая была заимствована, благодаря использованию двух разных иероглифов, возможность двух градаций почтительности. В самом начале «Нихон сёки» говорится: «Если выражают высшее почтение, то пишется иероглиф сон. В остальных случаях используется иероглиф мэй. И то, и другое [по-японски] читается микото. Далее всюду следовать тому же». Именно такое разделение этих двух терминов принято и в даосизме, где главные божества, например, Юаньшитянь-цзунь (Изначально Почитаемый на Небе), имеют высший титул (кит. цзунь), другим же божествам приписывается титул мин (и то, и другое по-японски читалось как лшкогпо). Это различие, в частности, может служить и как еще одно доказательство ранних даосских влияний на японскую культуру, особенно в период складывания первых письменных памятников, (см. также наше предисловие к К94-Т. 2 ).
22 Как показывают современные разыскания, понятие родового божества (у л лигами), возможно, и вообще не связывалось непосредственно с неким первоначальным предком-прародителем. Чаще всего это было божество местности, к которому стал возводить свое происхождение поселившийся в этой местности род. Отсюда — еще одна принципиально новая теория современной японской этнографии, разделяемая ныне большинством ученых, которая гласит, что в Японии Не было или почти не было культа предков, во всяком случае, в его классическом виде. Эта теория выдвинута в противовес господствовавшей ранее теории Задающегося японского этнографа XX века Янагита Кунио (под руководством которого в 20-е годы стажировалась в Японии ныне покойная проф. А. Е. Глускина, Переводчица «Манъёхю:»).
23 Не составляет тайны, например, что тело божества храма Ацута — священный Меч> одна из регалий императора. О помещении меча в этот храм говорится и в
68
Л. М. Ермакова
«Нихон сёки». Во время инаугурации нынешнего японского императора восемь лет назад (историки возлагали тогда большие надежды на эту церемонию, которые так и не оправдались — не удалось узнать почти ничего из того, что составляло тайну священнослужителей и двора) этот меч был доставлен для церемонии в храм богини Аматэрасу в Исэ в той же самой большой шкатулке, в которой он хранится в Ацута, но во время ритуала ящик открывать тоже не полагается, поэтому так никто и не знает, что там за меч и есть ли он там вообще. Существуют еще две регалии, о которых неоднократно говорится в «Нихон сёки», главная из них — зеркало, врученное Аматэрасу первоимператору Ниниги-но микото, которое, по традиционной легенде, хранится в храмах Исэ. О нем тоже трудно что-либо сказать, из одного исследования в другое перепечатываются только сведения о размере ящика, по преданию, это зеркало содержащего. Ожерелье из яшмы, третья регалия, находится в одном из специальных помещений дворца, тоже, разумеется, в виде ящика.
Попытка расспросить священнослужителей о том, каков синтай божества данного храма, даже совсем крошечного, вызывает, по свидетельствам японских историков, презрительное негодование; спрашивающему иностранцу отвечают мягче, но дают понять, что вопрос этот по меньшей мере неприличен.
м Higuchi Tadahico. The Images of Japanese Landscapes //The Empire of Signs. Semiotics Essays on Japanese Culture /Ed. by Yoshihiko Ikegami. Amsterdam; Philadelphia: Foundations of Semiotics, 1991. V. 8.
ъ Под редакцией Мисина Сёэй было издано, в частности, фундаментальное исследование: Нихон сёки кэнкю: [Исследование «Нихон сёки»]. Токио, 1970— 1971. Т. 1-8.
26 Malsumae Takeshi. Early Kami Worship //History of Japan. V.1. Ancient Japan /Ed. by D. M. Brown. Cambridge, 1993.
27 Цуда Сокити был зачинателем современного научного исследования этих двух памятников, в 30-е годы нынешнего века имевших статус непререкаемых священных текстов, и жестоко пострадал за это в свое время.
28 Кооноси Такамицу. Кодай синва-но порифони [Полифония древних мифов]. (Гэндай сисо; Т. 20. № 4). С. 50-58.
29 Мисина Сёэй. Нихон синва рон [Теория японского мифа]. Токио, 1970.
30 Окада Сэйдаи. Кики синва-но сэйрицу [Теория мифов «Кодзики» и «Нихон сёки»]. Токио, 1975.
31 Кооноси Такамицу- Кодзики. Тэнно:-но сэкай моногатари [Кодзики. Повествование о мире императоров]. Токио, 1995. С. 51.
32 КоноосыГакалшиу. Кодзики Нихон сёки гайсэцу. Има Кодзики Нихон сёки-о доо миру ка [Общий взгляд на «Кодзики» и «Нихон сёки». О том, как они видятся в настоящее время] //Кодзики Нихон сёки хиккэй [Неотъемлемые от нас «Кодзики» и «Нихон сёки»]. Токио, 1995. (Бэссацу кокубунгаку; № 49). С. 6—10.
3' Окада Сэйдаи. Кики синва-но сэйрицу [Теория мифов «Кодзики» и «Нихон сёки»]. Токио, 1975; Мацумаэ Такэси. Кодай дэнсё то кютэй сайси [Предания
«Нихон сёки»
— культурный полицентризм и выбор культуры
69
древности и обряды при дворе]. Токио, 1974; Окада Сэйдаи. Кодай окэн-но сайси то синва [Ритуалы легитимации древних правителей и мифология]. Токио, 1975; Окада Сэйдаи. Синва то кютэй сайси [Миф и придворные ритуалы]. Токио, 1980.
Относительно упоминающихся в связи с этой теорией придворных ритуалов см. описание обрядов и возглашаемые при этом тексты в работе: Норито. Сэммё. Указ. изд.
34 Некоторым исследователям удается увидеть вполне определенную картину — например, китайский переводчик «Нихон сёки» считает это произведение японским «Чуньцю» — см.: Ван Сяолянь. Даого чуньцю — жибэнь щуцзи. Шибао вэньхуа, 1988.
Скажем, кстати, о имеющихся на сегодня других переводах памятника. Помимо китайского существует еще два — упоминавшийся перевод на английский В. Г. Астона, изданный впервые в 1896 г., и перевод К. Флоренца — Nihongi oder «Japanische Annalen» (Die Historischen quellen die «Shinto religion»). Dr. Karl Florenz, 1917.
35 Кооноси Такамицу. Каё моногатари-рон дзёсё [Введение в теорию песенной повествовательное™] //Нихон бунгаку. 1978. № 8.
4 Масимо Ацуси. Каё то сэцува [Фольклорная песня и повествование] //Каё [Фольклорные песни]. Токио, 1996. (Кодай бунгаку кодза [Лекции по древней литературе]; № 9). С. 57.
37 Культура этой зоны до сих пор ощущается в остальной Японии как нечто чуждое, и если для иностранца, съездившего на Окинаву, это часть его путешествий по стране, то японцы, чуткие к своим культурным доминантам, реагируют на Окинаву иначе. Обычная оговорка — высказывание вроде: «я ездил на Окинаву и только на прошлой неделе вернулся в Японию», словно человек побывал заграницей. Речь здесь идет, конечно, не только о климатических и геоботанических отличиях.
38 Нечто похожее писал известный японский этнограф Оригути Синобу, сопоставляя длинные и короткие жанры антологии «Манъёсю» и соотношения типа нагаута — каэсм-ута.
39 Фукуда Акира. Сэцува то катаримоно [Жанры повествований и сказаний] / /Кайсяку то кансё. 1981. № 8.
40 В «Кодзики» этот фрагмент имеет следующий вид: «Тогда Такэсиути-но сукунэ: "С нижайшим трепетом вопрошаю: священное дитя, пребывающее в утробе этого божества, нашего божества великого, что это за дитя?" — сказал. "Дитя мужеского пола", — так ему в изъяснение речено было. Тогда [Такэсиути-но сУкунэ] расспрашивать подробно начал: "Хотелось бы узнать, каково имя этого божества великого, ныне наставления дающего", — так молвил, и ему, ответствуя, Речено было: "Это сердце Превеликой богини Аматэрасу. А также трех великих божеств-столпов Сокотуту-но во, Накатуту-но во и Уватуту-но во. (Тогда и вышли На явь священные имена этих трех божеств.) И если нынче в самом деле помышлять ° завоевании той страны, то надлежит принести дары всем-всем божествам неба, божествам земли, а еще божествам гор, а также божествам рек и морей, нашу
70
Л. М. Ермакова
душу священную на ладью поместить, в тыкву вложить пепел священного дерева, во множестве палочки для еды и плоские блюда изготовить и пустить все это плавать по морю великому, а уж после этого переход по морю совершать"» (К94— Т. 2. С. 81-82).
41 Этим, по-видимому, стала заниматься палата Ооута-докоро (буквально Великое место песен, там же впоследствии сочинялись песни по особым случаям).
42 Осуждение бесчинств Ю:ряку устами «людей того времени», говоривших о нем «это очень дурной государь», не мешает авторам, во-первых, в начале свитка о Ю:ряку сообщить, по примеру других правителей, что «когда государь родился, то дворец заполнило Небесное сияние», а также вложить в его уста перед смертью длинную китайскую тираду о том, как он пекся и радел о народе, в результате чего «воистину мир стал единым домом, на десять тысяч ри вдаль [видны] дымки [очагов]. Сто родов в спокойствии слушаются правителя, четыре окраинных варвара покорены».
43 Системы родства и неразбериха в классификационных терминах, к которым приводит нарушение системы, становятся объектом не только трагедий, но и пародий, а также шуточных загадок во многих культурах.
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст
Представление о древней истории, как о предмете устоявшемся, требует постоянной корректировки. В сущности, несмотря на многовековую традицию изучения, ввиду естественной ограниченности источниковедческих данных она обладает гораздо меньшей степенью «предсказуемости», нежели история новейшая. Еще совсем недавно казалось, что основным источником пополнения первичных знаний о японской древности являются находки археологов, связанные с обнаружением различных предметов, которые принято (весьма условно, разумеется) относить к проявлениям «материальной культуры».
Действительно, последние десятилетия обеспечили лавинообразный прирост археологической информации, которая позволила существенно пересмотреть всю раннюю историю Японского архипелага. Термин «Японский архипелаг» употреблен в данном случае не случайно. Дело в том, что исследователи «японской» истории и культуры все в большей степени склонны видеть на территории архипелага не только структуры и институты централизованного государства, но и региональные культурные варианты, зачастую весьма мало связанные с реалиями, зафиксированными в памятниках письменности, являющихся продуктами официальной идеологии. В настоящее время окрепло осознание неоднородности историческо-культурной ситуации как на самом Хонсю, так и в более отдаленных от собственно Ямато (т. е. Центра Хонсю) регионах — Хоккайдо, Окинава, Сикоку и Кюсю.1
Это переосмысление в значительной степени было связано с пересмотром казавшейся незыблемой ранее аксиомы о ведущей роли заливного рисосеяния в экономике ранней Японии. Признавая чрезвычайно большую хозяйственную, социальную и культурную роль заливного рисосеяния, пришедшего на Архипелаг в III в. до н. э. с потоком переселенцев с
72
А. Н. Мещеряков
Корейского полуострова сразу в своем законченном виде (наиболее ранее свидетельство богарного рисосеяния обнаружено в Итадзукэ, преф. Фукуока, 1200 г. до н. э., но тогда оно не получило сколько-нибудь широкого распространения), исследователи акцентируют ныне внимание на том, что территория Архипелага представляет собой сочетание трех природных зон: равнинной, горной и прибрежной. Этим зонам соответствуют три хозяйственно-культурных уклада —- земледельческий (где с течением времени роль заливного рисосеяния имеет тенденцию к увеличению); охотничье-собирательско-земледельческо-лесоводческий и рыболовецкий.2 Рассмотрение двух последних выпадало из внимания исторической науки (которая ассоциировалась прежде всего с письменными текстами) главным образом в связи со спецификой имеющихся письменных источников: поскольку японское государство было прежде всего государством земледельцев, то и тексты, им порождаемые, отражали по преимуществу реалии земледельческого общества.
Пожалуй, именно роли моря в становлении и развитии японской культуры было посвящено за последние годы наибольшее число проблемных работ. Они уделяли внимание самым различным аспектам, из которых наиболее важными следует признать следующие: море как источник белковых продуктов питания (именно поэтому Япония могла существовать без сколько-нибудь развитого животноводческого комплекса), особенности социальной организации и культуры рыболовов (в сопоставлении с земледельцами), морская среда как проводник информации. Если раньше подчеркивалась изолирующая роль моря в деле осуществления межкультурных контактов, то теперь морская среда получает статус специфического канала информации, степень «проводимости» которого напрямую зависит от конкретных исторических обстоятельств, форм хозяйственной адаптации по отношению ко вмещающему ландшафту, внутренних установок культуры. В связи с этим и наполнение самого термина «островное государство» получает новое содержание, а сам Архипелаг в значительно большей степени начинает рассматриваться в контексте региональной (дальневосточной) истории и культуры. Поэтому в настоящее время, в отличие от прошлых лет, работы по истории ранней Японии уделяют большое внимание синхронным событиям на континенте, без понимания которых история Архипелага, собственно Японии, представляется невозможной.
Особенный интерес вызывают исследования, пытающиеся ответить на вопрос о том количественном и качественном вкладе, который
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст
73
внесли переселенцы с материка (в основном, из Кореи и Китая) в формирование древнеяпонской культуры и цивилизации. Появилось немало исследований, пытающихся определить интенсивность переселенческого потока, без учета которого цивилизационный прорыв Японии вряд ли мог бы состояться.3
Получается, таким образом, что инструментарий историка древней Японии существенно расширился: помимо традиционных дисциплин (текстологии и бурно прогрессирующей археологии) достаточно активно привлекаются методы культурной антропологии, лингвистики, этнографии, исторической демографии и т. д. — в их сравнительно-исторической ипостаси. За счет этого в последние годы произошло существенное преодоление той определенной «провинциальности» японистики, которой та характеризовалась в течение длительного времени, что было вызвано прочной зависимостью от многовековой исторической традиции изучения истории Японии «изнутри» самими японскими мыслителями, историками и филологами.
Для целей нашего исследования среди открытий последнего времени в особенности важны те, которые напрямую связаны с письменной культурой. Может быть, наиболее информативными находками следует признать массовое обнаружение памятников эпиграфики, т. е. класса текстов, ранее практически отсутствовавшем в научном обороте, что всегда вызывало сильное удивление специалистов, подпитывая постоянно возникавшие вопросы относительно происхождения, степени аутентичности и реального функционирования в обществе первых нарративных памятников письменности — «Кодзики» и «Нихон сёки», ибо казалось, что степень распространения письменной культуры вплоть до VIII в. близится к нулю.
Одной из наиболее значимых находок в этой области стало обнаружение «меча из Инарияма». Этот меч, изготовленный в южном Китае, с надписью из 115 иероглифов был найден в 1978 г. при Раскопках кургана Сакитама-Инарияма неподалеку от Токио. Надпись, Датируемая рубежом V—VI вв., вначале перечисляет восемь колен предков по мужской линии некоего Вовакэ-но Сукунэ. Затем говорится следующее: «Из поколения в поколение до сегодняшнего дня [мои "Редки] служили в качестве главы [корпорации] меченосцев. Когда великий государь Вакатакэ [видимо, речь идет о Ю:ряку. — А. М. ] пребывал во дворце Сики, я помогал ему управлять Поднебесной и Повелел изготовить этот острый стократно закаленный меч и записать
14
А. Н. Мещеряков
истоки моей службы».4 Как видно из этой надписи (в грамматике китайского языка которой обнаруживается немало кореизмов), мы, имеем дело с государственным образованием, обладающим уже достаточно развитой и продолжительной традицией, временной аспект существования которого описывается в терминах преемственности полномочий, передаваемых от отца к сыну.
Тем не менее, и меч из Инарияма, и известные ранее другиЦ надписи на мечах, и надписи на буддийских статуях и в буддийских храмах, на погребальных стелах не имеют действительно массового, характера и могут определяться лишь как «точечное» проникновение письменной культуры, связанное, в основном, с инфильтрацией^ переселенцев с материка.
Скорость и интенсивность протекания информационных процессор представляет собой чрезвычайно важный признак устойчивого развития общества. Только при наличии разветвленных информационных сетей, обеспечивается надежная передача навыков, умений, технологических новаций, идей, распоряжений «правительства» и т. д. В осуществлении' этого коммуникативного процесса организующую роль государства трудно переоценить. Разумеется, государство преследует при этом прежде всего свою выгоду: необходимость держать в повиновении определенную территорию и обеспечивать бесперебойное поступление налогов диктуют его объективную заинтересованность в создании медиаторов, опосредующих отношения между правителем и подданными,' между центром и периферией.
Выбор определенных типов медиаторов оказывает огромное влияние на весь последующий исторический и культурный процесс. Там, где, был сделан выбор в пользу силовых отношений, ситуация существенно, отличается от положения в тех традициях, где определяющим способом взаимного воздействия стала информация (в самом широком смысле^ этого понятия). Разумеется, не существует «чистых» вариантов — силовые и информационные отношения дополняют друг друга. Но| своеобразие конкретной культуры в значительной степени определяется, соотношением между различными типами медиаторов.
Похоже, что, начиная со второй половины VII в., в Японии после завершения ожесточенной борьбы за верховную власть среди различных представителей правящего рода (см. об этом записи «Нихон сёки», относящиеся к правлению Тэмму) делается выбор в пользу письменных средств коммуникации. Общегосударственное информационное поле,
■ Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст
15
обеспечивающее общий фонд памяти с помощью знаковой системы, вСе более вытесняет установку на применение силовых методов (хотя Mbi совершенно не намерены сбрасывать их со счета). Чрезвычайно характерно, что постоянный эпитет государя касикоси («грозный») постепенно сменяется на ясумисиси («ведающий восемь углов»5, т. е. «знающий» — видимо, имеется в виду сакральный дар видения — все, что творится в его стране6): в поэтической антологии «Манъёсю:» (середина VIII в.)7 зафиксировано 27 случаев употребления этого эпитета8. Наглядным символом этого был восьмиугольный трон государя. Однако логика интеллектуального развития человека с неизбежностью приводила к вытеснению сакрального «ведания» прагматическим знанием.9
С этой точки зрения чрезвычайно важным было открытие не слишком известного ранее типа текстов (его корпус ограничивался приблизительно 350 образцами, находящимися в хранилище Сё:со:ин в Нара), зафиксированных на так называемых «деревянных табличках» (буквально «деревянных письменах» — люккан). Данный тип эпиграфики был известен в Китае и Корее (там эти таблички, в отличие от Японии, было принято сшивать, а изготавливались они не из дерева, а из бамбука), однако количество находок в самой Японии не позволяло говорить о сколько-нибудь широком распространении как их самих, так и письменной культуры вообще. Однако раскопки, проводившиеся с 1961 г. в Нара, позволили сделать заключение о весьма широком распространении этого типа эпиграфики: к настоящему времени обнаружено приблизительно 160 тысяч табличек, причем количество мест находок составляет около 250. При этом наибольшее число находок концентрируется в Фудзивара (служила рециденцией правителей Ямато в 694—710 гг.) и Нара, но встречаются они и на периферии государства. При раскопках усадьбы принца Нагая (первая половина VIII в.) в 1988 г. было открыто наиболее масштабное хранилище табличек — около 30 тысяч.
Научную обработку массива этого типа эпиграфики отнюдь нельзя назвать законченной. Ограничимся поэтому лишь самыми общими сведениями, имеющими непосредственное отношение к проблематике Данной публикации.
К настоящему времени обычно выделяют три главных типа сообщений на моккан: экономическо-социальная информация (главным образом, данные о доставке и складировании налогов, кадровые
76_А. Н. Мещеряков
«Нихон секи»: историческая мысль и культурный контекст
77
таК называемых «государственных дорог» (кандо:), соединявших области, Управления провинций (около 60) и Управления уездов (около 500). В зависимости от величины почтового двора на них содержалось от 5 до 20 лошадей. Как правило, эти почтовые дворы располагались на расстоянии приблизительно 16 км друг от друга. Археологические разыскания показали, что дороги этого времени были прямыми, т. е. они в значительной степени сложились не в результате «естественного» и стихийного хода событий, но как последствия планомерной деятельности государства. Созданная дорожно-транспортная система показала свою эффективность. В VIII в. расстояние между Кюсю и Нара покрывалось за 4—5 дней, а между северо-восточными районами Хонсю и столицей — за 7—8 дней (вместе с эрозией государственных институтов и структур в период Хэйан в начале IX в. этот срок увеличился до 6-12 дней в первом случае и до 13 дней — во втором).в Совершенно понятно, что массовый обмен письменной информацией мог быть обеспечен только при условии организации планомерного процесса обучения. И действительно, школы чиновников создаются в Японии достаточно рано: столичная — в 670 г. (около 450 учеников), провинциальные — в 701 г. (с числом учеников от 24 до 60). Кроме того, существовали школы медицины и астрологии (общее число учеников — около 110). Если учесть, что какое-то количество буддийских монахов получало образование при монастырях, станет понятно: система образования (в весьма значительной степени инициированная государством и поддерживаемая им в работоспособном состоянии) отличалась размахом достаточным, чтобы обеспечить реальное функционирование письменности как средства управления и коммуникации. Усвоение единого корпуса китайских текстов (государственной мысли, т. е. законов, хроник и указов — для чиновников, и буддийского содержания — для монашества) создавало единую культурную память, без которой невозможно формирование общенациональной культуры. Исследования последнего времени показывают, что приобщение японцев к достижениям континентальной цивилизации и культуры в очень значительной степени обеспечивалось (в особенности начиная с VIII в.) не столько личными контактами, сколько с помощью письменных каналов информации (ввоз книг, их переписывание и распространение). Однако, несмотря на довольно широкое распространение письменности и унаследованный от Китая пиетет перед грамотностью, сама идея о том, что мудрость и знания могут послужить
перестановки в аппарате управления); тексты, использовавшиеся в процессе обучения (выдержки из произведений китайской философской мысли); японские стихи, записанные иероглифами в их фонетической функции.
Двор требовал от провинций детальнейших отчетов о составе податного населения, сборе налогов и т. д. Подобная документация отправлялась ко Двору в VIII в. несколько раз в год, причем ее одноразовый объем, как то свидетельствуют сохранившиеся данные по провинции Идзумо, мог доходить до 45 свитков10. Что касается документов, присылаемых из Центра, то одной из самых массовых находок являются календари11, призванные обеспечить создание единого общегосударственного времени, «вмещающего» в себя всю остальную информацию, необходимую для функционирования государства.
Еще одним источником информации относительно жизнедеятельности государства являются массовое обнаружение в последние годы урусигами мондзё — черновиков отправляемых из регионов в Центр сообщений (преимущественно хозяйственного характера), представляющих собой исписанную бумагу, которая использовалась в качестве «затычек» керамических сосудов для хранения лака. Этот своеобразный тип источников также служит важным свидетельством широкого распространения письменной культуры в Японии VIII в.с
Создание единого общегосударственного информационного поля сопровождалось значительной активностью в области дорожной инфраструктуры. Она была призвана облегчить обменные процессы между центром и периферией, между отдельными регионами, различными хозяйственными укладами. Еще в VII в. было построено несколько дорог, соединявших резиденции японских правителей с Нанива (соврем. Осака), где находился морской порт. О выдающемся значении, придававшемся раннеяпонским государством строительству дорог, свидетельствует знаменитый «манифест Тайка» (645 г., см. «Нихон сёки», Тайка, 2-1-1), знаменующий собой начало реформ и перехода к «современному» государству. В этом указе наряду с радикальными реформами прежней системы социально-политического и экономического устройства (отмена частной собственности на землю, введение надельной системы землепользования и др.) большое внимание уделяется созданию сети почтовых дворов, призванных обеспечить бесперебойное сообщение — быстрое прохождение информационного сигнала и налогово-товарных потоков. В VIII в. страна была уже покрыта целой сетью
78
А. Н. Мещеряков
основанием для вертикальной мобильности, в Японии широкого признания не получила. Японское общество оказалось намного более закрытым, чем китайское, и система конкурсных экзаменов на занятие чиновничьей должности никогда не имела там серьезного значения, ибо основным социально значимым параметром всегда оставалось происхождение14. Японская культура практически не знает фигуры мудреца, порожденного социальными низами — одним из основных условий наличия такой мудрости является аристократическое происхождение '(истинное или мнимое).
Открытие новых эпиграфических данных не только позволило разрешить некоторые частные проблемы, представлявшие в течение длительного времени предмет для дискуссий (так, теперь окончательно признаны обоснованными ранее подвергавшиеся сомнениям данные «Нихон сёки» об образовании уездов до 670 г.). В свете этих данных само представление о «Кодзики» и «Нихон сёки» как о более или менее изолированных островках письменной культуры выглядит неубедительно. Идеологические, управленческие и регистрационные потребности государства во второй половине VII в. достигли такой остроты, что не могли быть удовлетворены без самого широкого обращения к письменности. И здесь мы можем выделить два аспекта: синхронный и диахронный. К первому относится упоминавшаяся информация, регистрирующая реалии экономической и социальной жизни государства, а также активная законотворческая деятельность («автопортрет государства»)15, к диахронному — создание мифологи-ческо-летописных сводов («автобиография государства»). Во втором случае «государство» понимается главным образом как совокупность взаимоотношений между несколькими наиболее влиятельными родами, чье прошлое и является объектом рассмотрения мифологическо-летописных сводов.
Надпись на мече из Инарияма (равно как и другие образцы аналогичной эпиграфики) однозначно подтверждает, что предметом, достойным фиксации, является, прежде всего, некоторая последовательность поколений. Собственно говоря, эта надпись представляет собой некоторый «конспект» истории рода, в котором сообщены важнейшие сведения о нем. Данная надпись, видимо, представляет собой вариант (инвариант) тех речений, которые возносились главами наиболее могущественных родов во время отправления ритуала погребения правителя.
Событием, квалифицируемым японской культурой как «главное», также является акт наследования главы одного рода другому — с той лишь оговоркой, что в «Нихон сёки» применительно к правителю это событие обладает большей универсальностью. В связи с этим такую важность и приобретает весь генеалогический комплекс. Правления различных «государей» охарактеризованы в «Нихон сёки» (как, впрочем, и в «Кодзики») с различной полнотой, и единственным общим для всех правлений элементом является фиксация генеалогической информации: родители данного государя, его жены, наложницы и дети. Получается, таким образом, что только такого (т. е. имеющего вертикальные родственные связи) государя можно признать «состоявшимся» — никаких других «деяний» за ним может и не числиться. Поэтому и основным квантом социального времени признается в культуре поколение, в случае с хроникой — правление. Для Японии, не знавшей феномена смены правящих династий и, несмотря на массированные заимствования с материка, отвергнувшей китайскую идею «мандата Неба» (т. е. этического оправдания принципиальной возможности смены правящей династии), именно правление государя из не знающей перерыва или смены династии образует основу счета исторического линейного времени. Основы такого мировидения мы можем отнести по крайней мере к так называемому «курганному периоду» (кофун, HI—VI вв. н. э.), когда начинается массовое строительство масштабных курганных сооружений, призванных выразить идею надличностного значения, придаваемого смерти главы рода (позднее — правящего дома, государства) — смерти, которая, будучи включена в рамки определенных ритуальных процедур, содержит в себе и начала правопреемственности. Недаром поэтому те не слишком многочисленные надписи на мечах, которые были обнаружены в курганных захоронениях, акцентируют прежде всего именно идею преемственности.
Получается, что, по крайней мере начиная с этого времени, преемственность и весь комплекс представлений, с ней связанных, становятся Для японской культуры одним из основных предметов переживаний и рефлексии.16 Происходит становление того, что мы назвали «генеалогическим кодом» японской культуры. Выяснение происхождения или же его подтверждение занимают выдающееся место во всех позднейших социальных построениях, которые были продуцированы японской культурой17. К одному из таких построений и относится «Нихон сёки».
Весь модус раннеяпонской культуры показывает, что контроль над прошлым приравнивался ею к контролю над настоящим, а значит и
60
А. Н. Мещеряков
будущим. Построение «правильной» версии прошлого служило гарантией существования «правильного» настоящего. Для японского государства VIII в. (напомним, что составление «Нихон сёки» было закончено в 720 г.) это означало прежде всего подтверждение легитимности правящей династии, чему и должен был послужить рассматриваемый нами памятник. Более конкретно, это означало проведение генеалогической связи между богиней солнца Аматэрасу и правящим родом. Именно прямое наследование, а не какие-нибудь достоинства этического или же еще какого-нибудь свойства, является вполне самодостаточным. В силу «объективности», бесспорности генеалогического критерия этическая оценка того или иного правителя либо вообще лишается смысла, либо не имеет определяющего значения.
Эта связь между прошлым и настоящим чрезвычайно важна для понимания механизма функционирования культуры. Прошлое не является в нем самодостаточным (в противном случае японская культура была бы лишена присущего ей динамизма* ). В значительной степени ему приписывается инструментальная функция — верификация истинности настоящего и его корректировка. Поскольку предисловие к «Нихон сёки» не сохранилось (может быть, его и не имелось), процитируем предисловие к «Кодзики», которое в данном случае может быть признано в своих основных положениях вполне репрезентативным: «Известно Нам [т. е. государю Тэмму. — А. М. ], что «Записи об императорах» и «Записи о делах бывших», которыми владеют многие дома, расходятся с действительностью, и в них накопилось немало лжи. Если ошибки не будут исправлены сейчас, то истина останется сокрытой навсегда. В истине — основа государства и оплот государя, а потому надлежит привести в порядок «Записи об императорах» и исправить «Записи о делах бывших», изгоняя ложь и утверждая истину, дабы она стала известна потомкам».
Таким образом, «правильный» исторический текст выполняет роль медиатора, соединяющего разные временные миры (прошлое-настоящее—будущее), которые персонифицируются в мире предков— мире людей—мире потомков. Получается, что письменный текст берет на себя функции, которые ранее принадлежали исключительно ритуалу, обеспечивая социальную консолидацию и «склеивание» времени.
Не случайно поэтому, что само порождение письменного текста и его реальное функционирование могут обрастать некоторым ритуальным обрамлением. Это хорошо видно на истории создания «Кодзики»,
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст
81
когда сначала сказитель Хиэда-но Арэ заучивает текст наизусть, а затем под его диктовку он кладется на бумагу, т. е. при записи текста используется привычный для порождения (трансляции) сакрального текста канал — устный. Подобных сведений относительно «Нихон сёки» не имеется. Судя по правильности использования в памятнике литературного китайского языка (вэнъянь), он с самого начала создавался как текст письменный. Однако дальнейшая история его функционирования также связана с определенными ритуальными манипуляциями. Дело в том, что, в отличие от «Кодзики», текст «Нихон сёки» предназначался для реального чтения — зафиксированы факты его публичного, т. е. ритуально-церемониального, чтения.
Несмотря на сходство целей обоих текстов, между ними есть и существенные отличия, которые объясняют — хотя бы отчасти — почему два однонаправленных памятника были созданы с таким небольшим — всего в восемь лет — хронологическим разрывом.
1. Если повествование «Кодзики» воспроизводит раннюю генеалогическую структуру, для которой характерно превалирование рода Отомо и его ответвлений, то «Нихон сёки» отражает возвышение рода Фудзивара (ответвление старинного жреческого рода Накатоми) и придает одновременно большее значение служилой знати.
2. По сравнению с «Кодзики» (3 свитка) содержание «Нихон сёки» (30 свитков) намного богаче: приводится несколько вариантов одних и тех же мифов, преданий и сообщений, деяния правителей охарактеризованы значительно подробнее, повествование доводится до 697 г. (в «Кодзики» оно обрывается правлением Суйко — 628 г.).
3. Если представить себе количественную сторону информации, сообщаемой хрониками, в виде пирамиды, то в «Кодзики» она будет иметь основанием далекое прошлое (описание последних по времени правлений представляет собой лишь генеалогическое древо правящего Дома), а в «Нихон сёки» — близкое прошлое: хронология событий последнего времени имеет явственную тенденцию к детализации и охвату более широкого круга явлений. «Чем более "историческим" (т. е. противоположным космологическому) становится описание, тем более строгой и регулярной становится хронология описываемого. Ее последующее торжество связано с применением как раз к наиболее Десакрализованным областям».19
4. Будучи ориентирована сугубо на синтоистские ценности, «Кодзики» совершенно не отражает не только процесс распространения
82 _/4. Н. Мещеряков_
«Нихон секи»: историческая мысль и культурный контекст
83
неоднократные модификации; провозглашен указ о всеобъемлющих реформах (кайсин-но те:, Ко:току, 2-1-1, 646 г.) и т. д. И летописно-мифологический свод «Нихон сёки» был всего лишь одной ыя составляющих этого всеобъемлющего процесса.
В связи с отмеченными особенностями летописно-мифологический свод «Кодзики» не находился в реальном информационном обороте и представлял собой, по всей вероятности, забракованную культурой версию прошлого. Что до «Нихон сёки», то его «историческая» часть («эпоха императоров») заложила основы официального летописания, а мифологическая — явилась основным «работающим» вариантом письменно зафиксированного канона синтоизма.
Поэтому «Кодзики» как памятник исторической мысли стоит особняком. «Нихон сёки» же принято рассматривать в качестве первой из «шести национальных историй» (риккокуси), т. е. череды официальных хроник японского государства. К их числу относятся также: «Сёку нихонги» («Продолжение анналов Японии», 797 г.20); «Нихон коки» («Поздние анналы Японии», охватывает период с 792 по 833 г.); «Сёку нихон коки» («Продолжение поздних анналов Японии», 833-850); «Нихон Монтоку тэнно: дзицуроку» («Истинные записи об императоре Японии Монтоку», 850-857); «Нихон сандай дзицуроку» («Истинные записи о трех императорах Японии», 858-887).
Несмотря на то, что составители «Нихон сёки» находились под непосредственным влиянием китайской исторической традиции, существуют, однако, и важные отличия. К основным из них следует отнести следующие.
1. Неприятие идеи «мандата Неба» — основной концепции конфуцианской государственно-политической мысли.
2. Целью китайских династических хроник, составлявшихся после смены династии, было обоснование исторической целесообразности такой смены. «Нихон сёки» же была составлена как обоснование прямой линии наследования правящего рода Аматэрасу. Таким образом, имплицитно обосновывалась принципиальная невозможность смены Династии, которой приписывается атрибут вечного существования. Поэтому-то «Нихон сёки» имеет начало (рассказ о начале мира), но фактически не имеет конца — некоторого подведения итогов. Последняя Фраза хроники («Находясь во дворце, государыня [Дзито:] решила °тречься в пользу престолонаследника») — это просто физическая граница текста, скорее обещание продолжения, чем фиксация конца
буддизма — один из основных объектов описания «Нихон сёки», но и весь процесс реформ (так называемые «реформы Тайка», начатые в середине VII в.), призванных поставить Японию в один ряд с другими — «цивилизованными» — государствами Дальнего Востока (прежде всего — с Китаем).
5. В отличие от «Нихон сёки», «Кодзики» почти полностью игнорирует этическую оценку исторического процесса — его движителем выступают сила, ловкость, хитрость и система родства.
6. «Кодзики» не является памятником государственной, мысли в собственном смысле этого слова — субъект порождения текста квалифицируется там как «Двор», в то время как в «Нихон сёки» термин «Япония» (Ямато) употребляется регулярно, что было связано с ориентацией на систему терминологии (установки) китайской государственно-политической мысли.
Получается, что текст «Кодзики» слабо учитывал реалии современного общества, соотношение сил внутри правящей элиты, что, видимо, и послужило основанием для составления «Нихон сёки». Необходимо также помнить, что сама идея писаной истории пришла в Японию с материка. Поэтому и соответствие местного творчества континентальным (прежде всего, китайским) образцам должно было служить важным параметром, по которому оценивалось «качество» летописания. И, конечно же, с этой точки зрения «Нихон сёки» находится к ним намного ближе, чем «Кодзики». Об этом, в частности, свидетельствуют многочисленные скрытые цитаты из произведений китайской фило-софско-литературной традиции.
Следует помнить, что составители «Нихон сёки» жили уже в Нара, служившей столицей Японии (резиденцией государя) с 710 по 784 г. Сам город, сработанный по подобию Танской столицы Чанъани (с некоторыми, разумеется, модификациями), служил определенным символом признания Японией китайской империи за образец, достойный подражания. И система управления, и быт правящего класса, и многое другое не могут быть поняты без того влияния, которое было оказано китайским опытом управления государством, всем строем жизни. Начало сознательного государственного строительства на «современный» манер можно отнести ко второй половине VI в. Именно тогда буддизм был воспринят в качестве одной из составных частей государственной идеологии; несколько позже была принята первая система чиновничьего ранжирования (Суйко, 11-12-5, 603 г.), претерпевшая впоследствии
84
А. Н. Мещеряков
какого-то определенного периода. Наиболее важным для японско культуры в самом феномене летописания оказалось обосновани легитимности правящего рода. После того, как этот факт был в должн! степени осознан обществом, потребность в ведении хроник отпала. Это, видимо, и послужило основной причиной, почему «Нихон сандай дзицуроку» оказалась последней «общегосударственной» хроникой, составленной по «императорскому» указу.
В отличие от китайских династийных хроник японская культура не уделяет практически никакого внимания личностям составителей «Нихо. сёки» (как, впрочем, и составителям более поздних летописей). Д-нам известно, что, согласно указу Тэмму, работа над составлени «Нихон сёки» началась, видимо, в 681 г. (Тэмму, 10-3-16), а принц крови Тонэри завершил ее в 720 г. («Сёку нихонги», Ё:ро:, 4-5-21). Получается, что, на первый взгляд, текст «Нихон сёки» вроде бы не анонимен. Тем не менее, составители «Нихон сёки» воспринималис именно как составители, но не как авторы. Авторитет же текст обеспечиваемый санкцией государства (правителя) был таков, что установки составителей (в отличие от китайских историков — скажем, Сыма Цяня или Бань Гу) не подлежали обсуждению и не становились для культуры объектом критического осмысления (полемики) вплоть до нового времени. В связи с этим и люди, причастные к написанию «Нихон сёки», не становились объектом хоть какого-нибудь внимания. Первым же историком (т. е. человеком, выработавшим личную систему взглядов) Японии свитается Дзиэн (1155-1225)21. Авторитет «Нихои сёки» в японской культуре (официальной культуре) был настолько велик, что еще в 1942 г. известнейший исследователь японской истории и культуры Цуда Согкити (1873-1961) был привлечен к судебной ответственности за публично высказанные им сомнения относительно того, до какой степени отражает «Нихон сёки» исторические реалии.
Указанные концептуальные отличия японского летописания от китайского характеризуют всю тенденцию японского летописания. Однако в «Нихон сёки» существуют и некоторые отклонения ог нее — парадигмы собственного мировосприятия еще не были осознанны в своем окончательном виде. Определенную дань китайской историографической традиции, видимо, следует видеть в критике, содержащейся в своде по отношению к Бурэцу (498-506)22, на котором прервалась прямая линия наследования от отца к сыну (престол занял потомок Огдзина, 270-310, — Кэйтай, 507-531). И хотя смены династии не
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст
85
оизошло, «Нихон сёки» восхваляет (в соответствии с китайской исторической традицией) основателя этой линии наследования — Нинтоку (313-399) и порицает Бурэцу, в чем исследователи видят определенное влияние концепции «мандата Неба»: происходит оправдание отклонения от прямой линии наследования.23
Идейное отличие «Нихон сёки» от традиции китайского летописания находит соответствие и в методах составления хроник. Тщательно отработанная китайская система летописания включала в себя три основных этапа: подневные записи (иицзюйшу, придворные историографы фиксировали любые поступки и высказывания императора); хроника отдельного правления (кит. шилу; яп. дзицуроку); династийная хроника (кит. гоши, яп. кокуси). «Нихон сёки» представляет собой — с определенными оговорками — аналог третьего типа историографии. Что касается первых двух, то они были по существу проигнорированы. Может показаться, что это было вызвано отсутствием необходимых подготовительных материалов, аналогичных тем, которые были выработаны в Китае. Однако, как показывает последующее развитие традиции летописания, это не совсем так. Даже создав высокоорганизованный государственный аппарат, японский двор никогда не имел придворных историографов первого типа. По каким-то не совсем понятным причинам историческая мысль Японии отвергла традицию составления иицзюйшу. Что касается шилу, то только две последние хроники («Нихон монтоку тэнно: дзицуроку» и «Нихон сандай Дзицуроку») в определенной мере воспроизводят этот летописный тип. Чрезвычайно показательно, что они оказались последними в череде летописей, создававшихся по государеву повелению. И дело, вероятно, не только в определенном упадке самой идеи государственности, но и в том, что данный тип исторического сознания оказался не востребованным: легитимность правящей династии была к этому времени в Достаточной степени обоснована и не подвергалась сколько-нибудь серьезному сомнению, а все остальные «исторические» вопросы не обладали должной степенью актуальности24.
Как и в любой другой культуре, обращение к истории служило для японцев средством национально-государственной идентификации. Каждое событие прошлого в силу его принципиальной уникальности и неповторимости «работает» именно в этом направлении. Поэтому время составления мифологическо-исторических сводов совершенно не случайно совпадает с фактическим переименованием страны. Если до
VIII в. японцы называли свою страну «Ямато» (видимо, название племени, на основе которого и сформировалась ранняя государственность, или же топоним в Центральной Японии), то в 702 г. мы впервые встречаемся с топонимом «Япония» («Нихон» или же «Ниппон», что буквально означает «Присолнечная [страна]»). Именно так назвал свою страну Авата-но Махито, отправленный послом в Танский Китай. Танская хроника отмечает: «Япония — другое название Ямато. Эта страна находится там, где восходит солнце, и потому ей дали название Япония» 25.
Думается, что для переименования страны существовало несколько оснований. Во-первых, двор Ямато желал подчеркнуть, что отныне, вместе с проводившимися широкомасштабными реформами, Китай имеет дело с обновленной страной, жизнь в которой устроена на цивилизованный манер (только что, в 701 г., был введен в действие законодательный свод «Тайхо: рицурё:», моделью для которого послужило китайское законодательство). Во-вторых, само новое название — «Присолнечная» (т. е. лежащая на востоке) использовало сложившуюся на Дальнем Востоке систему географических координат (самоназвание Китая — это «Срединная страна»; континентальные государства — Китай и страны Корейского полуострова — традиционно воспринимались в Японии, как «лежащие за Западным морем»; в «Нихон сёки» и других раннеписьменных памятниках зафиксировано несколько случаев, когда понятие «Ямато» передается иероглифом «восток»). Таким образом, в акте переименования содержался как «интернационализирующий» элемент, так и четкое указание на место Японии в этой системе координат. В-третьих, процесс упрочения позиций правящего рода привел к повышению статуса его прародительницы — богини Солнца Аматэрасу («светящая с неба» или «освещающая небо»), в связи с чем вся солярная семантика приобретала особое значение. Достаточно отметить, что престолонаследник именовался «сыном Солнца, сияющего высоко», а сам акт восхождения на престол описывался как «наследование небесному Солнцу». Смерть же государя воспринималась как утеря солнечного света.
Солярная семантика имела для Японии огромное культуроформи-рующее значение: весь мифологический комплекс, связанный с Аматэрасу (см. в особенности эпизод ее сокрытия в небесном гроте), говорит в пользу этого заключения. Этот комплекс был актуализирован и в историческом (квазиисторическом) повествовании как «Кодзики», так и «Нихон сёки».26
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст
87
Ни в буддизме, ни в китайской религиозно-философской традиции восток не имеет такого значения, какое он приобрел в Японии. Как свидетельствует приведенный в примечании рассказ, для японской традиции характерно понимание восточно-солнечного направления как несчастливого, сулящего поражение, если быть обращенным к нему лицом. Вполне возможно, что это была одна из причин, по которой правители Японии пожелали заложить эту магическую «мину» под Китай и Корею. Провокационный характер нового названия страны явствует и из записи китайской хроники «Суй-шу», в которой сообщается, в какое негодование пришел китайский император при получении послания, в котором говорилось: «Сын Неба страны, где восходит солнце, обращается с посланием к Сыну Неба страны, где
солнце заходит» 27
Переименование страны маркирует собой чрезвычайно важный для истории японской культуры момент: начиная приблизительно со второй половины VII в. происходит постепенное переосмысление отношения правящей японской элиты к материку. После ряда поражений японских экспедиционных войск на Корейском полуострове, где они пытались защитить интересы Пэкче в борьбе этого государства с объединенными силами Силла и Танского Китая, Япония поневоле отказывается от проведения активной внешней политики и обращает основные усилия на переустройство внутренней жизни. От моря начинают ждать неприятностей, усиливается охрана южных границ, строятся крепости — ввиду опасений перед возможным вторжением на Архипелаг войск Силла и Китая: вместе с гибелью Пэкче (663 г.) и Когурё (668 г.) военные амбиции Силла и Танского Китая значительно возросли. Создается впечатление, что именно в это время в Японии теряется комплекс «державности» (самоутверждения в международных делах за счет силового доминирования) и делается выбор в пользу интенсивного пути развития за счет внутренних ресурсов, что сопровождается постепенным нарастанием общей интровертности культуры. И хотя расширение территории японского государства продолжалось на Хонсю вплоть до X в. в северо-восточном направлении, водное пространство, отделяющее Хонсю от Хоккайдо, преодолено фактически не было. Более того, север Хонсю, населенный племенами эмиси, входил в состав государства скорее номинально (даннические отношения).
Для постепенного нарастания интровертности существовали серьезные предпосылки общего характера, коренящиеся в способах
88__А. Н. Мещеряков__
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст_89
количество посещавших Китай (в среднем за год число путешественников — по официальным каналам — можно оценить в 30-40 человек) позволяет предположить, что, помимо переселенцев с материка (беженцы из завоеванных Силла Пэкче и Когурё), основным средством приобретения необходимой информации и навыков были книги, которые, после возвращения на родину, изучались, переписывались и распространялись. Обмен между Японией и материком осуществлялся прежде всего в информационной, а не товарной сфере. Как и в более поздние времена, японцев значительно больше интересовали идеи, know-how, а не готовые к употреблению продукты. Несмотря на то, что японцы (как на уровне посольств, так и по количеству посылаемых для обучения в Китай студентов) драматически уступают в интенсивности контактов с Китаем Силла, знакомство японцев со всеми проявлениями китайской жизни отнюдь нельзя признать в чем-то уступающим знаниям силланцев. При этом исторически почти полное отсутствие у Китая интереса к Японии давало возможность избирательного отношения к получаемой информации и интерпретирования ее с точки зрения сложившихся условий и менталитета. Именно с этой точки зрения и следует рассматривать проблему составления «Нихон сёки» — желая походить на Китай, не в меньшей степени японцы стремились и к самоидентификации. И в этом смысле «Нихон сёки» как бы подводит итог широкомасштабным реформам, проведение которых отражено и в мифологическо-летописном своде. Его составители как бы говорят читателю: мы стали цивилизованными, но все-таки на свой лад. И наша история — тому порукой.
Вряд ли подлежит сомнению, что японцы имели достаточно полный Доступ к китайской историографической традиции (обеспечивался посольствами, посылкой студентов, монахов, потоком переселенцев — согласно генеалогическим спискам начала IX в. «Синсэн сёдзироку», около трети высшей элиты японского общества были недавними выходцами с материка). В донесении 769 г., направленном ко Двору из Дадзайфу (Управление делами Кюсю) сообщалось, что там имеются экземпляры «Пятикнижия», однако отсутствуют хорошие копии «Исторических записок» Сыма Цяня, а также «Хань-шу» и «Хоухань-Шу» («История Хань» и «История поздней Хань»), что создает неудобства для студентов школы чиновников. В связи с этим обращением испрашиваемые сочинения (а также некоторые другие) были незамедлительно высланы, что свидетельствует о налаженной
хозяйственной адаптации населения Центральной и Южной Японии к вмещающему ландшафту и климатическим условиям. К важнейшим из них следует отнести следующие.
1. Принятая этим обществом трудозатратная, но очень эффективная культура заливного рисосеяния, приводящая к большой степени оседлости.
2. Отсутствие полноформатного скотоводства (всегда провоцирующего выбросы населения во «внешнее» пространство) ввиду ограниченности подлежащей активному хозяйственному освоению сухопутной территории, малой нужде в органических удобрениях (заливное рисосеяние их не требует) и обеспеченности животным белком за счет чрезвычайно богатых рыбных запасов.
3. В связи с двумя вышеуказанными факторами происходит обращение прежде всего к интенсивным факторам развития — освоению, культивированию, структуризации главным образом ближнего
78
пространства.
Отказавшись от решения военно-политических задач на Корейском полуострове, японское государство, однако, еще не утеряло в этот момент интереса к культурному взаимодействию с материком. Тем не менее, приоритеты были резко изменены. Если раньше наибольший интерес вызывали государства Корейского полуострова (в особенности Пэкче — именно через эту страну поступал в Японию основной объем культуросодержащей информации с материка), то теперь взоры японцев были обращены непосредственно к Китаю. Успев отправить четыре миссии к Суйскому двору, Япония продолжала посылать посольства в Китай Танский: с 630 до 838 г. (время последней миссии) со средней периодичностью в 14 лет. Первые посольства к Танскому двору состояли из одного или двух кораблей (на каждом — от 120 до 160 человек). В VIII веке отправлялось уже обычно четыре корабля. Наиболее многочисленное посольство датируется 838 г. — более 600 человек.
Обычно в состав посольств входили собственно дипломаты, специалисты (врачи, астрологи, фармацевты, ремесленники), знатоки китайской письменной традиции и монахи, экипаж кораблей — до 40 процентов общей численности миссии — конструктивное несовершенство судов компенсировалось мускульно-весельной силой. Помимо выполнения политическо-этикетных задач, посольства являлись поставщиками разнообразной письменной информации — на приобретение книг выделялись специальные ассигнования. Не слишком большое
90
А. Н. Мещеряков
работе по переписке этих произведений китайской исторической мысли. В реестре книг, ввезенных в Японию к IX в., содержится более 200 названий (4200 свитков) книг по истории. Однако давление местной традиции, стадиальное состояние общества и умов, безусловно, предъявляли свои требования.
Начиная с «Исторических записок» структура китайских династических хроник выглядела следующим образом: 1. «Основные записи» (изложение главных исторических событий); 2. «Трактаты» (сведения о законах, церемониях, пище, чеканке монеты и др., т. е. о различных сферах жизнедеятельности государства и общества); 3. «История домов» (данные по генеалогии); 4. «Жизнеописания» (биографии выдающихся деятелей); 5. «Хронологические таблицы» (систематизация хронологии).
Тщательный текстологический анализ «Нихон сёки» показывает, что наибольшее непосредственное влияние на составителей памятника оказали династийные хроники, отражающие реалии ханьского времени (видимо, сказалась определенная стадиальная близость государства эпохи Хань и Японии VII—VIII вв.). Однако в «Нихон сёки» абсолютно господствует погодный принцип изложения — отсутствуют такие обязательные после Сыма Цяня разделы династийных хроник, как «Трактаты» и «Жизнеописания». Фактически подход составителей «Нихон сёки» (как и более поздних японских хроник) сочетает в себе китайскую традицию погодной летописи, так и те разделы (за исключением, пожалуй, «Хронологических таблиц»), на которые разбил свое повествование Сыма Цянь, но в Японии соответствующие сведения были вплетены в ткань погодного повествования. Это свидетельствует прежде всего о том, что любой принцип организации информации, кроме хронологического, был в это время японцам чужд или же интеллектуально недоступен (единственное исключение — «предварительные записи» «Нихон сёки», предшествующие каждому правлению, где, по преимуществу, излагаются генеалогические сведения, касающиеся правителя, и обстоятельства его восхождения на трон). В сущности, здесь очень много от мифологии, от повествовательного творчества вообще — с его устной передачей традиции, где главным элементом, цементирующим повествование, является последовательность некоторых действий его героев. Способность же к тематической организации исторического материала была продемонстрирована японцами много позднее. Видимо, подобно эмбриону, человеческое общество и сознание не в состоянии «перепрыгнуть» через этап — оно должно пройти
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст_97
<<нормальныи» путь развития, хотя, под воздействием внешних влиянии обстоятельств, он и может быть несколько короче. В сущности, время составления «Нихон сёки» с точки зрения общей направленности мысли можно определить как время господства исторического сознания. Практически все имеющиеся в нашем распоряжении нарративные тексты следует квалифицировать как исторические, т. е. такие, где хронологическая последовательность является основным структуроформирующим принципом. Всякий объект описания рассматривался во временном аспекте, а те явления, которые в историческом свете отразить было невозможно, не становились, как правило, объектом изображения. Общий мыслительный уровень культуры Японии был таков, что основным средством самоидентификации любой группы (в том числе и государства) и движения являлась именно история, а основу языка описания составляла хронология (мы имеем в виду, разумеется, только письменные формы культуры). Весьма показательно, что даже чрезвычайно высокоразвитая религиозно-философская традиция буддизма начинает продуцировать тексты философского содержания по существу только через два с лишним века после его проникновения в Японию (Сайте: и Кужай29). И даже идея кармы имеет поначалу возможность текстового воплощения только обретя историческую форму («Нихон рёшки»30). Не случайно поэтому, что и практически все подготовительные материалы, использовавшиеся составителями «Нихон сёки», также являются по своей сути историческими.
В настоящее время исследователями выделяется по меньшей мере семь типов источников, которые послужили основой (подготовительными материалами) для составления «Нихон сёки». 1. Предания правящего дома (мифы, имена правителей, генеалогия, важнейшие события правлений). 2. Аналогичные сведения, касающиеся других влиятельных родов. 3. Местные предания. 4. Погодные записи правящего дома, которые, вероятно, стали вестись начиная с правления Суйко. 5. Личные записи придворных, касающиеся тех или иных событий. 6. Храмовые буддийские хроники. 7. Корейские и китайские источники.31
1. Не подлежит сомнению, что составители «Нихон сёки» имели доступ к каким-то материалам исторического свойства. Не совсем понятно, какова была физическая форма существования этих материалов. Сам текст свода содержит несколько указаний на то, что и до составления «Нихон сёки» история Японии (правящего рода) была Уже зафиксирована в письменной форме. Так, в записи Киммэй, 2-3-
О (541 г.), поясняющей причины записи нескольких версий относительно потомков Киммэй, говорится: «В "Основных государевых записях ["Тэйо: хонги"] встречается много старых иероглифов, составители часто изменяли их. Впоследствии люди, учившиеся читать их, [тоже] сознательно их изменяли. При многократном переписывании [тоже] возникали ошибки. Стало непонятно, что было раньше, а что — позже-кто был старше, а кто — младше. Теперь же старое отделено от нового, истина — восстановлена. Там же, где познать [истину] было невозможно, следовали одному [источнику], а другую [версию] записывали в примечаниях. Так же поступали и в других случаях».
Существует прочно укоренившееся мнение, что «Тэйо: хонги» в «Нихон сёки» соответствует «Записям об императорах» («Тэйги») в предисловии Оно-но Ясумаро к «Кодзики», в котором также утверждается, что в прежних записях содержится множество ошибок и искажений.32
В «Предисловии» к «Кодзики» встречаются также термины «Записи о делах бывших» (или же «Исконные сказания» — «Хондзи») и. «Старые сказания прежних правлений» («Сэндай кю:дзи»), которые, возможно, соответствуют тому, что в «Нихон сёки» названо как «Записи государей и деяний древности» (Тэмму, 10-3-17, 681 г.) — истолковываются как записи мифов и истории правлений ранних государей. В указе Тэмму содержится также состав участников «редакционного совета», которому и предстояло произвести запись этих сведений, которые раньше, по всей вероятности, передавались в устной традиции.
Кроме того, «Нихон сёки» сообщает о том, что престолонаследник Сё:току-тайси вместе с Сога-но Умако составил (Суйко, 28, в этом году, 621 г.) «Записи государей» («Тэнножи»), «Записи страны» («Куницуфуми» или «Кокубун»), а также историю основных родов, которые впоследствии были якобы сожженны Сога-но Эмиси — за исключением «Записей страны» (Ко:гёку, 4-6-13, 645 г.).
Нам, однако, представляется, что данные о существовании записей такого рода следует воспринимать с известной долей осторожности: общий модус японской культуры был таков, что существование любого явления (в данном случае «Нихон сёки») могло быть признано обоснованным лишь в случае включения его в некоторую последовательность, в связи с чем и происходят постоянные попытки удревления того или иного института. Показательно, что первые законодательные
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст_93_
своды, о которых упоминает «Нихон сёки» («Омирё:» и «Киёмиха-рарё'-») также не сохранились.
2. Кроме преданий («истории») правящего рода, безусловно существовали и передававшиеся в устной традиции аналогичные сведения, касающиеся других влиятельных родов (именно их совокупность и образовывала то, что понималось в то время под «государством»). Так, в указе Дзито: (Дзито:, 5-8-13, 691 г.) содержится указание 18 родам предоставить записи о могилах предков (видимо, имеются в виду генеалогические данные). Сама многовариантность повествования мифологической части «Нихон сёки» свидетельствует о том, что при составлении свода использованы данные, хранителями которых были разные роды. Свидетельства бытования подобных «родовых историй» отмечены и в более позднее время. Мы имеем в виду хотя бы «Когосю:и» (807 г., род Имибэ) и «Такахасиудзи-буми» (конец VIII в., род Такахаси), в которых, посредством обращения к таким родовым историям, обосновывается необходимость исправления существующих социальных «несправедливостей».33
3. Раннее государство пытается «инвентаризовать» все пространство и время, которое оно считает принадлежащим себе. Параллельно с созданием мифологическо-летописных сводов, основным объектом описания которых были правители и их непосредственное окружение, происходит работа и по сбору данных, относящихся к периферии. В 713 г. издается указ о составлении «Фудоки» — «Описаний земель и обычаев»34. Достоверно известно, что только описание провинций Харима и Хитати были представлены до составления «Нихон сёки» — в 715 г. Отсутствие текстуальных совпадений между сохранившимися текстами «Фудоки» и «Нихон сёки» не позволяет говорить о том, что «Фудоки» непосредственным образом использовались составителями «Нихон сёки». Тем не менее, содержащиеся в «Нихон сёки» сведения (не слишком, правда, многочисленные) относительно периферии (под которой понималась вся территория, не входящая в район «Внутренних провинций» — Кинай, непосредственно примыкающий к региону расположения дворцов правителей) позволяют предположить, что какие-то данные, аналогичные содержащимся в «Фудоки», в руках составителей все-таки имелись. Однако, следует отметить, что истории «центра» и «периферии» имели объектом описания разное время и разное пространство, которые совпадали лишь частично. Можно говорить о том, что они различались, но утверждение о разной
94__/4. Н. Мещеряков
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст_95
использовало их при конструировании государственной машины. Многие монахи становились известны благодаря своим познаниям во врачевании, астрологии и строительстве.
Заинтересованность буддизма в приобретении новых адептов находила свое выражение, в частности, в активном участии его приверженцев в строительстве транспортной инфраструктуры, без чего «прозелитский потенциал» не мог быть использован в должной мере: жизнеописания выдающихся монахов при перечислении достоинств святого не забывают отметить его вклад в строительство мостов и дорог. Широкое строительство буддийских храмов, активно поддерживаемое государством, обеспечивало высокую концентрацию населения в местах строительства. Сами храмы также являлись постоянным местом общения, обмена и аккумулирования информации. Признавая одной из основных добродетелей переписывание сутр, буддизм способствовал широкому распространению грамотности.
Если говорить более конкретно о буддийских источниках «Нихон сёки», то, по всей вероятности, основным носителем информации по буддизму для составителей «Нихон сёки» послужила храмовая хроника «Ганго:дзи таран энги»35 (в окончательном, известном нам виде, сложилась, вероятно, уже в VIII в. — в 747 г., но приводимые там данные свидетельствуют в пользу значительно более раннего происхождения первых версий). Повествование «Ганго:дзи таран энги» охватывает период с середины VI в. до середины VII в. и представляет собой вполне законченный сюжет — сведения, не касающиеся истории буддийского вероучения в Японии составителей храмовой хроники не интересуют. Известно также, что в том же 747 г. были составлены хроники храмов Хо:рю:дзи и Дайандзи (сохранились в более поздних редакциях). Данные ранних версий этих храмовых хроник также могли быть использованы при составлении «Нихон сёки». Кроме того, составители «Нихон сёки» пользовались рядом эпиграфических материалов буддийского свойства (надписи на шпиле пагоды, статуях и т. д.). Интерес высших страт японского общества по отношению к буддизму во многом был обусловлен его значительной ролью в формировании официальной идеологии.36
7. Период, описываемый в исторической части «Нихон сёки», был, вероятно, самым открытым в смысле проницаемости для иноземной культуры вплоть до второй половины XIX в. Морское пространство во время составления свода было скорее проводником культурной
интерпретации одних и тех же явлений вряд ли имеет смысл. Подобны противоречия могут возникать в зоне активного контакта носителе разных традиций при условии, что они изображают один и тот же мир. Насколько можно судить по имеющимся данным, мир Центра и мир Периферии имели все-таки не слишком много точек для соприкосновения. Составителей «Нихон сёки» («Центр») интересовала прежде всего история группы племен (родов), создавших государство Ямато. Эти роды были носителями земледельческого уклада (прежде всего — заливного рисосеяния) и представители других укладов и племен попадали в поле их зрения лишь в весьма ограниченной степени, хотя, разумеется, в это время еще нельзя говорить о тотальной закрытости общества и ограниченности его мировидения, которые наблюдаются в период Хэйан (IX—XII вв.).
4. Начиная с правления Суйко (592-628) записи «Нихон сёки» приобретают намного большую регулярность и детализацию. Ее ставленник — наследный принц Сё:току-тайси — известен как активный сторонник распространения буддизма и человек письменной культуры. Улучшившаяся «технология» летописания находит свое выражение и в более точных датировках, не расходящихся в столь драматической степени (что характерно для более раннего периода) с данными корейских и китайских источников.
5. К данному классу подготовительных материалов относятся: записи Ики-но Пакатоко (Хакотоко, см. правление Саймэй), который предоставил отчет о поездке в Китай в составе официальной миссии ко двору Танского императора, а также записи Ато-но Сукунэ Титоко (см. правление Тэмму) и др. Использование записей, ведшихся отдельными личностями (или же составленных ими по специальному распоряжению), свидетельствует о достаточно широком распространении письменной культуры (во всяком случае, в придворной среде).
6. В создании единого информационного поля была чрезвычайна велика роль буддизма. Общая направленность этого вероучения на прозелитскую деятельность диктовала потребность в обширном корпусе проповедников, путешествовавших по всей стране и служивших проводниками самой различной информации. Принципиальная ориентированность буддизма на письменный канон способствовала овладению монахами (по крайней мере определенной их частью) грамотой, которая давала им доступ к письменным источникам как конфессиональных, так и внеконфессиональных знаний. Поэтому государство активно
96_/4. Н. Мещеряков__
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст
97
[<итае в качестве относящейся к самой Японии (см., например, Кэндзо:, 2-Ю-6; Киммэй, 28-0-0). Видимо, они стремились таким образом показать изоморфность японского строя жизни китайскому, поставить йх в одну «весовую категорию», а также заполнить пустоты, возникающие на хронологической шкале ввиду отсутствия или же недостатка реальной исторической информации.
Особо следует обратить внимание на использование фразеологии, содержащейся в произведениях китайской исторической, философской и литературной традиций. Так, только в знаменитом «Уложении семнадцати статей» (Суйко, 12-4-3, 604 г.) используется по крайней мере пятнадцать таких произведений.39 Подобное «украшательское» использование китайской письменной традиции было призвано сообщить самому своду большую авторитетность.
Как показали тщательные исследования японских текстологов, составители «Нихон сёки» наиболее активно использовали 100-томный труд Оуян Сю «Ивэнь-лэйдзюй» («Изборник изящной словесности», 642 г.), представляющий собой свод литературных образцов, употреблявшихся в произведениях до-танского времени. Что касается фразеологии до эпохи «Шести династий», то еще одним литературно-фразеологическим источником является «Вэнь сюань» Сяо Туна. Поэтому всегда следует иметь в виду, что скрытое цитирование в «Нихон сёки» того или иного китайского источника отнюдь не означает, что составители были знакомы с ним непосредственно.
Из китайских переводов буддийских сутр составители «Нихон сёки» пользовались «Сутрой золотого блеска» (яп. «Конко:мё:кё:», санскр. «Suvarnaprabhasottama-sutra») — последним, наиболее полным ее переводом, выполненным Ицзин (635—713). Следы знакомства с этой сутрой обнаруживаются в свитках XV-XXI.40
Кроме вышеназванных источников, для составления «Нихон сёки» использовались, видимо, и другие, не идентифицированные современной исторической наукой. Часть из них скрывается под вполне неопределенной формулировкой, достаточно часто встречающейся в хронике: «в одной книге говорится, что...».
Какова надежность сообщаемой «Нихон сёки» информации (в Данном случае мы имеем в виду только «историческую» часть повествования)? В самом общем виде на этот вопрос мы отвечаем так: этот памятник представляет собой модель прошлого, исторического процесса, какими они виделись из VIII в., и потому он может быть
4 3ак imw |
информации, нежели чем ее блокатором. В то же время оно служило достаточной преградой, чтобы не дать вовлечь страну в те конфликты которые постоянно вспыхивали на континенте. Вовлеченность Ямато в дела на материке (в особенности, на Корейском полуострове) была достаточно велика: Япония имела там подвластную ей территорию (Имна, яп. Мимана), а также государство, которое оно поддерживало и которое служило основным каналом приобретения информации, вырабатываемой на континенте (Пэкче, яп. Кудара). Поэтому-то в тексте «Нихон сёки» так часты ссылки на летописи этой страны (тексты их не сохранились). Таких летописей было по крайней мере три: «Записи Пэкче» («Кудара-ки«, цитируется в записях, относящихся к Дзингу: Ко:го:, 0:дзин, Ю:ряку), «Вновь составленные [записи] Пэкче» («Кудара синсэн», Ю:ряку, Бурэцу) и «Основные записи Пэкче» («Кудара хонки», Кэйтай, Киммэй). Кроме того, эти (а также, вероятно, и другие) источники корейского происхождения используются в «Нихон сёки» и без ссылки на них. Особенно интенсивное использование корейских источников характерно для правлений Кэйтай и Киммэй — временами складывается впечатление, что мы имеем дело не с историей Японии, а с историей Кореи, что, по всей видимости, свидетельствует: 1) о тесных взаимоотношениях Ямато с государствами Корейского полуострова; 2) о непосредственном участии корейских специалистов в составлении «Нихон сёки»; 3) об отсутствии исторических материалов для этого времени собственно японского происхождения, восполняемых за счет корейских источников.
Легко обнаруживаемый в этих материалах пиетет по отношению к Японии и ее правителям наводит на мысль, что материалы корейских источников были соответствующим образом препарированы и потому могут быть использованы для реконструкций реального исторического процесса с большой долей осторожности. Высказывается также мысль, что вышеназванные материалы были составлены корейскими переселенцами уже в самой Японии37. Если последовать этому предположению, т. е. фактически допустить, что составители этих памятников работали, вероятно, без наличия под рукой всех необходимых материалов, то станут более понятными те явные несообразности, которые обнаруживаются при сопоставлении данных «Нихон сёки» с «Самгук саги»38.
Кроме того, составители «Нихон сёки» использовали (правда, в гораздо меньшем объеме) и китайские хроники («Вэй-чжи», «Хань-шу», «Хоухань-шу»), приводя содержащуюся в них информацию о
98
А. Н. Мещеряков
квалифицирован как сочетание отчета о событиях, имевших место в действительности, и о представлениях, какими эти события могли (должны были) быть. В связи с этим чрезвычайно актуальной представляется проблема верифицируемости событий, о которых сообщает хроника. К сожалению, подавляющее большинство исследователей предпочитают обходить этот вопрос молчанием. И это понятно, ибо критерии верификации не могут считаться выработанными и по сей день. Может быть, основным из них может считаться сопоставление не слишком многочисленных данных, перепроверяемых по корейским и китайским источникам (слабая вовлеченность Японии в мировой исторический процесс, своеобразие историко-культурной ситуации на Дальнем Востоке — замкнутость Китая прежде всего на собственных проблемах — создают и в дальнейшем значительные трудности для современного историка, вынужденного по преимуществу исходить исключительно из представлений японцев о самих себе). Если оценивать согласно этому критерию ситуацию в целом, то можно сказать, что достоверность сообщений «Нихон сёки» может служить предметом для обсуждения только начиная приблизительно с середины VI в. До этого вся хронология носит полулегендарный характер и может рассматриваться по преимуществу как материал для реконструкций исторического сознания начала VIII в.
Еще одним источником верификации изложения событий «Нихон секи» теоретически могут служить данные археологии (эпиграфики), которые, как было показано, имеют пока что тенденцию к самовозрастанию. Однако эти данные и данные «Нихон сёки» отражают по преимуществу разные стороны бытия. Данные археологии и эпиграфики описывают реалии политической истории (что, собственно говоря, и является основным объектом изображения «Нихон сёки») в минимальной степени. Налицо, таким образом, тематический разрыв в объекте изображения разных типов источников. Однако для реконструкции институционсигьной истории эти три типа источников вполне могут дополнять друг друга. Для воссоздания же событий политической истории мы вынуждены исходить прежде всего из внутренней структуры самого текста свода. Последуем здесь вслед за Иноуэ Мицусада, предложившему концепцию членения текста «Нихон сёки», исходя из архитектоники построения источника.41
Этот авторитетнейший исследователь считает возможным следующим образом подразделять первую половину текста «Нихон сёки».
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст
99
\. От чисто мифологического повествования (свитки I—II) до правления Дзимму (правление Дзимму, согласно логике исследователя, примыкает к мифологическому циклу) — свиток III.
2. От правления Суйдзэй до Кайка (свиток IV). В данном отрезке текста повествовательный элемент сведен к минимуму — составители хроники ограничиваются почти исключительно генеалогией и датами смерти государей. Отмечая вероятную близость этого блока фактам, Иноуэ Мицусада однако свидетельствует, что имена правителей здесь носят модернизированный характер.
3. От Судзин до Суйнин (V—VI) и (частично) правление Кэйко: (VII). Иноуэ Мицусада не приводит критериев для выделения записей об этих правителях в отдельный «блок». Похоже, что им является нарастание повествовательного элемента по сравнению с предыдущими свитками.
4. Кэйко: (частично), Сэйму, Тю:ай, Дзингу: Ко:го: (VII—IX). Критерий выделения — явно легендарный элемент в повествовании (походы Ямато Такэру против племен кумасо и эдзо; экспедиция Дзингу: Ко:го: против Силла). Ни Ямато Такэру, ни Дзингу: Ко:го: не признаются исследователем реальными историческими фигурами.
5. От 0:дзин до Кэндзо: и Нинкэн (X—XV), где повествование признается «за более или менее соответствующим историческим фактам», поскольку, в отличие от четвертого блока и раньше, здесь встречается меньше сообщений легендарного характера — жизнь Двора предстает в соответствующих реальному уровню развития государственности весьма скромных масштабах .
Не обсуждая достоинства и недостатки предлагаемой концепции, отметим, что она характеризует современное состояние как японистики, так и исторической науки (в частности, текстологии) в целом, которые пока что не сумели выработать надежных критериев определения истинности сообщаемого в древних источниках в случае отсутствия сопоставительных данных. Но даже наличие таких сопоставительных Данных совсем не обязательно может служить надежным средством верификации.
Весьма показательно в этом смысле сравнение отчетов с японской и с китайской стороны относительно суйской миссии, посланной ко Двору Суйко в 608 г. Согласно «Нихон сёки» (Суйко, 16-8-12), в послании императора Ян-ди Суйко именовалась «императрицей» (буквально «дочерью Неба»). Суйская хроника, однако, ничего не
100
А. Н. Мещеряков
говорит об этом послании, зато приводит слова Суйко, якобы сказанные ей послу: «Поскольку мы являемся варварами, живущими уединенно за морем, Мы замкнуты в своих границах, не видим других людей и не ведаем, что такое приличия и справедливость»42.
Совершенно понятно, что оба сообщения подверглись основательной редакторской обработке: Ян-ди не мог назвать Суйко императрицей, употребив те же самые иероглифы, что и для обозначения китайского императора (это противоречило бы всей традиции геополитической мысли Китая), а Суйко вряд ли характеризовала свою страну таким самоуничижительным образом. Оба источника, однако, соглашаются в том, что такая миссия была действительно послана.
Таким образом, сопоставительный анализ синхронных памятников разных традиций также имеет свои ограничения. Попытаемся поэтому предложить новое направление исследований, которое можно было бы назвать «методом макрокультурной динамики». При этом мы исходили из предположения, что культуроформы обладают значительной степенью инерционности и потому не могут изменяться слишком быстро. В случае же попытки их целенаправленного реформирования местный культурный субстрат будет активно отторгать то, что не будет соответствовать внутренней логике его бытия и саморазвития. Поэтому каждое сообщение относительно того или иного события (явления) следует рассматривать не в качестве статического (изолированного), но динамического (в диахронном ряду информации по той же проблематике). При этом необходимо не только анализировать отдельные письменные памятники, феномены культуры, но попытаться посмотреть на них в их единстве. Поскольку «Нихон сёки» представляет собой продукт государственной идеологии VIII в., то следует рассмотреть его в контексте официальной идеологии VIII в. вообще и посмотреть, как быстро и в каком направлении она трансформировалась. При этом следует учитывать, что мифологическо-летописный свод был не просто некоторой моделью прошлого, но составной частью всеобъемлющего плана по реформированию всей жизни страны, т. е. созданию определенной концепции чаемого будущего.
Японское государство VIII в. (так называемый «период Нара») в современной историографии принято называть «государством, основанном на законах» (рицурё: кокка). И для этого существуют серьезные основания. Фактически провозгласив одной из своих основных целей создание высокоцентрализованного государства (когда всякое движение
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст_70/
жизни в любой точке страны находится под неусыпным и безоговорочным контролем из Центра), японская правящая элита обратилась к китайскому опыту государственного строительства. Начало этого процесса, как уже неоднократно подчеркивалось, можно датировать приблизительно серединой VII в., когда были провозглашены указы, нацеленные на создание государственности, отвечающей китайским представлениям (надельное землепользование, строительство постоянной столицы, повсеместное создание сети почтовых дворов и т. д.). При этом мыслилось, что основным «программным» документом станут законодательные своды («Тайхо: рицурё:», 701 г. ; «Ёро: рицурё:», 757 г.), в соответствии с письменным словом которых и должна была быть выстроена вся совокупность внутригосударственных отношений. С определенными модификациями эти законодательные своды были смоделированы по китайскому образцу.
Выполнение заложенной в сводах программы по централизации страны с неизбежностью сопровождалось осуществлением крупномасштабных проектов, что потребовало колоссального напряжения сил, аккумулировавшихся с помощью внеэкономических средств принуждения (трудовая повинность). Синдром гигантомании, начало которого можно уверенно датировать «курганным периодом» (III—VI вв.), не был еще изжит. На этом пути поначалу были достигнуты достаточно серьезные успехи. Так, была воздвигнута столица Нара — колоссальный по своим масштабам для этого времени город. В этом городе был выстроен громадный буддийский храм То:дайдзи (самое крупное в мире сооружение из дерева), в «золотом павильоне» которого поместили 16-ти метровую бронзовую статую Вайрочаны (самая крупная бронзовая статуя в мире). Еще одним крупным проектом было издание ксилографическим способом 1 миллиона (видимо, наиболее массовый для всего мира и своего времени тираж) дхарани, каждый экземпляр которых был вложен в глиняную модель пагоды. В каждой из провинций согласно специальному указу был построен буддийский храм. Страна покрылась сетью дорог с расположенными на них почтовыми дворами. В школах чиновников осуществлялось планомерное и достаточно массовое обучение на основе классических китайских памятников философской, государственной, исторической, литературной мысли. Сама организация чиновничества представляла собой, согласно сводам, стройную иерархическую систему, скопированную с китайских образцов. Создавались исторические хроники и стихотворные антологии на
102
А. Н. Мещеряков
китайском языке, призванные подчеркнуть высокую степень овладения японцами континентальной культурой. В столичном быту доминировала китайская одежда-Главным инициатором всех этих проектов было государство и казалось, что Центр достиг очень высокой степени управляемости страной. Однако весьма скоро выяснилось, что реальный уровень экономического, политического, социального и культурного состояния не соответствует ни тем образцам, которые описывались в законодательных сводах, ни более конкретным планам по их осуществлению. Поэтому «иератический автопортрет государства» (законодательные своды) достаточно быстро стал дополняться чертами, более похожими на заказчика (и одновременно исполнителя) этих законов.
Пересмотр свода стал проводиться достаточно скоро. Первый из них относится к 706 г. (касался изменений ранговых наделов; «Сёку нихонги», Кэйун, 3-2-16). В 711 г. (Вадо:, 4-7-1) хроника «Сёку нихонги» сообщает, что «только один или два закона проводятся в жизнь; полное же осуществление невозможно», довольно наивно возлагая при этом вину на нерадивых чиновников.
Достаточно хорошо прослеживаемые по источникам изменения в законотворческой и текущей политике свидетельствуют в целом о реалистичной оценке постоянно изменяющейся ситуации и об отказе от осуществления тех проектов, которые требовали чрезмерных усилий (строительство То:дайдзи оказалось одним из последних проявлений «синдрома гигантомании»). С другой стороны, причинами невозможности исполнения планов можно считать давление местных культурно-социальных условий и обстоятельств. Так, на настоящий момент следует считать доказанным, что законодательные своды, состоящие из двух основных частей (рицу — «уголовный кодекс» и ре: — «гражданский кодекс») реально «работали» только во второй своей части, т. е. ре:. Что касается рииу, то на самом деле общество продолжало жить согласно нормам обычного права — фактически «уголовный кодекс» так и не был введен в действие, что свидетельствует о его изначальной утопичности, т. е. несоответствии местным реалиям.
Дрейф государства и общества в сторону более адекватной местным условиям модели проходил по следующим основным направлениям.
/. Земельные отношения. Основной «экономической» идеей законодательных сводов была система надельного землепользования с сохранением государственной собственности на землю. Однако с
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст
103
течением времени все большее количество земель переходило в частные руки с правом передачи по наследству: «жалованные» (давались за особые заслуги); земли синтоистских храмов и буддийских монастырей; целинные земли (с 743 г.). Начиная с 902 г. передел земель стал осуществляться один раз в двенадцать лет (согласно сводам, время между переделами должно было составлять шесть лет). Все это привело к концентрации пахотной земли в частных руках и подрыву экономической основы «государства рицурё:» — государственной собственности на землю. На смену пришла система поместного частного землевладения — сёэн.
2. Отношения между Центром и периферией. Территориальное деление страны включало в себя около 60 провинций и 600 уездов. В отличие от Китая, чиновники из Центра присылались только на должности Управителей провинций. Что касается уездов и сел, то на должности Управителей и старост всегда назначались только представители местной знати. В период Хэйан (IX—XII вв.) вместе с развитием поместного землевладения уезды фактически превращаются в вотчины и утрачивают свое значение в качестве административной единицы. Таким образом, Центр практически не был в состоянии обеспечить контрольные функции на административном микроуровне. Поскольку основная тяжесть сбора первичных данных (податное население, налоги и т. д.) лежала именно на уездах 43, то и наши совокупные знания о состоянии государственности после Нара (вплоть, пожалуй, до сёгуната Токугава) сильно уступают по своей точности, подробности и конкретности VIII в.
3. Армия. Пришлось распроститься и с мечтами о сильной армии. В начале VIII в. одна «часть» (гундан) формировалась 3—4 уездами. Реальной внешней угрозы не существовало; неоднократные пересмотры системы в сторону облегчения рекрутского бремени привели к тому, что в 792 г. оно было практически полностью ликвидировано (за исключением провинций Муцу, Дэва и Садо). В то же самое время личные дружины поместных владельцев имеют явную тенденцию к увеличению, что приводит в перспективе к кровавым междуусобным столкновениям.
4. Статус правителя. Самые серьезные изменения произошли и в статусе самого государя («императора», «сына Неба»). Если для VIII в. характерна концепция «сильного» и деятельного правителя (самым выдающимся из них был Сё:му), то в период Хэйан
104
Л. Н. Мещеряков
складывается политическая система доминирования рода Фудзивара, когда правитель продолжает оставаться верховным синтоистским жрецом, но его властные полномочия имеют постоянную тенденцию к сокращению. При этом подтверждает свою валидность более ранняя система управления, когда один из влиятельных родов является поставщиком жен для правителя, сыновья которых становятся «императорами», но действия которых в значительной степени контролируются их дядьями по материнской линии (так называемый авункулат; в VI—VII вв. такую роль играл род Сога).
5. Геополитическое положение. После ряда поражений японской экспедиционной армии на Корейском полуострове в середине VII в. Япония отказывается от проведения активной внешней политики, ставящей своей целью вмешательство в дела на континенте. Однако в это время она еще сохраняет живой интерес по отношению к континенту. Он был обусловлен как потребностью в новой информации (приобретение технологии государственного строительства, различных умений, навыков, знаний), так и заинтересованностью в «международном» признании.
Осуществляется регулярный обмен посольствами с Китаем и Силла, который, однако, вместе с нарастанием самодостаточности и интровер-тности культуры был довольно быстро прекращен (838 и 779 гг. соответственно).
6. Система образования и конкурсных экзаменов. Формально в Японии была воспринята китайская идея конкурсных экзаменов на занятие чиновничьих должностей. Однако на практике заложенная в ней потенция вертикальной мобильности оказалась выхолощенной. Все исследования показывают, что для детей чиновника 6-го ранга и ниже было практически невозможно достичь 5-го ранга — минимально высокий для занятия должности при Дворе. Продвижение по служебной лестнице в намного большей мере определялось происхождением, чем служебными заслугами. В значительной степени именно по этой причине в период Хэйан государственные школы чиновников сменяет домашнее образование. Получается, таким образом, что и вся система чиновничьего ранжирования, целиком заимствованная из Китая, утеряла свой первоначальный смысл и оказалась полностью предписанной.
Еще одним фактором, способствовавшим самогерметизации аристократии, было преодоленное ею давление служилой знати, основу которой составляли переселенцы из Кореи и Китая.
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст_105
7. Дорожная инфраструктура. В VIII в. была создана сеть так называемых «государственных дорог» (кандо:), которая соединяла столицу со всеми основными регионами. По сравнению с будущими временами эффективность системы сообщений не вызывает сомнений. Это явилось одним из проявлений утери Центром значительной части своих полномочий, ослабления информационного обмена с периферией и контроля над ней.
8. Буддизм. Первая половина периода Нара проходит под знаком инкорпорирования буддизма в систему официальной идеологии. Однако с течением времени стало понятно, что только синтоизм с его системой сакральных генеалогий, уходящих своими корнями в мифологию, способен гарантировать традиционной аристократии уже занимаемое ею положение, зафиксировав социальную иммобильность. В связи с этим государственная поддержка буддизма становится намного слабее, происходит повторная актуализация всего синтоистского мифологическо-ритуального комплекса. Именно в это время (начало IX в.) происходит окончательное оформление синтоистского пантеона, что способствовало созданию абсолютно закрытых для посторонних элементов властных структур.
9. Пространство. В начале VIII в. японское государство и культура стремятся к расширению границ. Это находит свое выражение и в попытках продвижения на север Хонсю, и в сельскохозяйственном освоении новых земель, и в модусе описания пространства в письменных источниках (широкое употребление топонимов, локализуемых в различных частях страны, описание перемещения в пространстве тех или иных лиц).
В период Хэйан после отмены военной экспедиции на север в 805 г. планы по интеграции этого региона явно отходят на второй план, колонизации не проводится, отношения с обитателями этих мест — племенами эмиси — ограничиваются в основном принесением теми дани ко Двору. Исторические источники описывают по преимуществу пространство столицы и Двора, литературные — ограничивают свое видение тем пространством, которое физически доступно взгляду. Путешествия (во всяком случае как объект изображения) сходят на нет, активное развитие получает моделирование природы, приближаемой к дому (садово-парковое искусство).
Ю. Время. Государство рицурё: начиналось с письменного оформления Удовлетворявшей его концепции прошлого, имеющей своим формальным прототипом китайское летописание. Однако после того, как осознание непререкаемой легитимности правящего рода прочно входит основным
106_А. Н. Мещеряков___
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст_107
начинаний VIII в. приобрело не вполне узнаваемый вид. Начиная с этого времени «утопичность» как форма государственного сознания в значительной степени утрачивает свое значение.
Получается, таким образом, что проблема верифицируемое™ текста «Нихон сёки» (т. е. соответствия его историческим, политическим, социальным, культурным и иным реалиям), проблема, которая не находит удовлетворительного разрешения на основе синхронного анализа, может быть переведена в другую плоскость — соотнесения интенций правящей элиты и их воплощения — не на уровне непосредственного исполнения, а на уровне «ближней» исторической перспективы. Нам представляется, что такой подход (вкупе, разумеется, с традиционными методами анализа) обладает весьма значительной объяснительной силой.
Реальное состояние науки диктует и те проблемы, которая она ставит (а вернее, может поставить) перед собой. Мы попытались (по необходимости кратко) реконструировать тот культурно-исторический контекст, который сделал возможным появление мифологическо-летописного свода «Нихон сёки», а также показать, что реальное развитие страны вынуждает смотреть на этот текст как на продукт определенного типа сознания, многие установки которого определяются не всегда осознаваемым намерением выдавать желаемое за действительное.
Примечания
1 С большой последовательностью и убедительностью эта точка зрения проведена в «сквозной» истории Японии, вобравшей в себя новейшие тенденции исторической мысли Японии. См.: Иванами ко:дза. Нихон цухи: В 25 т. Токио: Иванами, 1993-1996.
2 Подробнее см.: Уми то рэтто: бунка: В 11 т. Токио: Сёгаккан, 1992; Нихон -но кодай. Токио: Тю:о: ко:ронся, 1987. Т. 8, 10.
3 Общее число переселенцев с начала периода яёй (III в. до н. э.—III в. н. э.) До VIII в. оценивается в 1200000 человек (местное население на начало яёй составляло, видимо, около 1 миллиона человек). См. Hanihara Kazuo. Estimation of tbe Number of Early Migrants to Japan: A Simulative Study //Journal of Anthropological Society of Nipppon. V. 95. 1987. № 3. P. 391-403; Koyama Shuzo. Prehistoric Japanese Populations: A Substinence-Demographic Approach //Japanese as a Member of the Asian and Pacific Populations. Kyoto: International Center for Japanese Studies, 1992. P. 187—197. При этом общее население Японии VIII в. оценивается в
элементом в модель государственного устройства, потребность в ведении хроник отпадает. Вместо составлявшихся по указу правителя хроник те же указы предписывают теперь составление японоязычных антологий, акцентирующих идею циклического времени годового цикла.44
11. Язык. Поскольку язык сам по себе является мощнейшим носителем вмонтированных в него культурных смыслов, то использование того или иного языка (или же соотношение нескольких) во многом определяет не только облик общества, но и его внутренние смыслы. Если VIII в. можно признать за время почти безраздельного господствования китайского письменного языка, то впоследствии его коммуникативные (а значит, и смыслопорождающие) функции имеют тенденцию к сокращению. Знаковым проявлением ее следует признать появление (возрождение) новых классов текстов в прозе и поэзии (японоязычные поэтические антологии, прозаические жанры, функционировавшие на японском языке), полностью игнорирующих «государственную» тематику в ее китайском понимании. Подобная же японизация общего строя жизни видна и в других областях культуры, доступных нашему видению (живопись, скульптура, архитектура, костюм и т. д.).
Вышеприведенные данные и аргументация показывают, что японское государство периода Нара (со всеми его атрибутами, включая летописание и законодательство) было в значительной степени конструктом волевой деятельности определенного и ограниченного круга лиц, а не следствием естественной эволюции. В связи с этим оболочка этого государства и его «чрево» отличались разительным образом. И если внешние проявления имели все признаки высокоцентрализованного государства современного (т. е. «китайского» типа), то реальные процессы адаптации и «переваривания» новых для общества идей, установлений и институтов привели совсем не к тем результатам, на которые рассчитывали творцы законодательных сводов в VIII в. и их коллеги-историки (задачей последних было, в частности, подвести аудиторию к осознанию «естественности» ввода в действие законодательных сводов). Они жили во времена максимальной информационной открытости страны и хотели построить империю, напоминающую по своей мощи, размаху и централизации Китай. В результате же их не слишком далекие потомки оказались в стране, где периферия вела жизнь от Центра вполне независимую, где власть «императора» была скорее номинальной, где вместо чаемой экстравертной культуры сформировалась в высшей степени интровертная, где большинство
108
А. Н. Мещеряков
5600000 человек. См.: Савада Гаити. Наратё: дзидай-но минсэй кэйдзай-но су:тэки кэнкю:. Токио: Тоямабо:, 1927.
4 Текст надписи и ее анализ см.: Anazawa Wakou, Мапоте Junichi. TwJ Inscribed Swords from Japanese Tumuli: Discoveries and Research on Finds from the Sakitama-Inariyama and Eta-Funayama Tumuli //Windows on the Japanese Past: Studies in Archaeology and Prehistory. Center for Japanese Studies. The University of Michigan, 1986. P. 375-396.
5 «Восемь» в японской традиции обозначает множественность.
6 О значимости системы видения, смотрения для культуры Японии см.: Ермакова* Л. М. Взгляд и зрение в древнеяпонской словесности. В сб.: Сад одного цветка4 М.: Наука, 1991. С. 212-224; Ермак ова Л. М. Речи богов и песни людей. Ритуально^ мифологические истоки японской литературной эстетики. М.: Наука, 1995. С. 219— 232.; Мещеряков А. Н. Нихон бунка то росиа бунка-но хикаку рон. Кинсиган то. энсиган //Гэнго бунка кэнкю:. Киото, 1991. № 5-6. С. 77—83; Мещеряков А. Н. Взгляд и нечто. Близорукость и дальнозоркость японской кулыуры. В сб.: Ориентация — поиск. Восток в теориях и гипотезах. М.: Наука, 1992. С. 7—14; Alexander N. Meshcheryakov. Space and Time Pattern in Russian and Japanese Cultures / /State, Religion and Society in Central Asia: A Post-Soviet Critique. Ithaca Press Reading, 1993. P. 37—55; Мещеряков A. H. Взгляд на пространство и пространство' взгляда //Иностранная литература. 1993. № 5. С. 251—255.
7 Перевод памятника см.: Манъёхю: /Пер., вступит, ст. и коммент. А. Е. Глускиной. М.: Наука, 1971.
8 Кого дайдзитэн. Токио: Сёгаккан, 1983. С. 1661.
9 Процесс этот протекает весьма медленно. Судя по всему, он не может быть завершен вообще.
10 Хиракава Минами. Урусигами мондзё то тихо: гё:сэй //Нихон цу:сД Т. 4. С. 325.
11 Указ. соч. Т. 4. С. 339.
1* Об этом виде письменных источников см. Указ. соч. Т. 4. С. 325—346. ' 13 Ко:цу:, унсо:. Токио: Нихон хё:ронся, 1985. (Ко:дза нихон гидзюцу-но сякайсЯ Т. 8). С. 102.
Выпускники столичной школы чиновников в течение многих лет после успешно! сдачи экзаменов находились «в услужении» у принцев и не получали придворного* ранга. Обычным делом было присвоение им младшей степени 6-го ранга после' тридцати лет беспорочной службы. Если в Китае наследники сановника 1-го ранга! получали по достижению совершеннолетия младшую степень 7-го ранга, то в Японии — младшую степень 5-го ранга, т. е. могли немедленно расчитывать на. занятие должности при Дворе. См.: The Cambridge History of Japan /Ed. by Delmer M. Brown. Cambridge University Press, 1993. V. 1. P. 236, 240.
15 Перевод и анализ памятников раннеяпонской законотворческой деятельности см.: Свод законов «Тайхорё» 702—718 гг. Законы I—XV /Вступит, ст., пер. с др. яп. и коммент. К. А. Попова. М.: Наука, 1985; Свод законов «Тайхо рицурё»
«Нихон сёки»: историческая мысль и культурный контекст
109
702—718 гг. Рицу («Уголовный кодекс») /Вступит, ст., пер. с др. яп. и коммент. |< А. Попова. М.: Наука, 1989; Воробьев М. В. Японский кодекс «Тайхо ёрорё» (VIH в.) и право раннего средневековья. М.: Наука, 1988.
16 Это утверждение касается не только чисто социальной сферы. Вся японская бытовая, мыслительная и художественная традиции не могут быть адекватно интепретированы без учета этого фактора. Проблеме преемственности, рассматриваемой на уровне композиции текста, значительное внимание уделяется в работе: Мещеряков А. И. Древняя Япония: культура и текст. М.: Наука, 1991.
17 Особенно большое значение имели в этом отношении генеалогические списки «Синсэн сёдзироку» (815 г.). См.: Мещеряков А. Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. Проблема синкретизма. М.: Наука, 1987. С. 46—52.
18 Научное, прагматическое, рациональное знание о мире никогда не входило в понятие японской «национальной культуры». В связи с этим наблюдается необыкновенная легкость, с которой Япония усваивала научно-технические наработки других культур.
19 Топоров В. Н. О космологических источниках раннеисторических описаний / /Труды по знаковым системам. Тарту, 1973. С. 133.
20 Частичный перевод см.: Snellen J. В. Shoku Nihongi: Chronicles of Japan, Continued from A. D. 697—791 //Transactions of the Asiatic Society of Japan. 2nd series. 1934 (Mb 11), 1937 (№ 14). Перевод некоторых указов см.: Sansom J. В. The Imperial Edicts in the Shoku Nihongi (700-790 A. D.) //Transactions of the Asiatic Society of Japan. 2nd Series. 1924 (Nfi 1). Перевод всех ягюноявычных указов см.: Норито. Сэммё /Пер., иссл. и коммент. Л. М. Ермаковой. М.: Наука, 1991.
21 Подробнее о нем см.: Мещеряков А. Н. Первый историк Японии — Дзиэн / /Народы Азии и Африки. 1989. № 5. С. 37-46.
22 До середины VI в. все датировки «Нихон сёки» носят легендарный характер и используются исследователями только как дань определенной традиции.
25 Сёку нихонги. Т. 1. Токио: Иванами, 1991. (Син нихон котэн бунгаку тайкэй). С. 477.
24 Идея шилу была реализована позднее (см. список «шести национальных хроник»). Что касается подневных записей о делах и речах правителя, то эта идея никогда в Японии реализована не была. Связано это, возможно, с тем, что подобные записи представляют собой не только некий регистрационный список деяний правителя, но и форму общественного контроля над ним, что, вероятно, противоречило местным представлениям о верховной власти и о возможных способах ее ограничения.
5 Нихон цу:си. Т. 4. С. 23.
26 Так, брат первого полулегендарного императора Дзимму по имени Итусэ-но микото терпит поражение в поединке и объясняет это следующим образом: «Я — Дитя солнечного божества и негоже мне сражаться, стоя лицом к солнцу» (см.: К94—Т. 2. С. 36). См. об этом также в «Нихон сёки», правление Дзимму.
110
А. Н. Мещеряков
27 См. об этом, в частности: Hori Toshikazu. The Exchange of Written Communications between Japan, Sui and Tang Dynasties //Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko. 1994. No. 52. P. 4—6. Обычно исследователи обращают внимание на провокационно одинаковую титулатуру правителей Китая и Японии, но нам такое объяснение представляется недостаточным.
28 Подробнее см.: Мещеряков А. Н. Ранняя история Японского архипелага как социоестественный и информационный процесс //Восток. 1995. № 5.
29 См. о них и их учениях: Мещеряков А. Н. Герои, творцы и хранители японской старины. М.: Наука, 1988. С. 129—146; Он же. Буддизм в Японии. М.: Наука. 1993. С. 87-189.
30 Перевод памятника см. НР95.
См. Нихон сёки. Токио: Иванами, 1965. (Нихон котэн бунгаку тайкэй; Т. 67, 68). С. 12—23. Далее ссылки на это двухтомное издание даются следующим . образом: приводится аббревиатура названия памятника (НС—И ), указывается том (1-й или 2-й) и страница. См. также: Сакамото Таро:. Риккокуси. Токио, 1970. С. 67-78.
32 См: К94-Т. 1. С. 32.
33 Подробнее см.: Мещеряков А. Н. Древняя Япония: культура и текст. М.: Наука, 1991. С. 40-42.
34 Перевод памятника см.: Идзумо фудоки /Пер. К. А. Попова. М.: Наука, 1966; см. также: ДФ69.
35 Перевод этого памятника см. в сборнике: Буддизм в Японии. М.: Наука, 1993. С. 415-426.
34 См. об этом Мещеряков А. Н. Древняя Япония: буддизм и синтоизм. Проблема синкретизма. М.: Наука, 1987.
37 НС-И. Т. 1. С. 17.
38 Издание памятника см.: Ким Бусик. Самгук саги /Пер., вступит, ст. и коммент. М. Н. Пака. М.: Наука, 1995.
39 «Ши-цзин», «Щу-цзин», «Сяо-цзин», «Лунь-юй», «Цзо-чжуань», «Ли-цзи», «Гуань-цзы», «Мэн-цзы», «Мо-цзы», «Лао-цзы», «Чжуань-цзы», «Хань фэй-цзы», «Ши-цзи», «Хань-шу» и «Вэнь-сюань».
40 О заимствованиях в «Нихон сёки» подробнее см.: НС—И. Т. 1. С.19—22.
41 Нихон сёки /Под ред. Иноуэ Мицусада. Токио: Тю:о:ко:ронся, 1987. Т. 1. С. 29-31.
Цит. по Tsunoda Ryusaku, L. Carrington Goodrich. Japan in the Chinese Dynasts Histories. South Pasadena, Calif.: P. D. and lone Perkins, 1951. P. 33.
43 Нихон цу:си. Т. 4. С. 344-345.
44 См. об этом Мещеряков А. Н. Древняя Япония: культура и текст. С. 45—106.
ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ
/. Перевод, в основном, выполнен по изданиям: Нихон сёки \Под ред. Сакамото Таро:, Иэнага Сабуро:, Иноуэ Мицусада, О:но Сусуму. Токио: Иванами, 1967. (Нихон котэн бунгаку тайкэй; Т. 67, 68); Нихон сёки: Свитки I—X /Под ред., коммент. Кодзима И., Наоки К., Нисимия К., Куранака С, Мори М. Токио: Сёгаккан, 1994. (Нихон котэн бунгаку дзэнсю; Т. 2); Нихон сёки /Под ред. Такэда Ю:кити. (Нихон котэн дзэнсё; Т. 1—6); Нихон сёки /Под ред. Иноуэ Мицусада. Токио: Тю:о: ко:ронся, 1987.
2. В передаче японских слов была применена транскрипция, более или менее соответствующая древнеяпонской фонетике; та же транскрипция использована переводчиками и в их предыдущей совместной работе над 2-м и 3-м свитками «Кодзики». Обращаем внимание читателей, что имена одних и тех же богов и персонажей в ряде случаев в «Нихон сёки» записаны другими иероглифами, чем в «Кодзики», в результате чего возникает и разница в произношении этих имен (не очень, впрочем, существенная, и, по большей части, имена возможно опознать как идентичные).
Современная фонетическая транскрипция использована, как исключение, в названиях элементов шестидесятилетнего цикла, единицах измерения, а также в китайских чтениях посмертных имен правителей и девизов правления. В последнем случае знак «:» означает долготу предшествующей гласной.
3. Примечания, сделанные к тексту средневековыми переписчиками, набраны в тексте свитков мелким шрифтом. В цитатах из источников, приводимых, в основном, в комментариях к I—XVI свиткам, такие пояснения оформлены в круглых скобках.
4. В квадратные скобки помещены добавления переводчиков, вставляемые для прояснения лексических и синтаксических эллипсов оригинала.
112
От переводчиков
В соответствии с японской комментаторской традицией текст разбит на условные главы; их заголовки, отсутствующие в тексте оригинала, также представляют собой вставки поздних исследователей и поэтому заключены в квадратные скобки. В целом разбиение перевода на главы соответствует принятому в японской текстологической традиции, лишь в отдельных случаях нам показалось уместным сделать более подробное деление.
5. Оформление имен и титулов в 1-м и 2-м томах незначительно различается — имеется в виду употребление дефисов, разбивание длинных имен на части, использование заглавных букв. Причина этого разнобоя — не ошибка редактора, а неодинаковая трактовка имен и их фрагментов у разных переводчиков памятника.
* * *
Авторы приносят глубокую благодарность за неоценимую помощь в работе над переводом А. Р. Концевичу и Г. А. Ткаченко. Переводчик свитков I—XVI выражает также глубокую признательность за консультации и советы японским коллегам — Масимо Ацуси, Мацумаэ Такэси, Наканиси Сусуму, Окада Сэйдзи, Окамото Акиёси, Усуи Сатико, Уэяма Сюмпэй, Ямаори Тэиуо, а также Международному Центру по изучению японской культуры (International Research Center for Japanese Studies, г. Киото), в рамках которого была выполнена большая часть работы.
Авторы выражают также искреннюю признательность Фонду Сороса и Японскому Фонду за финансовую поддержку, оказанную ими в процессе работы над рукописью и ее изданием.
НИХОН СЁКИ
f-\
ш

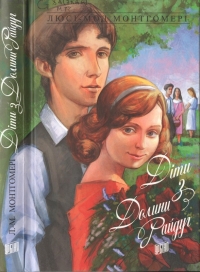


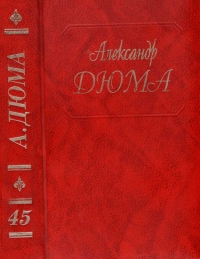
Комментарии к книге «Анналы Японии т.1», Анналы Японии
Всего 0 комментариев