Георг Бюхнер
ЛЕНЦ
ПОВЕСТЬ
Двадцтого января Ленц отправился через горы. На вершинах и склонах — снег, ниже — сероватые гряды в зеленых пятнах, скалы и ели.
Было холодно, сыро, вода, клокоча и брызжа, срывалась со скал на тропу. Влажный воздух окутывал тяжело поникшие ветви елей. По небу тянулись облака, густые, низкие; а внизу, продираясь сквозь чащобы, стлался тяжелый и влажный туман — медленно, лениво.
Ленц шел, погруженный в раздумья, не глядя вокруг, то спускаясь, то поднимаясь. Он не чувствовал усталости, только досадовал, что не может пройтись вверх ногами.
Пока он шел и под его ногой осыпались камни, раскачивался внизу седой лес, а туман то поглощал, то приоткрывал могучие массивы, его грудь теснили неясные чувства, он точно искал что-то в ускользающих снах и не мог найти. И все казалось ему таким маленьким, таким жалким, промокшим — так бы и взял всю землю да сунул за печку. Его изумляло, что так много времени нужно, чтобы спуститься с горы или дойти до намеченного вдали места; ему казалось, любое расстояние он одолеет в несколько шагов.
Иногда порыв ветра сбрасывал тучи в долину и лес начинал дымиться, разверзались немые уста скал и раскаты грома то рокотали вдали, то надвигались мощным ревом, будто силясь в неистовом ликовании воспеть землю, тучи взмывали, словно дико ржущие кони, а солнце прорезало эту кутерьму сверкающим мечом, вонзая его в снежные грани и отбрасывая в долину слепящий и резкий свет. Или ветер, разметав облака, внезапно стихал и лишь где-то внизу отзывался в верхушках елей то колыбельной песней, то колокольным звоном; на глубокой сини всплывали нежно-багровые пятна, а мелкие облачка проплывали на серебряных крыльях, и вершины сверкали, остро и твердо очерчиваясь в дальней дали. В такие минуты в груди у него клокотало, он стоял задыхаясь, подавшись вперед, против ветра, широко раскрыв глаза и рот, словно желая вобрать в себя эту стихию, он припадал к земле, простирался в бился на ней, изнемогая от острого наслаждения, либо весь замирал, прислонясь головой ко мху, полузакрыв глаза, и все уплывало далеко-далеко, земля ускользала, становилась маленькой, словно мерцающая звезда, и пропадала в бушующем потоке, ясным пламенем протекавшем под ним. Но то были мгновения, они проходили — и он решительно поднимался, спокойный, с ясной головой, забыв фантасмагории, покончив с ними. Под вечер он достиг вершины горы, снежной площадки, откуда предстояло вновь спуститься на запад. Наверху он присел. К вечеру стало спокойнее, тучи неподвижно застыли на небе; кругом, насколько хватало глаз, одни лишь вершины с широкими гранями скатов, и так все тихо, сумеречно, тускло. Острое чувство одиночества пронзило его, он был один, совсем один. Он попробовал говорить сам с собой, но не смог, он задыхался, каждый шаг отдавался в голове его громом, он не мог идти. Невыразимо жуткая тревога охватила его в этой пустоте! Он сорвался с места и бросился вниз по склону. Темнота сгустилась, земля и небо слились воедино. Чудилось, будто его преследуют по пятам и что-то ужасное вот-вот настигнет его, что-то невыносимое, непосильное человеку — будто само безумие гонится за ним на конях.
Наконец он услыхал голоса, увидел огни, на душе стало легче. До Вальдбаха, сказали ему, еще полчаса ходу.
Он шел по деревне. В окнах светились огни, и, проходя, он заглядывал внутрь: за столом дети, старухи, девушки, у всех спокойные, тихие лица. Казалось, свет исходил от них; он вздохнул свободно и скоро добрался до дома священника в Вальдбахе.
Все сидели за столом, когда он вошел; вокруг бледного лица белокурые пряди, глаза лихорадочно блестят, губы дрожат, одежда порвана. Оберлии принял его за ремесленника:
- Милости просим, мы рады познакомиться с вами.
- Я цриятель Кауфмана, он велел вам кланяться.
- Ваше имя, если позволите?
- Ленц.
- Уж не сочинитель ли? Помнится, мне случалось читать пьесы, подписанные этим именем.
- Да, но прошу вас, не судите по ним обо мне.
Разговор продолжался, Ленц подыскивал слова и рассказывал сбивчиво, в муках, однако понемногу успокоился. В уютной комнате царил полумрак, тихие лица выступали из тени: лицо матери, ангельски тихо сидевшей в тени, и ясное детское личико, на котором, казалось, сосредоточился весь свет и которое глядело доверчиво и с любопытством. Ленц принялся с жаром рассказывать о своей родине, ему внимали с участием, и скоро он почувствовал себя как дома. Как озарилось улыбкой бледное детское лицо его, и сколько живости было в его рассказе! Он совсем успокоился, он чувствовал, как из темноты вновь выступают прежние образы, забытые лица, просыпаются старые песни — он был далеко, далеко отсюда.
Hаконец настала пора уходить. Его проводили через улицу: дом пастора был слишком тесен, и ему отвели комнату при школе. Он поднялся наверх. Наверху было холодно, комната большая, пустая, с высокой кроватью у дальней стены. Он поставил свечу на стол и принялся расхаживать по комнате. Минувший день вновь встал перед ним, комната в доме пастора с ее полумраком и милыми лицами показалась ему призрачной, нереальной, и опять ему сделалось одиноко, как тогда, на горе, но ничем не заполнялась теперь пустота, свет погас, и тьма все объяла. Невыразимая тревога охватила его. Он вскочил, бросился вон из комнаты, вниз по лестнице, на крыльцо, но напрасно — всюду темно и пустынно, он чувствовал себя как во сне. Обрывки мыслей проносились в голове, он силился их разобрать, ему казалось, что нужно твердить «Отче наш». Он не находил себе места, темный инстинкт толкал его искать спасения. Он спотыкался о камни, раздирал ногти в кровь, и боль возвращала ему сознание. Он бросился в водоем у колодца, он бился в нем и кричал. На шум сбежались люди, и среди них Оберлии. Ленц снова пришел в себя, и снова у него отлегло от сердца. Ему было стыдно, он был огорчен, что напугал столько людей, он сказал им, что привык купаться в холодной воде, снова поднялся к себе наверх и наконец заснул от изнеможения. На другой день все шло хорошо. С Оберлином они отправились верхом по долине: широкие горные луговины стягивались в узкую, извилистую долину, могучие гряды скал расширялись книзу; леса немного, но повсюду унылая поросль; на западе открывались просторные дали, а с юга на север тянулась цепочка гор — отдельные каменные исполины высились в тихом молчании, как в полудреме. Мощные потоки света вырывались порой из долин, затем вновь облака, осевшие на вершинах, медленно сползали вниз по деревьям или летучим серебряным призраком скользили и взмывали в сверкании солнца; ни шума, ни движения, ни птицы, ничего, кроме завываний ветра, то где-то вдали, то совсем близко. Кое-где уныло чернели остовы хижин, крытых соломой. Люди молчаливо, серьезно, не решаясь нарушить тишину долины, чинно приветствовали их, когда они проезжали мимо.
В жилищах было оживленно, все теснились вокруг Оберлина, он наставлял, советовал, утешал; повсюду доверчивые лица, молитва. Люди рассказывали сны, делились предчувствиями. Затем возвращались к повседневным заботам: расчищали дороги, рыли канавы, ходили в школу.
Оберлин был неутомим, Ленц сопутствовал ему неотлучно, он то беседовал с ним, то погружался в созерцание природы. Все действовало на него благотворно и успокаивающе. Он часто смотрел в глаза Оберлину, и, казалось, от этих спокойных глаз, от этого серьезного, благородного лица нисходил на него тот могучий покой, который охватывает нас на природе, в лунные тающие летние ночи. Он испытывал робость, однако делился впечатлениями, говорил. Оберлин слушал его с удовольствием, его радовало это по-детски трогательное лицо. Но Ленц лишь до тех пор чувствовал себя сносно, пока в долине было светло, в сумерках им овладевала странная тревога, ему хотелось идти вслед за солнцем. Чем больше сливались с тенью предметы, тем неразрывнее переплетались явь и сон, страх охватывал его, словно ребенка, проснувшегося в темноте; ему казалось, он слепнет. Страх назойливым наваждением садился к его ногам, безнадежная мысль преследовала его, мысль, что все это только сон. Призрачные видения мелькали перед ним, он приникал к ним, но они ускользали, жизнь оставляла его, и члены немели Он говорил вслух, пел, читал па память куски из Шекспира, хватался за все, что прежде будоражило кровь, пробовал все, но... холод, холод! То и дело выбегал он на улицу. Когда глаза его и пикали к темноте, скудный, рассеянный в ночи свет был благом; он бросался к источнику, и пронзительная студеность воды была ему благом; втайне он мечтал о болезни и старался принимать теперь свою ванну бесшумно.
Все же, привыкая к новой жизни, он становился спокойнее. Он помогал Оберлину, рисовал, читал Библию; в нем пробуждались минувшие, прежние надежды, ему открывался здесь Новый завет... Оберлин рассказал ему, как однажды ночью невидимая рука остановила его на мосту, глаза ослепил яркий свет и был голос — бог настолько приблизился к нему, что он мог довериться ему как ребенок.,. Вера наполнила его, вечная твердь разверзлась, Святое писание обрело тайный смысл. Природа точно приблизилась к человеку в некоей божественной мистерии, но не царственно-величаво, а доверительно-задушевно.
Однажды утром Ленц вышел из дома. Ночью выпал снег; долина полнилась солнечным светом, но вдали голубела туманная дымка. Кругом было безлюдно. Скоро он свернул с тропы и, минуя ельник, стал подниматься по отлогому склону. Солнце высекало кристаллы на пушистом снегу, на котором то тут, то там проступали следы зверья, ведущие в горы. Никакого движения в воздухе, только тихое веянье ветерка, только шорох птицы, легко отряхивающей перья от снега. Тишь кругом, только заснеженные ели едва-едва колышут на глубокой лазури свои белые иглы. Отрада наполнила его сердце. Однообразные, мощные цветовые пятна и линии, прежде с грубым гулом несшиеся на него, растворились теперь в легкой дымке; пахнуло чем-то домашним, святочным, представилось, будто из-за деревьев вот-вот выйдет мать и скажет, что все это — ее подарок. Спускаясь, он видел, как вокруг его тени искрилась радуга, ему почудилось, будто кто-то коснулся его лба и заговорил с ним.
Он спустился. Оберлин был у себя в комнате; Ленц быстро подошел к нему и сказал, что хотел бы прочесть проповедь.
Разве вы теолог?
Да!
Что ж, коли так — в воскресенье.
Ленц, довольный, удалился в свою комнату. Проповедь не выходила у него из головы, из-за раздумий о ней. и ночи его стали покойней. На воскресное утро пришлась оттепель. Облака были резвы, между ними синели просветы. Церковь, окруженная кладбищем, располагалась неподалеку, на пригорке. Ленц стоял наверху, когда ударили в колокола и по узким крутым тропинкам стали подниматься со всех сторон прихожане, женщины и девушки в строгих черных одеждах, с белыми платочками на молитвенниках и ветками розмарина. Солнце проглядывало иногда сквозь облака, теплый пар шел от земли, долина благоухала, вдали отдавался мерный колокольный звон — ровная волна гармонии, казалось, все поглотила.
Снег на кладбище стаял, под черными крестами темнел мох, розовый куст ютился в углу у ограды, другие цветы пробивались сквозь мох; на всем то пятна тени, то солнце. В церкви началась служба, людские голоса сливались в светлом, чистом звучании — впечатление такое, будто смотришь в прозрачный, чистый источник. Пение смолкло — Ленц заговорил. Он был в смятении весь день, от пения муки его утихли, теперь же вся боль вновь проснулась и прихлынула к сердцу. Сладостное, бесконечное блаженство охватило его. Он говорил просто, люди проникались его страданием, и было отрадно думать, что слова его даруют сон веждам, изможденным слезами, и отдохновение истерзанным душам, что они обращают к небу существа, измученные земной юдолью. К концу голос его окреп, и тут вновь послышалось пение:
«Дай принять святую муку,
Душу мне омыть слезами,
Благость сладкую страданья,
Святый боже, даруй мне».
Волнение, музыка, боль потрясли его. Весь мир обратил к нему свои раны, он чувствовал глубокую, неизреченную боль. Трепещущие уста господа склонились к нему и приникли к его губам. Он направился в свою пустынную комнату. Он был один, один! И тут словно прорвался источник, потоки брызнули из его глаз, он корчился, извивался, ему казалось, он разрывается, гибнет, и не было конца той сладостной боли. Наконец покой сошел на него, он почувствовал острую жалость к себе и заплакал, голова его поникла, он уснул. Полный месяц стоял на небе; пряди разметались по его вискам и лицу, капли слез повисли на ресницах и высыхали на щеках — так он лежал, совсем один, и было тихо, спокойно, холодно, и месяц светил всю ночь и стоял над горами...
На другое утро он сошел вниз и совершенно спокойно рассказал Оберлину, как ему ночью явилась мать: в белом платье, она вышла из темной церковной стены с двумя приколотыми розами на груди, белой и красной, потом исчезла в углу, и розы медленно выросли над ней; нет сомнений, она умерла, он был в том совершенно уверен. Тогда Оберлин в свою очередь вспомнил, что, когда умирал его отец, он был в поле и вдруг услыхал голос, возвестивший, что отец его мертв, и, вернувшись, увидел, что это правда. Это увлекло их дальше: Оберлин вспомнил о горцах, о девушках, которые чуют под землей металлы я воду, о мужчинах, которым на горных тропах приходилось бороться с духами, рассказал, как однажды, заглядевшись в глубокую чистую воду, он погрузился в сомнамбулическое состояние. Ленц заметил, что это, по-видимому, дух воды овладел Оберлином и он стал причастен бытию этой стихии. Он продолжал: самые простые и чистые натуры всего ближе к стихиям; чем утонченнее мыслит и чувствует человек, тем слабее в нем это чутье к первоосновам. Такое чутье нельзя считать неким высшим состоянием — для того оно слишком неразвито, но есть, полагает он, бесконечная радость в прикосновении ко всем сущим формам жизни, в таинственной связи с камнями, металлами, растениями и водой, в этом свойстве души вбирать в себя Природу, как пчелы вбирают воздух в зависимости от лунного противостояния.
Он высказал свои заветные мысли: во всем, говорил он, царит невыразимая гармония, созвучность, блаженство, в высших, развитых существах все это обнаруживается, звучит и воспринимается более тонко, но зато и награждает болезненной возбудимостью, в низших же формах гармония более скрыта, более ограничена, однако в них больше внутреннего покоя. - Он увлекся рассуждениями, но Оберлин прервал их, его простой душе они были непривычны. В другой раз Оберлин показал ему цветные таблички, разъяснил, в какой связи находится с человеком каждый цвет, упомянул про двенадцать апостолов, каждому из которых соответствовал определенный цвет. Ленц заинтересовался, загорелся, предался грезам и, уединившись, принялся в духе Штиллинга толковать Апокалипсис и долго не расставался с Библией.
В эту пору в долину приехал Кауфман со своей невестой. Поначалу встреча страшила Ленца, он был устроен, наслаждался малой толикой покоя — и вот к нему приближался тот, кто о многом напоминал ему, с кем он должен был говорить, беседовать, кто знал о нем все. Оберлин же не знал о нем ничего, он его принял, ходил за ним, он привязался сердцем к несчастному и в его приходе видел промысел божий. Никому здесь он не казался лишним, он был среди них как свой, и никто не спрашивал, откуда он и куда намерен держать путь.
За столом Ленц вновь развеялся: говорили о литературе, то была его область. Идеалистический период в то время уже начинался, Кауфман был приверженцем этого направления, Ленц горячо на него нападал. Он говорил: поэты, о которых принято говорить, что они передают действительность, как правило, тоже не имеют о ней ни малейшего представления, по они все-таки болеe сносны, чем те, кто пытается действительность приукрасить. Он говорил: господь создал мир таким, каким ему надобно быть, и нам, пачкунам, не придумать ничего лучшего, все наше рвение должно состоять в том, чтобы хоть немного уловить его замысел. Я во всем ищу жизни, неисчерпаемых возможностей бытия, есть это — и все хорошо, и тогда сам собой отпадает вопрос— прекрасно это или безобразно. Ибо ощущение того, что сотворенная человеком вещь исполнена жизни, выше этих двух оценок, оно — единственный признак искусства. Впрочем, довольно редкий — мы найдем его лишь у Шекспира, в полной мере —в народных песнях, местами у Гёте, все же прочтее можно смело швырнуть в печку. Люди не могут нарисовать простой конуры, а им подавай идеальные фигуры — все, что я видел в этом роде, не более как деревянные куклы. Такой идеализм пренебрегает самой природой человека. Художник должен проникнуть в жизнь самых малых и сирых, передать ее во всех наметках, проблесках, во всей тонкости едва приметной мимики; он сам пытался достичь этого в «Солдатах» и «Гувернере». Пусть то зауряднейшие люди под солнцем, но ведь чувства почти у всех людей одинаковы, разной бывает лишь оболочка, сквозь которую им приходится пробиваться. Умей только слышать и видеть! Вот вчера, в лесу, я увидел двух девушек; одна, в черном, сидела на камне, распустив золотистые волосы, обрамлявшие серьезное, бледное и такое юное личико, а другая склонялась над ней с такой нежной заботой! Лучшие, чувствительнейшие картины старой немецкой школы ничто в сравнении с этой натурой. Иногда хочется быть головой Медузы, чтобы обратить в камень подобную группу,— пускай люди вечно любуются ею. Они встали — и прелестная группа распалась, но когда они начали спускаться вниз между скал, образовались новые сочетания.
Изысканнейшие картины, блаженнейшие звуки слагаются и распадаются сами собой. Лишь одно остается — бесконечная красота, переходящая из одной формы в другую, вечно новая, изменяющаяся. Но ее, разумеется, не так-то легко уловить, положить на ноты или выставить в музее напоказ зевакам, чтобы стар и млад ахали перед ней и несли всякий вздор. Надобно любить человечество в целом, чтобы проникнуться уважением к своеобычности каждого человека. В мире нет существа, которое мы вправе были бы считать слишком малым, слишком ничтожным, слишком безобразным — только любовь дает нам ключ к его пониманию. Даже самое невыразительное живое лицо впечатляет больше, нежели восприятие некоей чистой гармонии. К тому же тайный, внутренний образ человека можно выявить и не копируя внешность — застывшую, безжизненную, без напряжения мускулов и биения сердца.
Кауфман возразил ему, что в действительности не найдется настоящих прообразов Аполлона Бельведерского или мадонны Рафаэля. Что ж такого, отвечал он, не велика беда, признаюсь, я не вижу в них жизни. Их созерцание, конечно, может возбудить во мне чувства, но для того надобны усилия с моей стороны. Для меня тот поэт и художник, кто умеет заразить и увлечь своим видением природы, чувством действительности, ничего другого я в искусстве не ищу. Фламандские мастера мне милее итальянских, к тому же они и единственно понятные. Только две картины в моей жизни произвели на меня впечатление не меньшее, чем Новый завет, и обе голландские. На одной из них, не помню чьей, изображен Христос с учениками на пути в Эммаус. Читаешь это место в Евангелии — и вся природа словно встает перед глазами. Предвечерние тусклые сумерки, ровная багровая полоса на горизонте, полутьма на дороге; и вот к ним приближается незнакомец, заговаривает, преломляет хлеб, они узнают его в простом обличье человека, зрят в нем страдальческие черты господа и пугаются сгустившейся тьмы и смутных предчувствий; но в их тревоге нет ужаса, ведь то не призрак, то любимый ими покойник подошел к ним в сумерках, как бывало; ровный коричневатый тон тусклого тихого вечера взят на картине. И другая картина: женщина не смогла пойти в церковь и творит молитву дома, она повернулась к открытому окну, и чудится, будто слышны долетающие сквозь него звуки далекой деревенской колокольни и едва различимое пение церковного хора, а женщина прислушивается к нему и следит по тексту.
Гак он долго говорил в полном забытьи, его слушали, чаще соглашаясь. Он весь зарделся и был то серьезен, то улыбался, вскидывая белокурые пряди.
После обеда Кауфман отвел его в сторону. Отец Ленца просил его уговорить сына вернуться. Кауфман сказал, что он даром теряет здесь время, тратит его без пользы, что ему следовало бы поставить себе цель — и все в таком духе. Ленц вскинулся: «Уйти отсюда? Домой? Сойти там с ума? Ты ведь знаешь, я могу выдержать только здесь, среди этих мест. Я так рад, что могу иногда подняться в горы, взглянуть оттуда вниз, потом возвратиться, пройти садом, посмотреть в окно — без всего этого я бы сошел с ума! Оставьте же меня в покое! Ну хоть немножко покоя теперь, когда мне становится лучше! Уйти отсюда? Не понимаю, отказываюсь понимать, эти речи мне просто противны. Всю жизнь человек суетится, за чем-то гонится, и если наконец обретает покой, то чего же еще желать! Так нет же, будем карабкаться дальше, тужиться и вечно упускать то, что дает нам мгновение, и все надрываться — ради будущего наслаждения! Томиться от жажды, когда вдоль дороги полно родников! Мне здесь вполне сносно, и я хочу остаться. Почему? Да потому, что мне теперь хорошо. Может ли отец дать мне больше? Никогда! Так оставьте меня в покое!» Он разволновался, Кауфман ушел, Ленц был в смятении.
На другой день Кауфман собрался уезжать. Он уговаривал Оберлина отправиться с ним в Швейцарию. Соблазн лично познакомиться с Лафатером, которого Оберлин давно знал по письмам, был велик, и он согласился. Пришлось промедлить еще день, чтобы дать ему время собраться. У Ленца было тяжело на сердце. Чтобы облегчить бесконечную свою муку, он, хоть и робко, с опаской, пытался прилепиться душой ко всему в этом доме, иногда он отчетливо сознавал, что делает это, чтобы только отвлечься, он занимал себя, как больного ребенка. Величайших усилий стоило ему развеять свои навязчивые мысли и чувства, вскоре, однако, они приходили опять, он весь дрожал, волосы дыбом поднимались на его голове, пока он не изнемогал от чудовищного напряжения. Он искал спасения у Оберлина, образ которого не покидал его ни на минуту. Его слова, его лицо доставляли ему бесконечную отраду, поэтому так тревожил его предстоящий отъезд.
Ленцу было бы жутко остаться теперь одному в доме. Погода стояла хорошая, и он решил проводить Оберлина в горы. На той стороне, где ущелья выходят на равнину, они расстались. Одиноко побрел он обратно, то и дело сбиваясь с пути. Дул сильный ветер, широкие поляны, увлекая реденький лес, сползали в долину; кругом пустынно, только мощные линии гор, а за ними — широкая курящаяся равнина; нигде ни следа человека, лишь местами к откосам лепились хибарки, в которых пастухи коротали летние ночи. Он затих, предался грезам; все смешалось и слилось перед его глазами в одну линию, в одну волну, вздымающуюся к небу и ниспадающую к земле; ему казалось, что его подхватила и тихо колышет поверхность бескрайнего моря. Иногда он садился, потом снова шел, в задумчивости не разбирая дороги. Была глубокая темень, когда он добрался до обитаемого жилища на горном склоне. Двери были заперты, он подошел к окну, сквозь которое падал брезжущий свет. Скудная лампа освещала лишь лицо девушки, лежавшей с полуоткрытыми глазами и слегка шевелившей губами. Дальше, в темной глубине, виднелась старуха, которая скрипучим голосом пела по молитвеннику. Видно, она была глуховата: пришлось долго стучать, прежде чем ему открыли. Не прекращая петь, она принесла Ленцу поесть и указала ему постель. Девушка не пошевелилась. Спустя некоторое время вошел мужчина, он был высок и худ, с редкими седыми волосами, с беспокойным и нерв-мим лицом. Он подошел к девушке — она вздрогнула, заметалась. Он снял со стены высушенную траву и положил ей на руку листья, она успокоилась и медленно, но внятно произнесла несколько слов прерывистым голосом. Он сказал, что слышал голоса в горах и видел над ущельем зарницы, потом что-то коснулось его и он боролся с чем-то невидимым, словно Иаков. Он опустился на колени и горячо и тихо молился, пока больная медленно, слабым хриплым голосом пела. Потом он лег спать. Ленц слышал сквозь дремоту тиканье часов. К тихому пению девушки и скрипучему голосу старухи примешивались завывания ветра, то совсем близкие, то удаляющиеся, и луна, то яркая, то закутанная в облака, озаряла комнату неверным сонным сиянием. Вдруг голос девушки зазвучал громче, она заговорила внятно и отчетливо, сказала, что напротив нее на скале стоит церковь. Ленц приоткрыл глаза: она выпрямившись сидела за столом и смотрела перед собой, при тихом свете луны черты ее отдавали зловещим блеском, старуха по-прежнему что-то скрипела, и, убаюканный этим светом, шумом и голосами, Ленц наконец глубоко заснул.
Проснулся он рано. В сумрачной комнате все еще спали, девушка тоже успокоилась. Она спала, положив руки под левую щеку, таинственность с ее лица исчезла, оно выражало теперь нестерпимую боль. Он подошел к окну и открыл его, лицо обдал холодный утренний воздух. Дом стоял в самом конце узкой, глубокой лощины, открывающейся к востоку; багровые лучи прорезали сизое небо, падая на сереющую на рассвете: землю, окутанную белым туманом, они искрились на серых облаках и били в оконца домишек. Мужчина проснулся. Глаза его остановились на освещенном образе на стене, он долго, пристально смотрел на него, потом зашевелил губами и стал молиться, сначала тихо, потом все громче и громче. Тем временем в комнату входили какие-то люди и молча опускались на колени. Девушка корчилась в судорогах, старуха скрипела свои песни и переговаривалась с соседями.
Мужчина, рассказали Ленцу, появился здесь давно, и никто но знает откуда, его считают святым, он видит воду под землей и заклинает духов, народ стекается к нему отовсюду. Тут же Ленц узнал, что далеко отошел от Вальдбаха; назад он отправился вместе с дровосеками, которым было с ним по пути. Он радовался, что нашел себе спутников, его тяготило присутствие этого властного человека, чей голос казался ему громовым. К тому же он боялся остаться наедине с собой.
Он вернулся в Вальдбах, но долго еще не мог избавиться от впечатлений минувшей ночи. Мир разверзся перед ним ослепительной бездной, в которую влекла и толкала его какая-то беспощадная сила. Он не находил себе места. Он мало ел, ночи напролет молился и лихорадочно грезил. То извивался в чудовищных корчах, то, изможденный, стихал, лежа в горячих слезах. Затем вдруг ощущал прилив сил и, холодный, равнодушный, поднимался, слезы его остывали, и он смеялся. Чем сильнее он себя взвинчивал, тем безысходиее было потом падение. Все сливалось у него перед глазами. Догадки о том, что возвращается прежнее состояние, пронизывали его, бросая скользящие отсветы в дикий хаос его души.
Днем он обыкновенно сидел внизу, в зале. Мадам Оберлин появлялась и уходила, он рисовал, писал красками, читал, искал любого занятия, скоро оставляя его ради другого. Всего же больше он любил сидеть подле мадам Оберлии, когда она с черным молитвенником устраивалась у цветов, взяв на колени своего младшего, с которым он также любил возиться. Однажды тревога завладела им и в такую минуту, он вскочил, заходил по комнате: через открытую дверь он услышал пение служанки, сначала неразборчивое, потом слова:
«Уехал далеко милый мой,
Так горько на свете быть одной».
Эти слова растравляли и жгли его душу. Мадам Оберлин взглянула на него. Он собрался с духом, он не мог долее молчать,, он должен был выговориться.
— Милая мадам Оберлин, ради бога, скажите, что теперь с девушкой, чья судьба так мне давит на сердце?
— Но, господин Ленц, могу ли я знать об этом?
Он помолчал, походил взад и вперед по комнате и потом начал снова:
— Понимаете, я должен уйти, видит бог, вы единственные люди, у которых мне хорошо, и все-таки... все-таки я должен уйти к ней, но я не могу, не смею.— Он вконец разволновался и вы шел из дома.
К вечеру он вернулся, в комнате был полумрак, он подсел к мадам Оберлин.
— Понимаете, — начал он снова, — когда она, бывало, вот так ходила по комнате и вполголоса напевала, каждый ее шаг отзывался во мне музыкой, и я был так утешен, глядя nai нее или ее касаясь... Она ведь совсем дитя еще, и казалось, что мир для нее слишком велик: она вся сжималась, искала самый укромный уголок в доме и тихо-тихо сидела в нем, словно все ее блаженство — в самой маленькой малости. И как же мне делалось хорошо, я мог играть тогда, как ребенок! А теперь все так тесно, тесно! Понимаете, порой мне кажется, что небо давит меня, и я задыхаюсь! Иногда у меня ломит руку, левую, в этом месте, я касался ее этой рукой. Но вот представить ее мне не удается, лицо ее ускользает, и это мучит меня, я могу себя хорошо чувствовать, только когда ясно вижу ее черты.
Он и после не раз еще говорил так с мадам Оберлин, речь его путалась, она не знала, что отвечать, но ему и без того делалось легче.
Религиозные его мучения между тем не кончались. Чем пустыннее, чем холоднее, чем мертвеннее становилось у него в душе, тем сильнее стремился он пробудить в себе пламя, тем чаще вспоминал то время, когда все в нем кипело, когда страсти его клокотали. И вот все мертво. Он отчаивался, сокрушался, бросался наземь, ломал руки, растравлял себя — но напрасно, все мертво, мертво! Тогда он молил господа подать ему знамение, он изводил себя постом и молитвой, простирался в забытьи на земле.
В феврале, третьего числа, он узнал, что в Фуде умерла девочка по имени Фредерика; мысль о ней уже не покидала его. Он уединился в своей комнате и «утки постился. Четвертого он внезапно явился в комнату мадам Оберлин — с головой, посыпанной пеплом,— и попросил дать ему мешок. Она испугалась, но дала требуемое. Он завернулся в мешок и отправился, как на покаяние, в Фуде. Люди в долине уже привыкли к нему и любили поговорить о его странностях. Он пришел в дом, где лежал ребенок. Там все равнодушно занимались своими делами, ему указали каморку: девочка в рубашке лежала на соломе, на деревянном столе.
Ленц содрогнулся от страха, прикоснувшись к остывшим членам и встретив мертвый стеклянный взор. Девочка показалась ему такой покинутой, заброшенной, одинокой, как он сам. Он припал к телу. Смерть ужаснула Ленца, острая боль пронзила •его: эти черты, это тихое лицо должны истлеть — он рухнул наземь, молился, отчаянно, истово, долго, молился, чтобы господь подал ему знак — оживил дитя... Потом он ушел в себя, сосредоточив все свои силы на какой-то одной мысли, и долго оставался без движения. Затем поднялся, взял ребенка на руки в произнес громко и твердо: «Встань и ходи!» Но стены безучастным эхом вернули его слова, словно издеваясь над ним, а труп был по-прежнему хладен. Тогда он снова бросился наземь, потом вскочил, и неведомая сила погнала его, безумного, в горы.
Тучи стремительно мчались мимо луны, окрестность то скрывалась во мраке, то при свете луны проступала в туманной дымке. Он бежал по горам. В груди хлестал адский пламень. Ветер гремел песней титанов. Ему хотелось простереть в небо страшный кулак, ухватить там творца и стащить его вниз, сквозь облака, хотелось размолоть всю землю зубами и выплюнуть ее богу в лицо, он проклинал его, богохульствовал. Так он взобрался на вершину горы; неверный свет сеялся кругом на тускло белеющие камни, и небо было голубым глупым глазом, а луна в нем — смешным дурацким бельмом. Ленц громко расхохотался и вместе со смехом изринул веру и стал спокоен, уверен и тверд. Он не мог понять, что мучило его прежде; его знобило, он мечтал добраться до постели; холодный, неколебимый, он шел среди жуткого мрака, и в душе его все было мертво и пусто; он бегом добрался до дома и там бросился на постель.
На другой день, когда он вспомнил вчерашнее, его охватил ужас. Будто он стоял на краю пропасти и безумная страсть толкала его заглянуть в нее еще и еще и сызнова пережить эту муку. Потом тревога его возросла, грех перед духом святым стал ему ведом.
Через несколько дней из Швейцарии вернулся Оберлин, много раньше, чем его ожидали. Ленц был в замешательстве. Однако он с радостью слушал рассказ Оберлина о его друзьях из Эльзaca. Говоря, Оберлин расхаживал по комнате, выгружал и раскладывал свою поклажу. Упомянув о Пфеффеле и расхвалив счастливую жизнь сельского пастора, он призвал Ленца последовать зову родителя и вернуться под отчий кров, чтобы жить согласно своему призванию. «Чти отца своего и мать»,— говорил он, и все в том же духе. Разговор этот сильно взволновал Ленца, он глубоко вздыхал, слезы навертывались у него на глазах, речь его путалась.
— Да, верно, но нет, не вынесу, вы гоните меня? Только в вас путь к богу. Со мной все кончено! Я отпал, проклят навеки, я Вечный Жид!
Оберлин отвечал, что ведь ради спасения грешников и принял муки Христос, пусть он откроет ему свое сердце и тогда станет причастен божьему милосердию. Ленц поднял голову, заломил; руки и сказал:
— О божественное утешение!
Потом вдруг спросил, как поживает та девушка. Оберлин ответил, что не знает, о ком Ленц говорит, но с радостью готов помочь словом и делом, пусть только он назовет имя и все прочее. Ответ его был несвязен:
Ах, она умерла? Жива еще? Ангел! Она любила меня, и я любил ее, да и как было ее не любить, ведь она — ангел! Проклятая ревность, я принес ее в жертву — она любила еще другого, а я так любил ее... О добрая мать моя, ведь и она любила меня, а я — я убил ее!
Оберлин возразил, что, быть может, все они еще живы и находятся в здравии, но, как бы то ни было, бог, если Ленц к нему обратится, воздаст им сторицей за все то, что он им причинил. После этого Ленц успокоился и вновь занялся своим рисованием. Под вечер он пришел опять. На левом плече его была шкура, а в руках связка прутьев, которые ему прислали вместе с письмом через Оберлина. Он протянул прутья Оберлину и настойчиво просил отхлестать его. Оберлин взял у него прутья, поцеловал несколько раз в губы и сказал:
Вот те удары, которыми я вам обязан. Успокойтесь, вы сами уладите ваш спор с господом, никакие истязания не искупят греха, искупление было промыслом Иисуса, вам бы и надо открыть ему теперь свою душу.— Он ушел.
За ужином Ленц был, по обыкновению, несколько мрачен. Все же говорил, хоть и тревожно и как-то поспешно. В полночь Оберлин вдруг проснулся от шума. По двору метался Ленц, лихорадочно, глухим, сдавленным голосом выкрикивая имя Фредерики с отчаянием и смятением на лице. Он бросился в водоем у колодца, бился в нем, выбрался наружу, взбежал в свою комнату, затем снова устремился к воде — и так несколько раз, пока окончательно не затих. Служанки из тех, что спали в детской, внизу под ним, говорили, что нередко, особенно в ту ночь, им слышались завывания, похожие на звуки дудки; должно быть, то вскрикивал он — глухим, ужасным, отчаянным голосом. На другое утро Ленц долго не выходил. Тогда Оберлин сам поднялся к нему: он лежал на постели, тихо и неподвижно. Оберлину пришлось несколько раз окликнуть его, прежде чем он отозвалался и заговорил:
- Да, господин пастор, понимаете, скука, скука! О, какая же скука1 Уж и не знаю, что тут теперь говорить; все, что мог, я начертил на стене.
Оберлин сказал, что ему следует обратиться к богу, на что он, засмеявшись, ответил:
— Конечно, если бы мне повезло и я нашел такое же приятное занятие, как ваше, я мог бы заполнить время. Но все — праздность. Одни молятся со скуки, другие со скуки влюбляются, третьи добродетельны, четвертые порочны, а я — я ничто, я не могу ровным счетом ничего, даже убить себя не умею — это уж невыносимо скучно!
«Как меч карающий и гневный,
Глаза мне ранит луч полдневный.
Господь, мне видеть свет невмочь,
Да снидет вновь на землю ночь!»
Оберлин с укором взглянул на него и хотел выйти. Ленц тенью скользнул за ним, устремив на него жуткий взор:
— Понимаете, что-то нашло на меня, мне бы только отличить сон от яни; понимаете, это очень важно, в этом нужно разобраться,— и снова юркнул в постель.
После полудня Оберлин собрался в гости по соседству, его жена ушла туда раньше. Он уже хотел выйти, как в дверь постучали, и сгорбившись, с опущенной головой вошел Ленц, лицо его, а частью и платье были посыпаны пеплом, правой ладонью он поддерживал левую руку. Он просил потянуть ему руку, которую вывихнул, упав из окна, но так как никто не видел его, то он хотел бы сохранить это в тайне. Оберлин был сильно напуган, но не сказал ни слова и выполнил, о чем он просил. Затем послал за учителем из Бельфосса Себастьяном Шайдекером и, дав ему письменные наставления, уехал на лошади. Учитель явился. Ленцу доводилось не раз его видеть, и он успел к нему привязаться. Тот сделал вид, будто хотел о чем-то поговорить с Оберлином, и поднялся, чтобы уйти. Ленц попросил его остаться, и они остались вдвоем. Ленц предложил прогуляться до Фуде. Он пришел на могилу девочки, которую хотел воскресить, беспрестанно опускался на колени, целовал землю могилы, смятенно молился, затем, сорвав цветок с могилы, вернулся в Вальдбах, потом отправился обратно; Себастьян неотступно следовал за ним. Ленц то едва плелся, жалуясь на большую слабость, то пускался чуть ли не бегом; мир пугал его и был так тесен, что казалось, он постоянно на все натыкался. Какое-то отвращение охватило его, попутчик стал ему в конце концов в тягость, он старался разгадать его намерения и искал средства избавиться от него. Себастьян ему ни в чем не перечил, но потихоньку дал знать своему брату, и таким образом у Ленца стало двое смотрителей. Он долго плутал, таская их за собой, совсем было повернул уже к Вальдбаху, но, почти дойдя до деревни, резко отпрянул назад и оленем метнулся по направлению к Фуде. Те бегом устремились за ним. Они разыскивали его по Фуде, пока два встречных разносчика не сказали им, что в одном из домов связали какого-то пришельца, который выдает себя за убийцу, хотя на убийцу вовсе не похож. Они бросились в этот дом и нашли Ленца связанным — по его настоянию его связал какой-то напуганный малый. Они развязали его и благополучно проводили до Вальдбаха, куда к тому времени уже вернулись Оберлин с женой. Он выглядел сконфуженным. Но, увидев, что его принимают ласково, дружески, вновь ободрился, лицо его успокоилось, он приветливо, тепло отблагодарил своих провожатых, и вечер прошел безмятежно. Оберлин уговаривал его больше не купаться и, если ему нет сна, беседовать с богом. Он обещал и ночью сдержал слово: служанки слышали, как он молился почти до рассвета. На другое утро он, довольный, вошел к Оберлину. Где-то в середине разговора он вдруг живо воскликнул:
Милый мой господин пастор, девушка, о которой я говорил вам, умерла, да, умерла — ангел!
Как вы об этом узнали?
- Знаки, знаки! — И, взглянув на небо, снова: — Да, умерла, знаки!
Ничего больше от него нельзя было добиться. Он сел за стол и написал письма, тут же попросив Оберлина прибавить к ним несколько строк.
Состояние его становилось все хуже. Силы, которые он черпал подле Оберлина и в горной тиши, теперь исчезали; мир, в котором он хотел найти себе место, зиял чудовищным провалом; ни ненависти, ни надежды, ни любви в нем не осталось — одна жуткая пустота и вместе с тем мучительно-беспокойная потребность ее заполнить. Одна пустота! Что бы он ни делал, ни в чем не было сознательного намерения, его направлял только темный инстинкт. Когда он оставался один, одиночество было ему так жутко, что он не переставал громко говорить с собой », крича, пугался собственного голоса. В разговоре он часто запинался, терял конец фразы, испуганно озирался; часто ему хотелось твердить одно какое-нибудь слово, лишь ценой больших усилий он подавлял в себе это желание. Печаль омрачала добрых людей, среди которых он жил, когда, спокойно беседуя в их кругу, он вдруг запинался и с лицом, искаженным от ужаса, судорожно цеплялся за рукав ближних к нему и не сразу приходил в себя. Когда он оставался один или читал, было еще хуже, его ум не мог вырваться из плена одной какой-нибудь мысли. Если он думал о ком-нибудь, припоминал черты какого-то человека, ему вдруг начинало казаться, что он и есть тот самый человек; он был совершенно расстроен и во всем, кроме Оберлина, хотел видеть произвольные построения своего ума, и все казалось ему безжизненным, ненастоящим. Он забавлялся, ставя в своем воображении дома крышей вниз, раздевая и одевая людей, изощряясь в сумасброднейших вымыслах. Случалось, он испытывал неодолимую потребность выполнить то, что ему привиделось, и тогда он корчил жуткие гримасы. Однажды он сидел подле Оберлина, напротив на стуле лежала кошка. Вдруг оп неподвижно уставился на кошку; затем, не сводя с нее глаз, медленно сполз со стула — кошка тоже, она была словно загипнотизирована его взглядом и объята страхом, она дико взъерошилась и зашипела — зашипел с перекошенным лицом и Ленц, мгновение — и они отчаянно бросились друг на друга; тут наконец поднялась мадам Оберлин, и их разъединили. И снова ему было мучительно стыдно.
Ночные припадки его ужасающим образом учащались. Засыпал он с величайшим трудом, устав от бесплодных усилий заполнить пустоту. Он погружался в мучительное состояние между сном и явью, чудовищные кошмары преследовали его, безумие настигало; истошно крича, обливаясь потом, он вскакивал посреди ночи и долго не мог успокоиться. Чтобы прийти в себя, оп, ведомый инстинктом самосохранения, прибегал к простейшим вещам: рассказывал что-нибудь вслух, читал стихи, пока муки его не утихали.
Случались с ним припадки и днем, тогда они протекали еще болезненнее, потому что свет уже не приносил облегчения. Ему казалось, что он один на всем свете, что мир — только плод era воображения и что в этой пустоте он один, навеки проклятый Сатана, оставшийся наедине с мучительными химерами. С бешеной быстротой он проносился тогда памятью по своей жизни, приговаривая «логично, логично» или «нелогично, нелогично» — это зияла неизбывная бездна безнадежного, вечного душевного мрака. Инстинкт духовного самосохранения подстегивал его, оп припадал к рукам Оберлина, прижимался к нему, словно хотел в нем раствориться, пастор был для него единственным живым существом, связывавшим его с жизнью. Слова Оберлииа мало-помалу приводили его в чувство; дрожа и сотрясаясь всем телом, он простирался перед ним на коленях, брал его руки в свои и склонял к нему облитое холодным потом лицо. Оберлину он внушал бесконечное сострадание, вся семья на коленях молилась за несчастного, а служанки в ужасе разбегались от него, точно от одержимого бесами. Успокаиваясь, он, как ребенок, переживал свое горе: всхлипывал, сокрушался, жалел себя, испытывая в то же время наслаждение от этой жалости.
Однажды Оберлин вновь заговорил с ним о боге. Ленц отодвинулся, взглянул на него с выражением бесконечного страдания и сказал:
- Я бы, знаете, будь я всемогущим, о, я бы не потерпел страданий, я бы спасал, спасал, я ведь и немного прошу, только покоя, чуточку покоя, чтобы заснуть.
Оберлин предостерег его от хулы на бога. Ленц только безутешно качал головой.
Посттоянные неловкие попытки лишить себя жизни были не очень опасны: то было не столько желание смерти — смерть не внушала ему надежды, не сулила покоя,— сколько стремление и моменты невыносимого страха и близкого к небытию оцепенения привести себя в чувство с помощью острой физической пили. Счастьем казались еще мгновения, в которые взвихренный дух его мчался в седле неотступной безумной идеи. И как ни мало в них было покоя, они были не столь ужасны, как безысходная жажда избавления, его вечная беспокойная мука! Беспрестанно бился он головой о стену или как-то иначе причинял себе сильную боль.
Утром восьмого он долго оставался в постели. Оберлин поднялся к нему; полуголый, он лежал на постели и был сильно взволнован. Оберлин хотел накрыть его, но он стал жаловаться, что все так давит его, так давит! Воздух чудовищной тяжестью наваливается на него, ноги отказываются повиноваться. Оберлин, как мог, старался его утешить. Но он за весь день не переменил положения, не покинул постели и отказался от пищи. К вечеру Оберлина позвали к больному в Бельфосс. Было тепло, светила луна. На обратном пути он встретил Ленца. Тот казался в здравом рассудке, спокойно, дружески беседовал с Оберлином, обещал не уходить далеко. Уже отойдя, он вдруг обернулся, снова приблизился к Оберлину и быстро проговорил:
- Понимаете, господин пастор, если бы я только не слышал этого все время, мне было бы легче.
Чего именно, дорогой мой?
Как, вы не слышите? Этот ужасный голос, которым кричит горизонт и который принято называть тишиной? С тех пор как я в этой тихой долине, я слышу его постоянно, он не дает мне спать, о, господин пастор, если б мне удалось снова заснуть! — И отошел, сокрушенно качая головой. Оберлин вернулся в Вальдбах и хотел уже послать за ним следом, как услышал его шаги на лестнице. Мгновение спустя на дворе послышался сильный шум — такой, что Оберлин не мог предположить падение человека. Сейчас же вбежала нянька, она была бледна как смерть и вся дрожала...
Неподвижно и безучастно сидел он в повозке, когда они выехали из должны на запад. Куда его везут, ему было не важно. Даже когда в опасных местах повозка грозила перевернуться, он оставался невозмутим; ему было все безразлично. В таком состоянии он проделал обратный путь через горы. К вечеру добрались до Рейнской долины. Понемногу они удалялись от гор, синей хрустальной волной вздымавшихся на багровом закате, с призрачной голубой паутиной у подножия, над которой багрянцем играли лучи. Они приближались к Страсбургу; мрак сгущался, луна стояла высоко в небе, предметы таяли в темиой дали; лишь ближняя вершипа обозначилась резко; земля казалась золотым кубком, в который, пенясь, стекали золотые лунные волны. Ленц безмятежно смотрел по сторонам; ни предчувствий, ни бурь, только темная глухая тревога нарастала в нем с наступлением темноты. Им пришлось остановиться на ночь. Тут он снова пытался покончить с собой, но за ним зорко следили.
На другое утро, в сырую, дождливую погоду, он въехал в Страсбург. Он был, казалось, в здравом рассудке, говорил. Он делал все, что и другие, но была в нем ужасная пустота, он не чувствовал ни желаний, ей страха, существование сделалось для яего тягостной обузой... Так он жил...
1


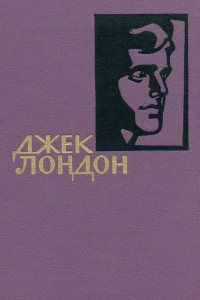


Комментарии к книге «Ленц», Георг Бюхнер
Всего 0 комментариев