Ги де Мопассан Доктор Ираклий Глосс
ГЛАВА I Чем был в духовном отношении доктор Ираклий Глосс
Весьма ученый человек был этот доктор Ираклий Глосс. Хотя никогда даже самое маленькое сочиненьице, носящее его имя, не появлялось у книгопродавцев просвещенного города Балансона, все жители считали доктора Ираклия весьма ученым человеком.
Как получил он степень доктора и какой науки, никто не мог бы этого сказать. Известно было только, что его отца и деда сограждане называли докторами. Их звание перешло к нему по наследству вместе с их именем и их имуществом; в его роду и отцы и сыновья были докторами, так же как и сыновья и отцы носили имя Ираклий Глосс.
Впрочем, если у доктора Ираклия Глосса и не было диплома, подписанного и засвидетельствованного всеми членами какого-нибудь прославленного университета, то из этого еще не следует, что он не был весьма достойным и весьма ученым человеком. Достаточно было увидеть сорок уставленных книгами полок, сплошь закрывавших все стены его просторного кабинета, чтобы вполне убедиться, что никогда доктор ученее его не украшал собою город Балансон. Наконец, всякий раз, когда об особе доктора заходила речь в присутствии господина декана или господина ректора, все видели, что они таинственно улыбались. Передают даже, что господин ректор однажды горячо восхвалял его по-латыни перед архиепископом; свидетель, который это рассказывал, приводил в виде неоспоримого доказательства следующие слышанные им слова:
— Parturiunt montes: nascitur ridiculus mus.[1]
Притом господин декан и господин ректор по воскресеньям обедали у него.
Итак, никто не посмел бы усомниться в том, что доктор Ираклий Глосс — весьма ученый человек.
ГЛАВА II Чем был в физическом отношении доктор Ираклий Глосс
Если верно, как это утверждают некоторые философы, что существует полная гармония между духовным и физическим обликом человека и что можно прочитать в чертах лица главные свойства характера, то доктор Ираклий не был создан для того, чтобы опровергнуть данное утверждение. Это был человек небольшого роста, живой и нервный. В нем было нечто от крысы, от муравья и от таксы, то есть он принадлежал к семье неутомимых искателей, грызунов и охотников. Глядя на него, нельзя было представить себе, чтобы вся изученная им мудрость могла войти в эту маленькую голову, но скорее можно было вообразить, что он сам внедрялся в науку и, грызя ее, жил в ней, как крыса в толстой книге. Что было в нем особенно странно, это его необыкновенная худоба; его друг декан предполагал, быть может, не без основания, что несколько столетий доктор Ираклий Глосс пролежал забытый между страницами какого-нибудь фолианта рядом с розой и фиалкой, потому что он всегда был очень кокетлив и сильно надушен. Его лицо было не шире лезвия бритвы, так что оправа его золотых очков, чрезмерно выступая к вискам, напоминала грот-рею корабля. «Не будь он ученым доктором Ираклием, — говорил иногда господин ректор Балансонского университета, — из него, верно, вышел бы отличный ножик для разрезывания бумаги».
Он носил парик, тщательно одевался, никогда не болел, любил животных, не питал ненависти к людям и обожал зажаренных на вертеле перепелок.
ГЛАВА III На что доктор Ираклий употреблял первую половину суток
Проснувшись утром, доктор тотчас вставал, умывался, брился, съедал небольшую булочку с маслом, которую обмакивал в чашку шоколада с ванилью, и выходил в свой сад. Сад не очень обширный, как водится в городе, но приятный, тенистый, цветущий, безмолвный, — если бы я посмел, я сказал бы: рассудительный. Словом, постарайтесь вообразить, каков должен быть идеальный сад философа, ищущего истину, и вы почти точно представите себе сад, который доктор Ираклий Глосс обходил три или четыре раза, все ускоряя шаг, раньше чем приступить ко второму завтраку, обычно состоящему из зажаренных на вертеле перепелок. Эта маленькая прогулка, говорил он, была превосходна: она оживляла замедленное сном кровообращение, освежала мозг и подготовляла пищеварительные органы к деятельности.
После этого доктор завтракал. Затем, как только было выпито кофе — а он выпивал его одним глотком, — доктор, никогда не поддаваясь сонливости от начавшегося пищеварения, надевал свой длинный сюртук и выходил из дому. И каждый день, пройдя мимо университета и проверив свою луковицу эпохи Людовика XV по высокомерному циферблату университетских башенных часов, он исчезал в переулке Старых Голубей, откуда выходил только, когда пора было идти домой обедать.
Что же делал доктор Ираклий Глосс в переулке Старых Голубей? Что он там делал? Боже милосердный! Он искал там философскую истину, и вот каким образом.
В этом маленьком, темном и грязном переулке были сосредоточены лавки всех балансонских букинистов. Понадобились бы годы, чтобы прочесть только заглавия всех нежданно попадавшихся там сочинений, загромождавших от погреба до чердака пятьдесят домишек, из которых состоял переулок Старых Голубей.
Доктор Ираклий Глосс смотрел на переулок, на дома, на букинистов и на книги как на свою личную собственность.
Иному продавцу старого хлама, уже собиравшемуся лечь в постель, нередко случалось услышать какой-то шум у себя на чердаке; вооружившись гигантским мечом былых времен и поднявшись туда потихоньку, он заставал... доктора Ираклия Глосса, по пояс заваленного книгами. Держа в одной руке огарок сальной свечки, таявшей между его пальцами, а другой перелистывая старинную рукопись, из которой он надеялся, может быть, извлечь истину, бедный доктор бывал очень удивлен, узнав, что на башне давно уже пробило девять часов и что ему придется есть прескверный обед.
Дело в том, что доктор Ираклий серьезно занимался изысканиями.
Он досконально знал всю древнюю и новую философию, он изучил индийские секты и религии африканских негров; не было такого незначительного народца среди варваров Севера и дикарей Юга, верований которого он не исследовал бы. Увы, увы! Чем больше он изучал, искал, допытывался, размышлял, тем более он колебался.
— Друг мой, — говорил он как-то вечером господину ректору, — насколько счастливее нас Колумбы, которые устремляются за моря на поиски нового мира: им надо только идти вперед! Трудности, останавливающие их, происходят лишь от материальных препятствий, которые смелый человек всегда преодолевает. Между тем мы, беспрерывно бросаемые из стороны в сторону океаном сомнений, внезапно, словно корабль бурным вихрем, увлекаемые какой-нибудь гипотезой, вдруг встречаем противоположную гипотезу, подобную противному ветру, и она приводит нас, утративших надежду, обратно в гавань, из которой мы вышли.
Однажды ночью, философствуя с господином деканом, он сказал:
— Справедливо предполагают, друг мой, что истина находится в колодце!.. Ведра разом спускаются за добычей и никогда не приносят ничего, кроме чистой воды... Предоставляю вам догадаться, — прибавил он лукаво, — как я пишу слово «ведра»[2].
Это единственный каламбур, который от него когда-либо слышали.
ГЛАВА IV На что доктор Ираклий употреблял вторую половину суток
Когда доктор Ираклий возвращался домой, он оказывался гораздо толще, чем в момент ухода. Это происходило оттого, что каждый из его карманов — а у него их имелось восемнадцать — был набит старыми философскими книгами, только что купленными им в переулке Старых Голубей, и шутник-ректор утверждал, что если бы какой-нибудь химик в это мгновение подверг доктора анализу, то нашел бы, что в его состав входит старая бумага в количестве двух третей.
В семь часов Ираклий Глосс садился за стол и за обедом все время просматривал старые книги, владельцем которых только что стал.
В половине девятого доктор аккуратно вставал из-за стола; теперь это уже не был тот живой и суетливый человек, каким он был весь день, но важный мыслитель, чело которого склонялось под бременем высоких размышлений, как носильщик под слишком тяжелою ношею. Величественно бросив домоправительнице: «Меня ни для кого нет дома», — он исчезал в своем кабинете. Там он усаживался за рабочий стол, заваленный книгами, и... думал. Какое странное зрелище представилось бы тому, кто мог бы проникнуть в мысли доктора!.. Чудовищная вереница самых различных божеств и самых противоречивых верований, фантастическое переплетение учений и гипотез. Это была словно арена, где бойцы всех философских учений сталкивались на гигантском турнире. Он соединял, сопоставлял, смешивал древний восточный спиритуализм с немецким материализмом, мораль апостолов с моралью Эпикура[3]. Он пытался производить соединения доктрин, подобно тому как в лабораториях стараются производить химические соединения, но ему никогда не приходилось видеть, чтобы на поверхности забурлила столь желанная истина. И его добрый друг, ректор, утверждал, что эта вечно ожидаемая философская истина весьма похожа на философский камень... преткновения.
В полночь доктор ложился, и сонные грезы его были те же, что его грезы наяву.
ГЛАВА V О том, как господин декан все надежды возлагал на эклектизм, доктор — на откровение, а господин ректор — на пищеварение
Однажды вечером, когда господин декан, господин ректор и доктор находились в просторном кабинете Глосса, у них произошел интереснейший спор.
— Друг мой, — говорил декан, — надо быть эклектиком и эпикурейцем. Выбирайте то, что хорошо, отбрасывайте то, что худо. Философия — это обширный сад, который простирается по всей земле. Нарвите ярких цветов Востока и бледных цветочков Севера, полевых фиалок и садовых роз, свяжите их в букет и нюхайте его. Если его запах не будет самым превосходным, о котором только можно мечтать, он будет во всяком случае очень приятен и в тысячу раз лучше запаха одного-единственного цветка, хотя бы тот был самым благоуханным в мире.
— Разнообразнее, конечно, — возразил доктор, — но не лучше! Вот если бы вам удалось найти цветок, который соединяет и концентрирует в себе благоухания всех остальных! Дело в том, что в вашем букете вы не можете помешать некоторым запахам портить другие запахи, а в философии — некоторым верованиям противоречить другим верованиям. Истина едина, а с вашим эклектизмом у вас всегда получится только истина, состоящая из частей и кусков. Я тоже был прежде эклектиком, теперь я односторонен. Я хочу не случайного «почти что», но абсолютной истины. Всякий разумный человек обладает, мне кажется, предчувствием ее, и в тот день, когда он найдет ее на своем пути, он воскликнет: «Вот она!» То же самое с красотою. До двадцати пяти лет я не любил. Я видел много красивых женщин, но их красота ничего мне не говорила. Чтобы создать идеальное существо, которое мне смутно представлялось, надо было бы взять нечто от каждой; и это тоже походило бы на букет, о котором вы только что говорили: таким способом не получишь совершенной красоты, которая неразложима, как золото и истина. Наконец я встретил такую женщину, понял, что это она, и полюбил ее.
Доктор, несколько взволнованный, замолчал, а господин ректор лукаво улыбнулся, глядя на господина декана. Через мгновение Ираклий Глосс продолжал:
— На откровение должны мы возлагать все надежды. Откровение осенило апостола Павла на пути в Дамаск и дало ему христианскую веру...
— ...Которая не есть истина, — перебил, смеясь, ректор, — так как вы в нее не верите; следовательно, откровение не надежнее эклектизма.
— Извините, друг мой, — возразил доктор. — Павел не был философом, и полученное им откровение не было полным; его ум не мог бы воспринять абсолютную истину, которая абстрактна. Но с тех пор философия двинулась вперед, и в тот день, когда какое-нибудь обстоятельство — книга или одно слово — откроет ее человеку, достаточно просвещенному, чтобы ее понять, она осенит его сразу, и все суеверия померкнут перед нею, как звезды перед восходящим солнцем.
— Аминь, — сказал ректор, — но завтра перед вами предстанет второй человек, осененный свыше, послезавтра — третий, и они начнут запускать друг другу в голову своими откровениями, которые, к счастью, не особенно опасное оружие.
— Но вы, значит, ни во что не верите? — воскликнул доктор, уже начиная сердиться.
— Я верю в пищеварение, — важно ответил ректор. — Я без разбора глотаю все верования, все догматы, все нравственные учения, все суеверия, все гипотезы, все иллюзии, точно так же, как за хорошим обедом я ем с равным удовольствием суп, закуски, жаркое, овощи, пирожное и десерт, после чего философски заваливаюсь спать, уверенный, что мое спокойное пищеварение доставит мне приятный сон ночью, жизнь и здоровье на следующий день.
— Поверьте мне, — поспешно вставил декан, — лучше нам не продолжать это сравнение.
Час спустя, когда они выходили из дома ученого Ираклия, ректор вдруг рассмеялся и сказал:
— Бедный доктор! Если истина предстанет ему в виде любимой женщины, он будет, конечно, самым обманутым человеком, какого только носила земля.
И какой-то пьяный, старавшийся найти дорогу к своему дому, упал от испуга, услышав могучий хохот декана, который аккомпанировал пронзительному фальцету ректора.
ГЛАВА VI О том, каким образом переулок Старых Голубей оказался путем в Дамаск для доктора и как осенила его истина в виде рукописи о переселении душ
Семнадцатого марта тысяча семьсот какого-то года от рождества христова доктор проснулся в лихорадочном волнении. Ночью ему несколько раз привиделся во сне высокий седой человек в античном одеянии, который касался его лба пальцем, произнося какие-то невнятные слова. И ученому Ираклию сон этот показался весьма знаменательным предвестием. Почему это было предвестие... и чем было оно знаменательно, — доктор не знал этого наверное и тем не менее чего-то ожидал.
Позавтракав, он по обыкновению отправился в переулок Старых Голубей и, когда било полдень, вошел в дом № 31, к Николя Бриколэ, портному, торговцу старинной мебелью, букинисту и в свободное время реставратору древней обуви, то есть башмачнику. Словно движимый каким-то вдохновением, доктор тотчас поднялся на чердак, засунул руку на третью полку шкафа времен Людовика XIII и вытащил оттуда объемистую рукопись на пергаменте, носившую заглавие:
МОИ ВОСЕМНАДЦАТЬ ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЙ.
ИСТОРИЯ МОИХ СУЩЕСТВОВАНИЙ, НАЧИНАЯ ОТ 184 ГОДА
ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ЭРЫ.
Непосредственно за этим странным заглавием находилось следующее предисловие, которое Ираклий Глосс тут же и прочитал:
«Эта рукопись, содержащая точное повествование о моих переселениях, начата была мною в Римской области в CLXXXIV году христианской эры, как сказано выше.
Это объяснение касательно последовательных перевоплощений души, предназначенное для назидания смертным, я помечаю нынешним днем, 16 апреля 1848 года, в городе Балансоне, куда я заброшен превратностями судьбы.
Каждому просвещенному и занимающемуся философскими вопросами человеку достаточно будет взглянуть на эти страницы, чтобы самый яркий свет озарил его.
Для этого я в нескольких строках изложу вкратце сущность моей истории, которую можно прочесть далее, зная хотя бы немного латинский, греческий, немецкий, итальянский, испанский или французский языки, ибо в различные эпохи моих новых появлений в человеческом образе я жил среди этих различных народов. Затем я объясню, благодаря какому сцеплению идей, благодаря каким психологическим предосторожностям и каким мнемотехническим средствам я неизбежно пришел к заключению о своих перевоплощениях.
В 184 году я жил в Риме и был философом. Однажды, когда я гулял по Аппиевой дороге, мне пришла в голову мысль, что, возможно, Пифагор[4] был как бы еще не совсем ясной зарею зарождающегося великого дня. С этой минуты у меня было только одно желание, одна цель, одна постоянная забота: вспомнить о моем прошлом. Увы! Все мои усилия были тщетны, мне не вспоминалось ничего из предшествовавших существований.
И вот однажды я случайно увидел на подножии статуи Юпитера, стоявшей в моем атриуме, несколько слов, вырезанных мною самим когда-то в юности, и они вдруг напомнили мне о давно забытом происшествии. Это был точно луч света; я понял, что если нескольких лет, иногда одной ночи бывает достаточно, чтобы изгладить воспоминание, то и подавно должно изгладиться из нашей памяти все, что совершилось в предыдущих существованиях и над чем пронеслась великая дремота промежуточных и животных жизней.
Тогда я вырезал мою историю на каменных плитках в надежде, что судьба, может быть, явит ее когда-нибудь снова моим очам и что она будет для меня тем же, чем оказалась надпись, найденная мною на подножии статуи.
То, чего я желал, исполнилось. Сто лет спустя, когда я был архитектором, мне поручено было снести старый дом, чтобы на его месте воздвигнуть дворец.
Рабочие, которыми я руководил, принесли мне однажды разбитый, покрытый надписями камень, который они нашли, разрывая фундамент. Я начал разбирать надписи, и, когда я читал про жизнь того, кто начертал эти знаки, временами меня озаряли как бы мгновенные проблески забытого прошлого. Мало-помалу свет проник в мою душу — я понял, я вспомнил! На этом камне когда-то вырезал надпись я сам.
Но что я делал, чем я был в этот столетний промежуток? В каком образе я страдал? Ничто не могло объяснить мне этого.
Однажды все-таки мне явилось указание, но такое слабое и такое туманное, что я с трудом решаюсь сослаться на него. Один старик, мой сосед, рассказал мне, что пятьдесят лет тому назад (как раз за девять месяцев до моего рождения) в Риме много смеха вызвало происшествие с сенатором Марком Антонием Корнелием Липою.
Его жена, которая, говорят, была красива и весьма развратна, купила у финикийских купцов большую обезьяну и очень полюбила ее. Сенатор Корнелий Липа приревновал свою половину, привязавшуюся к этому четверорукому с человечьим лицом, и убил обезьяну. Когда я слушал эту историю, мне очень смутно представилось, что этой обезьяной был я сам, что в таком виде я долго страдал как бы от воспоминания о каком-то падении; но ничего вполне ясного и вполне определенного припомнить я не мог. Вскоре я остановился на гипотезе, которая во всяком случае весьма правдоподобна.
Животный образ является наказанием, налагаемым на душу за преступление, совершенное в человеческом образе. Память о высших существованиях дается животному в виде кары, чтобы оно осознало свое падение.
Только очищенная страданием душа может снова принять человеческий образ; она теряет тогда воспоминания о животных периодах, пережитых ею, потому что она переродилась и помнить это было бы для нее незаслуженной мукой. Следовательно, человек должен защищать и уважать животное, как уважают преступника, который искупает свою вину; он должен это делать и для того, чтобы другие защищали его самого, когда он, в свою очередь, снова появится в образе животного. Это почти тождественно следующей догме христианской морали: «Не делай другому того, чего себе не желаешь».
Из рассказа о моих перевоплощениях станет ясно, каким образом я имел счастье мысленно восстанавливать каждое из моих существований, каким образом я снова начертал эту историю на медных дощечках, потом опять на египетском папирусе и, наконец, гораздо позднее, на немецком пергаменте, которым пользуюсь и сегодня.
Мне остается вывести философское резюме из этой доктрины.
Все философские учения останавливаются перед неразрешимой проблемой будущей участи душ. Христианские догматы, которые ныне одерживают верх над другими, учат, что бог соберет праведников в раю, а грешников отправит в ад, где они будут гореть вместе с дьяволом.
Но современный здравый смысл не верит в бога с наружностью патриарха, укрывающего под своими крыльями души праведных, как курица своих цыплят, и, кроме того, разум отвергает догматы христианства.
Ибо нигде не может находиться рай и нигде не может находиться ад.
Потому что безграничное пространство населено мирами, подобными нашему.
Потому что при бесконечном умножении числа поколений, которые следовали одно за другим от начала этой земли, на число тех поколений, что плодились в бесчисленных мирах, населенных подобно нашему, получилось бы такое сверхъестественное и невозможное количество душ, что бог неминуемо потерял бы голову, как бы ни была она крепка; то же самое случилось бы и с дьяволом, отчего произошло бы прискорбное замешательство.
Потому, наконец, что, если число праведных душ бесконечно, как число грешных душ и как пространство, то понадобился бы бесконечный рай и бесконечный ад, а это привело бы к следующему: рай был бы везде, и ад был бы везде, то есть нигде.
Значит, верование в переселение душ разумом не отвергается.
Душа, переходя из змеи в свинью, из свиньи в птицу, из птицы в собаку, доходит, наконец, до обезьяны и человека. Потом она всегда, при каждом новом содеянном проступке, начинает все сначала, до момента, когда она достигает полного земного очищения, после которого переселяется в высший мир. Так переходит она беспрерывно из животного в животное и из сферы в сферу, восходя от наименее совершенного к наиболее совершенному, чтобы достигнуть, наконец, планеты высшего блаженства, откуда новый проступок может снова низринуть ее в области наибольшего страдания, и там она вновь начнет свои переселения.
Итак, круг, этот роковой и всеобъемлющий символ, замыкает смену наших существований, подобно тому, как он управляет движением миров».
ГЛАВА VII О том, каким образом можно двояко толковать один и тот же стих Корнеля
Прочитав этот странный документ, доктор Ираклий остолбенел от изумления, а затем купил его, не торгуясь, за сумму в двенадцать ливров одиннадцать су, так как букинист выдавал его за еврейскую рукопись, найденную при раскопках в Помпее[5].
В продолжение четырех дней и четырех ночей доктор не покидал своего кабинета, и ему удалось при помощи терпения и словарей расшифровать кое-как немецкие и испанские периоды рукописи. Дело в том, что, зная языки греческий, латинский и отчасти итальянский, он почти совсем не знал ни немецкого, ни испанского. Наконец, боясь впасть в грубейшие ошибки, он попросил своего друга, ректора, прочитать его перевод. Тот обещал с большим удовольствием, но целых три дня не мог серьезно взяться за работу, потому что при беглом просмотре перевода доктора им овладевал такой долгий и бурный хохот, что дважды он чуть не лишился чувств. Когда ректора спрашивали о причине такой необычайной веселости, он отвечал:
— Причина? Да их три: во-первых, смехотворное лицо моего превосходного собрата Ираклия; во-вторых, его смехотворный перевод, который походит на оригинал почти так же, как гитара на ветряную мельницу, и, в-третьих, наконец, сам текст, являющийся наиболее забавной вещью, какую только можно себе представить.
О, упрямый ректор! Ничем нельзя было его убедить. Если бы само солнце взяло да опалило ему бороду и волосы, он принял бы его за сальную свечку.
Что же касается доктора Ираклия Глосса, мне нет надобности говорить, что он сиял, был осенен свыше, преображен. Он поминутно повторял, как Полина[6]:
Я вижу, верю я теперь, разубежден.
И каждый раз ректор прерывал его, чтобы указать, что «разубежден» следовало бы писать не как одно, а как два слова:
Я вижу, верю я теперь, раз убежден.
ГЛАВА VIII Каким образом по той же самой причине, по которой можно крепче короля стоять за королевскую власть и быть набожнее римского папы, можно также сделаться большим приверженцем переселения душ, чем Пифагор
Как бы ни была сильна радость потерпевшего кораблекрушение, который после долгих дней и долгих ночей странствования по безбрежному морю на утлом плоту без мачты, без паруса, без компаса и без надежды замечает вдруг столь желанный берег, эта радость была ничто сравнительно с той радостью, которой преисполнился доктор Ираклий Глосс, когда, после того, как волны философских школ так долго кидали его во все стороны на плоту сомнений, он вошел наконец, торжествующий и осененный свыше, в гавань веры в переселение душ.
Истинность этой доктрины так сильно поразила его, что он воспринял ее сразу, вплоть до всех самых крайних выводов. Здесь для него не было ничего неясного, и в несколько дней он дошел путем раздумий и расчетов до того, что стал точно определять время, когда человек, умерший в таком-то году, вновь появится на земле. Он знал приблизительно срок всех переселений души в низшие существа и сообразно предполагаемой сумме добра или зла, совершенного в последний период человеческой жизни, мог определить момент, когда эта душа войдет в тело змеи, свиньи, ломовой лошади, быка, собаки, слона или обезьяны. Повторяющиеся появления души в своей высшей оболочке следовали через правильные промежутки времени, независимо от предшествовавших грехов.
Таким образом, степень наказания, всегда пропорциональная степени виновности, заключалась не в большей или меньшей продолжительности ссылки в тела животных, но в длительности пребывания данной души в шкуре животного нечистого. Лестница животных начиналась на низших ступенях — змеей или свиньей, а заканчивалась обезьяной, «которая есть человек, лишенный дара слова», — говорил доктор; на что его превосходный друг, ректор, отвечал всегда, что в силу того же рассуждения сам Ираклий Глосс не что иное, как обезьяна, обладающая даром слова.
ГЛАВА IX Медали и их оборотные стороны
Доктор Ираклий был счастлив в течение нескольких дней, последовавших за его поразительным открытием. Его жизнь была сплошным торжеством. Он сиял от сознания побежденных трудностей, разоблаченных тайн, осуществленных великих надежд. Метампсихоз, как небо, окружал его. Ему казалось, что внезапно разорвалась завеса и что глаза его открылись для неведомого.
Он усаживал рядом с собою за стол свою собаку; он сосредоточенно сидел с нею наедине перед камином, стараясь уловить в глазах невинного животного тайну предыдущих существований.
Однако он усматривал два темных пятна на небе своего блаженства: это были господин декан и господин ректор.
Декан яростно пожимал плечами всякий раз, когда Ираклий пытался склонить его к вере в переселение душ, а ректор преследовал его самыми неуместными шутками. Последнее было особенно невыносимо. Как только доктор начинал излагать свою веру, этот чертов ректор горячо поддерживал его; он прикидывался учеником, который внимает речам великого апостола, и придумывал самые невероятные скотские родословные для всех окружающих лиц. Так, он говорил, что дядюшка Лабонд, соборный звонарь, в первом своем воплощении был, наверное, не чем иным, как дыней, и с тех пор очень мало изменился, вполне довольствуясь тем, что утром и вечером звонит в колокол, под которым когда-то рос. Он утверждал, что аббат Дозанкруа, старший викарий церкви Сшт-Элали, когда-то был, несомненно, щипцами для орехов, потому что сохранил внешность и атрибуты щипцов. Затем, самым отчаянным образом перепутывая роли, он уверял, что аптекарь Бойкаль не что иное, как выродившийся ибис, потому что он принужден пользоваться некоторым инструментом для вливания того простейшего лекарства, которое, по словам Геродота[7], священная птица себе впускала единственно при помощи своего длинного клюва.
ГЛАВА X О том, что скоморох может быть хитрее ученого доктора
Тем не менее доктор Ираклий, не теряя бодрости, совершил ряд новых открытий. Отныне всякое животное имело для него таинственное значение: он переставал видеть в нем зверя и созерцал лишь человека, который очищался в этой оболочке. Он угадывал былые грехи по одному виду искупительной шкуры.
Однажды, прогуливаясь по городской площади, он увидел большой дощатый балаган, из которого неслось ужасное завывание, между тем как на эстраде паяц, болтая руками и ногами, приглашал публику зайти посмотреть, как работает грозный укротитель, апаш Томагавк, или Грохочущий Гром. Ираклия это заинтересовало, он уплатил десять сантимов и вошел. О фортуна, покровительствующая великим умам! Едва проник он в балаган, как увидел огромную клетку, на которой были написаны следующие два слова, внезапно сверкнувшие перед его пораженными очами: «Лесной человек».
Доктор вдруг почувствовал нервную дрожь, как это бывает при сильных нравственных потрясениях, и, спотыкаясь от волнения, подошел ближе. Он увидел огромную обезьяну, которая спокойно сидела, скрестив ноги наподобие портных и турок. Перед этим великолепным образчиком человека в его последнем воплощении Ираклий Глосс, бледный от радости, погрузился в глубокие раздумья. Через несколько минут Лесной человек, несомненно угадывая непреодолимую симпатию, внезапно расцветшую в сердце пристально смотревшего на него человека, скорчил своему возродившемуся собрату такую ужасную рожу, что доктор почувствовал, как волосы дыбом встают у него на голове. Затем, совершив фантастический прыжок, нимало не совместимый с достоинствами даже окончательно падшего человека, четверорукий гражданин предался непристойнейшей шаловливости пред самым носом доктора. Последний не оскорбился, однако, веселостью этой жертвы былых заблуждений. Напротив, он увидел в ней лишнее сходство с человеческой породою, большую вероятность родства, и его научное любопытство настолько возросло, что он решил во что бы то ни стало купить этого искусного гримасника, дабы изучать его на досуге. Какая честь для него, какое торжество для великой доктрины, если ему удастся наконец установить связь с животной частью человечества: понять эту бедную обезьяну и достигнуть того, чтобы и она его понимала!
Естественно, хозяин зверинца стал чрезвычайно восхвалять своего воспитанника: это — самое умное, самое кроткое, самое симпатичное животное, какое только он видал на своем долгом поприще демонстратора диких зверей; и, чтобы подкрепить сказанное, он подошел к решетке и просунул в нее свою руку, которую обезьяна тотчас же в виде шутки укусила. Естественно также, он запросил за обезьяну баснословную цену, и Ираклий уплатил ее не торгуясь. Затем, предшествуемый двумя носильщиками, сгибавшимися под тяжестью огромной клетки, доктор торжественно направился к своему жилищу.
ГЛАВА XI Где доказывается, что Ираклий Глосс отнюдь не был свободен от всех слабостей сильного пола
Но чем более приближался он к дому, тем более замедлял шаги, потому что тревожно решал в уме проблему, представлявшую совершенно иные трудности, нежели проблема философской истины, и сводившуюся для злополучного доктора к следующей формуле: «К какой хитрости мне прибегнуть, чтобы скрыть от моей доброй Онорины проникновение под мой кров этого лишь вчерне законченного человека?» Ах, дело в том, что бедный Ираклий, неустрашимо встречавший грозное пожимание плечами господина декана и ужасные шутки господина ректора, бывал далеко не таким храбрым при вспышках доброй Онорины. Почему же доктор так сильно боялся этой маленькой, еще свежей, привлекательной женщины, которая казалась такою милою и столь преданной интересам своего хозяина? Почему? Спросите, почему Геркулес прял у ног Омфалы, почему Самсон допустил, чтобы Далила похитила у него силу и мужество, которые пребывали в его волосах, как сказано в библии?
Увы! Однажды, когда доктор, гуляя за городом, старался развеять отчаяние обманутой великой страсти (ибо недаром господин декан и господин ректор так сильно потешались насчет Ираклия, уходя от него в тот вечер), он встретил у какого-то плетня молоденькую девушку, пасшую овец. Ученый муж не всегда искал исключительно философскую истину и еще не подозревал тогда о великой тайне переселения душ; вместо того, чтобы заняться только овцами, что он, конечно, сделал бы, если бы знал то, чего тогда еще не ведал, — он, увы, пустился в беседу с тою, которая их пасла. Он вскоре взял ее к себе в услужение, а первая слабость влечет за собою последующие: скоро он сам сделался ягненком этой пастушечки, и втихомолку стали поговаривать, что если бы эта деревенская Далила, подобно Далиле библейской, обрезала волосы слишком доверчивого бедняги, она этим не лишила бы его чела всех бывших на нем украшений.
Увы, то, что он предвидел, осуществилось и даже превзошло его опасения! Увидев жителя лесов, заключенного в клетку из железных прутьев, Онорина тотчас воспылала самой неуместной яростью и, ошеломив своего испуганного хозяина проливным дождем весьма неблагозвучных эпитетов, обратила гнев на явившегося к ней нежданного гостя. Но последний, не имея, без сомнения, одинаковых с доктором оснований щадить столь плохо воспитанную домоправительницу, начал кричать, рычать, топать ногами, скрежетать зубами; он уцепился за перекладины своей клетки с такой яростной запальчивостью, сопровождаемой до такой степени нескромными жестами по адресу особы, увиденной им впервые, что та принуждена была отступить и, подобно побежденному воину, бежать и запереться у себя в кухне.
Ираклий, овладев таким образом полем сражения и восхищаясь неожиданной помощью, которую он получил от своего разумного товарища, велел внести его в кабинет, где поместил клетку и ее обитателя перед столом у камина.
ГЛАВА XII О том, что учитель совсем не то, что укротитель
И вот начался обмен самыми многозначительными взглядами между двумя особами, которые находились друг перед другом; каждый день в течение целой недели доктор по целым часам разговаривал посредством глаз (по крайней мере так ему казалось) с интересным субъектом, которым он обзавелся. Но этого было мало. Ираклию захотелось изучать животное на свободе, подстерегать его тайны, его желания, его мысли, позволить ему ходить взад и вперед по собственной воле и, ежедневно проникая в его интимную жизнь, увидеть наконец проявление в нем забытых привычек и, таким образом, распознать по верным признакам воспоминание о предыдущем существовании. А для этого нужно было, чтобы гость был свободен, — следовательно, чтобы клетка была отворена. Но подобное предприятие менее всего могло обещать спокойствие. Доктор напрасно пытался пускать в ход то магнетизм, то пирожные, то орехи; четверорукий предавался действиям, внушавшим Ираклию опасения всякий раз, когда доктор слишком близко подходил к решетке. Наконец однажды доктор, не будучи в состоянии противиться желанию, которое его мучило, быстро подошел к клетке, повернул ключ в замке, отворил настежь дверь и, трепеща от волнения, отступил на несколько шагов, выжидая событий, которые и не заставили себя долго ждать.
Удивленный четверорукий сначала недоумевал, затем одним прыжком очутился вне клетки, другим на столе, на котором менее чем в одну секунду разбросал все книги и бумаги, затем третьим прыжком очутился в объятиях доктора, и выражения его нежности были так сильны, что, не будь на Ираклии парика, его последние волосы, наверно, остались бы в пальцах его грозного брата. Но, как ни проворна была обезьяна, Ираклий оказался проворен не менее ее: он прыгнул направо, затем налево, скользнул, как угорь, под стол, перескочил, как борзая собака, через кресла и, все еще преследуемый, достиг наконец двери, которую быстро захлопнул за собой; после этого, запыхавшись, как беговая лошадь, добежавшая до столба, он прислонился к стене, чтобы не упасть.
Остаток дня Ираклий Глосс был в состоянии полной растерянности. Он испытывал как бы внутреннее крушение, но особенно заботило его то, что он совершенно не знал, каким способом его непредусмотрительный гость и он сам могли бы выйти из создавшейся ситуации. Он придвинул стул к неприступной двери и устроил себе наблюдательный пункт у скважины замка. Тогда он увидел — о чудо!.. о неожиданное блаженство!.. — своего счастливого победителя, развалившегося в кресле и греющего ноги у камина. В порыве радости доктор сгоряча едва не вошел в кабинет, но размышление остановило его, и, как бы озаренный внезапным светом, он сообразил, что голод, несомненно, сделает то, чего не могла сделать кротость. На этот раз события показали, что он был прав: проголодавшийся четверорукий капитулировал. Так как, в сущности, это был добрый малый, то примирение было полное, и с этого дня они с доктором зажили, как два старых друга.
ГЛАВА XIII О том, как доктор Ираклий Глосс очутился точно в таком же положении, как добрый король Генрих IV, который, выслушав спор двух адвокатов, решил, что они оба правы
Спустя некоторое время после этого достопамятного дня доктор Ираклий из-за проливного дождя не мог пойти по обыкновению в свой сад. Он сидел с утра в кабинете и философски созерцал своего четверорукого, который, вскарабкавшись на письменный стол, забавлялся тем, что бросал комочками бумаги в пса Пифагора, растянувшегося перед камином.
Доктор изучал градации непрерывного развития интеллекта у этих падших людей и сравнивал степень понятливости обоих находившихся перед ним животных. «У собаки, — думал он, — господствует еще инстинкт, тогда как у обезьяны преобладает рассудительность. Первая чует, слушает, воспринимает своими чудесными органами, которые наполовину составляют ее разум; вторая комбинирует и размышляет». В это мгновение обезьяна, выведенная из терпения равнодушием и неподвижностью своего врага, который спокойно лежал, опустив голову на лапы, ограничиваясь лишь тем, что время от времени взглядывал на задиру, занявшего столь выгодную позицию, решила пойти на разведку. Она легонько соскочила с письменного стола и двинулась вперед так тихо, что слышно было лишь потрескивание дров да тикание маятника, которое в глубокой тишине кабинета казалось слишком громким; затем быстрым и неожиданным движением она обеими руками схватила пушистый хвост злополучного Пифагора. Но пес при всей своей неподвижности следил за каждым движением обезьяны: его спокойствие было только уловкой, чтобы привлечь на близкое к себе расстояние недосягаемого до того времени противника; и в то самое мгновение, когда четверорукий господин схватил его хвостовой придаток, Пифагор вскочил одним прыжком и, прежде чем соперник успел обратиться в бегство, вцепился сильной пастью охотничьей собаки в ту часть тела, которую стыдливо называют окороком. Неизвестно, каков был бы исход боя, если бы не вмешался Ираклий; но когда доктор, восстановив мир и сильно запыхавшись, вновь усаживался на свое место, он задавал себе вопрос: не выказала ли в данном случае его собака, если принять во внимание все обстоятельства, гораздо больше хитрости, нежели животное, называемое «хитрым по преимуществу»? И он остался погруженным в глубокое недоумение.
ГЛАВА XIV О том, как Ираклий чуть не съел зажаренных на вертеле прекрасных дам былых времен
Так как пора было завтракать, доктор вошел в столовую, сел за стол, засунул себе за воротник салфетку, развернул лежавшую рядом драгоценную рукопись и готовился поднести ко рту крылышко прежирной и ароматной перепелки, как вдруг его глаза, устремленные в священную книгу, остановились на нескольких строках, которые заблистали перед ним ужаснее, чем знаменитые три слова, внезапно начертанные неведомой рукой на стене пиршественной залы славного царя, именовавшегося Валтасаром.
Вот что прочел доктор:
«...Итак, воздерживайся от всякой пищи, прежде имевшей жизнь, ибо вкушать животное — значит вкушать себе подобного. И я говорю, что человек, убежденный в великой истине переселения душ, но убивающий и пожирающий животных, которые суть не что иное, как люди в их низших образах, — такой же преступник, как свирепый людоед, который съедает своего побежденного врага».
А на столе лежали рядышком полдюжины только что зажаренных и жирных перепелок, нанизанных на небольшой серебряный вертел и распространявших в воздухе аппетитный запах.
Ужасна была битва между духом и желудком, но скажем, к прославлению Ираклия, что она длилась недолго. Голодный, доведенный до отчаяния человек, опасаясь, что не в состоянии будет противиться страшному искушению, позвонил и разбитым голосом приказал служанке немедля убрать это отвратительное блюдо и впредь подавать ему только яйца, молоко и овощи. Онорина чуть не упала навзничь, услышав эти поразительные слова, она хотела протестовать, но непреклонный взор хозяина заставил ее бежать вместе с отвергнутыми пернатыми; однако она утешалась приятною мыслью, что потерянное для одного еще не потеряно для всех.
«Перепелки, перепелки... Кем могли быть перепелки в иной жизни? — задал себе вопрос несчастный Ираклий, печально кушая превосходную цветную капусту со сливками, показавшуюся ему в этот день отчаянно скверною. — Какие человеческие существа могли быть настолько изящными, хрупкими, нежными, что перешли в тела этих восхитительных маленьких созданий, таких кокетливых и хорошеньких? Ах, конечно, это могли быть только прелестные жеманницы прошлых веков...» И доктор еще сильнее побледнел, подумав, что в течение тридцати с лишком лет он каждый день съедал за завтраком полдюжины прекрасных дам былых времен.
ГЛАВА XV О том, как господин ректор толкует божественные заповеди
Вечером этого злополучного дня господин декан и господин ректор пришли поболтать часок — другой в кабинете Ираклия. Доктор тотчас же рассказал им о затруднении, в котором находился, и объяснил, каким образом перепелки и другие съедобные животные сделались для него столь же запретными, как свинина для еврея.
Господин декан, который, без сомнения, плохо пообедал, потерял тогда всякое терпение и начал так страшно богохульствовать, что бедный доктор, очень уважавший его, хотя оплакивавший в то же время его ослепление, не находил себе места. Что касается господина ректора, то он вполне одобрил совестливость Ираклия и указал ему даже, что ученик Пифагора, питающийся мясом животных, может подвергнуться опасности съесть ребро своего отца с шампиньонами или начиненные трюфелями ноги своего деда, что совершенно противоречит духу всякой религии; в подтверждение же сказанного ректор сослался на пятую заповедь христианского бога:
Отца и матерь почитай,
И будешь долголетен.
— Правда, — прибавил он, — лично я, как неверующий, предпочел бы не морить себя голодом и слегка изменить эту заповедь:
Отца и матерь пожирай,
И будешь долголетен.
ГЛАВА XVI О том, как доктор прозрел после сорок второго чтения рукописи
Подобно тому как богатый человек может каждый день черпать из своего большого состояния новые удовольствия и новые утехи, так доктор Ираклий, собственник неоценимой рукописи, делал в ней удивительные открытия всякий раз, как ее перечитывал.
Однажды вечером, когда он в сорок второй раз читал этот документ, внезапное озарение снизошло на него с быстротой молнии.
Как мы видели раньше, доктор мог с приблизительной достоверностью определить, в какое время исчезнувший человек закончит свои перевоплощения и вновь появится в своем первоначальном виде. Поэтому он внезапно был поражен мыслью, что автор рукописи, быть может, уже снова завоевал себе место среди человечества.
И в таком же лихорадочном волнении, как алхимик, который думает, что сейчас найдет философский камень, он принялся за самые тщательные расчеты, чтобы установить вероятность этой гипотезы, и после нескольких часов упорной работы и многочисленных научных соображений о переселении душ пришел к выводу, что этот человек должен быть его современником или по крайней мере готовиться вновь возродиться к сознательной жизни. Действительно, не имея никакого свидетельства, могущего указать ему точную дату смерти великого апостола переселения душ, Ираклий не был в состоянии с уверенностью определить момент его возвращения.
Поняв возможность найти это существо, которое для него было более, чем человеком, более, чем философом, почти что более, чем богом, он вдруг испытал глубокое потрясение, вроде того, которое испытывает человек, внезапно узнавший, что отец, которого он долгие годы считал умершим, жив и находится близко. Святой отшельник, который провел свою жизнь, питаясь любовью ко Христу и помышлениями о нем, постигнув внезапно, что сейчас ему явится его бог, был бы взволнован не более, чем доктор Ираклий Глосс, когда он удостоверился, что может встретить автора рукописи.
ГЛАВА XVII Что предпринял доктор Ираклий Глосс, чтобы разыскать автора рукописи
Через несколько дней читатели Балансонской звезды с удивлением заметили на четвертой странице этой газеты следующее объявление: «Пифагор — Рим в 184 году — надпись, обнаруженная на подножии статуи Юпитера, — философ, архитектор, солдат, земледелец, монах, геометр, врач, поэт, моряк, размышляй и вспоминай — рассказ о твоей жизни в моих руках. Писать до востребования: Балансон, для И. Г.».
Доктор не сомневался, что если человек, которого он так страстно жаждал, прочитает это уведомление, непонятное никому иному, то немедля постигнет его сокровенный смысл и явится к нему. Теперь каждый день, перед тем как сесть за стол, он ходил на почту справляться, не получено ли писем на инициалы И. Г. И в то мгновение, когда он отворял дверь, на которой были написаны слова «Почтовое отделение, справки, выдача корреспонденции», он волновался, конечно, сильнее, чем влюбленный, собирающийся распечатать первое письмо любимой женщины.
Дни шли за днями и безнадежно походили один на другой, почтовый чиновник каждое утро давал доктору одни и тот же ответ, и каждое утро доктор возвращался домой все более печальный и унылый. И балансонский народ, который, как все народы на свете, подозрителен, нескромен, злоречив и жаден до новостей, вскоре соединил удивительное объявление, помещенное в «Звезде», с ежедневными хождениями доктора в почтовую контору. Тогда народ задал себе вопрос, какая тайна может здесь скрываться, и возроптал.
ГЛАВА XVIII Где доктор Ираклий с изумлением узнает автора рукописи
Однажды, во втором часу ночи, когда доктору не спалось, он встал, чтобы пойти перечитать одно место в рукописи, которое, как ему казалось, он еще не совсем хорошо уразумел. Он надел туфли и отворил дверь своей комнаты как можно тише, чтобы не нарушить сна всех категорий людей-животных, которые искупали свое прошлое под его кровом. И каковы бы ни были предыдущие состояния этих счастливых зверей, конечно, они никогда не наслаждались таким полным спокойствием и счастьем, потому что находили в этом гостеприимном доме хороший ужин, хороший ночлег и все прочее, — до такой степени сострадательное сердце было у этого прекраснейшего человека. Он добрался, не произведя ни малейшего шума, до порога своего кабинета и вошел. Ах, конечно, Ираклий был храбр! Он не боялся ни призраков, ни привидений. Но как бы ни был неустрашим человек, на него может иной раз нахлынуть внезапный ужас, способный пробить, подобно пушечному ядру, самое стойкое мужество, — и доктор остановился на месте, посинев от страха, с дикими глазами, с поднявшимися дыбом волосами, стуча зубами, охваченный ужасом перед непостижимым зрелищем, которое ему представилось.
Рабочая лампа горела на столе, а перед камином, спиною к двери, в которую вошел доктор, он увидел... доктора Ираклия Глосса, внимательно читающего рукопись. Нельзя было усомниться — это был он сам... в его собственном длинном халате из старинного шелка с крупными красными цветами, в его греческой шапочке из черного бархата, расшитой золотом. Доктор понял, что, если этот другой он обернется, если оба Ираклия взглянут в лицо друг другу, — тот, кто дрожал в это мгновение в его коже, падет, как пораженный молнией, перед своим двойником. Охваченный нервной судорогой, доктор разжал руку, и подсвечник, который он держал, со стуком покатился по полу. Ираклий Глосс подскочил от ужаса при этом грохоте. Другой быстро обернулся, и растерявшийся Ираклий Глосс узнал четверорукого. В течение нескольких секунд мысли кружились в мозгу доктора, как увядшие листья, уносимые бурей. Затем им вдруг овладела самая сильная радость, какую он только когда-либо испытывал, потому что он понял: желанный автор, ожидаемый им, как мессия евреями, находится перед ним! Это его обезьяна! Чуть не обезумев от счастья, он бросился вперед, заключил в свои объятия почитаемое существо и обнял его с таким жаром, с каким никогда любовник не обнимал обожаемую возлюбленную. Потом он сел против него по другую сторону камина и благоговейно созерцал его до самого утра.
ГЛАВА XIX О том, как доктор очутился перед ужаснейшей альтернативой
Подобно тому как самые прекрасные летние дни иногда внезапно омрачаются сильной грозой, так блаженство доктора было вдруг нарушено страшным наваждением. Он действительно нашел того, кого искал, но, увы, это была лишь обезьяна. Без всякого сомнения, они понимали друг друга, но они не могли говорить друг с другом. Доктор снова упал с небес на землю. Прощайте, долгие разговоры, из которых он надеялся извлечь столько пользы! Прощай, прекрасный крестовый поход против суеверия, который они должны были предпринять вдвоем! Потому что, будучи один, доктор не обладал достаточным оружием, чтобы ниспровергнуть гидру невежества. Ему нужен был человек, апостол, исповедник, мученик, — а эту роль четверорукий, увы, неспособен исполнить. Что делать?
Ужасный голос крикнул ему в уши: «Убей его!»
Ираклий вздрогнул. В одну секунду он сообразил, что, если убьет его, освободившаяся душа немедля войдет в тело готового родиться ребенка, и этому ребенку надо будет предоставить по крайней мере двадцать лет для достижения зрелости. Доктору будет тогда семьдесят лет. Однако это было возможно. Но найдет ли он тогда опять этого человека? Притом его религия воспрещала ему уничтожать какое бы то ни было живое существо; иначе собственная душа Ираклия перейдет после его смерти в тело дикого зверя, как это бывает с убийцами. Но что за важность? Он будет жертвою науки и веры. Доктор схватил большую турецкую саблю, висевшую среди воинственных украшений, и собрался нанести удар, как Авраам на горе, но размышление остановило его руку. А что, если срок искупления этого человека еще не кончился и душа его, вместо того, чтобы перейти в тело ребенка, опять возвратится в тело обезьяны? Это было возможно, даже правдоподобно, почти достоверно! Совершая, таким образом, бесполезное преступление, доктор обрекал себя ужасному наказанию без всякой выгоды для своих ближних. Он снова в изнеможении повалился на стул. Эти повторяющиеся волнения истощили его силы, и он лишился чувств.
ГЛАВА XX В которой доктор ведет маленький разговор со своей служанкой
Когда он опять раскрыл глаза, служанка Онорина смачивала ему виски уксусом. Было семь часов утра. Первым делом доктор вспомнил об обезьяне. Животное исчезло.
— Моя обезьяна, где моя обезьяна? — воскликнул он.
— Ладно, ладно, что говорить-то о ней, — быстро ответила ему служанка-барыня, всегда готовая сердиться. — Великая беда, если бы она и пропала! Хорошее животное, нечего сказать! Она подражает всему, что при ней делает барин. Не застала ли я ее на днях, когда она надевала ваши сапоги? А сегодня утром, когда я вас здесь подобрала, — бог ведает, какие проклятые мысли бродят с некоторых пор в вашей голове и не дают вам спать, — разве эта подлая скотина, сущий дьявол в обезьяньей шкуре, не надела вашу шапочку и халат? Она словно смеялась, глядя на вас, как будто так весело смотреть на человека, лежащего в обмороке. А когда я хотела подойти ближе, эта каналья набросилась на меня, словно хотела меня съесть, но, слава богу, мы не робкого десятка и кулаки у нас еще хорошие; я взяла лопату да так хватила по ее мерзкой спине, что она убежала в вашу комнату и там, должно быть, затевает какую-нибудь новую шутку в том же роде.
— Вы прибили моего четверорукого! — зарычал доктор, выйдя из себя. — Знаете, сударыня, что я велю впредь оказывать ему уважение и служить, как хозяину этого дома.
— О да, конечно! Он не только хозяин дома, но стал уже хозяином хозяина! — пробормотала Онорина и удалилась к себе на кухню в полной уверенности, что доктор Ираклий Глосс положительно сошел с ума.
ГЛАВА XXI О доказанности того положения, что достаточно одного нежно любимого друга, чтобы облегчить бремя самой глубокой печали
Как сказал доктор, с того дня четверорукий стал действительно хозяином дома, а Ираклий сделался покорным слугою этого благородного животного. Он созерцал его по целым часам с бесконечной нежностью, он ухаживал за ним, как влюбленный; при всяком случае он расточал перед ним целый словарь ласковых выражений; пожимал ему руку, как другу; говорил с ним, пристально глядя на него; объяснял те места в своих речах, которые могли казаться непонятными; окружал это животное самыми нежными заботами и самым отменным вниманием.
И обезьяна соглашалась на такое обращение с собою — спокойная, как божество, которое принимает поклонение своих почитателей.
Подобно всем великим умам, живущим в уединении, потому что свойственная им возвышенность мысли выделяет их из общего уровня всенародной глупости, Ираклий до сих пор чувствовал себя одиноким. Одиноким в своих трудах, одиноким в своих надеждах, одиноким в своих борениях и падениях, одиноким, наконец, в своем открытии и в своем торжестве. Он еще не обратил толпу в свою веру. Он даже не мог убедить двух ближайших своих друзей: господина ректора и господина декана. Но с того дня, когда он открыл в обезьяне великого философа, о котором так долго мечтал, доктор почувствовал себя менее одиноким.
Убежденный, что животное лишено дара слова только в наказание за былые прегрешения и что вследствие той же кары оно полно воспоминаниями о предыдущих существованиях, Ираклий горячо полюбил своего товарища и утешался этой привязанностью во всех своих горестях.
Действительно, с некоторого времени жизнь доктора стала печальнее. Господин декан и господин ректор посещали его гораздо реже, и оттого он ощущал вокруг себя страшную пустоту. Они даже перестали приходить обедать по воскресеньям — с тех пор, как он запретил подавать за своим столом всякую пищу, прежде обладавшую жизнью. Изменения в его питании были для него также большим лишением, и оно временами принимало размеры настоящего горя. Он, который, бывало, так нетерпеливо ожидал сладостного часа завтрака, теперь чуть не страшился его. Печально входил он в свою столовую, хорошо зная, что ему теперь нельзя было ожидать ничего приятного, и там ему постоянно являлось воспоминание о жаренных на вертеле перепелках, мучившее его, как угрызение совести. Увы! Он не столько терзался из-за того, что так много их съел, сколько предавался отчаянию, что навеки от них отказался.
ГЛАВА XXII В которой доктор открывает, что его обезьяна походит на него еще более, чем он думал
Однажды утром доктор Ираклий проснулся от необычайного шума; он вскочил с постели, поспешно оделся и направился в кухню, откуда неслись крики и неслыханный топот.
Онорине, давно лелеявшей втихомолку самые черные замыслы мести непрошеному гостю, который отнимал у нее любовь ее господина, коварной Онорине, которая знала вкусы и аппетиты живших в доме животных, удалось посредством какой-то уловки привязать бедную обезьяну к ножкам кухонного стола. Затем, убедившись, что обезьяна привязана очень крепко, Онорина отошла на другой конец кухни и стала забавляться, показывая ей угощение, которое могло более всего возбудить ее аппетит: она заставляла обезьяну испытывать ужасные муки Тантала, которые в аду должны налагаться только на самых страшных грешников; злая домоправительница хохотала во всю глотку, изобретая утонченные пытки, которые способна измыслить только женщина. Человек-обезьяна отчаянно корчился при виде вкусных блюд, подносимых ему издали, но, привязанный к ножкам массивного стола, строил в ярости чудовищные гримасы, только удваивавшие радость палача-иокусителя.
Наконец, как раз в то мгновение, когда доктор, ревнивый хозяин, появился на пороге, жертве ужасной западни удалось посредством чрезвычайного усилия разорвать веревки, которые ее удерживали, и, если бы не бурное вмешательство возмущенного Ираклия, бог весть какими лакомствами угостился бы этот новый четверорукий Тантал.
ГЛАВА XXIII О том, как доктор заметил, что его обезьяна недостойным образом обманула его
На этот раз гнев одержал верх над уважением, и доктор, схватив за горло рычащую обезьяну-философа, потащил ее в свой кабинет и подверг ее самому страшному исправительному воздействию, какое когда-либо доводилось испытать перевоплощенцу.
Когда усталая рука Ираклия немного разжала горло бедного зверя, виноватого только в том, что вкусы его оказались слишком похожи на вкусы его высшего брата, он освободился из объятий оскорбленного хозяина, вскочил на стол, схватил с книги большую табакерку доктора и бросил ее, открытую, в голову ее владельца. Последний успел только закрыть глаза, чтобы избегнуть табачного вихря, который, конечно, ослепил бы его, но, когда он их снова открыл, преступник исчез, унесши с собой рукопись, предполагаемым автором которой он был.
Отчаяние Ираклия было безгранично, и он бросился сломя голову по следам беглеца, готовый на величайшие жертвы, чтобы отыскать драгоценный пергамент. Он обежал дом от погреба до чердака, отворил все шкафы, перешарил под всею мебелью — поиски оставались совершенно бесплодными. Наконец в отчаянии он присел под деревом в своем саду. Через несколько минут ему почудились какие-то легкие удары по черепу, и он подумал, что это засохшие листья, сорванные ветром, — как вдруг увидел бумажный шарик, который катился перед ним по дороге. Он поднял его, развернул. Боже милосердный! Это был один из листов его рукописи. В ужасе поднял он голову и увидел гнусное животное, которое спокойно изготовляло новый метательный снаряд того же рода; при этом занятии чудовище скорчило такую ужасную улыбку довольства, что страшнее едва ли состроил бы и сам сатана, увидев, как Адам берет роковое яблоко, которое женщины, от Евы вплоть до Онорины, не перестают подносить нам. При виде этого ужасный свет внезапно озарил ум доктора, и он понял, что обманут, осмеян, самым гнусным образом одурачен этим мохнатым плутом, который так же не был столь долгожданным автором рукописи, как не был римским папой или турецким султаном. Драгоценное сочинение погибло бы целиком, если бы Ираклий не заметил возле себя кишку насоса, с помощью которого садовники поливают дальние грядки. Он быстро схватил ее и, действуя со сверхчеловеческой силой, угостил вероломного таким неожиданным душем, что тот запрыгал с ветки на ветку, издавая пронзительные крики, и вдруг, пустив в ход ловкую военную хитрость, — конечно, чтобы хоть на мгновение получить передышку, — бросил изорванный пергамент прямо в лицо противнику и, быстро покинув свою позицию, побежал к дому.
Рукопись еще не коснулась доктора, но он, потрясенный волнением, упал навзничь, всеми четырьмя конечностями кверху. Когда Ираклий поднялся, у него не было сил отомстить за новую обиду; он с трудом вернулся в свой кабинет и удовлетворенно убедился, что исчезли всего лишь три листка.
ГЛАВА XXIV Эврика!
Приход господина декана и господина ректора вывел доктора из состояния подавленности. Они беседовали втроем час или два, не говоря ни слова о переселении душ; но в то мгновение, когда оба друга уходили, Ираклий не мог долее сдержаться. Пока господин декан надевал свою медвежью шубу, он отвел в сторону господина ректора, которого меньше боялся, и рассказал ему о своем горе. Он поведал, как ему показалось, что он нашел автора своей рукописи, как он ошибся, как его обманула самым недостойным образом негодная обезьяна, каким он чувствовал себя покинутым и несчастным; и, видя крушение своих иллюзий, Ираклий заплакал. Растроганный ректор взял его за руки и собирался заговорить, когда в прихожей раздался басистый голос декана:
— Ну, что же, идете вы, ректор?
Тогда тот, в последний раз обняв доктора, сказал ему, нежно улыбаясь, словно утешая огорченного ребенка:
— Ну, ну, успокойтесь, друг мой. Как знать? Может быть, вы сами автор этой рукописи.
Затем он погрузился в мрак улицы, оставив на пороге остолбеневшего Ираклия.
Доктор медленно вернулся к себе в кабинет, поминутно шепча сквозь зубы: «Я, может быть, автор этой рукописи!» Он внимательно перечитал, каким образом вновь обнаруживали этот документ после каждого перевоплощения автора, затем припомнил, как сам его нашел. Сон, предшествовавший тому счастливому дню, как предвестие, ниспосланное провидением, его волнение при входе в переулок Старых Голубей — все это снова представилось ему ясно, отчетливо, ярко. Тогда он выпрямился во весь рост, простер руки, как вдохновенный свыше, и громко воскликнул:
— Это я, это я!
Трепет пробежал по всему дому. Пифагор отчаянно залаял, потревоженные животные внезапно проснулись и заволновались, словно каждое на своем языке хотело прославить великое воскресение апостола переселения душ. Изнемогая от сверхчеловеческого волнения, Ираклий сел, раскрыл последнюю страницу этой новой библии и набожно приписал к концу ее всю историю своей жизни.
ГЛАВА XXV «Ego sum qui sum[8]»
С этого дня Ираклием Глоссом овладела непомерная гордость. Как мессия происходит от бога-отца, так он, Глосс, происходит прямо от Пифагора; или, скорее, он сам Пифагор, ибо некогда жил в теле этого философа. Его генеалогия, таким образом, численностью поколений может поспорить с родословными древнейших феодальных домов. Он относился с высокомерным презрением ко всем великим людям человечества, самые высокие подвиги казались ему ничтожными в сравнении с его собственными; он одиноко и величественно возносился над мирами и живыми существами; он был приверженцем учения о метампсихозе, и дом его становился храмом метампсихоза.
Он запретил служанке и садовнику убивать животных, считающихся вредными. Гусеницы и улитки плодились в его саду; бывшие люди, отвратительно перевоплощенные в больших пауков с мохнатыми лапками, разгуливали по стенам его кабинета, — и этот противный ректор говорил, что если бы все бывшие блюдолизы, на свой лад перевоплотившиеся, собрались на черепе слишком сострадательного доктора, тот не стал бы, конечно, заводить войну с этими бедными падшими паразитами. Одно только смущало Ираклия в его прекрасном просветлении: он видел, как животные беспрестанно пожирают друг друга, как пауки подстерегают летящих мух, как птицы уносят пауков, как кошки съедают птиц и как его пес Пифагор с радостью душит всякую кошку, пробежавшую на близком расстоянии от его зубов.
Он следил с утра до вечера за медленным и постепенным ходом перевоплощения на всех ступенях животной лестницы. Наблюдая воробьев, искавших пищу в кровельных желобах, он приходил к величайшим открытиям; муравьи, неутомимые и предусмотрительные работники, бесконечно умиляли его: он видел в них всех бездельников и бесполезных людей, осужденных искупить этим упорным трудом свою былую праздность и лень. Он смотрел на них целыми часами, уткнувшись носом в траву, и изумлялся своей проницательности.
Потом, как Навуходоносор[9], он ходил на четвереньках, катался со своей собакой в пыли, ел вместе со своими животными, валялся с ними на земле. Для него человек исчезал мало-помалу в творении, и вскоре он стал видеть в людях только животных. Созерцая животных, он чувствовал себя их братом: он разговаривал только с ними, а когда ему случалось говорить с людьми, он оказывался беспомощным, словно попал к чужестранцам, и внутренне возмущался глупостью себе подобных.
ГЛАВА XXVI О чем шел разговор в лавке мадам Лаботт, торговки фруктами (Огородная улица, д. № 26)
Мадмуазель Виктория, кухарка за повара, служившая у господина декана Балансонского университета, мадмуазель Гертруда, служанка ректора упомянутого университета, и мадмуазель Анастази, домоправительница господина аббата Бофлери, настоятеля церкви Сент-Элали, — вот какое почтенное общество собралось как-то утром в четверг в лавке мадам Лаботт, торговки фруктами (Огородная улица, д. № 26).
Названные дамы, с корзинками для провизии на левой руке, в маленьких, кокетливо надетых белых чепчиках, украшенных кружевами, плойками и свешивавшимися на спину лентами, внимательно слушали рассказ мадмуазель Анастази о том, как господин аббат Бофлери как раз накануне изгонял бесов из бедной женщины, одержимой пятью демонами.
Вдруг вихрем влетела мадмуазель Онорина, домоправительница доктора Ираклия, и упала на стул, задыхаясь от сильного волнения; потом, увидев, что все общество достаточно заинтриговано, она воскликнула:
— Нет, это, наконец, слишком! Пусть говорят, что хотят, а я не останусь больше в этом доме.
Закрыв лицо руками, она зарыдала, но через минуту, несколько успокоившись, заговорила снова:
— Впрочем, он, бедняга, не виноват, если он сумасшедший.
— Кто? — спросила Лаботт.
— Да ее хозяин, доктор Ираклий, — ответила мадмуазель Виктория. — Так, значит, правду говорил господин декан, что ваш хозяин сошел с ума?
— Я думаю! — воскликнула мадмуазель Анастази. — Отец-настоятель уверял на днях господина аббата Розанкруа, что доктор Ираклий — окаянный грешник, что он обожает животных по примеру какого-то господина Пифагора, который, должно быть, такой же гнусный нечестивец, как Лютер.
— И что же?— прервала мадмуазель Гертруда. — Что с вами случилось?
— Представьте себе, — начала опять Онорина, утирая слезы уголком передника, — мой бедный хозяин вот уже скоро полгода, как помешался на животных: он думает, что создан и явился на свет лишь для того, чтобы служить им; он разговаривает с ними, как с разумными существами. Мыслимое ли это дело! Он слышит будто бы, что они ему отвечают. Я давно уже заметила, что мыши едят у меня провизию, и вчера вечером поставила в буфет мышеловку. Сегодня утром вижу, что в нее попала мышь; я позвала кошку и уже собиралась отдать ей эту мерзость. Вдруг мой хозяин вбежал, словно бешеный, выхватил у меня из рук мышеловку и выпустил мышь в мои запасы, а когда я рассердилась, он повернулся ко мне и так со мною поступил, как не поступают и с какой-нибудь ветошницей.
На несколько секунд воцарилось глубокое молчание, потом мадмуазель Онорина снова заговорила:
— Впрочем, я не сержусь на него, бедного: он сумасшедший.
Через два часа история докторской мыши обошла все кухни Балансона. В полдень обыватели за завтраком передавали ее друг другу как анекдот. В восемь часов председатель за кофе рассказывал ее обедавшим у него шести членам суда, и эти господа, приняв важные позы, слушали его задумчиво, без улыбки и покачивая головой. В одиннадцать часов префект, у которого был званый вечер, с беспокойством пересказывал ее шести болванам из полиции, и когда он спросил ректора, сновавшего от группы к группе со своими злыми остротами и белым галстуком, что тот об этом думает, ректор ответил:
— Что из этого в конце концов следует, господин префект? То, что если бы Лафонтен был еще жив, он мог бы написать новую басню под заглавием «Мышь философа», и она кончалась бы так:
Глупей из двух не тот, кого глупей считают.[10]ГЛАВА XXVII О чем доктор Ираклий нимало не подумал, как тот дельфин, который, вытащив из воды обезьяну[11], опять ее утопил и пустился искать какого-нибудь человека, чтобы ее спасти
Когда на другой день Ираклий вышел из дому, он заметил, что все смотрят на него с любопытством и оборачиваются, чтобы поглядеть на него еще. Внимание, предметом которого он был, сначала удивило его; он стал искать причину, и ему пришло в голову, что его доктрина, быть может, без его ведома распространилась и что наступила та пора, когда он будет понят своими согражданами. Тогда он почувствовал вдруг великую любовь к этим обывателям, в которых уже видел восторженных учеников, и начал, улыбаясь, раскланиваться направо и налево, как государь среди народа. Сопровождавшее его шушуканье казалось ему хвалебным гулом, и он сиял от радости, думая о предстоящем посрамлении ректора и декана.
Так дошел он до набережной Бриля. Кучка детей шумела и хохотала, швыряя камни в воду, а несколько лодочников, куря трубки на солнце, казалось, внимательно смотрели на игру мальчишек. Ираклий подошел и вдруг отступил назад, как будто получив сильный удар в грудь. Метрах в десяти от берега, то погружаясь, то вновь показываясь, тонул в реке котенок. Несчастное маленькое животное делало отчаянные усилия, чтобы добраться до берега, но каждый раз, когда оно поднимало голову над водою, камень, брошенный одним из негодяев, забавлявшихся его мучениями, заставлял ее опять исчезнуть.
Злые мальчишки наперебой изощрялись в ловкости и подзадоривали друг друга, и, когда хорошо нанесенный удар поражал бедное животное, на набережной раздавались радостные взрывы хохота и топанье ногами.
Вдруг острый камень попал котенку прямо в лобик, и струйка крови показалась на его белой шерстке. Среди палачей раздались неистовые крики и аплодисменты, но они внезапно сменились страшной паникой. Бледный, дрожащий от ярости, опрокидывая все перед собою, нанося удары ногами и кулаками, доктор ринулся в толпу ребят, как волк в овечье стадо. Ужас был так велик и бегство так поспешно, что один из мальчишек, вне себя от страха, бросился в реку и скрылся под водою. Тогда Ираклий быстро снял сюртук, скинул башмаки и, в свою очередь, бросился в реку. Видно было, как он энергично плыл несколько минут, схватил котенка, уже исчезавшего под водою, и победоносно вернулся на берег. Потом он сел на тумбу, обтер, поцеловал, погладил маленькое существо, только что вырванное им у смерти. Любовно, как сына, укрывая его своими руками и не заботясь о ребенке, которого в это время два лодочника вытаскивали на берег, не обращая внимания на суматоху, происходившую за его спиною, доктор крупными шагами пошел к своему дому, забыв на берегу башмаки и сюртук.
ГЛАВА XXVIII Вы убедитесь все историею сей, Как мы, к нам равному спеша на избавленье, Котят охотнее спасая, чем детей, Великое родим в соседях возмущенье, И как, хоть все пути приводят в Рим людей, Приводит в желтый дом нас перевоплощенье... («Балансонская звезда»)
Часа два спустя несметная толпа народа, издавая буйные вопли, теснилась перед окнами доктора Ираклия Глосса. Вскоре под градом камней зазвенели оконные стекла, и народ уже собирался выбить двери, когда в конце улицы показался отряд жандармов. Постепенно водворилось спокойствие: толпа наконец рассеялась, но до следующего дня два жандарма стояли на посту перед домом доктора. Последний провел вечер в чрезвычайном волнении. Он объяснял себе неистовство толпы тайными происками против него священников и взрывом ненависти, которую всегда вызывало возникновение новой религии среди последователей старой. Он взвинчивал себя до мученичества и чувствовал в себе готовность исповедать свою веру перед палачами. Он приказал привести в кабинет всех животных, которых могла вместить эта комната; восходящее солнце застало его дремлющим между собакой, козой и бараном и прижимающим к своему сердцу спасенного котенка.
Его разбудил сильный стук в дверь, и Онорина ввела весьма почтенного господина, за которым следовали два полицейских агента. Немного позади них скрывался полицейский врач. Почтенный господин представился в качестве участкового комиссара и учтиво пригласил Ираклия следовать за ним; тот повиновался, сильно взволнованный. У дверей ждал экипаж, его усадили туда рядом с комиссаром напротив доктора и одного из агентов, другой поместился на козлах, возле кучера. Экипаж проследовал по Еврейской улице, по Магистратской площади, по бульвару Жанны д'Арк и наконец остановился перед большим мрачным зданием, на воротах которого была надпись: «Убежище для умалишенных». Ираклию стало вдруг ясно, в какую страшную западню он попал. Он понял ужасную хитрость врагов и, собрав все силы, попытался броситься на улицу; две могучие руки опрокинули его обратно на его место. Завязалась страшная борьба между ним и тремя людьми, которые его стерегли; он отбивался, извивался, колотил, кусался, рычал от ярости, но был повален наземь, крепко связан и унесен в мрачный дом, большие ворота которого затворились за ним со зловещим стуком.
Его ввели в узкую келью странного вида. Камин, окно и зеркало были прочно заделаны решетками, кровать и единственный стул прикреплены к полу железными цепями. Здесь не было никакой мебели, которую обитатель этой тюрьмы мог бы поднять и взять в руки. Обстоятельства доказали, впрочем, что эти предосторожности не лишние. Очутившись в этом совершенно новом для него жилище, доктор немедля поддался душившей его ярости. Он пытался переломать мебель, вырвать решетки и разбить стекла. Видя, что сделать это непосильно, он стал кататься по полу, испуская такой ужасный вой, что в комнату быстро вошли два человека в блузах и каких-то форменных фуражках; их сопровождал высокий господин с лысым черепом, одетый во все черное. По знаку, поданному этой личностью, оба человека набросились на Ираклия, в одно мгновение надели на него смирительную рубашку и взглянули на человека в черном. Тот посмотрел с минуту на доктора и, обратившись к своим помощникам, сказал:
— В залу с душем.
Ираклий был унесен в большую холодную комнату, посреди которой находился бассейн без воды. Он был раздет, поставлен в эту ванну и, прежде чем успел опомниться, чуть не задохся под лавиной холодной воды; более ужасный ледяной поток вряд ли когда-либо обрушивался на смертных в самых что ни на есть северных странах. Ираклий сразу замолк. Черный господин, по-прежнему пристально смотря на него, важно пощупал его пульс и сказал:
— Еще один.
С потолка обрушился второй душ, и доктор, дрожа от холода, хрипя, задыхаясь, упал на дно своей ледяной ванны. Его вытащили, закутали в теплые одеяла и уложили на кровать в его келье, где он проспал глубоким сном тридцать пять часов.
Когда он проснулся на следующий день, пульс его бился ровно и голова была легка. Несколько минут он размышлял о своем положении, а затем принялся за чтение своей рукописи, которую позаботился увезти с собою. Вскоре вошел черный господин. Принесли накрытый стол, и они вместе закусили. Ираклий, не забыв о вчерашнем купании, выказывал себя вполне спокойным и весьма учтивым. Не говоря ни слова о предмете, который мог опять навлечь на него подобную неприятность, он долго беседовал самым занимательным образом, стараясь доказать своему гостю, что здрав рассудком, как семь мудрецов Греции[12].
Покидая Ираклия, черный господин предложил ему прогуляться в саду заведения. Это был большой двор, усаженный деревьями. Там гуляли с полсотни человек, одни — смеясь, крича и разглагольствуя, другие — важно и задумчиво.
Доктор сразу заметил человека высокого роста с длинной бородой и длинными седыми волосами, который ходил одиноко, поникнув челом. Не зная почему, доктор заинтересовался судьбой этого человека, и в то же мгновение незнакомец, подняв голову, пристально посмотрел на Ираклия. Затем они подошли друг к другу и церемонно раскланялись. Завязался разговор. Доктор узнал, что этого его товарища звали Дагобер Фелорм и что он был преподавателем новых языков в Балансонской гимназии. Он не заметил никакого повреждения в рассудке этого человека и уже задавал себе вопрос, что могло привести его в подобное место, когда тот, внезапно остановившись, взял его за руку и, крепко сжимая ее, спросил, понизив голос:
— Верите ли вы в переселение душ?
Доктор покачнулся, забормотал что-то; их взгляды встретились, и несколько секунд оба простояли, рассматривая друг друга. Наконец волнение охватило Ираклия, слезы брызнули из его глаз, он раскрыл объятия, и они расцеловались. Начался дружеский разговор, и они вскоре узнали, что просвещены одною истиною, исповедуют одно учение. Не было ни одного пункта, в котором не сходились бы их мысли. Но по мере того, как доктор устанавливал это удивительное сходство идей, он замечал, что им овладевает какое-то странное, неприятное чувство: ему казалось, что чем более неизвестный вырастает в его глазах, тем более умаляется он сам в собственном уважении. Зависть ужалила его сердце.
Собеседник внезапно воскликнул:
— Метампсихоз — это я; это я открыл закон эволюции душ; это я соединил воедино участи людей. Это я был Пифагором...
Доктор вдруг остановился, он был белее савана.
— Извините, — сказал он, — Пифагор — это я.
И они опять посмотрели друг на друга. Тот продолжал:
— Я последовательно был философом, архитектором, солдатом, земледельцем, монахом, геометром, врачом, поэтом и моряком.
— И я, — сказал Ираклий.
— Я написал историю моей жизни по-латыни, по-гречески, по-немецки, по-итальянски, по-испански и по-французски! — кричал незнакомец.
Ираклий возразил:
— И я.
Оба остановились, и их взгляды скрестились, как клинки шпаг.
— В сто восемьдесят четвертом году, — завопил учитель, — я жил в Риме и был философом!
Доктор, дрожа, словно лист под бурным ветром, вытащил из кармана свой драгоценный документ и взмахнул им, как оружием, перед носом своего противника. Тот отскочил назад.
— Моя рукопись! — закричал он и протянул руку, чтобы схватить ее.
— Она моя! — ревел Ираклий, с изумительной быстротой поднимая спорный предмет над головой, перекладывая его из одной руки в другую за своей спиной и проделывая с ним тысячи самых необыкновенных эволюции, чтобы спасти его от неистового преследования соперника.
Тот скрежетал зубами, топал ногами и ревел:
— Вор! Вор! Вор!
Наконец ему удалось быстрым и ловким движением ухватиться за край документа, который Ираклий старался у него отнять. В течение нескольких секунд каждый тянул его к себе с одинаковым гневом и равной силой; но так как ни тот, ни другой не уступал, рукопись, служившая им физическим соединительным пунктом, окончила борьбу так мудро, как мог бы сделать покойный царь Соломон: она разделилась сама собой на две равные части, и враги разом шлепнулись наземь в десяти шагах друг от друга, причем каждый сжимал свою половину трофея в сведенных судорогой руках.
Они не вставали, но вновь принялись изучать один другого, как две соперничающие державы, которые, померявшись силами, не решаются снова начать распрю.
Дагобер Фелорм первый возобновил враждебные действия.
— Доказательство, что я автор этой рукописи, — сказал он, — в том, что я знал о ней раньше вас.
Ираклий не отвечал.
Тот снова заговорил:
— Доказательство, что я автор этой рукописи, в том, что я могу повторить вам ее наизусть с начала до конца на семи языках, на которых она написана.
Ираклий не проронил ни слова. Он погрузился в размышления. В нем совершался переворот. Сомневаться было нельзя, победа оставалась за его соперником. Но этот автор, о появлении которого он некогда так горячо молился, теперь возмущал его, как ложный бог; будучи теперь сам лишь поверженным богом, доктор поднял восстание против божества. Пока он не считал себя автором рукописи, он страстно хотел увидеть автора, но с того дня, когда он дошел до мысли: «Я сделал это, метампсихоз — это я», — он уже не мог согласиться, чтобы кто-нибудь занял его место. Подобно тому человеку, который скорее сожжет свой дом, нежели позволит другому занять его, Ираклий, увидев, что на воздвигнутом им для себя алтаре водворился этот незнакомец, предал сожжению и храм и бога, предал сожжению метампсихоз. И после долгого молчания он сказал медленно и серьезно:
— Вы сумасшедший!
При этом слове его противник вскочил, как бешеный, и началась бы новая борьба, ужаснее прежней, если бы не прибежали сторожа и не водворили зачинщиков новых религиозных войн в их убежища.
Около месяца доктор не покидал своей комнаты; он проводил дни один, обхватив голову обеими руками, погруженный в глубокую думу. Господин декан и господин ректор навещали его время от времени и бережно, посредством искусных сравнений и деликатных намеков, помогали работе, совершавшейся в его уме. Они рассказали ему о некоем Дагобере Фелорме, преподавателе языков в Балансонской гимназии, который сошел с ума, сочиняя философский трактат об учении Пифагора, Аристотеля и Платона; этот трактат, как ему казалось, он начал в царствование императора Коммода[13].
Наконец в одно прекрасное солнечное утро доктор, вновь ставший самим собою — Ираклием лучших дней, крепко пожал руки обоим своим друзьям и объявил им, что навеки отказывается от перевоплощения с его животными искуплениями и метампсихозом и горько кается, сознавая свои ошибки.
Через неделю двери больницы распахнулись перед ним.
ГЛАВА XXIX О том, как, спасшись от Харибды, можно иногда попасть к Сцилле
Покидая роковой дом, доктор на мгновение остановился на пороге и вдохнул всею грудью воздух свободы. Затем обычными быстрыми шагами пустился в путь по направлению к своему дому. Он шел уже минут пять, как вдруг какой-то мальчишка, заметив его, испустил протяжный свист, на который тотчас ответил подобный же свист из соседней улицы. Немедля подбежал второй мальчуган, а первый, указывая на Ираклия, закричал во всю мочь:
— Вот звериный человек из сумасшедшего дома!
И оба, идя в ногу вслед за доктором, начали замечательно талантливо воспроизводить крики всевозможных животных.
К первым шалунам скоро присоединилась дюжина других. Они образовали вокруг бывшего сторонника переселения душ столь же шумный, как и неприятный конвой. Один из них шел шагах в десяти впереди доктора, неся, как флаг, палку от метлы с привязанной кроличьей шкуркой, найденной, верно, где-нибудь на улице; трое других следовали непосредственно за ним, выбивая барабанную дробь. Затем шествовал смущенный доктор: затянутый в длинный сюртук, с надвинутой на глаза шляпой, он казался генералом среди войска. За ним бежала, прыгала, ходила на руках банда негодяев, визжа, мыча, лая, мяукая, ревя, крича «ку-ка-ре-ку», испуская ржание и откалывая тысячи других веселых штук к величайшей потехе обывателей, показывавшихся у своих дверей. Растерявшийся Ираклий все более и более ускорял шаги. Вдруг бродячая собака сунулась ему под ноги. Волна гнева прихлынула к мозгу доктора, и он закатил такой страшный удар ногою бедному животному, которое в былое время приютил бы у себя дома, что собака умчалась, завывая от боли. Ужасный взрыв радостных восклицаний раздался вокруг доктора Ираклия, и он, теряя голову, пустился бежать изо всех сил, неотступно преследуемый своей адской свитой.
Орда вихрем пронеслась по главным улицам города и разбилась о дом доктора. Увидя полуотворенную дверь, он бросился в нее и захлопнул за собою; затем, все еще бегом, поднялся в кабинет, где был встречен обезьяной, показавшей ему язык в знак приветствия. Это зрелище заставило его попятиться, словно перед его очами встало привидение. Обезьяна была живым напоминанием о всех несчастиях, одною из причин его безумия, унижений и тех оскорблений, которые он только что претерпел.
Схватив дубовую скамеечку, оказавшуюся у него под рукой, доктор одним ударом рассек череп несчастного четверорукого, грузно повалившегося к ногам своего палача. И, облегчив себя этой казнью, он упал в кресло и расстегнул сюртук.
Появилась Онорина и едва не лишилась чувств от радости, увидя Ираклия. В восторге она бросилась на шею своему господину и расцеловала его в обе щеки, забывая, таким образом, о расстоянии, которое разделяет в глазах света господина и служанку, в чем, как говорили, доктор сам некогда подал ей пример.
Однако толпа шалунов не рассеялась и продолжала перед домом такой ужасный кошачий концерт, что Ираклий, теряя терпение, вышел в сад.
Страшное зрелище поразило его.
Онорина, которая действительно любила своего господина, хотя оплакивала его безумие, хотела приготовить ему приятный сюрприз к возвращению. Она, как мать, пеклась о существовании всего зверья, собранного в этом месте, так что благодаря плодовитости, свойственной всем породам животных, сад являл теперь зрелище, подобное тому, которое, должно быть, являла, когда иссякли воды потопа, внутренность ковчега, где Ной собрал все породы живых тварей. Это было беспорядочное скопление, кишащая масса животных, среди которых исчезали деревья, кусты, травы и земля. Ветки гнулись под тяжестью полчищ птиц, а на земле возились в пыли кошки, собаки, козы, овцы, куры, утки и индейки. Воздух был наполнен разнообразными криками, совершенно подобными тем, которые испускала детвора, бушевавшая по ту сторону дома.
При виде всего этого Ираклий уже не мог сдержаться. Схватив стоявшую у стены лопату и уподобившись славным воителям, о подвигах которых повествует Гомер, доктор размахивал ею взад и вперед, нанося удары направо и налево, с бешенством в сердце, с пеной на губах; он произвел ужасное избиение всех своих безобидных друзей. Испуганные куры перелетали через стены, кошки карабкались на деревья, никому не было от него пощады; смятение было неописуемое! Когда земля была усеяна трупами, он наконец упал от усталости и, как победивший вождь, заснул на поле сечи.
На другой день, когда его возбуждение улеглось, Ираклий попытался пройтись по городу. Но едва он переступил через порог, как мальчишки, сидевшие в засаде по углам улиц, снова начали его преследовать, вопя: «Гу, гу, гу! Звериный человек, друг зверей!», — и возобновили вчерашние крики с бесчисленными вариациями.
Доктор поспешил вернуться домой. Ярость душила его, и, не будучи в состоянии разделаться с людьми, он поклялся, что будет питать неугасимую ненависть к животным всех пород и вести ожесточенную войну с ними. С этой поры у него было лишь одно желание, одна цель, одно постоянное занятие — убивать животных. Он подстерегал их с утра до вечера, расставлял силки в саду, чтобы ловить птиц, ставил капканы на желобах своей крыши, чтобы душить окрестных кошек. Его всегда полуотворенная дверь позволяла видеть вкусные куски мяса пробегавшим мимо голодным собакам и быстро захлопывалась, как только неосторожная жертва впадала в искушение. Скоро со всех сторон на него полетели жалобы. Сам полицейский комиссар не раз приходил к нему требовать, чтобы он прекратил эту ожесточенную войну. Судебные повестки так на него и сыпались, но ничто не могло остановить его мстительности. Наконец негодование сделалось всеобщим. Второй бунт вспыхнул в городе, и, конечно, Ираклий был бы растерзан толпою, если бы не вмешалась вооруженная сила. Все балансонские врачи были приглашены в префектуру и единогласно удостоверили, что доктор Ираклий Глосс сумасшедший. И во второй раз проехал он через город между двумя полицейскими агентами и увидел, как затворились за ним тяжелые ворота с надписью: «Убежище для умалишенных».
ГЛАВА XXX О том, что пословица: «Чем больше сумасшедших, тем больше смеха» — не всегда бывает вполне справедлива
На другой день он спустился во двор убежища, и первым человеком, который предстал его очам, был автор рукописи о переселении душ. Оба врага начали наступать друг на друга, измеряя один другого взглядами. Около них образовался круг. Дагобер Фелорм воскликнул:
— Вот человек, желавший похитить труд моей жизни, украсть у меня славу моего открытия!
Ропот пробежал по толпе. Ираклий ответил:
— Вот тот, кто утверждает, что животные — люди, а люди — животные.
Затем оба заговорили вместе; понемногу они разгорячились и, как в первый раз, скоро дошли до рукопашной. Зрители их разняли.
С этого дня каждый из них с удивительным упорством и настойчивостью старался завербовать себе последователей, и вскоре вся колония разделилась на две соперничающие секты, восторженные, ожесточенные и до такой степени непримиримые, что сторонник учения о перевоплощении не мог встретиться ни с одним из своих противников без того, чтобы немедля не последовал ужасный бой. Чтобы предупредить кровавые стычки, директор вынужден был назначить каждой партии различные часы для прогулки, потому что никогда еще, со времен распри гвельфов и гибеллинов[14], ненависть не воодушевляла с большим упорством два враждующих лагеря. Впрочем, благодаря данной мере предосторожности предводители этих вражеских кланов жили счастливые, любимые, окруженные внимательными, послушными и почитающими их учениками.
Иногда ночью, услышав вой собаки за стенами, Ираклий и Дагобер дрожат в своих постелях. Это верный Пифагор, который, чудом избегнув мщения своего хозяина, последовал за ним до порога его нового жилища и пытается проникнуть в ворота этого дома, куда входить имеют право только люди.
Примечания
Повесть впервые опубликована в журнале «Ревю де Пари» 15 ноября 1921 года.
(обратно)1
Горы томятся родами, а мышь смешная родится (лат.) — стих из послания Горация к Пизонам.
(обратно)2
По-французски слово «ведра» (les seaux) звучит так же, как и слово «дураки» (les sots).
(обратно)3
Эпикур (IV—III вв. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист.
(обратно)4
Пифагор (VI в. до н. э.) — древнегреческий философ.
(обратно)5
При раскопках в Помпее. — Раскопки в Помпее начались в XVIII веке.
(обратно)6
Полина — персонаж трагедии французского писателя Корнеля (1606—1684). «Полиевкт» (1643).
(обратно)7
Геродот (ок. 484 — ок. 425 до н. э.) — знаменитый древнегреческий историк.
(обратно)8
Азм есть сущий (лат.) — слова, по библейской легенде, сказанные богом Моисею.
(обратно)9
Навуходоносор (604—562 или 561 до н. э.). — Речь идет о вавилонском царе Навуходоносоре Великом, знаменитом полководце древности, завоевателе Иерусалима. По древнееврейской легенде, бог наказал Навуходоносора, наслав на него безумие, и царь прожил семь лет среди животных, считая себя быком, после чего снова вернулся на трон.
(обратно)10
Глупей из двух не тот, кого глупей считают — немного измененный стих Лафонтена из басни «Мельник, его сын и осел».
(обратно)11
Как тот дельфин, который, вытащив из воды обезьяну... — Намек на басню Лафонтена «Обезьяна и дельфин».
(обратно)12
Семь мудрецов Греции — наименование, дававшееся семи древнегреческим философам: Фалесу из Милета, Питтаку, Биасу, Клеовулу, Мисону, Хилону и Солону. Иногда два каких-нибудь имени из перечисленных заменялись именами Периандра и Анахарсиса.
(обратно)13
Коммод — римский император, царствовавший с 180 по 192 год.
(обратно)14
Гвельфы и гибеллины — политические партии в средневековой Италии, боровшиеся между собою.
(обратно)


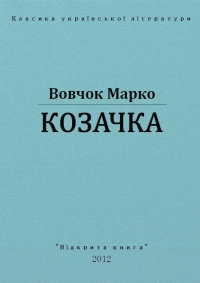
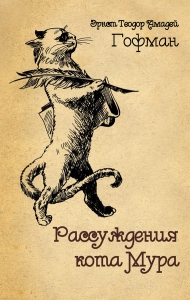
Комментарии к книге «Доктор Ираклий Глосс», Ги де Мопассан
Всего 0 комментариев