Гонкур Э. и Ж.
Актриса Фостен
***************************************************
Эдмон и Жюль де Гонкур.
Жермини Ласерте. Братья Земганно. Актриса Фостен. —
М., «Художественная литература», 1972. — 494 с.
(Библиотека всемирной литературы. Серия вторая. Том 76)
Актриса Фостен. — с. 313 — 478.
Перевод Д. Лившиц
OCR: sad369 (28.04.2008)
***************************************************
ПРЕДИСЛОВИЕ
В наши дни историк, готовясь написать книгу о женщине прошлого, взывает ко всем тем, кто владеет тайной интимной жизни этой женщины, ко всем, кто обладает листочками бумаги, где рассказано хоть что-нибудь из истории души умершей.
Почему бы и сейчас романисту (который, в сущности, является тем же историком — историком людей, не имеющих своей истории), — почему бы и ему не прибегнуть к такому же способу и, оставив в стороне случайные фрагменты писем и дневников, не обратиться к воспоминаниям живых людей, которые, быть может, готовы с радостью прийти к нему на помощь? Поясню свою мысль: я хочу написать роман, который будет всего лишь психологическим и физиологическим исследованием, посвященным молодой девушке, выросшей и получившей воспитание в тепличной атмосфере столицы, — роман, основанный на человеческих документах.
[Несмотря на то что это выражение подвергается сейчас язвительным насмешкам, я прошу считать меня его автором, ибо, на мой взгляд, оно является формулой, как нельзя лучше определяющей новый метод работы той школы, которая пришла на смену романтизму, — школы человеческого документа. (Примечание Эдмона де Гонкур.)]
И вот, садясь за эту работу, я понял, что книгам о женщинах, написанным мужчинами, недостает, недостает... женского сотрудничества. Вот такое-то сотрудничество и нужно мне — и притом сотрудничество не какой-нибудь одной женщины, а очень-очень многих. Да, у меня есть честолюбивое намерение написать мой роман хотя бы с некоторой долей помощи и доверия женщин, оказывающих мне честь быть моими читательницами. Разумеется, занимательные приключения — это совсем не то, что мне нужно. Нет, — впечатления молоденькой и даже совсем еще маленькой девочки, какие-то мелочи, говорящие об одновременном пробуждении ума и кокетства, откровенные признания нового существа, родившегося в девочке-подростке после первого причастия, исповедь о греховном волнении, вызванном музыкой, рассказ об ощущениях девушки после первого бала, размышления о первой любви, еще не познавшей самое себя, снятие покровов с хрупких переживаний и утонченной стыдливости, — словом, весь тот недоступный мир женского, который таится в сокровенных глубинах женской души и о котором мужья и даже любовники так и не подозревают до конца жизни, — вот о чем я прошу.
И я обращаюсь к моим читательницам, в какой бы стране они ни находились, с просьбой, чтобы в свои незанятые часы, когда прошлое оживает в них, освещенное радостью или грустью, — чтобы они доверили бумаге крупицу своих воспоминаний и анонимно отослали их по адресу моего издателя.
Отейль, 15 октября 1881 г.
Эдмон де Гонкур
Ж. де НИТТИСУ
I
Под звездным небом, над фосфоресцирующим морем было совсем темно.
В углублении берегового утеса, о который с тихим ропотом бился океан, лежали, распростершись на земле, какие-то человеческие существа — неясные силуэты, бесформенные, безликие.
Смутно виднелись фигуры двух женщин. Одна растянулась во весь рост на спине, закинув руки за голову, подняв глаза к звездам. Другая, свернувшись в клубок у ног первой, нежно согревала их теплом своего тела.
В нескольких шагах от женщин сидели во мраке, на песке, спиной к спине, трое мужчин; лица их на мгновенье освещались вспышкой сигары.
Время от времени ветер с моря, шевеля мягкие платья неподвижных и словно уснувших женщин, на миг обрисовывал своим мощным дыханием выпуклые очертания их тел, и легкая зыбь пробегала по колеблющейся ткани.
Величественное зрелище темного неба и темного моря, ритмичный плеск ленивой волны, вялая теплота ночи — все это повергало души в какое-то томное изнеможение, и разговор между мужчинами и женщинами замер.
Внезапно, среди молчания и мрака, раздался голос одной из женщин, той, что лежала, вытянувшись во весь рост, — голос, прозвучавший как страстное воспоминание о прошлом, как признание, которое вырвалось во сне; она вдруг снова заговорила о человеке, чье имя уже называла с четверть часа назад.
— Нет... Между нами еще не было ничего, кроме поцелуя... одного поцелуя. Помню, я поцеловала его, стоя на цыпочках, в моей уборной, поверх ширмы, за которой одевалась... Вечером он должен был уехать в свое посольство. Эти англичане, когда они некрасивы, то уж совсем уроды... зато когда красивы... И потом, в нем было что-то от матери, француженки... И только через три месяца, когда я поехала в Брюссель, в театральное турне... Он приготовил мне номер в отеле, в отеле «Фландрия»... Да, именно там... Ах, мне никогда не забыть эту ночь!.. Любовь, уверяю вас, создает не только сам любовник... Разве иной раз мы не любим мужчину за то, как, когда, при каких обстоятельствах мы его полюбили?.. Право же, эта гостиница была какой-то странной... Из стен исходила музыка необычайной, невыразимой нежности... и его поцелуи пробегали по моей коже вместе с волнами звуков, которые как будто щекотали меня... с волнами звуков, лившихся из-под подушки... а где-то вдалеке гремел ураган гармонических созвучий, казалось, уносивших меня в его объятиях прямо на небо... И я чувствовала, как что-то божественное примешивается к его ласкам... Эта первая ночь навсегда сохранилась в моей памяти, как... — то, что я сейчас скажу, глупо, я знаю, — как воспоминание о такой любви, какой представляешь себе разве только любовь между существами неземными... Да, гостиница «Фландрия» сообщается с церковью святого Иакова, и на следующий день я узнала, что орган вделан в ту стену, у которой стояла наша кровать. Словом, я и сама не знаю, как все это получилось, но несомненно одно, что он — единственный мужчина, которого я любила настоящей любовью... единственный!
— Обожаемая Жюльетта, не пощадите ли вы хоть немного слух вашего патрона? Он ревнив!.. — произнес мужской голос, шутливая интонация которого выдавала сердечную рану.
— Друг мой, — ответила Фостен с откровенной иронией, — морской воздух отнял у вас способность здраво смотреть на вещи... Вы биржевик, и такой практический человек... Будьте же тем благоразумным парижанином, каким вы были до сих пор... Мы ведь с вами не любовники, мы скорее супруги, не так ли?
И, слегка отвернувшись, она бросила взгляд на небо, где изорванная гряда маленьких темных облаков, казалось, протянула совсем низко, прямо над бледно светящейся линией океана, бесконечную цепь Химер, словно вырезанных из черного дерева; потом, взволнованная этой чудесной ночью, напоенной любовью, женщина продолжала свои излияния:
— У этого эпизода было продолжение... Спустя некоторое время Уильям увез меня в какой-то замок в Шотландии... не припомню теперь, что это было за графство, да мне никогда и не хотелось напоминать себе. Мое воспоминание нравится мне именно таким — неясным, окутанным дымкой тумана, своего рода сомнамбулизма, в котором я жила в то время... Полуразрушенный замок в глубине парка, обступавшего его все теснее с каждым годом, настоящая лесная сторожка... и бледная зелень деревьев, — такие, должно быть, растут в чистилище, — колеблемых долгими, печальными, осенними ветрами... Но что было там просто очаровательно, это стая белых павлинов — они появлялись вместе с сумерками и рассаживались на лестницах, на террасах, на окнах... Нет, вы не можете вообразить, какое впечатление производили в сгущавшейся темноте, на фоне старых каменных, поросших мохом стен, эти большие неподвижные, совершенно белые птицы... А когда всходила луна, казалось, что в амбразурах всех окон появляются души усопших девушек, облаченных в подвенечные платья из белого атласа... Знаете, даже в феериях я никогда не видела подобных декораций!.. Да, странным было тогда мое существование... В иные минуты я, кажется, была не вполне уверена в том, что живу... И все-таки это был самый счастливый месяц в моей жизни... Время остановилось, у дней больше не было часов...
— А лучше всего были ночки, — уронила женщина, лежавшая у ног говорившей.
Легкий удар каблука был ей ответом, и женщина сейчас же поцеловала толкнувшую ее ногу, сказав со смехом:
— Полно, сестренка, дай нам немного подурачиться.
— И правда, милая Жюльетта, — произнес молодой и веселый мужской голос, — ты что-то долго донимаешь нас сегодня душещипательными историями.
— В таком случае, мой друг, они кончены! — ответила Фостен, упругим движением поднимаясь с земли. — И, по-моему, нам пора идти пить чай.
— Сударыня, — произнес мужчина, до сих пор не сказавший ни слова, — когда все-таки состоится ваш дебют в «Федре», во Французском театре?.. Газета хотела бы объявить об этом заблаговременно.
— Думаю, через два, самое большее — через два с половиной месяца.
— Нет ли каких-нибудь поручений к Карсонаку? — спросил он, кланяясь дамам.
— Благодарю, никаких, — ответила сестра Жюльетты. — Послезавтра мой возлюбленный получит меня в полное распоряжение.
— До свидания, Бланшерон, до свидания, маленький Люзи... Да, я сейчас же возвращаюсь в Гавр, ночным поездом...
Фостен взяла сестру под руку и в сопровождении двух приятелей стала подниматься по узкому неровному переулку Бельвю в Сент-Андрессе, направляясь к каменной дачке, как видно, построенной совсем недавно...
II
На маленьком круглом столике, между двумя мешочками конфет, — один был с этикеткой от Буасье, а другой от Сиродена, — стояло блюдо куропаток с капустой и салат, от которого пахло уксусом.
В будуаре, где происходил завтрак, на огибавшем всю комнату диване валялись разные принадлежности женского туалета, а по углам, в стеклянных шкафчиках стиля Буль современной работы, виднелась вперемешку с фарфором и другими дорогими вещицами целая куча грошового хлама, как, например, стеклянная банка, в которой фигурка Пьеро из дутого стекла в черной шапочке то и дело кувыркалась под ленивым ударом хвоста крупной золотой рыбки, не перестававшей кружиться.
Позади каминных часов — прелестной вещицы минувшего столетия, со статуэткой, оживающей под влюбленным взглядом Пигмалиона, который преклонял колена на белом мраморе у ее ног, — торчала за зеркалом визитная карточка какого-то актера из Пале-Рояля: частый гребень из слоновой кости со сломанными зубьями, гнидами и раздавленными вшами, неподражаемо воспроизведенными на гладком картоне.
Сквозь полуоткрытую дверь смутно виднелась в подозрительном полумраке еще не прибранная туалетная комната — скомканные полотенца, старые, засохшие половинки лимонов; и аромат духов, среди которых преобладал мускус, врывался в столовую, смешиваясь с запахом капусты и погасших окурков.
Три женщины сидели, тесно сдвинувшись вокруг сестры Жюльетты Фостен, — одна на стуле, другая на пуфе, третья на скамеечке, — и ели куропаток, то и дело вытаскивая кончиками пальцев листок салата из салатницы или конфетку из мешочка. Чтобы удобнее было набивать желудок, самая полногрудая из всей компании сняла корсет и, бросив его на спинку стула, сидела теперь в растерзанном виде, даже не застегнув хорошенько платье.
Это была толстуха Брюхатая. В прошлом — дама легкого поведения, мечтавшая о мещанском уюте и в конце концов женившая на себе какого-то дирижера оркестра с бульвара Преступлений; эта сорокалетняя женщина сохранила, несмотря на избыток жира, кроткие глаза ребенка.
У самой юной из всех, девочки лет семнадцати — восемнадцати, был носик заядлой лакомки, хитрая мордочка с отпечатком парижской испорченности и чисто парижского ума, ботинки, которые просили каши, манеры маленькой потаскушки из Латинского квартала и хриплый голос. Свою беседу она уснащала медицинскими терминами, зарабатывала на жизнь переводами из Дарвина для журналов и газет и откликалась на детское имя — Лилетта.
Третья женщина, двадцатишестилетняя, молчаливая, время от времени вздрагивала всем телом, словно от какого-то тайного возбуждения. Ее бледное лицо то и дело розовело от мимолетного волнения крови, сумеречная синева глаз была такой густой, что синими казались и белки, пышная шевелюра не скрывала изящной линии висков и прозрачных, словно выточенных, ушей. На ней было платье, в котором она весь день ходила и дома и в гостях, — будничное платье из белого пике с темно-красной шелковой косынкой, закрывавшей плечи и по-детски завязанной бантом сзади, — туалет, в котором сияла ее бледная, но живая красота и на который утром, выехав в открытой коляске, она набросила меховую накидку. Жозефина в течение нескольких лет занималась тем, что объезжала лошадей для светских дам, а теперь была на содержании у одного крупного барышника с Елисейских нолей.
Вокруг столика ходила взад и вперед, поминутно останавливаясь и непринужденно опираясь коленом о край пуфа, молоденькая беременная служанка с жалким личиком, напоминавшим изображения женщин средневековья, переживших сильный голод. Щеки ее были покрыты румянами, украденными у хозяйки, длинная царапина шла наискось через все лицо. В крохотном чепчике, еле державшемся на затылке, тяжело волоча ноги в алжирских комнатных туфлях без задков, она громко ворчала и хлопала дверью в ответ на каждое приказание или звонок, ежеминутно заставлявший ее выбегать в прихожую.
— Ну, как пьеса? Держится еще? — отважилась спросить толстуха, на секунду перестав жевать.
— Еще как! — ответила хозяйка дома.
— По-прежнему пять тысяч сбора... Он сам сказал мне это... вчера... новый режиссер... я бегал к нему за кулисы, — пропел тонкий, как флейта, детский голосок, принадлежавший семилетнему мальчику, почти совершенно закрытому накидкой из кружев Шантильи.
Лежа в углу дивана, наклонив голову и задрав кверху скрещенные ноги, он крохотной пилочкой отделывал себе ногти. Стоячий воротничок, носовой платок, засунутый за вырез жилета, — все в этом мальчугане, от безукоризненно чистой подошвы ботинок и до ровного пробора посередине головы, отзывалось солидностью старого франта, старого смешного модника. Маленький старичок, который уже приобщился к жизни этого мирка, принимая участие во всех разговорах, подслушивая интимные признания, присутствуя при всевозможных препирательствах — деловых и не только деловых. Несчастный ребенок, которого таскают с собой, словно хорошенькую собачонку, на ужины в отдельных кабинетах, где о нем тут же забывают и откуда на рассвете, совсем сонного, его приводит к матери официант кафе.
— Видишь ли, Брюхатая, — сказала мать, — теперь, благодаря электрическому освещению, которое производит такой эффект в сцене с отравившейся в четвертом акте, сто спектаклей у нас все равно что в кармане.
— А как с другой пьесой? Когда она снова пойдет в Шатле?
— На будущей неделе... Стало быть, он будет должен мне семьсот франков... Да, он так мил, что дает мне по пятьсот франков с каждой премьеры и по двести — с повторных спектаклей. И все-таки жить с этим Маккавеем не слишком сладко... В сущности говоря, козочки мои, я родилась для того, чтобы выйти замуж за какого-нибудь Ларюэтта и держать в провинции ресторанчик для актерской братии... Знаете что, мне хочется поехать в Турин, — сказала она вдруг, убегая в другой конец будуара; потом сделала крутой поворот и, столь же внезапно вернувшись к своим подругам, крикнула, потрясая вилкой с торчавшим на кончике куском куропатки:
— Я, может быть, переспала бы там с самим королем!
И тут же:
— Лилетта, красней или убирайся отсюда!
— Предпочитаю покраснеть, — ответила Лилетта с поистине многообещающим чистосердечием бесстыдства.
Сестра Жюльетты снова уселась на свое место, задумчиво поглаживая себя по шее сзади.
— Какая скверная, какая зловещая штука выросла у Брюхатой вот здесь — там, где я держу сейчас руку... Да, это горб сорокалетних, и по временам мне кажется, что он растет и у меня десятью годами раньше срока... Что же ты, Растрепа, ведь звонят!
— Сударыня... доктор с Гомбургских вод, — доложила служанка, полуоткрыв дверь будуара.
— Скажи ему: «Брысь в Германию!» — крикнула хозяйка дома, хлопнув в ладоши.
— А! Вот и Рагаш! — продолжала она, когда вслед за служанкой появился мужчина. Он шел, согнув ноги в коленях и простирая руки, словно призывая всех к молчанию.
— Рагаш, Рагаш, Рагаш! — как эхо, откликнулись все три женщины, каждая на свой лад.
Рагаш был сорокалетний мужчина, вечно страдавший желудком; он с перекошенным лицом отпускал непристойные словечки, вымученные остроты, парадоксы, каламбуры, не имевшие ни конца, ни начала, копировал актеров. За свои бесконечные потуги на остроумие он получил в этом доме прозвище «понос Бобеша».
— Тсс... Тсс... Тсс... — повторил Рагаш, входя в будуар, словно на подмостки театра. — В нашей столице распространился слух, будто некто по имени Понсар обнимается сейчас с Титанией... Ах, дети мои, что за шедевр должен родиться от этого флирта! Но мы сохраним тайну... и будем говорить piano, pianissimo... {Тихо, очень тихо (итал.).} Тсс! Тсс!
Внезапно брови Рагаша взлетели вверх, губы приняли форму огромного «О», и, с алчным видом прижав к ним палец, он шутовски изогнулся в позе обожания перед толстухой с вывалившейся грудью:
— О маленькие зенщины, маленькие зенщины... а впрочем, даже и толстухи... Брюхатая, Брюхатая... как бы я хотел написать на твоем белом, трепещущем пюпитре одну-единственную статейку в двести пятьдесят строчек... ни строчкой больше! Говори, приказывай... Что тебе угодно за это? Хочешь, я растопчу перед тобой принципы восемьдесят девятого года? Скажи... Право же, сударыня, это, по-моему, было бы вполне уместно... Нет, ты не хочешь, Брюхатая, ты отвергаешь мой пыл... Ну и не надо!
Он сделал вид, будто сморкается и обливает паркет слезами.
— Да, плоть наша была и есть слаба, но в то же время мы протухли от стремления к добродетели... Моим учителем был аббат Пуалу... Но я не посылаю его к тебе, не хочу, чтобы он изрек: «Католицизм и Марковский — вот мой девиз», — заявил Рагаш с интонацией а 1а Грассо.
— Послушай-ка ты, полоумный из Виши, дай нам немного передохнуть! У нас просто мозги заболели! Скоро ли ты кончишь свои номера для провинциалов? — крикнула ему Лилетта, питавшая неприязнь к этому человеку.
— А ты лучше сама замолчи, юная воспитанница из пансиона «Непорочное зачатие».
— Сударыня... Сударыня... Комиссионер по доставке аранхуэсской спаржи для Центрального рынка.
— Где, черт возьми, я могла познакомиться с этим субъектом? — пробормотала, перебирая в памяти свои давнишние дорожные встречи, сестра Жюльетты. — Что ж, на этот раз — брысь в Испанию!
— Ах, Испания! — произнес Рагаш, устремляя вдаль бессмысленный взгляд лунатика. — Страна солнца, поэзии, Сида и сварливых любовниц!
Карсонак, хозяин дома, автор популярного «Преступления Пюидарье», вышел из внутренних комнат в черном фраке и в пальто, которое он застегивал на ходу.
Большой живот, седые, остриженные бобриком волосы, крашеные усы, торчащие по углам рта, сонные, прикрытые морщинистыми веками глаза, загоравшиеся, однако, металлическим блеском, когда он отпускал злую шутку, — таков был Карсонак, тип толстяка, но толстяка злого.
— Что это, Щедрая Душа? Вы завтракаете здесь? Отчего же не в столовой?
— Здесь как-то уютнее, и мы чувствуем себя более свободно, не так ли, козочки? — ответила любовница Карсонака.
— Правда, правда, понимаю... И потом здесь у вас под рукой туалетная комната на случай несварения желудка или нервного припадка после «дружеских бесед»... Ах, дорогая моя, прикройся, прикройся! — с гримасой отвращения крикнул Карсонак той, что завтракала без корсета. — Ну до чего натурально выглядела бы ты в роли Гаргамель!
И он обратился к другой подруге своей любовницы:
— Ну, а тебе, беспечная Сарра, известно ли тебе, что человек, который платит за твою любовь такие большие деньги, уже готов поддаться чарам Провансальки? Я счастлив первый сообщить тебе об этом.
Медленно и грациозно изогнув шею, Жозефина, к которой он подошел, подняла голову и, оказавшись на уровне его жирного плеча, вдруг впилась в него сквозь пальто своими белыми зубами.
— Да ведь больно же! Какое идиотство!
В глубоких глазах женщины промелькнула улыбка, и, закурив толстую сигару, она соскользнула со стула на пол; окутанная широкими складками белого пеньюара и красной шали, она застыла без движения, но эту неподвижность но временам нарушал сладострастный трепет насытившейся пантеры.
— А знаешь, Щедрая Душа, кажется, во Французском театре дело плохо. Говорят, там готовится хорошенький провал.
— Ты мне надоел... Знаешь ведь, что я не люблю, когда ты вмешиваешься в дела моей сестры, — весьма выразительно проговорила Щедрая Душа.
— Ну, как? Идем? — спросил Карсонак, поворачиваясь к Рагашу, которого до сих пор точно не замечал.
— А ложа бенуара при возобновлении твоей пьесы мне будет?
— Откидную скамеечку на сквозняке — вот все, что могу тебе предложить.
Рагаш с полной невозмутимостью подошел к любовнице Карсонака, что-то тихо сказал ей, встав за ее спиной, и все приятельницы услышали ее ответ:
— Не обращай внимания, сегодня утром он не в духе, но если ты мило, ну, очень мило, отнесешься к его пьесе, то я устрою так, что следующую пьесу вы будете писать вместе, а ты ведь знаешь, голубчик, что когда он начинает с кем-нибудь работать, то потом уж и слышать не может ни о ком другом... Хочешь выпить рюмочку чего-нибудь?
Рагаш подцепил штопором настоянный на водке абрикос и, откусывая прямо со штопора желтый плод, вскричал:
— Stupendum! {Изумительно! (лат.)} — как выражаются древние. Мне кажется, что я укусил тунику мадемуазель Дюшенуа!
— Не понимаю, — сухо отрезал Карсонак.
Рагаш, по-прежнему невозмутимо серьезный, нагнув голову, словно осел, пьющий из ведра, стал пятиться к двери, подражая китайцу, играющему на железном треугольнике, и обратился к Карсонаку с такой прощальной речью:
— Прославленный драмодел! Думал ли ты когда-нибудь об угрызениях совести, которые могут возникнуть у привратника, совершившего преступление?.. Так вот, заметь себе для одной из твоих будущих пьес, что каждый звонок, раздающийся ночью, должен пробуждать в нем раскаянье!
На смену Рагашу сразу же явился долговязый молодой человек, белобрысый, бескровный, с черепом мистика, напоминавшим по форме сахарную голову; прижимая к груди засаленную шляпу, он с каким-то отсутствующим видом совал каждому руку, и во всем его облике было нечто от раболепной фигуры сына Диафуаруса.
Карсонак резко оттолкнул его безжизненные пальцы и грубо сказал:
— Знаешь, Планшмоль, тебе бы следовало заняться осушкой рук... в них столько сырости, что ты награждаешь ею и других!
Планшмоль испуганно отошел от Карсонака и, надеясь найти убежище возле женщин, сел рядом с хозяйкой дома, которая тут же сказала ему:
— Он теперь твой близкий друг, правда? Так вот, если ты добьешься от него такой рецензии, какая нам нужна, я заставлю Карсонака писать новую пьесу вместе с тобой, а ты ведь знаешь, мой милый, что когда он...
— Сударь! Пришел тот молодой человек, который приходил уже три раза, чтобы переговорить с вами.
— Пусть войдет.
— Господин Грежелю! — провозгласила служанка.
Близорукий начинающий литератор, наделенный двумя видами застенчивости — застенчивостью близоруких и застенчивостью начинающих, — вошел в комнату и страшно смутился, увидев великого человека, а также весьма непринужденные позы четырех дам.
— Послушайте, молодой человек, — сказал ему Карсонак, не предлагая сесть, — сюжеты всех пьес, которые мне приносят, сначала кажутся мне отвратительными. Проходит три месяца, четыре... Предложенный сюжет вдруг приходит мне на память, и — странная вещь! — теперь он уже нравится мне... Но к этому времени я успеваю совершенно забыть о лице, которое его предложило, и мне начинает казаться, что идея принадлежит мне, только мне. Я вас предупредил.
Бедный молодой человек начал искать дверь.
— Сюда, молодой человек, сюда, не то вы попадете в туалетную комнату этих дам.
— Послушай, Лилетта, — сказал через несколько секунд Карсонак, — я был бы тебе весьма признателен, если бы ты, когда я оказываю тебе честь и отдаю на твое попечение солидных шестидесятилетних старцев, которым поручаю отвезти тебя к твоему папа, — если бы ты в этих случаях садилась не на колени этих самых стариков, а на сиденье фиакра!
— О, будьте покойны! Если мне и случится сесть на колени к мужчине, то уж, во всяком случае, не к одному из подписчиков «Руководства для импотентов», вроде вас.
— Недурно, детка, — бросил Карсонак, который почти развеселился, услышав этот злобный выпад, так похожий на его собственные.
Затем, прерывая конфиденциальную беседу своей возлюбленной с Планшмолем, он спросил:
— Ну как, Планшмоль, не удалось ли тебе опять с помощью ночного столика вызвать дух Мюрже? Не поделился ли он с тобой своими последними загробными похождениями?
— О да, и я мог бы рассказать тебе одно из них, но это неудобно при дамах.
— Ну и ну! Как видно, неплохо живется на том свете, если даже этим дамам нельзя послушать твой рассказ.
Планшмоль подошел совсем близко к Карсонаку и, брызгая слюной, шепнул ему на ухо несколько слов.
— Простофиля!.. Да ведь эту непристойность сочинил я!
— Прежний слуга пришел за рекомендацией, которую ему обещал хозяин, — сказала горничная.
— Возьми на камине и отдай ему.
— Как? Вы, значит, рассчитали его? Почему же? — глуповато спросил Планшмоль, вмешиваясь в разговор и пытаясь хоть этим вернуть себе утраченный авторитет.
— Превосходный слуга... — сказал Карсонак язвительно, — но он перешел ко мне от господина Рикора... и, открывая двери, он, кажется, позволял себе фамильярничать с подругами Щедрой Души.
Лазурные глаза Щедрой Души приняли зеленоватый оттенок, а губы дрогнули, не вымолвив, однако, ни слова; машинально опрокинув свой стакан, где еще оставалось несколько капель, она начала размазывать их по клеенке пальцем, на котором блестело старинное кольцо с изображением сладострастной сцены.
Господин, вызывавший дух Мюрже, ушел, а Карсонак, стоя у камина, стал закутывать себе шею белым шелковым кашне.
— Что с тобой, Щедрая Душа? — не удержался Карсонак, заметивший сосредоточенность своей любовницы.
— Ничего... нет, право же, ничего... но все-таки как-то странно... Мне вдруг вспомнилась одна глупость... я уж как будто совсем забыла о ней... Так ты хочешь, дружок, чтобы я рассказала?
И проникновенным голосом, нежным голосом, исходившим, казалось, из самых глубин ее существа, любовница Карсонака рассказала, почти пропела ему следующую историю:
— Сегодня ночью мне приснился странный сон. Я была в саду... в таком саду, какие бывают только в сновидениях. Вдруг я увидела, как ко мне приближается белый призрак, и сразу узнала в нем Милочку Розу. Через секунду она подошла совсем близко и сказала мне: «Мы были подругами на земле, зачем же ты убегаешь от меня? Здесь так хорошо, и скоро, скоро ты придешь к нам...» Позади нее я увидела призраки двух-трех дорогих мне людей, которые уже умерли или должны скоро умереть, и они тоже говорили со мной... Тут я проснулась, скорее радостная, чем грустная... И я подумала — настолько реален был этот сон, — что господь бог позволил Милочке Розе предупредить меня, чтобы дать мне время приготовиться... Однако закутайся хорошенько, сегодня холодный ветер... а то после воспаления легких, которое ты перенес два года назад...
Карсонак помрачнел. Он бесконечно долго натягивал перчатки, потом снял их, засунул в карман, двинулся к выходу, вернулся к камину, наконец решился подойти к двери, открыл ее, вышел, закрыл за собой, опять открыл, просунул голову в щель и, подавшись вперед на одной ноге, спросил любовницу:
— Скажи, ведь меня-то ты не видела в том саду, позади Милочки Розы, а?
Женщина, не оборачиваясь, покачала головой, что означало не слишком определенное «нет», а когда шаги любовника замерли в отдалении, разразилась хохотом, прерываемым отрывистыми фразами:
— Козочки, посмейтесь же со мной... Теперь он будет целую педелю трястись от страха... Такая сволочь... И до чего боится смерти... Ах, что это за человек... никто и не подозревает, какие гадости заставляет он меня проделывать с моим телом ради успеха своих махинаций... Ведь это черт знает что... Они уверены, эти господа, что если они дают нам деньги... Полно! Эти деньги наши, и наши по праву. Торговля белыми рабынями — вот что это такое! Да, они ежедневно торгуют нашей молодостью, нашей красотой. Идет ли речь о том, чтобы получить субсидию, выхлопотать отмену запрещения цензуры, добиться получения льготы, ордена, словом, чего угодно, — они бросают нас в постель к власть имущим — к министру, секретарю, лакею. Не будь Пламени Пунша, вы думаете, господин Икс сумел бы продлить свой контракт еще на десять лет? А господин Игрек — разве смог бы он добиться помощи одного из превосходительств, если бы не Слониха?.. Ах, эти старые паралитики из министерств, золотушные юнцы из отделения Печати и несносные театральные рецензенты, — сколько таких господ мне приказано было ублажать!.. Он ведь забрал себе в голову непременно стать кавалером ордена Почетного легиона! И с кем еще придется мне переспать, чтобы это получилось?
Вскочив с места и порывисто бегая по маленькому будуару, она так и сыпала страшными признаниями, раскрывая ненависть — ненависть, нередко существующую между мужчиной и женщиной, которые связаны бесчестными поступками, связаны «общей грязью», как говорят в народе, и напоминают двух каторжников, прикованных к одному ядру и готовых растерзать друг друга.
Мало-помалу яростное волнение, искажавшее лицо любовницы Карсонака, утихло. Теперь оно выражало лукавую кротость. Бросившись на диван, она удобно вытянулась на спине и, утонув в подушках, сказала, поводя глазами, что придавало ее затуманенному взгляду какую-то особую прелесть:
— Но, видите ли, козочки, всякий раз, как он навязывает мне нового любовника для успеха своих коммерческих предприятий, я мщу... мщу тем, что беру еще одного — для себя... еще одного — на мой вкус, тут уж на мой собственный вкус.
— О да, какого-нибудь молоденького офицерика, — вздохнула, икая, толстуха Брюхатая, позабывшая в эту минуту о своем муже и вообще о замужестве. — Такие мужчины очаровательны... у них всегда найдешь бисквиты, шоколад, вышитые туфли и халат с хлястиком на спине.
— Как можно говорить об офицерах! — с глубоким презрением возразила сестра Жюльетты. — Они годятся для маленьких девочек, которые еще засушивают в книгах листочки, сорванные в долинах альпийских гор. Нет, офицеры слишком наивны... им не хватает порока!
И этот ужасный профессор скептицизма, эта женщина, еще молодая, с голубыми глазами и золотистыми, как спелая рожь, волосами, начала приводить циничные, жестокие, гнусные подробности, с радостью оплевывая своими розовыми губками все то, чего влюбленные даже и не видят в любви, если любят по-настоящему.
— Сударыня, какой-то господин с польской фамилией, — крупье из Монако!
— Так вот, на этот раз — «брысь в Италию и в Польшу»!
— И потом переписчик молитв только что передал для вас, сударыня, этот маленький сверток.
— А, это те молитвы, которыми я особенно дорожу... молитвы из моих толстых книг. Теперь я смогу взять их с собой на воды, — с некоторым смущением проговорила любовница Карсонака, пряча сверток.
— Вот оно что! — пропела своим тонким насмешливым голоском Лилетта, шаловливо указывая пальцем на потолок. — Ты, стало быть, еще веришь в того старика, который там, наверху?
— Ах ты, дрянцо! — вскричала Щедрая Душа, бросаясь на нее и словно собираясь ударить. — Какова бы я ни была, но я запрещаю тебе отпускать в моем доме подобные шутки, негодяйка ты эдакая!.. Теперь ты не получишь старого бархатного платья, которое я тебе обещала.
Отчаянно громкий звонок зазвенел в прихожей.
— Боже милостивый! Пресвятая дева! Сегодня, видно, конца им не будет, этим гостям! — с отчаянием вскричала Растрепа, решившись наконец пойти открыть.
— Этот звонок я знаю: так звонит моя сестра в дни своих душевных бурь, — прошептала Щедрая Душа, по-видимому, немного струсив.
Почти тотчас же на пороге появилась Фостен в необычайно изысканном черном туалете. Посмотрев на трех женщин, она поздоровалась с ними, можно сказать, только движением век и просто сказала сестре:
— Я за тобой.
С приходом Фостен в обществе воцарилось неловкое молчание, и не отличавшаяся робостью Щедрая Душа, как бы укрощенная повелительной краткостью сестры, сейчас же начала снимать с вешалки свою шляпу растерянными жестами актера из пантомимы.
Фостен облокотилась на камин и рассеянно протянула ботинок к остывшему очагу.
— Ах, тетя, это мой любимый корсаж — корсаж от мадам Гродесс! — сказал проснувшийся малыш. — Скажи, скажи, тетя, что ты надела его для меня... твой блестящий жилет.
Он свесил с дивана головку, и глаза его, которые сейчас ярко блестели, восторженно любовались шикарным видом тетки.
Фостен не ответила племяннику.
— Мне что-то пить хочется, — вдруг сказала она.
— Хочешь шампанского? — крикнула ей сестра из туалетной комнаты.
— Нет.
— Так чего же ты хочешь?
Взгляд Фостен обежал откупоренные бутылки, потом бессознательно перенесся к окну, выходившему на набережную Межиссери, и там на чем-то остановился. Она подошла к столу, выбрала из груды разнокалиберных рюмок всех эпох венецианский бокал с молочно-белыми спиральными линиями и сказала служанке:
— Видишь там внизу человека? Пойди и возьми у него стакан лакричной водки, принесешь мне прямо в карету.
— Ну вот и я! Господи благослови! — вскричала Щедрая Душа, употребляя выражение, которым актриса обычно заменяет слова «я готова», выходя на сцену.
И Фостен вместе с сестрой направилась к двери.
— Так ты едешь завтра со мной? — спросила Жозефина, удерживая Щедрую Душу за рукав, когда та проходила мимо.
— Завтра никак не могу, дорогая, — хоронят старого режиссера... Для приличия и мне придется сделать вид, будто я приехала помолиться за эту старую клячу!
III
На лестнице, — то была лестница театра, — обеим женщинам пришлось прижаться к стене, чтобы пропустить безудержную лавину статистов, которые после репетиции мчались вниз в своих подбитых железными гвоздями башмаках, перепрыгивая через несколько ступенек и застегивая на бегу короткие блузы.
— Одну минуту, сейчас я буду к твоим услугам, — сказала Щедрая Душа сестре и, войдя в каморку привратника, о чем-то заговорила с грумом, лениво чистившим сапог возле большой собаки, которая только что участвовала в какой-то пьесе...
— Так куда же ты меня везешь? — спросила Щедрая Душа у Фостен, когда та возвращала Растрепе свой бокал.
— Сама не знаю... Вели Раво ехать на бульвар.
Карета покатила.
— Нельзя сказать, чтобы ты была разговорчива! — вскричала через несколько минут любовница Карсонака.
— Как все это скучно... все... и как все мне приелось, — со вздохом сказала Фостен, нервно потягиваясь. — Сегодня утром, когда я встала, у меня было желание сделать что-нибудь... ну, что-нибудь не такое, как всегда... сама не знаю что!.. Пойти в какое-нибудь такое место... Но где оно, скажи мне, это такое место?.. А разве витрины модных магазинов... взгляни на них... разве тебе не кажется, что сегодня все они такие серые? Как это глупо — мечтать о том, что не стоит в программах развлечений, напечатанных в газетах... Скажи, а разве у тебя не бывает иногда каких-то смутных желаний, какого-то неудержимого стремления к чему-то нежданному, к тому, чего не знаешь, но чего жаждешь всем сердцем?..
Фостен откинулась на подушки кареты, и с ее губ слетели стихи Альфреда де Мюссе:
Зачем не погасила ты то пламя,
Что тайно жгло и рвалось из груди?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Актриса безрассудная, ужели
Не знала ты, что эти крики сердца
Лишь множат тень на вянущих щеках?..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И что любить страданье — вызов богу!
[Перевод А. Эфроса.]
— Что такое? Почему карета остановилась? — спросила Фостен, высовываясь из окошка.
И вдруг, на глазах у сестры, она спрыгнула на мостовую, пробралась, несмотря на окрики кучеров, в самую гущу экипажей и подобрала в грязи, между копытами лошадей, какой-то предмет, который вскоре и принесла, вытирая находку кружевным платочком.
— Да, — сказала она, снова садясь рядом с сестрой, — лошадиная подкова. Она приносит счастье... Это уже третья!
И вот пресыщенная, разочарованная женщина — та женщина, какою только что была Фостен, — внезапно преобразилась: каждый жест ее, казалось, готов был перейти в объятие, каждое слово звучало лаской, конца не было трогательным признаниям, веселым, полным нежности шуткам.
— Послушай, Малышка, ты не сердишься, что я увезла тебя от твоих подружек?.. Видишь ли, ты нужна мне... в моей жизни бывают минуты, когда... если бы рядом не было тебя...
— Говори же скорее... ведь я — твой добродетельный порок!
— Это было давным-давно... Помнишь хозяина кондитерской «У источника сладостей», на улице Монтескье?.. Ну, того, который для пьесы, где Арналю приходится целыми пригоршнями есть землянику, сделал землянику из меренг, до того похожую на настоящую, что не отличишь... Ты и тогда уже была храбрее меня... Ведь это ты ходила к нему тратить те несколько су, что мы зарабатывали пением на площади Фонтанов... А когда дома не было еды, ты все равно пела... и заражала своим мужеством всех нас, — и мы тоже пели вместе с тобой!.. А как жили мы, девочки, потом, когда подросли и осиротели... Нет, Мария, такое прошлое, как наше, да еще пережитое вместе, — его не вышвырнешь вон, словно грязную рубашку.
— Да, я была храбрее тебя и не такая уступчивая... А все-таки верховодила мною всегда ты... словно кроткой овечкой... Почему бы это?.. Быть может, потому, что у тебя есть талант, а у меня его нет! Да, таланта у меня нет, зато есть уменье жить, вот что послала мне судьба! — весело заявила сестра Жюльетты. — И это уменье я доказала, — правда? — когда бросила сцену как раз накануне дебюта. О, господи! Что бы только со мной было, если бы я не решилась на это!.. Но я устроила свои дела по-другому... и вот, с божьей помощью, приобрела положение в обществе, и теперь я что-то вроде совращенной мещаночки.
И она уперлась ладонями в колени, приняв позу Бертена, как на портрете Энгра.
Кучер остановился перед церковью св. Магдалины, ожидая дальнейших приказаний.
— А помнишь, Малышка, ведь именно ты всегда придумывала какую-нибудь игру, забаву, развлечение, — продолжала Фостен.
— Да, потому что в те доисторические времена позабавить нас было очень легко. С тех пор...
— Послушай, Мария, пусти в ход свое воображение сейчас, сегодня... Придумай для нас что-нибудь такое... ну, не такое, как всегда.
— Парижские дневные развлечения, Жюльетта, если иметь в виду развлечения невинного свойства, насколько я знаю, не слишком разнообразны: можно покататься по озеру, спуститься в кухню Дворца Инвалидов, взобраться на Вандомскую колонну, навестить обезьян в Ботаническом саду... Ну, а если ты хочешь испробовать развлечения другого сорта, — говори, приказывай, позволь служить тебе... возможно, что в этом жанре твоя сестра и сможет предложить тебе что-нибудь не совсем обычное!
— Не кажется ли тебе, что у древних было больше неожиданного в их повседневной жизни? — проговорила Фостен в глубоком унынии, и все ее восхитительное тело выразило полное изнеможение.
В глазах у Марии заплясали огоньки, говорившие о том, что ей наплевать на исторические реминисценции, и, бесцеремонно вторгаясь в мечтания трагической актрисы, она резко спросила:
— Скажи-ка, Жюльетта, что-то не клеится у тебя во Французском театре?
— Да нет... ведь, собственно говоря, репетиции еще и не было. Один раз собрались у меня, и все, — ответила Жюльетта, словно проснувшись. — Правда, я далеко еще не владею ролью... особенно если исходить из того, как мне хотелось бы ее сыграть... Ага, чудесно, отлично, превосходно!.. Я придумала, как нам закончить день... Раво! Раво!.. В Батиньоль, на улицу Леви, тридцать семь.
— В Батиньоль? Кто там у тебя?
— Угадай!
— Какой-нибудь гадальщик, который берет по луидору за предсказанье?
— Нет, нет. Придержи язык... Все равно тебе не угадать.
Внезапно на смеющееся лицо актрисы легла какая-то тень, выдававшая работу мысли; полузакрытые глаза потемнели; на лбу, юном и нежном, как у ребенка, поглощенного своим уроком, вспухли от напряжения бугорки над бровями; вдоль висков, вдоль щек, словно от холодного дуновенья, разлилась едва уловимая бледность; и очертания слов, произносимых про себя, пробежали вместе со смутной улыбкой по полураскрытым губам.
Несколько раз Фостен оставила вопросы сестры без ответа.
— Ага! Жюльетта, вот дом тридцать семь!
Женщины вышли из кареты.
— Раво, голубчик, ждать, быть может, придется долго, — сказала кучеру Фостен.
— Смотри-ка, тут даже и привратников нет, — заметила Щедрая Душа.
— Ничего... Мне очень хорошо объяснили, где живет тот, кто мне нужен.
Женщины начали подниматься по лестнице и наконец дошли до широкой площадки; Фостен сосчитала двери с левой стороны и остановилась перед седьмой.
Она постучала.
За дверью послышались тяжелые шаги, она приоткрылась на три-четыре сантиметра, и в узкую щель просунулся крючковатый, похожий на тупую сторону серпа, нос, над которым свисали длинные седые волосы, увенчанные маленькой шапочкой, вышитой золотыми блестками.
— По-видимому, дамы ошиблись дверью? — сказал старик, боязливо оглядываясь назад и адресуя странные «пст» в глубину комнаты.
— Нет, ведь вы господин Атанассиадис, не так ли? Вот записка от одного из наших общих друзей — это он направил меня к вам. — И Фостен протянула ему визитную карточку знаменитого академика.
— О, в таком случае, входите, сударыни, — сказал старик, бросив беглый взгляд на карточку. — Только осторожнее... а то здесь мои маленькие друзья.
Обе женщины вошли в высокую комнату — бывшее ателье бедного фотографа, где летало на свободе множество редчайших и прелестнейших птиц.
— Ах, птички!.. Какая прелесть! — воскликнула Щедрая Душа и почти тотчас же провела рукой по платью. — Только жаль, что они так бесцеремонно гадят, эти грязнухи!
В комнате-мастерской, содержавшейся, несмотря на присутствие птичек, в такой чистоте, словно она принадлежала старой деве, не было никаких украшений, кроме трех гипсовых копий барельефов Парфенона, заменявших зеркало над камином, в которой была вделана труба маленькой печурки, отбрасывавшей красный свет на вощеный пол. Вдоль стен, довольно высоко над головой, тянулась длинная полка, заставленная книгами в итальянских переплетах из белого веленя. В полуоткрытом стенном шкафу, в углу, виднелись стеклянные банки, где плавала в масле разная консервированная снедь, и миска, полная яиц. В комнате было только одно плетеное кресло, но в нише, служившей альковом, на досках, положенных на козлы, лежал покрытый турецким ковром узкий матрац, на котором старик, как видно, не раздеваясь, спал по ночам. Пахло птицами и восточными курениями.
— Чем могу служить, сударыни? — спросил хозяин, усаживая обеих дам на свою постель.
— Вот чем, сударь, — начала Фостен. — Господин Сент-Бёв сказал мне, что существует еще другая Федра, кроме расиновской... И он сказал мне также, что вы могли бы познакомить меня с ней лучше, чем кто бы то ни было другой... Ведь вы грек и так хорошо знаете язык Древней Греции... Я и сама не вполне ясно представляю себе, чего я хочу... Но мне было бы интересно послушать, как вы читаете вашу Федру в оригинале... Быть может, это пробудит во мне какие-то представления... Я хотела бы превратиться в варвара древних времен и, пробыв два часа в Греции Перикла, уехать от вас, сохранив в ушах звучание языка этой страны.
Старик потянул за собой кресло, дотащил его до книжной полки, подобрал вокруг своей тощей и длинной фигуры широкие полы фланелевого халата, под которым, видимо, было надето немало шерстяных фуфаек и несколько пар длинных шерстяных чулок, потом встал на сиденье и, выдвинув толстый том из числа прочих, произнес с глубоким благоговением, словно хранитель монастырских сокровищ, показывающий главную свою реликвию:
— Сударыни, вот божественный Гомер!
Затем, взяв другую книгу, стоявшую рядом, он спустился с ней вниз, бережно обтер локтем пыль, придвинул к себе маленький столик, положил ее и, осторожно раскрыв на какой-то странице, разгладил ладонями дряхлых рук широкие поля.
Водрузив на лезвие носа огромные очки и склонившись над старинным текстом, Атапассиадис поднял восторженный взгляд к потолку и сказал:
— «Ипполит». Сцена происходит в Трезене перед дворцом, у входа в который стоят две статуи — Дианы и Венеры.
И он тут же приступил к чтению двух первых стихов греческой трагедии:
Πολλή μέν έν βροτοίσι κούκ άννώομοζ
Θεά κεκλημαι Κύπριζ ούρανοΰ ιέσω
[Меня зовут Венерой, богиней, чье имя известно среди смертных и в небесах (греч.).]
— Простите, господин Атапассиадис, — прервала его Фостен. — Что, если бы вы взяли с собой вашу книгу... моя карета стоит внизу... я увезла бы вас к себе... вы пообедали бы с нами — со мной и с моей сестрой... Я прикажу никого не принимать... И мы проведем вместе чудесный вечер.
— Ах, сударыня, — ответил старик, — если бы только я мог, я был бы очень рад сделать вам приятное... Но с ноября и до конца мая — я пленник, заключенный в стенах этой комнаты... Теперь вы поймете, какая радость для меня видеть вокруг моих птиц... Весь этот долгий промежуток времени мне положительно запрещено выходить: воздух вашей зимы может убить меня.
Тут Фостен заметила, что все щели окопной рамы заклеены бумагой.
Старик снова углубился в чтение, время от времени перемежая древнегреческие фразы текста с французскими, вроде:
— Ваш Расин, сударыня, не обратил внимания на это... Ваш Расин, сударыня, не передал этого... Ваш Расин, сударыня, плохо передал это...
— Тебе не скучно, маленькая Мария? — шепотом спросила Фостен у сестры.
— Нет, я не прочь иногда поиграть в китайские головоломки... к тому же твой Атанассиадис очень забавен!
Начало смеркаться. Старик зажег лампочку и продолжал читать, но при каждой смене персонажей в диалоге он поглядывал на часы с кукушкой, висевшие на стене над головами женщин.
— Быть может, господин Атанассиадис, мы вас стесняем? — спросила Фостен, заметив взгляды старика.
— Нет, нет, сударыни... Только у меня сохранились привычки моей родины... Я обедаю раньше, чем люди парижского большого света.
— Ах, вот что, в это время вам обычно приносят обед... Отлично! — сказала Фостен, и в ее тоне прозвучала восхитительная властность женщины, которая хочет до конца удовлетворить свой каприз. — Значит, надо пообедать, господин Атанассиадис... надо пообедать так, словно нас здесь нет... А потом мы опять примемся за чтение.
— Дело в том... Дело в том, сударыни, что никто не приносит мне мой обед... я приготовляю его сам... О, у меня совсем незатейливые блюда... я до некоторой степени последователь школы венецианца Корнаро... Яйца, сушеная рыба, черные оливки... Да вот, с того места, где вы сидите, видны запасы моей зимовки.
Фостен встала и подошла к шкафу. С любопытством маленькой девочки она вынула одну за другой стеклянные банки, шаловливо повертела их в руках перед лампой, потом снова поставила на место:
— О, какие маленькие сухие рыбки! Они похожи на спички.
— Да, это tziros... их едят, запивая raki. {Ракией (н.-греч.).}
— И никогда, никогда ни кусочка мяса?.. Как это оригинально, господин Атанассиадис... Ах, анчоусы... Хорошо, примем к сведению... Так, значит, вы каждый день едите глазунью из двух яиц? Должно быть, это страшно надоедает в конце концов.
Разговаривая, разыскивая, разглядывая, Фостен подвязала свой шлейф, подколола юбку булавками на манер «судомойки», а потом весело и повелительно — тоном дамы, командующей на пикнике, — заявила:
— Так знайте же, сегодня стряпать для вас обед будем мы... Вам, очевидно, неизвестно, что представляет собой яичница с анчоусами... яичница, в приготовлении которой у меня нет соперниц... Так вот, сейчас вы попробуете такую яичницу, поджаренную моими белыми ручками... А ну, Малышка, подай мне вот оттуда сковороду... А вы, господин Атанассиадис, живо подложите углей в печурку!
— Ох, сударыни, сударыни, вы приводите меня в смущение, — стонал ошеломленный Атанассиадис.
— Успокойся, старый Паликар, мы с сестрой не такие уж принцессы, как ты думаешь, — сказала любовница Карсонака, легко переходившая на фамильярный тон.
— Ну, раз так, я разбиваю три яйца... Господин Атанассиадис, посмотрите, как я рублю анчоусы... не слишком крупно и не слишком мелко... Сейчас я открою вам мой секрет: надо чуточку поджарить их... Это тмин, не так ли?.. Что ж, положим щепотку тмина.
— Ох, сударыни! Сударыни! — продолжал стонать Атанассиадис.
— А ну, старый Паликар, не мешай нам работать! — сказала сестра актрисы.
— Внимание, господин Атанассиадис... Посмотрите, как я переворачиваю ее... раз, два, три... готово! Ну, что? Видите, как она подрумянилась снизу, как пышна сверху?.. А теперь, Мария, давай накрывать на стол.
И среди порханья и щебета птиц, встревоженных необычным шумом, движением и сутолокой импровизированного пиршества, сестры, отпуская шуточки театральных субреток, начали прислуживать старику, который, сопротивляясь все слабее, наконец покорился чарам молодой жизнерадостности двух женщин, явившихся на часок-другой разделить с ним его старческое уединение.
— Ну как, господин Атанассиадис, вкусно? Довольны вы своей поварихой? — сияя детской радостью, спрашивала Фостен. — А теперь — второе блюдо... оливки... О, да они отличные, — сказала она, съев две или три штуки. — Попробуй, Малышка.
— Благодарю, для этого я слишком плотоядное существо!
— Хозяин откушал... Теперь нас ждет десерт!
И Фостен с присущим ей изяществом мгновенно очистила столик от всего, что на нем было.
— Что ж, — вздохнул старый Атанассиадис, берясь снова за своего Еврипида и ощущая то приятное изнеможение, какое в старости бывает следствием счастья, — все мое знание древнегреческого я постараюсь, сударыни, передать вам!
— А твой кучер, Жюльетта?
— Я совсем забыла о нем... Сделай одолжение, спустись вниз... Пусть он пообедает в первом попавшемся кабачке и возвращается сюда.
Когда сестра снова поднялась наверх, трагическая актриса сидела, опершись локтями на слегка расставленные колени, сжав ладонями свое прекрасное выразительное лицо и как бы впитывая созвучия, вылетавшие из уст старого грека. Время от времени она вставала и, сделав Атанассиадису знак продолжать, принималась ходить по комнате, жестами сопровождая стих, который ей помогало понять брошенное на ходу слово французского перевода; потом снова садилась.
А старый Атанассиадис, дойдя до того места, где Федра предъявляет пасынку последнее обвинение, начал рисовать перед своими слушательницами — и притом с тонкостью, удивившей Фостен, — эту роковую фигуру, гораздо более значительную, более человечную, более естественную в своем желании отомстить за поруганную любовь, нежели та условно и театрально привлекательная женщина, которую изобразил придворный поэт Людовика XIV; и вот истолкователь возбудил у современной актрисы желание испробовать новые интонации в этой помолодевшей, обновленной, исторически понятой роли.
Чтение трагедии окончилось. Было восемь часов вечера.
Незаметно завернув в бумажку несколько золотых монет, Фостен встала и, вдруг превратившись в великосветскую даму, сказала важным тоном:
— Господин профессор греческого языка, мы отняли у вас несколько часов... Прошу вас, примите это скромное вознаграждение за потерянное время.
— Нет, сударыня, — ответил старик. — Во-первых, вы приготовили мне обед... а потом — я знаю вас... я не раз видел вашу игру... летом... в те месяцы, когда мне разрешено выходить... И греки, как современные, так и древние, кое-чем обязаны вам за то, что вы вашим талантом возрождаете к жизни великие женские образы их истории... Нет и нет, дорогая госпожа Фостен.
В певучем голосе старика чувствовалось, когда он произносил эти слова, легкое волнение, а звук «з», который он выговаривал вместо «ш», придавал ему какую-то детскую мягкость.
— Хорошо, господин Атанассиадис, я согласна с вами... мне тоже кажется, что удовольствие, полученное от этого вечера, не должно быть оплачено деньгами... Я предпочла бы напомнить вам о себе как-нибудь иначе... мне бы хотелось, чтобы вы выразили какое-нибудь желание, которое могла бы исполнить только я.
— Ну, если уж вы, сударыня, хотите сделать старику приятное, то я признаюсь вам, что есть один продукт моей родины, который я не могу достать здесь, у вас... а я был бы счастлив отведать его еще раз, перед тем как умру... Это гиметский мед... Быть может, вы, сударыня, через посольство...
— Ну разумеется! Ведь французский полномочный представитель в Греции — мой хороший знакомый. С первой же дипломатической почтой к нам прибудет кувшин гиметского меда — самого лучшего меда, какой производят пчелы вашей родины... Еще раз — прощайте, господин Атанассиадис, и благодарю вас.
— Бедный старик! Он поистине трогателен! — сказала Фостен, садясь рядом с сестрой в карету. И продолжала: — Этот вечер не потерян для меня... Мне кажется, в завесе, скрывающей мою роль, появились какие-то просветы.
После нескольких минут молчания Фостен, лицо которой было скрыто мраком ночи, добавила, роняя фразу за фразой:
— Но эту роль... роль, за которую с трепетом брались самые пламенные актрисы прошлого... чтобы сыграть эту роль, мне бы не следовало быть в том состоянии душевного холода, в каком я нахожусь сейчас... необходимо было бы любить — любить безумно, любить неистово... сердцем, головой, плотью.
— Жюльетта, могу предложить тебе предмет... ну, словом, любовника, — хочешь?
Даже не слыша ее, Фостен продолжала:
— Пойми! Расстаться с ним, когда он любил меня так, как любил... а ведь он любил меня как безумный... Расстаться с ним после того, как он обещал, что не пройдет двух месяцев, и он бросит ради меня карьеру, семью, родину, чтобы вечно быть рядом со мной... И ничего, ничего... никаких вестей... с того самого дня, как мы сказали друг другу «до свидания». На все мои письма, вот уже несколько лет, нет ответа.
— Так ты все еще пишешь ему?
— Да..., в те дни, когда мне невыносимо грустно.
— Но, послушай, Жюльетта, ведь совершенно ясно, что у почтового ящика твоей тоски дырявое дно!
Не отвечая больше сестре, вся окутанная молчанием, Фостен ехала в своем экипаже вдоль темных улиц, и черное кружево шляпки билось о ее печальное лицо.
— Ты поужинаешь со мной? — спросила любовница Карсонака, когда карета остановилась у ее дома.
— Нет.
— Тогда я поеду ужинать к тебе!
— Нет... На сегодняшний вечер оставь Жюльетту одну... пусть она побудет сама с собой...
IV
Создать роль, другими словами, одухотворить, придать живое лицо, живые жесты, живой голос персонажу, существующему только на страницах книги, так сказать, бумажному трупу, — это тяжелый труд!
Начинается он с первого серьезного чтения, — причем у Фостен оно носило какой-то странный характер и производило впечатление чисто механической операции, при которой смысл прочитанного как будто не доходил до ее сознания.
За ним идет уже настоящее изучение, которое почти тотчас же влечет за собой упадок духа и чувство неуверенности в себе — чувство, свойственное всем талантливым людям и заставляющее их повторять себе: «Нет, никогда, никогда я не смогу сыграть эту роль!»
Вот какое признание об этих первых минутах малодушия сделала как-то моему другу одна из самых даровитых наших актрис:
«Когда я приступаю к созданию новой роли, у меня каждый раз бывает такое чувство, словно мне предстоит поднять гору. Ужас, который я испытываю в подобных случаях, бывает до того невыносим, что я начинаю мечтать о землетрясении, о потопе, который бы избавил меня от моих мучений. Я проклинаю автора, себя, весь мир и становлюсь совершенной тупицей вплоть до той неповторимой минуты, когда весь этот хаос вдруг прорезается лучом света».
А Жюльетте Фостен к тому же приходилось бороться с неблагодарной и непокорной памятью, то и дело грозившей изменить ей и державшей в постоянной тревоге! А в роли Федры, как известно, семьсот стихов!
Однако же роль постепенно захватывала ее, завладевала ее мыслью, и актриса почти бессознательно вступила в период созидания, причем вначале работала главным образом лежа в постели, где ей легче было сосредоточиться.
И вот процесс, происходящий в медленно разгорающемся воображении писателя, — возникновение из небытия эмбриона того образа, который он создает, его постепенное формирование, его окончательное превращение в живое, осязаемое существо, словом, все этапы его существования, — этот процесс начал происходить и в актрисе, и даже не в мозгу ее, нет, — она почувствовала, что этот процесс происходит в ней самой. Испытывая глубокое и тайное удовлетворение актера, перевоплощающегося в другого человека, она перестала быть сама собой. Новая женщина, созданная работой ее мозга, поселилась в ее оболочке, прогнала ее оттуда, отняла у нее собственную жизнь.
И тут я не могу побороть искушение привести по поводу этой двойной жизни другой отрывок из письма, упомянутого выше:
«...С того дня, как мне поручена роль, мы живем вместе с нею. Я могла бы даже добавить, что она владеет мной, что она поселилась во мне. И, конечно, она берет у меня больше, чем я даю ей. Поэтому-то почти всегда, и дома и на людях, у меня появляется такой тон, выражение лица, манеры, какие мне хочется придать ей, — и все это совершенно безотчетно. Вся во власти роли, я не могу быть веселой, если то, другое «я», которое во мне, переживает что-нибудь печальное или трагическое, точно так же как мое мрачное настроение не в силах противостоять этому второму «я», когда оно шутит, радуется, когда смех его раздается в моих ушах. Вот, я сказала все, но понятно ли это? В таких случаях, я не одна, нас двое. В этом весь секрет моей работы. Я думаю о роли и живу ролью. А когда я отдаю ее на суд публики, она уже созрела во мне».
И еще одна любопытная вещь: актеры и актрисы классических трагедий и комедий, а также исполнители и исполнительницы нынешних пьес не имеют возможности опереться на современные образы. Гнев Ахилла и любовь Федры — это не тот гнев и не та любовь, какие встречаешь на каждом шагу на наших улицах и в наших гостиных. Следовательно, в стихию высоких, почти сверхчеловеческих чувств актера должно перенести воображение, а поистине необыкновенная интуиция поможет ему подняться до уровня этих огромных чувств и выразить их так, чтобы они обрели реальную жизнь. И кто же, кто достигает этих высот? Женщины без образования, вроде Фостен, невежественные женщины, не имеющие ни малейшего представления ни об эпохе, которую они воспроизводят, ни об истории героинь и великих властительниц, в которых они перевоплощаются, — женщины, которые рассеянно просят какого-нибудь приятеля, помогающего им разучивать текст: «Ну, расскажи-ка мне, кто такой был этот господин Тезей», — и уже не слушают его, снова захваченные ролью. И, однако, именно такие женщины воссоздают эти образы с такой поразительной достоверностью, при помощи таких интонаций, манер, жестов, каких никогда не могли бы придумать ученые, скульпторы, художники, всю жизнь отдавшие изучению античного мира. Поговорите с актерами, спросите у них, как достигается подобное чудо. Они ответят вам одним словом: «Инстинкт, инстинкт!» И действительно, здесь единственное объяснение этого дара ясновиденья, этой способности к проникновению в великое прошлое.
Тело трагической актрисы, которая к этому времени уже начала постигать свою роль и пыталась читать ее вслух, непроизвольно и совершенно естественно находило благородные, широкие жесты — жесты античной статуи. Она не изучала их в зеркале, как не изучала и мимику лица, — внутренне убежденная в том, что настоящий актер всегда носит в самом себе ощущение правильности своей игры и не нуждается в такого рода проверке.
Зеркало, по выражению одной большой актрисы, уже ушедшей со сцены, — это средство, к которому прибегают актеры или актрисы, чья мысль стелется по земле, марионетки, имеющие при себе список всех театральных приемов, якобы способных вызвать чувство, но никогда не вызывающих его.
При передаче душевных движений с помощью пантомимы найти приемы и даже удачно найти — это еще не все. Вкус и искусство должны проявляться здесь в умении отобрать, ограничить себя, отбросить все ненужное, в умении сделать жест спокойным, сдержанным, приглушенным, довести его до того «в самый раз», которому учат старинные театральные учебники, рекомендуя играть, «засунув руки в карманы». Сдержанность — такова характерная черта совершенных сценических творений, стремящихся к тому, чтобы показать на подмостках образ, чья театральная жизнь, как на картине большого художника, все время дается в полутонах спокойных, ровных красок и сверкает ярким блеском лишь в отдельных, наиболее сильных местах.
Но есть, пожалуй, нечто более трудное, чем мимика, в процессе преодоления роли: сложнее всего найти соответствие между голосом актера и чувством, которое выразил автор, добиться верной тональности, точного звукового воплощения замыслов драматурга. Отсюда — усилия и поиски, повторения какого-нибудь одного стиха, одного полустишия, которое Фостен декламировала на все лады, то ускоряя, то замедляя, пропуская его через бесконечные модуляции голоса, смягченного, надломленного... И так сотни раз.
Однажды днем, разъезжая по разным делам в своей карете и для компании взяв с собой маленького Люзи, актриса повторяла: «Он — моя радость, моя честь, моя слава!» — фразу из «Царицы» Скриба, которую ей предстояло читать на утреннем приеме в одном из салонов Сен-Жерменского предместья, — повторяла полтора часа, до тех пор пока вдруг не нашла той интонации, какой требовало ее ухо.
V
— Итак, слушайте... Оба, отец и сын, — сын совсем еще молодой человек, — предполагали, как обычно, провести вечер у одной пожилой дамы, старинного друга их семьи... Но сыну в этот день немного нездоровилось, и он не пожелал расстаться с мягким креслом у камина.
Рассказ то и дело прерывался хлопаньем открывавшейся и закрывавшейся двери, поминутно входили конторщики; один что-то на ухо шептал рассказчику, другой подавал ему письмо, которое тот, стоя, подписывал на уголке каминной доски.
— Так вот, как я уже тебе говорил, — сын остался сидеть у камина... На лестнице отец замечает, что забыл носовой платок... он снова поднимается наверх и просит сына сходить за платком в его спальню... и, усевшись в то кресло, где только что сидел юноша, несколько минут греет ноги у камина... Случайно, а может быть, и со смутным любопытством к тому, как проводит этот одинокий вечер его сын, отец бросает взгляд на маленький столик, где молодой человек что-то писал, когда он вошел... Он видит печатный прейскурант какого-то бюро похоронных процессий и второй прейскурант, с особыми виньетками для каждого разряда, принадлежащий другой, конкурирующей фирме. А между этими двумя брошюрками — тщательно продуманный заказ на похороны по первому разряду, адресованный обеим фирмам и согласующий мудрую экономию с соблюдением декорума, подобающего высокому положению покойного в финансовом мире... У отца нет ни малейшего сомнения в том, что речь идет о его собственном погребении, устройством которого занимается предусмотрительный сын в дни безденежья. Сын возвращается с платком... О, если бы этот отец был обыкновенным, средним отцом!.. Но нет, этот отец ничего не говорит своему чаду, с улыбкой расстается с ним, идет на свой вечер, где рассказывает обо всем нескольким близким друзьям... и притом остроумно, с забавными подробностями.
— Черт возьми! Вот он, героизм интимной жизни, истинный, без позы! Такой не часто встретишь и в «Conciones» {«Собраниях речей» (лат.).} древности, — проговорил, выдохнув дым сигары, слушатель рассказа.
— Потому что это был настоящий биржевик, — ответил Бланшерон. — В нем жил тот упрямый и веселый пессимизм, который и составляет нашу силу.
Потом, после короткой паузы, добавил, медленно выговаривая слова:
— И подумать только, что человек, обладавший таким изумительным хладнокровием, был убит, как кролик, кусочком свинца, который он пустил себе в висок, узнав о замужестве девчонки, находившейся у него на содержании!
Сказав это, Бланшерон впал в глубокую задумчивость.
Бланшерон, биржевой волк, одна из самых крупных финансовых акул, принадлежал к числу тех энергичных людей, с грубым и упрямым лицом, с крепким мужицким здоровьем, весь облик которых отмечен печатью какой-то жестокой властности, свойственной всем денежным королям, малым и великим, если только они не принадлежат к еврейской нации. Цвет его лица — желтовато-красный, начал уже приобретать тот оливковый оттенок, тот металлический отблеск золота под кожей, который так любопытно наблюдать в голубоватом газовом освещении на лицах участников малой биржи, собирающихся вечером на бульваре. У Бланшерона был темперамент биржевика, играющего на повышение, — другими словами, дерзкая вера в доброго бога котировки, счастливая способность рассчитывать на удачное устройство и благоприятный исход всех происходящих на земле событий, — ведь это было в те годы, когда все преуспевало во Франции.
Облаченный в широкий костюм, какие носят грузные английские фермеры, этот биржевой делец громко заявлял о своем презрении ко всему, относящемуся к искусству и к литературе, причем распространял его и на людей, причастных к этим профессиям. И в это свое существование, целиком зависевшее от alea, {Жребия (лат.).} денег и лишенное всякой внешней роскоши, Бланшерон позволил проникнуть только одному развлечению, поглощавшему те двести тысяч франков в год, которые он зарабатывал, — любовнице.
Агент кулисы Люзи являлся полнейшей противоположностью Блашнерону. Это был маленький, изящный и красивый молодой человек, весьма неравнодушный к кокоткам, водивший дружбу с художниками, литераторами, большой любитель музыки, — человек, к которому выгодные дела так и шли, словно притягиваемые исходившим от него очарованием... человек, обладавший вместе с тем страстью к бродяжничеству и яхтой в Средиземном море, дававшей ему возможность исчезать с биржи на целых три месяца — три месяца, во время которых, вот уже два раза за последние несколько лет, он, по странной случайности, оставался в стороне от крупных, ставших легендарными, крахов. Умный, ловкий, себе на уме, один из искуснейших аферистов малой биржи, Люзи не обладал, однако, замечательным чутьем Бланшерона, а главное — его великолепной невозмутимостью в период катастрофических падений курса, и довольствовался скромной ролью спутника, вращающегося в орбите операций своего друга.
Задумчивость Бланшерона, — с короткой пенковой трубкой в зубах, он ходил взад и вперед по кабинету твердой походкой моряка, шагающего, широко расставляя ноги, по палубе своего судна, — внезапно оборвалась. Он сказал:
— Так вот, клянусь дьяволом, я чувствую себя ничуть не слабее этого старого мошенника отца... А уж по части всяких там сантиментов, или физических страданий, или провалов, связанных с днями ликвидаций на бирже, так я плюю на все, ты знаешь... Так скажи мне, почему вот этому телу, которое еще недавно, в июне месяце, я позволил резать и кромсать, словно оно не мое, — ты ведь видел сам, — почему одно слово, один жест, любая мелочь, которая исходит от этой проклятой женщины, причиняет ему... причиняет мне более сильную боль, чем нож хирурга! Да, дорогой мой, этот толстокожий... потому что меня, право же, не назовешь слабонервным... — вскричал он, разражаясь презрительным смехом, — да, так вот я, я страдаю от того, как Жюльетта открывает дверь, когда возвращается домой, — тихо, совсем тихо... То, как она поворачивает ключ в замке... даже ее шаги, когда она входит в комнату, — шаги, которые кажутся самыми обыкновенными, всегда одинаковыми всем остальным, — все это полно для меня особого, горького смысла... Ах, эта Федра! Она вновь пробудила в ней целый рой юных, полных лиризма, поэтических ощущений, и среди них моя прозаическая особа...
И, расхаживая взад и вперед по комнате, в промежутках между отрывистыми фразами своей горькой исповеди, Бланшерон распахивал дверь, бросая кому-то приказания, относящиеся к денежной битве сегодняшнего дня:
— Ну, как? Что с премией в два су на завтра?.. Есть у нас шестьдесят тысяч для Тамплие?.. Что? Вы говорите, дошло до семидесяти — семидесяти пяти... Купите мне на девяносто тысяч, да поживее!.. А вы возьмите для меня по десять су до конца месяца и продайте половину с премией в один процент.
И, чтобы сорвать на ком-нибудь свое убийственное настроение, он грубо бросил одному из конторщиков:
— А где ответ? До завтра, что ли, ждать, черт бы вас побрал!
Потом снова обратился к Люзи:
— Нет, ты не можешь себе представить, дружище, до какой степени какая-нибудь дурацкая роль переворачивает все вверх дном в башке у актрисы... Она никогда не питала ко мне пылких чувств, это правда... и не слишком старалась скрыть это от меня... но все-таки она принадлежала мне, она была моей... по привычке, благодаря долгой совместной жизни, благодаря тому ощущению власти над мужчиной, которым гордится каждая женщина... особенно если этот мужчина такой свирепый пес, каким являюсь я. Будь оно все проклято! Сам дьявол вселяется в душу женщины, когда в ней просыпается старая любовь... Я чувствую, как с каждым днем она отдаляется от меня, замыкается в себе и словно ускользает из моих объятий. Потребуй она больше денег, можно было бы постараться заработать их для нее, и я заработал бы их... Но как бороться с призраком, который вдруг снова воскрес в ее сердце... с этим Уильямом Рейном, которого, может быть, — она и сама так думает, — уже давно нет в живых... Как могу я бороться с ним?
— Полно, мой милый, — сказал Люзи, — ведь это вопрос еще одного месяца. «Федра» будет сыграна, актриса снова станет обыкновенной женщиной, и ты снова найдешь прежнюю Жюльетту. Но ведь пока что она еще твоя любовница, не так ли?
— Да, она моя любовница, — серьезно ответил Бланшерон, — но, видишь ли, ее чувство ко мне — это чувство порядочной женщины, которая не любит своего мужа, а мне... это глупо, но этого мне уже мало!
VI
В зрительной зале, погребенной под огромными холщовыми полотнищами, — непроглядная тьма. В этой тьме сияют лишь маленькие квадратики дневного света, — он пробивается сквозь красные занавески на окошечках третьего яруса, — и поблескивают сапфировые подвески люстры, похожие на пучок сталактитов, свисающих в холодном мраке со свода ледниковой пещеры.
Это да еще несколько бледных отблесков на кариатидах авансцены, на полустертых мифологических фигурах плафона и на ручке контрабаса, выступающей над рампой из темной глубины оркестра, — вот все, что можно разглядеть в пустой зале, где по барьеру первого яруса одиноко прогуливается белая кошка.
На сцене, освещенной двумя кенкетами с рефлекторами, установленными в кулисах, почти так же темно, как в зале; только на холсте, изображающем небо, да в пробоинах декораций видны голубоватые блики, вроде тех, какие бывают на стропилах строящейся церковной колокольни, когда ее озаряет луна.
В глубине сцены — мужчины в пальто и круглых шляпах, похожие на обнищавших канцеляристов, и женщины, которые бродят с видом «поджигательниц», грея руки в стареньких муфтах, — какие-то будничные привидения, движущиеся в фантастическом полумраке.
Время от времени в мертвом молчании огромной пустой залы, по крыше которой бьют яркие солнечные лучи, дрожит глухой отзвук колес проезжающей кареты; и кажется, что этот отдаленный стук раздается сверху и давит на потолок, словно это тележки со щебнем катятся по насыпи над катакомбой.
Французский театр предоставил прославленной трагической актрисе Одеона — этой привилегией пользуются только очень крупные драматические актеры, и притом исключительно для пьес классического репертуара, — итак, Французский театр предоставил Фостен свой зал для десятка репетиций, которые должны были происходить, пока разучивается другая пьеса, и в этот день здесь шла первая репетиция «Федры».
Монументальные грелки, сделавшиеся традицией Дома Мольера, были наполнены углями и поставлены в ногах у актрис, сидевших в глубоких мягких креслах стиля Людовика XV, приготовленных для вечернего спектакля.
Суфлер сидит с левой стороны за маленьким столиком, на который поставили лампу; старый режиссер Давен уселся рядом с ним, спиною к длинному жезлу с красной бархатной рукояткой, висящему на гвозде между двумя подпорками кулисы.
Директор устроился справа, на диване.
В глубине сцены висит, до половины поднятый кверху, огромный камин резного дерева — из какой-то средневековой драмы, а расиновский Ипполит, сильно простуженный, до кончика носа закутанный в кашне, стуча подошвами, бегает по подмосткам.
— Ну как, начинаем?.. Все в сборе? — раздается голос директора.
В эту минуту Терамен, опоздавший из-за приступа ревматизма, входит, прихрамывая, опираясь на палку и рассуждая вслух по поводу рецепта, который лежит раскрытый у него на ладони.
— Так как же наконец? Все на месте? — повторяет директор.
— Нет, — говорит кто-то. — Еще не пришла Энона.
— Это просто невыносимо... Хочешь устроить репетицию без дыр... и вечно одно и то же... Начнем без нее, быть может, это ускорит ее приход, тем более что она опоздала уже на добрых полчаса.
И вот в сером полусвете сцены, заполненной словно бы предутренним туманом, в котором белеют только воротнички актеров, а актрисы играют с затененными лицами и освещенными руками, начинается репетиция.
Дело подходит ко второму явлению.
— Господин Давен! — раздается голос директора.
Суфлер громко читает:
Увы, царевич! Нас преследует злой рок.
Царица при смерти. Конец уж недалек.
Напрасно я о ней забочусь неусыпно.
[Стихи из трагедии Расина «Федра» здесь и далее даются в переводе Mux. Донского.]
И старый Давен, седобородый, в зеленой куртке, в желтых панталонах и полосатых гетрах поверх ботинок, застенчивой мимикой, сдержанными жестами, зябкими, жеманными, сопровождает рассказ наперсницы, обращенный к Ипполиту.
— Пришла! Пришла! — кричат из-за кулис.
— Какой гнусный фиакр! Ах, дети мои, никогда не берите старого извозчика! — говорит Энона — тип театральной лгуньи, — развязывая ленты у шляпки, и немедленно начинает подавать Фостен реплики третьего явления.
Любопытно, крайне любопытно наблюдать, как рождается роль, — даже у самых талантливых, самых знаменитых актеров. Как неосмысленно, по-детски начинают они читать эту роль! Как косноязычны, как беспомощны в поисках нужной интонации, нужного жеста... И лишь путем медленного, очень медленного просачивания творение автора проникает в них, заполняет, а потом, совсем уже под конец, в какой-то вспышке гения, выливается из их разгоревшихся сердец. Мадемуазель Марс говорила так: «Меня еще недостаточно рвало этой ролью!» Эти слова открывают нам, сколько времени, труда, поисков понадобилось добросовестной актрисе, чтобы прийти к совершенству, к идеальному исполнению роли. И эта постоянная погоня за лучшим, это непрерывное напряжение мозга, эта душевная тревога, не прекращающаяся до самого дня премьеры, вызывают у женщин нервное состояние, еще никем не описанное, — нервное состояние, когда страх выражается у них при соприкосновении с людьми театра в каком-то болезненном, чрезмерном самоуничижении, готовом, однако, ежеминутно перейти в вспышку горделивого гнева. Так, Фостен, на какое-то замечание директора, ответила, удивив всех своей уступчивостью: «О, разумеется, если вы восприняли это так, стало быть, я ошиблась». Но эта смиренная фраза была произнесена резким голосом — голосом женщины, готовой выпустить коготки. Есть и еще одна особенность, которую следует отметить у актрис в период вынашивания роли и во время раздражающей и нудной работы репетиций: они, эти актрисы, словно окутаны атмосферой суровости, холодности, они становятся бесполыми. Кажется, будто они отказались от природного женского обаяния, которое сопутствует им во всех остальных областях жизни; они положительно теряют дар улыбки, они становятся похожими на серьезных деловых мужчин.
— Ничего, ну, решительно ничего не получается сегодня, — сказал директор, хлопая себя по ляжкам. — Умоляю вас, господа, дайте хоть немного жизни!
Был один из тех дней, какие нам преподносит иногда парижский климат, — один из дней, когда, неизвестно почему, живость и энергия парижанина как будто засыпают, один из тех вялых дней, когда люди, занимающиеся умственным трудом, бродят, как сонные мухи, и когда сам воздух столицы, обычно подстегивающий, возбуждающий, пьянящий, словно катит тяжелые волны лени.
И репетиция не подвигалась, и Фостен, репетируя роль, то и дело с досадой закусывала губу, и Ипполит, жалуясь, что у него «болит голос», заявлял, что не сможет нынче вечером играть, и Терамен каждый свой стих отмечал жалобным стоном, и суфлер дремал, а в паузах, когда умолкал текст Расина, слышно было, как ламповщик подолгу обдувал стекляшки люстры, которую он чистил, и та под его рукой издавала, вращаясь, веселый легкий звон, словно колье из драгоценных камней на шее у вальсирующей дамы.
Даже белая кошка, устав от прогулки по краю балкона, забралась под полурасстегнутую куртку механика, который уснул на складном деревянном табурете, согнувшись и положив подбородок на грудь.
— Вот что, — сказал директор, потеряв терпение, — все это плохо, очень плохо... Нет, сегодня из вас ничего не выкопаешь... Все вы какие-то кислые... Ничего не поделаешь, придется перенести на другой день.
Репетиция была прервана, раздался громкий топот ног, и Фостен, чьи глаза еще хранили отблеск кенкетов, очутилась вдруг на площади Пале-Рояль, испытывая то странное недоумение, с каким мы нередко спрашиваем себя, когда выходим из этих обиталищ ночи, действительно ли сейчас яркий день, или это только снится нам.
VII
— Сестра уже встала? — спросила однажды утром любовница Карсонака у некоей особы женского пола — домоправительницы своей сестры.
— Нет еще... Мадам читает газеты... Кажется, у нас никогда еще не было такой блестящей прессы... Все насчет вчерашнего бенефиса — да вы, наверно, и сами знаете.
— Ах, милая Генего! Как повезло моей сестре, что у нее служит такая женщина, как вы... А мою мне пришлось прогнать! Эта девица, — к тому же она собирается родить, — брала по десять франков с моих поставщиков за то, что извещала их всякий раз, как в доме появлялись деньги... И знаете, что эта язва сказала мне после того, как я предупредила ее об увольнении: «До свидания, сударыня. Надеюсь увидеть вас где-нибудь под забором, когда вы будете стоять с протянутой рукой!..» А как вы себя чувствуете, милая Генего? Ваша простуда уже прошла?
— Я совершенно здорова, — сухо ответила Генего, словно отгораживаясь от любезностей сестры своей хозяйки.
Генего, женщина лет пятидесяти, мужеподобная, в очках, постоянно красовавшихся у нее на носу, походила на дюжего деревенского стряпчего, наряженного в полотняный чепец, но, несмотря на сердитую физиономию, напоминавшую судейского с карикатуры Домье, она всегда была на страже интересов своей хозяйки и питала к ней ту фанатическую преданность, какую некоторые цельные натуры из народа испытывают иногда к своим господам, окруженным славою полубогов.
— Так, значит, можно войти?
Генего кивнула и открыла дверь.
Фостен была в постели, заваленной развернутыми театральными листками, еще пахнувшими типографской краской и громоздившимися кучей в одном месте, скользившими вдоль тонких полотняных простынь в другом и через каждые две-три минуты с шелестом сухих листьев падавшими на ковер. Лежа высоко, на двух подушках, с распустившимися темными волосами, обрамлявшими ее посвежевшее, улыбающееся, розовое от радостного волнения лицо, актриса читала, подняв колени и сделав из них нечто вроде пюпитра; только что, разрезая нетерпеливой рукой одну из газет с хвалебной статьей, она оборвала лямку сорочки, и теперь плечо и одна грудь ее были обнажены.
— Ты? Так рано? Что у тебя стряслось?
— Сейчас расскажу... Ну, а как ты? Довольна своими газетчиками?
— Один любезнее другого... И так ждут моего дебюта в «Федре», что я, пожалуй, могу загордиться... Но говори же, что тебя привело.
— Послезавтра мы даем большой обед... деловой обед, как ты, конечно, понимаешь... Прежде всего речь идет о том, чтобы устроить постановку новой пьесы Карсонака в венском театре... Ты ведь знаешь эту пьесу — в ней есть свежесть и много чувства... Мы будем иметь там успех... Но предстоит немало разных дипломатических ухищрений... Надо будет нажать на кое-какие кнопки... А тебя он хочет попросить о небольшой услуге — о какой-то там рекомендации... К тому же ты знаешь, какое значение он придает твоему присутствию... Правда, он не любит тебя... Но кого он вообще любит?.. Может, ты думаешь, что меня?.. Постой, постой! Тут что-то новое... Это очень мило! Я вижу, что провинция проявляет по отношению к тебе изысканную любезность.
И сестра начала рассматривать лежавшую на столике золотую ветвь — лавровую ветку, на каждом листике которой было выгравировано название сыгранной роли, с такой надписью:
Руанский Французский театр
Жюльетте Фостен
от ее почитателей
— Да, они прислали это на днях... совершенно неожиданно... в благодарность за несколько спектаклей, которые я сыграла у них летом, во время отпуска... но скажи, сестренка, тебе действительно так уж нужно, чтобы я пришла на этот обед?.. Видишь ли, то общество, которое у тебя собирается... оно мне немного противно.
— Мне тоже!.. Но для тебя мы пригласим, кого ты сама захочешь... Разумеется, приглашение относится и к Бланшерону.
— Ну, он-то не придет... Он уверяет, что ваш дом — это один из тех парижских домов, откуда всегда выходишь после обеда с расстроенным желудком.
— Да что ты! Неужели и правда наши обеды так уж плохи, Жюльетта?
— Ты ведь знаешь — у него свои особые теории насчет пищи... его не переделаешь... Ой, совсем забыла — ведь именно в этот вечер я обещала пригласить к обеду одного из его приятелей... Ты с ним знакома, вы встречались в Сент-Андрессе, — это маленький Люзи... а потом мы собирались вместе пойти в театр... Ну ничего! Я отправлю их одних... а как только они уйдут, приеду к тебе... А что твой Карсонак? Все такой же злой?
— Да может ли быть иначе?.. Человек, у которого начинается нервное расстройство... Он ведь каждый день прикладывает к спине сырое мясо... да, да, русский способ лечения... И ни минуты сна!.. Бедняга всю ночь ходит по комнате, как тигр в клетке... все время курит и пьет рюмку за рюмкой... Все это отнюдь не располагает к христианской кротости. В конце концов к ней легко привыкаешь, к этой собачьей жизни... и, может быть, мне бы чего-то недоставало, если бы он вдруг превратился в добродушного идиота... А знаешь что? Ведь ему это угрожает!.. Значит, ты обещаешь быть у меня на обеде, я могу рассчитывать на тебя? Но до чего ты мила сегодня!
И, шутливо бормоча: «Какая у тебя гладкая кожа... ну совсем как перила на лестнице в ломбарде», — Мария начала шаловливо водить губами по плечу Жюльетты, но та резко оборвала нежности сестры, сказав:
— Перестань, ты знаешь, что я не люблю такие шутки.
VIII
В десять часов, когда Фостен приехала к Карсонаку, обед был еще далеко не кончен. Снимая в прихожей накидку, она услышала громкие голоса и, войдя в столовую, увидела сестру: с разгоревшимся от гнева и от шамбертена лицом, выпрямившись во весь рост и опираясь обеими руками о стол, та кричала своему любовнику через головы двадцати пяти гостей:
— Старый рогоносец!
Потом женщина взмахнула руками, и нервная дрожь охватила все ее тело.
Приятельницы — целый батальон во главе с Брюхатой — схватили ее под мышки и утащили в туалетную комнату, откуда в продолжение нескольких минут слышались возгласы: «Свинья!» — чередовавшиеся с глухими всхлипываниями, за которыми, наконец, последовали слезы, поток слез.
— Лилетта, что тут случилось? — спросила Фостен, улучив момент, когда девушка проходила мимо нее, собираясь присоединиться к подругам.
— Что? Да то, что всегда... За первым блюдом Щедрая Душа была чертовски весела, за вторым она с истерическим возбуждением посматривала на всех мужчин... перед десертом поссорилась с Карсонаком... а за десертом начались слезы и рыдания... обычный ход событий!
Карсонак, молча, бесстрастно, с побледневшим жирным лицом, глотал, уткнувшись в тарелку, свою ярость и свой позор. Потом встал и в сопровождении нескольких близких друзей, принадлежавших к избранному мужскому обществу его круга, проследовал в свой кабинет.
В большой, совершенно пустой, но освещенной a giorno {Ярко (итал.).} гостиной не было никого, кроме одной женщины и двух молоденьких девушек, почти девочек, которые попали сюда в силу своеобразия светских отношений в Париже и которых эта женщина увела из столовой, чтобы уберечь их слух от бранных слов. Сумасбродная, но вполне порядочная, она стояла сейчас на большом круглом диване и занимала своих юных подружек тем, что вдруг со всего размаха падала навзничь, вскрикивая, как актриса, умирающая в пятом акте.
Несколько мужчин из числа обычных статистов званых обедов продолжали спокойно сидеть за столом и разговаривали, спрыскивая беседу вином.
Крупье из Монако рассуждал с дирижером оркестра, мужем Брюхатой, о трудности разведения скворцов. Врач с Гомбургских вод, молчаливый, как дипломат, каждые десять минут наливал себе рюмку, попутно наливая и своему соседу — актеру. Помешанный на духах, тот пил, уткнувшись носом в воротник фрака, где были у него зашиты палочки ванили. Высокий, бесцветный молодой человек, чье положение в обществе определялось выгодными знакомствами, перечислял семейные добродетели жен своих знакомых какому-то композитору с растрепанным хохолком, напустившему на себя безумный вид. Венский антрепренер болтал с матерью некоей танцовщицы — единственной женщиной, еще оставшейся в столовой среди мужчин. Она получила прозвище Гербовая Марка за фразу, которая немедленно слетала с ее языка, как только какой-нибудь завсегдатай Оперы чересчур усердно прижимался к ее дочери в танцевальной зале.
— Прекратите, пожалуйста, господин маркиз!.. — неизменно говорила она. — У меня как раз есть при себе гербовая марка.
Некий скандинав, который воображал, что написал пьесу на французском языке и у которого все было разборное — трость, бинокль, портсигар, — показывал неприличные картинки на внутренней крышке своих часов директору театра; у того было сейчас туго с деньгами, и он пытался узнать цену, которую готов был заплатить «неудобоиграемый» драматург за свою славу. А по другую сторону от иностранца сидел, прислушиваясь к их разговору, осветитель театра, главный кредитор директора, каждый вечер накладывавший с помощью судебного пристава арест на весь сбор и позволявший бедняге видеться со своими авторами только по воскресеньям.
И наконец, поставщик аранхуэсской спаржи, живой и остроумный, как все люди, много странствующие по свету, рассказывал своим сотрапезникам одну историю, которая произошла в его новом отечестве:
— Как-то утром, в Толедо, я пришел к хозяйке уплатить двенадцать пиастров — небольшую квартирную плату, которую я аккуратно вносил каждый месяц. Надо сказать, что старуха принадлежала к высшей испанской знати... Старинный разорившийся род... У нее было две дочери. Старшая — с черными как уголь бровями... командорша ордена святого Иакова... Этот орден уже не существует — он был уничтожен испанской революцией, — но она продолжала носить его облачение... Я так и вижу ее в этом капюшоне, в длинном белом платье, с большим красным крестом чуть не в ее рост... У другой дочери, помоложе, замужней, был сын лет пяти-шести... наследник имени... последний маркиз в их роде... самый избалованный мальчишка в мире, кумир всех трех женщин... Ну и капризы же были у этого человечка, ну и причуды — причуды тирана!.. Здесь, кажется, нет девиц? — спросил рассказчик, оглядев столовую. — Так вот, в тот день мальчишка забрал себе в голову посмотреть... посмотреть на то, что не показывает ни одна женщина и уж тем более — монахиня!.. Мать, вне себя от гнева, грозится высечь его. Тут малыш приходит в дикую ярость, весь трясется и кричит, словно его режут: «Qiero, qiero ver el culo de mi tia!» {Хочу, хочу видеть задницу моей тети! (исп.)} При этом он злится, плачет, задыхается. Мать зажимает ему рот рукой... бесенок кусает руку и вдруг начинает в судорогах кататься по полу, не переставая сквозь стиснутые зубы выкрикивать свою проклятую фразу... Тут открывается дверь, и в комнату с суровым видом входит бабушка... она с секунду смотрит на внука, у которого на губах выступила пена, потом говорит: «Последний маркиз нашего рода умирает... допустите ли вы, чтобы он умер, дочь моя?» («El ultimo marques de la familia muere. Le dejara de morir, hija mia?») Командорша ордена святого Иакова, неподвижная, как статуя, все это время не отрывалась от своего молитвенника, словно то, что кричал мальчик, не доходило до ее слуха. Но, боже мой, какой взгляд метнула она на мать после этого вопроса!.. Командорша взяла ребенка за руку и вышла с ним из комнаты... А через минуту последний маркиз рода с растерянным видом прошмыгнул между нашими ногами и выбежал на лестницу с такой быстротой, словно ему довелось увидеть самого дьявола...
В кабинете Карсонака серьезные люди, драматурги, сосредоточенно курили и хранили глубокое молчание, словно боясь, что кто-нибудь может украсть их замыслы. Только по временам самый веселый из всей компании вставал, по очереди подходил к каждому, на манер старого полишинеля почесывал ему затылок, а потом, очень довольный, снова садился на свое место. В глубине, в самой глубине затененной комнаты, вполголоса беседовали двое мужчин; один из них был совершенно скрыт клубами дыма своей сигары, и только голос его, казалось исходивший от бесплотного духа, с мрачной убежденностью повторял:
— Это недурно, но надо бы сделать купюры.
Карсонак, незаметно взяв шляпу, собрался уходить, как вдруг его поймал между двумя портьерами директор театра:
— Ничего не поделаешь с этим скандинавом! Больше двадцати тысяч франков у него не вытянешь!
— Дурак! Бери его рукопись и его двадцать тысяч франков... это костюмы и декорации. А я напишу тебе пьесу из той же эпохи, и сразу же после его провала ты поставишь мою...
Карсонак уже взялся за ручку двери в прихожей, но его задержал поставщик аранхуэсской спаржи:
— Карсонак, я участвую в покупке слона, привезенного в Картахену.
— Ну, а при чем тут я?
— Быть может, в твоей будущей пьесе ты смог бы как-нибудь использовать его... моего хоботоносого?
— Не знаю, абсолютно ничего не знаю на этот счет, — ответил Карсонак, но в глазах его внезапно вспыхнул огонек, который тотчас же погас.
— Не хитри... тебе до смерти хочется получить моего слона... но ты ведь знаешь, что меня не так-то легко провести... и получишь ты его только в том случае, если я буду иметь долю в пьесе.
— Ну, ладно, ладно, согласен... и доставь его сюда большой скоростью.
Побыв немного с сестрой в туалетной комнате, Фостен вернулась в большую гостиную к «женщине-акробату» и к двум девушкам. Одна из них, с бархатным взглядом и тяжелыми веками турчанки, в белом платье, на котором выделялось красное коралловое ожерелье, излучала то простодушие и наивность, ту готовность любить всех и все, какую можно встретить только у очень молоденьких девочек, живущих взаперти и лишь изредка, случайно, выезжающих в свет. Она рассказала о своем первом школьном увлечении, о своем романе с ящерицей. У ящерицы был ласковый и дружеский, совсем человеческий взгляд. Девушка всегда носила ее на груди, и, когда она играла на фортепьяно, зверушка высовывала головку из ее корсажа, чтобы быть поближе к музыке. Одна ревнивая подруга раздавила ящерицу, и, влача за собой свои маленькие внутренности, та приползла к своей хозяйке, чтобы умереть у ее ног. Она вырыла ей могилку и поставила маленький крестик. Теперь она больше не хочет ходить к обедне. Молитва уже не доставляет ей удовольствия. Ее вере пришел конец: бог оказался слишком несправедливым.
Оправившись от нервного припадка, Щедрая Душа просунула в полуоткрытую дверь туалетной комнаты совсем белое от рисовой пудры лицо, обозревая, кто из гостей еще остался. Затем она отважилась выйти и стала бродить по всему дому с какими-то странными, словно смеющимися, глазами, но с совершенно серьезным выражением рта. Она блуждала по комнатам, дразня мужчин своим тонким профилем, правильным носиком, изящно вырезанным ртом и задорными завитками на лбу, придававшими какую-то шаловливую и своеобразную прелесть ее бледному лицу.
Капризное, сумасбродное создание, натура изменчивая, пылкая, загадочная, жрица любви, совсем недавно пережившая ту горькую минуту, когда однажды утром женщина замечает у себя первую морщинку, Щедрая Душа, еще в тумане оставшегося опьянения, которого она хотела, которое искала, чтобы утопить в нем какую-то неотвязную мысль, продолжала дразнить то одного, то другого своей обворожительной мордочкой и полной тайны улыбкой. Бросая кому-нибудь ироническое замечание, она смягчала его интонацией, в которой слышались слезы. Даря ласковое слово другому, вдруг отпускала циничную шутку, превращая свою ласку в насмешку, но при этом голос ее порой начинал дрожать, словно у маленькой девочки под ударами розги. Змеино-гибкая, вызывающе красивая, эта сумасбродка, эта профессиональная «воспламенительница» мужчин, вдруг прижималась на миг к кому-либо из гостей, давая ему услышать биенье своего сердца, потом внезапно отрывалась и, упав в глубокое кресло, протягивала для поцелуев ножку, просвечивавшую розовым сквозь белый шелковый ажурный чулок.
И вдруг, окруженная поклонением мигом собравшихся вокруг нее мужчин, Щедрая Душа разразилась каким-то особенным смехом, предвещавшим торжественную расправу с одним из любовников — расправу, которую она любила совершать публично.
— Известно ли вам, как я называю теперь моего Плескуна?
Плескун — таково было первоначальное прозвище, придуманное для него Щедрой Душой, — являлся последним официальным ее обладателем, другом сердца трехнедельной давности.
— Я называю его «Командором ордена верующих»... Ну, скажите, разве моя кличка не идет этому простофиле?
И она вся затряслась от смеха.
— Скажите мне вот что, — тут же добавила она, — видел его кто-нибудь из вас после того, как он сломал себе передний зуб?.. Теперь это уже не рот, а настоящий люк.
И она захохотала громче прежнего.
— Мой любовник отлично пишет... Он стилист.
Щедрая Душа вынула из кармана два или три письма Плескуна и поцеловала их, одно за другим, с самыми забавными ужимками.
— Ничего не поделаешь, придется познакомить вас с его излияниями... Как вы знаете, мой Плескун — человек пунктуальный... Он пишет: «Вы должны принадлежать мне в три четверти восьмого...», нет, право же, его письма до того глупы... можно подумать, что он пишет их носом.
И Щедрая Душа принялась каждую свою фразу заканчивать детским «ням-ням»:
— О, господи, до чего у него тупой вид, когда он смотрит на меня влюбленными глазами, ням-ням... и все-таки он ни капельки не волнует меня, ням-ням... Как жаль, что сейчас не лето, я послала бы его решетом воду носить. Ведь этот дурачок на все согласен, ням-ням!.. Нет, я решительно не признаю выдохшихся мужчин... И никакой возможности его прогнать... Ведь я же говорила ему, что Карсонак ревнив.
И Щедрая Душа опять принялась хохотать.
— Получилась маленькая осечка... Я забыла предупредить Карсонака, и он пригласил его к обеду... Что поделаешь! Придется дать Плескуну расчет, как слуге, — ням-ням-ням...
В кабинете хозяина дома драматурги все еще курили, храня глубокое молчание на манер жителей Востока.
— Куда же все-таки запропастился Карсонак? — проговорил наконец один из них.
— Карсонак!.. Он пошел узнавать, каков сегодняшний сбор. Если б он не делал этой маленькой прогулки для пищеварения... Ну что — опять четыре тысячи пятьсот? — обратился он к Карсонаку, который как раз вошел в комнату.
— Сегодня ведь канун платежного дня. В такие вечера сбор всегда бывает ниже обычного, — с озабоченным видом ответил Карсонак. — А разве моя свояченица не с вами?.. Где же она, черт побери?
— В большой гостиной... она провела там с девочками весь вечер.
Карсонак прошел к Фостен и повел ее в кабинет, на ходу говоря ей:
— Значит, Щедрая Душа так и не представила тебе сегодня молодого де Бленвиля?.. Вот ленивица! Стало быть, она уже не работает на семью... В двух словах: нам не нужна эта Мареско... она больше не нравится публике... но ее поддерживают Марвиль и другие, — словом, все министерство, она натравила его на нас, и теперь оно хочет, чтобы мы отняли роль у Бланш Тоннерье... Черта с два! Я им прямо так и сказал... Но ты понимаешь, какая куча неприятностей может обрушиться на наши головы... Так вот — я пригласил молодого де Бленвиля, одного из твоих обожателей... Я бы напустил на него Щедрую Душу, но ее он не может видеть — даже на портрете... Этот юнец пользуется благосклонностью его превосходительства... говорят даже (только это, конечно, между нами), что он — один из его побочных сыновей... Окажи мне услугу — подзадорь его... Необходимо, чтобы он стал там нашей контрминой... сделай одолжение, постарайся, а? И не бойся немножечко разжечь мальчика... тебе это ничего не стоит, ему будет приятно, а нам полезно.
Представив актрисе молодого человека, Карсонак усадил их в угол дивана и отошел, делая вид, что не слушает их разговора, а сам внимательно к нему прислушиваясь.
Спустя несколько минут последняя сигара погасла во рту последнего курильщика в кабинете Карсонака. Тогда собравшиеся там мужчины начали подавать некоторые признаки жизни: они слегка зашевелились, и невнятные, односложные слова стали срываться с их губ. Один из них даже встал и, чтобы поразмяться, несколько раз обошел комнату, что-то напевая.
— Эге, старина, ты, оказывается, волочишь ногу. Да, да, ты волочишь ногу, — сказал один из драматургов.
Второй драматург. А что это такое?
Первый драматург. Это походка людей, у которых начинается сухотка спинного мозга... О, не волнуйся, у тебя еще только вторая стадия — двигательная атаксия, иначе говоря, нарушение координации мышечной системы.
Третий драматург. Да что ты! Знаешь, мой сапожник... кстати сказать, он сильно смахивает на могильщика... так вот, когда я в последний раз платил ему по счету, он сказал мне... и с такой, знаешь ли, ехидной улыбочкой... что теперь я снашиваю подметки до самого носка... Эх, черт, уж не симптом ли это, а?
Четвертый драматург. Надо будет и мне проследить... за своей обувью.
Пятый драматург. Скажите, господа, у вас бывает когда-нибудь такое ощущение, — идешь по мостовой, а кажется, будто идешь по мягкому, мягкому, мягкому ковру?..
Шестой драматург. Нет... этого у меня нет, но бывают дни, когда... просто смешно... хотя нет, пожалуй, и не так уж смешно... когда мне кажется, будто нервы, управляющие движением ног, это шнурки от марионеток, и они ослабли, отсырели... И при этом что-то такое происходит в затылке... не могу определить, что именно... А иногда, лежа в постели, я не совсем ясно представляю себе, где у меня ноги... Что, если это начало конца? Как ты думаешь, Карсонак?
— Ты подыхать — моя наплевать... Я помирать — мне жалко будет, — зло пошутил Карсонак, разыгрывая балаганного шута — негра. С самого начала разговора он все время потирал себе ноги, словно уже ощущая в них все явления, описываемые приятелями.
И, расспрашивая, ощупывая, выслушивая друг друга, отпуская шутки, за которыми чувствовалось беспокойство, — так ночью прохожий напевает, чтобы заглушить свой страх, — каждый начал рассказывать о подмеченных у себя симптомах той болезни, что зовется боязнью, навязчивой идеей и является темой послеобеденных бесед всех этих людей, чья жизнь исполнена нервных потрясений и чувственных соблазнов. Постепенно характер разговора изменился, и вместо туманных выражений пошли в ход такие термины, как артропатия, хронический склероз задних столбов спинного мозга, полный идиотизм, апоплексический удар, эпилептическое подергиванье лицевых мускулов, управляющих речью, и т. д. и т. д. — страшные слова, звучавшие как погребальный звон и придававшие этой маленькой пирушке веселость совещания врачей над распростертым в прозекторской трупом.
— Благодарствую, я ухожу, — сказала Фостен, выполнившая, хотя и не слишком усердно, поручение Карсонака. — Право, вы чересчур мрачны для меня, господа!
Сестру свою Фостен нашла в столовой, где Щедрая Душа кокетливо примеряла испанскую сетку для волос.
— Розалина непременно хочет видеть тебя, — сказала она Жюльетте. — Ей нужно посоветоваться о каком-то костюме для выхода в пятом акте... Надеюсь, ты ей не откажешь... Вот, накинь этот капор.
И обе женщины вышли вместе.
IX
Этот дом был устроен на манер гостиницы с ложей № 23 из рассказа Гофмана. Обе женщины спустились этажом нище, Щедрая Душа отперла своим ключом какую-то дверь, и сестры вошли во внутренний коридор театра, где мужчины отпускали любезности женским головкам, выглядывавшим поверх занавесок своих уборных. Затем актрисы выходили оттуда с жеманным выражением «Озябшей» Гудона, между тем как костюмерши, стоя сзади, застегивали им платье на спине.
Розалина была еще на сцене. В пустой уборной не было никого, кроме маленького сына любовницы Карсонака.
Пользуясь отсутствием актрисы и костюмерши, мальчуган, сидя перед туалетным столиком и орудуя губкой для белил, заячьей лапкой, банкой с румянами и карандашом для бровей, усердно гримировался «под старика», не забывая после каждого мазка отпить глоток смородинного сиропа из стакана, куда он вылил половину бутылочки, стоявшей на крышке кувшина с водой.
— Как, ты здесь, и так поздно, противный мальчишка? — крикнула мать, стащив сына со стула и энергично вытирая ему лицо платком. — Викторен! — позвала она проходившего по коридору служителя. — Забери малыша и отведи его к Зелии. Да скажи ей, что я велела немедленно уложить его спать... Однако, — добавила Щедрая Душа, взглянув на часы, — картина продолжается сегодня дольше обычного. Мне как раз надо тут кое с кем поговорить... побудь немного здесь, а я сейчас приведу к тебе Розалину.
Жюльетте немного нездоровилось в этот день. Она опустилась на жалкий диванчик орехового дерева, и, сидя в томительной духоте тесной комнатки, в одурманивающей атмосфере мавританской бани, охваченная лихорадочной сонливостью, какая всегда нападает на нас в этих лишенных воздуха и отравленных запахом газа закоулках театра, она невольно слышала доносившиеся до нее, словно издалека, обрывки разговора, который вела с кем-то высокая сухопарая женщина, стоявшая в дверях уборной.
— Да, — говорила женщина, — да, с восьми утра до пяти вечера заниматься шитьем в костюмерной, а с шести вечера до часу ночи одевать здесь... и все это за сорок франков в месяц... а директор уже три месяца не платит мне жалованья... чашка кофе — вот все, что попало за весь день в мой желудок... И еще хотят, чтобы, наряжая в бархат и кружева этих особ, которые объедаются индейками с трюфелями, я вкладывала в свое дело всю душу.
В то время как в ушах Фостен смутно звучали слова костюмерши, перед ее полузакрытыми, застланными сонной дымкой глазами стояли предметы разнокалиберной обстановки уборной: маленькая белая изразцовая печка с трубой, выходившей в соседнюю комнату, дешевенький, выкрашенный в черный цвет туалетный столик — настоящая конторка письмоводителя у судебного пристава, большое зеркало с двумя ослепительными газовыми рожками по обеим сторонам, а под зеркалом огромный рисунок карандашом, на котором выделялось имя гадальщика Клавдия, окруженное четырьмя толстощекими амурами, из чьих губ, вместо дыхания, вылетали, наподобие четырех ветров, четыре слова: Счастье, Здоровье, Успех, Богатство.
И люди, которых Фостен видела мельком через полуоткрытую дверь, люди, сновавшие взад и вперед по коридору и спешившие на зов других, невидимых людей, звавших их далеко, туда, откуда доносился громкий гул, напоминавший грозный ропот морского прибоя, — эти люди казались ей какими-то автоматами, которые суетились в доме умалишенных и с серьезным видом совершали самые непостижимые вещи.
Фостен решила стряхнуть с себя это оцепенение и вместе с ним — наваждение всех этих видений и звуков. Сделав усилие и с трудом выходя из своей апатии, она провела рукой по кушетке, нащупала клочок бумаги — обрывок какой-то газеты — и принялась читать его.
Газета была напечатана на том языке, который она изучила в Шотландии, среди поцелуев, закрывавших ей рот, когда она неправильно произносила слово.
И вдруг Фостен вскочила, словно ее внезапно разбудили. Быстро окинув взглядом уборную, она обшарила все углы, потом с незаурядной силой, какую никак нельзя было предположить в этом хрупком существе, начала приподнимать и передвигать всю мебель. Кушетка была вделана в стену. Фостен схватила спички и, растянувшись на полу, прикрыв огонек ладонью, стала другой рукой перебирать мусор и паутину.
— Ты что, с ума сошла? Что это ты делаешь? — воскликнула сестра, входя в уборную вместе с Розалиной и костюмершей и застав Фостен за этим занятием.
Та мгновенно вскочила на ноги и бросилась к Розалине:
— Как попал сюда этот клочок бумаги?
— Этот клочок? Не знаю... Ах да, вспомнила, это от английской газеты, в которую была завернута шелковая вязаная фуфайка... ну, знаете, такие тоненькие фуфайки — как паутина... мне ее прислали из Англии несколько дней назад.
— А название газеты? Скажите мне ее название... или хотя бы дату... что это — вчерашняя газета или, может быть, ей уже несколько лет?.. Ах, узнать о такой вещи и не иметь представления, когда это случилось... и ведь в этом обрывке недостает конца... вот здесь, смотрите, здесь, внизу. — Она обернулась к костюмерше: — Два луидора, если вы найдете мне этот кусочек... видите? Вот здесь.
— Господи, два луи! — повторила сухопарая женщина, глубоко потрясенная. — И подумать только, что я растопила этой газетой печку!
— Но что же такое ты нашла в этой газете? — спросила у Фостен сестра.
— Ничего... нет, нет, ничего... в другой раз я сделаю все, что вам нужно, Розалина... вы ведь отдадите мне этот клочок бумаги?
И, не слушая, не отвечая, Фостен вышла из театра и побежала по лестнице. Здесь, почувствовав наконец, что она одна, под лампочкой, освещавшей второй этаж, свесившись всем телом за перила и рискуя упасть, она начала изучать обрывок газеты, где после имени Уильяма уцелели первые три буквы фамилии, похожей на фамилию ее прежнего возлюбленного.
Сойдя вниз, Фостен знаком приказала кучеру ехать за ней следом, а сама побрела по темной набережной неверной и шаткой походкой женщины, которая решила ночью броситься в Сену. Редкие прохожие оглядывались, провожая ее взглядом. И под каждым газовым фонарем она протягивала к мерцающему свету свой загадочный клочок бумаги, всякий раз надеясь вырвать у него тайну.
— Да я и вправду сошла с ума!.. Ведь так легко узнать то, что мне нужно! — внезапно вскричала она и села в свою карету, помчавшую ее домой.
Дома Фостен села за письменный столик, написала какое-то письмо, разделась без помощи горничной, но, вместо того чтобы лечь в постель, принялась раздетая ходить взад и вперед по своей спальне и ходила долго, очень долго, не замечая времени.
Ночью Фостен приснилась статья, которую она прочитала: охота на тигра, устроенная вице-королем Индии, — охота, в которой оказался один раненый, и у этого раненого все время менялось лицо: то это было лицо Уильяма Рейна, то лицо незнакомого мужчины.
Утром, затопив у своей госпожи камин, Генего наклонилась над каминной доской и шепотом начала разбирать по складам: «Господину... господину... первому секретарю английского посольства».
— Это письмо надо отнести, сударыня? — уже громко спросила она.
Фостен приподнялась на постели и, охватив ладонями голые локти, с минуту молчала, а потом ответила Генего:
— Брось в огонь и письмо, и клочок газеты, что лежит с ним рядом.
Затем она снова откинулась на подушку и проговорила, точно обращаясь к стене:
— Нет, нет, я не хочу уверенности, какой бы она ни оказалась... я боюсь ее... лучше уж жить в неведении... и не терять возможности надеяться.
Однако с этого дня Фостен, хоть и не желая ничего знать, представляла себе Уильяма не иначе как в романтическом ореоле героев Жозефа Мери, а белую кожу англичанина видела разодранной лапой свирепого тигра.
X
— Повторим большую любовную сцену второго акта, — сказал директор в конце третьей репетиции.
Актриса.
Вот он...
Режиссер. Хорошо... очень хорошо... но все-таки не повторить ли нам еще раз?.. Понимаете... при виде Ипполита вас охватывает страх, но в то же время... в то же время вас влечет к нему какая-то высшая сила... Эту сцену, как мне кажется, надо начать с большей глубиной чувства.
Актриса.
Вот он!.. Вся кровь на миг остановилась в жилах!
И к сердцу хлынула. Припомнить я не в силах
Ни слова из того, что я должна сказать.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ты покидаешь нас? Не сетуй на докуку,
Но я к твоим скорбям свою прибавлю муку:
За сына я боюсь.
Режиссер. Вот, вот... та самая нотка женского лицемерия, которое и есть в этих строках.
Актриса.
Лишился он отца...
Режиссер. Это очень важное место: «Лишился он отца». Эти слова надо произнести так, чтобы в них чувствовалась какая-то затаенная мысль.
Актриса.
Уже недолго ждать и моего конца, —
Тогда останется одна ему защита
От сотен недругов: лишь дружба Ипполита.
Но...
Режиссер (у него привычка бормотать себе под нос, и Фостен большей частью, по-видимому, даже и не слушает его). Здесь резкий переход и понижение голоса на слове «но».
Актриса.
Но мысль ужасная мой угнетает дух:
Что к жалобам его останешься ты глух,
Что, ненавидя мать, — а есть тому причина, —
Свой справедливый гнев обрушишь ты на сына.
Режиссер. Твоя реплика, Ипполит, — помни, это век Людовика Четырнадцатого.
Директор (стоит, облокотясь на деревянную лесенку, перебрасываемую на время репетиций из залы на сцену, и стучит тростью по ступенькам, когда тирада произносится без подъема). Простите, вам, конечно, известен прием, который ввела в этом месте мадемуазель Клерон? Услышав голос Ипполита, она слегка вздрагивала.
Актриса.
Не смею сетовать на неприязнь твою...
— Нет, не то, не то... одну минутку... кажется, нашла... нет. — И, сердито одернув обеими руками кончики своего корсажа, Фостен спросила у режиссера: — Ну, а как бы прочли это место вы, вы сами?
Режиссер. Нет, я не стану читать его... мне бы хотелось, чтобы это сделали вы... но в той интонации, которую я здесь чувствую... Вот что, произнесите эти слова совсем непринужденно, так, как вы разговариваете в жизни... А теперь — в более возвышенном тоне... вот-вот, превосходно!
Директор. О, работать с вами! Вы ведь все понимаете с полуслова и сразу же даете больше, чем от вас хотят.
Актриса.
Не смею сетовать на неприязнь твою.
Известно, что терпел ты от меня гоненья.
Но сердца моего...
Режиссер. Вот это «Но сердца моего...» надо произнести более значительно... а теперь, до конца монолога, подчеркнем ритм.
Актриса.
Но сердца моего ты знал ли побужденья?
Я не могла снести, чтоб ты жил там, где я,
И ты отправлен был в далекие края.
Я говорила всем, и тайно и открыто:
Пусть море отделит меня от Ипполита.
Добилась я: запрет наложен был царем
Тебя упоминать в присутствии моем,
И все же...
Режиссер. Тут некоторое понижение тона.
Актриса.
И все же, если месть с обидой соразмерить,
Злом лишь за зло платить, — ты можешь мне поверить,
Что, пораженная несчастьем...
Режиссер. Раз, два... и отчеканьте последний стих.
Актриса.
...я скорей
Достойна жалости, но не вражды твоей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О нет, царевич! Пусть таков закон всеобщий, —
Он, волею небес...
Режиссер. Надо выделить, выделить слово «небес»... оно здесь имеет особое значение... а дальше пойдет в тоне умиления.
Актриса.
Он, волею небес, не властен надо мной.
Нет, я томлюсь теперь заботою иной!
— ...Томлюсь, томлюсь, томлюсь... — повторяла Фостен и, наконец, после третьего «томлюсь» вскричала: — Ага, вот оно! Кажется, я поймала ту интонацию, которой вы добивались от меня на прошлой репетиции.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Двукратно не войти в обитель мертвецов,
И если там Тезей, то милости богов
Не жди. Ужель Аид нарушит свой обычай
И алчный Ахерон расстанется с добычей?
Но что я говорю? Тезей не умер! Он —
Со мною рядом... здесь... В тебе он воплощен...
Его я вижу, с ним я говорю...
Директор. Отлично, отлично... Это говорится словно в какой-то галлюцинации.
Актриса.
...Мне больно!
Свое безумие я выдала невольно.
Режиссер. Чуть больше ударения на слове «невольно». Ведь это «невольно» — характерно для Афродиты, для страшной и грозной Афродиты, которая говорит в сторону, как бы для себя самой. — И, внезапно развеселившись, режиссер добавил:
Ужель, Афродита, тебя веселит,
Когда добродетель кувырком, кувырком летит?
Актриса.
Ты прав, царевич! Да! Любовью пламенея,
Как прежде, я стремлюсь в объятия Тезея,
Но Федрою теперь любим не тот Тезей,
Усталый ветреник, раб собственных страстей,
Который в ад сошел, чтоб осквернить там ложе
Подземного царя. Нет, мой Тезей моложе!
Немного нелюдим, он полон чистоты...
Режиссер. «Он полон чистоты» вы произнесли именно так, как нужно. А все вместе вполне передает чувство женщины, окончательно закусившей удила.
Директор. Это не хуже, чем когда-то у Рашели, а уж та... И, пожалуй, «немного нелюдим» звучит у вас даже лучше, чем у нее, как-то более изящно.
Актриса.
Он горд, прекрасен, смел... как юный бог!.. Как ты!
Режиссер. Больше влюбленности, больше экзальтации... и, если это возможно, постарайтесь, чтобы чувствовалось еще более жгучее стремление приблизиться к любимому человеку.
Актриса.
Таким приплыл на Крит Тезей, герой Эллады:
Румянец девственный, осанка, речи, взгляды —
Всем на тебя похож. И дочери царя
Героя встретили, любовь ему даря.
Но где был ты? Зачем не взял он Ипполита,
Когда на корабле плыл к побережью Крита?
Директор. Разрешите сделать небольшое замечание... Хотелось бы, чтобы в вашем чтении все время выделялась структура наших великолепных симметричных двустишии, равновесие которых зиждется на двух одинаковых созвучиях и на двух равных полустишиях.
Актриса.
Ты слишком юным был тогда, и оттого
Не мог войти в число соратников его.
А ведь тогда бы ты покончил с Минотавром
И был за подвиг свой венчан победным лавром.
— Дальше! — бросила суфлеру Фостен, забывшая следующую строчку и чем-то раздосадованная в содержании монолога, о чем она умалчивала.
Затем продолжала:
Моя сестра тебе дала бы свой клубок,
Чтоб в Лабиринте ты запутаться не мог.
Но нет! Тогда бы я ее опередила.
Любовь бы сразу же мне эту мысль внушила,
И я сама, чтоб жизнь героя сохранить,
Вручила бы тебе спасительную нить.
Нет, что я! Головой твоею благородной
Безмерно дорожа, я нити путеводной
Не стала б доверять. Пошла бы я с тобой,
Чтобы твоя судьба моей была судьбой!
Сказала б я тебе: за мной, любимый, следуй,
Чтоб умереть вдвоем или прийти с победой!
Директор. Превосходно. Особенно последний стих. Он словно вырывается из души второго возлюбленного Дидоны.
Актриса.
Нет, не присуща мне забывчивость нимало.
Режиссер. Не лучше ли было бы, если б после этих слов вы резко отступили назад?
Актриса.
Ужели этим честь свою я запятнала?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...О нет, все понял ты, жестокий.
Что ж, если хочешь ты, чтоб скорбь мою и боль
Я излила до дна перед тобой, — изволь.
Да, я тебя люблю. Но ты считать не вправе,
Что я сама влеклась к пленительной отраве...
Директор. Здесь надо более выпукло оттенить душевные муки.
Актриса.
...Что безрассудную оправдываю страсть.
Нет, над собой — увы — утратила я власть!
Я, жертва жалкая небесного отмщенья,
Тебя гневлю, себе — внушаю отвращенье.
То боги!.. Послана богами мне любовь!..
Режиссер. Выделите слово «богами». Слово «боги» намеренно повторяется дважды в одной строке.
Директор. Да, да. Подчеркните слово «богами»... В этой сцене не должно чувствоваться плотское безумие... не надо ни малейшей истерии... вам незачем быть актрисой, которая подлаживается под вкусы толпы... ваш талант выше этого... играйте жертву рока, женщину, не выдержавшую тяжести мщения богов... Такова традиция, великая традиция Французского театра.
Актриса.
О боги!.. Послана богами мне любовь,
Мой одурманен мозг, воспламенилась кровь...
Но тщетно к ним в мольбе я простираю руки,
Взирают с радостью они на эти муки.
Чтоб не встречать тебя, был способ лишь один, —
И я тебя тогда изгнала из Афин.
Тут Фостен прервала свою тираду и, с той же интонацией, с тем же пафосом, обратилась к Ипполиту:
— Да не смотрите же на меня так. У вас должен быть такой вид, словно вам отвратительна моя любовь, вы должны отвернуться. Иначе у меня не будет никакого повода сказать вам: «Но нет, ты на меня поднять не хочешь глаз».
Ждала я, что в тебе укоренится злоба
К твоей обидчице, и мы спасемся оба.
Что ж, ненависть твоя росла, но вместе с ней
Росла моя любовь.
Режиссер. «Росла моя любовь» — более мягким голосом, а?
Актриса.
К тебе еще сильней
Влекли меня твои безвинные мученья;
Меня сушила страсть, томили сновиденья.
Взгляни, и ты поймешь, что мой правдив рассказ.
Но нет, ты на меня поднять не хочешь глаз.
Кто б из живых существ мой жребий счел завидным?
Не думай, что с моим признанием постыдным
Я шла сюда к тебе. О нет, просить я шла
За сына, чтоб ему не причинял...
Директор. Расчлените, дорогая, это «чтоб ему» так же, как «я шла сюда к тебе» в предыдущей фразе. А то вы съедаете эти три слога, и получается не очень хорошо... тут есть что-то простонародное.
Актриса.
...просить я шла
За сына, чтоб ему не причинял ты зла.
А говорю с тобой лишь о тебе. О горе!
Тобой я вся полна, и с сердцем ум в раздоре.
Что ж, покарай меня за мой преступный пыл.
Немало твой отец чудовищ истребил;
И ты с лица земли, сурово и жестоко,
Сотри чудовище, исчадие порока,
Тезееву вдову, томимую — о стыд! —
Любовью к пасынку!
Директор. Да, здесь непременно надо дать почувствовать дочь Пасифаи.
Актриса.
Пускай твой меч пронзит
Ей сердце грешное, что жаждет искупленья
И рвется из груди к мечу, орудью мщенья.
Рази!..
Режиссер. Первая развязка... А отсюда и до конца сцены — rinforzando. {Все усиливая (итал.).}
Актриса.
Рази! Иль облегчить моих не хочешь мук?
Иль кровью мерзкою не хочешь пачкать рук?
Что ж, если твоего удара я не стою,
И не согласен ты покончить сам со мною, —
Дай мне твой меч!
И Фостен, резко оборвав, язвительно бросила Ипполиту:
— Однако не могу же я лезть за мечом под вашу тунику... Этот жест для меня крайне затруднителен... Своей позой вы должны дать мне возможность для такого движения, которое бы не было ни шаблонным, ни вульгарным.
XI
Глубокое проникновение в роль Федры, одержимость этой трагедией, усилие, которое делала над собой актриса, чтобы воспламениться великой страстью исступленной легендарной царицы, — все это зажгло в теле Фостен (явление, чаще встречающееся в театре, нежели принято думать) то же пожирающее пламя, которое сжигало жену Тезея.
Она сама удивлялась теперь той полноте чувств, тем вибрациям, той волнующей радости, какую вызывали в ней внешние впечатления, как, например, жадно вдыхаемый аромат сорванного цветка, и, полузакрыв глаза, с дрожащими ресницами, словно прислушиваясь к какому-то неясному шуму в ушах, похожему на тот, что сохраняется внутри морских раковин, Фостен проводила долгие часы, погрузившись в жгучие мечтания, отдаваясь кипенью мозга, которое еще не мысль, и ее неудовлетворенное, созданное для любви тело вздрагивало от легких чувственных разрядов. Яростная потребность любить, обратившаяся сначала к воспоминанию об Уильяме Рейне, продолжала жить в ней, но теперь уже неукротимая, беспредметная, готовая излиться на кого угодно. Связь с Бланшероном была добропорядочна, спокойна, привычна, и, подобно иным замужним женщинам, долгое время остававшимся безупречными, трагическая актриса вдруг почувствовала внезапное, непреодолимое желание изменить с первым встречным, с тем, кого пошлет всесильный Случай.
И вот теперь, перед спектаклем, Фостен была в таком состоянии, в каком бывает женщина, когда, после чтения эротического романа, она лежит на скамейке в аллее парка, среди воркующих голубей и истомленных зноем растений, вдыхает горячий предгрозовой ветер и тихо зовет в своих мечтах дерзкого прохожего.
XII
Это своеобразное физическое возбуждение в известной мере разжигалось самим направлением мечтаний Жюльетты, мысленными возвратами к прошлому, сообщничеством ее мозга. Актрису не покидала мысль, что если все ее существо не будет взволновано случайной страстью, бурным порывом, мимолетным и жгучим увлечением, каким-нибудь внезапным переворотом в повседневной рутине ее женского существования, то она не найдет в себе той нежности, той пылкости, того огня — словом, тех драматических средств, каких требовала пламенная роль Расина. Более того, она начала спрашивать себя, уж не притупила ли эта спокойная, безмятежная, безбурная жизнь, в сущности говоря, жизнь замужней женщины, — не притупила ли эта жизнь ее способностей, не ослабила ли напряженности ее игры, не ограничила ли смелости ее дерзаний; ей начало казаться, что в последних своих ролях она не проявила всей той мощи, всего мастерства, всего своеобразия, каких зритель вправе был от нее ожидать. Она переносилась мыслью к началу своей театральной карьеры, к годам нужды и быстро проходивших увлечений, к беспокойной, кипучей жизни, до краев полной любовных тревог и сердечных драм, и припоминала, что именно к этим трудным, лихорадочным годам относились самые блестящие ее успехи, самые яркие триумфы, роли, созданием которых она могла более всего гордиться. И одновременно с этими неотвязными мыслями ей, помимо воли, приходили на ум всевозможные циничные теории ее сестры — о так называемой «гигиене» одаренной женщины, о мужском начале, заложенном в натуре артистки, будь то певица или драматическая актриса, об «испорченности» сильного пола, которою природа наделила такого рода женщин, и, наконец, о потребности в распутстве, составляющей в какой-то мере часть их гения.
Бывали минуты, когда без всякой причины ее вдруг охватывало безрассудное романтическое желание бросить это ровное беззаботное существование, пойти на внезапный разрыв с Бланшероном, продать свой особняк, послать ко всем чертям семейный уют, и тогда, одним ударом разорвав все эти буржуазные путы, пустив по течению все это благопристойное «счастье», вновь поселиться в глухом квартале, в маленькой квартирке своей юности, на дверях которой она только на днях видела билетик о сдаче внаем, и снова отдаться молодым, свободным, взбалмошным увлечениям прежних дней, а потом приносить на сцену отражение радостей и печалей этой лихорадочной, вновь забившей ключом жизни.
XIII
В полумраке сцены виднелся на заднем плане Трезенский дворец дорической архитектуры, созданный театральным декоратором. Из-за кулис выходили в туниках, хламидах и паллиумах с широкими тяжелыми, складками женщины и мужчины, говорившие нараспев и воспроизводившие смелые жесты героев умерших поколений. Казалось, это тени древних греков завладели в бледном свете дня подмостками театра и произносят звучные торжественные строфы, немного странные для слуха людей XIX века. Тут была Федра, жена Тезея, дочь Миноса и Пасифаи, в своей звездной тунике и с золотой повязкой на голове; был Ипполит, сын Тезея и Антиопы, царицы амазонок, облаченный в звериную шкуру и точно такой, как на картине Герена; была Арисия, афинская царевна; был старый Терамен, наставник Ипполита, в темном своем плаще; была Энона, кормилица и наперсница Федры; были также Исмена и Панопа.
И вот в скудно освещенной, унылой и пустой зале, где сидело во мраке не более тридцати человек, зазвучали, чередуясь с волнующей пантомимой, александрийские стихи, зашелестели развевающиеся одежды и потекло величественное действо благородной трагедии; все это очень походило на ту античность, какой ее воспроизводит какая-нибудь картина, удостоенная Римской премии и выставленная для обозрения в полутемном подвале, дрожащем от грохота фиакров.
А в маленькой афише, висевшей в коридорчике актерского фойе, это называлось «репетицией в костюмах» — последней репетицией «Федры».
После пятого акта все мужчины и женщины, занятые в трагедии, вприпрыжку выбежали из залы и рассыпались по всему театру, радостно оживленные, болтая друг с другом, размахивая руками и еще сохраняя в своей жестикуляции что-то от недавней игры.
Фостен прошла в актерское фойе, и здесь, при ярком дневном освещении, греческая царица полушутя-полусерьезно устроила сцену старому художнику, человеку весьма одаренному и своему большому другу, который любезно сказал ей еще тогда, когда она только принималась за роль Федры: «Вашим костюмом займусь я сам — сам нарисую его, сам скрою, сам сделаю!» И вот после продолжительных совещаний вдвоем в кабинете эстампов; после того, как они остановились на одном из трех эскизов, нарисованных художником акварелью; после того, как вместе наблюдали за выполнением костюма театральным костюмером, — этот костюм, тысячу раз примеренный, исправленный и переделанный, тот самый костюм, который актриса до сих пор находила прелестным, сегодня вдруг показался ей ужасным.
— Ты только посмотри, мой старый зверюга, ведь он мне не идет, ну ни капельки не идет... неужели он может тебе нравиться? Ведь это же плоско, как доска... да еще в морщинах.
— Детка моя, но ведь это туника, понимаете — туника!.. И вспомните — я ее сделал в точности по тому барельефу, который мы смотрели вместе с вами, по барельефу с виллы Боргезе.
— С виллы Боргезе, с виллы Боргезе... Да ведь тогда еще не носили юбок, а теперь мы их носим — в том-то и закавыка!.. Не могу же я, мой старый зверюга, для твоего удовольствия надеть эту тунику прямо на кожу!
— Но вы же сами... вы сами просили, чтобы в костюме чувствовался античный стиль, чувствовалась эпоха!
— Да, разумеется, эпоха... но только с юбкой... А потом — цвет всех этих тканей... разве тебе нравится этот цвет? — спрашивала она озабоченным тоном, думая в эту минуту, как и всякая актриса, о туалетах других женщин, играющих вместе с ней. — А мне больше по душе цвет той туники, что носит Арисия... Твои краски, видишь ли... это краски художника... они скорее годятся для картины.
Немного раздосадованный, с легким дружеским презрением, проскальзывавшим в улыбке и в выражении глаз, старый художник начал было говорить Фостен об исторической правде, но великая артистка ответила ему как истая женщина:
— Знаешь что, старый мой зверюга, плевать мне на твою историческую правду... Прежде всего надо быть красивой, — это главное. Премьера состоится только послезавтра, и ты должен договориться с костюмером, чтобы он сделал в моем костюме небольшие... нет, большие изменения... Пусть здесь он сделает так... вот эти складки должны падать более изящно... а цвет — ну а цвет ты сделаешь мне немного повеселее — идет?
И, желая разгладить сердитые морщины на лбу своего старого зверюги, она вдруг подобрала обеими руками полы туники, качнула бедрами на манер испанской танцовщицы и в своем строгом античном одеянии лихо проплясала перед ним несколько па качучи.
XIV
Сон, ежеминутно прерываемый внезапными пробуждениями, когда спящая вдруг вскакивает на своем ложе и на губах ее еще звучат стихи, которые она только что произнесла вслух в лихорадочном забытьи, — таков сон актрисы перед первым представлением, таков был и сон Фостен в ночь после генеральной репетиции, в течение долгих ночных часов, когда спящая была влюбленной героиней расиновской трагедии.
Рано, очень рано она вскочила с постели, не в силах превозмочь бессонницу и тревогу, которая заставляла актрису без конца метаться на простыне в поисках прохладного местечка, еще не успевшего согреться от прикосновения ее разгоряченного тела.
Накинув пеньюар, она открыла окно и облокотилась на подоконник.
На дворе шел снег, но воздух был совсем весенний, и этот снег, подхватываемый южным ветерком, нисколько не походил на зимний. Напротив, в нем была теплая, ласковая белизна бледных цветов, белизна распускающихся рождественских роз. Этот снег освещался каким-то молочным сиянием, похожим на свет алебастрового ночника, и весь этот мягкий белый день был исполнен неги, почти сладострастия.
Фостен вдруг захотелось окунуться в эту белизну, почувствовать на лице освежающее дуновение снежного ветерка. Как раз накануне сестра поручила ей попросить Бланшерона проделать одну маленькую операцию на бирже, но случилось так, что она весь день не виделась с ним. Решено: она сама передаст своему любовнику эту просьбу, и кстати, нанесет ему утренний визит.
И вот Фостен уже на улице, навстречу ей идут прохожие. Но это не те зимние прохожие, которые вечно торопятся, мерзнут, сердятся, — нет, это веселые, жизнерадостные люди, которые идут куда-то без определенной цели, это юноши, мурлыкающие любовные песенки, это молоденькие модистки, которые несут корсет, завернутый в газету, и чему-то улыбаются, ничего не замечая вокруг.
Когда, пройдя всю Амстердамскую улицу, Фостен дошла до дома, где у Бланшерона была квартира в нижнем этаже, и уже собиралась позвонить, привратница сказала гостье:
— Господина Бланшерона нет дома, сударыня. Он в фехтовальной зале.
Фостен прошла под аркой и миновала садик, в глубине которого Бланшерон выстроил изящный павильон, где ежедневно брал уроки фехтования.
В фехтовальной зале Фостен застала только учителя фехтования, который поднимал с полу рапиры и другие разбросанные вещи.
— Как? Никого нет? — спросила утомленная от ходьбы Фостен, опускаясь на скамейку.
— Нет, — ответил учитель, поднимаясь с полу в своих взмокших от пота тиковых панталонах и обращая к ней молодое лицо, еще разгоряченное от недавней борьбы. — Нет, господин Бланшерон только что ушел с одним из своих приятелей, которому предстоит драться на дуэли... тот приходил немного потренироваться... Ну, знаете, он не из слабеньких, этот субъект... мне пришлось с ним повозиться!
— А, это что-то новое! — воскликнула Фостен, показывая рукой, с которой она до половины стянула перчатку, на щит со старинными и современными шпагами, и принялась рассматривать их с усталым видом, не вставая со своего удобного места.
— Так вы говорите — он ушел? — слабым голосом повторила она несколько минут спустя, и ноздри ее чуть заметно затрепетали.
В этой зале, где только что происходило состязание, где яростно расходовалась мышечная энергия, где капельки пота дерущихся покрывали пол, в этой зале, еще полной испарений Силы, от всего — от нагрудников, от сандалий, от всей этой пропитанной потом кожи — исходил дымящийся, звериный, возбуждающий запах мужчины, который раздражает чувственность женщины в иные смутные и волнующие часы.
Фостен встала, подошла к дверям, но, вместо того чтобы уйти, несколько раз обошла комнату и в конце концов снова села на прежнее место.
Учитель фехтования продолжал разбирать фехтовальные принадлежности и переносить их в темный чуланчик, находившийся на другом конце комнаты.
У него были короткие рыжие волосы в мелких завитках, маленькие жесткие усики, мужественное и красивое лицо какого-нибудь наемного убийцы при дворе Валуа, белая, крепкая, как у молодого быка, шея и по-кошачьи гибкие, упругие движения, от которых веяло терпким запахом молодости.
Фостен смотрела на него, и, в то время как она на него смотрела, какие-то теплые волны приливали к ее глазам, а на висках — она чувствовала это — начали пульсировать жилки.
— Господин Бланшерон не говорил вам: он вернется сюда? — уронила Фостен после долгого молчания, чтобы что-нибудь сказать.
— Нет, — ответил молодой человек, продолжая заниматься своим делом и не замечая внимания женщины.
Фостен не вставала с места, прикованная к скамейке какой-то магнетической силой.
И вот мало-помалу окружающие предметы завертелись перед ее глазами, неясные образы замелькали в опустошенном мозгу, ее стало бросать то в жар, то в холод, дыхание участилось, как перед грозой. Умственное возбуждение, связанное с ролью, всецело перешло в физическое, воля исчезла, и во всем ее разгоряченном и в то же время расслабленном существе не осталось ничего, кроме чувственного желания, кроме животного, молодого тяготения к самцу; но вместе с тем что-то в ней глухо сопротивлялось, вся она словно окоченела, замерла и сидела совершенно неподвижно, судорожно стиснув колени, словно для защиты от самой себя.
И женский взгляд — взгляд женщины, для которой наступила такая минута, взгляд, словно отягченный сном или вином, хмельной взгляд из-под тяжелых век, приковался к молодому учителю фехтования.
— Вы... — начала она и вдруг умолкла.
— Что, сударыня?
— Ничего, — глухо ответила она.
Но глаза их встретились... молниеносно сказали все друг другу... мужчина взглядом указал на темный чулан, а женщина поднялась со скамейки и, покорно опустив плечи, как побежденная, пошла за мужчиной.
Однако дверь тут же распахнулась снова, и Фостен выбежала в большую комнату, спасаясь от преследовавшего ее мужчины, который с горящими глазами пытался насильно загнать ее обратно во мрак чулана. Она боролась с ним, била по лицу, защищалась с такой яростной энергией, словно нападавший внушал ей глубокое отвращение. Наконец, последним отчаянным усилием, она вырвалась из его рук и в разодранном платье бросилась в садик, куда с порога фехтовальной залы до нее долетел удивленный и гневный возглас молодого человека:
— Вот и пойми этих женщин! Сначала сама вешается на шею, а как дошло до дела — она на попятный!
XV
— Получила твою записку и вот — сразу же прибежала! — сказала Щедрая Душа, входя к Фостен на следующее утро после сцены в фехтовальной зале. И, устремив на сестру испытующий взгляд следователя, Щедрая Душа спросила:
— Уж не совершила ли моя целомудренная сестрица какого-нибудь безнравственного поступка?
В полумраке маленькой гостиной, где были закрыты все ставни, трагическая актриса лежала на полу, на ковре, в позе, говорившей о глубоком унынии и упадке духа; волосы ее распустились, ночные туфли без задков были надеты на босу ногу, а тело под поникшими складками пеньюара, словно оплакивавшими свою хозяйку, казалось надломленным и бессильным.
Увидев сестру, Фостен спрятала лицо в жестких кружевах подушки и воскликнула, причем голос ее то и дело прерывался от нервных рыданий:
— Мне стыдно... я противна самой себе. Нет, я никогда не решусь рассказать об этом!
— Понимаю... — сказала сестра. — Ты потеряла голову и спуталась с каким-нибудь голодранцем... Стало быть, из-за этих вот пустяков ты и разыгрываешь из себя кающуюся Магдалину?
— Нет, нет, у меня ничего не было, уверяю тебя, не было! — с негодованием вскричала Фостен.
— Тогда что же? Если ты устояла против самой себя, так не стоило понапрасну меня беспокоить, и я ухожу.
— Нет, останься, я не хочу, чтобы ты уходила... мне надо поделиться с тобой этим... Я чувствую потребность рассказывать тебе такие вещи... — И она проговорила с какой-то неизъяснимой интонацией: — Ведь ты — сточная канава моего сердца!
И Фостен начала рассказывать сцену, происшедшую накануне.
Сестра слушала ее так, как кошка лакает молоко, в полном восторге от этого приключения, испытывая глубокое тайное удовлетворение порочной женской натуры, смакующей унижение подруги, которая до сих пор невольно вызывала ее уважение.
— Ах ты, дрянь эдакая... ты радуешься этой истории... ты смеешься! — крикнула Фостен, неожиданно вскочив на ноги. — Несчастье, что я родилась твоей сестрой... что одна и та же кровь течет у нас в жилах... будь проклята колыбель, где когда-то мы спали вместе... Если бы не ты, я была бы порядочной, да, вполне порядочной женщиной... Ах, что только не гнездилось в тебе, когда ты была совсем еще девочкой!.. Это ты толкнула меня на этот путь, повела за собой, потому что для тебя порок — только забава, потому что тебя он привлекает.
Щедрая Душа, которой уже приходилось несколько раз переносить подобные сцены и которая знала, что в этих случаях трагическая актриса испытывает потребность возложить на сестру ответственность за прегрешения своей плоти, спокойно ждала конца вспышки, ворча сквозь зубы:
— Что ж, поноси, поноси своих родных, раз тебе это помогает, милочка моя!
Взбешенная этим ироническим спокойствием, Фостен почти вплотную приблизила свое лицо к лицу сестры и бросила ей:
— Это ты, ты одна привила мне низменные инстинкты, склонность к распутству, любовь к проходимцам... И это ты, именно ты по временам делаешь меня подлой, такой, какова ты сама, какой я знаю тебя всю, с головы до ног... О, эта грязь, грязь, из которой ты создана... ведь частица ее есть и во мне!
И, говоря это, Фостен царапала ногтями воздух вокруг головы сестры, однако же не прикасаясь к ней.
Сестра мягко опустила тонкие нервные руки актрисы и сказала:
— Знаешь, это в высшей степени безрассудно — приводить себя в такое состояние в день премьеры.
— Я послала сказать им, что не буду играть, что я больна... театральный врач хотел зайти еще раз... впрочем, мне это безразлично... будь что будет... все равно я играть не стану...
И, закрыв лицо руками, Фостен опустилась на край кушетки. Через некоторое время руки раздвинулись, и в просвете на минутку показалось сияющее лицо, на котором уже не было никаких следов недавнего раздражения.
— Сестренка, и все-таки я счастлива... да, очень счастлива... ведь если б это случилось, я никогда не посмела бы снова принадлежать тому, другому... ты знаешь, кому... и только мысль о нем спасла меня вчера в последнюю минуту.
Потом лицо ее снова омрачилось, и, совершенно забыв о присутствии сестры, расхаживая взад и вперед по комнате, она возбужденно заговорила, как бы обращаясь к самой себе:
— А между тем я создана, чтобы любить возвышенной, да, самой возвышенной любовью... В мужчине мне нравится его благородство, его ум... моя любовь, пожалуй, немного похожа на ту, о какой пишут в романах... Так откуда же эти порывы, эти минуты безумия, когда я чувствую себя только самкой?.. Да, надо мною, должно быть, навис рок, тот самый рок, что тяготеет и над женщиной, роль которой я играю... О, эта Венера античных трагедий!..
И в трагической актрисе, вспомнившей о своей роли, внезапно проснулся суеверный, почти физически ощутимый страх перед богиней, имя которой до этого дня она произносила равнодушно, как пустой звук, и которое вдруг воскресло в недрах ее ума и души во всем его недобром и таинственном могуществе, извечно тревожащем чувства слабых детей земли.
Неожиданно она переменила тон:
— Вот так так! Ведь я заранее сказала себе: сегодня ты проведешь день спокойно... и вот тебе — что может быть утомительнее всех этих мыслей!
— Послушай, Жюльетта, — сказала Щедрая Душа, открыв маленький томик Расина в издании Гремпереля, валявшийся на столике, по которому она барабанила пальцами, — как ты читаешь вот эти две строчки?
И она прочитала:
Во мне уже не страсть, но пламень ядовитый.
Я жертва жалкая жестокой Афродиты.
— Как я их читаю? Да вот этак, — ответила Фостен и простодушно повторила их.
— Да, да... именно так ты и прочитала их на генеральной репетиции, — сказала Щедрая Душа без особого восторга.
— Скажи правду, тебе не нравится?
— Нет... пожалуй, нравится... впрочем, трудно сказать, когда эти строчки оторваны от всего остального... легче было бы судить, прослушав все, в целом.
Тотчас же, не ожидая дальнейших настояний, Фостен прочитала сестре всю тираду.
— Хорошо... хорошо... но уверена ли ты, что это предел того, что ты можешь дать?
— Сейчас я повторю еще раз всю тираду, от слова до слова, — ответила актриса, нетерпеливо передернув плечами.
И Фостен принялась играть как на сцене, заканчивая каждое двустишие вопросом:
— Ну? Теперь ты наконец довольна?
А Щедрая Душа, покачивая головой, надувая губки, издавая односложные, выражавшие сомнение, восклицания, холодные междометия или добродушные, но приводящие в отчаяние «гм!», заставляла сестру бешено работать, делать яростные усилия, неистово искать. И, притворяясь, будто она не вполне удовлетворена новой интонацией, переделанным жестом, исправленным приемом, Щедрая Душа, после целого часа этих упорных придирок, этого подзадоривания, этого притворного, но упрямого нежелания признать хотя бы одну удачу сестры, сумела заставить женщину снова стать актрисой. Голос Фостен стал звучным, движения — выразительными; теперь она расточала перед сестрой всю мощь своего дарования.
В эту минуту театральный врач приоткрыл дверь маленькой гостиной и, не входя, крикнул актрисе:
— Ага, не говорил ли я вам утром, что у вас ничего нет, что вечером вы будете играть? Бегу с этой доброй вестью в театр.
После врача явился старый художник, «ретушер» костюмов актрисы, который дал ей слово лично проверить исправления, сделанные в костюме Федры.
И пока Фостен, вместе с художником и костюмером, примеряла в маленькой гостиной, где снова открыли окна навстречу солнцу, свой переделанный и исправленный костюм, Щедрая Душа незаметно вышла, успев бросить встреченной ею на лестнице несчастной, растерянной Генего:
— Будет играть!
Затем пришел дантист, чтобы освежить эмаль зубов, маникюрша — отполировать перламутр ногтей, и т. д. и т. д. Словом, надо было проделать целый ряд мелких и тайных манипуляций, с помощью которых перед первым представлением фабрикуется омоложение, перерождение лица и тела, ибо актер и актриса в этот торжественный день хотят совершенно «обновиться».
В лихорадочной спешке, среди всех этих небольших, но важных дел и забот, навязчивая идея, владевшая Фостен все утро, понемногу улетучилась, и теперь она была только актрисой, всецело занятой мыслью о предстоящем вечернем спектакле и настолько далекой от вчерашнего приключения, что за четверть часа до обеда ее можно было застать за партией в безик с маленьким Люзи в той самой гостиной, где она умирала от стыда и горя всего несколько часов назад.
В разгаре партии, когда она сидела еще не причесанная, с пробором набоку, чтобы дать отдых волосам, доложили о приезде страстной поклонницы Фостен — старой герцогини де Тайебур, которая принесла ей на счастье перед спектаклем кусочек какой-то древней семейной реликвии, а кроме того, баночку румян — изделие вдовы Мартен за девяносто шесть ливров, найденное в шкафчике, не отпиравшемся со времен первой революции.
Актриса вдруг развеселилась, ей захотелось паясничать, шуметь. Выскочив из-за карточного стола, она крикнула «гоп!», копируя Ориоля, чуть не перепрыгнула через своего партнера, а потом, остановившись у дверей большой гостиной, но еще не открывая ее, эта изменчивая и взбалмошная женщина внезапно обернулась с самым величественным видом и проговорила:
— Ну, а теперь перейдем к роли царицы!
В четыре часа Фостен съела легкий обед, какой ей всегда подавали в дни спектаклей: яйцо в бульоне, дюжину остендских устриц, фрукты.
— Ах, это мне ничуть не поможет, — пробормотала она про себя после обеда, на минуту протянув к камину руки, которые вот уж три или четыре дня были у нее холодны как лед. — У меня ведь всегда так, пока я не сыграю первый акт... а потом они станут даже чересчур горячи.
В пять часов она села в экипаж и поехала, как обычно, на Елисейские поля; во время этих часовых прогулок в сумерках, наедине с собой, она иногда находила свои лучшие сценические эффекты.
В шесть часов она уже входила во Французский театр, как обыкновенно делала и в Одеоне, чтобы иметь в запасе два часа и прорепетировать еще раз с суфлером в своей уборной.
Но, проработав час, она бросилась на кушетку и, закрыв глаза, застыла в полной, почти пугающей неподвижности, чтобы дать абсолютный отдых своему организму, отдых, который позволил бы ей сыграть в полную силу ее сценических возможностей.
XVI
— Дорогу... дорогу... дайте же пройти, дети мои!
Это Фостен, стоя за кулисами и вся дрожа, лепечет несколько раз подряд одну и ту же фразу и раздвигает руками пустоту, хотя Энона далеко еще не закончила тираду, обращенную к Ипполиту.
Но вот она на сцене, окутанная глубокими складками тканей, которые кажутся слишком тяжелыми для ее слабого тела. Она опускается на свой античный трон и посылает прощальный привет Солнцу, с усилием подняв одну руку, чтобы защитить глаза от его ослепительного блеска, и устало опустив другую. Вся ее фигура исполнена величественной скорби.
Разражается гром рукоплесканий.
Тогда влюбленная царица голосом, проникающим в самую глубь души, — тем голосом, который в прошлом столетии называли волнующим, начинает рассказ о своем тайном влечении к сыну Тезея. И с каждым произнесенным стихом она чувствует, как понемногу рассеивается та атмосфера отчужденности, которая на премьере, после поднятия занавеса, обычно появляется между публикой и актером, то почти неуловимое отсутствие взаимной связи, которое похоже на прозрачный газовый покров, отделяющий их друг от друга и постепенно исчезающий под влиянием удачи по мере движения пьесы.
И глубокое изнеможение этой грешной дочери земли, согнувшейся под тяжестью гнева Венеры, ее безумное смятение, смутную тревогу, ее яростную вспышку и трогательный возврат к любовному признанию — все эти чувства и ощущения Федры Фостен передала и донесла до публики при помощи самых волнующих модуляций, самых незаметных переходов, самых тонких оттенков и благодаря медиуму — то есть изумительному умению управлять своим голосом на низких нотах, а потом, последовательно меняя интонацию, выделять конец тирады сильным ударением. Добавьте к этому искусству дикции то мягкие, то горделивые жесты, красноречивую мимику, неожиданные паузы и сосредоточенное, скорбное выражение лица, в иные минуты совсем застывшего, почти безжизненного, — словом, все сценические средства, которыми в совершенстве владела Фостен.
А когда актриса подошла к концу строфы: «Болезнь моя идет издалека...» — крики «браво!» превратились в восторженный рокот всей залы, завоеванной, покоренной.
После первого акта Фостен, совершенно обессиленная, упала в кресло, которое ей всегда ставили за кулисами, чтобы она могла немного отдышаться, и на ее шее, на спине, на плечах стали заметно пульсировать жилки, словно после тяжелого физического труда.
Через несколько минут актриса, опираясь на Генего, ушла в свою уборную.
В театре Генего была верным псом Фостен и ее тенью. Она присутствовала на всех спектаклях, ни на секунду не спускала глаз со своей госпожи и, стоя за кулисами, сбоку, наслаждалась восхищением осветителей и других работников сцены, готовая расцеловать их за это восхищение. Ни на шаг не отходя от Фостен, она вовремя подавала ей флакон с нюхательной солью, набрасывала шарф на плечи или мех на ноги. В уборной актрисы Генего вынимала из кармана старую бутылку из-под сиропа с холодным бульоном, заставляла Фостен отпить глоток и немедленно прятала бутылку обратно в карман, ибо бутылка эта никогда не расставалась с ее особой. Эта женщина из простонародья, ограниченная и суеверная, смутно слышала где-то, что одна актриса, жившая очень давно, по имени Адриенна Лекуврер, была отравлена, и, подолгу задумываясь над этой историей, о которой она имела весьма неясное представление, Генего вбила себе в голову, будто соперницы, завидуя таланту ее госпожи, тоже хотят отделаться от нее при помощи яда.
Между первым и вторым актом визитеров было мало, да они и не принадлежали к числу тех, кто мог бы дать Фостен правильное представление о ее успехе или рассеять беспокойство, охватившее актрису во время антракта, — ведь в процессе игры она лишь очень смутно сознавала, что происходит в зале. Поэтому она с тревогой расспрашивала присяжных болтунов — пошлых льстецов, людей любезных, но пустых, и, слушая их, слегка покусывала себе язык, чтобы вызвать слюну в пересохшем рту.
Она сыграла второй акт, решающий для выражения ее таланта, и на этот раз, не успела она войти в свою уборную, как дверь распахнулась, и, предшествуемый маклером Люзи, в комнату, словно безумный, вбежал маленький человечек в широком пальто, с измученным лицом и горящими глазами. Это был великий современник Фостен, тот, кто первый облек в плоть и кровь камень, мрамор, бронзу. Он явился в лихорадочном восторге, захлебываясь от восхищения, изливавшегося в почти грубых фразах, и стал просить актрису позволить вылепить с нее статую Трагедии. Не обращая никакого внимания на остальных посетителей, он пытался заставить Фостен принять ту позу, в которой видел ее одно мгновенье на сцене, бесцеремонно поднимал ее с кресла, почти насильно драпировал на ней складки туники. И, отходя на несколько шагов, наступая на ноги тем, кто стоял сзади, повторял: «Великолепно... это будет великолепно!..» За скульптором пошли всякие знаменитости, громкие имена из самых разнообразных сфер, старые театралы и любители драматического искусства — тонкие ценители и судьи, пришедшие укрепить в Фостен уверенность в ее триумфе.
И вскоре «сундучков» с конфетами, принесенных почитателями таланта трагической актрисы, стало так много, что они заменили скамеечки женщинам, которым удалось забраться в ее уборную.
В третьем акте на супругу Тезея начала нисходить величественная грусть, какая-то мрачная и страстная жажда смерти; прижатые к телу руки почти безжизненными жестами перебирали складки туники, превращая ее в погребальный саван, и трагическая актриса на глазах у трепещущих, потрясенных зрителей вдруг преобразилась в некую прекрасную и скорбную Венеру надгробных памятников.
Уходя со сцены, Фостен столкнулась с Рагашем, который принес ей отчет о кулуарных разговорах, о тайных намерениях прессы на ее счет, о беседах журналистов, подслушанных у дверей лож. Тео не находит ни малейшего таланта у Расина, зато считает, что у нее есть линия... и вот он решил, наперекор прокисшему классицизму своего министра, совсем не упоминать в статье о поэте Людовика XIV, а говорить только о ней, о ней одной. Сен-Виктор — она, наверно, заметила его? — так вот у него сегодня не такое выражение лица, какое бывает на неудачных премьерах... это хороший признак... впрочем, он ведь и всегда хорошо к ней относился. Критин Икс случайно явился в чистом белом жилете, а он, Рагаш, давно заметил, что опрятность располагает Икса к добродушию... Критик Игрек только что громогласно изъявлял свои восторги в маленьком кабаре на, улице Монпансье, где подают нечто горячее, пахнущее керосином... Критика с моноклем в театре нет... но он прислал вместо себя любовницу, чтобы та рассказала ему о спектакле, а Жоржина дала ему, Рагашу, честное слово, что будет говорить об актрисе только одно хорошее... Что касается критика из «Франс Либералы», то он... он и сам отлично понимает, что в его писаниях появилась какая-то вялость... что его больше не читают... что пришла пора, когда ему необходимо выдумать кого-нибудь... и вот теперь он выдумает ее, Фостен. Вильмессан сказал, что в том нудном жанре, который называют трагедией, Фостен кажется ему менее нудной, чем другие актрисы... Все маленькие газетки будут за нее... это несомненно. Только старикашка Жанен, обладатель страшной подагры, — он сидит на скамеечке в своих полосатых носках, красных шерстяных рукавичках и корчится от боли, — так вот, между ахами и охами он успел пожаловаться на то, что у Фостен было мало любовного пыла во втором акте... У этого, пожалуй, будет немало придирок, но, в общем, ей обеспечена отличная пресса!
Актрисе бурно аплодировали в четвертом акте, а когда занавес опустился по окончании пятого, вся зала устроила Фостен настоящую овацию.
После бесконечных вызовов, опираясь на руку Генего и стиснув ее до боли, Фостен добралась до своей уборной и упала в кресло, где обычно гримировалась, вытянув онемевшие ноги, в состоянии, близком к каталепсии. Не в силах произнести ни слова, она отвечала на испуганные расспросы старухи служанки, которая уже намеревалась бежать за театральным врачом, лишь отрицательными движениями головы и прикасаясь рукой то к губам, то к шее, — жест, означавший, что голосовые связки у нее страшно напряжены и она не может говорить.
В таком состоянии она пробыла около трех четвертей часа, после чего, испустив глубокий вздох, давший, казалось, разрядку и отдых всему ее существу, она смогла наконец выговорить несколько слов.
Тогда она перешла в маленькую, битком набитую гостиную при уборной, откуда через открытую дверь виднелся в коридоре длинный ряд людей, словно у порога ризницы после какой-нибудь пышной свадьбы. И тотчас же, сметая мужчин на своем пути, лавина обезумевших женщин, охваченных тем нервным возбуждением, в какое всех и вся приводят театральные битвы, ринулась в объятия Фостен. Разразилась целая буря восторга. Конца не было ласкам, поцелуям, и вскоре уже все, и мужчины и женщины, обнимали Федру, не успевшую еще как следует стереть румяна. Ее тело — тело худенького серафима, закутанное в широкий, наспех наброшенный темный халатик, переходило из объятий в объятия и, отклоняясь то вправо, то влево, казалось бескостным, напоминая мягкий лоскут, который волнообразно колеблется, подгоняемый ветром... А на лице у актрисы читалось счастье, смешанное с недоумением, и она без конца повторяла растроганным и бессмысленным тоном: «Ах, дети мои! Ах, дети мои!»
Понемногу толпа «поздравителей» растаяла, и в уборной остались только лица, приглашенные актрисой к ужину.
Фостен ощущала потребность пройтись, «подышать улицей», как она выражалась. И они отправились пешком, всей компанией перешли улицу Сент-Оноре, расталкивая небольшие группы, еще стоявшие у дверей запиравшихся кафе и беседовавшие о вечернем спектакле. То тут, то там слышалось: «Смотрите — Фостен?!» И веселый батальон шел дальше в ночь, с шумным и жизнерадостным гомоном людей, решивших пировать до утра, причем самые молодые перебрасывались шутками с кучерами проезжавших мимо фиакров и продолжали что-то кричать им вслед до тех пор, пока экипажи не сворачивали на другую улицу.
XVII
Гости Фостен собрались в большой гостиной особняка на улице Годо-де-Моруа и ждали актрису, которая ушла к себе, чтобы переменить туалет.
Общество было разнообразное и смешанное — обычное общество таких вот ужинов после больших премьер, где сидят бок о бок литераторы, художники, ученые, политические деятели, генералы, медики, знаменитости всех жанров, а между ними, как это бывает всегда, неизвестно как и по чьему приглашению затесавшиеся никому не известные безымянные люди, носящие бороду или булавку в галстуке, в шароварах «по-казацки» или с иностранными орденами в петлице, люди, возбуждающие всеобщее любопытство и заставляющие гостей на всех концах стола всю ночь тщетно спрашивать на ухо друг у друга, кто же все-таки они такие, эти господа. Отдельные группы беседовали на разные расплывчатые темы, без воодушевления, с длинными паузами; некоторые уединялись по углам, скучая, без конца рассматривая безделушки. И, развалясь в низеньком кресле, при свете лампы, стоявшей сзади, какой-то reporter {Репортер (англ.).} карандашом писал на листочках папиросной бумаги отчет о нынешнем вечере.
Фостен появилась в вечернем туалете. На ней было атласное кремовое платье-пеньюар с отделанными старинным аржантанским кружевом бархатными манжетами и отворотами того же тона, на которых цветным жемчугом были вышиты туберозы. В волосах вилась ветка с зелеными листьями какого-то металлического оттенка — оттенка крыльев шпанской мухи. В этом платье светлого, но теплого колорита, среди блеска и роскоши причудливых цветов, сделанных из драгоценных камней, грудь женщины, едва открытая четырехугольным вырезом корсажа, казалась белоснежной лилией, расцветшей где-то в тени подвала, а изменчивые, зеленые, электрические отблески, которые при каждом движении головы отбрасывали листья, вплетенные в ее прическу, придавали ее лицу своеобразную фантастическую прелесть, сообщая утомленному, но сияющему взгляду выражение демоническое и вместе с тем ангельское.
Трепет какого-то влюбленного восторга пробежал по всей гостиной, и Фостен, еще не остывшая от возбуждения игры, остановилась посреди тотчас же образовавшегося вокруг нее кружка. Продолжая яростно подталкивать ножкой свой шлейф, она начала с необыкновенной горячностью рассказывать о всех происшествиях вечера, об эффекте, который у нее пропал из-за слишком рано поданной реплики, о несообразительности главаря клакеров, о шикателях из Одеона, которые последовали за ней и во Французскую Комедию, — и, перечисляя все эти обиды, ее охрипший голос вновь обрел прежнюю выразительность, резкость, звучность. Но вот метрдотель возвестил, что «кушать подано», и она вдруг взяла под руку никому не известного молодого человека, к чьим словам уже несколько минут прислушивалась с каким-то необъяснимым вниманием. Открыв шествие, она обернулась и сказала:
— Господа, у меня — без церемоний. Каждый садится, где хочет... где может.
И Фостен заняла место посреди стола, сестра ее села напротив.
Сперва в столовой наступила тишина, та сосредоточенная тишина, какая обычно возникает за ужином, среди проголодавшихся гостей, собравшихся вокруг стола, где пахнет раками и трюфелями, — вокруг стола, застланного камчатной скатертью, уставленного массивным серебром, граненым хрусталем, корзинами тропических цветов и залитого на старинный лад белым светом свечей в канделябрах и в высокой люстре с переливающимися подвесками; эти свечи бросают мягкий отблеск на плафон и на светлую обивку стен, где, словно в предутреннем тумане, сияют розовой наготою богини Олимпа.
За молчанием последовал неясный гул, первые, еще невнятные фразы, пробивающиеся сквозь полные рты, и, наконец, весь этот шум покрыли слова:
— Ужин при свечах, браво!.. Если бы женщины знали, как красива при свечах их кожа, на другой же день ни в одной парижской столовой не осталось бы ни единого газового рожка, ни одной лампы.
А Фостен говорила молодому человеку, которого посадила рядом с собой справа:
— Ах, сударь, как красиво вибрирует ваш голос! Нет, вы не имеете понятия, какую власть имеют надо мной голоса... право же, они проникают гораздо глубже уха... Говорите же, говорите, я хочу вас слушать... Да, у вас есть в голосе что-то от Делоне, но ваш, пожалуй, действует еще сильнее... Ах, в иные дни... да, я уверена, что в иные дни вы могли бы заставить меня плакать!
И, слушая его, актриса наклонялась к нему совсем близко, как наклоняются к музыкальному инструменту, который волнует душу.
— Чудесно, ну просто чудесно, — повторяла Фостен с восторженной улыбкой, склонив голову набок и словно приглядываясь к тому, как слова вылетают из его губ. — Нет, право же, сударь, вы должны приходить каждый день и проводить со мной несколько часов... Слушать, как вы говорите... как вы читаете... было бы для меня истинным праздником. В вашем голосе есть такие нотки... как странно!.. нотки, в которых чувствуется разом и рыдание и смех... Да, услышать от вас объяснение в любви было бы, должно быть, очень опасно.
И она кокетливо рассмеялась.
Потом, оборвав смех, обратилась к гостям:
— Господа, рекомендую вам эту рыбу. Это волжская стерлядь... Подарок одного из моих тамошних друзей. Она была заморожена эфиром, — да, да, эфиром... Говорят, что, когда ее усыпляют таким образом, она не совсем умирает и ее можно переправлять почти свежей на другой конец света.
Сказав это, Фостен снова повернулась к своему соседу, и в ее позе, в изгибах ее обращенного к нему тела чувствовалась та нежность, та влюбленность, какую вы часто можете заметить во время обеда или ужина, наблюдая за женщиной, когда она сидит рядом с нравящимся ей мужчиной. В этом теле одна сторона — сторона, обращенная к безразличному соседу, — кажется угрюмой, пассивной и как бы одеревеневшей, тогда как другая сторона трепещет, полна грации, соблазна, и мышцы беспрестанно играют, распространяя на расстоянии любовные флюиды. Забавное зрелище! Женщина, так сказать, одушевлена только с этой стороны: трепещет лишь то ее плечо, которое прикасается к этому соседу, волнуется лишь та грудь, на которую падает его взгляд, змеино изгибается лишь то бедро, лишь та нога, которые испытывают электрические разряды, исходящие от приятного ей мужчины.
Что касается Щедрой Души, то она старалась вести себя надлежащим образом, быть вполне приличной в этой среде, стоявшей намного выше ее собственной, и пространно рассказывала о стенном ковре, который она вышивала для церкви той деревни, где у Карсонака была дача.
Карсонак тоже был не в своей тарелке, так как чувствовал себя на этом ужине весьма незначительной особой. Он пресерьезно рассказывал своему соседу, хладнокровно дурачившему его господину, о неприятностях, причиняемых ему Бальзаком, об узких рамках, в которые тот его ставит, о том, как он мешает развитию его драматургии, о постоянных совпадениях, из-за которых ему приходится выбрасывать целые сцены, построенные гораздо удачнее, чем у этого романиста. И собеседник все время отвечал ему таким: «Еще бы!» — что бульварный драматург никак не мог понять, что это было — фамильярность слегка подвыпившего человека или ирония.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Душа и длинные волосы, — скажите мне, скажите сейчас же, — разве это не вышло из моды? Ведь это тип светской женщины тысяча восемьсот тридцатого года, а нынешние светские женщины...
— Светские женщины! Современные светские женщины!.. — вскричал, перебивая своего собеседника, некий знаменитый писатель. — Тощие, худые, костлявые, плоские! Женщины, у которых так мало тела и, следовательно, так мало места для любовных упражнений, женщины, чьи лица говорят о бледной немочи и дурной болезни, чьи глаза и губы плохо подкрашены, существа, похожие на бесцветные призраки, от которых не требуют ничего, кроме пикантной мордочки, живости, изюминки. Разумеется, это не та красота, какую рекомендует «Курс рисования» для начальных школ, но надо сознаться, что в том состоянии, до которого дошел мужчина XIX века, стремящийся ко всему острому, ко всему, что уже с душком, этот тип дьявольски его возбуждает.
— Прочь отсюда этого ужасного невежу! — крикнула Фостен, но голос ее прозвучал лаской.
— А разве я сказал что-нибудь не вполне приличное? — самым наивным тоном осведомился красноречивый раблезианец.
Разговор подхватил некий государственный муж, в ком сразу чувствовался большой любитель женщин, человек с совсем еще молодым лицом и седыми волосами:
— Да, господа, вы можете негодовать, сколько вам будет угодно, и писать для толпы всевозможные статьи о нравственности, но... Но небольшая доза распущенности необходима для государства: она смягчает нравы, делает общество гуманным, делает людей тоньше и совершеннее. Все великие люди всех времен были распутниками...
— О! О!
— Знаешь, — прошептал на ухо своему соседу какой-то гость с кукольным, грязно-розовым лицом, лицом проповедника, словно вырезанным из дряблой редиски, — знаешь, все эти члены правительства — настоящие инвалиды...
Конец тирады государственного мужа потонул в залпе коротких реплик, которые раздавались то справа, то слева, словно выстрелы из пистолета.
— Умен, нечего сказать, этот театральный критик... У него такое же чувство изящного, как у какого-нибудь театрального ламповщика.
— Ну и «аристократический» же вид у этой актрисы... можно подумать, что это маркитантка при войске фавнов!
— И вы считаете, что он не любит эту особу?.. Да ведь совсем недавно он подарил ей десять тысяч франков только за то, что она согласилась принять слабительное... Разве это не любовь? И не самая дорогая?
— Довольно говорить о нем. Это дурак, набитый возвышенными идеями и трансцендентальными суждениями.
— Таков Париж. Лоретка, которой красная цена двадцать пять луи, обходится члену жокей-клуба в целый наполеондор, а лакей, которому другие платят тысячу двести франков, достанется господину Ларошфуко, если он того пожелает, за триста.
— Вас удивляет, что государство оказывает музыке такую огромную поддержку? Но ведь это же так просто: все еврейские банкиры — меломаны!
— Если человек высказывает либеральные идеи, а сам носит платье церковного покроя, не доверяйте ему — это правило не знает исключений.
— Ах, что за несносная болтунья!.. Она уверяет, будто признает только эгинетов, а Швецию любит за то, что это «невинная» страна!
— Поверь мне, настоящий мыльный пузырь — вот что такое этот твой финансист.
— Виноват... — вмешался Бланшерон. — Человек, о котором вы говорите, очень богат. Как вам известно, я кое-что смыслю в биржевых делах... И вот однажды, выходя от меня, он выронил из кармана — разумеется, не случайно — ордер на покупку акций, на весьма крупную сумму. И вы знаете, господа, я, даже я сам не решился играть против него!
В эту минуту Фостен заметила, что ее сосед справа тщательнейшим образом раскладывает кости от рыбы, которую он ел, прямо на скатерти, рядом со своей тарелкой.
Это открытие вызвало на ее лице недовольную детскую гримасу — гримасу девочки, над которой кто-то подшутил, дав ей пустую коробку из-под конфет.
Она стала отвечать ему односложно, и вся гибкость, вся приветливая грация движений стала понемногу уходить из той стороны ее тела, которая была ближе к молодому человеку с рыбьими костями, а потом, постепенно, с помощью незаметных переходов и искусного полуоборота, она переключилась на соседа слева.
Сосед этот был философ, человек светский, проповедовавший красоту, добро, честность, — разумеется, в рамках, приемлемых для великосветских дам, — нечто вроде мирского пастыря XIX века. Он доставлял своим клиенткам Платона вместо Евангелия, подбирал им шерсть для вышивания, переправлял парижские сплетни, когда дамы проводили лето в деревне или зиму в Ницце, и даже, в случае надобности, ухаживал за ними как сиделка, когда они лежали после родов в постели, читая им из «Града божия» блаженного Августина.
Отличаясь банальной красотой помощника прокурора и профессорским изяществом манер, он был баловнем женщин, и те готовы были подраться, оспаривая друг у друга его фланелевые жилеты, пропитавшиеся красноречием его лекций.
И вот этот философ, почувствовав, что хозяйка дома обратила внимание на его особу, немедленно принялся ухаживать за ней — впиваясь горящими глазами в вырез ее платья, осыпая актрису приторными комплиментами и теми чрезмерными изъявлениями восторга, какими ученые волокиты так надоедают женщинам.
— Да вы ничего не едите, решительно ничего!
— О, в дни премьеры мне всегда хочется только пить... И потом, эти тяжелые мясные блюда... их приходится без конца жевать... Мне кажется, это не такая уж красивая процедура для женщины — есть мясо.
— Так, может быть, вы намерены питаться только мясными экстрактами? Кстати, за вашим столом как раз сидит такой домашний маг и волшебник — человек, занимающийся разложением простых тел... Попросите у него рецепт.
— Как ни странно, — подхватил химик, услышавший отрывок разговора, — но впервые эта изящная мысль пришла в голову не женщине, а мужчине — ученому, канонику собора Парижской богоматери. Человек этот, которому наскучило терять время на еду, а также слегка опротивела материальность этого процесса, заказал себе экстракт мяса и стал питаться имматериальным способом, принимая по нескольку капель, хранившихся у него в маленьком флакончике из-под духов. Однако после двух или трех лет такой диеты наш каноник получил сужение желудка и чуть не умер. Это, конечно, грубо, но надо признаться, что для нас, простых смертных, как мужчин, так и женщин, амброзия не годится, и лучшим «экстрактом» мяса все еще остается вот эта индейка с трюфелями.
— Кстати, об индейках с трюфелями, — вставил один из гостей. — Известны ли вам те единственные три случая из жизни Россини, когда он плакал? Это достоверно, я читал подлинное письмо маэстро к Керубини: в первый раз Россини плакал в тот день, когда освистали его первую оперу; во второй — когда он впервые услышал игру Паганини на скрипке; и в третий, когда, катаясь по Гардскому озеру, он уронил в воду индейку, начиненную трюфелями, которую держал в руках.
— Интересная история, но раз уж речь зашла о еде, позвольте и мне рассказать нечто в этом роде — о неземном питании графа де Марцелла. Сей знатный католик причащался в своем замке только такими облатками, на которых был вытиснен его герб. И вот однажды викарий с ужасом замечает, что запас облаток с гербами иссяк. Однако он решается поднести к устам благочестивого аристократа обыкновенную, плебейскую облатку и говорит ему извиняющимся тоном: «Чем бог послал, господин граф!»
Философ между тем продолжал расточать перед Фостен свое искусное красноречие, нашептывая ей разные изощренные комплименты, а та, в пылу кокетства, не только допускала его ухаживанье, но почти поощряла его. Воодушевленный успехом, он решил упрочить победу, применив по отношению к актрисе один трюк из своего репертуара, изобретенный им для покорения и порабощения женских сердец, — трюк весьма остроумный, но употреблявшийся им слишком широко и без достаточно глубокого проникновения в существо очередной особы женского пола, с которой он имел дело.
С минуту он многозначительно смотрел на свою соседку, потом сказал:
— На вашей красоте лежит ярко выраженная печать интеллекта... Да, да, я отличный судья в такого рода вещах... печать литературного дарования... Талант актрисы? Да, конечно, но о нем мы сейчас говорить не будем. У вас есть, правда еще в зачаточном состоянии, и другой талант... Вам надо писать о том, что вы видите вокруг себя... попытайтесь... я буду вашим советчиком... вашим гидом. Если бы вы знали, какие прелестные вещицы создают, благодаря моему дружескому руководству, некоторые светские дамы.
Фостен улыбнулась. К несчастью, ей был известен этот трюк, — с ней поделилась своим секретом одна молодая женщина, которой философ менее двух недель назад предложил себя в качестве советчика по литературным делам, — и теперь актриса была страшно обижена тем, что к ней отнеслись как к первой встречной простушке, как к какой-нибудь светской дурочке.
— Очень вам признательна, милостивый государь... Но неужели вы до сих пор не взяли патент на свое изобретение? Ведь это просто гениальный способ покорения женщин... обещать юным мещаночкам — и при том сейчас же, немедленно — перо госпожи Жорж Санд... Они, должно быть, моментально бросают свой домашний очаг, мужа, детей? А сколько дам в вашем классе?
И довольно долго, не давая философу ни минуты передышки, Фостен безжалостно терзала его своей злой, почти свирепой иронией.
Правый сосед Фостен мужественно перенес потерю расположения хозяйки дома. Он много ел, еще больше пил и, по-видимому, находился в состоянии приятного опьянения: подбородок его уткнулся в жилет, прядь развившихся волос упала на лоб, белая рука то и дело поглаживала черную бородку, а губы еле слышно напевали какую-то канцонетту его родной провинции.
Выбрав подходящий момент, он, раскачиваясь, наклонился к Фостен и проговорил:
— Сударыня, в начале ужина вы сказали мне, что с удовольствием послушали бы, как я говорю, как читаю... между прочим, у меня есть отец. Он кассир, и сейчас он как раз находится в весьма, весьма затруднительном положении... Так вот, не хотите ли вы доставлять себе это удовольствие ежедневно, по нескольку часов... за пятьсот франков в месяц?
— Мы поговорим о вашем предложении как-нибудь в другой раз, милостивый государь.
И молодой человек, как ни в чем не бывало, снова принялся гладить свою бородку и напевать канцонетту.
А Фостен начала обеими руками обмахивать себе грудь кружевом корсажа. Откинувшись назад, она прислонилась к спинке стула, и на лице ее появилось выражение почти забавной растерянности — растерянности, смешанной с презрением, с отвращением, почти с ненавистью, относившейся к разглагольствованиям обоих ее соседей и к ним самим. Взгляд ее, переходя от лица к лицу, обежал весь стол с какой-то наивной мольбой. «Неужели никто не сжалится и не избавит меня от этих несносных людей?» — казалось, говорил он. Потом она вдруг застыла, совершенно не шевелясь, и только ее отполированные ногти блуждали по белоснежной шее, а нервные подергивания всего тела невольно выдавали ее раздражение и скуку.
Пришел конец остроумным шуткам, словесным поединкам, шалостям мысли; голоса понизились, общий разговор постепенно замер, уступив место приватным беседам, и теперь каждый из собеседников, возвратясь к своим занятиям, к своим работам, к своим намерениям, щедро угощал ими свой уголок стола с той очаровательной откровенностью легкого и изящного опьянения, какая бывает у людей высокого ума после ужина, спрыснутого хорошим вином.
— Следовало бы познакомить каждого с чудесными свойствами материи, доведенной до summum {До крайней степени, предела (лат.).} ее утилизации, — говорил один из гостей, нагнувшись к соседу и вертя в пальцах пробку от графина.
— Да, прославление материи — вот та прекрасная тема, которой вам бы следовало посвятить книгу.
— Я бы и сам очень этого желал, но не могу... не владею даром письменного словосочетания... В разговоре мне иногда удается дать представление об этом, но на следующий день, когда я остываю и беру в руки перо, получается совсем не то.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Французский язык, — говорил некий иностранный, писатель, великан с кротким лицом, — французский язык производит на меня впечатление инструмента, изобретатели которого простодушно стремились к ясности, к логике, к грубой приблизительности определения. А сейчас этот инструмент оказался в руках людей самых нервных, с наиболее повышенной чувствительностью, людей, которые стремятся передать ощущения самые неуловимые и менее, чем кто бы то ни было, способны удовлетвориться этой грубой приблизительностью своих жизнерадостных предшественников.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Кровь теперь стала редкостью, ее нигде не найти, — говорил физиолог, человек с прекрасным задумчивым лицом, похожий на какого-то бесплотного духа. — Теперь совсем перестали пускать кровь. В мое время в больницах стояли целые ушаты крови. Недавно мне понадобилась кровь для моей лекции, и я нигде не мог ее достать. Если бы не тот старый доктор — вы знаете его, он всегда бывает на моих занятиях, — я так и не получил бы ее. О, это старый ученик Бруссе, он продолжает его традицию и то и дело вскрывает себе вену. Как-то раз он сказал мне: «Я пускаю себе кровь каждый день и поливаю ею цветы...» Это нечто положительное, определенное: таким способом либо излечиваешь людей, либо убиваешь... но все меняется каждые двадцать лет.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Какой-то журналист, похожий на персонаж картин Иорданса, с грубым, покрытым бородавками лицом и резким, отрывистым эльзасским акцентом, говорил:
— Варфоломеевская ночь убила Францию. Если бы Франция стала протестантской, она бы навсегда сделалась величайшей нацией Европы... Видите ли, в протестантских странах существует постепенный переход от философии высших классов к свободомыслию классов низших. Во Франции же между скептицизмом верхов и идолопоклонством низов лежит пропасть, пустота... И скоро вы увидите, к чему она приведет, эта пустота!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Египет, Египет! — повторял на ухо своему соседу некий художник кисти и слова, на время забыв об ужине. — Египет! Меня преследует мысль написать несколько страниц об этой стране... Торфянистая почва, земля словно каучук, шагов не слышно... Вам знаком лишь светлый, прозрачный Восток... А там, куда ни кинешь взгляд, едва заметная дымка испарений, и дымка эта делается тем гуще, чем она отдаленней... и в этом сером тумане — черные или синие фигуры... редко-редко встретишь красное пятно... Ах, как красив при этом освещении синий тон одежды... Я так и вижу этих людей с пятнами света на лбу и ключицах.
И он сделал в воздухе такой жест, словно кистью положил на полотно два небольших мазка.
— Да, нужно большое уменье изображать свет, чтобы правильно передать колорит этой бесцветной земли и неба... А буйное цветение смолистых лимонов с плодами, напоенными соком, — таких вы не увидите нигде больше. Нет, я еще не нашел в живописи способа передать все это.
И когда он говорил об этой сырой далекой стране, белки его горящих глаз как-то странно увеличивались.
— А ночи, — продолжал он, — какие там ночи!.. Эй, Жорж! — крикнул он господину, который сидел на другом конце стола и не слышал его. — Помнишь, какие часы провели мы с тобой близ ворот храма в дворике канатчика? Ах, мне хочется написать о них, чтобы вновь пережить эти ощущения!
И художник-писатель снова впал в задумчивость, которую уже не мог нарушить застольный шум.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Чистая наука, наука совершенно абстрактная, наука, презирающая индустриализм, — говорил химик, — такая наука — это создание аристократических обществ. Соединенные Штаты интересуются нашими открытиями и завладевают ими лишь в тех случаях, когда они могут иметь практическое применение. То же происходит и в Италии, где бескорыстные ученые принадлежат лишь к старому поколению... В наш век, господа, век денег, нет больше людей, жаждущих одной только славы. Как обстоит дело в этих странах, когда какой-нибудь юноша чрезмерно увлекается наукой? Он избирает себе поприще, которое наполовину отвечает его духовным устремлениям, а наполовину — жажде обогащения. Он становится железнодорожным инженером, директором завода, управляющим фабрикой химических изделий. То же самое начинается уже и во Франции, где Политехническая школа больше не выпускает ученых!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Ах, этот звук, этот мягкий звук... Право, мне трудно дать вам представление о нем, — говорил некий молодой генерал, — а между тем по временам он все еще раздается в моих ушах... Мы были так сжаты, так стиснуты, так слиты друг с другом, когда шли на приступ Малахова кургана, что... ну, понимаете... я слышал, да, слышал, как пули вонзались в тела тех, кто стоял рядом со мной. Это был такой точно звук, какой бывает, когда камень шлепается в мягкую глину... А когда пуля наталкивалась на кость, раздавался треск, похожий на треск дерева, раскалывающегося от мороза. Да, это отвратительный звук!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Ничего не поделаешь... — словно в полудремоте ронял отрывистые фразы некий ученый — мечтатель и фантазер. — Горючего хватит на какой-нибудь десяток миллионов лет, не больше... и столько же времени на поверхности земли продержится температура, необходимая для жизни... А потом — ни лесов, ни каменного угля. Наступит ледниковый период. И тогда уцелевшие, те, которые еще не замерзнут, вынуждены будут уйти под землю, поселиться в шахтах. Они будут питаться мякотью грибов... а так как человеку всегда нужен бог — бог света, то подземный человек будет поклоняться болотному, иначе говоря, рудничному газу.
— Но ведь эта жизнь наедине с собой, жизнь без солнечного света, может, пожалуй, привести к страшной власти метафизики? — весьма серьезно спросил у ученого сосед, человек с жирными руками, которые он, словно священник, скрестил на салфетке, закрывавшей его живот.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Господа! — сказала вдруг Фостен. — У меня есть Капское вино с голландского корабля, который потерпел крушение на Шевнингской отмели более ста лет назад... Бочонки, все обросшие раковинами, были подняты со дна морского вместе с остальным грузом... бутылка этого вина стоит двести франков... Вы, конечно, уже догадались, что это еще одно проявление внимания господина Бланшерона... Так вот, не пора ли нам распить это вино?
— И распить его за здоровье Федры! — в один голос вскричали все гости.
Вино было розлито, все встали, и среди звона бокалов раздались приветственные возгласы: «Да здравствует Федра! Да здравствует Фостен!»
Среди шума, вызванного этим тостом, который все произносили стоя, причем молодой человек с музыкальным голосом бормотал вслух: «Ну и ну! Хотел найти прочное положение, а сам потерял равновесие», — сестры подошли друг к другу, и Щедрая Душа прошептала на ухо Жюльетте:
— Знаешь, была минута, когда я готова была поставить пять луи на твоего юного соседа.
— Музыка хороша, но если бы можно было отделить ее от самого музыканта... Это ты привела его?
— Нет... Ну, а другой?
— Другой... настоящий горшок с медом, но только мед в нем прогорклый... А сейчас, — воскликнула Фостен, переходя одна в гостиную, — сейчас мне нужна целая оргия Бетховена! Пусть играют Бетховена, поют его, танцуют. Я хочу Бетховена до рассвета. Сегодня это необходимо моим нервам!
XVIII
На следующий день после премьеры «Федры» и после этого ужина, продлившегося почти до рассвета, Фостен встала с ощущением той беспросветной тоски, того беспричинного и безотчетного уныния, которое является неизбежным следствием огромной затраты нервной энергии, сопутствующей всякому глубокому душевному движению — большой радости, лихорадочному возбуждению.
Она позавтракала, не разворачивая утренних театральных листков с отчетами о вчерашнем спектакле.
Ей противно было сидеть дома, но не хотелось и выходить на улицу, ее страшила мысль о приходе людей, даже самых близких. С самого утра она вдруг почувствовала какое-то тошнотворное и вялое безразличие ко всему тому, что более всего занимало ее в другие дни. И это равнодушное отречение ее существа от каких бы то ни было стремлений, желаний, капризов, это отсутствие влечения к чему бы то ни было, претворялось в совершенно особое ощущение — ощущение безотрадной, глубокой, болезненной скуки. Все казалось ей серым; небо, собственная квартира, даже Генего казались ей бледными, лишенными жизненных красок. С ней происходило приблизительно то же, что происходит с женщиной, когда она внезапно попадает из ярко освещенной бальной залы в переднюю, где тускло мерцает приспущенный огонек лампы. Но беспросветное уныние этого наступившего «завтра» не имело ничего общего с тем облачком, которое омрачает чело женщины из-за какого-нибудь жизненного затруднения и улетучивается сразу, как только у нее появится хоть немного воинственного задора, — нет, это было то мгновенное и горькое разочарование в жизни, то усталое самоуглубление, когда вдруг приостанавливается жизнерадостная деятельность мозга, который непрерывно строит планы, воздушные замки и прекращает эту работу лишь в такие вот минуты тоски или же в предчувствии смерти.
Фостен вернулась в спальню и села у камина, устремив на него ничего не видящий и ничего не выражающий взгляд.
Глаза ее несколько раз скользнули справа налево по ковру, словно стремясь увидеть на нем нечто, не существующее в действительности, потом она встала, подошла к кровати, медленными, почти бессознательными движениями откинула покрывало и начала раздеваться.
Наполовину раздевшись, она позвонила Генего и сказала ей:
— Закрой ставни и зажги лампу... меня ни для кого нет дома.
— Уж не заболели ли вы, сударыня?
— Нет, но сегодня мне скучно!
Почти совсем уже раздевшись, она открыла один из стенных шкафов, находившихся в алькове, взяла маленький томик, который лежал там вместе с несколькими другими книгами, спрятанными между бельем и надушенными ирисом саше, и положила книжечку под подушку.
Озябнув, она поспешно забилась под одеяло, потом приятная теплота начала разливаться по ее телу. Посреди этого искусственно созданного мирка, озаренного лившимся из-под абажура светом лампы, лицо Фостен выделялось крохотным светлым четырехугольником на лбу, маленькой светлой полоской, влажно поблескивавшей на нижних веках и вспыхивавшей в глубине зрачков, еле заметной светлой черточкой, мерцающей в углу рта, в ямочке от улыбки, тогда как все остальные черты оставались окутанными полутенью, и лишь по нежным округлостям щек блуждали изменчивые переливы света.
В пору жизненных невзгод, когда вам хотелось убежать от томительно тянущихся часов дня, не приходила ли вам мысль удалиться от действительности, заполнив эти часы чтением романа, насыщенного необузданной, исступленной, безумной фантазией, и читать этот роман в несколько призрачной обстановке постели и полумрака? Такое именно средство выбрала для себя Фостен.
Повернувшись к стене и подставив свету лампы волнистую линию укрытых простыней плеч и пушистые волосы, свободно сбегавшие по спине, она начала читать маленький томик, близко придвинув к глазам освещенные страницы.
И эти страницы перенесли молодую женщину в какой-то странный мир — мир грандиозной, невиданной природы, где зияли пропасти неизмеримой глубины, где струились огромные пространства бегущих вод, где сверкали охваченные огнем планеты, мир, где архитектура являлась как бы воплощением мечты какого-нибудь Пиранези, мир, населенный мириадами человеческих созданий, шествующих в бесконечных процессиях, мир с бесконечным множеством женщин в восточных одеждах, сидящих на небесно-голубых диванах.
В тишине этой запертой комнаты, где царила искусственная ночь, в дремотном оцепенении, в испарине, вызванной теплом постели, Фостен как будто воочию видела то, о чем читала.
И в этих причудливых пейзажах все прошлое, без связи и системы, вся история человечества, перепутанная и сотрясаемая, как в калейдоскопе, пробегала перед ней в стремительно несущихся волшебных картинах, то и дело прерываемых сменой и перестановкой декораций и эпох. Вот она при дворе Карла I, но вдруг бал, музыка, нарядные дамы — все исчезает по хлопку чьих-то рук, чьих-то невидимых рук, и, окруженный когортой римских центурионов, с пурпурной туникой на острие копья, появляется консул Павел Эмилий, навстречу которому несутся приветственные возгласы римских легионов. Вот она блуждает среди потерпевших поражение солдат какой-то современной армии, слышит топот невидимых беглецов, и вдруг перед ней встают силуэты высоких печальных женщин, которые повторяют, сжимая друг другу руки: «Прости навек!» — и исчезают, вздыхая и рыдая, при слове «смерть», сорвавшемся с уст некоей бледной Прозерпины, восседающей на своем троне в ореоле мрачного величия. И эхо долго повторяет: «Прости навек, прости навек!»
В том, что читала лежавшая на кровати женщина, было для нее много непонятного, много вещей, смысл которых ускользал от нее вследствие полного ее невежества, и, в сущности, эта книга была для нее, взрослого человека, тем же, чем является волшебная сказка для ребенка, чей слабый ум постигает в прочитанном одно чудесное.
И по мере того как Фостен читала «Курильщика опиума», опьяняющее воображение Куинси все больше захватывало ее, доставляя острое умственное наслаждение, унося от будней действительности, от повседневной скуки, разряжая болезненное напряжение нервов.
XIX
Любопытный и уютный музей представляет собой актерское фойе Французской Комедии, где все знаменитые драматические актеры прошлого обрели свою вторую жизнь — на полотне или в мраморе — на его стенах и как будто склоняются с улыбкой над нынешними актерами и актрисами, когда те приходят сюда отдохнуть во время антракта.
На одной стене висит Дюкло, написанная в торжественной манере Ларжильера. Это подлинная королева театра минувших времен, великолепная, величественная, с пышной обнаженной грудью, в ниспадающем прямыми складками костюме Ариадны; упитанный Амур держит над ее головой венец из звезд. Дюкло висит между Бароном и Лекеном, а под ней — прекрасное, задумчивое и кроткое лицо Мольера, кисти Миньяра. На другой стене — две картины Жеффруа. Они изображают два фойе и воскрешают мадемуазель Марс, окруженную актерами и актрисами начала века; над одной из картин голова Тальма. Тут же, в простенке между двумя окнами, возвышается старинный монументальный хронометр, отсчитавший на своем веку столько горьких или праздничных минут. По бокам — две колонны, на которых стоят белые мраморные бюсты мадемуазель Клерон и госпожи Данжевиль. У подножья колонн — два складных табурета с крестообразными ножками; на одном из них часто сиживала Рашель. На той стене, где посредине камин с часами, вделанными в белую мраморную глыбу, увенчанную бронзовым бюстом Превиля, висит по одну сторону полотно Энгра, которое изображает Людовика XIV, принимающего за своим столом Мольера, а по другую — старинная картина, дающая точное представление о нашей прежней, освещавшейся еще сальными свечами сцене, — картина, где нарисованы, каждый в одной из своих ролей, все комедианты и лицедеи прошлого, и в одном углу ее — Мольер со своими удивительными глазами, которые на всех его портретах смотрят в разные стороны. Картина эта подарена Французской Комедии епископом Нансийским.
В этом маленьком музее поставлены для живых, желающих посидеть под сенью мертвых, широкие кресла и просторные диваны красивой изогнутой формы. Здесь есть шкафчик XVIII века, — король Луи-Филипп прислал его однажды взамен люстры, которую, помнилось ему, он видел в детстве у своего отца и у которой Бовалле, пока люстра еще висела в фойе, разбивал тростью по одной из хрустальных подвесок всякий раз, когда бывал не в духе.
Зимними вечерами под этими портретами, в этих располагающих к лени удобных креслах, посреди мягких зеленых тонов обивки, при ласковом свете старинных ламп, отраженном зеркалами, и веселом пламени огромных поленьев, какие жгут только здесь да в каминах присяжных заседателей в суде присяжных, — зимними вечерами, во время короткого отдыха актрис, одетых в костюмы царства Вымысла и Фантазии, уголок этот дышит теплом, уютом, милой стариною и немного — волшебной сказкой.
Вечером, после целого дня, проведенного наедине с собой, в постели, Фостен вдруг решилась выйти и отправилась посидеть час-другой в актерском фойе Французской Комедии.
Развязав ленты у шляпки, она уселась в своем городском туалете на стул у камина, повернувшись спиной к старой картине, изображавшей Мольера и паясничавшего Готье-Гаргиля, и облокотилась на маленький, с острыми углами, клавесин, который фигурировал еще в XVIII веке на представлениях «Севильского цирюльника» Бомарше, а потому считался своего рода реликвией.
Актриса не собиралась выходить, но ее вытолкнула, выгнала из дому та непреодолимая потребность, которая назавтра после окончания произведения побуждает беспокойного творца его, даже против собственной воли, идти туда, где он надеется услышать оценку своего творения, убедиться, что оно занимает внимание публики, пожать лавры, упиться похвалами, прочитать на устах знакомых людей отголосок всеобщего восхищения.
В этот вечер давали длинную современную пьесу одного академика, не делавшую больших сборов, а перед ней — одну из «пословиц» Мюссе, которая шла уже в сотый раз. Народу в театре было мало, и актерское фойе почти пустовало.
Там сидели только три человека: чиновник судебного ведомства, который был влюблен в одну из здешних актрис, но, скрывая это, ухаживал за всеми актрисами театра; старый литератор, завсегдатай Французской Комедии, весь день гревшийся в библиотеках, а по вечерам приходивший греться в театр; ученый-немец, который вошел в моду благодаря увлечению нашего ученого мира германской наукой и теперь, нацепив галстук в розовый горошек, старался завязать светские связи.
— Да, это верно! — говорил он французу. — Прежде я думал, что работа в своем углу может привести к какому-нибудь результату, и вечером я, как истый немец, играл на фортепьяно в своей мансарде... Но старик Газе как-то сказал мне, что здесь можно добиться успеха только с помощью женщин... Да вот Шанвалье... если бы он не бывал в салонах... И тогда я стал одеваться как все.
Тут он с горделивым самодовольством оглядел свою особу и продолжал прочувствованным и грустным тоном:
— Только вот беда... я уже вижу, что никогда не научусь говорить женщинам сальности так, как это умеете делать вы, французы... Я пробую... но получается слишком грубо... или даже непристойно... И вот я умолкаю посреди фразы, никак не могу ее закончить.
Время от времени кто-нибудь из актеров заглядывал в фойе и, подойдя к Фостен, называл ей театральные листки, которые одобрительно отозвались о ней сегодня утром, но от себя не добавлял ни слова.
Один только Брессан в своем развевающемся костюме Фантазио уселся возле нее по другую сторону камина и громко, с горячей товарищеской симпатией, стал превозносить высокое драматическое дарование, которое она проявила накануне.
Потом фойе совершенно опустело.
Наконец туда вошел один знакомый актрисы, низенький сухопарый господин с аккуратной, холеной лысиной, которая, благодаря особым притираниям, напоминала гладкий шар из слоновой кости, — пренеприятный тип светского дилетанта, любитель и перекупщик старины, мастер выманить модную книжку, постоянный спутник знатных иностранцев — словом, неутомимый болтун, чьи комплименты, даже помимо его воли, всегда бывали оскорбительны, но которого повсюду терпели, которому почти прощали, в силу обычного малодушия парижан по отношению к людям, чьи имена попадают в газеты после каждых торжественных похорон и каждой премьеры.
Подойдя к актрисе, он низко ей поклонился и, склонив голову набок, опустив руки, сказал ей самым любезным тоном:
— Знаете, ваш вчерашний успех явился для меня полной неожиданностью... право, я был убежден, что у вас нет никаких данных для этой роли... Однако, поскольку все утверждают, что этот успех существует, ничего не поделаешь, приходится его признать... и все-таки, должен сознаться, у меня не было никакой уверенности... Дело в том, что меня окружают люди, которые всегда начисто отрицали ваш талант... и я был изумлен... приятно изумлен — поверьте... Однако позвольте мне представить вам одного иностранца, который умирает от желания познакомиться с нашей великой трагической актрисой.
Он вышел и через несколько минут вернулся с каким-то голландским адмиралом, который так мало и так дурно говорил по-французски, что вряд ли мог уразуметь что-либо французское, кроме разве только пантомимы Дебюро.
Светского дилетанта и голландского адмирала сменили два молодых человека, состоявших при посольстве. Вылощенные и выутюженные, они под руку подошли к Фостен вихляющей походкой и, любуясь в каминном зеркале вырезом своих жилетов, стали по очереди повторять замирающим голосом: «Божественная, божественная, божественная!»
И под конец — восторг, на этот раз неподдельный! Знаменитый хирург, известный своей страстью к театру, как бомба влетел в фойе и, запыхавшись, сказал Фостен:
— Из-за вас я не поехал на операцию в Бордо... Да, да, я телеграфировал моему пациенту: «Завтра не могу, играет Фостен!..» Вы были изумительны, изумительны на протяжении всего спектакля!
Фостен улыбнулась ему одной из своих обворожительных улыбок — той, что слегка приподнимала углы рта.
— Нет, дорогой доктор, нет... Видите ли, у меня есть внутреннее чутье, и оно никогда не обманывает меня... Когда я в ударе, когда я даю все, что могу дать, я слушаю себя, и это доставляет мне удовольствие... Я наслаждаюсь своей игрой... я — и актриса и публика одновременно. Так вот! Вчера — да, я испытывала это чувство в некоторые моменты... но не весь вечер... о нет, не весь вечер.
— Весь вечер! Вы были изумительны весь вечер! — крикнул хирург, убегая: он услышал голос, объявивший: «Действие начинается, господа!»
Потом, когда по зале разнеслась весть, что в театре Фостен, к ней начали приходить друзья, знакомые; все хвалили ее, но среди этих похвал не было ни одной фразы, которая могла бы пощекотать самолюбие актрисы.
Люди приходили и приходили, визитам и поздравлениям не было конца.
И пока Фостен оставалась в фойе, посетители, сменяя друг друга, продолжали осыпать ее комплиментами — шумными, восторженными, высокопарными.
XX
Актеров и актрис подлинного таланта не могут ни обмануть, ни растрогать глупые восхваления, ходячие комплименты, аляповатые поздравления многочисленных приятелей и еще более многочисленных знакомых. Для того чтобы их тщеславие действительно было польщено, они должны найти в изъявлениях восторга какую-то оригинальную, свою оценку, выраженную в точной фразе; им необходимо, чтобы похвала относилась к тому месту пьесы, которое, по их собственному внутреннему убеждению, действительно удалось им, или чтобы им указали на те несовершенства их игры, какие они заметили и сами. Вот из этого-то внутреннего презрения к банальным восторгам толпы и рождается у актеров и актрис глубокая вера в двух-трех близких друзей, людей со вкусом, — как правило, людей неприятных, сварливых, выуженных подчас в самых эксцентрических кругах, людей, чье суждение, однако, является для актера единственным, имеющим влияние на его игру, и чья похвала одна дает ему радость.
И вот на следующий день после вечера, проведенного в фойе актеров, Фостен, позавтракав, отправилась к одному из таких близких друзей, который, к ее удивлению, не пришел повидать ее после спектакля.
На улице Сент-Апполин она остановилась у небольшого особняка, построенного во второй половине XVIII столетия недалеко от крепостного вала, где прежде катались в каретах, и имевшего такой обветшалый, заброшенный вид, что, казалось, жильцы покинули его уже много лет назад.
Все амбразуры нижнего этажа были наглухо заделаны, привратник отсутствовал, и Фостен звонила около десяти минут, пока древний слуга, похожий на простака-лакея из какой-то старинной комедии, не отворил наконец маленькую, проделанную в воротах дверку, предварительно осмотрев посетительницу в потайное окошечко.
Она прошла по огромным пустым комнатам, отделанным прелестной деревянной резьбой, некогда белой, а теперь ставшей совсем черной от полувековой пыли; в рисунке резьбы постоянно повторялись голубки среди роз — грациозное воспоминание, которое оставила на панелях актриса Коломб из Итальянской Комедии, для которой и был в свое время построен этот особняк.
Фостен ввели в спальню старого маркиза де Фонтебиз, который еще не вставал с постели, хотя был уже час пополудни.
На ночном столике, рядом с париком, мокла в чашке с водой его вставная челюсть, а сам маркиз, в меховом колпаке с наушниками, лежал закутанный в баранью шкуру. К пологу кровати, в ногах, довольно высоко, было приколото булавками полотенце.
— Отчего это вас не видно было, господин маркиз?
— Девочка, я нашел твою игру несовершенной, — сурово сказал он. — Да, да, — ты слышишь? — несовершенной! — повторил маркиз, беспрестанно отхаркиваясь и после каждого слова посылая густой плевок в приколотое к пологу полотенце.
Маркиз де Фонтебиз был старый дворянин, которого разорили актрисы и у которого остался только этот маленький особняк, купленный им для каких-то амурных дел в последние годы его величия, да весьма жалкий годовой доход, вынуждавший его обедать в дешевых закусочных и ограничиваться услугами старого Калеба, довольствовавшегося жалованьем горничной. Маркиз считался последним живым представителем того фойе Французской Комедии, во главе которого стояла неподражаемая Конта, сгруппировавшая вокруг себя Коллена д'Арлевиль, маркиза де Ксименес, Андрие, Пикара, Виже, Александра Дюваля, Дюсиса, Легуве. В те вечера, когда во Французском театре или в Одеоне шла трагедия или комедия старинного репертуара, вы могли быть уверены, что встретите там маркиза де Фонтебиз. Одаренный блестящей памятью старых людей минувшего столетия, той памятью, в которой полностью запечатлелась вся родословная книга д'Озье, он знал своих любимых классиков наизусть, невольно суфлируя в театре, когда случалось запоздать суфлеру, и мог осведомить вас о всех известных и неизвестных изменениях, происшедших с какой-нибудь ролью, или рассказать, как какой-нибудь жест, совершенно случайный, привел к новой трактовке, новой мизансцене, доселе не существовавшей. И он способен был прочитать вам наизусть все знаменитые строфы в той самой интонации, в какой читал их тот или иной из прославленных актеров и актрис, сменявших друг друга на протяжении шестидесяти лет.
Таким образом, он самочинно возвел себя в сан, так сказать, почетного хранителя старых традиций, которые и отстаивал, яростно стуча по полу своей похожей на костыль тростью, очень забавный в своем бессильном гневе. Актеры советовались с ним, дебютанты умоляли прослушать, и он принимал их, лежа в постели, которую покидал лишь для того, чтобы пообедать и отправиться в театр.
От любви к актрисам маркиз де Фонтебиз уже давно перешел к чистой и бескорыстной любви к театральному искусству. Он первый открыл Фостен, когда она дебютировала на сцене какого-то жалкого театра, начал превозносить ее, познакомил с журналистами, протолкнул в Одеон, — словом, стал заботиться о молодой актрисе с таким рвением, энергией, настойчивостью и упорством, словно был ее учителем или отцом. Правда, это покровительство маркиза далеко не всегда было приятным. Напротив, он не скупился на резкости, замечания, выговоры, ежеминутно отпуская свое излюбленное ругательство: «Деревянная башка». Иной раз, когда работа актрисы не удовлетворяла его, ему случалось даже, в порыве старческого раздражения, швырнуть чем попало в голову ученицы.
Маркиз лежал на спине, примяв головой углы подушки, зарывшись в грязные простыни, из-под которых торчали только щетинистые седые брови, властный орлиный нос и два желтых глаза, смотревших на актрису с недовольным и сердитым выражением.
Тоном шутливого смирения Фостен сделала попытку защищаться:
— Право же, маркиз, эта роль...
— Да как ты смеешь говорить об этой роли!.. Вспомни, ведь когда шел «Баязет», ты тоже говорила, что страсть прорывается там слишком быстро и что это тебе мешает.
— Что ж, я и сейчас говорю это... но что касается роли Федры, то... согласитесь сами... она слишком сложна. Еще не было в мире актрисы, которой удалось воплотить этот образ во всем его многообразии... в этом виновата не я, а Расин... Я вверяюсь поэту... отдаюсь его вдохновению, а он все время обманывает, он подводит меня... Право же, в этом образе соединены два женских типа, и притом совершенно противоположных.
— Та-та-та, видимо, ты хочешь повторить мне шутку великого короля, сказавшего, что эту роль должны бы играть вместе и Шанмеле и Деннебо.
Он отхаркался и заговорил снова:
— Видишь ли, девочка, твое: «Ты имя назвала» — прозвучало очень сухо... конечно, это труднее произнести, чем у Еврипида: здесь нельзя отыграться на «а не я»... но это сухо, да, страшно сухо!
— Вы правы, — сказала она, — верную интонацию, настоящую, прочувствованную, я нашла лишь однажды, разучивая роль в одной гостиной... но с тех пор ни разу, ни одного разу мне не удалось найти ее вновь, несмотря на все мои усилия.
И она добавила с грустью:
— У нас, актеров, бывают вещи, которые удаются нам только однажды, в особом душевном состоянии.
— Ты сама не захотела... нынешние сороки разучились работать... Вспомни, как готовился к роли Лекен! Четыре строфы он произносил почти шесть минут!.. А как бесцветно ты произнесла это двустишие в признании Ипполиту:
Моя сестра тебе дала бы свой клубок,
Чтоб в Лабиринте ты запутаться не мог.
— Но ведь эти стихи совсем не нужны! Зачем понадобилось дублировать ими жест? — вскричала актриса, встав с места и возбужденно прохаживаясь по комнате. — Почему он не поставил точку после:
А ведь тогда бы ты покончил с Минотавром
И был за подвиг свой венчан победным лавром!..
Зачем после гармонического финала этих двух женских рифм он вставил две мужские — и такие короткие, что их никак не произнесешь!.. Почему в этом месте он забыл, что монолог актера непременно должен быть согласован с пантомимой!.. Это ошибка Расина, единственная, известная мне ошибка, но, так или иначе, эти два стиха... можете говорить, что вам будет угодно, господин маркиз, но эти два стиха не дают пищи для жеста!
— Замолчи или я швырну тебе в голову свой парик! — проревел маркиз, беспокойно ворочаясь под бараньей шкурой. — Судить великих мастеров! Тебе! Да ты просто дура, слышишь, дура... иногда гениальная дура — это-то получается у тебя помимо воли, — но все-таки дура, деревянная башка во все остальное время.
— Вот что, маркиз, вы сегодня встали с левой ноги. До свидания, я ухожу. До другого раза.
— Послушай, девочка, — сказал старик, глядя на нее потеплевшим отеческим взглядом, — маркиз недоволен, да, он недоволен... Тебе, видишь ли, все время недостает эпического пламени сильных страстей... Быть может, впрочем, это пламя уже угасло... Все стало нынче таким «добропорядочным»... И вы, актрисы, разве вы не сходитесь теперь с кем попало и не живете самым приличным, самым супружеским образом с каким-нибудь господином... Ах, в мое время актрисы были совсем другие. Жизнь их сердца была не такой ровной. Словом, несомненно одно — что ты совершенно лишена любовного пыла... а Федра, сыгранная без истинного пыла, — это не то, не то, не то!
Тут старик замолчал, полузакрыл глаза, и Фостен, думая, что он заснул, встала, собираясь уходить.
— Вот что, девочка, хочешь добрый совет? — сказал вдруг маркиз, плюнув в полотенце, когда актриса уже хотела было закрыть за собой дверь. — Поскорее найди себе ревнивого любовника... он будет тебя бить... а ты будешь его обожать, — быть может, это даст тебе ключ к твоей роли.
И Фостен в сопровождении дряхлого слуги еще раз прошла по огромным пустым апартаментам с обиженным видом школьницы, которую побранили, но на лице ее после оригинального совета старого театрала витала легкая тень улыбки.
XXI
Было три часа. Фостен, которой вечером предстояло во второй раз играть Федру, только что села в ванну.
Ванная комната Жюльетты, «фарфоровая комната», как ее называла Генего, была единственной в доме, которую актриса не доверила обойщику Бланшерона и которую она отделала по своему вкусу, и притом с расточительностью, какая ей и в голову не приходила при отделке других комнат маленького особняка. Фостен говорила — а она ежедневно проводила целый час в воде, — что во время ленивого сидения в ванне глаза ощущают потребность развлекаться красивым видом стен. И она заказала Бракмону, изобретательному мастеру отделки, двадцать четыре больших фаянсовых панно, которые совершенно закрыли стены.
Художник-керамист разбросал по гладким плитам изящных речных и озерных птиц, порхающих в копьевидной листве влажных берегов, и сверкающий полет этих пестрых птиц, словно вспышки молнии, прорезал светлую зелень, ярко выделяясь на радостно белом, испещренном яркими пятнами фоне. На полу комнаты — очаровательная выдумка художника! — был изображен целый ворох цветов и веток, как бы сорванных сильным ветром, и маленькие четырехугольные плитки были сплошь усыпаны белыми лепестками вишен, красными лепестками японской айвы.
Вместо стульев здесь стояли скамеечки из китайского фарфора.
Плафон был чрезвычайно оригинален: в центре — зеркальная розетка, обрамленная деревянной резьбой и производившая впечатление прозрачной крыши садовой беседки в восточном вкусе, а на этом зеркале с амальгамой небесно-голубого цвета (опыт совершенно новый) — яркие цветы, какие были в моде в итальянских салонах XVII века. Эти рисунки сделал для Фостен некий художник-декоратор, не имевший себе равных в своем искусстве, но страдавший запоем, и она сумела добиться их лишь после того, как целый месяц продержала художника взаперти у себя в доме. Розетку плафона окаймляла широкая четырехугольная рама с глубоко врезанными углами, сделанная из нескольких слоев баккара, чьи причудливые рельефы и бесчисленные грани искрились и сверкали, словно маленькие зеркальца на флюгере для приманивания жаворонков.
Посреди комнаты возвышалась огромная, блестевшая, как золото, медная кадка, а в ней росла белая сирень, настоящее маленькое деревцо, которое Фостен в течение всей зимы и весны заменяла новым, как только цветы начинали вянуть.
Но предметом и в самом деле достойным зависти женщины со вкусом была белая фаянсовая ванна, совершенно гладкая и только по краям украшенная вьющимся узором миртовых листьев, — одна из двух ванн, единственных, которые выдержали обжигание в огромной печи, сооруженной неким фабрикантом, разорившимся на этом деле; второй экземпляр хранится в музее Севра. Над ванной два крана для горячей и холодной воды — две лебединые шеи из вороненого серебра — были отлиты по моделям, оставленным Поссо, гениальным скульптором-ювелиром, который умер таким молодым.
У изголовья ванны, на кушетке, покрытой циновкой, тонкой, как та соломка, из которой плетут манильские портсигары, лежал подбитый белой фланелью пеньюар из старинного гипюра и, свисая до полу, почти закрывал своими складками крошечные туфельки из перьев колибри.
Фостен находилась в воде уже около трех четвертей часа, предаваясь неясным грезам, переносясь рассеянной и словно разжиженной мыслью, — такое состояние нередко бывает, когда долго сидишь в ванне, — к своему утреннему посещению маркиза де Фонтебиз. Аплодисменты, вызовы, заключительные овации — все это было у нее третьего дня на премьере, и все-таки она чувствовала, что довольна собой лишь наполовину; ей казалось, что она дала не все, что твердо решила дать, когда приступала к изучению роли Федры. Да, она играла так, как позволил ей ее талант, но достаточно ли одного таланта, каков бы он ни был, для такой роли? И, неизвестно почему, ей вдруг вспомнился, почти дразня ее, ужасный крик, который испустила в какой-то плохонькой мелодраме об уличной женщине, больной чахоткой, одна актриса, довольно посредственная, но... но и сама немного задетая чахоткой.
Раздумье актрисы было прервано приходом Генего, которая, подав своей госпоже визитную карточку, сообщила, что господин, принесший ее, ожидает внизу и просит назначить день и час, когда ему будет оказана честь быть принятым хозяйкой дома.
Фостен взяла карточку и прочитала:
ЛОРД ЭННЕНДЕЙЛ
— Лорд Эннендейл? — проговорила она. — Но я не знаю, кто это... решительно не знаю.
— Как, сударыня, вы не знаете господина, который передал мне эту карточку? Да ведь это господин Уильям Рейн!
— Уильям Рейн! Ты сказала — Уильям Рейн... Да, конечно... Эннендейл — это фамилия его отца... Так зови его, зови сию же минуту!
— Сударыня, да вы, видно, забыли, где находитесь?
— Говорю тебе, приведи его сюда.
Дрожащей от волнения рукой Фостен взяла со столика какой-то флакон, вылила все его содержимое в ванну, и, когда лорд Эннендейл вошел, розовое тело женщины едва виднелось в молочно-опаловой белизне, окутывавшей и одевавшей, словно облаком, ее наготу.
Молодой лорд, в глубоком трауре, почтительно направился к купальщице и, подойдя к ванне, опустился на одно колено, чтобы поцеловать мокрую руку, которую Фостен протянула ему почти со страхом, точно перед ней было привидение.
— Да, это я, это я!.. О, сколько событий произошло в моей жизни... я расскажу вам о них когда-нибудь после... но я прочел все ваши письма и знаю, что вы все еще любите меня. Жюльетта!
— Вы? Уильям? Возможно ли?
И Фостен умолкла, целиком уйдя в созерцание, словно желая убедиться, что он действительно существует, убедиться в реальности его присутствия; лицо ее светилось почти безумным счастьем. Он хотел заговорить, но она каким-то неопределенным, мягким движением приложила руку к его губам.
— Нет, нет, — прошептала она, — не говорите мне ничего: ваши слова отвлекают меня, звук вашего голоса рассеивает, а я хочу смотреть на вас... смотреть и смотреть!
Вошла Генего.
— О, господи! Сударыня, там господин Бланшерон! Он хочет поговорить с вами... хочет подняться сюда во что бы то ни стало.
По лицу молодой женщины промелькнула тень недовольства, словно при неприятном пробуждении; наконец она уронила:
— Скажи Бланшерону, что я не могу принять его... что я лежу в постели с лордом Эннендейлом!
И, видя, что Генего не решается выполнить приказание, Фостен добавила повелительным тоном:
— Скажи ему это — слышишь?
Когда Генего вышла, купальщица взглядом указала Уильяму на фарфоровую скамеечку, стоявшую у самой ванны. Целомудренно скрестив руки на груди, лишь своими темными волосами прикасаясь к светлой шевелюре Уильяма, влюбленная женщина ласково, убаюкивающе покачивала головой, и бессвязные нежные слова, то и дело прерываемые долгим молчанием, выражали все ее волнение и радость. Внезапно она умолкла и отвернулась от того, кого любила. Уильям, наклонившись, заглянул ей в лицо и увидел слезы, счастливые слезы, медленно стекавшие к приподнятым уголкам улыбающихся губ.
— Какое странное счастье... кажется, я плачу, — сказала Фостен, проводя рукой по глазам. — Ах, уже четыре часа... Уильям, нам надо расстаться... Приходите за мной нынче вечером в театр... Генего передаст вам пропуск в маленькую закрытую ложу... Ну, уходите... скорее.
И когда Уильям собирался переступить порог, актриса, посылая ему воздушный поцелуй и обнажив при этом движении плечи и грудь, крикнула ему вслед:
— Милорд, сегодня Фостен будет играть для вас, вы слышите — только для вас!
XXII
Когда Фостен подъехала к театру, перед ним уже выстроилась бесконечная вереница людей, которая, извиваясь вдоль фасада со стороны улицы Ришелье, заворачивала за угол под аркадами и углублялась в улочку Монпансье, — шумная, жестикулирующая толпа, над которой стоял взволнованный гул голосов.
В результате споров, разгоревшихся после премьеры, Париж в ожидании этого второго спектакля был охвачен жгучим любопытством. Одни ставили новую трагическую актрису выше Рашели, другие видели в ней лишь посредственность, наделенную, однако, прекрасными внешними данными, превосходный инструмент, которым управлял старый маркиз де Фонтебиз, — словом, актрису искусную, но не умеющую глубоко чувствовать. В последние два дня дебют Фостен служил темой для разговоров и споров во всех кафе, гостиных, клубах. По поводу этого дебюта разгорелся бой и в газетах, причем вопрос ставился так: допустимо ли оживлять мертвую трагедию с помощью средств современной драмы, как сумела это сделать перебежчица из Одеона? И вот весь Париж решил собраться в этот вечер во Французском театре, чтобы вынести актрисе окончательный приговор.
Фостен поднялась к себе в уборную и начала репетировать роль, то и дело нетерпеливо посматривая на часы, лежавшие на туалетном столике, и прислушиваясь к отдаленному, все возраставшему гулу, доносившемуся до нее из зрительной залы и похожему на рокот волн приближающегося наводнения.
Вопреки своему обыкновению, актриса, не дожидаясь трех ударов гонга, побежала на сцену и прильнула к дырке в театральном занавесе. Взор ее, безразличный ко всем знаменитостям, сидевшим в зале, к строгим лицам стариков из первых рядов партера, ко всей этой бурлящей публике, заранее воспламененной ею, упорно искал сузившимся зрачком лишь один силуэт — силуэт, который должен был появиться за сеткой темной маленькой ложи.
В эти последние мгновения перед началом спектакля, продолжая пристально всматриваться в темный четырехугольник и убедившись в том, что ложа обитаема, она вдруг почувствовала какую-то приятную истому, какую-то слабость, как перед началом обморока, и ухватилась мизинцем за дырочку в занавесе, чтобы не упасть.
И когда, начиная сцену, актриса произнесла первые слова роли:
Энона, погоди! Помедлим здесь мгновенье,
И тело и душа мои в изнеможенье... —
все движения ее томящегося любовью тела, мягкие, проникновенные интонации голоса сразу отозвались в сердце всех влюбленных, сидевших в зрительном зале, заставляя их взором искать друг друга. Строки Расина уже не рассказывали публике о любви жены Тезея, они говорили Уильяму о любви Жюльетты. Под сенью лесов Греции она рассказывала ему о тенистых лесах Шотландии. И все ее дышавшие любовью слова были так явно обращены в сторону маленькой неосвещенной ложи, что головы зрителей ежеминутно оборачивались из партера, наклонялись с балкона, ревниво впиваясь взглядом в темный угол, где сидел никому не известный человек, чье лицо было трудно различить.
После первого акта Уильям зашел в уборную актрисы, чтобы ее поздравить, но она попросила его уйти.
— Не приходите больше, — сказала она, — я не хочу видеть вас среди этой равнодушной толпы... Ждите меня в моей карете после спектакля.
Во втором акте, во время любовного признания, актрисе, охваченной пламенем собственной страсти, на секунду изменил голос, но публика заметила в замирающем шепоте Фостен лишь волнение души, изнемогающей от глубокого чувства, и, быть может, никогда еще знаменитая тирада не производила на зрителей такого сильного впечатления.
Во время этого акта и всех последующих Жюльетта продолжала обращать слова своей роли к одному Уильяму. К нему относились все оттенки, все интонации бессмертного признания в любви и страсти. К нему устремлялись порывы восторга и нежности переполненной души. К нему была направлена горделивая радость актрисы, удовлетворенной удачей какой-нибудь строфы, вырвавшейся из глубины ее влюбленного сердца.
Криков «браво», аплодисментов, неистовства взволнованной залы, потрясенной правдивым изображением истинной страсти, Фостен не слышала, не видела, не замечала. Она целиком принадлежала одному человеку, и для нее не существовали ни оркестр, ни ложи первого яруса, ни галерея, ни амфитеатр, ни партер. Она видела две руки в белых перчатках на полуспущенной решетке маленькой ложи, и ничего больше.
Фостен сдержала обещание, данное лорду Эннендейлу: она играла для него, для него одного, доставляя самолюбию своего возлюбленного величайшее удовлетворение, какое может дать мужчине любовь актрисы, с нежностью приносящей ему в дар свой талант в присутствии двух тысяч человек, перед которыми она играла, но которых для нее словно и не было в зале.
Спектакль продолжался в атмосфере все возрастающего восхищения зрителей, а также среди удивления и даже изумления тех, кто был на премьере. Это была уже не та Федра, которую они видели два дня назад, — неукротимо чувственная Федра Еврипида. Сегодня это была Федра Расина, Федра, изнемогающая от любви и воркующая, как раненая голубка, — Федра учтивого двора, наследника древних цивилизаций.
XXIII
— Раво, домой... и не торопись! — бросила кучеру Фостен.
Она села рядом с Уильямом, и казалось, даже ее шелковое платье прошуршало о том, что эта женщина счастлива. Полные своим блаженством, они молчали. Они упивались тем ленивым сладострастием, которое обволакивает влюбленную чету в узкой карете, тем нежным и вкрадчивым волнением, которое струится от одного к другому, тем мягким и магнетическим проникновением одного тела в другое тело, одной души в другую душу, которое неизбежно в этой атмосфере безмолвного томления и горячей близости, возникающей от прикосновения женского платья, женской теплоты к сидящему рядом мужчине. Это какая-то особая интимность — и физическая и духовная, — интимность, расцветающая в полумраке, где беглые отблески уличных фонарей, проникая сквозь окошечки кареты, как бы заигрывают с женщиной, словно оспаривая у чудесной, возбуждающей темноты то щеку ее, то лоб, то какую-нибудь мелочь туалета, и на мгновение показывают вам таинственное лицо и глаза цвета фиалки. А покачиванье экипажа, убаюкивая тело и мысль, при каждом толчке заставляет женскую головку доверчиво склоняться на подставленное плечо. Без единого слова о любви влюбленные медленно ехали, подчиняясь неторопливому бегу лошадей. Уильям держал в руках руку Жюльетты, машинально перебирая ее тонкие, отвечавшие на ласку пальцы, гладя ее нежную, гладкую, чуть влажную кожу, ее теплую мягкую ладонь, и ему казалось, что в него незаметно переливается частица жизни любимой женщины.
XXIV
Дойдя до второго этажа особняка на улице Годо-де-Моруа, Уильям остановился, но актриса сказала ему:
— Выше, друг мой, сегодня мы будем ужинать в «каюте».
— А как же быть с гостями, которых сударыня сама пригласила на сегодняшний вечер? — с отчаяньем вскричала Гене-го, стоя в полуотворенных дверях столовой.
— Пусть ужинают без меня!.. Скажи им, что я уехала в Гавр... что мне захотелось посмотреть на бурю, которая ожидается сегодня ночью.
Ведя возлюбленного за собой, Фостен поднялась на последний этаж, и они вошли в комнату, где паркет, обшивка стен и плафон были сделаны из полированной ели и где стояла узкая девичья кровать с пологом из белого муслина.
— Вот мой уголок. Здесь я могу спокойно разучивать роли, работать над ними... а на этой кровати спит одна моя подруга, когда приезжает из провинции навестить меня.
Перед камином, где пылал яркий огонь, стояли на маленьком столике креветки, холодная куропатка, корзинка винограда из Фонтенебло, два граната и бутылка шампанского — ужин студента и гризетки.
— Но ведь я так и не успел еще сказать вам, что сегодня вы были величайшей актрисой мира! — воскликнул Уильям.
— Сегодня мы будем говорить только о нашей любви, — возразила Фостен. — Однако подождите минутку... — прибавила она и скрылась за дверью.
Уильям присел у камина, разглядывая комнатку, где в начинавшем согреваться воздухе стоял здоровый запах смолы, и вид кровати с белым пологом, этой невинной кровати, принес ему чувство радости и облегчения: стало быть, это не та комната, где Фостен отдается ласкам своего покровителя.
Через несколько минут Фостен явилась в пеньюаре и кружевной косынке, которые лорд Эннендейл тотчас узнал: Жюльетта носила их в Шотландии, в те лунные ночи, когда, сидя на террасе его замка, они подолгу созерцали белых павлинов.
— Да, я сберегла это! — сказала Фостен, отстраняясь от протянутых рук Уильяма, хотевшего заключить ее в объятия. — Потом, — добавила она, — будьте благоразумны... сейчас я угощу вас ужином, милорд.
Чета влюбленных уселась за маленький столик и без помощи прислуги принялась за еду. Касанья рук, передающих друг другу блюда, шутливые словечки, рожденные ничем не стесняемым чувством, жизнерадостность — неизменный спутник таких вот импровизированных трапез, живость и непосредственность волнующего свидания наедине в этой своеобразной мансарде — все напоминало веселые ужины времен первых увлечений юности.
Оба ели, глядя друг на друга и улыбаясь друг другу.
Время от времени Фостен вдруг опускала поднесенную ко рту вилку и после минутного созерцания, напоминавшего благоговейный восторг, какой мы видим иногда в глазах людей, изображенных на картине, шептала, глубоко вздыхая, почти как мужчина, любующийся женщиной:
— Как вы прекрасны, мой прекрасный лорд!
И Фостен говорила правду, — молодой лорд Эннендейл действительно был прекрасен! Прекрасна была задумчивая нежность его голубых глаз, прекрасны его шелковистые вьющиеся волосы и бородка, прекрасна светлая кожа того прозрачного оттенка, какой бывает у одних только англичан, прекрасна высокая стройная фигура, — и весь он, тонкий, но сильный, был прекрасен аристократической красотой прекрасных белокурых рас.
И как забавны, как очаровательны были замешательство, неловкость, счастливое смущение мужчины, принимающего поклонение женщины — той женщины, которой час назад аплодировал весь Париж.
И влюбленный иностранец был нем, не находил фраз, не находил слов, чтобы ответить на изящные комплименты и нежные излияния, расцвечивавшие яркими красками глубокую сущность этой красивой, чисто французской любви.
Когда ужин был кончен и Уильяму не сразу удалось зажечь папиросу, Жюльетта отняла ее, зажгла, затянулась сама и лишь тогда поднесла к его губам,
— А теперь, мой прекрасный лорд, ваши приключения, все ваши приключения с того дня, как мы расстались.
И Уильям рассказал, что отец, встревоженный его любовью к ней, вынудил его оставить службу в бельгийском посольстве и добился для него места личного секретаря вице-короля Индии, причем все это было проделано очень быстро, в течение нескольких недель, благодаря той власти, какую в аристократических семьях Англии все еще имеет отец над сыном. Он, Уильям, написал своей Жюльетте, но преданный отцу слуга перехватил письмо. Тогда он уехал в отчаянии и провел в Индии несколько лет, показавшихся ему целой вечностью.
— А черный тигр?
— Откуда вы узнали? Ну, это была незначительная рана, большая царапина — и только... газеты все преувеличили.
— Покажите мне это место — я хочу его видеть!
И Жюльетта, просунув пальцы в рукав его рубашки, стала ощупывать его руку.
— Какой вы еще ребенок!
И лорд Эннендейл продолжал свой рассказ:
— Через три года мне сообщили телеграммой, что отец умер... Я вернулся в Англию... и нашел все ваши письма, запечатанные в пакет для передачи мне. Это случилось как раз тогда, когда все газеты полны были сообщениями о вашем предстоящем дебюте во Французской Комедии. Однако дела, связанные с получением наследства, задержали меня в Англии... и я смог быть в Париже лишь на другой день после премьеры.
Тогда женщина опустилась на ковер у его ног и, положив руки на его колени, спросила, глядя ему прямо в глаза:
— Ну, а женщины?.. Тамошние женщины? Я хочу, чтобы вы рассказали мне о них!
— Ах, баядерки! — произнес лорд Эннендейл тоном иронического восхищения. — Что же, все очень мило в этих миниатюрных созданиях — их лукавые детские мордочки и топот их босых ножек, прозрачные кофты из цветного газа и шелковые шальвары, руки, унизанные кольцами и маленькими зеркальцами, золотисто-смуглые лбы и носы, в которых звенят позолоченные украшения...
— Да, да, но, несмотря на их носы, мой прекрасный лорд, я уверена, что вы много любили в этой стране.
— Любил? Нет, Жюльетта, — просто ответил англичанин. — Я любил там только ваш портрет... хотя и думал, что забыт вами.
Жюльетта стремительно поднялась с ковра, упала на колени подхватившего ее Уильяма, притянула к своим губам губы любовника и, порывисто целуя его, проговорила:
— Пойдем!
И, мгновенно раздевшись, разбросав по комнате одежду, женщина была уже в постели; опершись головой на руку, она улыбалась, предвкушая наслаждения ночи, и ее полуоткрытый рот был похож на розовый цветок с влажной тенью, таящейся в глубине.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Всю ночь любовники пылали и томились, сжимая и разжимая свои объятия, смешивая дыхание в поцелуях и вздохах, замирая, переходя от счастливого возбуждения к столь же счастливому изнеможению.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Страсть, словно электричество, излучалась из трепещущего тела женщины; любовное пламя, как молния, проникало в самую глубину существа мужчины, лежавшего в ее объятиях. И в чувственных порывах ее любви наивная нежность молодой девушки сочеталась со смелыми ласками куртизанки, сдержанность — с бесстыдством.
Минутами, среди блаженного лепета, сопутствующего наслаждению, к ней вдруг возвращалось далекое детство, и из ее стиснутых зубов вырывалось слово «мама» — слово, которое раздается из уст женщин и тогда, когда их убивают.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
По временам, словно напуганная какой-то мыслью, притаившейся в глубине ее мозга, она вдруг судорожно сжимала Уильяма в объятиях, прикрывая его своим телом и как бы защищая от чего-то.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И бесконечные поцелуи, поцелуи и снова поцелуи.
До самого утра продолжалось это слияние двух тел, как бы растворившихся в одной длительной ласке... Лицо Жюльетты, преображенное экстазом, минутами казалось мертвым, а кончик языка в ее пылающем рту был холоден как лед.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И каминные часы, на которые Фостен, раздеваясь, бросила свою кружевную косынку, приглушенно отбивали под круженным покровом сладострастные минуты этой ночи.
XXV
Сидя за тем же столиком, за которым они ужинали накануне, любовники завтракали, когда вошла Генего и положила перед Фостен письмо со штемпелем одного из пригородов Парижа.
Фостен распечатала письмо, прочитала, глаза ее широко раскрылись.
— Наконец-то я могу быть спокойна! — вскричала она и торжественным жестом передала письмо Уильяму.
Вот это письмо:
«Вечер. Станция Вирофле.
Жюльетта!
Убить лорда Эннендейла не значило бы вернуть Вас — не так ли? Так вот — раз для меня больше нет Жюльетты, я убиваю себя! Но я не желал бы, чтобы тень от скандала, связанного с моей смертью, могла упасть на Вас, и, когда Вы получите это письмо, меня уже не станет: я буду перерезан пополам колесами встречного поезда при падении из вагона. Не тревожьтесь, я досконально изучил вопрос на месте, а Вы ведь знаете, что я практический человек. Итак, процедура будет проделана весьма искусно, и моя смерть покажется всем вполне естественной, — никому и в голову не придет, что она может иметь к Вам хоть какое-то отношение. Не бойтесь, Жюльетта. я не собираюсь упрекать Вас! У меня было детство бедняка, молодость некрасивого, посредственного человека, и в преисподней будничных дел единственными годами, теми годами, после которых я уже не могу жить, не видя Вас, я обязан Вам, и я благодарю Вас за них. За всю свою жизнь я любил только Вас, Вас одну, да еще мою бедную собаку, которая Вас обожала и которую Вы охотно ласкали. Вы чересчур горды, чтобы принять от меня в наследство что бы то ни было, но Вы не откажетесь взять к себе Дика, и через несколько минут, умирая, я буду с радостью думать, что, когда меня не станет, собака, которую мы оба любили, будет иногда лежать у Вас на коленях.
Прощайте.
Бланшерон».
Прочитав письмо самоубийцы, Уильям взглянул в лицо Фостен, и ему стало почти страшно, когда он понял, какие неглубокие корни оставляет в сердце вновь полюбившей женщины старая любовь.
— Этот человек по-настоящему любил вас, Жюльетта! — с растроганной ноткой в голосе произнес лорд Эннендейл. — Надо послать за его собакой.
XXVI
Спустя несколько дней лорд Эннендейл и Фостен, предшествуемые привратником, осматривали большой, предназначенный к продаже особняк на улице Фобур Сент-Оноре.
Молодой лорд шел по анфиладе парадных апартаментов, почти не глядя на них, и, казалось, был всецело погружен в свои мысли, уделяя предметам внешнего мира, как это подобает англичанину, лишь рассеянное внимание скучающего человека. И объяснения привратника по поводу высоты потолков, достоинства стенной живописи, изящества ленных украшений вызывали у посетителя лишь легкое движение век.
Перешли к осмотру второго этажа. Ставни были закрыты. Когда привратник распахнул одну из них, с ветки высокого дерева, росшего совсем близко от окна, взметнулся кверху испуганный щебет.
— Bird, {Птица (англ.).} — произнес лорд Эннендейл, подняв палец, и лицо его приняло удивленное и вместе с тем обрадованное выражение.
Затем англичанин снова впал в свое флегматичное бесстрастие, и осмотр продолжался при все возрастающем унынии привратника.
Спускаясь вниз, бедняга все же решился сказать:
— Прошу прощения, я забыл показать господам вот это помещение.
И он провел их в маленькую комнатку, где стояла большая мраморная ванна; мрамор, правда, был самый обыкновенный.
— Bath, {Ванна (англ.).} — произнес лорд Эннендейл, по-видимому, приятно удивленный этой неожиданной и счастливой находкой. И несколько мгновений он стоял, скрестив руки, с улыбкой разглядывая ванну.
Подняв глаза, он увидел, что Фостен уже в коридоре; она шла быстро, словно убегая от него, и спина ее как-то странно вздрагивала.
Он догнал ее, слегка обеспокоенный:
— Что такое, Жюльетта? Что с вами?
Прижав к губам платок и еле удерживаясь от приступа безумного смеха, она пробормотала, резко отстраняясь:
— Не говорите со мной... После...
Оставалось осмотреть конюшни. Привратник, ободренный благоприятным впечатлением, произведенным на посетителя ванной, уже раскрыл было рот, чтобы назвать количество boxes {Стойл (англ.).} и т. д. и т. д., но не смог выговорить ни слова, заметив глубокое презрение, выразившееся вдруг на лице английского лорда. Принц Конде, для которого были построены конюшни в Шантильи, мог бы, пожалуй, бросить на конюшню какого-нибудь буржуа своего времени такой же взгляд, какой бросил на показываемую ему конюшню лорд Эннендейл. Англичанин лишь заглянул в нее мимоходом и, кинув беглый взор направо, налево, исчез, оставив привратника, мявшего в руке фуражку, совершенно ошеломленным оригинальностью этого визита.
— Ах, дорогой мой, позвольте же мне наконец посмеяться вдоволь, — сказала Фостен в карете, чуть посторонившись, чтобы дать место любовнику. — Нет, это свыше моих сил, я, кажется, заболею... «Bird!» — И она повторила жест, который сделал лорд Эннендейл при виде вспорхнувшей птицы. — «Bath!» Да ведь только эти два слова вы и произнесли за все время, что были в доме... Ах, до чего же вы были забавны... Подумать только, что из всего, что вы там видели, ваше внимание привлекли только эти две вещи!.. Так вы, значит, собираетесь купить этот дом ради птицы и ванны, да?
Снова потеряв обретенную на миг серьезность, актриса откинулась в глубь кареты: все лицо ее, обрамленное очаровательной круглой шляпкой, настоящей радугой из павлиньих перьев, дышало смехом, веселым, неудержимым смехом школьницы.
Ее возлюбленный, вначале несколько смущенный, через несколько минут уже смеялся вместе с нею, а потом сказал вполне добродушно:
— Вы правы, дорогая, англичанин во мне опять сказался там чересчур сильно... Что делать!.. К тому же вы не знаете, — ведь когда мы покупаем дом для жилья, пусть даже в городе, — мы не можем себе представить, чтобы рядом не было деревьев, не было зелени, а эта птица вдруг сказала мне, что все это там есть... Что же касается ванны, то все мы, англичане, помешаны на мытье, на купанье... только я, пожалуй, слишком явно выразил свое удивление, увидев ванну во французском доме... Впрочем, сейчас дело уже не в ванне и не в птице... кстати, и вы перестали смеяться... скажите, вы согласились бы жить в этом доме?
— Отчего же?.. Я была бы чересчур привередлива, если б... ведь это один из красивейших особняков Парижа.
— Мне тоже кажется, что он... вполне приличен... но я... я хочу купить его главным образом потому, что там большой участок и можно расширить конюшни. И потом... мне нравится то, что... видите ли, я хочу, чтобы у меня был внутренний привратник, как в Лондоне... А там есть большая веранда... ее можно будет остеклить и сделать привратницкую... Стало быть, особняк вам нравится и вы готовы переехать в него хоть завтра?
— Завтра!.. Ну, знаете, во Франции при покупке домов существуют известные формальности, которые требуют времени.
— Особняк этот сдается или продается — не так ли?.. А я сниму его и потом куплю... Мой поверенный уладит все это.
XXVII
Не прошло и месяца, а чета влюбленных уже как будто долгие годы жила в особняке, который был реставрирован, переделан, переоборудован в соответствии с привычками жителя Лондона и населен многочисленной прислугой — неизменным атрибутом дома, поставленного на английский лад.
На только что сооруженной закрытой веранде находился «внутренний привратник», чьей единственной обязанностью было нажимать на кнопки звонков, проведенных в комнаты для прислуги, в кухню, в вестибюль.
В прихожей, за маленьким столом, на котором стояли чернильница и серебряный поднос для писем, постоянно находился footman — ливрейный лакей. Волосы у него были не напудрены, как у кучеров, а побелены испанскими белилами, и сидел он в огромном кресле с высокой спинкой и особыми боковыми подпорками для головы, в кресле, ведущем свое происхождение от тех времен, когда слуга долгими часами ждал возвращения своего господина из ночных заседаний палаты лордов. А на подзеркальном столике, среди блестящих щеток, всегда лежала шляпа хозяина дома, сияя своей белоснежной подкладкой, рядом с тросточкой и парой уличных перчаток, растянутых, расправленных, похожих на слепок с рук мертвеца.
Рядом с прихожей была parlour — приемная, строгая комната с голыми стенами для приема людей, почитавшихся неравными владельцу особняка: поставщиков, маклеров, врачей, ветеринаров.
Для прислуживания за столом существовал целый полк челяди (причем у каждого слуги были определенные обязанности), состоявший в распоряжении butler'a — дворецкого, хранителя ключей от винного погреба, своего рода метрдотеля, который был занят лишь тем, что отдавал приказания, и который не носил ливреи.
Был также управляющий, который вел все денежные расчеты с прислугой, — нечто вроде секретаря.
Был личный камердинер, самый устойчивый служитель в доме, тот, кого сменяют лишь в результате крупных домашних переворотов, слуга, говорящий на двух или трех языках — непременно по-итальянски и по-немецки, реже по-французски, — человек, который выполняет интимные поручения, несет службу нарочного во время путешествий и справляется о наличии tub {Ванны (англ.).} в отелях, где господам предстоит остановиться.
Был boy — шестнадцатилетний юнец, игравший роль пажа при Жюльетте и исполнявший поручения светского характера.
Была целая толпа женской прислуги, подвластная домоправительнице — house-keeper, матроне в черном платье; была белошвейка и вторая горничная, заменявшая иногда Генего, и целый рой chamber-maids {Горничных (англ.).} в маленьких чепчиках-бабочках, занимавшихся уборкой комнат. А на кухне копошилось еще с полдюжины пышущих здоровьем женщин с красивыми белыми руками.
И наконец, при конюшнях, устроенных в совершенно обособленном помещении, имелся главный конюший — весьма важная персона, на которую возложена была обязанность покупать лошадей, следить за внутренней дисциплиной и которая располагала экипажем и лошадью для личных надобностей. Там был также кучер хозяина дома, который жил со своей семьей на отдельной квартире и возил только хозяина, отбывая с поднятыми стеклами, как только хозяин выходил из экипажа. Затем там был кучер хозяйки дома, который возил только хозяйку. А пониже этих трех важных особ толпилась чернь — великое множество конюхов в шотландских шапочках и куртках с люстриновыми рукавами, вечно что-то насвистывавших и невидимых для всего населения дома, начиная от милорда и кончая самым незначительным из его слуг.
Привратник был выбран из числа мужчин самого высокого роста.
Footman для прихожей был выбран из числа самых красивых молодых людей.
Главный конюший был выбран из числа двуногих с самыми кривыми ногами.
Словом, то была целая корпорация прислуги, причем каждый имел в ней свое определенное место и свое дело, подобно набивальщику трубок в Индии, и в каждом было нечто от нерассуждающего и сурового жреца какого-то полного обрядностей религиозного культа — культа, где перемена рюмок и тарелок за столом совершалась с торжественностью некоей мистерии. То была целая корпорация прислуги, соблюдающей все правила этикета и несущей свою службу в безмолвии, с сосредоточенной важностью и холодной величественностью, какою была окружена при отходе ко сну Людовика XIV церемония подавания королевской рубашки.
Переход от непритязательных привычек ее прежнего круга к этой аристократической пышности не ослепил Фостен и не принес ей ни восторгов удовлетворенного тщеславия, ни даже особенной радости. Будучи актрисой, она привыкла к нарисованным дворцам театральных постановок, а кроме того, она была немного сродни парижскому гамену, склонному скорее подтрунивать над дарами фортуны, нежели удивляться им. Итак, Фостен только развлекалась всем этим, как чудесной переменой декорации, как веселой новинкой, как каким-то шуточным переворотом. И часто повторяла, что живет среди очень забавной «китайщины».
XXVIII
И вот влюбленная пара начала афишировать свою любовь, немного рисуясь и гордясь ею, на скачках и в Булонском лесу, — появляясь там в роскошных экипажах, показываясь в первых рядах на всех премьерах, посещая балы, благотворительные концерты и дорогие рестораны, упиваясь своим нескромным счастьем в атмосфере шумного и жадного любопытства, которая всегда создается вокруг счастливых любовников, озаренных блеском богатства.
Но все это было чисто внешней, показной стороной их любви, и жизнь их становилась жизнью двух отшельников, едва они возвращались к себе домой. В Лондоне мужчина, имеющий незаконную связь, никого не принимает у своей любовницы и никогда не показывается с ней в обществе. Во Франции, превратившись в «жителя материка», этот мужчина отваживается выезжать с любимой женщиной, но, оставаясь верен обычаям своей родины, старается не принимать друзей или родных в доме, не являющемся супружеским очагом. Итак, лорд Эннендейл никого не принимал, и вся многочисленная прислуга особняка вращалась в огромном и пустом пространстве столовой вокруг одной-единственной пары, сидевшей за столом. И дверь особняка открывалась лишь после завтрака, в тот час, когда хозяин дома в Англии обычно водит гостей по своим конюшням и когда любовник Фостен не мог устоять против желания показать своим соотечественникам английских лошадей и немного позлословить насчет лошадей французских — этих лошадей, «вечно встающих на дыбы».
XXIX
Так с утра до вечера длилось это уединение мужчины и женщины, не прекращавшееся даже и на улице, среди толпы, — настолько глубоко были они поглощены друг другом. И в этом уединении влюбленная женщина не знала ни минуты скуки, а мужчина-чужестранец был все время опьянен обаянием, исходившим от тела и души знаменитой парижской куртизанки — источника самого совершенного любовного наслаждения, какое есть на земле.
XXX
Фостен была среднего роста, скорее маленькая, чем высокая, и все ее миниатюрное существо дышало изяществом, благодаря тонким и удлиненным линиям гибкой фигурки, могущей на первый взгляд показаться худою. У нее была та ложная худоба, при которой женские груди могли, как говорилось в XVIII веке, «заполнить обе ладони порядочного мужчины»: бедра тоже были у нее как у полной женщины, а все остальные формы сохранили юношескую грациозность девочки. У нее была одна прелестная особенность, ныне уже исчезающая, — красивые покатые плечи, — и когда она бывала декольтирована, то в пленительном изгибе спины виднелись у начала плеч две маленькие ямочки, которые как будто смеялись. Ее кожа, какой-то одухотворенной бледности, почти неуловимо розовела на лице, а на груди, на руках переходила в ту матовую белизну, какая бывает иногда у брюнеток с белой кожей, — в теплую и бескровную белизну, которую изобразил Тициан, когда писал грудь своей возлюбленной. При этом — темно-каштановые волосы, вьющиеся на висках, где виднелись голубые жилки, выпуклый, сияющий мыслью лоб, маленький умный носик, в котором не было ничего трагического, рот с насмешливо приподнятыми уголками, рот нежный и иронический, иногда остававшийся полуоткрытым в застывшей улыбке статуи... черты не совсем правильные, очень современные, чисто парижские, но выражение лица живое, вечно меняющееся, и неотразимое обаяние глаз...
Глаза у Фостен были серые или, вернее сказать, какого-то неопределенного оттенка, глаза цвета морской волны, меняющейся в зависимости от того, что отражается в ней — темное облако или луч света, — глаза, одновременно темные и светлые, глаза, которые казались черными и почти злыми, когда женщина бывала не в духе, и которые радость, сочувствие, любовь делали очень нежными и совсем голубыми.
Такой вот взгляд был у Фостен! И во всем ее существе, при самой благородной осанке, при полной гармонии жестов, всегда вибрировало какое-то затаенное движение, то движение, которое хранит даже в минуты покоя тело канатных плясуний.
XXXI
Но главное очарование этой женщины заключалось в своеобразии ее натуры. Она нравилась, она восхищала неожиданными проявлениями своей женственности. От соприкосновения с вещами и с людьми она получала какие-то особые, свои собственные впечатления и реагировала на них необычно, оригинально, не так, как другие женщины. Она видела, чувствовала, любила как-то совершенно по-своему. В сущности говоря, женщины, родившиеся и получившие воспитание в буржуазной среде, — все до одной, от мала до велика, — совершенно одинаковы, и чувства их как будто сфабрикованы по одному образцу. Отзываясь на внешние события, благовоспитанная или почти благовоспитанная женщина выказывает отвращение, пылкую радость, сочувствие, даже впадает в истерику так, словно действует по программе, составленной для ее класса на все случаи жизни, и притом в установленных рамках и границах, которых она никогда не переступит. У всех таких женщин любое душевное движение является движением вторичным, исправленным, приглаженным, благопристойным, и, если не считать легких оттенков различия, являющихся результатом особого темперамента или исключительной нервозности, все протекает у них совершенно одинаково под деспотическим давлением законов «приличия», приглушающих и стирающих индивидуальность. У всех этих женщин, даже у самых неглупых, существуют наперед сложившиеся представления обо всем на свете — представления, созданные по готовым шаблонам, по сборникам прописных истин, по готовому катехизису «порядочных» людей. Они не смеют выпустить наружу то, что возмущается, кипит, бурлит в их мозгу и что могло бы показаться странным, противоестественным, эксцентричным, — словом, отличающимся от понятий их подруг. И вот, обезличенные воспитанием, исковерканные при формировании изначальных своих ощущений и мыслей, эти женщины безнадежно однообразны и не приносят пресыщенным богачам одряхлевших цивилизаций — своим мужьям и любовникам — ничего такого, что могло бы вывести их из апатии, развлечь, встряхнуть, взбудоражить. И в этом — объяснение связей многих мужчин из высших слоев общества с женщинами из слоев низших.
У Фостен, напротив, была та острота, то sui generis, {Своеобразие (лат.).} какие свойственны женщинам из народа, — а она все еще оставалась именно такой женщиной, продолжая любить его простую и грубую пищу, с восторгом толкаясь среди огней фейерверка в самой гуще народных гуляний и ярмарок парижских предместий. Благодаря ее происхождению в ней сохранилась свежесть душевных порывов, непосредственность восприятия, естественность, живость, огонек — жизнерадостность бедняка, не растерявшего всех этих качеств и среди благоденствия. В ней чувствовалось учащенное биение пульса жизни, деятельной, бурлящей, озорной, — жизни, ритм которой обусловливался не болезненным, искусственным возбуждением светских дам, а стремительным бегом горячей и еще очень юной крови, жизни, такой живой, что уже одно соприкосновение с ней опьяняло, делало людей разговорчивыми, красноречивыми, остроумными.
И если у нее, как у всех женщин, иногда расстраивались нервы, то такие припадки протекали даже более бурно, чем у других, зато проходили быстро и всегда кончались какой-нибудь шалостью.
Однако, будучи женщиной, вышедшей из народа, и сохранив некоторые простонародные черты, Фостен в то же время была существом избранным, наделенным истинным благородством, и неожиданно обнаруживала то высшее, незаученное изящество души и тела, которое приобретается неизвестно как, с помощью интуиции, и не всегда присуще даже прирожденным аристократам. От мальчишеской выходки она переходила к мягкому смеху, от грубого окрика — к ласковой, всегда оригинальной шутке, от чрезмерной живости — к самому изысканному тону, искупая вольное словечко или какую-нибудь плебейскую прихоть своей грацией, утонченностью, своеобразной прелестью; и если уж ей приходила фантазия, как в тот раз у сестры, выпить лакричной водки, то она пила ее из бокала венецианского хрусталя, раскрывая во все часы дня и ночи натуру сложную, многогранную, становясь попеременно то герцогиней, то гризеткой.
С ней постоянно происходили какие-то перемены, внезапные превращения, метаморфозы, и эта женщина, то и дело преображаясь, всегда вызывала любовь и всегда казалась новой. Шалости, чудачества, проявления чувствительности там, где их вовсе не ждали, умение остроумно высмеять самое себя, необычайная изобретательность и тонкость во всем, что касалось любви, собственные, ни у кого не заимствованные мысли, новые, незатасканные слова, молниеносная смена ощущений, выражаемых напрямик, без утайки... И все это сочеталось у Фостен с невежеством маленькой девочки, невежеством, в котором она сознавалась с таким очаровательным простодушием, что хотелось ее расцеловать.
Так, однажды, когда Фостен писала письмо директору театра, а Уильям, читая через ее плечо и заметив две-три орфографические ошибки, предложил ей переписать письмо, актриса ответила с обворожительным упрямством:
— Нет, пошлю как есть. Так будет более натурально!
Но эта самая женщина, писавшая так плохо, писавшая как женщина минувшего столетия, божественно выражала свои мысли, и никто в мире не умел так обворожить людей, так завладеть ими и поработить, как это делала она, благодаря ее очаровательной общительности и другому, еще более могучему обаянию, исходившему от всего ее прелестного существа.
XXXII
В общении с мужчинами у Фостен был, кроме того, особый дар обольщения: обладая редким тактом артистической женской натуры, она умела открыть у мужчины, близко соприкасавшегося с нею, какое-нибудь достоинство, какую-нибудь привлекательную, только ему присущую черточку, о которой очень часто не знал и сам ее обладатель и за открытие которой он оставался навсегда признателен ей, словно это она наделила его этим достоинством или этой привлекательной чертой. В самом деле, благодаря тонкости своего восприятия, она тотчас подмечала в человеке то скрытое качество, ту редкую особенность, ту таящуюся в глубине его души красоту, те незаметные, но пленительные мелочи, которые и являются подчас тайными возбудителями любви. Вибрация голоса, прелесть улыбки, красивая форма руки или головы — все это вдруг оживало под проницательным взором подруги или возлюбленной. И, открыв какое-нибудь привлекательное свойство души или тела у тех, кого она любила, Фостен воодушевлялась, разгоралась, приходя в восторг, словно перед картиной или статуей, и выражая свое восхищение в коротких волнующих фразах, ласковым, проникающим в душу голосом — голосом женщины, которая даже и в пылу азарта не скажет, однако, ничего абсурдного и приятно щекочет мужское тщеславие. И в своем увлечении всем изящным — пусть даже оно проявлялось в самых незначительных деталях — она подчас доходила до того, что способна была, разгорячившись, начать уверять человека, отлично приготовившего салат с трюфелями, в том, что он необыкновенное, гениальное существо.
Эта милая лесть, расточаемая Жюльеттой Фостен мужчинам, имела над ними такую власть потому, что ее восхищение всегда было искренним, неподдельным, что в нем не чувствовалось ни преднамеренности, ни притворства, ни расчета, что оно являлось лишь непроизвольным и естественным излиянием чувств истинного ценителя всего прекрасного, изысканного, совершенного в человеческой природе — чувств, выражавшихся у этой женщины в пылких, восторженных словах.
XXXIII
Рассказывают, что в минувшем столетии некий англичанин любил французскую куртизанку и что страстная нежность этой любви заставила его однажды, чудесной летней ночью, произнести следующую прелестную фразу. «Не смотрите на нее так, моя дорогая, ведь я не могу подарить ее вам!» Его возлюбленная любовалась звездой.
В любви лорда Эннендейла было, пожалуй, нечто от страсти тех времен, а в этом взаимном увлечении, возникшем в наши дни, как будто оживали чувства любовников XVIII века и пылкая преданность лорда Эльбермейла околдовавшей его Лолотте.
И в тишине огромного особняка, среди благоухающего умирания цветов, которые, отмечая неприметный бег времени, мягко роняли свои лепестки на мрамор консолей, любовники сидели рядом, рука в руке, проводя так в блаженном far niente {Ничегонеделанье (итал.).} долгие часы, наполненные радостными мелочами взаимного обожания, — часы, когда трудно даже говорить.
Нежные пожатия рук, ленивые улыбки, спокойное сладострастие сердца, безмолвное счастье... И когда после долгих пауз признательность мужчины, не знавшая, как излиться, поднималась от сердца к устам, он спрашивал, словно умоляя:
— Вы ничего не желаете, Жюльетта?
— Нет.
И снова наступало молчание, цветы пахли сильнее, объятия становились крепче, еще большая томность разливалась в улыбках и взглядах. И после новой длительной паузы опять раздавался вопрос, выраженный другими словами, но все тот же:
— Вам ничего не хочется, Жюльетта?
— Нет.
И эти два вопроса мужчины и два «нет» женщины составляли весь диалог влюбленных.
XXXIV
Любовь англичан не болтлива, не разговорчива, не красноречива; она не изливается в потоке нежных фраз и ласкательных прозвищ. Пуританство изгнало из английского языка изящные строфы Ромео и Джульетты, нежную любовную фразеологию веков католицизма, и теперь у протестанта-англосакса существует для выражения его «любовного пламени» либо тот язык, на котором он говорит с проститутками Стренда и грубость которого превосходит своим цинизмом грязные выражения всех других народов мира, либо язык в стиле Теннисона, полумистический, полумещанский, припрятанный для безрадостной любви британского домашнего очага. У англичанина нет любовного словаря, и, встречая этот словарь у французов, он, вследствие своего сурового воспитания и привычки к мужественной сдержанности речи, находит в его терминах, словах, выражениях что-то не мужское, ребяческое, что-то от «трубадура». А свифтовская ирония, всегда таящаяся на дне души англичанина, заставляет его внутренне подсмеиваться над этой «сладкой риторикой» и даже презирать народ, у которого она в ходу.
У англичанина вообще существует отвращение к ненужному многословию, и какая-то стыдливая сдержанность — достойная, впрочем, всяческого уважения — мешает ему выражать свою любовь с помощью громких фраз.
В своих отношениях с француженкой-куртизанкой он более замкнут, чем француз, менее откровенен, не делится с любовницей ни мыслями своими, ни чувствами, не впускает ее в свой внутренний мир и остается одиноким, холодным наблюдателем своего «я».
Но англичанин искупает эту молчаливость, этот недостаток откровенности своей глубокой почтительностью и трогательно-наивным восхищением, своей покорностью — покорностью юноши, любящего впервые, и старомодной учтивостью, какую проявляли знатные господа минувших веков к женщинам свободных нравов, — словом, всеми теми мелочами, которые втайне льстят самолюбию куртизанки, ставя ее на одну доску с другими женщинами. Так, например, Фостен питала к лорду Эннендейлу особую, безграничную признательность хотя бы только за то, что он никогда не говорил ей «ты» в присутствии посторонних, словно и она принадлежала к высшему свету, где муж и жена считают «ты» языком спальни.
Однако англичанин, который даже в разгаре своего чувства к женщине, не являющейся его законной женой, всегда испытывает легкое презрение к ней и почти никогда не умеет его скрыть, совершенно иначе — и это чисто английская черта — относится к женщинам, находящимся в положении Фостен. Знаменитые танцовщицы, знаменитые певицы, знаменитые актрисы комедии или драмы почитаются английской знатью существами высшей породы, представительницами женского пола, стоящими над миром продажной любви и вне его. На них смотрят в обществе как на леди и принимают в замках со всей пышностью и парадностью английского этикета, принимают так, как был бы принят у них какой-нибудь герцог Йоркский. Поэтому страсть к этим женщинам приобретает у тамошних мужчин совершенно особый характер. Это какой-то культ, почти обожествление, любовь плотская, но вместе с тем идеальная, это чувственно-сентиментальная связь, протекающая в бесконечном целовании руки и любовных пантомимах, напоминающих па менуэта.
Но так как англичанин, под маской холодности и рассудочности, по природе своей весьма распущен, то нередко при таких вот эротически-сентиментальных связях любовник, когда ему взбредет на ум какая-нибудь похотливая фантазия, идет к проституткам, ни на секунду не считая, впрочем, что это хоть чем-нибудь задевает его, можно сказать, супружескую верность любимой женщине. И лорд Эннендейл в этом отношении брал пример со своих соотечественников.
XXXV
Как-то вечером Фостен, будучи занята в спектакле и пользуясь довольно длинным интервалом между рассказом Терамена в пятом акте и выходом Федры, сидела в своей уборной.
В те годы уборные артистов Французского театра были чрезмерно скромны. Диван, на котором можно вытянуться и отдохнуть после трудной роли, три или четыре плохоньких кресла, несколько фотографий актрисы в имеющих успех ролях, приколотые к дешевым, по восемнадцать су за кусок, обоям, иногда гипсовый бюст, украшенный поблекшим венком из искусственных цветов, привезенным из триумфального турне по провинции, — вот обычная меблировка и убранство убогой серенькой комнаты.
Еще не пришло то время, когда уборные превратились в будуары, в музеи редкостей, в изысканные ателье, как, например, уборная мадемуазель Круазет с ее пышными стильными драпировками, уборная мадемуазель Ллойд с радующими глаз китайскими тарелками, развешанными на стенах, уборная мадемуазель Самари с ее оригинальным плафоном из японских вееров и множество других уборных с их рококо, с их терракотами, с эскизами художников-импрессионистов и с набросками Форена.
Фостен первая начала преобразование внутреннего устройства уборных Французского театра с дружеской помощью маленького Люзи, страстного любителя и знатока предметов старины, подарившего ей чуть ли не половину изящных вещиц, украшавших теперь ее маленький салон, и купившего для нее другую половину по баснословно дешевым ценам. Для плафона он раздобыл ей как-то, во время поездки по Италии, маленького Тьеполо — эскиз огромного и сияющего апофеоза Венеции, украшающего один из тамошних дворцов и напоминающего своими красивыми пропорциями тот балдахин версальского плафона кисти Лемуана, который можно видеть в амбразуре окна Луврского музея. Что касается обивки стен, то Люзи раскопал на улице Лапп старинное жуисское полотно, вышитое аппликациями, как это делалось в былые времена, и окаймленное зубчатой рамкой. Эта обивка, единственная в своем роде, не похожая ни на какую другую, создавала впечатление, будто стены покрыты какой-то неведомой тканью, по коричневатому, кофейно-молочному фону которой растекается чуть голубоватый тон разведенного крахмала, — тканью, красиво блестевшей при свете ламп, подчеркивавших рельеф вышивки и создававших изумительный эффект. А как ласкали глаз веселые рисунки, изображавшие монументальные лестницы садов, террасы с балюстрадами, колоннады, полускрытые цветущими кустами штокроз, белых, розовых, пунцовых и желтых.
Кроме того, маленький Люзи убедил Фостен купить у Видаланка большое трехстворчатое зеркало, почти целиком занимавшее маленький салон ее уборной, — зеркало, боковые створки которого раскрывались как панно триптиха, что давало молодой женщине возможность видеть себя со всех сторон, словно в зеркальной комнатке. Это было подлинное произведение искусства из красного дерева с пластинками из позолоченной бронзы, созданное Жакобом для императрицы Жозефины.
На этот раз маленький салон был полон, и лорд Эннендейл, который в те дни, когда играла Фостен, всегда проводил весь вечер в театре — либо в зале, либо в уборной актрисы, — сидел у камина, облокотясь на мраморную доску.
Друзей набралось так много, что при появлении каждого нового лица кому-нибудь из гостей приходилось уходить, и на маленьком табурете возле кресла Фостен — табурете для фаворитов, — то и дело сменялись люди, которым удавалось пробыть здесь всего лишь несколько минут. Сейчас здесь сидел дамский «профессор», вновь попавший в милость к актрисе и пытавшийся добиться у нее обещания посетить его ближайшую лекцию.
— Простенькая шляпка и шубка из выдры — вот и весь туалет, — говорил он актрисе, поднимаясь и уступая место редактору крупной газеты, который собирался организовать благотворительный концерт и пришел просить Фостен, чтобы она согласилась взять на себя продажу в одном из киосков. Редактора тотчас же сменил на табурете маленький Люзи, которого лорд Эннендейл ненавидел так сильно, как если бы тот был любовником Фостен.
В этой уборной Фостен была уже не той женщиной, какою она была на улице предместья Сент-Оноре или в любом другом месте, — женщиной, чей взгляд, улыбка, влюбленное выражение лица принадлежали только ее возлюбленному. Здесь, в этом душном уголке, в этом «чреве» театра, в ней воскресало нечто от прежней Фостен, от актрисы, понемногу кокетничающей решительно со всеми. В глазах ее зажигался вызывающий огонек, улыбка что-то обещала, обыкновенное дружеское пожатие руки казалось нежной лаской. Она внезапно становилась словно бы куртизанкой высокого полета, женщиной, которая осторожно и незаметно возбуждает желание мужчин, отвечая таким образом своему назначению, своей роли созидательницы влюбленных. Здесь, в этой уборной, Фостен вдруг расставалась со своей спокойной сдержанностью, со своей обычной серьезностью, ее грация становилась дразнящей, приветливость — лихорадочной, остроумие — вызывающим. Словом, она вдруг как бы превращалась в доступную женщину, что было пыткой для ее любовника, хотя он ни слова не говорил об этом.
И вдруг какой-то толстяк, пыхтящий, весь потный, ворвался в уборную. Желтые перчатки чуть не лопались по швам на его жирных руках, часовая цепочка была пропущена сквозь петлицу сюртука, длинный цветной галстук болтался на белом жилете «под Робеспьера», черные брюки с готовой отлететь блестящей металлической пуговицей обтягивали круглое брюшко. Растолкав и обратив в бегство всех остальных, этот отвратительный комедиант подошел к Фостен и крикнул ей густым басом с экспансивностью и громким смехом простолюдина:
— Ну как поживаешь? Узнаешь?
И вот старый товарищ по маленьким захудалым театрам парижских предместий завязал с актрисой дружескую, до ужаса фамильярную беседу, в которой то и дело слышалось словечко «ты».
При одном из этих «ты» лорд Эннендейл, нервно вертевший в пальцах маленькую фарфоровую чашечку в виде оплетенной бамбуком яичной скорлупы, внезапно уронил ее.
— Ах, какой неловкий! Разбил мою прелестную чашку... ту, что я купила на аукционе мадемуазель Клерон... а я так дорожила ею!.. — воскликнула Фостен, подойдя к камину и рассматривая осколки с отчаяньем ребенка при виде сломанной игрушки.
— Я куплю вам другую, моя дорогая... лучше этой, — сказал лорд Эннендейл.
— Вот они, богатые люди! Им кажется, что все можно купить!.. Да мне не надо вместо нее и золотой чашки!
И актриса начала бережно собирать черепки в полу туники Федры, подсунув под нее ладонь и сделав ямку.
— Право же, я очень зла на вас... и прошу не трогать впредь моих вещей, — сказала она полусердитым, полуогорченным тоном.
Во время этого объяснения актер упорно не уходил и даже позволил себе порекомендовать какого-то мастера, занимающегося склейкой фарфора, но тут лорд Эннендейл окинул его с ног до головы таким взглядом, что толстяк вдруг растерялся; сконфуженный, словно человек, у которого в обществе внезапно обнаружился беспорядок туалета, он молча схватил свою круглую шляпу и исчез, даже не попрощавшись с Фостен.
— Да, мой прекрасный повелитель, вы очень неловки... и к тому же не слишком любезны сегодня, — через минуту снова заговорила Фостен, немного сконфуженная визитом своего старого товарища по подмосткам и пытаясь отвлечь внимание любовника с помощью одной из тех нежных ссор, которые так искусно умеют устраивать женщины в подобных случаях.
— Жюльетта... я не знаю... но ваше лицо, ваш голос — здесь, когда вы говорите с другими...
— Ну и что же такого вы нашли в моем лице, в моем голосе?
— И потом... когда я слышу, что мужчина говорит вам «ты», я перестаю владеть собой... меня охватывает желание убить его! — продолжал лорд Эннендейл, не отвечая на вопрос Фостен.
Это было сказано очень тихо, но на лице белокурого лорда явственно проступило выражение жестокости.
— Если так, друг мой, с вашей стороны было не слишком остроумно полюбить актрису!
В эту минуту шутовская физиономия Рагаша просунулась в полуотворенную дверь, и он продекламировал с интонацией Прюдома:
— Прекрасная дама, позволено ли будет проникнуть к вам?
Лорд Эннендейл встал и, сказав: «Прошу извинить, у меня с госпожой Фостен деловой разговор», — резко захлопнул дверь.
Сделав это в порыве раздражения, побороть которое он был не в силах, английский лорд, воспитанный человек, громко простонал: «О! О! О!..», словно этот неприличный поступок совершил кто-то другой, а потом обратился к Фостен:
— Если желаете, я верну его, сударыня... и принесу ему свои извинения...
Актриса пожала плечами, как бы говоря, что Рагаш глубоко ей безразличен, потом подошла к любовнику и, взяв его за руки, сказала, вглядываясь в него:
— Друг мой, вы, кажется, сходите с ума?
— Нет, я просто ревную.
— К кому?
— Ко всем!
— Так, может быть, и к публике тоже?
— И к публике, — вполне серьезно ответил возлюбленный Жюльетты.
— В таком случае вам остается только потребовать, чтобы я немедленно оставила сцену!
— Жюльетта, я ничего от вас не требую... а если я страдаю, то это касается одного меня.
Звонок, призывавший актрису на сцену, помешал ей ответить.
XXXVI
Фостен лежит на кушетке, неодетая, непричесанная; она не в духе, у нее взвинчены нервы. Хмурая, поглощенная своими мыслями, она не отвечает на нежные расспросы лорда Эннендейла, и в конце концов тот разворачивает огромную английскую газету, где материала для чтения может хватить на целую неделю.
— Так вы, значит, не знаете, — неожиданно говорит актриса, хлопая рукой по газете, которая летит на пол, — вы, значит, не знаете, что театр для меня все... что я не представляю себе, как могла бы прожить день, если бы не была уверена, что вечером буду играть?.. У вас, англичан, не понимают, что такое страсть артиста к своему делу... и вам, вероятно, показалось бы вполне естественным, если бы я бросила сцену так же легко, как расстаются с табачной лавкой.
— Но ведь я никогда не просил вас об этом, Жюльетта.
— Не хватало еще, чтобы вы прямо попросили меня об этом... Ах, дорогой мой, несмотря на всю мою любовь к вам, мне пришлось бы ответить: «Нет, тысячу раз нет!.. Большая актриса, такая, как я, не так-то просто подает в отставку!..» Да, вы действительно не просили меня об этом открыто, но...
— Я не только не просил вас об этом, но даже... Нет, я слишком хорошо понимаю, что моя любовь не может заполнить пустоту, которую создал бы в вашей жизни уход из театра... И если бы вы сами захотели бросить сцену, я сделал бы все, чтобы вас удержать.
— О да, конечно, вы бы сделали все, чтоб меня удержать... Право же, мужчины — удивительный народ... Но если всякий раз, как я играю, у вас похоронный вид...
— Ах, это опять намек на ту историю.
— Если оттого лишь, что я приветливо разговариваю с кем-либо, вы сейчас же, выражаясь языком трагедии, начинаете терзаться муками ревности...
— Но, дорогая моя, я...
— Если вы разбиваете мои чашки, когда кто-нибудь говорит мне «ты»...
— Моя маленькая Жюльетта...
— И если, наконец, вы страдаете оттого, что публика аплодирует мне, — вы ведь сами говорили мне это... Говорили вы мне это или не говорили?
— Я был неправ... но обещаю вам, что это не повторится.
— И вы думаете, что очень весело видеть рядом с собой несчастного страдальца, чьи страдания служат вам постоянным укором... страдальца, который как будто все время говорит вам, что ваша любовь не способна на жертву... что вы... словом, что вы бесчувственная... Нет, мой милый, все это очень неприятно!
И с недобросовестностью, присущей женщине, когда она раздражена, Фостен, извращая ответы своего любовника, сумела придать им совершенно превратный смысл, а потом стала придираться к выражению его лица, ко всем его жестам и, ухитряясь вплести в этот спор множество вещей, не имевших к нему никакого отношения, долго еще терзала собеседника, буравя его молчание своими воинственными нападками.
XXXVII
— Кто же она? — спросила Фостен у одного соотечественника лорда Эннендейла, который, не прекращая разговора с хозяином дома, в то же время с глубочайшим вниманием рассматривал ногу одной из лошадей, пока наконец не выпустил ее из рук.
Это был час приема посетителей, желающих осмотреть конюшни, только что прибранные с той чрезмерной тщательностью, какая характерна для кокетливого убранства конюшни англичанина. Три разноцветные циновки, наложенные одна на другую (первая — из плетеной соломы натурального тона, вторая — зеленая, напоминавшая ливрейные цвета дома, третья — окаймленная красными полосками), выступали из-под подстилки и составляли веселую гамму светлых тонов. Весь пол был усыпан мелким песком; по краям шла рамка из песка цветного, а посередине, тоже из песка разных цветов, был сделан узор, изображавший старинный герб рода или, вернее, герб более скромный, так сказать, более домашний, без покровов с завитками, без мантий пэра, без геральдических подпорок, — герб, сведенный лишь к щиту и девизу.
— Вы спрашиваете, кто она? — повторил англичанин, оборачиваясь к Фостен. И он назвал ей актрису, слывшую одной из остроумнейших женщин Парижа. — Так вот, — добавил он, — как я только что говорил моему другу... мне, конечно, хотелось стать ее любовником... но это было для меня на втором плане. Главное, чего я хотел, это чтобы у нас с ней был ребенок — отпрыск, сочетающий в себе все то острое и пикантное, что кроется в мозгу этой очаровательной женщины, и ту уравновешенность, которая есть во мне, подданном Великобритании. Согласитесь, что такое сочетание могло быть весьма оригинальным... весьма забавным... совершенно необычным... Вы, наверное, скажете, что это чисто английская затея, не так ли?.. Однако трудность оказалась в том, что она охотно соглашалась сделать меня своим любовником, но... но вовсе не желала, чтобы я стал отцом.
— И вам так и не удалось переубедить ее?
— Под конец удалось... с помощью уговоров, дипломатии и денег... но ребенка так и не получилось... Я жалею, о, я очень жалею, что опыт не удался.
Фостен оставила обоих друзей с лошадьми, а сама перешла в stable-yard, {Двор перед конюшней (англ.).} где содержалась целая коллекция собак всевозможных пород. Здесь она взяла на руки Дика, собачку Бланшерона, громко залаявшую от восторга, и унесла ее в гостиную, которая теперь сообщалась с конюшнями застекленной галереей.
Рассеянно гладя одной рукой собаку, она раскрыла другою «Андромаху» — трагедию, в которой ей вскоре предстояло снова играть роль Гермионы.
В гостиную вошел лорд Эннендейл. Актриса продолжала читать.
— Мой приятель показался вам, должно быть, большим оригиналом? — небрежно уронил возлюбленный Жюльетты.
Сначала Фостен ничего не ответила ему, но через несколько секунд закрыла книгу и сказала, словно не расслышав заданного ей вопроса:
— Так, значит, ваши соотечественники влюбляются только в актрис?
— В самом деле, это случается у нас довольно часто.
— И вы думаете, что они любят женщину?
— Что вы хотите этим сказать?
— Я спрашиваю, любят ли они женщину ради нее самой?
— Право же... что до меня...
— А я вам говорю, — вскричала вдруг возлюбленная лорда Эннендейла, разгорячившись, бросив собаку на пол и принимаясь быстро ходить по комнате, — я вам говорю, что они любят не женщину, они любят ее талант, да, талант! — И Фостен высокомерно пожала плечами. — Аплодисменты публики, рекламы газет, лесть салонов, шум, который возникает вокруг нее, — вот что они любят в своей любовнице... Но женщину?
— Я думаю, что люблю женщину, — произнес лорд Эннендейл.
— Уверены ли вы в этом? — вскричала актриса, подойдя к любовнику и почти сурово глядя ему в глаза.
Затем, после короткого молчания, она медленно проговорила:
— Вы такой же, как все... Если бы я бросила сцену, через полгода вы бы разлюбили меня!
— Но вы же не бросаете сцену, Жюльетта... так зачем вы опять...
— Да, да, вы правы, — сказала она, внезапно успокаиваясь, но все с той же легкой складочкой раздумья на лбу. — Вот что, давайте выйдем на улицу, поедем куда-нибудь... вы ведь знаете, что сегодня я свободна... повезите меня обедать в какой-нибудь ресторанчик. Сегодня ваш огромный особняк наводит на меня тоску... мне хочется уйти от золоченых щитов, как сказал один персонаж из «Опасного леса». А потом мы поедем в какой-нибудь маленький театр... но не на бульвары, а в какой-нибудь театрик предместья... Вот что, поедем в Гренель, в тамошнем театре играют так забавно!
XXXVIII
Вот уже две недели, как актрисой овладел дух противоречия; с утра и до вечера она без устали спорила с лордом Эннендейлом, стоило тому высказать свое мнение о погоде, об экипаже, о завтраке, об обеде, словом — о чем угодно.
Это начиналось так: сперва гневно покачивалась ножка в пустом пространстве, затем локти судорожно прижимались к телу, розовая кожа лица становилась какой-то серой, а губы нервно подергивались, как бы удерживая рвущиеся с них слова. И тем не менее, несмотря на все усилия, которые женщина делала над собой, чтобы сдержаться, через несколько мгновений она обрушивала на своего возлюбленного едкие, презрительные, ядовитые фразы, которые произносила с горькой иронией, словно проклятье Камиллы, после чего губы ее снова смыкались, а ножка снова принималась отбивать такт в пустоте.
Актриса ждала ответа. Ответа не было.
Тогда, чтобы заставить любовника потерять спокойствие, чтобы вывести его из себя, чтобы добиться реплики и вызвать сцену, которой требовало ее внутреннее раздражение, она снова начинала свои придирки, поддразнивания, уколы, способные истощить и ангельское терпение; казалось, она поклялась довести его до того, чтобы он ее ударил. Но так как лорд Эннендейл только жалел ее, словно маленького ребенка, и, вместо того чтобы с ней спорить, признавал себя виновным решительно во всем, Фостен сердито вскакивала со стула и с удрученным видом несчастной жертвы уходила к себе, не забывая, однако, громко хлопнуть дверью.
Потом, через несколько минут, она как ни в чем не бывало возвращалась к своему возлюбленному, и ее любовь вновь становилась нежной и какой-то размягченной.
А через час она снова приходила в ярость.
Эти внезапные перемены настроения, эти вспышки нервозности, эти проявления болезненной неуравновешенности, эта взбалмошность — все эти внешние признаки ясно указывали на происходившую в Фостен душевную борьбу, и по утрам она то появлялась вдруг с заносчивым и забавно надменным видом женщины, принявшей определенное решение, то выходила вся разбитая, вялая, и какая-то неуверенность, колебание чувствовались во всех ее движениях.
В театре лорд Эннендейл наблюдал у своей непостоянной и капризной подруги такие же скачки настроения. Каждый вечер она ссорилась и мирилась с директором. Ежедневно бранилась с кем-нибудь из товарок, а потом посылала ей подарки. Начинала кокетничать с первым встречным почти как уличная женщина — и вдруг, посреди разговора, становилась необычайно сдержанной и обливала собеседника таким холодом, что весь его пыл сразу остывал. И теперь уже все спрашивали друг у друга во Французской Комедии, что же такое происходит с трагической актрисой.
XXXIX
— Сегодня вы немного задержались, дорогая, — сказал как-то вечером лорд Эннендейл, когда Фостен вернулась домой.
— Немного... даже очень, — ответила Фостен, мельком взглянув на стенные часы и бросая на диван шляпу и накидку.
— О Жюльетта, как вы хороши сегодня!.. К вам изумительно идет этот туалет... И потом, на лице у вас написано счастье, какое-то лучезарное счастье... что-то доброе и радостное. В Индии есть для этого подходящее выражение... там говорят так: лицо, сияющее красотой доброго дела.
— Что вы! Неужели мое лицо так нескромно? Однако идемте обедать, я голодна... О том, как я провела сегодняшний день, мы поговорим после.
Они перешли в столовую.
— Да что вы так смотрите на меня?.. Ну совсем как ребенок смотрит на пирожное.
— Вы прелестны!
Актриса и в самом деле была прелестна. Она была в черном, — она всегда любила этот цвет, — но туалет ее, почти сплошь состоявший из черных кружев, казался легким, воздушным и покрывал прозрачной темной дымкой просвечивавшую сквозь нее розовую кожу. На фоне всего этого черного виднелась в сердцевидном вырезе корсажа ярко-красная гвоздика, еще резче оттенявшая матовую белизну груди.
— Ну так как же, милая Жюльетта? Вы все-таки скажете мне, что делали сегодня? — спросил за обедом лорд Эннендейл.
— После... после... я еще наскучу вам своим рассказом. Но вот что... пожалуй, я бы выпила сегодня бокал шампанского!
И Фостен едва заметно повернула голову к дворецкому.
Невозмутимый дворецкий, застывший у буфета, словно каменное изваяние в черном фраке, сделал куда-то в сторону неуловимый жест, с помощью которого каприз актрисы был тут же передан в винный погреб одному из помощников.
И между двумя глотками шампанского Фостен, наклоняя голову и углубляя этим движением вырез корсажа, то и дело нюхала свою гвоздику.
— Как хорош этот пряный аромат... — проговорила она, — я так люблю его! Был такой год... я еще только начинала работать в театре... и кроме того, я делала тогда искусственные цветы... Так вот, я всегда вставляла хоть один настоящий цветочек гвоздики в мои искусственные... Ну, как? Мы можем встать?
Из столовой они перешли в гостиную и уселись перед камином. Лорд Эннендейл не отрывал вопросительного взгляда от своей возлюбленной, как бы говоря: «Итак?» А она забавлялась его любопытством и только молча улыбалась, желая продлить его. Вдруг она встала, подошла к лорду Эннендейлу и, обвив руками его шею, привлекла его к себе так близко, что цветок гвоздики в вырезе ее платья оказался у самого его лица.
— Понюхайте! Что это за запах? — спросила она.
— Запах гвоздики, — ответил он, прикасаясь к цветку губами.
— А еще?
— Вашей кожи!
— Глупый!.. Неужели вы не слышите другого запаха?.. А еще хвалились обонянием дикаря...
— Ах, да, правда... как будто пахнет сандаловым деревом.
— Ну, наконец-то!.. Под гвоздикой есть кое-что для вас, возьмите.
Нежно, едва прикасаясь кончиками пальцев, лорд Эннендейл вынул из корсажа Жюльетты какое-то письмо и развернул его. Актриса, став вдруг серьезной, сказала:
— Это копия письма, которое я послала сегодня утром директору Французской Комедии... Сейчас, должно быть, оно уже напечатано в вечерних газетах.
— Как! Вы это сделали, моя Жюльетта!.. Вы сделали это ради меня! — вскричал лорд Эннендейл, пробежав письмо.
— Кажется, что так! — ответила Фостен с шаловливой интонацией.
— Вы вышли из труппы... вы уходите из театра... вы бросаете эту жизнь, полную триумфа!.. Но это нелепо!.. Хорошо ли вы обдумали этот шаг?
— Нет... рассудку нет места, когда говорит сердце.
— Да, да... это порыв, необдуманный поступок, за который я люблю вас еще сильнее, но все же...
— Быть может, и порыв, но я не переменю своего решения.
— Ах, Жюльетта, я боюсь, поймите меня, боюсь, что у вас не хватит до конца мужества для этой жертвы... что может наступить день, когда вы раскаетесь в ней.
— Никогда нельзя знать наперед, что будет... Но если до того, как наступит этот день, а он, конечно, наступит не завтра... если до этого дня я буду чувствовать, что вы счастливы, совершенно счастливы... эгоистически счастливы, счастливы так, как хотят быть счастливы... мужчины... — тут она вздохнула, с улыбкой в глазах и с грустью в голосе, — тогда это ваше счастье окупит в моих глазах почти все мои будущие сожаления..
Наступило молчание, потом мужчина встал и серьезным, проникновенным тоном сказал женщине:
— Жюльетта... значит... вы согласны стать моей женой.
— Вашей женой, Уильям! — прошептала Фостен, на минуту приподнявшись в кресле и снова откинувшись назад с полузакрытыми глазами, с полураскрытыми, как для поцелуя, губами, с тем мягким и счастливым выражением лица, какое бывает у женщин, когда они видят прекрасный сон.
— Вы согласны, да? — повторил лорд Эннендейл.
— Нет, друг мой, — ответила она, помедлив одно мгновенье.
— Но почему же?
— Почему?.. Потому что это невозможно.
— Но если я непременно этого хочу, сударыня.
Фостен, вдруг как-то обессилев, ничего не отвечала; только руки ее судорожно сжались, словно от физической боли.
— Я на коленях прошу вас об этом, — сказал возлюбленный Жюльетты, осыпая поцелуями ее руки.
— Умоляю, пожалейте меня, не вынуждайте меня говорить. Есть вещи, которых я не хочу, не могу касаться... Если бы моим любовником был только Бланшерон!..
— Ничто не имеет для меня значения, ничто! — пылко вскричал лорд Эннендейл.
— А для меня имеет, — возразила Фостен. — Вы не знаете, что такое наша жизнь — жизнь бедных девушек из народа, когда они попадают на сцену и... и вынуждены иногда румяниться толченым кирпичом!.. Нет, вы и представить себе не можете, как велика в это время наша нужда, наша беспомощность, наша зависимость от директора театра и от многих-многих других!.. И ни одного человека, который мог бы вступиться, защитить, предостеречь!.. И ничего вокруг, кроме мерзости и распутства!.. Ах, прошу вас, не заставляйте меня вспоминать!.. И потом, если быть откровенной, то при нашем ремесле, когда вечно горишь как в лихорадке, словно какой-то бес вселяется в нас по временам, и тогда... Да вот, взгляните на этот портрет, — и она показала на жесткое и высокомерное лицо его отца, смотревшего на них со стены. — спросите у него, что он думает о предложении, которое сделал мне сейчас его сын... Стать вашей женой, сказали вы... Нет, я не хочу, чтобы ваши дети, если они у нас будут... Дети!.. — И она разразилась смехом, который причинял боль. — Дети! Да разве я не поражена бесплодием, как все куртизанки!.. Видите ли, друг мой, — продолжала она с мягкой горечью, — нам не суждено быть законными женами, мы можем быть только любовницами, и я буду принадлежать вам всегда... по крайней мере, до тех пор, пока вы этого захотите.
И, бросившись в объятия своего возлюбленного, с какой-то неистовой силой прижимаясь к его груди, удерживая готовые брызнуть слезы, Фостен продолжала, стараясь, чтобы голос звучал естественно:
— Будьте умницей... не надо больше говорить об этом, потолкуем лучше о наших делах. Ведь над нами висит процесс — я нарушила контракт, и у меня мурашки бегают по спине, стоит мне только взглянуть на эту гербовую бумагу... но это еще не все — сейчас меня начнут осаждать разные официальные лица, Днем и ночью они будут убеждать меня отказаться от моего решения... Надо бежать из Парижа... поехать на несколько месяцев куда-нибудь за границу... Вот что — вы ведь идете вечером в английское посольство? Ну, а я навещу сегодня мою сестру: в последнее время я совсем забросила ее из-за вас... Вы же знаете, что я вечно все откладываю на завтра.
И она стала готовиться к визиту, а лорд Эннендейл продолжал сидеть в своем глубоком кресле грустный, такой грустный, что, уже подойдя к двери, она вернулась, чтобы поцеловать его.
— Вы хотите ехать за границу... куда именно?
— Куда угодно.
XL
Сестра Жюльетты, в голубом кашемировом капоте с широкими отворотами и карманчиками из белого кашемира, с пышными воланами из полосатого индийского муслина, серебристой пеной окружавшими кисти ее рук, была занята тем, что бросала маленькие кусочки вермишели своей золотой рыбке; лицо ее было в тени.
Когда актриса вошла в спальню, Щедрая Душа подняла голову от светящейся банки, в которой несчастный стеклянный Дебюро без отдыха кувыркался под ударами хвоста жадной рыбки, и с иронией приветствовала сестру:
— А, это ты... ну и чудеса же я слышала о тебе... говорят, ты опять втюрилась — и это в твои-то годы!.. И даже бросаешь ради своего англичанина сцену!.. Какие все-таки дурочки эти женщины с фантазией!.. О, я не сомневаюсь, что в постели он очень мил, этот твой englishman... {Англичанин (англ.).} И красив, черт возьми!.. не хуже тех хорошеньких учителей иностранных языков, которые смущают покой юных пансионерок. Но все же...
— Знаешь что, Малышка, каждый по-своему устраивает свою жизнь, — сухо ответила Фостен, не дав сестре закончить тираду. — А Карсонак дома?
— Уехал в Брюссель — возобновляет для бельгийцев постановку одной своей старой пьесы.
— Да ты совсем раздета... может, ты собиралась лечь?
— Нет, я жду любовника.
— Это все тот же злосчастный Плескун?
— Плескун!.. Вот уже целая вечность, как с ним покончено... Его послали на юг. Да, да, он в Италии... в Париже слишком сырой климат... он не мог поглощать здесь достаточно ртути! Знаешь, он получил пощечину при полном театре... Но в нынешнем году мужчины не рвутся в бой... быть может, на них действуют морозы.
— Да что с тобой сегодня?
— Ничего... Просто это час моих утех.
И, подойдя к камину, в котором ярко пылал каменный уголь, Щедрая Душа уселась верхом на стул, открыв выше колена ногу в черном шелковом чулке с вишневой плюшевой подвязкой, на которой блестела марказитовая пряжка. Не сходя с места, она взяла с мраморного столика какой-то флакон и с размаху вылила жидкость на пылающие уголья, откуда тотчас же поднялось облако росного ладана, способное одурманить целый полк. С какой-то холодной яростью помешивая кочергой в этом пахучем пламени, она сказала:
— Люблю резкие запахи, и все тут... Нет, это не Плескун, — добавила она. — Я теперь перешла на других любовников... Теперь я схожусь с босяками... с людьми из «низов», вот оно как!.. Видишь ли, — продолжала она, глядя на едкое облако, — с мужчиной из общества всегда мешает какой-то остаток стыдливости, желание изображать из себя порядочную женщину... забота не о своем, а именно о его удовольствии... тогда как с теми мужчинами, с какими теперь имею дело я... этим я приказываю ласкать, как могла бы приказать наколоть дров... Для черной работы в любви никто не может быть лучше, чем мужчины из «низов».
И, встав со стула, она сердито растрепала свою прическу, над которой столько трудилась утром, а потом принялась шагать из угла в угол, словно дикий зверь в клетке. Ее потемневшие голубые глаза, ставшие почти черными, как всегда в минуты дурных мыслей, только что выкрашенная копна волос, блестевшая в свете лампы, — все это придавало ей свирепое величие блудницы из Апокалипсиса.
Внезапно она остановилась, и все, что бурлило в ней, вылилось наружу:
— Эх, будь я на твоем месте... О, мужчины, мужчины!
Она не сказала ничего больше, но при мысли о возможности жестоко отомстить всем этим самцам — самцам из общества — на лице ее появилось выражение беспощадной ненависти и злорадного торжества самки.
Снова подойдя к камину, где оставленная ею лопаточка для угля раскалилась докрасна, она опять начала лить жидкость на огонь, яростно размахивая флаконом и брызгая огненной влагой на ковер, на мебель.
— Вот что, ты мешаешь мне... уходи... — решительно бросила она вдруг сестре. — Я не хочу, чтобы ты встретилась с моим оборванцем.
И, целуя на прощанье сестру, Щедрая Душа вдруг разразилась взрывом дикого, злого смеха.
— Знаешь что... — сказала она, — все-таки в дурах останешься ты... а я — я еще выйду замуж, вот увидишь!
XLI
— Надеюсь, вы проводите меня, мой друг? — спросила Фостен у лорда Эннендейла на другой день после своего визита к сестре, когда горничная уже подавала ей шляпу и перчатки.
— Я в вашем распоряжении.
Фостен взяла со стола тонкую зеленую книжечку, и они сели в ландо, которое привезло их в один из отдаленных кварталов Парижа и остановилось перед старинным домом с афишами на стенах и с двумя полицейскими у входа. Множество пожилых супружеских пар и молоденьких простоволосых модисток толпилось на обеих сторонах тротуара, с равнодушным любопытством разглядывая тех, кто входил внутрь.
Это был аукцион, где продавалось имущество одной недавно умершей великой актрисы, трагической актрисы, какою являлась и пришедшая сюда Фостен, актрисы, которая в свое время была еще более известна, более прославлена, более знаменита, чем женщина, явившаяся взглянуть на эту распродажу.
Лорд Эннендейл и Фостен поднялись по лестнице с широкими площадками и оказались в большой комнате с окнами, выходившими во двор, откуда сквозь грязные стекла проникал холодный дневной свет, придававший всему оттенок старой запыленной паутины. Здесь, на длинной вешалке, огибавшей всю комнату и, видимо, только недавно прибитой, уныло, мертво висели платья покойной: наряды женщины и костюмы королевы сцены, бальные накидки из белого стеганого атласа и одеяния Федры, Гермионы, Роксаны. Все театральные реликвии, прикасавшиеся когда-то к этому телу, все костюмы знаменитой актрисы теперь омерзительными гроздьями висели по стенам, словно на стене морга, похожие на фантастические оболочки, на полуночные покровы каких-то привидений, внезапно застывшие при первых лучах солнца.
Из складок этих некогда великолепных, а теперь поблекших обносков выглядывали головы торговок подержанным платьем, перекупщиц, которые без конца перебирали это тряпье, словно желая убедиться в том, что удар меча, нанесенный братом Камиллы, не оставил дыры в тунике его сестры.
И время от времени раздавался визгливый голос: «Проходите, господа и дамы», — возглас аукциониста, который подгонял толпу зевак, равнодушных, пренебрежительных, ошеломленных.
В другой комнате были собраны, сгруппированы, свалены в одну кучу бриллианты, ларец с драгоценностями, выполненными по рисункам этрусских драгоценностей Ватикана и Museo Borbonico, {Музея Борбонико (итал.).} старинный цыганский убор из неизвестных камней, быть может, сделанный руками какого-нибудь Жиля Бродяги из Тунского царства. И в этом ворохе вещей — дорожные несессеры со щеточками и флаконами в золотой оправе рядом с кучей книг в дешевых картонных переплетах и с чашками из современного севрского фарфора! Там было еще столовое серебро и ведерки для шампанского — свидетели незабываемых и еще не забытых ужинов и обедов, а два ювелира как раз взвешивали на руке все эти вещицы, чтобы хоть приблизительно определить их ценность.
И все время в гуще любопытных раздавался возглас:
— Проходите, господа и дамы!
Наконец там была спальня: узкая кровать черного дерева с голубыми занавесками, масса кружев, разбросанных на всех столах и столиках, — рукавчики из малин, носовые платки из валансьен... и во всей этой драгоценной паутине копошилась какая-то желтая старушонка, приковавшаяся к ней своим жадным, горящим взглядом. Здесь стоял глухой гул. Люди, глазевшие на кровать, перечисляли имена всех любовников, какие когда-либо были у женщины, и уже не помнили ни одной из ролей, в которых выступала актриса.
— Проходите, господа и дамы! — громко кричал тот же пронзительный голос.
— E tutto, {Вот и все (итал.).} — с какой-то задумчивой грустью сказала Фостен, снова садясь в карету.
— Зачем вы приезжали сюда? Вы хотели оставить что-нибудь за собой?
— Боже сохрани!
— Но если так... зрелище было, сказать правду, невеселое... и, кажется, оно сильно вас взволновало.
Фостен с улыбкой взяла обеими руками руку лорда Эннендейла и сказала:
— Мужчины, право же, ничего не понимают... Зачем я сюда приезжала? Да затем, чтобы помочь умереть другой актрисе... той, что живет во мне самой... Да, я хотела, чтобы это зрелище... чтобы оно было последним воспоминанием, которое я увезу с собой из Парижа за границу.
XLII
Спустя две недели влюбленная пара поселилась в Линдау, на вилле Изембург, у Констанцского озера. Их любовь нашла приют меж голубых гор, на берегу этого маленького моря, которое немцы прозвали Швабским морем и с которого по вечерам дует легкий бриз, напоминающий бриз океана — океана в миниатюре, — и жила там под зеленой листвой склоненных деревьев, вьющихся береговых растений, среди сверкающих отблесков широкой, залитой солнцем водной пелены, похожей на огромное зеркало, охваченное пожаром.
XLIII
Вилла, в которой поселились молодой английский лорд и Фостен, служила много лет назад гнездышком любви некоего графа Изембургского и некоей принцессы Фредерики Вильгельмины фон Гогенлоэ, дочери курфюрста Гессенского, — очаровательной женщины, оказавшейся очень несчастливой в браке и в конце концов брошенной мужем.
Это был обширный дом с цветником, спускавшимся до самого озера и украшенным по немецкой моде звездообразными клумбами из маленьких крепких растений различной окраски и астрагалами из цветов в форме античных чаш, где восьмидесятилетний садовник все еще продолжал переплетать вензеля графа и принцессы. На одном конце этого многолетнего и старомодного цветника возвышалась на берегу готическая часовенка, а на другом — маленькая пристань для венецианской гондолы, с двумя раскрашенными цинковыми статуями, изображавшими пажей с фонарями в руках.
За домом тянулась рощица с извилистыми дорожками, как в английском парке, с густыми ветвистыми деревьями, которые купали свои корни в воде, словно камыш, и шелестели нежной, воздушной, вечно дрожащей листвой. Там и сям, на открытых местах, были разбросаны маленькие беседки, — в Германии их называют «заведеньица», — устроенные для того, чтобы пить здесь кофе или чай, со столиком, стульями и соломенной крышей в виде зонта, и одна из них, стоявшая на некотором возвышении, на самом солнцепеке, называлась «Сорренто».
Аллея красных буков вдоль ручья, совсем зеленого от росшего на дне кресса, вела к большому птичнику, где некогда было множество редких птиц, а теперь жили только куры.
Эта аллея красных буков была очень оригинальна. Живя в стране, где в былые времена люди ели либо на оловянной посуде, либо на японском фарфоре, один из Изембургов вымостил свою аллею черепками тарелок, оставшимися от двух поколений, и она стала вся — золото, вся — киноварь, вся — лазурь. И теперь, прогуливаясь вдоль ручья, Фостен ступала по этому причудливому полу под странной сенью карминовой листвы, шелестевшей над ее головой.
XLIV
Для людей театра жизнь на чистом воздухе — это совсем особое счастье, это какое-то пленительное наслаждение.
Мужчины и женщины, которые целыми днями живут в сумраке репетиций и вместо солнца видят свет газа, вместо травы под ногами — зелень ковра, вместо лесной тени над головой — подпорку кулисы, а дышат лишь запахом клея да кошачьей мочи... мужчины и женщины, чье существование протекает в мире крашеного холста, где гром производят, колотя в кастрюли, а снег делают из кусочков бумаги, — эти мужчины и женщины, попав на лоно природы, живой природы, словно хмелеют, ощущая беспричинную радость и истому ребенка, которому дали лишний глоток вина.
О, чистый воздух! О, солнце, покрывающее загаром кожу! Каким прекрасным кажется все это людям театра! И как счастливы они, оказавшись под голубым небосводом, впивая утреннюю свежесть, вдыхая холодный воздух, подобный дыханию любимых уст, овевающему виски, смоченные одеколоном! Вот они бродят мелкими шажками по узким тропинкам, отдаваясь каким-то легким, приятным, неясным мыслям, останавливаясь на минутку, чтобы задержать тросточкой или кончиком зонта ползущую букашку. Вот они лежат на мху в полуденный час, наслаждаясь покоем и дремотой, слушая жужжащую тишину леса пли глядя сквозь прогалину на широкие пыльные дали, на бесконечные просторы лесов, лугов, полей, за которыми где-то вдали видна колокольня убогой церкви. Но вот уже удлиняются тени и день засыпает, погружаясь в сумерки, а гуляющих все еще не загонишь в дом. И от этих напоенных солнцем дней, от аромата деревьев и благоухания трав, от упругости воздуха, от всех этих щедрых запахов природы, от живительных токов, излучаемых небом и землею на этих выходцев из нереального, искусственного мира, — пульс у них начинает биться сильнее, какой-то лихорадочный восторг рождается в них, а потом приходит счастливое и спокойное самоуглубление.
На другой день после приезда Фостен в Изембург шел дождь. Сначала актриса, глядя в окно, дулась на непогоду. Это тянулось около получаса. Наконец она не вытерпела. Взяла зонтик и спустилась вниз. Лил один из тех грозовых летних дождей с крупными каплями, которые так хорошо промачивают вас насквозь. С минуту она задержалась на пороге, колеблясь, потом вдруг решилась и выбежала в сад, укрываясь, как могла, своим зонтом, прячась под деревом, когда ливень усиливался. Но вскоре этот теплый веселый дождь, бороздивший сияющий воздух, стал звать ее, манить, и, выйдя из-под деревьев, закинув зонтик за плечо, она храбро зашагала под низвергающимися струями.
И, уже промокнув до костей, она все шла и шла под усиливавшимся потоком, смеясь, вздрагивая и время от времени сжимая и сближая лопатки, чтобы удержать щекочущий бег капли, стекавшей по выемке спины.
XLV
Линдау, Вилла Изембург, июль.
Здравствуй, Малышка!
Трагедия умерла! Умерла и погребена в самом нижнем люке! Так что теперь твоя сестра может махнуть рукой на все эти китайские тени из древней истории! Ну уж обо мне-то не станут говорить, будто перед смертью я взяла фиакр и поехала, несмотря на ветер и дождь, чтобы с благоговением взглянуть в последний раз на фасад Французского театра. Повторяю: актриса во мне умерла и похоронена. Это не значит, однако, что вначале я совсем не боялась. В первые дни, приехав сюда, я то и дело проверяла, я спрашивала себя: «Неужели мой театральный недуг вернется?» Но нет, нет! Он исчез бесследно. Его как не бывало. Да, сестренка, конечно, очень приятно слышать аплодисменты, но ты-то знаешь, чего они нам стоят, и, право же, плата за них чересчур велика! В сущности, что такое слава? Может быть, это просто вздор — дурацкое тщеславие, которое выжимает все соки из нашего счастья. Вот какие мысли приходят на лоне природы, на чистом воздухе, а? Для нас, женщин, любовь — выше всего. Ты-то этого не знаешь. У тебя ведь никогда не было ничего, кроме каких-то чисто мужских капризов, причуд, мимолетных увлечений. Для меня же любить — любить по-настоящему, любить глубоко — еще приятнее, еще увлекательнее и радостнее, чем иметь успех. Но если я приняла свой уход из театра с легким сердцем, то здесь есть одна особа, с которой дело обстоит по-иному. Это моя старушка Генего. Ты не можешь себе представить, до чего печальна ее физиономия и как уныло облекают платья ее унылую фигуру. Ах, бедняжка! Мне кажется, что в здешних краях она окончательно перешла на роли зануд. Ты бы видела, как она грызется с остальной прислугой, как сердито смотрит на лорда Эннендейла, которого смертельно ненавидит, считая палачом моего драматического таланта. И вечно она сидит одна, где-нибудь в углу, со своим чудовищным пенсне на носу, читая и перечитывая по складам давнишние статьи обо мне, вырезанные из старых газет, в которые были завернуты мои вещи. Но это угрюмое молчание, эти слова, проглоченные ею за целый день в обществе англичан и немцев, — надо видеть, как все это выливается вечером, когда она раздевает меня перед сном. Начинается бесконечная болтовня, бесконечные воспоминания о прежней жизни, о нашей цыганской жизни вдвоем, бесконечные: «А помнит ли сударыня, как...» (сюда можешь вставить рассказ о влюбленных восторгах пожарного, школьника, кого угодно), «А припоминает ли сударыня, что...» (здесь следует повесть о подношении бронзового лаврового венка какой-нибудь депутацией жалких провинциалов или что-нибудь в этом роде). Доброе создание! Ты понимаешь, конечно, что у меня не хватает духу оборвать ее, испортить единственно счастливые полчаса, которых она ждет в течение целого дня, спугнуть эти ее: «А помнит ли сударыня?», «А припоминает ли сударыня?», которые доставляют ей такое удовольствие, а во мне не вызывают и тени сожаления по поводу решения, которое я приняла.
Здесь очень мило. Вокруг дома повсюду — вода, но вода совсем особенная, — как бы это объяснить? — ну, вода как в тазу, где плавает кусок мыла, а дома почти совершенно закрыты высокими, очень высокими вьющимися растениями, которые доходят до самых крыш, но, разумеется, я не знаю их названий. А овощи! Боже мой, какие овощи! На стручках гороха растут такие же длинные волоски, как те, что торчат из ушей у Карсонака. А фрукты? Представь тебе, что груши здесь так же зелены, как наш порей. Что касается слуг, то все они воры, такие воры, что все здесь заперто, все под замком, и говорят, что здешние хозяйки сами выдают кухарке щепотку соли. Ну, я думаю, что хватит с тебя топографических и всяких других «ических» сведений, не так ли?
Что до моего господина и повелителя, то я могу сказать о нем лишь одно — что я люблю его еще безумнее, чем прежде. Нет, любовь моего лорда не болтлива и не экспансивна, — не то что у нас, французов, но этот человек находится в постоянном напряжении, постоянно думает только о том, как бы доставить вам маленькую или большую радость, и втайне ум его беспрестанно занят выискиваньем способов сделать приятное любимому существу. Он трудится бесшумно, исподтишка, как настоящий злоумышленник, и притом не только над тем, чтобы сделать ваше существование приятным, но и над тем, чтобы сделать его безмятежным, чтобы предотвратить мельчайшее неудобство, чтобы уберечь вас от самого маленького, самого незаметного укола, и это — любою ценой. Иногда я говорю ему шутя, что он превращает жизненный путь женщины в песчаную дорожку, на которой ее тонкие башмачки никогда не встречают даже крохотного камушка. Ты знаешь о моем процессе с Французским театром и о сумасшедшей неустойке, которую от меня потребовали. Я условилась со своим поверенным, что меня здесь оставят в покое и что процесс со всеми его перипетиями пойдет сам по себе. Но однажды мне понадобилось подписать какую-то деловую бумагу, и вид ее, признаться, расстроил мне нервы на целый день. Потом я о ней забыла и больше не вспоминала много дней. Когда же я отослала ее, из Парижа пришло письмо, в котором меня извещали, что она уже не нужна, что лорд Эннендейл давно распорядился полностью внести всю сумму. А он и словом не обмолвился мне об этом. Я отлично знаю, что процесс этот был возбужден против меня из-за него, но все же заплатить сто тысяч франков вместо сорока или, может быть, тридцати тысяч единственно для того, чтобы уберечь меня в будущем от неприятного зрелища гербовой бумаги, — это, по-моему, поступок весьма джентльменский и вполне заслуживает любви.
Словом, я совершенно счастлива, ем как волк и сплю как сурок. Кстати, надо рассказать тебе сон, который приснился мне сегодня ночью после бешеной скачки верхом и двух стаканов портвейна за обедом. Я ощущала, я видела свой собственный мозг. Не знаю как и почему, но он лежал в корзинке из-под салата, которую изо всех сил раскачивала красивая рука женщины-убийцы, прекрасная рука, вроде тех, что мы часто видим в витринах торговцев гипсовыми статуэтками. И эта рука словно висела в воздухе, она была ничья. Вот какие глупости снятся, когда выпьешь немного больше портвейна, чем нужно!
Итак, напиши мне, что делается в Париже, и не бойся писать о театральных новостях. Маленький Люзи женится — да? Держу пари, что на той танцовщице из Оперы, с такими красивыми глазами и таким длинным носом, — помнишь, ты еще прозвала ее «дочерью Амура и Полишинеля». Скажи мне вот что — была ли ты на кладбище? Посадил ли садовник цветы вокруг памятника Бланшерону, как мы договорились? Я не очень-то заботилась об этом бедняге! Я была даже слишком жестока по отношению к нему. Так вот, пусть, по крайней мере, могила его будет похожа на могилу человека, которого хоть немного любили при жизни.
Любящая тебя сестра Жюльетта.
P. S. Собираешься ли ты пересаживать себя в другой горшок, как ты любишь говорить? Поедешь ли куда-нибудь этим летом? Может быть, в Гомбург? Если так, тебе бы следовало заехать сюда вместе с малышом и провести у меня несколько дней».
XLVI
Жизнь деятельная, кипучая, неугомонная, прогулки с утра до вечера в легких экипажах или в седле на быстрых верховых лошадях, жизнь, подстегиваемая свежим воздухом и ветром, бешеная скачка по окрестностям в поисках дичи, жизнь, исполненная неистового движения, кровавые бифштексы, крепкие вина, которые так любит старая Англия и которые словно вливают радость во все функции организма, — такова была жизнь любовников в Линдау.
И это чисто земное существование, стремительный бег крови, сокровенное счастье физической близости, избыток здоровья — все это вместе день ото дня делало женщину прекраснее. То была уже не знаменитая Фостен из Французской Комедии, парижская актриса, на выразительном, одухотворенном липе которой виднелся отпечаток беспокойной и нервной жизни столицы, след забот, оставляемый иногда сценой на челе ее тружениц, старообразная маска, внезапно появляющаяся в дурные дни на лицах артистов. Теперь это была другая женщина. На лице ее уже не видно было серых следов усталости, шея потеряла свою малокровную бледность, темные круги под глазами исчезли, все, что начинает выдавать возраст женщины, пропало, испарилось, улетучилось, словно по волшебству. Даже оттенок легкой иронии, характерный для этого лица, понемногу рассеялся, уступив место выражению очаровательной безмятежности, сопутствующей чисто физическому ощущению радости бытия. А сухое, изящное тело актрисы начало слегка округляться, окрепло, и легкая полнота, натянув швы ее платьев, придала юношескую упругость ее позам, движениям, жестам. Кожа ее, сделавшаяся свежей и эластичной, стала выделять чудесный запах малины, тот запах, каким обычно отдает тело здоровой деревенской девушки.
На вилле Изембург лицо тридцатилетней Фостен приобрело свежий, почти детский румянец, тело приняло оттенок молочной белизны, в глазах появился влажный блеск, а кончики ушей нежно зарозовели.
XLVII
На берегах немецких и швейцарских озер есть для туристов прелестные уголки. Это те пароходные пристани, которые стоят на сваях в маленьких веселых бухтах, красуясь своими балкончиками, балюстрадами, и на которых, посреди вьющихся растений, сидят путешественницы в изящных позах; те воздушные деревянные сооружения с фундаментом, мокнущим в воде, что полны женщин, цветов и похожи на картинки японского альбома, рисующие жизнь на побережье Дальнего Востока.
Как-то раз Жюльетта, послушавшись уговоров лорда Эннендейла, поехала с ним верхом в дальнюю прогулку, и любовники на минуту остановились перед одной из таких пристаней.
Очаровательная жанровая картинка — картинка, достойная изобретательной кисти художника типа Людвига Кнауса. В одном углу, возле старомодной, обитой вылинявшим красным бархатом коляски, гора чемоданов, саквояжей, всевозможных тюков и других живописных предметов яркой расцветки. Под ней — ряд портшезов, на которых в непринужденных позах сидели, откинувшись на спинки, девочки в коротеньких, до колен, белых платьях. Там и сям, опираясь на палки с рукоятками из козьего рога, стояли юные путешественницы, подпоясанные кожаными кушаками, к которым были привязаны бинокль, альбом, веер, зонтик. Четко обрисованные, высокие, стройные силуэты девушек, окутанные развевающимися газовыми вуалями, казались совсем воздушными. А посреди этого предотъездного беспорядка и суеты выделялась группа швейцарских женщин в белых полотняных корсажах; скрестив руки на груди, они молча смотрели друг на друга затуманенным и восторженным взглядом — тем взглядом, какой бывает у женщин, когда они молятся в церкви.
И вдруг из этого безмолвного кружка послышалось пенье — грустное пенье, похожее на тоскливый напев горцев. Не обращая внимания на окружающих и как будто единственно для того, чтобы сделать приятное самим себе, эти женщины долго пели, волнуя души слушателей мелодичной жалобой своих нежных и суровых голосов.
Их песни произвели сильное впечатление на Жюльетту, и она не только высыпала им все содержимое своего кошелька и кошелька своего спутника, но еще подарила самым юным участницам хора несколько бывших на ней недорогих украшений.
Когда же лорд Эннендейл выразил некоторое удивление — не столько щедрости ее, сколько тому лихорадочному воодушевлению, с каким она делала эти подарки, — Фостен сказала ему с грустной улыбкой:
— Ведь и я тоже пела когда-то... как эти женщины!
Волнение, вызванное этой встречей, не проходило: как видно, оно воскресило в душе актрисы целый рой воспоминаний, все ее прошлое.
Она стала молчалива и, пустив свою лошадь вскачь, упивалась быстрой ездой.
Вернувшись на виллу, она отказалась от ужина, так как слишком устала, и, выпив чашку бульона, легла спать.
Ночью Уильям был внезапно разбужен звуком громко произнесенных слов. Он увидел, что Фостен сошла с постели и, стоя посреди комнаты, в ночной сорочке, освещенная лунным сияньем, декламирует монолог Гермионы:
Где я? Зачем я здесь? Что я уже свершила
И что еще должна свершить? Какая сила
Сжимает сердце мне? Какое горе жжет?
Бессмысленно брожу я по дворцу...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Фостен в период разучивания роли бывала подвержена легким приступам сомнамбулизма, и ей случалось иногда, приподнявшись на подушке, декламировать во сне, но лорд Эннендейл никогда еще не видел, чтобы она вот так вставала с постели и играла, словно на подмостках театра.
В этом призрачном освещении она была поистине великолепна. Понизив голос на целую октаву, она читала прекрасные стихи тем сдержанным тоном, каким всегда пробовала свои интонации при разучивании роли, и этот тон придавал монологу особую трагическую сосредоточенность, окутывая образ Гермионы атмосферой священного ужаса и создавая впечатление, будто стихи декламирует привидение.
Фостен сыграла так всю первую сцену, долго, нетерпеливо ждала во сне реплики Клеоны, чтобы начать вторую, потом, не дождавшись, проснулась, не сразу сообразила, что с ней... и бросилась в объятия Уильяма, повторяя:
— Я не виновата, не виновата! Ведь я же все сделала, чтобы... чтобы больше не быть... актрисой...
XLVIII
Со времени этой прогулки мысли Фостен уже не были ограничены пределами виллы, и влюбленная женщина уже не жила теперь одним только настоящим. Частица прошлого вновь заняла свое место в ее памяти. Она стала ловить себя на том, что шепотом повторяет какой-нибудь стих, некогда заслуживший рукоплескания публики, что мечтательно улыбается, с гордостью припоминая какой-нибудь панегирик, напечатанный в газете. Она, правда, гнала их прочь — все эти невольные воспоминания о прошлом, все эти возвраты мысли к театру, — но тщетно: они лишь уходили в глубь ее сердца и снова поднимались на поверхность в часы ослабления воли, в те смутные, бессознательные и блаженные часы, когда женщина засыпает, когда она просыпается...
По вечерам, когда она лежала в постели, эти колеблющиеся образы сменяли друг друга меж ее сомкнутых век, словно огненные рисунки, пылающие на темной поверхности зеркала, и она вновь видела черные закоулки кулис, где мелькали складки хламид и полы блестящих пеплумов.
Утром она расставалась с ночью, одержимая замыслами роли — роли, которую ей обещали ночные грезы и в существование которой актриса верила в своем полусне, — верила до тех пор, пока глаза ее не раскрывались навстречу яркому дневному свету, навстречу действительности.
Даже днем, во всем, что она слышала, во всем, что видела, Фостен невольно искала сценических эффектов, и ее легкие быстрые шаги, раздававшиеся в аллеях парка, превращались иногда в торжественную поступь какого-нибудь выхода в пятом акте, до сих пор не забытого в Одеоне, а в ушах актрисы, помимо обыденных повседневных шумов, вдруг начинали звенеть славные и звучные имена Атридов.
Все это не затрагивало любви женщины к лорду Эннендейлу, не нарушало полноты счастья, которым она наслаждалась в Линдау, но в ее мозг пробирались мысли о том, о чем она не думала в последние два месяца и о чем хотела запретить себе думать. И, восставая против глухого упорства, с каким все существо ее, все ее чувства то и дело напоминали ей о прежней профессии, актриса после неоднократных приступов безмолвного раздражения вдруг принималась кричать, гневно топая ножкой, словно обращаясь не к себе самой, а к другому человеку:
— Нет! Да нет же! С этим покончено. Говорят вам, покончено навсегда!
Фостен перестала читать французские газеты, боясь, что взгляд ее сразу упадет на рубрику «Театры», и швырнула в озеро книжку, присланную ей из Парижа, — томик знаменитого критика, недавно умершего, где были собраны все его восторженные отзывы о ее игре, ее таланте, ее сценической красоте.
XLIX
То была жизнь вдвоем, без иных развлечений, кроме прогулок верхом или в экипаже. Несколько ревнивая любовь Уильяма все еще боялась общества, и единственной обитательницей огромной виллы со всей ее княжеской роскошью была, помимо влюбленной пары, бедная родственница лорда Эннендейла, старая дева, полусумасшедшая, или, вернее сказать, впавшая в состояние тихого и веселого слабоумия.
Это была особа, отличавшаяся необычайным, невообразимым уродством, бесконечными ужимками оскорбленной стыдливости и огромными ручищами, похожими на лапы гориллы. Тем немногим фразам, которые она выговаривала по-французски, предшествовал обычно звук «аоу», причем, произнося его, она как-то странно выворачивала челюсть; затем звук этот переходил в замогильные, басовые интонации, которым не видно было конца и которые неожиданно завершались визгливым и совсем уж непонятным междометием.
Впрочем, это нелепое существо появлялось лишь во время завтрака и обеда да к вечернему чаю, а потом сразу исчезало, чтобы запереться в своей комнате, которая была отведена ей настолько далеко от жилых апартаментов, насколько это было возможно.
Здесь, без остановки, без передышки, с упорством истой англичанки, она по шестнадцать часов в сутки играла на фортепьяно, совершенно не обладая ни музыкальными способностями, ни слухом, но беспощадно отбарабанивая железными пальцами невыносимые аккорды, которые, казалось, исходили не от человеческого существа, а от какой-то громыхающей мельницы, управляемой паровой машиной, и способны были разогнать целый квартал мирных жителей. И во время этого адского содома на карикатурной физиономии разбушевавшейся пианистки появлялось выражение экстаза, словно у святой Цецилии, узревшей отверстые небеса.
Под дикими ударами ее огромных, страшных пальцев фортепьяно так часто выходило из строя, что она решила приставить к своей особе — не то в качестве секретаря, не то камердинера — одного старого настройщика, для которого у нее ежедневно находилась работа.
Одетая как огородное пугало, эксцентричная старая дева проявляла кокетство лишь в выборе ночных чепцов. У нее их была целая коллекция — нарядных, с пышными бантами, — и иногда, посреди обычных «аоу» она вдруг обнаруживала чувство юмора и с громким хохотом заявляла, что в постели она до того безобразна, что боится, как бы пожарные, проникнув к ней в комнату в случае пожара, не разбежались, подумав, что перед ними сам дьявол.
L
Единственный человек, которого принимали на вилле и который довольно часто гостил там по целой неделе, был секретарь английского посольства в Баварии.
Это был тип дипломата-рыболова.
Он способен был отказаться от самого высокого назначения, если в реках той страны, куда его посылали, не водилось форели. То, что происходило в государстве, при котором он был аккредитован, — проблемы политические, военные, религиозные, торговые, словом, какие бы то ни было проблемы, нисколько его не занимали. Он никогда не читал ни одной книги, ни одной газеты, ни одного клочка бумаги, написанного по-немецки, не знал о том уголке земли, где жил, решительно ничего, кроме того, что становилось ему известно неделей позже из разговоров в посольстве, и, в сущности говоря, его гораздо больше трогала потеря наживки, которую унесла щука, чем могло тронуть объявление Германией войны его родине. Мысль его целиком принадлежала рыбам.
По вечерам, после целого дня, проведенного на озере, он молча сидел, нагнувшись над столиком в уголке гостиной, и либо занимался изготовлением приманки — искусственной водяной мошки (Sallow Fly), желтого майского жучка-подёнки (May Fly) и водяного сверчка (Water Cricket), — либо вязал сетки, либо вырезал из жести маленьких рыбок. Все это он проделывал с благоговейным вниманием, и, казалось, пальцы его прикасаются к священным реликвиям. Однажды английский дипломат сподобился даже смастерить крысу — крысу, вполне способную обмануть рыбий глаз! Это было просто фантастическое зрелище — светлый круг, отбрасываемый лампой, и в нем длинные рыжие ресницы, которые, трепеща, словно осиные крылья, прикрывают светлые глаза человека, напрягающего все свое внимание, чтобы добиться полного сходства игрушки с живой приманкой. А какие познания в естественной истории выказал он, сооружая остов зверька, как искусно смазал его клеем, с какой ловкостью приладил к нему шерстку, как умело вставил два крошечных глаза из глазури и как, шаг за шагом, он влил в него жизнь, в свое чучело, как счастлив был жестом испуга, который вырвался у Фостен, когда он бросил его к ней на колени!
Но как только часы били одиннадцать, англичанин, памятуя, что вставать надо рано, проворно собирал обрезки конского волоса, кусочки металла, разные мелкие инструменты, с помощью которых он кропотливо мастерил свои изделия, и, бережно уложив их в большой ящик для рыболовных принадлежностей, запирал там, предварительно бросив влюбленный взгляд на все его отделения. Рассказывали, что сразу после женитьбы он несколько вечеров подряд знакомил с содержимым ящика молодую жену, — таково было лучшее развлечение, какое он смог для нее придумать. Процедура была весьма торжественна: разворачивая каждую завернутую вещицу, супруг сначала тщательно чистил ее наждачной бумагой, а потом объяснял ее назначение и сейчас же заворачивал снова, демонстрируя таким образом юной подруге жизни весь свой скарб.
LI
Спустя некоторое время на вилле появился новый гость.
Перед его приездом лорд Эннендейл предупредил Фостен, что этот его соотечественник — человек немного эксцентричный, и сказал, что будет ей признателен, если она извинит его странности.
Как-то раз, возвратясь с прогулки, они застали этого человека уже водворившимся в доме — он сидел за столом, и, в ожидании обеда, усердно пил водку, поднося ко рту рюмку дрожащей рукой.
Вновь прибывший сразу и восторженно заговорил о песнях скальдов, о древних поэмах Севера, о том, какой след оставили они в памяти жителей Исландии, где он только что побывал, и, несмотря на то что он изъяснялся по-французски не совсем правильно, Фостен, которая вначале решила, что это самый обыкновенный великосветский пьяница, была удивлена.
Начали обедать. Продолжая пить вместо вина одну только водку и не притрагиваясь ни к одному блюду, кроме супа из бычьих хвостов, — он съел его столько, что на языке могли вскочить волдыри, — да салата из огурцов, которого он уничтожил целую миску, «высокочтимый» Джордж Селвин, однако, успешно поддерживал разговор на тему о политическом положении Германии, об английских дипломатах, посланных на материк, о венских салонах, о театре Расина и Корнеля, высказывая при этом здравые суждения государственного человека, рассказывая анекдоты, роняя глубокие мысли, извлекая из памяти бесконечные цитаты, обнаруживая необычайные познания в области всех европейских литератур, — и все это без малейших признаков опьянения и притом на французском языке, который с часу на час становился все более правильным, резким, злобным, а порой и беспощадно язвительным.
Джордж Селвин поразил любопытство Фостен, и, сказать правду, было чем. Чувствовалось, что этот человек еще молод, по лицо его, лицо глубокого старика, с бурой, дубленой кожей, говорило о темной, преступной, дурно прожитой жизни. Одевался он нарочито небрежно, костюм был весь в пятнах, а в петлице торчал редкий цветок с неприятным резким запахом, — причем стебель его был погружен в плоскую бутылочку, спрятанную за отворотом сюртука.
На мизинцах сухих, до странности сухих рук он отрастил длинные ногти, заключенные в золотые футлярчики на китайский манер. Помимо эксцентричности этого человека, не носившего галстука и ходившего с голой шеей, чуть ли не с голой грудью, в нем было еще много неуловимых мелочей, которые отталкивали, несмотря на обаяние его интеллекта. Особенно неприятное впечатление производило его лицо; при непомерно высоком лбе оно казалось не мужским, а скорее женским, старушечьим лицом, по которому то и дело пробегала злобная, напоминавшая нервный тик усмешка. Странное впечатление производило также и то, что седая прядь, видневшаяся среди его иссиня-черных волос и являвшаяся, по его словам, отличительной особенностью всех членов его семьи, была тщательно расчесана и, пожалуй, даже нарочито выставлена напоказ.
В гостиной достопочтенный Джордж Селвин продолжал рассуждать как специалист о самых разнообразных предметах и между прочим рассказал о пастилках из амбры маршала де Ришелье, рецепт которых он будто бы получил от Каде-Гассикура и которые во время одной из поездок по Востоку дали ему возможность увидать уйму таких вещей, каких никогда не видели другие собаки христиане: их показали ему признательные старые паши, помолодевшие, воскресшие благодаря этому привозному снадобью двора Людовика XV.
В процессе разговора он машинально протянул руку к флакончику с нюхательной солью, вырезанному из цельного самоцветного камня, но, когда Фостен пододвинула ему флакончик, он вдруг резко оттолкнул его со словами:
— Нет, нет, я разобью его!
И, заметив ее удивленный взгляд, добавил:
— Да, я наделен особой, совершенно особой болезнью... Когда я беру в руки какую-нибудь драгоценную вещицу и чувствую, что она действительно драгоценна... со мной происходит нечто странное: рефлекторное действие мозга, передавая импульс приводящим и хватательным мускулам, мгновенно переходит в отрицание заданного движения... У меня появляется какое-то функциональное бессилие, я роняю вещь, и — трах! — она уже лежит на полу, разбитая на тысячу кусков... Врачи говорят, что руководящая роль головного мозга уничтожается у меня сильным воздействием спинного... И заметьте: если вещь не кажется мне драгоценной, то я держу ее крепко, очень крепко... Нет, друг мой, тут нет ничего общего с писчей судорогой. Тут происходит нечто, так сказать, совершенно противоположное... У лиц, страдающих этим заболеванием, усиленное, судорожное сокращение мускулов приводит к так называемой контрактуре... в то время как у меня происходит мгновенный мышечный паралич... Словом, я — субъект патологический... и представляю огромный интерес для моего приятеля доктора Бернетта. Придется ему оказать мне честь, посвятив моей особе специальный параграф в его будущей книге «О нервных расстройствах».
LII
В вечерние часы у камина в вилле Изембург нередко находилась теперь по Фостен, а лишь ее внешняя физическая оболочка, ее тело, — душа женщины отсутствовала, она была на улице Ришелье.
Актрисе вспоминалось, как она выпрыгивала, бывало, из экипажа, которым правил старый Раво, прямо в толпу газетчиков, выкрикивавших каждый вечер ее имя. Вот она проходит мимо швейцара, который, улыбаясь, почтительно снимает перед ней фуражку. Вот живо взбирается по лестнице, останавливаясь на маленьких, словно созданных для раздумья площадках. Заглядывает, нагнувшись, в глубокий темный двор, куда выходят окна без ставень, без занавесок, — сверху донизу сверкающие огнями окна, за которыми мелькают человеческие силуэты, а совсем в глубине виднеются ноги пожарных в белых панталонах и походная кровать, заваленная снаряжением солдата муниципальной гвардии.
Вот она снова в своей уборной и репетирует роль с сестрой или с суфлером театра, охваченная сладостным, тревожным и вечно новым волнением. Она видит себя в ниспадающем тяжелыми складками одеянии трагической героини, которое придает какую-то суровую грацию ее фигуре. Она чувствует под ногами подмостки сцены — те подмостки, на которых она жила настоящей, полной, живой жизнью. Она смотрит сквозь отверстие занавеса в большую, ярко освещенную залу. Вон там, в пятой ложе справа, опять сидит старая герцогиня де Тайебур, неизменная посетительница всех ее спектаклей. А тут, в первом ряду партера, всегда на одном и том же месте, возле маленькой выходной двери, виднеется парик маркиза де Фонтебиз. Она испытывает радость и гордость при виде всех этих замечательных, знаменитых, умных людей, явившихся сюда ради тех чувств, которые она, только она одна, умеет расшевелить в человеческой душе. Вот она выходит на сцену, а вокруг учащенно бьются сердца зрителей, затаивших дыхание, охваченных тем немым и трепетным восторгом, с каким встречают и приветствуют великих артистов. Она играет, она играет под гром рукоплесканий, впивая эти звуки, без которых немыслимо ее существование, которых ей теперь недоставало и которые она иногда искала и здесь, словно удивляясь, что не слышит их среди голосов окружающей природы.
И лицо Фостен, когда мысль ее убегала на подмостки театра, вдруг разгоралось лихорадочным румянцем, а ноздри раздувались, как у боевого коня, почуявшего поле битвы.
— За весь вечер вы не сказали ни слова, Жюльетта... О чем вы думаете?
То был голос ее возлюбленного.
— Ни о чем, друг мой!.. Ах, уже три четверти десятого!
И стрелки на циферблате немецких стенных часов напомнили ей лишь о том, что это было время ее выхода во втором акте «Федры».
В подобных случаях Фостен пододвигала к себе какое-нибудь рукоделье — одну из тех работ, за которыми женщина может, когда к ней обращаются с вопросом, сослаться на то, что она считает стежки, и которая позволяла ей вновь вернуться к своим мечтам и без помехи погрузиться в них на все время вечернего спектакля в Париже.
Несмотря на сопротивление, на усилия, на упорную борьбу с собой, господствующая страсть снова завладела Фостен. Она снова подпала под власть призвания, под власть всесильной привычки, выработанной долгими годами, отданными на служение любимому делу. Театр призывал ее к себе, маня всеми соблазнами этого ристалища славы, всеми обольщениями этой профессии, каждодневно удовлетворяющей самолюбие актера, всем неведомым очарованием и тайными путами этой необыкновенной среды, которая так захватывает человека, что (директора театров могут подтвердить это) даже простые рабочие, механики, плотники, однажды поработавшие в театре, не хотят и не могут больше работать в другом месте, как бы скудно ни оплачивался здесь их труд.
Несмотря на свое счастье, на свою любовь, Фостен погибала от пустоты, от бездеятельности, от косности своей жизни.
С этой женщиной, созданной природою для театра, женщиной, у которой каждый перелив голоса, каждый жест, все, что исходило от нее, было театрально, внезапно произошло нечто странное (такие вещи случаются реже, чем это принято думать, даже и с большими актрисами): все ее способности, все присущее ей дарование вдруг как бы обострились в ней, благодаря этому длительному отдыху, этой спячке многих месяцев. Талант ее словно томился в плену и хотел во что бы то ни стало выйти на волю. Величавые жесты трагедии вырывались порой у Фостен, диссонируя с ее узким платьем, и по временам ей казалось, что все эти полчища стихов, зарытых в ее памяти и обреченных на молчание, могут вдруг прорваться в яростном возмущении сквозь ее стиснутые губы.
Даже и взгляд влюбленной женщины сделался, как прежде, властным, холодным, бесстрастным, зорким взглядом актрисы, и вместе с этим взглядом к ней вернулось беспокойное, почти болезненное напряжение внимания, побуждавшее ее выслеживать все комическое или трагическое на лицах окружающих и бессознательно нащупывать элементы великих и новых творений.
Она чувствовала себя побежденной, да, окончательно побежденной. В последнее время, вот уже в течение многих дней, с настойчивостью, которую ничто не могло обескуражить, с нежными ласками и с все возраставшей любовью, лорд Эннендейл возвращался к вопросу о браке и просил Фостен стать его женой. Но она отказывала ему, как уже отказала тогда, в Париже. Однако в глубине души она сознавала, что деликатность и благородство были на этот раз не единственными мотивами ее отказа, что теперешний отказ был, пожалуй, продиктован задней мыслью — мыслью, что она вернется в театр в тот день, когда перестанет быть любимой.
И она написала в Париж относительно своих театральных костюмов (в первый момент после выхода из труппы, уверенная в том, что уходит из театра навсегда, она бросила их, оставила висеть на вешалках), — написала сестре, прося ее заказать сундуки и уложить все туда.
LIII
Однажды утром, перед завтраком, прогуливаясь с Фостен по аллее красных буков, Джордж Селвин остановил ее перед одним из птичьих садков, куда садовник посадил семь или восемь петухов, чтобы откормить их.
— Вы заметили, сударыня, вон тех двух петухов, что сидят все время на верхней жердочке, хотя все остальные находятся внизу?
— Да.
— Посмотрите на них хорошенько... обратите внимание, какой у них слабый, удлиненный, бесцветный гребень...
— В самом деле!
— Не кажется ли вам, что в облике этих двух самцов есть что-то печальное и смешное?
— Не знаю, право.
— Эти два петуха ни за что не сойдут со своего насеста, даже если будут умирать с голоду!
— Но почему же? Потому, что остальные будут их бить?
— Нет... потому что, когда они спустятся вниз, остальные будут обходиться с ними как с курицами!
— И вы находите это таким уж забавным, мосье Селвин?
— Я считаю это... я считаю это противоестественным... вот и все! — произнес англичанин и повел Фостен к дому, посмеиваясь каким-то странным, ироническим смехом.
LIV
— Order? {Здесь: каковы будут приказанья? (англ.)}
Это слово каким-то беззвучным, матовым голосом произнес плотный человек, который внезапно появился и застыл с фуражкой в руке, захлопнув за собой дверь: кучер хозяйки дома явился за приказаниями.
Фостен, подняв голову, взглянула на массивное рыжеволосое существо, появившееся перед ней, и у нее вырвалось чисто французское: «Ах!»
Затем она сказала с какой-то жалобной интонацией:
— Oh yes, yes, wait. {Да, да подождите (англ.).}
В течение нескольких минут женщина мысленно искала, чем бы заполнить день. Поехать куда-нибудь в окрестности, в такое место, где она еще не была? Пройтись пешком? Но она ничего не придумала, и ее утренние мысли унеслись прочь.
Неподвижный, словно окаменевший, человек ждал, не повторяя вопроса, застыв у дверей.
Погруженная в задумчивость, Фостен внезапно подняла блуждающий взор на безмолвного кучера, о котором совершенно забыла.
При этом неприятном напоминании о скучной действительности, о повседневных делах, она снова принялась придумывать какое-нибудь занятие, но почувствовала, что ей не хочется выходить из дому, двигаться, не хочется нарушать свое оцепенение. И она невольно вспомнила о старом Раво, своем парижском кучере, который, бывало, возил ее, полную жизни и воодушевления, по разным местам, где ей бывало так весело.
И когда, оторвавшись от воспоминания об этой добродушной, жизнерадостной, французской физиономии, она снова увидела перед собой бесстрастное лицо англичанина, неподвижно стоявшего все в той же позе, ее вдруг охватило раздражение, и, возвращаясь к своим прежним привычкам, она бросила ему с жестом королевы минувших веков совершенно театральное: «Ступайте».
Такая или приблизительно такая сцена происходила каждое утро между английским кучером, приходившим за приказаниями к своей французской госпоже, и госпожой, объявлявшей, что она остается дома.
LV
Сад виллы завершался огромной террасой, сложенной из больших гранитных глыб и имевшей форму разрушенного бастиона, выступающего над озером. Изнутри ее огибала каменная скамья, с которой можно было, если немного перегнуться наружу, видеть прозрачную водную пелену.
Здесь Фостен, возненавидевшая всякое движение, проводила часть дня. Закрывшись розовым зонтиком и лениво лежа в углу каменной скамьи, подогнув под себя ногу, ничего не делая, ни о чем не думая, с розоватыми отблесками пронизанного светом шелка на скучающем лице, она целыми часами пристально смотрела на эту красивую зеленую воду, которая никуда не текла, смотрела на стаю больших черных рыб, дремавших на одном и том же месте, пока сияло солнце, — и их мертвая неподвижность среди этой стоячей воды тихо нашептывала ей о ее собственном косном существовании, о ее застывшей жизни.
LVI
— Что же все-таки представляет собой ваш друг Селвин?
С таким вопросом обратилась как-то Фостен к лорду Эннендейлу после отъезда его друга в Мюнхен, где тот пропадал по два-три дня каждую неделю.
Лорд Эннендейл, раскуривавший в это время сигару, медленно затянулся, затем посмотрел в глаза своей возлюбленной и ответил:
— Джордж Селвин — это садист.
И на немой вопрос в глазах Фостен он добавил:
— Да, человек с болезненными склонностями... с извращенной чувственностью... Но что вам... что нам до его жизни?
И он принялся расхаживать по комнате, роняя отрывистые фразы:
— Способный, очень способный человек... огромная эрудиция... а главное — старый друг молодости.
И после паузы:
— Вы собираетесь куда-нибудь поехать сегодня, Жюльетта?
— Нет.
После этого «нет» лорд Эннендейл направился к конюшням.
А Фостен начала раздумывать об инстинктивном отвращении, которое с первого взгляда вызвал в ней этот незнакомец, о неприятном чувстве, появившемся у нее, когда в доме водворился этот человек, явившийся бог весть откуда, о зачатках ревности, возникшей у нее ко все возраставшему влиянию, которое он оказывал на ее возлюбленного. Она не любила этого человека даже за тот след, какой он оставлял в умах людей, среди которых жил, за то любопытство, какое он в них возбуждал, за их страстное желание разгадать загадку этой темной души. Она спрашивала себя, какие отношения, какие узы могли связывать в прошлом этого человека с лордом Эннендейлом. Несмотря на все свои усилия, она не могла припомнить, чтобы его имя было хоть раз упомянуто при ней, и это казалось ей странным. Ее воспоминания, убегая вспять, возвращались к первому периоду ее связи со знатным молодым англичанином. И где-то в недрах ее памяти вдруг всплыла одна ночь в Шотландии, одна прогулка при луне, превращавшей огромный парк с вековыми деревьями в какой-то райский сад. Тогда, этой светлой прозрачной ночью, ее возлюбленный неожиданно — она так никогда и не узнала потом, чем это было вызвано, — бросился к ее ногам и, обнимая ее колени, начал благодарить, смиренно благодарить ее за драгоценный дар любви, — все это с нежными ласками, орошенными слезами, с неистовой радостью и лихорадочным смятением, с какими-то безумными речами, из которых она поняла, что ее любовь вырвала юношу из среды грязной и развратной, из тисков опасных страстей, подсказанных пагубными, кощунственными книгами и друзьями. И вдруг фраза, только что произнесенная лордом Эннендейлом — «старый друг молодости», — открыла ей глаза: да, Селвин был одним из злых гениев юности и первых зрелых лет ее любовника. Впрочем, разве ей и самой не случалось ловить обрывки его рассуждений! Разве до ушей ее не долетала, когда она обнаруживала обоих друзей в каком-нибудь уголке парка или в одной из комнат, пряная едкость его рассказов, смакующих чувственные детали, циничные описания, грубо эротические картины, обрывки его теорий любви, которые отдавали убийцей! Разве, заслышав издали его приближение, его пронзительный и веселый голос, завидев его злобно-насмешливое лицо, ироническую усмешку его губ, она не убегала в испуге от этого человека, словно от какого-то сатанического апостола зла и всех дурных страстей! И разве теперь, с тех пор как этот Джордж Селвин жил здесь, разве ее любовник, после бесконечных разговоров со своим другом, не кидался вечером в ее объятия с таким болезненным пылом, словно эти огненные речи вливали какой-то возбуждающий яд в его жилы! И разве не появился у нее некоторый страх перед этой любовью, перед этой бешеной, ненасытной страстью и даже перед этим любимым лицом, которое в минуты наслаждения делалось прежде таким нежным и на котором теперь — казалось ей — иногда бывало какое-то странное, почти жестокое выражение!
LVII
Наступление осени, последние отцветающие цветы и первые облетающие листья, резкие западные ветры, стонущие в деревьях, огромная серая пелена воды, белесоватая громада дома, просвечивающая сквозь оголенные стволы, вьющиеся растения, увядающие в бледном свете дня, — все это наводило на Фостен странную, тревожную грусть, в которой как бы затаился страх, смутный страх перед будущим, ожидавшим ее в тех стенах, где она жила. Искусное подражание средневековью в некоторых частях здания, быстрое обветшание под немецким небом построек, сооруженных на итальянский лад, в иные дни придавало вилле сходство с какой-то трагической декорацией. Даже камни, неизвестно почему, возбуждали в человеке, у которого расходились нервы, какие-то мрачные предчувствия. Кроме того, Фостен узнала, что маленькая готическая часовенка, которую она сначала приняла за архитектурный каприз бывшего владельца виллы, представляла собой склеп и что женщина, которую до нее любили в этом уголке земли, была похоронена здесь вместе со своим новорожденным младенцем. Фостен представляла себе, как юная влюбленная принцесса лежит среди цветов в гробу со сложенными на груди руками, в которых покоится мертвый младенец. И теперь, когда она уже знала об ужасном несчастье, случившемся в этом огромном доме, ей казалось, что, несмотря на новых обитателей, на солнце, проникающее через вновь распахнутые окна, несмотря на привезенную сюда новую радость, здесь навеки поселились уныние и горе.
А люди, с которыми ей приходилось жить на этой вилле, — старая англичанка, дипломат, «высокочтимый» Джордж Селвин, — представлялись ей непонятными, внушающими опасение существами, выходцами из какого-то странного, зловещего, почти страшного мира. Даже автоматические движения этих огромных, шестифутовых лакеев, с лицами точно у восковых фигур, внезапно вскакивавших в передней при ее появлении, иной раз рождали в ее мозгу мысль, что все вокруг нее нереально, что она живет в каком-то нелепом кошмаре, и глухая тревога охватывала подчас эту парижанку, эту женщину, которая до сих пор жила в веселых и уютных квартирах, среди мужчин и женщин, созданных по человеческому образу и подобию.
В свои праздные дни Фостен бродила по нежилым комнатам с закрытыми ставнями, натыкаясь в полумраке то на детскую колыбельку, то на другие семейные реликвии, казалось, брошенные наспех при бегстве из проклятого небом дома.
Среди всех этих причудливых предметов был маленький шкафчик — нечто вроде шифоньерки, — к которому вновь и вновь приводила ее какая-то неведомая сила. Принцесса Фредерика страстно любила кружева, и на ящиках шифоньерки были наклеены бумажки с надписями, сделанными ее изящным, но неразборчивым почерком: «Малин, Валансьен, Шантильи, Алансон, Англия».
С каким-то странным чувством Фостен открывала, один за другим, эти пустые ящики... и подолгу неподвижно стояла перед шкафчиком, грезя о чем-то, думая, что дом, в котором она живет, несчастливый дом — дом, отмеченный роком.
LVIII
Обитатели виллы Изембург пили кофе в «Сорренто», когда к ним подошел слуга и подал на серебряном подносе письмо мистеру Джорджу Селвину.
Прочитав письмо, Джордж Селвин передал его своему другу со словами:
— К сожалению, сегодня вечером мне придется уехать. Меня ждут гости.
— А... это из того домика на бретонском побережье, о котором ты как-то говорил мне, — сказал лорд Эннендейл, быстро пробежав письмо, написанное шифром.
Фостен невольно взглянула на листок почтовой бумаги.
— Ах, какая прелестная хижина нарисована в заголовке! — воскликнула она и в порыве детского любопытства наклонилась, чтобы разобрать надпись, сделанную вокруг рисунка.
— «Хижина Дольмансе», — прочитала она вслух. И добавила: — Это название местности, не так ли?
— Да, именно так, — проговорил лорд Эннендейл, и женщина, внезапно смутившись, увидела на губах Джорджа Селвина загадочную и зловещую улыбку.
LIX
Примерно в ту же пору Фостен, кончая письмо к сестре и поручая ей купить кое-какие мелочи для своего туалета, сделала следующую приписку:
«Ты не прислала мне, хоть я тебя и просила, всех тех газет, где упоминалось о дебюте Женни Лафон в «Федре», и не написала, какие из моих ролей она намерена играть. О, если бы мне удалось хоть на несколько месяцев вернуться в театр, я бы выпросила себе роли наперсниц в тех пьесах, где она играет королев, и все-таки съела бы ее».
LX
И снова жизнь наедине друг с другом началась для любовников в вилле Изембург. Отъезд англичанина Селвина освободил Фостен от ее тайных тревог, а некий проект, который должен был вот-вот осуществиться, почти отвлек ее от упорно возвращавшихся мыслей о театре. Лорд Эннендейл предложил своей возлюбленной провести зиму в Италии, и теперь оба были заняты разными приготовлениями, отдаваясь радостному полету воображения, которое всегда предшествует всякому путешествию и заранее уносит нас в далекую страну.
Все было решено: они нигде не будут жить подолгу и, путешествуя в своем экипаже и на своих лошадях, поедут не торопясь, куда глаза глядят, задерживаясь там, где понравится, и не останавливаясь в тех городах и местностях, которые покажутся скучными. И, склонившись над картой, совсем близко, так что головы их соприкасались, а волосы смешивались, они вместе водили указательными пальцами по большому листу, намечая места будущих остановок, причем женщина, обнаруживая забавное невежество, задавала совсем детские вопросы, а мужчина отвечал ей как человек, основательно знающий страну.
— Вот здесь, — говорил он, останавливая пальчик своей возлюбленной на маленьком кружке, — здесь он купит ей золотое кольцо, совсем особой чеканки — такой не знают ни в одной другой европейской стране... Здесь он поведет ее смотреть старинную церковь, не указанную ни в одном путеводителе... Тут он угостит ее маленькой рыбкой, которую едят только в этих краях... И потом, он ведь занимался фотографией, когда был в Индии... Скоро прибудет выписанный им аппарат... она будет помогать ему и увидит, как это интересно... Они привезут оттуда снимки... снимки, сделанные их собственными руками... снимки всех тех уголков, где они оставят частицу своего счастья, своей любви.
Уже старая англичанка была отправлена в Англию, где ей предстояло провести все время, пока продлится путешествие влюбленной пары. Уже начали укладывать чемоданы, и отъезд был назначен на один из первых дней наступающей недели.
LXI
Однажды ночью, в насыщенной сладострастием духоте спальни, лорд Эннендейл встал в постели, где рядом с ним спала его возлюбленная, чтобы впустить в комнату немного прохлады утра, белевшего сквозь прозрачные занавески.
Бессильными шагами он подошел к окну, попытался отворить его и вдруг слабеющим голосом крикнул:
— Жюльетта, ко мне... ко мне!
Разбуженная этим призывом, совсем еще сонная, Фостен увидела, что ее любовник ухватился обеими руками за ручку окна, пытаясь сохранить равновесие, почти падая. Соскочив с постели, она тотчас подбежала к нему, обхватила обеими руками.
Поддерживаемый женщиной, мужчина сделал движение в сторону постели, но ноги у него подкосились, и Фостен почувствовала, как его большое, тяжелое тело обвисло в ее объятиях.
Она кричала, звала на помощь, но никто не слышал ее, а так как она не могла разомкнуть рук, то не могла и позвонить.
Тогда, собрав последние силы, она сделала отчаянную попытку поднять своего Уильяма и, почти раздавленная этой тяжестью, понесла его, медленно, очень медленно подвигаясь вперед, подняв голову к его бледному лицу, глядя в широко раскрытые глаза возлюбленного, где застыл ужас, каким поражает совершенно здорового человека внезапное, неожиданное прекращение жизни.
LXII
Сознание не вернулось к лорду Эннендейлу и после того, как Фостен уложила его в постель. Он лежал неподвижный, как труп, все с тем же страшным, застывшим взглядом. Единственным признаком, указывавшим на то, что он еще жив, было лишь прерывистое, свистящее дыхание. По временам его губы раскрывались, пропуская невнятные обрывки слов, но голос тут же замирал, переходя в какие-то детские вздохи. Бывали и такие мгновения, когда Жюльетте, наклонявшейся над ним, чтобы заставить проглотить крошечные, с булавочную головку, кусочки льда, — когда ей казалось, что глаза его, внезапно прояснившись, с секунду улыбались ей, как будто узнавая... но нет, то была иллюзия: это выражение мгновенно улетучивалось, а взор снова убегал куда-то вдаль.
И в этом бесконечном бдении у постели больного, — ибо женщина никому не уступала своего места, не соглашалась ни на малейший отдых, — проходили для нее дни с их радостным и раздражающим наступлением утра при мерцании угасавшей свечи и долгие, бесконечно долгие ночи, — дни и ночи, прерываемые лишь визитами врача, озабоченного, подавленного странной, непостижимой болезнью.
LXIII
В разгаре полного счастья жизни вдвоем — внезапная перспектива вечной разлуки с любимым человеком через несколько дней, быть может, через несколько часов, и грубое вторжение мысли о смерти! И это — в самом начале любви, которую оба считали вечной и которая не продлилась еще и года, любви, исполненной нежности, пыла, исполненной того горения страсти, которое соединяет мужчину и женщину в одно нерасторжимое целое. О, боже, возможно ли это? Она пойдет гулять, и его рука не будет больше поддерживать ее руку. Сядет за стол — и не увидит больше напротив его лица. Уснет — и его сон не сольется более с ее сном. Она не услышит больше, как он высказывает за нее мысль, пришедшую одновременно им обоим. У нее не будет его глаз, чтобы смотреть, чтобы смотреть вместе с нею... Нет, отныне ничего не будет в ее жизни, кроме ужасного одиночества в опустошенном мире; дни ее будут лишены солнца, ничто не будет больше приносить ей радость... И если бы еще она была подготовлена к этому страшному прогнозу долгими месяцами болезни, медленными изменениями в состоянии больного, беспокойством, написанным на лицах окружающих, их тревожным шепотом — всеми жестокими признаками, которые постепенно приучают мысль, помогают ей свыкнуться с тем кошмаром, которому вначале упорно, изо всех сил, отказывается верить любящее сердце... Но такая смерть — смерть, поражающая как молния...
И пока тянулось неопределенное, ничем наперед не ограниченное время, которое близкие проводят у постели умирающего, Фостен чувствовала себя совершенно отупевшей, словно бы оглушенной сильным ударом по голове. Она стала рассеянной, мысли у нее путались, в ушах стоял шум, напоминавший отдаленный рокот волн, и по временам немое возмущение против бога и судьбы поднималось вдруг из глубины ее сознания.
В такие часы жизнь просыпалась в ней, но это пробуждение сопровождалось тупой болью, словно после мучительного кошмара.
И все время истерзанный мозг женщины не покидало ощущение раздирающей неизвестности.
По временам, инстинктивно простирая руки, она пыталась отогнать навязчивую идею какими-то словами, вернее, мыслями: «Ведь доктор еще не произнес окончательного приговора... ведь люди выздоравливают и от более тяжелых болезней... а он еще так молод». Но руки ее тотчас снова сжимали лоб. И тогда из всех углов угрюмой комнаты, казалось ей, доносились чьи-то тихие голоса, которые, как мухи, бьющиеся о стекло, стучали ей в виски, нашептывая: «Смерть, смерть, смерть!»
LXIV
Спальня, где на широкой кровати, с матрацем, обитым красным шелком, лежал лорд Эннендейл, была огромная, высокая и холодная комната, уставленная строгой мебелью в стиле той модернизированной готики, какую можно видеть в маленьких бульварных театрах при постановках исторических драм.
На туалетном столике с зеркалом в раме со стрельчатым верхом, среди множества липких ложечек, стояла целая батарея флакончиков и откупоренных пузырьков с лекарствами, а через стеклянную дверь виднелись силуэты двух гигантов лакеев, которые дремали на креслах в соседней комнате.
Снаружи веяло унылой, немного тревожной грустью широкой пелены уснувших вод, и время от времени в открытое окно влетали, словно летучие мыши, легкие дуновения ветра, колебавшие слабый огонек лампы и создававшие в мрачной комнате внезапные смены света и свинцового мрака.
Сидя в ногах постели, Фостен плакала, зарывшись головой в одеяло, плакала над больным, а он лежал неподвижно, и только его бледные, стиснутые страшной судорогой пальцы собирали и комкали простыню на груди.
Когда она подняла голову, у постели стоял неслышно вошедший доктор — старик с длинными волосами, откинутыми за уши, как у Дженнера, в длинном сюртуке, какие носят протестантские пасторы.
— Да, она началась! — пробормотал он, не произнося страшного слова.
— О, боже! Значит?.. — И Фостен умолкла, не закончив фразу.
— Мужайтесь, сударыня! — проговорил доктор.
И он сел рядом с ней, устремив на умирающего холодный взгляд ученого, изучающего смерть.
Фостен взяла руки Уильяма в свои и, ласково поглаживая их, словно мать, унимающая сердитые движения ручонок больного ребенка, пыталась успокоить их нервозность и прекратить это ужасное комканье простыни.
Врач — тот все еще всматривался в лицо умирающего с каким-то странным и настойчивым вниманием, к которому вдруг присоединилось что-то похожее на удивление. Он наклонился вправо, потом влево, чтобы лучше видеть, проговорил: «Нет, этого не может быть», — вынул из кармана шелковый носовой платок, долго протирал им стекла очков, наконец встал с места и, приподняв абажур на лампе, ярко осветил лицо молодого лорда.
И, стоя у постели, причем тень от его застывшей фигуры падала на простыню, повторяя все его недоуменные жесты, доктор продолжал бормотать отрывочные фразы:
— Нет, это не иллюзия, это случай, какой может встретиться раз в сто лет... Видите ли вы, сударыня, странную игру мускулов risorius {Управляющих смехом (лат.).} и большого скулового мускула?.. Случай, который никогда еще не подвергался научному наблюдению... Медицинские книги — немецкие, английские, французские — дают только название такого рода агонии, да еще неизвестно, то ли самое они имеют в виду... но ни в одной книге любой из этих стран нет ее описания... И мы бы даже не знали о ее существовании, если бы не ваша соотечественница, госпожа д'Эпине. Основываясь на сообщении Троншена, она упоминает об этом в своих мемуарах, оставленных ею в прошлом веке... Да взгляните же, рисунок смеха становится совершенно отчетливым... Ах, бедная вы моя, вам предстоит присутствовать при очень тяжком зрелище... будьте готовы стать свидетельницей так называемой сардонической агонии... Сейчас я ненадолго оставлю вас, сделаю визит на виллу Калленберг и сразу же вернусь... Я хочу записать все явления, которые будут происходить.
Когда Фостен осталась одна, ее охватил невыразимый ужас. Она хотела было подойти к окну и закрыть его, чтобы прекратить ночные дуновения, которые моментами делали эту комнату еще более страшной, но не посмела. Хотела позвать слуг, которые спали по ту сторону стеклянной двери, но не решилась. И не в силах ни убежать отсюда, ни видеть лицо умирающего, на котором смерть смеялась, она обеими руками закрыла себе глаза.
Часы текли, врач не приходил, мрак становился все гуще, все безмолвнее, приближалась полночь, чей приход так страшен для того, кто бодрствует у постели умирающего, а исполненная ужаса Фостен все еще как пригвожденная сидела на том же месте, закрыв лицо руками, не смея взглянуть.
После длительного, очень длительного промежутка времени она отважилась, однако, посмотреть сквозь слегка раздвинутые пальцы, потом взглянула еще раз и еще, внезапно охваченная жгучим любопытством, чувствуя, как в нем растворяется и ее страх, и даже какая-то частица ее скорби.
И вдруг она почувствовала, что уже не в силах отвести взгляд от странной агонии этого лица.
Ее руки оторвались от глаз, упали на колени, и, застыв на месте, она смотрела, смотрела, вопреки себе.
И подобно тому, как это бывает в больнице, где нервные припадки переходят от больного к больному, постепенно заражая всю палату, рот и губы актрисы, так долго всматривавшейся в лицо умирающего, начали непроизвольно повторять все движения его рта, его губ, воспроизводить ужасный, душераздирающий смех, искажавший его черты.
Ибо теперь на лице его была уже не та неопределенная, неясная улыбка, какая была вначале. Сейчас это был смех, настоящий смех, да, смех, появлявшийся и исчезавший вместе с хрипом, вырывавшимся из горла, смех, приподнимавший в жестокой, иронической усмешке углы посиневших губ, зловещий rictus, {Оскал (лат.).} искажающий в последних предсмертных судорогах человеческое лицо, — смех, эта милая примета радости и счастья, превратившаяся в ужасную, дьявольскую карикатуру, словом, самая изумительная вещь, какую когда-либо дано было видеть драматическому артисту.
И это зрелище, на мгновение убив любовницу, заставило женщину, помимо ее воли, снова стать актрисой.
Мало-помалу от подражания нервного, бессознательного, непроизвольного, каким оно было несколько минут назад, Фостен, словно повинуясь чьей-то деспотической воле, перешла к подражанию обдуманному, хладнокровному, словно она работала над ролью, словно ей предстояло изображать агонию на сцене, — и теперь желая убедиться, что смех на ее устах это именно тот смех, какой она подсмотрела на губах своего любовника, она оборачивалась, ища ответа в зеленоватом зеркале старинного туалета, стоявшего за ее спиной.
Всецело отдавшись труду актрисы, Фостен вдруг услышала яростный звонок, раздавшийся откуда-то из глубины постели, и, торопливо отвернувшись от зеркала, встретила взгляд умирающего, к которому словно чудом вернулось сознание.
Оба лакея вошли в комнату.
— Turn out that woman! {Выведите отсюда эту женщину! (англ.)} — сказал молодой лорд, и в голосе его прозвучала вся непреклонность саксонской расы.
Фостен прижалась губами к рукам любовника. Но тот резко оттолкнул ее со словами:
— Актриса... вы только актриса... женщина, неспособная любить!
И, последним предсмертным усилием отвернув лицо к стене, лорд Эннендейл крикнул еще более повелительным тоном:
— Turn out that woman!
Примечания
(La Faustin)
Роман «Актриса Фостен» впервые вышел в 1881 году в издательстве Лемер. На этот раз Эдмон де Гонкур мог со спокойным удовлетворением констатировать в своем «Дневнике» (май — июль 1881 г.), что на долю его нового произведения выпал успех не только у читающей публики, но и в прессе. Одобрительные, а порою и восторженные отзывы Поля Бурже в газете «Парлеман» («Parlement»), А. Доде в «Ревей» («le Reveil»), г-жи Доде в «Тан» («Temps»), Мопассана в «Голуа» («Gaulois»), Золя в «Бьен пюблик» («le Bien publique»), Ceapa в «Эвенман» («l'Evenement») произвели на Гонкура такое впечатление, что он удостоил лишь иронического упоминания большую статью одного из известнейших французских критиков и редактора «Ревю де Дё Монд» Фердинанда Брюнетьера, помещенную в этом журнале в томе 49 за 1881 год. Статья Брюнетьера явилась между тем своего рода программным выступлением: как критик «охранительного» направления, поклонник французского классицизма, Брюнетьер резко отрицательно относился и к натурализму, и к тем тенденциям модернистского, «декадентского» характера, которые шли ему на смену. На автора «Актрисы Фостен» он обрушился за то, что в его представлении являлось, с одной стороны, пережитками натурализма, с другой стороны — изменой ему (эпизоды любви Фостен и лорда Эннендейла, которые кажутся Брюнетьеру романтизмом дурного вкуса, и прежде всего пресловутая «сардоническая агония» Эннендейла).
Первый русский перевод романа Гонкура принадлежит М. Шелгуновой и вышел в свет в С.-Петербурге в 1882 году под названием «Жюльетта Фаустен». В советское время роман появился в новом переводе А. Эфроса в 1936 году (издательство «Academia») под названием «Фостен» и в переводе Д. Лившиц в 1961 году под названием «Актриса» (в книге: Эдмон и Жюль де Гонкур, Жермини Ласерте. Актриса. Отрывки из «Дневника», Лениздат). Этот перевод, просмотренный заново, и помещен в данном томе.
Стр. 317. Ниттис Жозеф (франц. форма имени Джузеппе; 1846— 1884) — итальянский художник, жил и работал в Париже; один из друзей Эдмона де Гонкура.
Стр. 320. Пигмалион (греч. миф.) — скульптор, влюбившийся в изваянную им статую и ожививший ее своей любовью.
Стр. 322. ...чтобы выйти замуж за какого-нибудь Ларюэтта... — Вероятно, имеется в виду актер Жан-Луи Ларюэтт (1731—1792), известный своим исполнением ролей неудачников и благородных отцов.
Стр. 323. «Понос Бобеша». — Бобеш — французский балаганный актер, весьма знаменитый в первой четверти XIX в.
...некто по имени Понсар обнимается сейчас с Титанией... — Титания — персонаж из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь», царица эльфов. Понсар Франсуа (1814—1867) — поэт-драматург, пытавшийся найти некую «среднюю» линию между романтическим и классическим театром.
Принципы восемьдесят девятого года — то есть положения «Декларации прав человека и гражданина», провозглашенной во время французской буржуазной революции 1789—1793 гг.
...с интонацией а la Грассо. — Грассо Поль-Луи-Огюст (1800—1860) — французский актер, популярный в свое время комик.
Стр. 324. Виши — курорт во Франции, где лечат желудочные заболевания.
Сид (арабск. «господин») — герой испанской народной поэзии, воитель, боровшийся против мавров. Сид является героем многих литературных произведений, в частности, одноименной трагедии Корнеля (1636).
Гаргамель — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», жена короля великанов Грангузье и мать Гаргантюа.
Беспечная Сарра — намек на библейский рассказ о Сарре, жене патриарха Авраама, которая сама дала своему супругу в наложницы рабыню Агарь («Бытие», XVI).
Стр. 325. Дюшенуа Катрина-Жозефина (1777—1835) — французская трагическая актриса.
Стр. 326. Диафуарус — персонаж комедии Мольера «Мнимый больной» (1673); псевдоученый врач.
Стр. 327. ...вызвать дух Мюрже? — Мюрже Анри (1822—1861) — французский писатель, автор «Сцен из жизни богемы».
Стр. 333. ...приняв позу Бертена, как на портрете Энгра. — Энгр Доминик (1780—1867) — французский художник неоклассического направления. Бертен Луи-Франсуа (1766—1841) — буржуазный публицист; при Реставрации и в царствование Луи-Филиппа — главный редактор газеты «Журналь де Деба». На портрете Энгра Бертен сидит, упершись руками в колени, в позе энергичной и властной.
Стр. 335. Сент-Бёв Шарль-Огюстен (1804—1869) — выдающийся французский литературный критик.
Стр. 336. ...в Греции Перикла... — Перикл (490—429 до н.э.) — древнегреческий государственный деятель, с именем которого связан период расцвета афинского города-государства.
«Ипполит» (точнее, «Ипполит Увенчанный») — трагедия греческого поэта Еврипида (480—406 до н. э.), сюжет которой и многие положения заимствованы были Расином для его «Федры».
Стр. 337. Ракия — виноградная водка.
Стр. 338. Паликар. — В конце XVIII и начале XIX в. паликарами назывались турецкие солдаты греческого и албанского происхождения, дезертировавшие из турецкой армии и образовывавшие партизанские отряды для борьбы с турецкими поработителями. Во время войны за независимость (1821—1828 гг.) паликары боролись на стороне греческого народа.
Стр. 344. Скриб Огюстен-Эжен (1791—1861) — французский драматург, пользовавшийся огромной популярностью в XIX в., мастер сценической интриги.
Стр. 345. «Собрание речей». — Имеется в виду сборник речей римских государственных деятелей, извлеченных из трудов римских авторов. Сборник этот был издан во Франции еще в XVI в. Анри Эстьеном и с тех пор неоднократно переиздавался в исправленном и дополненном виде.
Стр. 346. Агент кулисы. — Так назывались лица, выступавшие посредниками при заключении «за кулисами» официальной биржи сделок между держателями ценностей.
Стр. 348. ...с видом «поджигательниц»... — Враги Парижской коммуны называли так женщин из народа, которых клеветнически обвиняли в поджогах зданий.
...актрисе Одеона... — Одеон — один из драматических театров Парижа, в котором ставились пьесы Гонкуров (например, «Анриетта Марешаль», 1884) и инсценировки их романов («Рене Мопрен» Сеара, 1880; «Жермини Ласерте» самого Э. де Гонкура, 1888).
Стр. 349. Терамен — персонаж из «Федры» Расина, воспитатель Ипполита.
Энона — кормилица Федры в одноименной трагедии Расина.
Стр. 350. Мадемуазель Марс (Анна-Франсуаза Буте; 1779—1847) — выдающаяся французская актриса, с одинаковым успехом выступавшая как в трагических, так и в комических ролях.
Стр. 352. Домье Оноре (1808—1879) — французский художник, мастер острой политической карикатуры, проникнутой демократическим пафосом и ненавистью к реакции.
Стр. 355. У меня как раз есть при себе гербовая марка. — Подразумевается: чтобы написать официальную жалобу.
Стр. 362. ...на манер гостиницы с ложей № 23 из рассказа Гофмана. — В рассказе «Дон Жуан» немецкого писателя Эрнеста-Теодора-Амадея Гофмана (1776—1822) герой-рассказчик попадает на представление моцартовского «Дон Жуана» через потайную дверь, которая выходит в коридор, соединяющий гостиницу с театральной ложей № 23.
Стр. 365. Жозеф Мери (1798—1865) — французский поэт и романист. В ряде его произведений действие, полное романтических приключений, происходит на Востоке.
Стр. 366. Мадемуазель Клерон (1723—1803) — крупная французская трагическая актриса. Эдмон де Гонкур написал о ней отдельную монографию.
Стр. 368. «Ужель, Афродита, тебя веселит...» — слова одной арии из оперетты Оффенбаха (1819—1880) «Прекрасная Елена» (1864).
Стр. 369. Дидона — карфагенская царица, возлюбленная троянца Энея (Вергилий, Энеида, песни 2—3).
Стр. 371. ...надо дать почувствовать дочь Пасифаи. — По античному мифу, Федра была дочерью критского царя Миноса и его жены Пасифаи; одержимая эротическим безумием, Пасифая воспылала страстью к быку и родила от него чудовище Минотавра.
Стр. 373. ...в туниках, хламидах и паллиумах... — Туника — античная одежда типа рубашки; хламида и паллиум — верхняя одежда типа плаща.
Стр. 374. Герен Пьер-Нарсис (1774—1833) — французский исторический живописец неоклассического направления.
Александрийские стихи — размер, которым написаны французские классические, а также и романтические трагедии, комедии и драмы. Довольно близок к русскому шестистопному ямбу.
Римская премия — высшая награда, присуждавшаяся ученикам Парижской Академии художеств; давала право на командировку в Рим. в специальную французскую художественную школу.
Стр. 377. ...лицо какого-нибудь наемного убийцы при дворе Валуа... — При дворе последних французских королей династии Валуа (XVI в.), во время религиозных войн между католиками и протестантами, представители враждующих партий нередко пользовались услугами наемных убийц.
Стр. 384. ...Адриенна Лекуврер, была отравлена... — Адриенна Лекуврер (1692—1730) — французская трагическая актриса; некоторые обстоятельства ее внезапной смерти привели к возникновению легенды об отравлении ее ревнивой соперницей.
Стр. 385. ...тот, кто первый облек в плоть и кровь камень, мрамор, бронзу. — По-видимому, речь идет о французском скульпторе Жане-Батисте Карпо (1827—1875).
Тео. — Имеется в виду Теофиль Готье (1811—1872), французский поэт, прозаик, литературный и художественный критик.
Сен-Виктор Поль де (1825—1881) — французский литературный и театральный критик.
Стр. 386. Вильмессан Огюст (1812—1879) — видный французский журналист, основатель газеты «Фигаро», существующей и в наше время.
Жанен Жюль (1804—1874) — французский писатель романтического направления, критик и журналист. В 70-х годах XIX в. его расцвет и слава были уже позади.
Стр. 389. Делоне Луи-Арсен (1826—1903) — французский актер и театральный педагог (профессор сценической декламации).
Стр. 392. ...будто признает только эгинетов... — Речь идет о светской моде на греческую скульптуру V в. до н. э. (эгинетами называются фигуры эллинских воинов на фронтоне храма в Эгине).
...читая им из «Града божия» блаженного Августина. — «О граде божием» — богословский труд одного из «отцов церкви» Августина, епископа Гиппонского (354—430).
Стр. 396. ...иностранный писатель, великан с кротким лицом... — то есть И. С. Тургенев; в 70-х годах Э. де Гонкур часто общался с великим русским писателем в Париже и приводит в «Дневнике» много высказываний и устных рассказов Тургенева.
Иорданс Якоб (1593—1678) — фламандский художник, реалистически изображавший грубоватые энергичные лица своих современников.
Варфоломеевская ночь. — Во время религиозных войн во Франции в ночь св. Варфоломея (24 августа 1572 г.) главари католической партии организовали массовое избиение протестантов в Париже.
Стр. 397. ...художник кисти и слова... — Вероятно, подразумевается писатель и художник Эжен Фромантен (1820—1876), автор романа «Доминик» и картин, изображающих пейзажи Сахары.
Стр. 398. ...ученый — мечтатель и фантазер — вероятно, Камиль Фламмарион (1842—1925), астроном и популяризатор астрономии; он писал также романы на астрономические темы («Урания» и др.).
Стр. 401. ...воплощением мечты какого-нибудь Пиранези... — Пиранези Джанбатиста (1720—1778) — итальянский архитектор, автор серии гравюр на архитектурные сюжеты, поражающих буйной фантазией.
Карл I (1500—1558) — король Испании, он же Карл V, германский император; выведен Виктором Гюго в качестве одного из главных персонажей в драме «Эрнани» (1830).
Павел Эмилий. — Такое имя носили два римских государственных деятеля: консул 219 г. до н. э., погибший в битве с Ганнибалом при Каннах, и римский наместник в Испании, консул 181 г. до н. э.; последний победил македонского царя Персея, что привело к захвату римлянами Греции, Македонии и Фракии.
Прозерпина (у греков — Персефона) — царица подземного царства мертвых (антич. миф.).
Стр. 402. На одной стене висит Дюкло... — Дюкло Мария-Анна (1670—1748) — видная французская трагическая актриса. Далее следуют имена выдающихся актеров, чья сценическая деятельность была связана с театром Французской Комедии (иначе, Французским театром). Барон Мишель (1653—1729), так же как и Лекен Анри (1728—1778) — трагические актеры. Жеффруа Эдмон (1804—1895) — актер, который одновременно был художником; его кисти, в частности, принадлежат две картины, представляющие собой коллективные портреты актеров Французской Комедии. Мадемуазель Марс — см. прим. к стр. 350. Тальма Франсуа-Жозеф (1763—1826) — крупнейший актер-трагик. Клерон — см. прим. к стр. 366. Данжевиль (Мария-Анна Бато; 1714—1796) — видная актриса. Превиль Пьер-Луи (1721—1799) — комический актер. Бовалле Пьер-Франсуа (1802—1871) — актер на трагических ролях, работавший также и как драматург.
Стр. 403. ...паясничавшего Готье-Гаргиля... — Готье-Гаргиль (1574— 1634) — знаменитый в свое время комический (фарсовый) актер, представитель сценического жанра, связывающего «высокий» театр с народными балаганными представлениями.
Стр. 404. Брессан Жан-Батист (1815—1886) — актер театра Французской Комедии.
Стр. 407. ...грациозное воспоминание... — Имя Коломб по-французски буквально значит Голубка.
Стр. 408. «Баязет» (1672) — трагедия Расина, где главная женская роль принадлежит Роксане, любимой жене турецкого султана Амурата, изменившей ему с его братом Баязетом.
Стр. 408—409. ...повторить мне шутку великого короля... — Людовик XIV будто бы однажды сказал, что для роли Федры требуется сочетание двух (несовместимых в одном сценическом даровании) стилей: высокого трагизма, как у актрисы Шанмеле (1642—1698), и страстного лиризма, как у актрисы Деннебо (1638—1708).
Стр. 432. Теннисон Альфред (1809—1892) — английский поэт, автор «Королевских идиллий» — поэм на сюжеты средневековых легенд о короле Артуре и «рыцарях круглого стола».
Стр. 433—434. Круазет Софи (1848—1901), Ллойд Мари-Эмили (род. 1845) и Самари Леонтина (1857—1890) — актрисы Французской Комедии, современницы Гонкуров.
Стр. 434. Форен Жан-Луи (1852—1931) — французский живописец и гравер, автор острых политических карикатур.
Тьеполо Джованни-Батиста (1693—1770) — итальянский живописец, последний великий представитель венецианской школы.
Лемуан Франсуа (1688—1737) — французский живописец.
Стр. 437. ...с интонацией Жозефа Прюдома... — Жозеф Прюдом — образ, созданный французским писателем и карикатуристом Анри Монье (1805—1877) и вскоре ставший популярнейшим воплощением типа самодовольного и ничтожного буржуа.
Стр. 440. ...«Андромаху» — трагедию, в которой ей ...предстояло ...играть роль Гермионы... — В трагедии Расина «Андромаха» (1667) спартанская царевна Гермиона, невеста царя Пирра, неистово ревнует его к греческой пленнице Андромахе.
Стр. 441. ...словно проклятье Камиллы... — Речь идет о монологе Камиллы из трагедии Корнеля «Гораций» (1639). В этом монологе Камилла проклинает родной город (Рим) и своего брата Горация, убившего ее жениха на поединке, который должен был решить победу в войне Рима с Альбой Лонгой. В ответ на это проклятие Гораций, возмущенный тем, что родине она предпочла возлюбленного, убивает Камиллу.
Стр. 447. ...свирепое величие блудницы из Апокалипсиса. — «Апокалипсис» (греч. «Откровение») — одна из книг Библии, полная трагической символики. Образ «Блудницы верхом на Звере» расшифровывался как аллегория Римского государства, преследующего христиан.
Стр. 448. ...какого-нибудь Жиля Бродяги из Тунского царства. — Речь идет о средневековых братствах бродяг и нищих во Франции, предводители которых именовались «царями».
Стр. 456. Людвиг Кнаус (1829—1910) — немецкий живописец-жанрист.
Стр. 458. ...славные и звучные имена Атридов. — В греческой мифологии Атридами (сыновьями Атрея) именуются микенский царь Агамемнон и его брат Менелай.
Стр. 460. ...словно у святой Цецилии, узревшей отверстые небеса. — Святая Цецилия, играющая на клавесине, — сюжет многих картин классической живописи.
Стр. 463. ...о пастилках из амбры маршала де Ришелье... — Имеется в виду Луи-Франсуа-Арман де Виньеро, маршал де Ришелье (1696— 1788), французский полководец и дипломат, побывавший во многих странах.
Каде-Гассикур Шарль-Луи (1769—1821) — французский фармацевт и химик. В период буржуазной революции 1789—1793 гг. и во время Реставрации был политическим деятелем умеренно-республиканского толка. Помимо сочинений по специальности и по вопросам политики, выступал также в качестве литератора.
Стр. 476. Дженнер Эдуард (1749—1832) — английский врач, открывший вакцину против оспы.
Госпожа д'Эпине (Луиза Тардье де Клавель, 1726—1783) — одна из просвещенных женщин XVIII в., хозяйка салона, где бывали ее друзья — философы и литераторы, которым она покровительствовала. Автор воспоминаний и писем.
Н. Рыкова



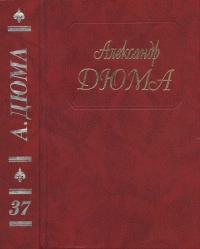
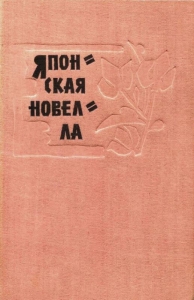
Комментарии к книге «Актриса Фостен», Эдмон Гонкур
Всего 0 комментариев