Непрерывность парков(*)
Он начал читать роман несколько дней назад. Забросив книгу из-за срочных дел, он вернулся к ней лишь в вагоне, на обратном пути в усадьбу; постепенно его захватывало развитие сюжета, фигуры персонажей. Под вечер, написав письмо своему поверенному и обсудив с управляющим вопросы аренды, он вновь раскрыл книгу в тишине кабинета, выходившего окнами в парк, где росли дубы. Устроившись в любимом кресле, спиной к двери, вид которой наводил бы его на мысль о нежеланных посетителях, и поглаживая левой рукой зеленый бархат, он принялся читать последние главы. Его память усваивала без всякого труда имена и характеры героев; почти сразу же он втянулся и интриги захватывающего сюжета. С каким-то извращенным наслаждением он с каждой строчкой отходил все дальше от привычной обстановки и в то же время чувствовал, что его голова удобно покоится на бархате высокой спинки, что сигареты лежат под рукой, а за окнами, среди дубов, струится вечерний воздух. Слово за словом, поглощенный неприглядной ссорой героев, образы которых делались все ближе и яснее, начинали двигаться и жить, он стал свидетелем последней их встречи в горной хижине. Первой туда осторожно вошла женщина; следом появился любовник, на лице его алела свежая царапина: он только что наткнулся на ветку. Она самозабвенно останавливала кровь поцелуями, но он отворачивался от нее, он пришел сюда не затем, чтобы повторять обряды тайной связи, укрытой от чужих глаз массой сухих листьев и лабиринтом тропинок. На груди его грелся кинжал, а под ним билась вера в долгожданную свободу. Тревожный диалог катился по страницам, как клубок змей, и чувствовалось, что все давно предрешено. Даже эти ласки, опутавшие тело любовника, как будто желая удержать и разубедить его, лишь напоминали о ненавистных очертаниях другого тела, которое предстояло уничтожить. Ничто не было забыто: алиби, случайности, возможные ошибки. Начиная с этого часа, у каждого мига имелось свое, особое назначение. Они дважды повторили весь план, и торопливый шепот прерывался лишь движением руки, поглаживающей щеку. Начинало смеркаться.
Уже не глядя друг на друга, накрепко связанные общим делом, они расстались у дверей хижины. Ей следовало уйти по тропе, ведущей к северу. Двинувшись в противоположном направлении, он на секунду обернулся посмотреть, как она убегает прочь, как колышутся и отлетают назад распущенные волосы. Он тоже побежал, укрываясь за деревьями и оградами, и наконец в синеватых вечерних сумерках различил аллею, идущую к дому. Собаки должны были молчать, и они молчали. Управляющий не должен был встретиться в этот час, и его здесь не было. Любовник поднялся по трем ступеням на веранду и вошел в дом. Сквозь стучавшую в ушах кровь он слышал слова женщины: сперва голубая гостиная, потом галерея, в глубине - лестница, покрытая ковром. Наверху две двери. Никого в первой комнате; никого во второй. Дверь в кабинет, и тут - кинжал в руку, свет, слабо льющийся в окна, высокая спинка кресла, обитого зеленым бархатом и голова человека, который сидит в кресле и читает роман.
Застольная беседа
Время – ребенок, что, играя, двигает пешки
Гераклит, фрагмент 59Письмо доктора Федерико Мораеса
Буэнос-Айрес, вторник, 15 июля 1958 года
Сеньору Альберто Рохасу Лобос
Мой дорогой друг,
Как обычно в середине года, меня охватывает неудержимое желание вновь повидать старых друзей, хотя пути наши давно уже разошлись по тысяче причин, которые жизнь постепенно приучает нас брать в расчет. Вы тоже, я надеюсь, помышляете с приятной меланхолией о застольной беседе, в ходе которой мы тешим себя иллюзией, будто время было к нам более благосклонно, словно общие воспоминания ненадолго возвращают нам утраченную свежесть.
Разумеется, я прежде всего рассчитываю на Вас и достаточно заблаговременно посылаю Вам эти строки, дабы побудить Вас покинуть на несколько часов свою усадьбу в Лобосе, где розарий и библиотека обладают для Вас большей притягательностью, чем весь Буэнос-Айрес. Решитесь же пойти на двойную жертву: сесть в поезд и один вечер потерпеть шум столицы. Мы поужинаем у меня, как в прошлые годы, и проведем время среди всегдашних друзей, за исключением… Но сначала я хотел бы наметить дату, с тем чтобы Вы постепенно привыкали к этой мысли; видите, я хорошо знаю Вас и подготавливаю почву со стратегическим дальновидением. Итак, скажем, это будет…
Письмо доктора Лльберто Рохаса
Лобос, 14 июля 1958 года
Сеньору Федерико Мораесу Буэнос-Айрес
Дорогой друг,
Вас, вероятно, удивят эти строки, которые Вы получите всего через несколько часов после приятнейшей встречи в Вашем доме, но нечто случившееся в этот вечер подействовало на меня настолько, что я вынужден поделиться с Вами своей тревогой. Вы знаете, что я ненавижу телефоны и что писание писем для меня также тяжкий труд, однако как только я смог наедине обдумать происшедшее, мне показалось, что логичнее и проще всего послать Вам это письмо. Говоря откровенно, если бы Лобос не был так удален от столицы (старый и больной человек по-иному мерит километры), думаю, что прямо сегодня же я вернулся бы в Буэнос-Айрес, чтобы обсудить с Вами это дело. Впрочем, довольно вступлений и перейдем к фактам. Но прежде, дорогой Федерико, позвольте мне еще раз поблагодарить Вас за великолепный ужин – так угощать умеете лишь Вы один. Луис Фунес, так же как Барриос и Робироса, был со мной единодушен: Вы – истинное украшение рода человеческого (Барриос dixit[1]) и непревзойденный амфитрион[2].
И таким образом, Вас не удивит, что, невзирая на случившееся, я до сих пор храню несколько ностальгические, но приятнейшие впечатления об этом вечере, позволившем мне еще раз побыть в обществе старых друзей и оживить воспоминания, которые так неумолимо стирает в памяти одиночество.
То, что я Вам скажу, – такая ли для Вас новость? Сейчас, пока я пишу эти строки, я подозреваю, что, быть может, лишь положение хозяина побудило Вас скрыть ту неловкость, которую несомненно вызвал у Вас неприятный эпизод, имевший место между Робиросой и Луисом Фунесом. Что же касается. Барриоса, то, рассеянный, как всегда, он ничего не заметил; с глубоким наслаждением потягивал он свой кофе, прислушиваясь к рассказам и шуткам, готовый в любую минуту блеснуть креольским остроумием, которое мы так в нем любим. Короче, Федерико, если это письмо не скажет Вам ничего нового, тысяча извинений; в любом случае полагаю, что поступаю правильно, решившись его написать.
Как только я вошел в Ваш дом, я сразу заметил, что Робироса, всегда такой сердечный со всеми, был подчеркнуто сдержан всякий раз, когда к нему обращался Фунес. В то же время я видел, что Фунеса ранила эта холодность и что в ряде случаев он специально заговаривал с Робиросой, как будто хотел удостовериться, что поведение друга – не просто плод минутной рассеянности. Когда за столом собираются столь блестящие собеседники, как Барриос, Фунес и Вы, относительное молчание остальных проходит незамеченным, и думаю, было непросто обратить внимание на то, что Робироса вступал в диалог лишь с Вами, с Барриосом и со мной в те редкие разы, когда я предпочитал говорить, а не слушать.
Уже в библиотеке, когда мы усаживались перед огнем (а Вы давали кое-какие указания Вашему верному Ордоньесу), Робироса отошел к окну и принялся барабанить пальцами по стеклу. Я обменялся несколькими фразами с Барриосом – который пытается защищать отвратительные манипуляции с атомной энергией – и собирался удобно устроиться поближе к камину; в этот миг, повернув голову безо всякой надобности, я увидел, что Фунес в свою очередь отошел от остальных и направился к окну, где все еще стоял Робироса. Барриос уже истощил свои аргументы и рассеянно просматривал номер «Эскуайра», чуждый тому, что происходило вблизи него. Какая-то странная акустическая особенность Вашей библиотеки позволила мне с удивительной ясностью различить слова, тихо произнесенные у окна. Мне кажется, что я продолжаю их слышать, и потому повторяю дословно. Раздался вопрос Фунеса: «Можно узнать, что это с тобой происходит?» – и незамедлительный ответ Робиросы: «Не знаю, каким именем называют тебя из человеколюбия в посольстве. У меня есть для тебя только одно имя, но я не хочу произносить его в этом доме».
Необычность этого диалога и особенно его тон смутили меня настолько, что я почувствовал себя уличенным в бестактности и поспешно отвел глаза. В этот миг Вы кончили разговаривать с Ордоньесом и отпустили его; Барриос веселился, глядя на рисунок Варги. Не смотря более в сторону окна, я еще услышал голос Фунеса: «Ради всего святого, прошу тебя…» и голос Робиросы, хлесткий, как удар бича: «Словами этого уже не уладишь». Вы приветливо хлопнули в ладоши, приглашая нас подсесть к огню, и отобрали журнал у Барриоса, который собрался было изучить во всех подробностях особенно привлекательную страницу. Среди шуток и смеха я уловил слова Фунеса: «Пожалуйста, пусть только Матильда ничего не знает». Краем глаза я видел, что Робироса пожал плечами и повернулся к нему спиной. Вы уже подошли к ним, и не удивлюсь, если Вы расслышали конец их диалога. Тут появился Ордоньес с сигарами и коньяком, Фунес сел рядом со мной, разговор вновь стал общим и затянулся допоздна.
Я покривил бы душой, дорогой Федерико, если бы не добавил, что этот эпизод испортил мне последнюю часть столь приятного вечера. В наше время военных угроз, закрытых границ и вожделенных нефтяных месторождений подобное обвинение приобретает вес, какого оно не имело бы в более счастливую эпоху, а тот факт, что оно исходит от человека, занимающего такое ключевое место в высоких сферах, как Робироса, придает ему значение, отрицать которое было бы ребячеством, не говоря уж о немом признании – оно, как Вы согласитесь, явствует из молчания и мольбы обвиняемого.
В сущности, то, что могло произойти между нашими друзьями, касается нас лишь косвенно. В этом смысле мои строки заменяют слова, которых в силу обстоятельств я тогда не мог произнести. Я слишком уважаю Луиса Фунеса, чтобы от всей души не надеяться, что ошибаюсь, и, может статься, уединенность и мизантропия, в коих Вы дружески меня упрекаете, заставили меня, что-то недослышав и недопоняв, вообразить невесть что, а две строки от Вас развеют этот призрак без труда. Искренне желаю, чтобы так оно и случилось, чтобы Вы расхохотались и доказали бы мне в письме, которого я жду с нетерпением, что годы, умножая мои седины, к тому же притупляют сообразительность. Крепко обнимаю Вас,
Ваш друг Альберто Рохас
Буэнос-Айрес, среда, 16 июля 1958 года
Сеньору Альберто Рохасу Дорогой Рохас,
Если Вы задались целью удивить меня, радуйтесь: это Вам полностью удалось. Хотя, будучи стариком и скептиком по натуре, я не верю в телепатию, все же мне приходится отдать должное Вашим телепатическим способностям, если не приписывать этот Ваш успех еще более удивительной случайности. Однако я хороший игрок, и мне кажется лишь справедливым чистосердечно признать, насколько велики были мое удивление и моя растерянность. Так вот, мой друг: Ваше письмо пришло как раз в ту минуту, когда я, как все эти годы, набрасывал Вам несколько строк, чтобы пригласить на ужин примерно через две недели. Я только начинал новый абзац, когда вошел Ордоньес с конвертом в руке; я сразу узнал серую бумагу, на какой Вы пишете столько лет, сколько мы знаем друг друга, и совпадение заставило меня отбросить ручку, точно мерзкую сороконожку. Ну знаете, вот это я называю с закрытыми глазами попасть в цель!
Но оставим в стороне совпадения. Я должен признать что Ваша шутка поставила меня в тупик. Прежде всего меня удивляет, как сумели Вы настолько. угадать все детали. Во-первых, Вы предположили что я не замедлю прислать Вам приглашение на ужин; во вторых (и это воистину поразительно). Вы исходили из того, что в этом году, на встрече не будет Карлоса Фунеса. Как это Вам удалось догадаться о моих намерениях? Мне приходит в голову: а вдруг кто-нибудь в клубе мог сказать Вам, что Фунес и я разошлись во мнениях по вопросу о Земледельческом пакте; но, с другой стороны, Вы живете уединенно и ни с кем не видитесь… В общем, преклоняюсь перед Вашим аналитическим гением, если это и вправду анализ. Для меня это больше попахивает колдовством, и блестящим подтверждением тому служит факт, что я получил Ваше письмо как раз в ту минуту, когда сел писать Вам.
Как бы там ни было, дорогой Альберто, в Вашей искуснейшей выдумке есть оборотная сторона, которая меня тревожит. Какую цель Вы преследовали, выдвигая это косвенное обвинение против Луиса Фунеса? Насколько я знаю, Вы всегда были добрыми друзьями, хотя жизнь развела нас всех по разным дорогам. Если у Вас действительно есть в чем его упрекнуть, почему Вы пишете мне, а не ему? И наконец, почему не поделиться этими подозрениями с Робиросой, учитывая особые функции, какие, как знаем мы, его самые близкие друзья, он выполняет в государственном аппарате? Вместо того Вы разыгрываете сложный карамболь о три борта, о смысле которого я предпочитаю пока не спрашивать. Со всей искренностью признаюсь Вам, что не одобряю такой маневр и не могу принять его за простую шутку, поскольку речь идет о чести одного из наших самых дорогих друзей. Я всегда считал Вас человеком цельным и верным, кто в силу своих высоких качеств предпочел во времена коррупции и продажности укрыться в одинокой усадьбе, среди книг и цветов, которые чище, чем мы. И потому, хотя меня восхищает и даже забавляет игра случайностей или точных догадок, присутствующих в Вашем письме, чем больше я его перечитываю, тем сильнее охватывает меня беспокойство, угрожающее самой сущности нашей дружбы. Простите мою откровенность; или, если Вы ее не прощаете, разъясните то, что неправильно понято мною, и вопрос будет исчерпан.
Излишне говорить, что все это ни в коей мере не меняет моего намерения пригласить Вас всех ко мне 30-го числа текущего месяца, как я уже писал Вам о том, когда меня прервало получение Вашего письма. Я уже известил Барриоса и Фунеса, которые сейчас в провинции, а Робироса позвонил мне, подтверждая, что принимает приглашение. Поскольку шедевры не должны пребывать в неизвестности, Вас не удивит, что я рассказал Робиросе о вашей необыкновенной эпистолярной шутке. Редко слышал я, чтобы он смеялся так заразительно… Меня Ваше письмо забавляет меньше, чем нашего друга, и, как я надеюсь, несколько Ваших строк избавят меня от того, что принято называть тяжестью на душе.
Итак, до получения этих строк или до встречи у меня.
Искренне Ваш
Федерико Мораес
Лобос, 18 июля 1958 года
Сеньору Федерико Мораесу
Дорогой друг,
Вы говорите об удивлении, о случайностях, об эпистолярных триумфах. Большое спасибо, но комплименты, лишь прикрывающие собой мистификацию,- не из числа тех, что я люблю. Если Вы находите этот термин слишком сильным, обратите на себя самого критическое жало, которое столько раз было продемонстрировано Вами на судебном поприще и в политике, и Вы согласитесь, что здесь нет преувеличения. Или – что я лично предпочел бы – положите конец этой шутке, если Вы решили надо мной подшутить. Я могу понять, что Вы – и быть может, все остальные, кто был на ужине в Вашем доме,- пытаетесь забросать землей то, что стало известно мне по воле случая, о котором я глубоко сожалею. Могу понять и то, что Ваша старая дружба с Луисом Фунесом побуждает Вас делать вид, будто мое письмо – просто шутка, надеясь, что я уловлю намек и замолчу. Но одного понять я не могу: к чему столько сложностей в отношениях между такими людьми, как Вы и я. Достаточно было просто попросить меня забыть о том, что я услышал в Вашей библиотеке; вам всем следовало бы уже знать, что я способен забыть очень многое, едва только уверюсь в том, что это пойдет кому-нибудь на пользу.
Впрочем, давайте предположим, что мизантропия добавляет излишней горечи в эти строки; за ними, дорогой Федерико, стоит Ваш всегдашний друг. Правда, несколько растерянный, ибо он не может понять причины, по которой Вы хотите собрать нас снова. Кроме того, к чему доводить все почти до смешного и упоминать о предполагаемом пригласительном письме, якобы прерванном получением моего? Если бы не моя привычка выбрасывать почти всю корреспонденцию, мне было бы приятно приложить сюда Вашу записку от…
Прервал письмо, чтобы поужинать. По радио, из сводки новостей, узнал о самоубийстве Луиса Фунеса. Теперь Вы поймете без лишних слов, как я сожалею, что оказался невольным свидетелем эпизода, красноречиво объясняющего смерть, которая удивит других. Не думаю, чтобы среди последних фигурировал наш друг Робироса, несмотря на смех, вызванный, как Вы говорите, моим письмом. Сами видите, что Робироса вполне может быть удовлетворен результатами своей работы, и, пожалуй, ему даже приятно, что есть свидетель, присутствовавший при предпоследнем акте этой трагедии. У всех нас есть свое тщеславие, и быть может, Робироса порой скорбит о том, что большие услуги, оказываемые им нации, скрыты такой глубокой тайной; впрочем, он прекрасно знает, что в этом случае может полностью рассчитывать на наше молчание. Разве самоубийство Фунеса не доказывает должным образом его правоту?
Но ни у Вас, ни у меня нет каких-либо оснований разделять его радость. Мне неведомы вины Фунеса; и напротив, я помню доброго друга, товарища по иным, лучшим, более счастливым временам. Вы сумеете сказать бедной Матильде о том, что я в моем уединении, которого, вероятно, мне не следовало бы нарушать, испытываю перед лицом ее горя.
Ваш Рохас
Буэнос-Айрес, понедельник, 21 июля 1958 года
Сеньору Альберто Рохасу
Довожу до Вашего сведения, что получил письмо от 18 текущего месяца. Извещаю, что в знак траура в связи со смертью моего друга Луиса Фунеса я решил отменить встречу, намеченную на 30-е этого месяца.
Ваш покорный слуга
Федерико Мораес
Инструкции для Джона Хауэлла
Питеру Бруку
Думая об этом позже – на улице, в поезде, на загородной прогулке, – можно было бы счесть все это абсурдом, но театр и есть пакт с абсурдом, действенное и роскошно обставленное проведение абсурда в жизнь. Раису, который, томясь от скуки в осеннем Лондоне, в конце недели забрел на Олдвич и вошел в театр, почти не глянув в программу, первый акт пьесы показался весьма посредственным; абсурд начался в антракте, когда человек в сером костюме подошел к его креслу и вежливо, чуть слышным голосом пригласил его проследовать за кулисы. Не особенно удивившись, Райс подумал, что, наверное, дирекция театра проводит какую-нибудь анкету, какой-нибудь расплывчатый опрос зрителей с рекламными целями. «Если вы интересуетесь моим мнением,- сказал Райс, – то первый акт показался мне слабым, а, к примеру, освещение…» Человек в сером костюме любезно кивнул, но его рука продолжала указывать на боковой выход, и Райс понял, что должен встать и идти с ним, не заставляя себя упрашивать. «Я предпочел бы чашку чаю», – подумал он, спускаясь по ступеням в боковой коридор, полурассеянно, полураздраженно. И вдруг неожиданно очутился перед декорацией, изображавшей библиотеку в доме средней руки; двое мужчин, стоявших со скучающим видом, поздоровались с ним так, словно его появление было предусмотрено и даже неизбежно. «Конечно же, вы подходите как нельзя лучше, – сказал тот, кто был повыше. Второй наклонил голову – он выглядел немым. – Времени у нас немного, но я попытаюсь объяснить вашу роль в двух словах». Он говорил автоматически, как будто исполнял надоевшую обязанность. «Не понимаю», – сказал Раис, делая шаг назад. «Так даже лучше, – сказал высокий. – В подобных случаях анализ до какой-то степени мешает; вот посмотрите, едва только вы привыкнете к софитам, это даже покажется вам забавным. Вы уже знакомы с первым актом; явно он вам не понравился. Никому не нравится. Теперь же пьеса может стать интереснее. Но, конечно, это зависит от вас». «Надеюсь, что она станет интереснее, – сказал Райс, думая, что ослышался. – Однако в любом случае мне пора возвращаться в зал». Он сделал еще шаг назад и не особенно удивился, наткнувшись на человека в сером костюме, который ненапористо преграждал ему путь, бормоча тихие извинения. «Кажется, мы не поняли друг друга, – сказал высокий, – и это жаль, потому что до начала второго акта остается меньше четырех минут. Прошу вас выслушать меня внимательно. Вы – Хауэлл, муж Эвы. Вы уже видели, что Эва обманывает Хауэлла с Майклом и что Хауэлл, вероятно, понял это, хотя предпочитает молчать по еще неясным причинам. Не шевелитесь, пожалуйста, это всего лишь парик». Но предупреждение было, собственно, излишним, потому что человек в сером костюме и немой крепко держали его под руки, а высокая и худая девушка, внезапно оказавшаяся рядом, надевала ему на голову что-то теплое. «Вы же не хотите, чтобы я поднял крик и устроил скандал в театре», – сказал Райс, пытаясь унять дрожь в голосе. Высокий пожал плечами. «Вы этого не сделаете, – устало сказал он. – Это будет так неэлегантно… Нет, я уверен, что вы так не поступите. А потом, парик очень вам идет, у вас тип рыжеволосого». Зная, что ему не следует этого говорить, Райс сказал: «Но я же не актер». Все, включая девушку, подбадривающе улыбнулись. «Вот именно, – сказал высокий. – Вы прекрасно понимаете, в чем тут разница. Вы не актер, вы Хауэлл. Когда вы выйдете на сцену, Эва будет сидеть в гостиной и писать письмо Майклу. Вы сделаете вид, будто не заметили, как она прячет листок и пытается скрыть замешательство. С этого момента делайте все что хотите. Очки, Рут». «Все что хочу?»- переспросил Райс, украдкой пытаясь высвободить руки, в то время как Рут надевала ему очки в черепаховой оправе. «Да, именно так»,- неохотно сказал высокий, и у Раиса мелькнуло подозрение, что тому надоело повторять одно и то же из вечера в вечер. Раздался звонок, созывающий публику, и Райс краем глаза уловил движения рабочих по сцене, изменения в свете; Рут разом исчезла. Его охватило негодование, скорее горькое, чем подстегивающее к действию; но почему-то оно все равно казалось неуместным. «Это глупый фарс, – сказал он, пытаясь освободиться, – и я предупреждаю вас, что…» «Мне очень жаль, – пробормотал высокий.- Честно говоря, я думал о вас иначе. Но раз вы относитесь к этому так…» В его словах не было прямой угрозы, но трое мужчин сгрудились вокруг, и надо было или подчиниться, или вступить в открытую борьбу, а Райс почувствовал, что и одно и другое в равной степени нелепо или неверно. «Выход Хауэлла, – сказал высокий, указывая на узкий проход между кулисами. – На сцене делайте все что хотите, но нам будет жаль, если придется… – Он говорил любезным тоном, не нарушая воцарившейся в зале тишины; занавес поднялся, бархатисто шурша, и их обдало теплым воздухом. – Я бы на вашем месте, однако, призадумался, – устало добавил высокий. – Ну, идите». Не толкая, но мягко двигая вперед, они проводили его до середины кулис. Раиса ослепил сиреневый луч; перед ним лежало пространство, казавшееся бесконечным, а слева угадывался большой провал, где как будто сдержанно дышал великан, – там в сущности-то и был настоящий мир, и глаз постепенно начинал различать белые манишки и то ли шляпы, то ли высокие прически. Он сделал шаг-другой, чувствуя, что ноги у него не слушаются, и был уже готов повернуться и бегом броситься назад, но тут Эва, торопливо встав со стула, пошла ему навстречу и плавно протянула руку, казавшуюся в сиреневом свете очень белой и длинной. Рука была ледяная, и Раису почудилось, что она слегка царапнула его ладонь. Подчинившись ей, он дал себя увести на середину сцены, смутно выслушал объяснения Эвы – она говорила о головной боли, о том, что ей захотелось побыть в полумраке и тишине библиотеки, – ожидая паузы, чтобы выйти на просцениум и в двух словах сказать зрителям, что их надувают. Но Эва как будто ждала, что он сядет на диван столь же сомнительного вкуса, как сюжет пьесы и декорации, и Райс понял, что смешно, что просто невозможно оставаться на ногах в то время, как она, снова протянув ему руку, с усталой улыбкой опять пригласила его присесть. Сидя на диване, он явственно различал первые ряды партера, едва отделенные от сцены полосой света, который из сиреневого становился желтовато-оранжевым, но странно, Раису было легче повернуться к Эве и встретить ее взгляд, каким-то образом соединявший его с этой бессмыслицей, и отложить еще на миг единственно возможное решение – если не поддаться безумию, не покориться этому притворству. «Какие долгие вечера этой осенью», – сказала Эва, отыскивая среди книг и бумаг на низком столике коробку из белого металла и предлагая ему сигарету. Механически Райс вытащил зажигалку, с каждой секундой чувствуя себя все смешнее в парике и в очках; но привычный ритуал – вот ты закуриваешь, вот вдыхаешь первые клубы дыма – был как бы передышкой, позволил ему усесться поудобнее, расслабить невыносимо напряженное тело под взглядами холодных невидимых созвездий. Он слышал свои ответы на фразы Эвы, слова лились одно за другим почти без усилий, и притом речь не шла ни о чем конкретном; диалог строился, как карточный домик, в котором Эва возводила хрупкие стены, а Райс без труда перекрывал их своими картами, и домик рос ввысь в желтовато-оранжевом свете, но вдруг, после долгого объяснения, где упоминалось имя Майкла («Вы уже видели, что Эва обманывает Хауэлла с Майклом») и имена других людей и других мест, какой-то чай, на котором была мать Майкла (или мать Эвы?), и оправданий почти на грани слез Эва как бы в порыве надежды наклонилась к Раису, словно хотела обвить его руками или ждала, что он обнимет ее, и сразу же после последнего слова, сказанного ясным громким голосом, прошептала у самого его уха: «Не дай им меня убить» – и тут же безо всякого перехода снова четко, профессионально заговорила о том, как ей тоскливо и одиноко. Раздался стук в дверь, находившуюся в глубине сцены, Эва прикусила губу, как будто хотела добавить еще что-то (во всяком случае, так показалось Раису, слишком сбитому с толку, чтобы отреагировать сразу), и встала на ноги, чтобы встретить Майкла, который вошел с самодовольной улыбкой на губах, невыносимо раздражавшей Раиса в первом акте. Следом появилась дама в красном платье, затем старый джентльмен – вся сцена вдруг заполнилась людьми, которые обменивались приветствиями, цветами, новостями. Райс пожал протянутые ему руки и как можно скорее сел на диван, укрывшись от происходящего за новой сигаретой; теперь действие, по всей видимости, могло обходиться без него, и публика с удовлетворенным перешептыванием встречала блестящие диалоги Майкла с характерными актерами, в то время как Эва занималась чаем и давала указания слуге. Быть может, настал как раз подходящий миг, чтобы подойти к краю сцены, уронить сигарету, растоптать ее ногой и начать: «Уважаемая публика…» Но пожалуй, было бы «элегантнее («Не дай им меня убить») подождать, пока опустится занавес, и тогда, быстро бросившись вперед, раскрыть мошенничество. Во всем этом был некий церемониал, следовать которому казалось несложно; ожидая своего часа, Райс поддержал разговор со старым джентльменом, принял от Эвы чашку чаю – она подала чашку не глядя, словно знала, что за ней следят Майкл и дама в красном. Надо было лишь выстоять, не впадать в отчаяние от тягучего бесконечного напряжения, быть сильнее, чем нелепый сговор тех, кто пытался превратить его в марионетку. Было уже совсем просто заметить, как обращенные к нему фразы (иногда – Майкла, иногда дамы в красном, но Эвы – теперь – почти никогда) заключали в себе нужный ответ; пусть марионетка отвечает то, что ей предлагают, пьеса продолжается. Райс подумал, что, имей он чуть побольше времени, чтобы разобраться в ситуации, было бы забавно отвечать наоборот и ставить актеров в тупик; но этого ему не позволят, так называемая свобода действий не оставляла иной возможности, кроме скандала, открытого мятежа. «Не дай им меня убить», – сказала Эва; каким-то образом, столь же абсурдным, как все остальное, Райс чувствовал, что лучше подождать. Вслед за сентенциозной и горькой репликой дамы в красном упал занавес, и Раису показалось, что актеры вдруг спустились с невидимой ступени; они словно съежились, стали безразличными (Майкл пожал плечами, повернулся спиной и зашагал в глубь сцены), уходили за кулисы, не глядя друг на друга, но Райс заметил, что Эва повернула голову в его сторону, пока дама в красном и старый джентльмен любезно вели ее под руки к правой кулисе. Он подумал было пойти за ней, в его голове промелькнуло смутное видение: артистическая уборная, разговор наедине. «Великолепно,- сказал высокий человек, похлопывая его по плечу. – Очень хорошо, в самом деле, вы делали все превосходно. – Он указывал на занавес, из-за которого долетали последние хлопки. – Им вправду понравилось. Пойдемте выпьем по глотку». Двое других мужчин, приветливо улыбаясь, стояли неподалеку, и Райс отказался от мысли последовать за Эвой. Высокий открыл дверь в конце первого коридора, и они вошли в небольшую комнату, где были старые кресла, шкаф, уже початая бутылка виски и чудеснейшие стаканы резного хрусталя. «У вас все получилось превосходно, – настаивал высокий, пока все рассаживались вокруг Раиса. – Немного льда, не правда ли? Конечно, любой выйдет оттуда с пересохшим горлом». Человек в сером костюме, предупреждая отказ Раиса, протянул ему почти полный стакан. «Третий акт труднее, но в то же время занимательнее для Хауэлла, – сказал высокий. – Вы уже видели, как они открывают свои карты. – Быстро, без обиняков он принялся объяснять дальнейший ход действия. – В какой-то степени вы усложнили дело, – сказал он.- Я никогда не мог предположить, что вы поведете себя так пассивно с вашей женой; я бы реагировал иначе». «Как?» – сухо спросил Райс. «Ну нет, дорогой друг, нельзя задавать такие вопросы. Мое мнение может повлиять на ваше собственное решение, ведь у вас уже сложился определенный план действий. Или нет – Райс промолчал, и он добавил: – Если я вам это говорю, так именно потому, что здесь не нужно иметь предварительных планов. Все вышло слишком хорошо, чтобы рисковать, не то можно загубить остальное». Райс отпил большой глоток виски. «И однако, вы сказали, что во втором акте я могу делать все что захочу», – заметил он. Человек в сером костюме засмеялся, но высокий посмотрел на него, и тот сделал быстрый извинительный жест. «У приключения или случайности – назовите это, как вам нравится – всегда есть свои границы, – сказал высокий. – Теперь прошу вас, внимательно прислушайтесь к моим указаниям, – разумеется, в деталях вам предоставлена полная свобода». Повернув правую руку ладонью верх, он пристально поглядел на нее и несколько раз коснулся указательным пальцем левой. Между двумя глотками ему опять наполнили стакан) Райс выслушал инструкции для Джона Хауэлла. Поддерживаемый алкоголем и каким-то новым чувством – он точно медленно приходил в себя наполнялся при этом холодной яростью, – он без труда вник в смысл инструкций, в сюжетные ходы, которые должны были привести к кризису в последнем акте. «Надеюсь, вам все ясно», – сказал высокий, очертив пальцем круг на раскрытой ладони. «Очень ясно, – сказал Райс, вставая,- но роме того, мне хотелось бы знать, можно ли в четвертом акте…» Все в свое время, дорогой друг, – прервал его высокий. – В следующем антракте мы вернемся к этой теме, но теперь я предлагаю вам сосредоточиться исключительно на третьем действии. Ах да, выходной костюм, пожалуйста». Райс почувствовал, что немой расстегивает ему пиджак; человек в сером костюме достал из шкафа тройку из твида и перчатки; Райс автоматически переоделся под одобрительными взглядами всех троих, высокий уже открыл дверь и ждал его; вдали слышался звонок. Как мне жарко в этом проклятом парике», – подумал Райс, одним глотком приканчивая виски. Почти сразу же, не противясь любезному нажиму руки на его локоть, он оказался среди новых декораций. «Нет, еще рано, – сказал высокий позади него. – Помните, что в парке прохладно. Быть может, вам лучше поднять воротник пиджака… Ну, ваш выход». Встав со скамьи края дорожки, Майкл шагнул ему навстречу, приветствуя его какой-то шуткой. Райсу следовало ответить с полным безразличием и поддерживать разговор о прелестях осени в Риджент-парке вплоть до появления Эвы и дамы в красном, которые придут кормить лебедей. Впервые – и это удивило его самого почти так же, как остальных, – Райс повысил голос, отпустив колкий намек, по-видимому оцененный публикой, и заставил Майкла перейти к обороне, прибегнуть в поисках выхода к самым очевидным уловкам своего ремесла. Резко отвернувшись от него, как бы укрываясь от ветра, Райс начал закуривать и поверх очков бросил взгляд за кулисы, на троих мужчин; рука высокого взметнулась в угрожающем жесте. Райс рассмеялся сквозь зубы (наверное, он был немного пьян, а кроме того, веселился от души, взмах руки показался ему чрезвычайно забавным), повернулся к Майклу и положил руку ему на плечо. «В парках видишь много занятного, – сказал он. – Право, я не понимаю, как это, находясь в лондонском парке, можно тратить время на лебедей и любовников». Публика засмеялась громче, чем Майкл, которого в эту минуту очень заинтересовало появление Эвы и дамы в красном. Уже не колеблясь, Райс двинулся против течения, понемногу нарушая полученные инструкции, яростно и бессмысленно сражаясь с искуснейшими актерами, которые изо всех сил старались вернуть его в роль, и иногда им это удавалось, но он снова увертывался, чтобы как-то помочь Эве, толком не зная почему, но повторяя себе (при этом он давился от смеха, наверное, тут виновато виски), что все изменения, вносимые им сейчас, неизбежно должны повернуть по-иному последний акт («Не дай им меня убить»). И другие, очевидно, разгадали его намерения, потому что стоило лишь взглянуть поверх очков в сторону левой кулисы, чтобы заметить, как гневно жестикулировал высокий; все на сцене и вне ее боролись против него и Эвы, вставали между ними, чтобы они не могли перекинуться словом, чтобы она ничего ему не сказала, и вот уже входил старый джентльмен в сопровождении мрачного шофера, действие как будто замедлилось (Райс вспомнил инструкции: пауза, потом разговор о покупке акций, разоблачительная реплика дамы в красном и занавес), и в этот миг, когда Майкл и дама в красном непременно должны были отойти в сторону, чтобы старый джентльмен мог заговорить с Эвой и Хауэллом о биржевой операции (вот уж поистине в этой пьесе ничего не упустили), мысль еще чуточку затруднить действие наполнила Раиса чем-то похожим на счастье. Жестом, показывающим, какое глубокое презрение внушают ему рискованные аферы, он подхватил Эву под руку, ловко обошел разъяренного, но улыбающегося джентльмена и повел ее по дорожке, слыша за спиной лавину остроумных замечаний, никак его не касавшихся, придуманных исключительно для публики, зато Эва была рядом, зато легкое дыхание на секунду овеяло его щеку, и ее настоящий голос прошептал еле слышно: «Останься со мной до конца», но шепот прервался ее инстинктивным движением, сработала профессиональная привычка, которая заставила ее ответить на вопрос дамы в красном, разворачивая Хауэлла так, чтобы разоблачительные слова были брошены ему прямо в лицо. Без всякой паузы, не давая ему ни секунды, чтобы как-то свернуть дальнейшее действие с пути, открытого этими словами, перед глазами Раиса упал занавес. «Глупец», – сказала дама в красном. «Идите, Флора», – приказал высокий, стоя вплотную к довольному, улыбающемуся Раису. «Глупец», – повторила дама в красном, хватая Эву за локоть, – та стояла опустив голову, чуждая всему происходящему. Толчок указал Райсу дорогу, но его все равно распирало от счастья. «Глупец», – свою очередь сказал высокий. Новый толчок в голову был весьма чувствительным, но Райс сам снял очки и подал их Высокому. «Виски у вас не такое уж плохое, – заметил он,- если вы собираетесь дать мне инструкции к четвертому акту…» От следующего толчка он едва не упал, и когда ему удалось выпрямиться, испытывая легкую тошноту, его уже вели по плохо освещенному коридору; высокий исчез, и двое других держались вплотную, напирая на него, вынуждая идти вперед. Там оказалась дверца, над ней горела оранжевая лампочка.
«Переодевайтесь»,- сказал человек в сером костюме, протягивая его одежду. Не успел он надеть пиджак, как дверь распахнулась от удара ноги; его выпихнули на тротуар, на холод, в переулок, пахнущий отбросами. «Сукины дети, этак я схвачу воспаление легких», – подумал Райс, ощупывая карманы. В дальнем конце переулка горели фонари, оттуда доносился шум машин. На первом углу (деньги и бумаги были при нем) Райс узнал вход в театр. Поскольку ничто не мешало ему осмотреть последнее действие со своего места, он вошел в теплое фойе, окунулся в табачный дым, в болтовню людей в баре; у него еще осталось время выпить виски, но думать он ни о чем не мог. Перед самым поднятием занавеса он еще успел спросить себя, кто же будет исполнять роль Хауэлла в последнем акте и нет ли другого бедняги, который выслушивает сейчас любезности и угрозы и примеряет очки; но, очевидно, шутка каждый вечер кончалась одинаково, потому что он сразу же узнал актера, игравшего в первом акте, – тот читал письмо, сидя в своем кабинете, и затем молча протянул его Эве – бледной, одетой в серое платье. «Это же просто скандально, – заметил Райс, повернувшись к соседу слева. – Где видано, чтобы актера заменяли посреди пьесы?» Сосед устало вздохнул. «С этими молодыми авторами теперь ничего не поймешь, – ответил он. – Наверное, это какой-то символ». Райс поудобнее устроился в кресле, со злорадством прислушиваясь к ропоту зрителей, которые, очевидно, восприняли не так пассивно, как его сосед, физические изменения Хауэлла; и тем не менее театральная иллюзия захватила его почти мгновенно, актер был превосходен, и действие разворачивалось в таком темпе, что удивило даже Раиса, тонувшего в приятном безразличии. Письмо было от Майкла, он извещал, что покидает Англию; Эва молча прочла его и молча вернула мужу; чувствовалось, что она тихо плачет. «Останься со мной до конца», - сказала ему Эва. «Не дай им меня убить», - несуразно сказала она. Здесь, в безопасности партера, казалось невероятным, чтобы с ней могло что-то случиться в окружении сценической фальши; все было сплошным надувательством, долгим вечером среди париков и нарисованных деревьев. Конечно же, дама в красном должна была нарушить меланхоличный покой библиотеки, где в молчании Хауэлла, в его почти рассеянных движениях, когда он порвал письмо и бросил его в огонь, сквозило прощение, быть может, даже любовь. Дама в красном обязательно должна была намекнуть, что отъезд Майкла – всего лишь маневр, и столь же обязательно Хауэлл давал ей почувствовать вею глубину своего презрения, что отнюдь не исключало вежливого приглашения выпить чашку чаю. Раиса слегка позабавило появление слуги с подносом; чай, казалось, был одним из главнейших ресурсов драматурга, особенно теперь, когда дама в красном в какой-то миг извлекла флакончик из романтической мелодрамы, а огни потускнели, что было совершенно неуместно в кабинете лондонского адвоката. Раздался телефонный звонок, и Хауэлл с полным самообладанием поговорил с кем-то следовало предвидеть, что произойдет резкое падение курса акций или еще какой-то кризис, необходимый для развязки); чашки перешли из рук в руки с любезными улыбками – демонстрация хороших манер, предшествующая катастрофам. Раису оказался нелепым жест Хауэлла в тот миг, когда Эва подносила чашку к губам, – резкое движение, и серое платье потемнело от пролитого чая. Эва стояла неподвижно, ее поза была почти смешна; на мгновение все на сцене застыли (Райс поднялся с кресла, сам не зная почему, и кто-то нетерпеливо шкал у него за спиной), и в этом оцепенении возглас скандализованной дамы в красном наложился на легкий щелчок, рука Хауэлла поднялась, как будто он собирался о чем-то объявить, Эва повернула голову в сторону публики, словно не веря, и потом начала клониться вбок и в конце концов оказалась почти лежащей на диване, ее медленное движение точно пробудило Хауэлла, он бросился к правой кулисе, но Райс не видел его бегства, потому что сам тоже уже бежал по центральному проходу, когда еще ни один зритель не двинулся с места. Прыгая вниз по ступеням, он догадался нащупать номерок и получил на вешалке пальто. Уже подбегая к дверям, он слышал первые звуки, сопровождающие окончание спектакля, аплодисменты, голоса, кто-то из служащих бежал вверх по лестнице. Райс бросился в сторону Кинг-стрит и, пробегая мимо бокового переулка, заметил какую-то темную фигуру, движущуюся вдоль стен; дверь, через которую его изгнали, была приоткрыта, но Райс, еще не осознав увиденного, уже мчался по освещенной улице и, вместо того чтобы удаляться от театра, снова спустился по Кингсуэю, предвидя, что никому не придет в голову искать его по соседству. Он повернул на Стрэнд (воротник его пальто был поднят, он шел быстрым шагом, сунув руки в карманы) и наконец с чувством облегчения, непонятным ему самому, затерялся среди запутанной сети переулков, отходящих от Чэнсери-лейн. Опершись о стену (он слегка задыхался и чувствовал, как рубашка прилипла к вспотевшему телу), он закурил и впервые ясно и членораздельно, всеми нужными словами, спросил себя, почему он убегает. Приближающиеся шаги заслонили от него ответ, которого он искал; на бегу он подумал, что, если ему удастся перейти реку (он был уже недалеко от моста Блэкфраерс), он будет спасен. Он шагнул в нишу подъезда, в стороне от фонаря, освещавшего выход к Уотергейту. Что-то обожгло ему рот; он резко отшвырнул окурок, о котором совершенно забыл, и почувствовал саднящую боль на губах. В окружающем молчании он попытался вернуться к вопросам, так и оставшимся без ответа, но как нарочно в его мозгу все время билась мысль, что он будет в безопасности лишь на другой стороне реки. Логики тут не было, шаги могли преследовать его и на мосту, и в любом переулке на той стороне; и однако он выбрал мост поближе и устремился вперед, воспользовавшись ветром, который помог ему перейти реку и углубиться в лабиринт незнакомых улочек; район был плохо освещен; третья за ночь передышка – в узком и длинном тупике – поставила наконец перед ним единственно важный вопрос, и Райс понял, что не в силах найти ответ. «Не дай им меня убить»,- сказала Эва, и он пытался сделать все возможное, тупо и по-дурацки, но ее все равно убили, по крайней мере, ее убили в пьесе, а ему пришлось убегать, потому что пьеса не могла кончиться вот так, безобидно опрокинутая чашка чаю облила платье Эвы, и все равно Эва начала клониться вбок и в конце концов опустилась на диван; случилось нечто иное, и его не было рядом, чтобы помешать этому, «останься со мной до конца» - молила его Эва, но его выкинули из театра, его отстранили от того, что должно было произойти и что он, глупо сидя в партере, видел, не понимая или понимая той частью своего существа, где был страх, и бегство, и этот миг, липкий, как пот, струившийся у него по животу, и отвращение к самому себе. «Но я тут ни при чем, – подумал он. – И ведь ничего не случилось; не может быть, чтобы такое случалось на самом деле». Он старательно повторил себе последние слова: такого не бывает – чтобы к нему подошли, предложили эту нелепицу, любезно угрожали ему; приближающиеся шаги – наверное, шаги какого-нибудь бродяги, шаги, не оставляющие следов. Рыжеволосый человек, который остановился возле него, почти не глянув в его сторону, и судорожным движением снял очки, потер их о лацкан и снова надел, был просто похож на Хауэлла, на актера, игравшего Хауэлла и опрокинувшего чай на платье Эвы. «Снимите этот парик, – сказал Райс. – В нем вас узнают повсюду». «Это не парик», – ответил Хауэлл (его фамилия Смит или Роджерс, Райс уже не помнил, как было указано в программе). «Что я за дурак», – сказал Райс. Можно было догадаться, что они приготовили парик точь-в-точь такой, как волосы Хауэлла, и очки тоже были копией его очков. «Вы сделали все что могли, – сказал Райс, – я сидел в партере и видел все; любой может засвидетельствовать в вашу пользу». Хауэлл дрожал, прижимаясь к стене. «Не в этом дело, – сказал он. – Какая разница, если они все равно добились своего». Райс наклонил голову; его охватила непобедимая усталость. «Я тоже пытался ее спасти, – сказал он, – но они не дали мне продолжить». Хауэлл сердито взглянул на него. «Всегда одно и то же, – проговорил он, словно думая вслух. – Это так типично для любителей, они воображают, что сумеют сделать все лучше других, а в результате ничего не выходит». Он поднял воротник пиджака, сунул руки в карманы. Райсу хотелось спросить: «Почему всегда одно и то же? И если это так – почему же мы убегаем?» Свист словно влетел в тупик из-за угла, отыскивая их. Они долго бежали бок о бок и наконец остановились в каком-то закоулке, где пахло нефтью и стоячей водой. С минуту они постояли за штабелем мешков; Хауэлл дышал тяжело и часто, как собака, а у Раиса свело судорогой лодыжку. Он потер ее, опершись на мешки, с трудом удерживаясь на одной ноге. «Но, наверное, все не так уж страшно, – пробормотал он. – Вы сказали, что всегда происходит одно и то же». Хауэлл рукой закрыл ему рот; послышался свист, ему ответил второй. «Каждый бежит в свою сторону, – коротко приказал Хауэлл. – Может, хоть одному удастся спастись». Райс понял, что тот был прав, но ему хотелось, чтобы сперва Пауэлл ответил. Он схватил его за локоть и с силой подтянул себе. «Не оставляйте меня вот так, – взмолился он. – Я не могу вечно убегать, не понимая почему». Он почувствовал дегтярный запах мешков, его рука хватала воздух. Шаги бегущего удалялись; Райс наклонил голову, вдохнул поглубже и бросился в противоположную сторону. В свете фонаря мелькнуло ничего не говорящее название: Роз Элли. Дальше была река и какой-то мост. Мостов и улиц не счесть – только беги.
Все огни - огонь
Такой будет когда-нибудь моя статуя, иронически думает проконсул, поднимая руку, вытягивая ее в приветственном жесте, каменея под овации зрителей, которых не смогли утомить двухчасовое пребывание в цирке и тяжелая жара. Это миг обещанной неожиданности; проконсул опускает руку и смотрит на жену, та отвечает ему бесстрастной улыбкой, приготовленной для публичных празднеств. Ирена не знает, что за этим последует, и в то же время как будто знает, даже неожиданность становится привычкой, когда научаешься сносить капризы хозяина с безразличием, бесящим проконсула. Не глядя на арену, она предвидит, что жребий уже брошен, предчувствует жестокое и нерадостное зрелище. Винодел Ликас и его жена Урания первыми выкрикивают имя, подхваченное и повторенное толпой. "Я хотел сделать тебе приятную неожиданность, - говорит проконсул. - Меня заверили, что ты ценишь стиль этого гладиатора". Хозяйка своей улыбки, Ирена благодарит наклоном головы. "Ты оказала нам честь, согласившись сопровождать на эти игры, хотя они тебе и наскучили, - продолжает проконсул, - и справедливо, чтобы я постарался вознаградить тебя тем, что больше всего тебе по вкусу". "Ты соль земли! - кричит Ликас. - По твоему велению на нашу бедную провинциальную арену нисходит тень самого Марса!" - "Ты видел только первую половину", - говорит проконсул, касаясь губами чаши с вином и передавая ее жене. Ирена делает долгий глоток, и легкий аромат вина словно отгораживает ее от густого и въедливого запаха крови и навоза. В разом наступившей выжидательной тишине, которая безжалостно очерчивает его одинокую фигуру, Марк идет к середине арены; его короткий меч поблескивает на солнце там, где сквозь дыры в старом холщовом навесе пробивается косой луч, и бронзовый щит небрежно свисает с левой руки. "Ты выставишь против него победителя Смирния?" - возбужденно спрашивает Ликас. "Кое-кого получше, - отвечает проконсул. - Я хотел бы, чтобы твоя провинция помнила меня за эти игры и чтобы моя жена хоть раз перестала скучать". Урания и Ликас аплодируют, ожидая ответа Ирены, но она молча возвращает чашу рабу, как бы не слыша вопля, которым толпа приветствует появление второго гладиатора. Стоя неподвижно, Марк тоже словно не замечает оваций, встречающих его соперника; концом меча он легко касается своего позолоченного набедренника.
"Алло", - говорит Ролан Ренуар, протягивая руку за сигаретой, - это как бы неизбежное продолжение жеста, которым он снимает трубку. В телефоне потрескивает" там какая-то путаница, кто-то диктует цифры, потом тишина, еще более глухая на фоне молчания, что льется в ухо из телефонной трубки. "Алло", - повторяет Ролан, кладя сигарету на край пепельницы и нашаривая спички в кармане халата. "Это я", - говорит голос Жанны. Ролан утомленно прикрывает глаза и вытягивается поудобнее. "Это я", - ненужно повторяет Жанна. Ролан не отвечает, и она добавляет: "От меня только что ушла Соня".
Ему надо посмотреть на императорскую ложу, сделать традиционное приветствие. Он знает, что должен это сделать и что увидит жену проконсула и самого проконсула и, быть может, жена проконсула улыбнется ему, как на предыдущих играх. Ему не надо думать, он почти не умеет думать, но инстинкт подсказывает ему, что это плохая арена - огромный медно-желтый глаз, грабли и пальмовые листья кривыми дорожками исчертили песок в темных пятнах от прошлых сражений. Накануне ночью ему приснилась рыба, ему приснилась одинокая дорога меж рухнувших колонн; пока он одевался, кто-то шепнул, что проконсул заплатит ему не золотыми монетами. Марк не стал спрашивать, и человек злобно рассмеялся и ушел, пятясь, не поворачиваясь к нему спиной; а потом другой сказал, что то был брат гладиатора, которого Марк убил в Массилии, но его уже подталкивали к галерее, навстречу крикам толпы. На арене невыносимо жарко, шлем тяжело давит голову, отбрасывая солнечные блики на навес и ступени. Рыба, рухнувшие колонны; неясные сны, провалы памяти в миг, когда, казалось, он мог бы их разгадать. А тот, кто одевал его, сказал, что проконсул заплатит ему не золотыми монетами; пожалуй, жена проконсула не улыбнется ему сегодня.
Крики толпы сейчас не трогают его, ведь это аплодируют другому, правда, меньше, чем Марку минуту назад, но к аплодисментам примешиваются возгласы удивления, и он поднимает голову, смотрит на ложу, где Ирена, повернувшись, говорит с Уранией, где проконсул небрежно делает знак рукой, и все тело его напрягается, рука сжимает рукоять меча. Ему достаточно скользнуть взглядом по противоположной трибуне; его противник выходит не оттуда; со скрипом поднимается решетка темного коридора, из которого на арену обычно выбегают хищники. Марк видит, как из тьмы появляется гигантская фигура вооруженного сетью нубийца, до тех пор незаметного на фоне мшистого камня; вот теперь каким-то шестым чувством Марк понимает, что проконсул заплатит ему не золотыми монетами, и угадывает значение рыбы и рухнувших колонн. И в то же время ему неважно, что произойдет между ним и нубийцем, это его работа, все зависит от умения и от воли богов, но тело его еще напряжено, словно из страха, что-то внутри вопрошает, отчего нубиец вышел из коридора для хищников, и тот же вопрос среди оваций задает себе публика, и Ликас спрашивает то же у проконсула, а проконсул молча улыбается, наслаждаясь всеобщим удивлением, и Ликас смеется, и протестует, и считает, что обязан поставить на Марка; еще до того, как раздастся ответ, Ирена знает, что проконсул удвоит ставку в пользу нубийца, а потом благосклонно взглянет на нее и прикажет подать ей охлажденного вина. И она отопьет вино и примется обсуждать с Уранией достоинства нубийца, его рост и свирепость; каждый ход предусмотрен, хотя подробности неизвестны, может не быть чаши вина или гримаски Урании, когда она станет громко восхищаться могучим торсом великана. Тут Ликас, большой знаток по части цирковых сражений, обратит их внимание на то, что шлем нубийца задел за шипы решетки, а она поднята на два метра от земли, и похвалит непринужденность, с какой боец укладывает на левой руке ячеи сети. Как всегда, как с той уже далекой брачной ночи, Ирена прячется в самый дальний угол самой себя, хотя внешне она снисходительна, улыбается, даже выглядит довольной; и в этой свободной пустой глубине она ощущает знак смерти, который проконсул облек в форму веселой неожиданности, знак смерти, который могут понять лишь она и, быть может, Марк, но Марк не поймет - грозный, молчаливый, не человек, а машина; теперь его тело, что она возжелала прошлый раз в цирке (и проконсул угадал это, ему не нужны провидцы, он угадал это, как всегда, в первый же миг), заплатит за простую игру воображения, за бесполезный взгляд - глаза в глаза - поверх трупа тракийца, искусно убитого точным ударом в горло.
Перед тем как набрать номер Ролана, рука Жанны пролистала страницы журнала мод, коснулась тюбика с успокоительными таблетками, шерсти кота, свернувшегося клубком на диване. Потом голос Ролана произнес "Алло", его чуть сонный голос, и вдруг Жанна почувствовала, что она смешна, что она скажет Ролану именно те слова, которые приобщат ее к сонму телефонных плакальщиц, в то время как единственный и ироничный слушатель будет курить в снисходительном молчании. "Это я", - сказала Жанна, но сказала это больше себе самой, чем молчанию на другом конце провода, на фоне легких попискиваний. Она посмотрела на свою руку, рассеянно приласкавшую кота, перед тем как набрать цифры, кто-то далекодалеко диктует номера, а его собеседник молчит и послушно записывает, отказываясь верить, что эта рука, мимоходом дотронувшаяся до тюбика с таблетками, - ее рука, мимоходом дотронувшаяся до тюбика с таблетками, - ее рука, ее голос, который только что повторил "Это я", - ее голос, звучащий на пределе, у самой границы. Во имя собственного достоинства замолчать, медленно положить трубку на место, остаться в незапятнанном одиночестве. "От меня только что ушла Соня", говорит Жанна, и граница перейдена, начинается смешное, маленький, с удобствами ад.
"А-а", - говорит Ролан и чиркает спичку. Жанна ясно слышит этот звук, она словно видит лицо Ролана: он втягивает дым, слегка откинувшись назад, прикрыв глаза. Поток сверкающих ячеек как будто вылетает из рук черного гиганта, и Марк точным движением уклоняется от падающей сети. В прежние разы - проконсул знает это и поворачивает голову так" чтобы только Ирена видела его улыбку, - он использовал эту долю секунды, самый уязвимый миг для всякого бойца с сетью, чтобы отразить щитом угрозу длинного трезубца и молниеносным движением броситься вперед, к обнаженной груди противника. Но Марк не нападает, он стоит слегка согнув ноги, будто вот-вот прыгнет, а нубиец ловко собирает сеть и готовится к новому броску. "Он погиб", думает Ирена, не глядя на проконсула, который выбирает сласти на подносе, протянутом Уранией. "Он уже не тот, что прежде", - думает Ликас, жалея о верном проигрыше.
Марк чуть пригнулся, следя за вращательным движением нубийца; он единственный, кто еще не знает того, что предчувствуют все, он просто, сжавшись, выжидает другой случай, смутно растерянный от того, что пренебрег наукой. Ему понадобится время, быть может, в часы возлияний, которые следуют за триумфами, он поймет отчего проконсул собирается заплатить ему не золотыми монетами. Угрюмо ждет он нового подходящего мига; кто знает, вдруг в конце, когда он поставит ногу на труп нубийца, он снова увидит улыбку жены проконсула; но об этом думает не он, и тот, кто думает это, уже не верит, что нога Марка станет на грудь заколотого противника.
"Ну, решайся, - говорит Ролан, - или ты хочешь, чтобы я весь вечер слушал этого типа, который диктует цифры бог знает кому?
Тебе его слышно?" - "Да, - говорит Жанна, - слышно, как будто очень издалека. Триста пятьдесят четыре, двести сорок два". На миг все замолкает, кроме далекого монотонного голоса. "Во всяком случае, - говорит Ролан, - он использует телефон по делу". Ответ можно предусмотреть, скорее всего, это будет первая жалоба, но Жанна молчит еще несколько секунд и повторяет: "От меня только что ушла Соня. - Она колеблется и добавляет: Наверное, она скоро будет у тебя". Ролана это бы удивило, Соне незачем идти к нему. "Не лги", - говорит Жанна, и кот выскальзывает из-под руки и смотрит обиженно. "Это вовсе не ложь, - говорит Ролан. - Я имею в виду час, а не сам факт ее прихода. Соня знает, что я не люблю, когда ко мне приходят или звонят в это время". Восемьсот пять, издалека диктует голос. Четыреста шестнадцать. Тридцать два. Жанна закрывает глаза, выжидая, когда этот безыменный голос сделает первую паузу, чтобы сказать единственное, что остается сказать. Если Ролан повесит трубку, у нее будет еще этот голос в глубине телефона, она сможет держать трубку у уха, все ниже и ниже соскальзывая на диван, поглаживая кота, - он снова устроился у ее бока, играя с тюбиком таблеток, слушая цифру до тех пор, пока другой голос тоже не устанет, и уже не будет ничего, абсолютно ничего, только сама трубка, которая покажется вдруг такой тяжелой, мертвый предмет, годный лишь на то, чтобы отложить не глядя. Сто сорок пять, сказал голос. И где-то еще глубже, точно крохотный карандашный набросок, кто-то, быть может очень робкая женщина, спрашивает между двумя щелчками: "Северный вокзал?".
Ему удается вторично выпутаться из сети, но он плохо рассчитал прыжок назад и поскальзывается на влажном пятне. Отчаянным движением меча, которое заставляет зрителей вскочить с мест, Марк отражает сеть и одновременно приподнимает левую руку со щитом, встречая удар трезубца. Проконсул пропускает мимо ушей возбужденные комментарии Ликаса и поворачивает голову к Ирене, сидящей неподвижно. "Сейчас или никогда", говорит проконсул.
"Никогда", - отвечает Ирена. "Он уже не тот, что прежде, - повторяет Ликас, - и это дорого ему обойдется, нубиец больше не подпустит его, сразу видно". Марк, застыв посреди арены, как будто осознает свою ошибку; прикрываясь щитом, он неотрывно смотрит на уже собранную сеть, на трезубец, который завораживающе покачивается в двух метрах от его глаз. "Ты прав, он уже не тот, - говорит проконсул. - Ты ставила на него, Ирена?" Пригнувшись, готовый к прыжку, Марк чувствует - кожей, пустотой в желудке, - что толпа отворачивается от него. Если бы у него была одна спокойная секунда, он сумел бы разорвать стягивающий его узел, невидимую цепь, которая идет откуда-то очень издалека, он не знает откуда, и в какой-то миг может обернуться вниманием проконсула, обещанием особой платы и еще сном с рыбой, но теперь, когда уже нет времени ни на что, он чувствует, будто он сам - эта рыба, и сеть пляшет перед глазами и, кажется, ловит каждый луч солнца, пробивающийся сквозь дыры ветхого навеса. Все, все - цепь, ловушка; распрямившись резким угрожающим движением, от которого публика разражается аплодисментами, а нубиец впервью делает шаг назад, Марк {вбирает единственный путь - смятение, пот, запах крови, перед ним смерть, и надо ее отвратить, - кто-то думает это за него, прикрывшись улыбающейся маской, кто-то возжелавший его, слившийся с ним взглядом над телом агонизирующего фракийца.
"Яд, - думает Ирена, - когда-нибудь я найду яд, но теперь приму от него чашу с вином, будь сильней его, жди своего часа". Пауза удлиняется, как удлиняется коварная черная галерея, в которой отрывисто звучит далекий голос, повторяющий цифры. Жанна всегда верила в то, что по-настоящему важные послания часто сообщаются без помощи слов: может быть, эти цифры значат больше, они существеннее, чем любая речь, для того, кто внимательно слушает их, так же как для нее запах духов Сони, легкое прикосновение руки к плечу на пути к двери куда важнее Сониных слов. Но ведь так естественно, что Соня не удовлетворилась шифром, ей надо было произнести все слова, смакуя их одно за другим. "Понимаю, что для тебя это будет большим ударом, - повторила Соня, - но я ненавижу притворство и предпочитаю сказать тебе всю правду". Пятьсот сорок шесть, шестьсот шестьдесят два, двести восемьдесят девять. "Мне все равно, пошла она к тебе или нет, - говорит Жанна. - Теперь мне все уже безразлично". Вместо новой цифры - долгое молчание. "Ты здесь?" - спрашивает Жанна. "Да", - отвечает Ролан, кладя окурок в пепельницу, и не спеша шарит по полке, отыскивая бутылку коньяка.
"Я только одного не пойму..." - начинает Жанна. "Пожалуйста, - говорит Ролан, - в этих случаях, дорогая, все мало что понимают, а кроме того, если вдруг и поймешь, ничего от этого не выиграешь. Мне жаль, что Соня поторопилась, не ей полагалось бы сказать тебе об этом. Проклятие, кончит он когда-нибудь со своими цифрами?" Еле слышный голос, наводящий на мысль о мире муравьев, продолжает размеренно диктовать под слоем более близкого, более сгущенного молчания. "Но ты, - глупо говорит Жанна, - значит, ты." Ролан отпивает глоток коньяку. Ему всегда нравится выбирать слова, избегать поверхностных диалогов. Жанна повторит каждую фразу два, три раза, с разными выражениями, с разной интонацией; пусть говорит, пусть повторяется, пока он подготовит минимум осмысленных ответов, которые поставят все на свои места, введут в пристойное русло этот нелепый выплеск чувств. Сделав глубокий вздох, он выпрямляется после обманного движения и боковой атаки; что-то говорит ему, что на этот раз нубиец изменит тактику, что удар трезубцем опередит бросок сети. "Смотри хорошенько, - объясняет Ликас жене. - Я видел, как он действовал в Апта Юлия, это всегда сбивает с толку". Плохо прикрытый, рискуя попасть в поле сети, Марк бросается вперед и только тогда поднимает щит, чтобы укрыться от блестящей реки, срывающейся точно молния с руки нубийца. Он отбрасывает край сети, но трезубец бьет вниз и кровь брызжет из бедра Марка, а слишком короткий меч глухо стукается о древко. "Я же тебе говорил!" - кричит Ликас. Проконсул внимательно смотрит на раненое бедро, на кровь, исчезающую за позолоченным набедренником; он почти с жалостью думает, что Ирене было бы приятно ласкать это бедро, упиться его жаром, его тяжестью, стоная так, как она умеет стонать, когда он стискивает ее, стараясь причинить боль. Он скажет это ей сегодня же ночью, и будет интересно понаблюдать за лицом Ирены, отыскать слабинку в ее идеальной маске, изображающей безразличие до самого конца, так же как теперь она вежливо делает вид, что увлечена схваткой, от которой разом взвыла чернь, подхлестнутая неотвратимостью конца. "Судьба отвернулась от него, - говорит проконсул. - Я почти чувствую себя виноватым, что привез его сюда, на эту провинциальную арену. Какаято его часть явно осталась в Риме". - "А все прочее останется здесь, вместе с деньгами, что я на него поставил", - смеется Ликас. "Пожалуйста, успокойся, - говорит Ролан. - Глупо продолжать этот телефонный разговор, когда мы можем встретиться прямо сегодня вечером. Я повторяю, Соня поторопилась, я хотел уберечь тебя от удара". Муравей перестал диктовать свои Цифры, и слова Жанны слышались совсем ясно; в ее голосе нет слез, и это удивляет Ролана, он подготовил фразы, предвидя лавину упреков. "Уберечь от удара? - говорит Жанна. - Ну, конечно, ложью. Обманув меня еще раз". Ролан вздыхает, отказывается от ответов, которые могли бы продлить этот скучный диалог до бесконечности. "Мне очень жаль, но если ты будешь продолжать в том же духе, я предпочитаю повесить трубку, - говорит он, и впервые в его голосе проскальзывает приветливость. - Лучше уж я зайду к тебе завтра, в конце концов, мы же цивилизованные люди, какого черта". Очень далеко муравей диктует: восемьсот восемьдесят восемь. "Не надо, - говорит Жанна, и забавно слышать ее слова вперемежку с цифрами: не восемьсот надо восемьдесят восемь. - Больше не приходи никогда, Ролан". Драма, возможные угрозы покончить с собой, скучища, как тогда с МариЖозе, как со всеми, кто принимает это слишком трагично. "Не глупи, - советует Ролан, - завтра ты увидишь все в другом свете, так лучше для нас обоих". Жанна молчит, муравей диктует круглые цифры: сто, четыреста, тысяча. "Ну, хорошо, до завтра", - говорит Ролан, с одобрением оглядывая выходной костюм Сони, которая только что открыла дверь и замерла на пороге с полувопросительным-полунасмешливым видом. "Уж, конечно, она не теряла времени даром", - говорит Соня, кладя сумочку и журнал. "До завтра, Жанна", - повторяет Ролан. Молчание на проводе натягивается, будто тетива лука, но тут его сухо обрывает новая далекая цифра - девятьсот четыре. "Бросьте наконец свои дурацкие номера!" - кричит Ролан изо всех сил и, перед тем как отвести трубку от уха, еще улавливает легкий щелчок на другом конце - из лука вылетела безобидная стрела. Парализованный, зная, что не сможет уклониться от сети, которая вот-вот опутает его, Марк стоит перед нубийцем, слишком короткий меч неподвижен в вытянутой руке. Нубиец встряхивает сеть раз, другой, подбирает ее, ища удобное положение, долго раскручивает над головой, словно хочет продлить вопли публики, требующей покончить с противником, и опускает трезубец, отклоняясь в сторону, чтобы придать большую силу броску. Марк идет навстречу сети, подняв щит над головой, и башней рушится на черную фигуру, меч погружается во что-то, воющее выше; песок забивается в рот и в глаза, уже ненужная сеть падает на задыхающуюся рыбу.
Кот безразлично принимает ласки, не чувствуя, что рука Жанны чуть дрожит и начинает остывать. Когда пальцы, скользнув по шерсти, замирают и, вдруг скрючившись, царапают его, кот недовольно мяукает, потом переворачивается на спину и выжидательно шевелит лапами, это всегда так смешит Жанну, но теперь она молчит, рука лежит неподвижно рядом с котом, и только один палец ее зарывается в его мех, коротко гладит и снова замирает между его теплым боком и тюбиком от таблеток, подкатившимся почти вплотную. С мечом, торчащим среди живота, когда боль превращается в пламя ненависти, вся его гаснущая сила собирается в руке, которая вонзает трезубец в спину лежащего ничком противника. Он падает на тело Марка и в конвульсиях откатывается в сторону; Марк медленно шевелит рукой, приколотой к песку, как огромное блестящее насекомое.
"Не часто бывает, - говорит проконсул, поворачиваясь к Ирене, - чтобы столь опытные гладиаторы убили один другого. Мы можем поздравить себя с редким зрелищем. Сегодня же вечером я напишу о том брату, чтобы хоть немного скрасить его тоскливую супружескую жизнь".
Ирена видит движение Марковой руки, медленное, бесполезное движение, как будто он хочет вырвать из спины длинный трезубец.
Она представляет себе проконсула, голого, на песке, с этим же трезубцем, по древко впившемся в его тело. Но проконсул не шевельнет рукой движением, полным последнего достоинства; он будет бить ногами и визжать, как заяц, и просить пощады у негодующей публики. Приняв руку, протянутую мужем, она встает, еще раз подчиняясь ему; рука на арене перестала шевелиться, единственное, что теперь остается, - это улыбаться, искать спасения в уловках разума. Коту, по-видимому, не нравится неподвижность Жанны, он продолжает лежать на спине, ожидая ласки, потом, словно ему мешает этот палец у его бока, гнусаво мяукает и поворачивается, отстранившись, уже в полусне, забыв обо всем.
"Прости, что я зашла в такое время, - говорит Соня. - Я увидела твою машину у дверей и не устояла перед искушением. Она позвонила тебе, да?" Ролан ищет сигарету. "Ты поступила плохо, - говорит он. - Считается, что это мужское дело, в конце концов я был с Жанной больше двух лет, и она славная девочка". - "Да, но удовольствие, - отвечает Соня, наливая себе коньяку. - Я никогда не могла простить ей ее наивность, это просто выводило меня из себя. Представь, она начала смеяться, уверенная, что я шучу". Ролан смотрит на телефон, думает о муравье. Теперь Жанна позвонит еще раз, и будет неудобно, потому что Соня села рядом и гладит его волосы, листая литературный журнал, точно ища картинки. "Ты поступила плохо", - повторяет Ролан, привлекая Соню к себе. "Зайдя в это время?" смеется Соня, уступая рукам, которые неловко нащупывают первую застежку. Лиловое покрывало окутывает плечи Ирены, она стоит спиной к арене, пока проконсул в последний раз приветствует публику. К овациям уже примешивается шум движущейся толпы, торопливые перебежки тех, кто хочет опередить других и спуститься в нижние галереи. Ирена знает, что рабы тащат по песку трупы, и не оборачивается, ей приятно думать, что проконсул принял приглашение Ликаса поужинать у него в доме, на берегу озера, где ночной воздух поможет забыть ей запах черни и последние крики, медленное движение руки, словно ласкающей песок. Забыть нетрудно, хотя проконсул и преследует ее напоминаниями о прошлом, которое не дает ему покоя. Ничего, когда-нибудь Ирена найдет способ тоже заставить его забыть обо всем и навсегда, да так, что люди подумают, будто он просто умер. "Вот посмотришь, что выдумал наш повар, - говорит жена Ликаса. - Он вернул моему мужу аппетит, а уж ночью..." Ликас смеется и приветствует друзей, ожидая, когда проконсул двинется к выходу, после последнего приветственного жеста, но тот не торопится, словно ему приятно смотреть на арену, где подцепляют на крюки и уволакивают трупы. "Я так счастлива", - говорит Соня, прижимаясь щекой к груди полусонного Ролана. "Не говори так, - бормочет Ролан. - Всегда думаешь, что это простая любезность". - "Ты мне не веришь?" - улыбается Соня. "Верю, но не надо говорить это сейчас. Давай лучше закурим". Он шарит по низкому столику, находит сигареты, вставляет одну в губы Сони, приближает лицо, зажигает обе одновременно. Они едва смотрят друг на друга, их уже сморил сон, и Ролан машет спичкой и кладет ее на столик, где должна быть пепельница. Соня засыпает первая, и он очень осторожно вынимает сигарету из ее рта, соединяет со своей и оставляет на столике, Соскальзывая в тепло Сониного тела, в тяжелый, без сновидений сон. Газовая косынка, медленно сворачиваясь, горит без огня на краю пепельницы и падает на ковер рядом с кучей одежды и рюмкой коньяка. Часть публики кричит и скапливается на нижних ступенях; проконсул заканчивает приветствие и делает знак страже расчистить проход. Ликас, первым поняв в чем дело, указывает ему на дальнюю часть старого матерчатого навеса, который рвется у них на глазах и дождем искр осыпает публику, суматошно толпящуюся у выходов. Выкрикнув приказ, проконсул подталкивает Ирену, неподвижно стоящую спиной к нему. "Скорее, пока они не забили нижнюю галерею", - кричит Ликас, бросаясь вперед, обгоняя жену. Ирена первая почувствовала запах кипящего масла: загорелись подземные кладовые; сзади навес падает на спины тех, кто отчаянно пытается пробиться сквозь толщу сгрудившихся людей, запрудивших слишком тесные галереи. Многие, десятки, сотни, выскакивают на арену и мечутся, ища другие выходы, но дым горящего масла застилает глаза, клочок ткани парит у границы огня и падает на проконсула, прежде чем он успевает укрыться в проходе, ведущем к императорской галерее. Ирена оборачивается на его крик и сбрасывает с него обугленную ткань, аккуратно взяв ее двумя пальцами. "Мы не сможем выйти, - говорит она. - Они столпились внизу, как животные". Тут Соня вскрикивает, стараясь высвободиться из пламенного объятия, обжигающего ее во сне, и ее первый крик смешивается с криком Ролана, который тщетно пытается подняться, задыхаясь в черном дыму. Они еще кричат, все слабее и слабее, когда пожарная машина на всем ходу влетает на улицу, забитую зеваками. "Десятый этаж, - говорит лейтенант. Будет тяжело, дует северный ветер. Ну, пошли".
Что нами движет
Можете верить, можете – нет, тут все, как в лентах байографа [3], что показывают, то и смотри, а не хочешь – уходи, только уж монеты тебе не вернут. Как ни крути, уже двадцать лет прошло и дело это прошлое, так что я все расскажу, а если кто думает, что я загибаю, пошел он подальше.
Монтеса убили в порту ночью, в августе. Может, и верно, что Монтес оскорбил какую-то женщину, а ее мужик взыскал должок с процентами. Но я знаю, что Монтеса убили сзади, выстрелом в затылок, а такое не прощается. Мы с Монтесом были как нитка с иголкой, всегда вместе за картами и кофе в заведении негра Падильи, ну да вы не слыхали о негре. Его тоже убили, если хотите, как-нибудь расскажу.
В общем, когда мне сказали, Монтес уже отдал концы, и я только застал, как сестра выла над ним и падала в обморок. Посмотрел я на Монтеса – он лежал с открытыми глазами – и поклялся, что этот тип далеко не уйдет. Той же ночью я переговорил с Барросом, и вот здесь-то может показаться, что я загибаю. Дело в том, что Баррос первым прибежал, когда раздался выстрел, и нашел Монтеса при последнем издыхании под густым параисо. Баррос – не промах и постарался, чтобы тот назвал убийцу. Монтес и хотел сказать, но с пулей в голове это, наверное, нелегко, так что Баррос не многого добился. Во всяком случае, Монтесу удалось проговорить (смотрите, какой бред у умирающего!) что-то вроде «тот, с синей рукой», потом выдавил из себя слово, похожее на «татуировка», и мы поняли, что этот тип был моряком. И точка. Ведь как легко было сказать «Лопес» или там «Фернандес», но с пулей в черепе – попробуйте сами. Может быть, Монтес не знал, как того зовут, татуировка-то видна, а имя надо спрашивать, и наверняка оно ненастоящее.
А теперь можете смеяться, ведь уже через неделю мы с Барросом нашли этого парня, а лучшая в мире полиция все еще устраивала облавы в порту и окрестностях. У нас был свой розыск, не буду уж надоедать подробностями. Но самое смешное – то, что наш человек не смог дать нам приметы этого типа, зато сказал, что он отчаливает на французском судне, и не матросом, а пассажиром – роскошная жизнь! Поэтому мы решили, что парень уже не морячит, зато бывалый и пользуется этим, чтобы смыться. Единственное, что мы знали – что он аргентинец и едет третьим классом. Удивляться нечему, какой-нибудь гринго и не справился бы с Монтесом, но самое странное – что наш человек не смог узнать фамилии этого малого. Вернее, ему назвали одну, но ее не оказалось в списке пассажиров. Люди ведь дрейфят, и, наверное, тот тип, который за тридцать монет выложил сведения нашему человеку, нарочно переврал имя. А может, парень в последнюю минуту добыл другие бумаги. Так что опять крутится байограф – мы с Барросом проговорили всю ночь, а утром я пошел в департамент за бумагами. Тогда не так трудно было получить паспорт. В общем, короче, наши устроили мне билет, и вот я в десять вечера погрузился собственной персоной на борт корабля и отплыл в Марсель, это пристань такая у французишек. Я уж вижу – вам скучно. Могу и не рассказывать. Ну ладно, подлей еще каньи, и вообразите, что читаете «Графа Монте-Кристо». Я ведь сразу сказал, что такое редко бывает, да и времена другие были.
Корабль был почти пуст, и мне дали на одного целую каюту с четырьмя койками. Вот роскошь! Я мог хоть всю одежку свою разложить, и еще осталось бы место. Доводилось вам путешествовать в Европу, ребята? Да ладно, я так, к смеху. В общем, каюты выходят в коридор, а по коридору можно дойти до буфета в одном конце, в другую сторону взбираешься по лестнице – и ты уже в передней части корабля. Первый вечер я провел на палубе, смотрел на Буэнос-Айрес, который терялся вдали. Но на другой же день начал слежку. В Монтевидео никто не сошел, корабль даже и не причалил. Когда вышли в море, всего пришлось натерпеться, кишки наизнанку выворачивались, не пожелаю вам такого. А дело было само не трудное, потому что в буфете сразу все узнаешь, и получалось, что из двадцати с чем-то пассажиров было пятнадцать юбок, а остальные – почти все испанцы и итальяшки. Аргентинцев – всего трое, не считая меня, и уже через минуту мы все четверо пристроились к бильярду и к пиву.
Из этих трех один был уже старик, хотя страха мог на любого нагнать. А двум другим было лет по тридцать, как и мне. С Перейрой мы сразу сошлись, а Ламас был посдержанней, унылый какой-то. Я все навострял уши, не заговорит ли кто на моряцком жаргоне, все про корабль твердил, вдруг кто-нибудь из троих клюнет на это. Но скоро понял, что не тот путь выбрал и что мой морячок так остерегался, будто во сне боялся обмочиться. Такую ерунду несли о корабле, что даже мне было ясно. И к тому же был зверский холод и никто не снимал ни пиджаков, ни свитеров.
Все трое сказали мне, что едут в Марсель, так что в Бразилии я был начеку, но и в самом деле никто не смылся. Когда стало жарко, я появился в майке, чтобы показать пример, но они оставались в рубашках и рукава засучивали не выше локтя. Старик Ферро смеялся, видя, как я ударяю за горничной, и все намекал на матрацы, что были в каюте. Перейра тоже закидывал удочку, а Петрона, задорная испаночка, завлекала нас обоих. А про то, как плыл корабль и какую мерзкую еду нам давали, и вспоминать не хочется.
Когда мне показалось, что Перейра всерьез занялся Петроной, я принял свои меры. Столкнувшись с ней в коридоре, я сказал ей, что мою каюту заливает вода. Она поверила, и оставалось лишь закрыть за ее спиной дверь, как только вошла. Когда я ее облапил, она дала мне пощечину, но смеясь. Потом была послушной, как овечка. Ну и умножайте все на число коек, как говорил Ферро. По правде говоря, в тот раз мы не больно отличились, но на следующий день я ей дал жару, а дело в том, что испанка стоила того. Еще как стоила!
Я рассказал об этом походя Ламасу и Перейре, сначала они не хотели верить или притворялись удивленными. Ламас молчал, как всегда, ну а Перейра был возбужден, и я угадывал его намерения. Я притворился дурачком, и он ушел, кусая губы. В эту ночь она не пришла в мою каюту, я видел, они болтали около душевых. Не догадались, почему испаночка так скоро меня бросила? Ну да я все расскажу. За одну канарейку и еще одну – обещанную, если добудет нужную информацию,- Петрона ретиво взялась за дело. Само собой, я не сказал ей, зачем мне надо знать, есть ли у Перейры какая-нибудь метка на руке; я толковал о пари, о всякой ерунде. Мы хохотали как сумасшедшие.
На следующий день я поговорил с Ламасом, посидели на бухте каната в передней части корабля. Он сказал, что едет во Францию работать курьером в посольстве или что-то в этом роде. Вообще-то он молчаливый, унылый какой-то, но со мной был довольно откровенным. Я заглядывал ему в глаза, и вдруг в памяти всплывало лицо мертвого Монтеса, крики сестры, ночное бдение, когда его привезли после вскрытия. Мне хотелось прижать Ламаса и спросить его напрямик, он это или нет. Но так я бы ничего не добился, только погубил бы все. Лучше подождать, когда Петрона покажется в моей каюте.
Около пяти она постучала в дверь. Она помирала со смеху и сразу объявила мне, что у Перейры ничего на руках нет. «Было время, чтобы рассмотреть его со всех сторон», – сказала она. И хохотала как сумасшедшая. Я вспомнил Ламаса, который казался мне самым симпатичным, и понял, как можно погореть, если поддаваться впечатлениям. Вот так симпатичный! Раз Ферро и Перейра тут ни при чем, тогда все ясно. Уж просто со зла я тут же повалил Петрону, а она не хотела, и пришлось стукнуть ее пару раз, чтобы побыстрей раздевалась. Я отпустил ее только к ужину, и то, чтобы не заподозрила команда: ее уже искали. Договорились, что она придет завтра к вечеру, и я пошел ужинать. Нас, всех четверых земляков, поместили за одним столом, подальше от испанцев и итальяшек, и напротив меня сидел Ламас. Ух, чего мне стоило глядеть на него как ни в чем не бывало и помнить о Монтесе! Теперь уж я не удивлялся, что он одолел Монтеса, он любому сто очков вперед даст со своим серьезным видом, внушающим доверие. Перейру я уже и в расчет не принимал, но под конец обратил внимание, что он молчал про Петрону, это он-то, который все трезвонил, как он поимеет испаночку. Потом сообразил, что и она не много сказала мне о парне, кроме самого главного. На всякий случай я постоял у приоткрытой двери и около полуночи увидел, как она проскользнула в каюту Перейры. Я улегся на койку и стал соображать.
На следующий день Петрона не пришла. Я припер ее к стенке в одной из ванных и спросил, в чем дело. Сказала, что ничего, просто много работы.
– Вчера ты снова была с Перейрой?- спросил я вдруг.
– Я? С чего ты взял? Нет, не была, – солгала она.
Если у тебя уводят женщину, тут не до шуток, но если ты еще сам в этом виноват, совсем уж, понимаете, не до смеха. Когда я ей велел прийти ко мне той же ночью, она заплакала, стала говорить, что старший матрос или там боцман косо на нее смотрит и обо всем догадывается, что она не хочет терять места, и все такое прочее. Наверное, тогда я и понял, в чем тут дело, и стал соображать. На испанку-то мне было наплевать, хотя самолюбие взыграло. Но были вещи посерьезней, и я размышлял всю ночь. Той же ночью я снова увидел, как Петрона прошмыгнула в каюту Перейры.
На следующий день я изловчился поговорить со стариком Ферро. Я уже давно не думал на него, но хотел быть уверен. Он повторил мне, с подробностями, что едет во Францию к дочери, которая вышла за французишку и народила кучу детей. Старик хотел увидеть внуков, прежде чем протянет ноги, и таскал бумажник, набитый семейными фотографиями. Перейра появился поздно, заспанный. Опять… А Ламас таскался с французским самоучителем. Ну и компания! Так продолжалось почти до прихода в Марсель. Я только прижал Петрону раз или два в коридоре, но так и не добился, чтобы она пришла в мою каюту. Даже не вспоминала про обещанные деньги, хотя я напоминал ей каждый раз. Она воротила нос, слыша о песо, которые я ей задолжал, и я понял, что был прав, и все стало ясненько. Вечером накануне прибытия я встретил ее на палубе – дышала воздухом. Рядом был Перейра, увидел меня и сделал вид, что он тут ни при чем. Я выждал и в час, когда уже пора было идти спать, загородил дорогу испаночке, которая куда-то торопилась.
– Придешь?- спросил я, погладив ее по мягкому месту. Она отпрянула, будто черта увидела, но потом решила притвориться.
– Не могу, – сказала она.- Я же тебе объясняла – за мной следят.
Хотел дать ей по морде, чтобы не принимала меня за младенца, но сдержался. Было уже не до шуток.
– Скажи-ка, – спросил я, – ты уверена в том, что сказала про Перейру? Смотри, это очень важно. Может быть, ты не рассмотрела?
Я видел в ее глазах и боязнь, и желание рассмеяться.
– Да нет же, я ведь сказала тебе, что у него ничего нет. Ты что, хочешь, чтобы я снова к нему пошла ради проверки?
И улыбалась, сукина дочь, за губошлепа меня принимала. Я ее стукнул легонько и вернулся в каюту. Теперь уж мне было все равно, пойдет Петрона к Перейре или нет.
Утром чемодан был уже уложен, и все, что нужно, – в широком поясе. Французик буфетчик фурыкал немного по-испански и объяснил мне, что в Марселе полиция поднимается на борт и проверяет документы. Только после этого разрешают сойти на берег. Мы все встали в очередь и по одному показывали бумаги. Я дал сначала пройти Перейре, а когда оказались на другой стороне, взял его за руку и пригласил в свою каюту на глоток каньи. Он ее уже распробовал и поэтому сразу согласился. Я закрыл дверь на задвижку и посмотрел ему в глаза.
– А канья? – спросил он, но когда увидел, что у меня в руке, побледнел и отпрянул назад. – Не будь зверем… Из-за той девки… – успел он сказать.
Каюта оказалась тесной, пришлось перешагнуть через покойника, чтобы выкинуть нож в воду. Хотя уже было ясно, что это ни к чему, я наклонился посмотреть, не соврала ли Петрона. Подхватил чемодан, закрыл каюту на ключ и вышел. Ферро уже был на берегу и орал мне что-то на прощанье. Ламас ждал своей очереди молча, как всегда. Я подошел к нему и сказал пару слов на ухо. Думал, он с катушек свалится, но это только показалось. Он подумал немного и согласился. Я-то был уверен, то он согласится. Тайна за тайну, и оба сдержали слово. О нем я больше ничего не слышал после того, как он устроил меня у своих друзей-французишек. Через три года я уже смог вернуться. Так тянуло в Буэнос-Айрес…
Лилиана плачет
Хорошо еще, что это Рамос, а не посторонний врач, с ним-то давно уговор, я знал, что, когда наступит час, он скажет или хотя бы даст понять, не говоря всего. Бедняге было тяжело, ведь пятнадцать лет дружбы, и ночи за покером, и уик-энды за городом, но он таки сказал, а в решительный час, между мужчинами, это лучше, чем больничные враки, подкрашенные, как пилюли или розовая водичка, которую капля за каплей вливают в твои вены.
Три или четыре дня. Он может и не говорить, я знаю, он избавит меня от того, что зовется агонией, когда псу дают подохнуть своей смертью. Кому это нужно? На него можно положиться, последние пилюли по-прежнему будут зелеными или красными, но внутри – совсем другое, великий сон, заранее ему благодарен, а он, в изножье постели, смотрит на меня с потерянным видом, потому что правда опустошила его, беднягу. Не говори ничего Лилиане, зачем расстраивать ее раньше времени. Вот Альфредо – да, ему можешь сказать, чтобы освободился немного от работы и занялся Лилианой и мамой. И будь другом, скажи сиделке, чтобы не мешала мне писать, это единственное, что позволяет мне забыть о боли, кроме твоей великолепной фармакопеи, разумеется. Да, и пусть приносят кофе, когда прошу, уж больно строгие порядки в этой клинике.
Это точно, водишь пером и успокаиваешься, потому, наверное, и осталось столько писем от приговоренных к смерти. Меня даже развлекает выстраивать на бумаге такое, о чем подумаешь – и сразу комок в горле, не говоря уж о секреции слезных желез; в словах я вижу себя со стороны, могу вообразить что угодно, если только запишу тотчас, это вроде профессионального извращения, а может быть, мозги начинают размягчаться. Я прерываюсь, только когда приходит Лилиана, с остальными я не очень-то любезен, они заботятся, чтобы я поменьше разговаривал, и я предоставляю им рассказывать, холодно ли на улице и победит ли Никсон Макговерна, не выпуская карандаша из рук, предоставляю им говорить, и даже Альфредо замечает и говорит, мол, продолжай, не обращай внимания – у него газета и он еще посидит. Но жена не заслуживает такого, ее я слушаю и улыбаюсь ей, и боль отступает, принимаю ее влажный поцелуй снова и снова, хотя с каждым днем устаю все больше, когда меня бреют, и, наверное, я колю тебе губы, бедная моя. Нужно сказать, что мужество Лилианы – главное мое утешение; увидеть себя уже мертвым в ее глазах – значит, лишиться последних сил, которых едва хватает, чтобы говорить с ней и отвечать иногда на поцелуи, чтобы писать, едва она уйдет и начнется рутина уколов и ласковеньких слов. Никто не решается заглянуть в мою тетрадь, я знаю, что могу сунуть ее под подушку или в тумбочку, такой уж у меня каприз, не надо ему мешать, раз сам доктор Рамос… конечно не надо, бедняжка отвлекается этим.
Значит, в понедельник или вторник. А местечко в склепе – в среду или четверг. В разгар лета на Чакарите – как в печке, и ребятам придется не сладко, вижу Пинчо в двубортном пиджаке с накладными плечами, которые так забавляют Акосту, но и сам Акоста, привыкший к курткам, вынужден томиться в костюме, при галстуке, чтобы проводить меня в последний путь, на это стоит посмотреть. И Фернан-дито, словом, вся троица, и еще, конечно, Рамос, до самого конца, и Альфредо – ведет под руки Лилиану и маму и плачет вместе с ними. И это искренне, я знаю, как они меня любят, как меня будет недоставать им; они пойдут не так, как мы ходили на похороны толстяка Тресы – компанейские обязанности, проведенный вместе отпуск,- лишь бы исполнить свой долг перед семьей да поскорей вернуться к жизни и все забыть. Конечно, у них будет зверский аппетит, особенно у Акосты, которого в жратве никто не одолеет; но все они скорбят и проклинают эту бессмыслицу – умирать молодым, в расцвете сил, потом – всем известная реакция, удовольствие вновь войти в метро или вновь сесть в машину, принять душ и поесть с аппетитом и угрызениями совести одновременно, ведь голод не исчезает от бессонных ночей, от запаха цветов у гроба, бесконечных сигарет и прогулок по тротуару, это вроде отыгрыша, всегда так бывает в эти минуты, и я никогда не отказывался, к чему лицемерить. Приятно вообразить, что Фернандито, Пинчо и Акоста отправятся вместе в паррилью [4], конечно же, они пойдут вместе, потому что так уже было после похорон толстяка Тресы, друзья должны еще побыть вместе, распить кувшин вина, съесть блюдо потрохов; черт возьми, я прямо вижу их: Фернандито первым отмочит шутку и закусит ее добрым куском колбасы, раскаиваясь, но уже поздно, Акоста покосится на него, но Пинчо не удержится от смеха, это выше его сил, и тогда Акоста, который вообще-то добряк, скажет себе, что незачем корчить святошу, и тоже посмеется перед тем, как закурить. И долго будут говорить обо мне, и вспомнят столько всего о жизни, что нас четверых соединяла, были, как водится, и пробелы, моменты, в которые мы не были вместе и которые возникнут вдруг в памяти Акосты или Пинчо, ведь столько лет, и ссоры, и интрижки, наша компания. Им будет трудно расстаться, потому что тогда-то и вернется к ним реальность, время расходиться по домам – последние, окончательные похороны. С Альфредо будет не так, и не потому, что он не из нашей компании, вовсе нет, но Альфредо должен позаботиться о Лилиане и маме, а этого ни Акоста, ни другие сделать не смогут, жизнь создает особые связи между друзьями, все бывали в нашем доме, но Альфредо – особый случай, всегда так хорошо при нем, всегда он рад задержаться, болтая с мамой о цветах и лекарствах, повести моего Почо в зоопарк или в цирк; готовый всем услужить холостяк – коробка пирожных и партия в карты, когда маме нездоровится, робкая и чистая симпатия к Лилиане – товарищ из товарищей, которому придется теперь жить эти два дня, скрывая слезы, он, возможно, отвезет Почо к себе на дачу и тотчас вернется, чтобы быть с мамой и Лилианой до последнего. В довершение всего ему придется быть мужчиной в доме и взять на себя все хлопоты, начиная с похоронного бюро, ведь это должно произойти как раз, когда мой старикан разъезжает по Мексике или Панаме, еще неизвестно, успеет ли бедняга приехать, чтобы терпеть полуденный зной на Чакарите, так что именно Альфредо поведет Лилиану – не думаю, что маме позволят пойти, – поведет Лилиану под руку, чувствуя, как сливается ее дрожь с его собственной, шепча ей все то, что я нашептывал жене толстяка Тресы, бесполезные и такие нужные слова – не утешение, и не пустая болтовня, и даже не святая ложь, просто ты здесь, и это уже много.
И для них тоже самым худшим будет возвращение, перед этим – ритуал и цветы, есть еще связь с этой непостижимой вещью со множеством ручек и позолоты, остановка перед склепом, четко исполненное профессионалами действо, но потом – наемный автомобиль, и особенно дом, возвратиться домой, зная, что день застынет стоячей водой без телефонных звонков и клиники, без голоса Р амоса, продлевающего надежду Лилианы, Альфредо сварит кофе и скажет ей, что малышу хорошо на даче, ему понравились пони и он играет с деревенскими ребятишками, придется заняться мамой и Лилианой, но ведь Альфредо знает все в доме и, конечно же, он проведет бессонную ночь на кушетке в моем кабинете, как раз там, где мы однажды уложили Фернандито – жертву невезения в покер и коньяка, которым он пытался утешиться. Уже столько недель Лилиана спит в одиночестве, и, наверное, ее одолеет усталость. Альфредо не забудет дать успокоительное Лилиане и маме, тетя Сулема подаст мансанилью и липовый чай, Лилиана постепенно забудется сном в тишине дома, заботливо запертого Альфредо перед тем, как улечься на кушетке и закурить еще одну сигару – он не решается курить при маме, потому что она кашляет от дыма.
Хоть это хорошо, Лилиана и мама не будут так одиноки и не окажутся в еще худшем одиночестве – при дальней родне, которая заполняет осиротевший дом; останется тетя Сулема, которая жила на верхнем этаже, и Альфредо, который всегда неприметно был с нами, друг со своим ключом; в первые часы, наверное, уж лучше ощущать безвозвратное отсутствие, чем терпеть лавину объятий и словесных излияний, Альфредо позаботится об их покое, забежит Рамос взглянуть на маму и Лилиану, поможет им уснуть и оставит таблетки тете Сулеме. Вот, наконец, в сумраке затихнет дом, только перезвон курантов на церкви да радио вдали, потому что квартал тихий. Хорошо думать, что будет так, что, отдаваясь понемногу оцепенению без снов, Лилиана потянется медленно, по-кошачьи, одна рука затеряется в мокрой от слез и одеколона подушке, другая – по детской привычке – у рта. Так хорошо вообразить ее такой, Лилиану спящей, Лилиану в конце черного туннеля, смутно ощущающей, что нескончаемое сегодня отходит во вчера, что этот свет в занавесках уже не тот, что бил с размаху в грудь, когда тетя Сулема открывала коробки, из которых выползала вся чернота одежд и вуалей, смешиваясь на кровати с яростным плачем – последним, бесполезным протестом против того, чему еще предстояло свершиться. Свет из окна придет к Лилиане раньше всего, еще до размытых сном воспоминаний, которые только смутно пробьются сквозь последнее забытье. В одиночестве, зная, что она действительно одинока в постели и в комнате, в этом дне, что начинается по-новому, Лилиана сможет наплакаться, уткнувшись в подушку, и ничьи утешения не помешают ей выплакать слезы до конца, и только много позже, когда обманчивый полусон будет удерживать ее в путанице простынь, пустота дня начнет заполняться: запах кофе, раздвинутые шторы, тетя Сулема, голос Почо в трубке, который сообщает дачные новости о подсолнухах и лошадях, о пойманном после долгой борьбы соме, о занозе в ладошке, но это не страшно, у дона Контрераса ему смазали ранку самым лучшим лекарством. И Альфредо ждет в гостиной с газетой в руках, он скажет, что мама спала хорошо и что Рамос зайдет в двенадцать, потом предложит поехать после обеда повидать Почо, от такой жары стоило сбежать на дачу, можно было бы и маму захватить, ей пойдет на пользу свежий воздух, а можно остаться на даче до понедельника, почему бы и не всем, Почо так будет им рад. Согласиться или нет – совершенно все равно, все это знают и ждут ответа, который будет дан самим ходом вещей, потом нехотя пообедать или поговорить о забастовке текстильщиков, попросить еще кофе, подойти к телефону, который уже пришлось включить, телеграмма свекра из-за границы, грохот столкнувшихся на перекрестке машин, крики и свистки, за стенами – шумный город, уже половина третьего, уехать с мамой и Альфредо за город, потому что все-таки заноза в ладошке, с мальчишками все что угодно может случиться, Альфредо за рулем, успокаивает их, ведь дон Контрерас опытней любого врача в таких вещах, улицы пригородов, и солнце, как кипящий сироп, и спасение от него в просторных побеленных комнатах, мате в пять часов, и Почо со своим сомом, который начинает попахивать, но такой красивый, такой огромный, пришлось помучиться, чтобы вытянуть его из протоки, мама, он чуть леску не перекусил, посмотри, какие у него зубы. Все равно что листать альбом или смотреть кино, череда изображений и слов заполняет пустоту, вот попробуйте, сеньора, какое жаркое получилось у Кармен, нежирное и такое вкусное, еще немного салата, и все, спасибо, больше не надо, в такую жару лучше есть поменьше, принести инсектицид, ведь уже появились комары. И Альфредо рядом, молчит, но ведь тут Почо, и его рука гладит Почо, ну, старик, ты чемпион по рыбной ловле, завтра соберемся пораньше, может, и мне повезет, говорят, тут один местный житель вытащил рыбину на два килограмма. Здесь под навесом хорошо, мама сможет поспать немного в качалке, если захочет, дон Контрерас был прав, уже зажила у тебя ладошка, покажи нам, как ты ездишь на пегом пони, посмотри, мама, как я скачу, пойдем завтра с нами на рыбалку, я тебя научу, вот увидишь; красное солнце и сомы в пятницу, Почо и сын она Контрераса бегают взапуски, похлебка в полдень, и мама неспешно помогает чистить початки, дает советы насчет ужасного кашля дочери Кармен, сиеста в пустых комнатах, пахнущих летом, жестковатые простыни, сумерки под навесом и костер от комаров, ненавязчивое соседство Альфредо, эта его манера быть рядом и приглядывать за Почо, за тем, чтобы все было удобно, даже сама тишина, вовремя прерываемая его голосом, его рука подает стакан воды или платок, включает радио, чтобы послушать последние известия – забастовки и Никсон, исход можно было предугадать, ну и страна.
Вот уже воскресенье, на ладони Почо едва заметен след занозы, в Буэнос-Айрес вернулись рано утром, до жары, Альфредо довез их до дому и поехал встречать свекра, Рамос тоже был в аэропорту Эсейса, и Фернандито помог в эти часы встречи, потому что лучше, если побольше друзей соберется в доме, в девять – Акоста со своей дочерью, которая могла бы поиграть с Почо наверху, у тети Сулемы, все шло как-то приглушенно, вроде бы повторялось, но иначе, Лилиана заставляет себя думать больше о стариках, чем о самой себе, сдерживается, и Альфредо с ними, и Акоста, и Фернандито – уводят разговор в сторону, толкутся, чтобы помочь Лилиане, убеждают отца, чтобы пошел отдохнуть после такого путешествия, расходятся по одному, пока не остаются только Альфредо и тетя Сулема, дом в тишине, Лилиана соглашается принять таблетку, позволяет увести себя в спальню, не расслабилась ни на минуту, почти мгновенно засыпает, будто до конца исполнив нечто важное. С утра – беготня Почо в гостиной, шарканье домашних туфель старика, первый телефонный звонок, почти всегда это Клотильда или Рамос, мама жалуется на жару или на сырость, обсуждает обед с тетей Сулемой, в шесть – Альфредо, иногда – Пинчо со своей сестрой или Акоста, чтобы Почо поиграл с его дочерью, коллеги из лаборатории требуют, чтобы Лилиана вернулась на работу, а не сидела дома взаперти, пусть она сделает это ради них, им не хватает химиков и помощь Лилианы необходима, пусть приходит хотя бы на полдня, пока не воспрянет духом; в первый раз Альфредо ее отвез, Лилиане что-то мешало сесть за руль, потом не захотела быть обузой и сама вывела машину, иногда по вечерам водила Почо в зоопарк или в кино, в лаборатории ей благодарны за помощь с новой вакциной, вспышка эпидемии на побережье, уже до поздней ночи на работе, и ей это нравится, бешеная гонка со всей командой до Росарио, с двадцатью коробками ампул, дело сделано, мы молодцы; Почо – в школе, и Альфредо возмущается, малышам теперь совсем не так преподают арифметику, просто теряешься от его вопросов, а старики за домино – в наши времена все было иначе, Альфредо, нас учили каллиграфии, а вот посмотрите, как мазюкает этот мальчишка, до чего мы так докатимся. Тихая радость – смотреть на Лилиану, затерявшуюся в подушках софы, просто взглянуть на нее поверх газеты и видеть ее улыбку молчаливого сообщника, поддакивает старикам, издалека улыбается ему, как девочка. Но впервые это настоящая улыбка, из глубины, как тогда в цирке, с Почо, который выправился в школе, и его повели есть мороженое и гулять в порту. Наступают холода, Альфредо приходит уже не так часто, потому что в профсоюзе много работы, приходится выезжать в провинцию, иногда заходит Акоста со своей дочерью, а по воскресеньям – Пинчо или Фернандито, ничего это особенно не значит, у всех дела, а дни короткие, Лилиана приходит из лаборатории поздно и помогает Почо, заблудившемуся в десятичных дробях или в бассейне Амазонки, в конце концов остается один Альфредо, приносит подарки старикам. Неизъяснимое спокойствие – усесться рядом с ним у огня поздно вечером и говорить про положение в стране, о мамином здоровье, ладонь Альфредо ложится на руку Лилианы, ты слишком устаешь, не очень хорошо выглядишь, благодарная улыбка возражает, как-нибудь поедем на дачу, не навечно же эти холода, ничто не может длиться вечно, даже если Лилиана медленно убирает руку и тянется за сигаретами на столике, слова почти не имеют смысла, глаза встречаются как-то иначе, пока ладонь снова не скользнет к руке, пока не соединятся головы, и долгое молчание, поцелуй в щеку.
Что тут говорить, так уж случилось, и говорить тут не о чем. Нагнуться, чтобы зажечь ей сигарету, которая дрожит в ее пальцах, просто ждать молча, возможно, зная, что слов и не может быть, что Лилиана постарается проглотить дым и, всхлипнув, выпустит его, что из других времен возникнут приглушенные рыдания, она не отстранит лица от лица Альфредо, подчиняясь и безмолвно плача, теперь уже только для него, о всем том, другом, что он знает. Излишне нашептывать то, что и так ясно, Лилиана плачет, и это конец, тот край, с которого должна начаться новая жизнь. Если бы успокоить, если бы вернуть ее к спокойствию было так же просто, как написать это словами, что выстраиваются в тетради застывшими мгновениями, маленькими зарисовками времени, помогающими нескончаемому ходу дня, о, если бы так было, но приходит ночь, а с нею и Рамос, немыслимое лицо Рамоса вглядывается в только что сделанные анализы, нащупывает мой пульс на одной, на другой руке, он не способен притворяться, срывает простыни, чтобы осмотреть меня, голого, ощупывает мой бок, непонятный приказ сиделке, медленный, придирчивый осмотр, при котором я присутствую как бы со стороны, почти усмехаюсь, зная, что не может быть, что Рамос ошибается, что это неправда, что правда – другое, срок, который он от меня не скрыл, и все же – смешок Рамоса, его манера ощупывать меня, как будто никак не может убедиться в этом, его абсурдная надежда, да мне никто не поверит, дружище, и я принуждаю себя признать, что, может, и так, кто его знает, смотрю на Рамоса, который выпрямляется, смеется, отдает распоряжения таким голосом, какого я никогда не слышал у него здесь, в полумраке и полусне, приходится убеждать себя понемногу, что да, что только придется попросить его, когда уйдет сиделка, попрошу его подождать немного, подождать хотя бы до рассвета, прежде чем сказать Лилиане, прежде чем вырвать ее из этого сна, в котором она впервые не одинока больше, из этих рук, обнимающих ее во сне.
Место под названием Киндберг
Название Киндберг можно перевести без затей как детская гора или представить себе доброй горою, приветливой горою, так или иначе Киндберг – городок, куда приезжаешь вечером, под дождем, который бешено бьется о ветровое стекло, старый отель с широкими низкими галереями, где все устроено так, чтобы ты не вспоминал о том, что продолжает колотиться и шуршать снаружи, в конце концов, место как место, тут можно переодеться, почувствовать, как хорошо быть под крышей; и суп в большой серебряной супнице, белое вино, ломаешь хлеб и первый кусок даешь Лине, которая принимает его в раскрытую ладонь, точно драгоценный дар, а оно и в самом деле так, и почему-то дует на него, бог весть почему, но приятно смотреть, как челочка Лины подрагивает и чуть-чуть отлетает вверх, словно дуновение, отраженное рукой и хлебом, поднимает занавес крохотного театра, словно теперь перед глазами Марсело на сцену выбегут мысли Лины, картины и воспоминания, теснящиеся в голове Лины, которая, совершенно счастливая, солнечно сияя, смакует соблазнительный суп.
Но нет, гладкий и светлый лоб не меняется, поначалу только голос роняет частицы ее существа, позволяет в первом приближении набросать образ Лины: к примеру, она чилийка, и эта тема Арчи Шеппа, которую она то и дело напевает, слегка обкусанные, но очень чистые ногти по контрасту с одеждой, грязной от автостопа, от ночевок на фермах и в общежитиях молодежи. Молодежь, смеется Лина, смакуя суп, как довольный медвежонок, ручаюсь, что ты и не представляешь, какая она
эта молодежь: окаменелости, ходячие трупы, знаешь, как в том фильме ужасов у Ромеро.
Марсело чуть было не спросил, кто такой Ромеро, первый! раз слышу об этом Ромеро, но лучше пусть говорит, забавно наблюдать ее счастье от горячей еды, как перед тем ее радость в комнате, где, треща, пылая, ждет камин, они заключены в прозрачный пузырь буржуазного довольства, обеспеченный! бумажником приезжего с деньгами, и дождь бьет о стенки этого пузыря, как сегодня под вечер он бился о белое-белое лицо Лины, стоящей на краю дороги при выходе из леса в сумерках, ну и место для автостопа, и однако же, еще немножко супа, медвежонок, давай ешь, тебе надо уберечься от ангины, волосы еще влажные, но камин уже ждет, пылая, треща, в комнате с огромной кроватью эпохи Габсбургов, с зеркалами до полу, со столиками, бахромой, тяжелыми шторами, ну-ка скажи, отчего ты торчала там под дождем, твоя мама хорошенько бы тебя отшлепала.
Трупы, повторяет Лина, лучше ехать одной, ну конечно, если идет дождь, но ты не думай, этот плащ и вправду непромокаемый, только вот капельку волосы и ноги, и все, на всякий случай можно принять аспирин. И пока уносят пустую хлебницу и ставят другую, полнехонькую, куда медвежонок сразу же запускает лапу, и ой какое вкусное масло, а ты что делаешь, почему раскатываешь в такой потрясной машине, а почему ты, надо же, ты аргентинец? Оба соглашаются, что случай работает исправно, конечно же, уместно вспомнить, что если за восемь километров до того Марсело не остановился бы у придорожного кафе, девочка-медвежонок сидела бы теперь в другой машине или еще мокла бы в лесу, я агент по продаже сборных конструкций, это такое дело, что приходится много ездить, но сейчас у меня целых две обязанности. Медвежонок слушает внимательно, почти сурово, что такое сборные конструкции но конечно, это скучная тема, что тут поделаешь, ведь не скажешь, что ты укротитель хищников, или кинорежиссер, или Пол Маккартни. У нее резкие повадки насекомого или птицы хотя она девочка-медвежонок, подрагивающая челка, то и дело эта музыкальная фраза Арчи Шеппа, у тебя есть пластинки, то есть как, а-а, ну ладно. Вдруг сообразила, иронически думает Марсело, что для него было бы нормально не иметь пластинок Арчи Шеппа, и это глупо, потому что они у него и вправду есть и иногда он слушает их вместе с Марлене в Брюсселе, только не умеет вжиться в них так, как Лина, которая, проглотив кусок и неся ко рту другой, вдруг промурлычет обрывок мелодии, и ее улыбка полна блаженством от free-jazz[5] и гуляша, промокшая девочка-медвежонок посреди дороги, мне еще никогда так не везло, ты добрый. Добрый и разумный, в отместку напевает Марсело, всхлип аккордеона, но мяч улетает в аут, это другое поколение, это девочка-медвежонок Шепп, танго уже не в моде, такие-то дела.
Понятно, остается еще зуд, почти болезненно-сладкая спазма тех минут, когда они въехали в Киндберг, гостиничная автостоянка в огромном древнем ангаре, старуха освещает им путь старинным, под стать всему, фонарем, Марсело – чемоданчик и портфель, Лина – рюкзак и хлюпающие кеды, приглашение поужинать, принятое перед Киндбергом, мы сможем немножко поболтать, ночь и пулеметные очереди дождя, куда уж ехать дальше, давай остановимся в Киндберге, приглашаю тебя поужинать, ой, конечно, спасибо, как здорово, ты пообсохнешь, лучше всего остаться здесь до утра, дождик, злись, как хочешь, нас ты не замочишь, ой, конечно, сказала Лина, и тогда стоянка, гулкие готические галереи, ведущие к конторе, как тепло в этом отеле, какое везенье, последняя капелька стекает с челки, рюкзак на плече, девочка-медвежонок, герл-скаут с добрым дядей, я сейчас возьму комнаты, чтобы ты немножко обсушилась перед ужином. И зуд, почти спазма там, внизу, Лина смотрит на него всей челкой, комнаты, какая ерунда, бери одну. И он не глядит на нее, но этот приятнонеприятный зуд, значит, то самое, значит, вот что тебя ждет, значит, медвежонок, суп, камин, значит, еще одна, везет же тебе, старик, ведь она прехорошенькая. Но потом, наблюдая, как она вытаскивает из рюкзака сухие джинсы и черный свитер, поворачивается спиной, болтает о пустяках, какой камин, как от него пахнет, какой душистый огонь, разыскивая для нее аспирин в глубине чемодана среди витаминов, и дезодорантов, и лосьонов после бритья, и докуда ты думаешь добраться, не знаю, у меня есть письмо к компании хиппи в Копенгагене, рисунки, которые мне дала Сесилия в Сантьяго, она сказала, что это отличные ребята, атласные ширмы, и Лина развешивает мокрую одежду, без церемоний вытряхивает содержимое рюкзака на позолоченный столик времен Франца-Иосифа с арабесками, Джеймс Болдуин, бумажные салфетки, пуговицы, темные очки, картонные коробочки, Пабло Неруда, женские пакетики, карта Германии, какая я голодная, Марсело, мне нравится твое имя, оно хорошо звучит, я голодная, тогда идем ужинать, в конце концов, под душем ты уже побывала, потом наведешь порядок в своем рюкзаке, Лина резко поднимает голову и смотрит на него: Я никогда не навожу порядка, к чему, рюкзак – он, как я сама, как это путешествие, как политика, все вперемешку и без разницы. Соплячка, думает Марсело, спазма, почти зуд (дать ей аспирин перед кофе, так подействует быстрее), но ей мешали эти словесные преграды, эти ты такая молодая и как ты ездишь вот так, одна, посреди супа она рассмеялась: молодежь, окаменелости, ходячие трупы, знаешь, как в этом фильме Ромеро. И гуляш, и потихоньку от тепла, от того, что девочка-медвежонок опять такая довольная, от вина зуд в животе уступает место какой-то радости, ощущению покоя, пусть говорит глупости, пусть продолжает объяснять свой взгляд на мир, который, пожалуй, был когда-то и его взглядом, но теперь к чему это вспоминать, пусть смотрит на него из своего театрика под челочкой, вдруг серьезная, даже озабоченная, и потом тут же Шепп и слова: как хорошо сидеть вот так, сухой, внутри уютного пузыря, а вот один раз в Авиньоне я пять часов ждала попутку, ветер был такой, что рвал крыши с домов, я видела, как птица разбилась о ствол дерева, знаешь, она упала, как платок; перец, пожалуйста.
Значит (пустое блюдо уже унесли), ты думаешь этак следовать до Дании, но у тебя есть хотя бы немножко денег, а? Конечно, я буду ехать дальше, ты не ешь салат? тогда дай его мне, я все еще не наелась, она складывает листья вилкой и жует не спеша, мурлыча тему Шеппа, и время от времени маленький серебристый пузырек лопается на влажных губах, красивый, четко очерченный рот кончается как раз там, где надо, эти рисунки времен Возрождения, осенняя Флоренция с Марлене, эти рты, которые любили рисовать гениальные мужеложцы, рты секретно сластолюбивые, своевольные и так далее, тебе уже ударил в голову рислинг семьдесят четвертого года, пока ты слушал ее слова, пробивающиеся сквозь жевание и мурлыкание, не знаю, как мне удалось кончить философский в Сантьяго, мне хотелось бы столько прочесть, как раз теперь время начинать читать. Да уж, разумеется, бедная девочка-медвежонок, столько радости от салата и от планов проглотить за шесть месяцев всего Спинозу вперемешку с Алленом Гинзбергом и конечно же Шеппом, много еще общих мест прозвучит до появления кофе (не забыть дать ей аспирин, мне не хватало только, чтобы она расчихалась, соплячка с мокрыми волосами, все лицо – одна прилипшая челка, дождь щупает ее на краю дороги), но параллельно между Шеппом и последними глотками гуляша все понемногу словно бы начало медленно кружиться, меняться, все те же фразы, Спиноза, Копенгаген и в то же время все иначе. Лина напротив него ломает хлеб, пьет вино, смотрит такая довольная, далеко и близко одновременно, меняясь с кружением ночи, хотя далеко и близко – это не объяснение, тут что-то другое, какой-то показ, Лина показывает ему что-то иное, не Саму себя, но что же тогда, позвольте спросить.
И две тонюсенькие пластинки швейцарского сыра, почему ты не ешь, Марсело, он чудесный, ты ничего не ел, вот глупый, такой важный господин, как ты, ты ведь важный господин, да? сидишь себе куришь, брови хмуришь и ничего не ешь, знаешь, может, еще немножко вина, хочешь, а? потому что под этот сыр, ты понимаешь, надо же его запить, пусть утрясется, ну давай поешь капельку; еще хлеба, надо же, сколько хлеба я ем, мне всегда предсказывали, что я растолстею, да-да, то, что слышишь, у меня уже есть животик, хоть и незаметный, есть, честное слово, Шепп.
Бесполезно ждать, чтобы она заговорила о чем-нибудь осмысленном, да и к чему (ты ведь важный господин, да?), девочка-медвежонок перед великолепием десерта, она глядит ошеломленно и в то же время прикидывающе на тележку на колесиках, заставленную пирожными, компотами, взбитыми сливками, да, животик, ей предсказывали, что она растолстеет, именно так, вот это, где побольше крема, и почему тебе не нравится Копенгаген, Марсело, но Марсело не говорил, что ему не нравится Копенгаген, только немножко глупо странствовать вот так, под проливным дождем, неделю за неделей, с рюкзаком за спиной, чтобы, скорее всего, обнаружить, что хиппи бродят уже по Калифорнии, но разве ты не понимаешь, как это неважно, я же сказала, что не знаю их, я везу им рисунки, которые дали мне Сесилия и Маркое в Сантьяго, и пластинку «Mothers of Invention»[6], здесь нет проигрывателя? а то я бы тебе ее поставила. Наверное, уже слишком поздно, и не забудь, это Киндберг, если бы еще цыганские скрипки, но эти матери, только подумай, и Лина смеется, слизывая крем, со своим животиком под черным свитером, оба они смеются, представив себе вой этих матерей посреди Киндберга, и какое лицо будет у хозяина гостиницы, и это тепло, которое уже давно сменило зуд в животе, он спрашивает себя, не будет ли она капризничать, не ляжет ли в конце концов посреди постели легендарные меч, пусть даже подушка, и каждый по свою сторону, моральная преграда, современный меч, Шепп, ну вот, ты уже чихаешь, прими аспирин, вон несут кофе, я попрошу чуточку коньяку, он активизирует салициловую кислоту, это я знаю из надежных источников. И ведь вправду он не сказал, что ему не нравится Копенгаген, но девочка-медвежонок как будто поняла тон его голоса яснее, чем слова, как он сам с той учительницей, которую он был влюблен в двенадцать лет, что значили слова по сравнению с тем воркованием, с тем, что рождалось в душ при звуке ее голоса – тоска по теплу, желание, чтобы его укутали и гладили по головке, столько лет спустя психоанализ: печаль, ба, тоска по первичному лону, все в конце концов, начиная с первого «пошли», плавало на поверхности вод, читайте Библию, пятьдесят тысяч песо, чтобы избавиться от головокружений, и теперь эта соплячка, которая словно вытаскивает наружу куски его самого, Шепп, но естественно, если ты глотаешь его всухомятку, он застрянет у тебя в горле, глупышка. И она, с прилежанием помешивая кофе, вдруг поднимает на него серьезные глаза и смотрит с новым уважением, ну, если она начнет над ним смеяться, она поплатится вдвойне, да нет же, правда, Марсело, мне нравится, когда ты становишься вот таким добрым доктором, папочкой, не сердись, я всегда говорю, чего не надо, не сердись, да я и не сержусь, дурашка, нет, ты немножко рассердился, когда я назвала тебя доктором папочкой, это не в том смысле, но вправду ты выглядишь таким добрым, когда говоришь об аспирине, и, видишь, ты позаботился о том, чтобы его разыскать и принести, я уже и забыла, Шепп, а он мне так нужен, ты чуточку смешной, когда глядишь на меня, как доктор, не сердись, Марсело, какой вкусный этот коньяк вместе с кофе, как от него будет спаться, представляешь, и конечно же, с семи утра на шоссе, три легковых и грузовик, все вместе не так уж плохо, если бы только не гроза в конце, но тогда Марсело, и Киндберг, и коньяк, Шепп. И рука остается лежать тихо-тихо, ладонью вверх на скатерти, усыпанной крошками, когда он легонько погладил ее, говоря, что нет, он не сердится, потому что теперь он знал, что это так и есть, что он и вправду растрогал ее этим крохотным проявлением заботливости, таблеткой, которую с подробными инструкциями вытащил из кармана, побольше воды, чтобы она не застряла в горле, кофе и коньяк; и вдруг – друзья, совсем настоящие друзья, и огонь, наверное, еще больше нагрел комнату, а горничная уже откинула простыню углом, как несомненно всегда делают в Киндберге, старинная церемония, приветливое добро пожаловать усталым путникам, глупеньким медвежатам, которые хотят мокнуть до самого Копенгагена и потом, но какая разница, что потом, Марсело, я уже сказала, что не хочу связывать себя, нехочунехочу, Копенгаген – это как мужчина, которого встречаешь и оставляешь (а-а), день, который проходит сам по себе, я не верю в будущее, в моей семье говорят только о будущем, меня уже тошнит от будущего, и его тоже, когда дядя Роберто превратился ласкового тирана, чтобы заботиться о Марселито, оставшемся без отца, а он еще такой маленький, бедняжка, надо думать о завтрашнем дне, сынок, крошечная пенсия дяди Роберто, что нам надо – так это сильное правительство, сегодняшняя молодежь думает только о развлечениях, черт побери, вот в мое время, и девочка-медвежонок оставила лежать руку на скатерти, и почему так по-идиотски щемит сердце, почему вдруг в памяти Буэнос-Айрес тридцатых или сороковых годов, пусть лучше Копенгаген, да, лучше Копенгаген, и хиппи, и дождь на краю дороги, но он никогда не ездил автостопом, практически никогда, раз-другой перед тем, как поступить в университет, а потом у него уже завелись деньжата, хватало на портного, и все-таки он мог бы в тот раз, когда ребята договаривались вместе сесть на парусник, который шел три месяца до Роттердама, груз, остановки, и всего шестьсот песо или около того, немножко помогая команде, сколько удовольствия, ну конечно же едем, кафе «Рубин» на Онсе, конечно же едем, Монито, надо только достать шестьсот монет, а это непросто, жалованье расходится на сигареты, кое-когда на девочек, и вот однажды они перестали встречаться, больше не было разговоров о паруснике, надо думать о завтрашнем дне, сынок, Шепп. Ах, опять; иди, Лина, тебе надо отдохнуть. Слушаюсь, доктор, но только еще минутку, видишь, у меня еще остался коньяк на донышке, он такой теплый, попробуй, вот видишь, какой он теплый. И наверное, он сказал бог знает что и очень громко, уйдя в воспоминания о «Рубине», потому что Лина снова как будто угадала его мысли по голосу, угадала то, что на самом деле говорил его голос, а не то, что было произнесено вслух, вечные идиотские фразы про аспирин и тебе надо отдохнуть или зачем, к примеру, ехать в Копенгаген, когда теперь, пока белая и горячая ручка лежала под его рукой, все могло бы стать Копенгагеном, все могло бы стать парусником, если бы только шестьсот песо, если бы решимость, если бы поэзия. И Лина взглянула на него и потом быстро опустила глаза, как будто все это лежало здесь, на столе, среди крошек, уже мусор времени, как будто он рассказывал ей обо всем этом, вместо того чтобы повторять иди, тебе надо отдохнуть, не решаясь употребить более логичное множественное число, идем, пошли спать, и Лина, прихорашиваясь, вспоминала о каких-то лошадях (а может быть, коровах, он едва услышал конец фразы), о лошадях, что неслись по полю, как будто что-то их внезапно испугало: две белые и одна рыжая, в усадьбе моего дяди, ты не знаешь, каково это – скакать под вечер против ветра, возвращаться поздно, усталой, и, конечно, упреки, прямо как мальчишка, сейчас, погоди, только допью этот глоточек и иду, сейчас, глядя на него всей подрагивающей челкой, словно она мчалась на лошади там, в усадьбе, сопя носом, потому что коньяк такой крепкий, с ее стороны будет глупо прикидываться недотрогой, ведь это она сама в длинном черном коридоре, она сама, хлюпая кедами, такая довольная: две комнаты, какая ерунда, бери одну, конечно, отдавая себе отчет во всех смыслах этой экономии, зная все наперед, а может быть, она и привыкла так, ждет этого на исходе каждого этапа, но если в конце концов все иначе, поскольку не похоже, да, если в конце концов решительно – на диванчик в углу, ну, тогда, конечно, он отправится на диванчик, он же человек галантный, не забудь свой шарф, никогда еще не видела такой широкой лестницы, наверняка это был дворец, здесь жили графы и устраивали балы при свете канделябров и все такое, и двери, погляди только на эту дверь, да ведь это же наша, разрисована оленями и пастушками, прямо фантастика. И огонь, красные саламандры, ускользающие вверх, раскрытая широченная белоснежная постель и шторы, глушащие окна, ах, как хорошо, как чудесно, Марсело, как мы выспимся, погоди только, я покажу тебе пластинку, у нее изумительный конверт, им понравится, она здесь, на дне, вместе с письмами и картами, я не могла ее потерять, Шепп. Завтра покажешь, ты и вправду простудилась, лучше раздевайся поскорее, я потушу свет, так огонь будет ярче, ой, да, Марсело, какие угли, все кошачьи глаза разом, все кошки вместе, ты посмотри на искры, как хорошо в темноте, прямо жалко ложиться, и он вешает пиджак на спинку кресла, приближается к медвежонку, уютно свернувшемуся у камина, снимает туфли, наклоняется, чтобы сесть рядом с ней перед огнем, глядит, как отблески и тени пробегают по ее распущенным волосам, помогает ей снять блузку, отыскивает застежку лифчика, его губы вжались в голое плечо, руки пустились на охоту среди искр, маленькая соплячка, глупенький медвежонок, в какой-то миг они уже стоят обнявшись, голые, перед огнем, целуются, целуются, постель холодная, белая, и вдруг ничего, пламя охватывает их целиком, бежит по коже, губы Лины в его волосах, на его груди, руки скользят по спине, тела подчиняются общему ритму, познают друг друга, и еле слышный стон, прерывистое дыхание, но надо ей сказать, потому что это обязательно надо сказать, прежде чем огонь, прежде чем сон, надо сказать это: Лина, ты ведь не из благодарности, правда? – и руки, бродящие по спине, взлетают, как хлысты, к его лицу, к его горлу, цепляются, давят – гневные, безобидные, нежнейшие и гневные, крохотные и бешено сжимающие руки, почти всхлип, стон протеста и отрицания, и в голосе тоже ярость, как ты можешь, как ты можешь, Марсело, и тогда, ну все, тогда прекрасно, все прекрасно, прости, любимая, прости, мне надо было это сказать, прости, нежное прости меня, губы, новый огонь, розовые по краям ласки, пузырек, дрожащий у губ, фазы взаимного узнавания, молчания, когда все становится кожей или медленным струением волос, взметнувшиеся ресницы, отказ и настояние, бутылка с минеральной водой, которую пьют из горлышка, которая, утоляя общую жажду, переходит из одних губ в другие, ускользая из пальцев, что ощупывают ночной столик, зажигают свет, и этот жест прикрыть абажур трусиками, чем попало, и в золотом свете приняться разглядывать Лину, повернувшуюся спиной, девочку-медвежонка на боку, медвежонка лицом вниз, тонкую кожу Лины, а она просит сигарету, садится, откидывается на подушки, ты костлявый и такой волосатый, Шепп, погоди, я немножко тебя прикрою, если найду одеяло, вон оно, в ногах, кажется, края чуть обгорели, Шепп.
Потом медленное и низкое пламя в камине, в их телах, оно затухает, золотится, вода уже выпита, сигареты, университетские лекции – такая мерзость, мне было так скучно, лучшему я научилась в кафе, читала перед киносеансами, разговаривала с Сесилией и с Пиручо, а он слушает, «Рубин», так похоже на «Рубин» двадцать лет назад, Арльт, и Рильке, и Элиот, и Борхес, только вот Лина смогла, она села на свой парусник, отправившись в путь автостопом, она делает свои дневные переходы в «рено» и «фольксвагенах», девочка-медвежонок среди сухих листьев, капли дождя на челочке, но почему опять и опять этот парусник, этот «Рубин», она ничего о них не знает, она тогда еще даже не родилась на свет, маленькая сопливая чилийская девочка, бродяжка, Копенгаген, почему с самого начала, с супа и белого вина, сама того не зная, она бросала и бросала ему в лицо столько всего прошлого и потерянного, столько забытого и похороненного, столько напоминаний о паруснике за шестьсот песо, Лина, что полусонно глядит на него, соскальзывая все ниже на подушки, вздыхает, как довольный зверек, протягивает руки к его лицу, ты мне нравишься, костлявый, ты уже прочел все книги, Шепп, я хочу сказать, что с тобой хорошо, ты уже вернулся, у тебя такие большие и сильные руки и столько всего позади, но ты не старый. Значит, девочка-медвежонок увидела, что он жив несмотря на, живее, чем ребята ее возраста, трупы из фильма, как его там, Ромеро, под челочкой крохотный театрик теперь влажно соскальзывал в сон, глядя на него из-под опущенных век, еще раз нежно овладеть ею, чувствуя ее и одновременно прощаясь с нею, слушать ее полупротестующее бурчание, я хочу спать, Марсело, нет, так не надо, надо, любимая, надо, ее тело легонькое и твердое, напряженные ягодицы, взрыв, сразу же удвоенный, возвращенный, это не Марлене в Брюсселе, не женщины такие, как он, неторопливые, уверенные, которые прочли все книги, она – девочка-медвежонок, у нее своя манера принимать его силу и отвечать на нее, но потом, все еще на краю ветра, пронизанного дождем и криками, в свою очередь соскальзывая в полусон, вдруг понять, что это тоже парусник и Копенгаген, его лицо, уткнувшееся в грудь Лины, было лицом из «Рубина», из первых отроческих ночей с Мабель или с Нелидой, в квартире, одолженной Монито, бешеные эластичные вспышки и почти сразу же: давай прошвырнемся по центру, дай мне конфеты, вот будет, если мама узнает. Значит, даже вот так, даже в любви не исчезает это зеркало, смотрящее назад, старей портрет самого себя в молодости, который Лина ставит перед его глазами, лаская его, и Шепп, и давай спать, и, пожалуйста, еще глоток воды; это словно вдруг стать ею, смотреть на все ее глазами, невыносимо, нелепо, необратимо, и наконец сон среди последних ласковых слов и всех волос медвежонка, закутавших его лицо, как будто что-то в ней знало, как будто хотело все стереть, чтобы он снова проснулся Марсело, как он проснулся в девять утра, и Лина, сидя на диванчике, причесывалась и напевала, уже одетая для новой дороги, для нового дождя. Они почти не разговаривали, быстрый завтрак, сияет солнце, за много километров от Киндберга они остановились, чтобы еще раз выпить кофе, Лина – четыре куска сахара, ее лицо словно умытое, отсутствующее, выражение какого-то абстрактного счастья, и тогда – знаешь, не сердись, скажи, что не рассердишься, ну конечно нет, скажи мне все, если тебе что-нибудь надо,- и остановка как раз на краю общего места, потому что слова были уже наготове, как деньги в его бумажнике, ожидая, что их используют, вот-вот они вылетят, – когда рука Лины робко легла в его руку, челочка упала на глаза, и наконец вопрос: нельзя ли ей проехать с ним еще немножко, пусть им и не по пути, все равно, еще немножко проехать с ним, потому что ей так хорошо, чтобы все еще чуточку не кончалось, такое солнце, мы поспим где-нибудь в лесу, я покажу тебе пластинку и рисунки, только до вечера, если хочешь, и почувствовать, что да, что, конечно же, он хочет, что нет никаких причин, отчего бы ему не хотеть, и медленно отнять руку и сказать, что нет, лучше не надо, знаешь, здесь большой перекресток, ты легко найдешь машину, и девочка-медвежонок вся сжалась, словно ее нежданно ударили, стала далекая и наклонила лицо, грызя сахар, глядя, как он расплачивается и встает, приносит ей рюкзак, целует в голову, поворачивается спиной, исчезает, резко переключая скорости, пятьдесят, восемьдесят, сто десять, путь открыт для агентов по продаже сборных конструкций, путь без Копенгагена, полный только прогнивших парусников, что громоздятся в кюветах, все лучше и лучше оплачиваемых должностей, приглушенного буэнос-айресского говора в «Рубине», тени одинокого платана на повороте дороги, ствола, в который он врезается на скорости сто шестьдесят, уткнув лицо в руль, как Лина, когда она опустила голову, потому что именно так, опустив голову, грызут сахар девочки-медвежата.
Вечер «Мантекильи»
То была одна из блестящих идей Перальты, он не любил ничего разжевывать, но на сей раз немного отступил от своих правил и сказал, что это как история с украденным письмом. Эстевес поначалу не понял и уставился на него, ожидая, что последует дальше; Перальта пожал плечами, точно смиряясь с неизбежным, и протянул ему билет на бокс, Эстевес увидел крупную цифру 3, напечатанную красным на желтом фоне, а внизу – 235; но уже раньше, как не заметить этих букв, так и лезущих в глаза: МОНСОН – НАПОЛЕС. Второй билет передадут Вальтеру, сказал Перальта. Ты придешь туда до начала боев (он никогда не повторял своих инструкций, и Эстевес слушал, запоминая каждую фразу), а Вальтер появится в середине первого предварительного, у него место справа от тебя. Будь внимателен, знаешь, люди в последнюю минуту начинают перебегать, искать места получше, скажи ему что-нибудь по-испански, чтобы не сомневаться. Он придет с такой сумкой, какие носят хиппи, положит ее между вами, если там скамья, или на пол, если стулья. Разговаривай с ним только о боксе и заметь, кто сидит вокруг, наверняка там будут мексиканцы и аргентинцы, хорошенько следи за ними, когда будешь класть в сумку пакет. Вальтер знает, что сумка должна быть открыта? – спросил Эстевес. Да, ответил Перальта, словно сдувая муху с лацкана, только дождись финала, когда уже никто не будет отвлекаться. Глядя на Монсона, особенно не отвлечешься, сказал Эстевес. На «Мантекилью» – тоже, сказал Перальта. Запомни, никакой болтовни. Вальтер уйдет первым, ты подожди, пока основной народ пройдет, и выходи через другую дверь.
Он снова напоследок обдумал все это, пока ехал в метро до станции Дефанс, среди пассажиров, тоже, видно, направлявшихся на бокс, мужчины по трое, по четыре, французы, отмеченные печатью двойного поражения, которое Монсон нанес Буттье, жаждущие хотя бы частичного реванша, хотя бы неудачи Монсона, или втайне уже ставшие его болельщиками. Ну не гений ли Перальта – поручить ему это дело, наверное особо важное, раз исходит от «самого», и в придачу устроить так, что он сможет посмотреть потрясающую схватку – схватку для миллионеров. Эстевес уже понял намек на украденное письмо, кому придет в голову, что они с Вальтером встретятся на боксе, в сущности, дело было не в месте встречи, которую можно организовать в тысяче точек Парижа, но в дальновидности Перальты, который все так тщательно учел и взвесил. Те, кто станет следить за Вальтером или за ним самим, привыкли к встречам в кино, или в кафе, или в квартире, но сюда пускают лишь людей с большими деньгами, и если за ними кто-нибудь увяжется, тут он останется с носом – у входа в цирковой шатер, поставленный Аленом Делоном; сюда уж никто не войдет без желтой бумажки, а билеты распроданы неделю назад, об этом писали все газеты. И кроме того – еще один плюс Перальте,- если за ним или за Вальтером будут следить, не увидят вместе ни при входе, ни при выходе, просто два болельщика среди тысяч и тысяч, выносящихся, точно клубы дыма, из метро и из автобусов, идущих все гуще по мере того, как дорога становится общей для всех, а час начала приближается.
Ловко, Ален Делон: цирковой шатер, натянутый на пустыре, куда попадаешь по дощатому мостику и идешь дальше по наскоро уложенным доскам. Накануне вечером шел дождь, и люди старались не оступаться, шли по доскам, уже от выхода из метро ориентируясь по огромным стрелам, указывающим путь, с яркой крупной надписью: МОНСОН – НАПОЛЕС. Ловко, Ален Делон, он умудрился развесить такие стрелы даже на священной территории метро, хотя это стоит денег. Эстевесу был не по душе этот тип, его кичливая манера организовывать мировой чемпионат за свой счет, возводить шатер и драть с публики такие деньги, что закачаешься, но надо признать, он давал и кое-что взамен, помолчим о Монсоне и «Мантекилье», но тут еще и цветные стрелы в метро, и как он принимает людей на широкую ногу, указывает путь болельщикам, которые иначе устроили бы свалку на выходах и на пустырях, покрытых лужами.
Эстевес пришел, как было условлено, когда шатер был еще наполовину пуст, и, перед тем как предъявить билет, на минутку остановился и оглядел полицейские фургоны и огромные трейлеры, освещенные снаружи, но с темными занавесками на окнах, которые сообщались с шатром закрытыми галереями – такие ведут в реактивный самолет. Там боксеры, подумал Эстевес, белый трейлер поновее наверняка Карлитоса, этот уж не станет мешаться с прочими. Трейлер Наполеса, должно быть, стоял с другой стороны шатра, тут все по науке и притом сплошная импровизация, много брезента и трейлеры посреди пустыря. Вот так-то и делаются денежки, подумал Эстевес, нужна идея и много нахальства.
Его ряд, пятый от отгороженной зоны у ринга, представлял собой скамью с крупными, намалеванными краской цифрами, тут вежливости Делона приходил конец, потому что стулья стояли только в зоне у ринга, а остальное было как в цирке, причем в плохом, голые доски, хотя, что правда, то правда, молоденькие капельдинерши в мини-юбочках, взглянешь на них – и все недовольство мигом испаряется. Эстевес сам проверил, где его 235-е место, хотя девочка с милой улыбочкой указывала ему на номер, словно он не умел читать; он сел и стал листать газету, которую потом подложит под себя. Вальтер будет от него справа, поэтому Эстевес держал пакет с деньгами и бумагами в левом кармане пиджака; когда придет время, он вытащит пакет правой рукой, сразу же пронесет над коленями и незаметно опустит в открытую сумку рядом.
Ожидание затягивалось, было время подумать о Марисе и мальчонке, они сейчас, наверное, кончают ужинать, малыш клюет носом, а Мариса смотрит телевизор, А вдруг покажут эту встречу, Мариса увидит ее, но он не скажет, что был здесь, по крайней мере, сейчас, быть может, когда-нибудь, когда все поуспокоится. Он нехотя раскрыл газету (Мариса будет смотреть бой, смешно, что потом он не сможет ей ничего сказать, а как ему будет хотеться, особенно если она станет рассказывать ему про Монсона и Наполеса); пока он просматривал сообщения из Вьетнама и полицейские новости, шатер понемногу заполнялся, позади него группа французов обсуждала шансы Наполеса, слева чистенький брюзгливый тип, прежде чем усесться, долго и с ужасом разглядывал скамью, на которой суждено бесславно потерять вид его идеально отглаженным синим брюкам. Пониже сидели парочки и группы друзей, среди них трое, говоривших с акцентом, который мог быть мексиканским; хотя Эстевес не слишком-то разбирался в акцентах, здесь, наверное, пруд пруди болельщиков «Мантекильи», ведь претендент добивается не больше не меньше как отвоевать у Монсона мировой титул. Кроме места Вальтера, оставались пока и другие пустые места, но народ толпился у входов, и девочкам пришлось как следует попотеть, чтобы разместить всех. Эстевес нашел, что ринг освещен слишком ярко, а музыка слишком уж в стиле поп, но начиналась первая предварительная встреча, и публика не разводила критику, а с удовольствием следила за плохим боем, состоявшим из сплошных ударов головой и клинчей; к тому времени, когда Вальтер сел рядом, Эстевес пришел к заключению, что это ненастоящие любители бокса, по крайней мере, вокруг него: они готовы были, из чистого снобизма, проглотить любое дерьмо, лишь бы увидеть Монсона и Наполеса.
– Извините, – сказал Вальтер, втискиваясь между Эстевесом и толстухой, которая следила за боем, облапя своего мужа, тоже толстого, напускавшего на себя вид знатока.
– Устраивайтесь поудобнее, – сказал Эстевес.- Хотя оно и непросто, эти французы все делают в расчете на худых.
Вальтер посмеялся, а Эстевес тем временем легонько жал влево, чтобы не обидеть типа в синих брюках; в конце концов осталось место для того, чтобы Вальтер смог переложить синюю матерчатую сумку с колен на скамью. Шла вторая предварительная встреча, тоже плохая, зрители развлекались в основном тем, что происходило в зале: вот появилась большая группа мексиканцев в громадных шляпах, но одетых так, как и полагалось таким субчикам, которые могут зафрахтовать самолет и прилететь в Париж из Мехико болеть за «Мантекилью»,- все низенькие и широкие, с выступающими задами и лицами под Панчо Вилью, даже уж слишком типичные; они подкидывали шляпы в воздух, как будто Наполес был уже на ринге, кричали и спорили, рассаживаясь на стульях внутри огороженной зоны. Наверное, Ален Делон все предусмотрел, потому что из громкоговорителей вдруг как ни в чем не бывало полилось нечто вроде мексиканского корридо[7], мексиканцы не так чтобы его узнали. Эстевес и Вальтер обменялись ироническими взглядами, и в этот миг из самого дальнего входа выплеснулась толпа, предводительствуемая пятью-шестью женщинами в белых майках, поперек себя шире, вопящих: «Аргентина! Аргентина!», а шедшие за ними вздымали огромный национальный флаг, и вся эта толпа неудержимо перла вперед, мимо скамей и капельдинерш, намереваясь докатиться до самого ринга, где им наверняка сидеть не полагалось. В конце концов, крича и жестикулируя, они построились в ряд, и капельдинерши с помощью нескольких улыбающихся гориллоподобных типов, не переставая сыпать объяснениями, отвели их к двум полупустым скамьям; Эстевес увидел, что у женщин на спине маек огромными черными буквами было написано МОНСОН. Все это изрядно веселило публику, которую не слишком волновала национальность противников, раз они не французы, а третий бой шел между тем уже всерьез и на равных, хотя Ален Делон, судя по всему, не стал очень тратиться на мелких рыбешек, раз оба кита в своих трейлерах были уже наготове и лишь они одни интересовали публику.
Вдруг в воздухе как будто что-то переменилось, какой-то комок застрял в горле Эстевеса, из громкоговорителей полилось танго в исполнении оркестра, который вполне мог быть оркестром Пульезе. Только теперь Вальтер взглянул на него в упор и с явной симпатией, и Эстевес спросил себя, не соотечественник ли он. Они почти не разговаривали, только несколько замечаний насчет того, что происходило на ринге, может быть, он уругваец или чилиец, но никаких вопросов, Перальта говорил яснее ясного, просто двое встретились на боксе, и случайно оказалось, что оба говорят по-испански, вот и все.
– Ну, начинается, – сказал Эстевес. Все вставали с мест, несмотря на протесты и свист, слева кричащий людской водоворот, огромные шляпы взлетают вверх посреди громких оваций, «Мантекилья» поднимается на ринг, который вдруг словно освещается еще ярче, люди повернули головы направо, но там ничего не происходит, аплодисменты постепенно поутихли и перешли в выжидательный гул, со своих мест Вальтер и Эстевес не видели проход, ведущий к рингу с другой стороны, стало совсем тихо, и вдруг вопль – единственный сигнал, и белый халат возникает на фоне канатов, Монсон, стоя спиной, разговаривает со своими, Наполес идет к нему, они едва здороваются под вспышки магния, и судья ждет, когда спустят микрофон, люди постепенно усаживаются, последняя шляпа улетает очень далеко, ее откидывают в другую сторону, исключительно чтобы поиздеваться, запоздалый бумеранг, на который никто не обращает внимания, потому что теперь идут представления и приветствия, Жорж Карпентье, Нино Бенвенути, французский чемпион Жан-Клод Буттье, фотографии, аплодисменты, и ринг понемногу освобождается, мексиканский гимн, и опять шляпы летят в воздух, и наконец аргентинское знамя разворачивается в ожидании гимна, Эстевес и Вальтер не встают, хотя Эстевесу больно, но сейчас тут не место для таких выходок, по крайней мере, он удостоверился, что слишком близко от него нет соотечественников, группа с флагом пропела конец гимна, и сине-белое полотнище так энергично моталось из стороны в сторону, что гориллы на всякий случай подбежали поближе, голос объявляет имена и веса, секунданты уже за рингом.
– Ну, и какие прогнозы? – спросил Эстевес. Он занервничал, по-детски заволновался, когда перчатки коснулись одна другой в первом приветственном жесте, и Монсон лицом к ним, настороже, но не кажется, что он в защите, руки у него длинные и тонкие, фигура выглядит почти хрупкой против «Мантекильи», более низкого, губастого, который уже провел два пробных удара.
– Я всегда любил задиристых, – сказал Вальтер; сзади один француз объяснял другому, что Монсону поможет более высокий рост, опять пробные удары, Монсон приближается и отходит без усилий, в первом раунде они почти обязательно бывают равны. Так, значит, он любит задиристых, тогда он не аргентинец, иначе бы так не говорил; но этот акцент – тогда, спорим, уругваец, надо потом спросить у Перальты, хотя тот наверняка не ответит. Во всяком случае, он, должно быть, недавно во Франции, потому что толстяк, прижавшийся к жене, сделал какое-то замечание, и Вальтер ответил так неразборчиво, что толстяк с разочарованным жестом отвернулся и заговорил с тем, кто сидел ниже. Наполес бьет будь здоров, подумал Эстевес обеспокоенно, дважды он видел, как Монсон отшатнулся назад и отвечал ударом чуть с опозданием, пожалуй, тот его все-таки задел. Казалось, «Мантекилья» понял, что его единственный шанс – это бить, боксировать с Монсоном бесполезно, это не то что с другими, его удивительная быстрота словно работала впустую, торс противника поворачивался и ускользал, в то время как чемпион раз, другой доставал до лица, и француз сзади взволнованно повторял: видите, видит как ему помогают руки, похоже, второй раунд выиграл Наполес, зрители молчали, каждый выкрик рождался в одиночку, и его принимали как бы недовольно, в третьем раунде «Мантекилья» начал выкладываться, и теперь будет то, чего следовало ожидать, подумал Эстевес, теперь-то вы увидите, Монсон откидывается на канаты, гибкое обманное движение, молниеносные удары правой-левой, ошеломляющий клинч, чтобы уйти с канатов, рука слилась с рукой вплоть до конца раунда, мексиканцы вскочили с мест, и те, кто позади, орут, бранятся, сами встают, чтобы ничего не пропустить.
– Отличный бой, – сказал Эстевес. – Такой стоит посмотреть.
– Угу.
Они одновременно вытащили пачки сигарет, улыбнулись, предложили друг другу, зажигалка Вальтера вспыхнула раньше, Эстевес окинул быстрым взглядом его профиль, потом взглянул в лицо, особенно нечего друг друга разглядывать, у Вальтера волосы были с сединой, но сам он казался молодым в джинсах и коричневом тонком свитере. Студент, инженер? Убрался оттуда, как столько других, вступил в борьбу, наверное, у него были друзья, убитые в Монтевидео или в Буэнос-Айресе, а то и в Сантьяго, хорошо бы спросить Перальту, хотя в конце концов они наверняка больше не встретятся, каждый пойдет своей дорогой, когда-нибудь они вспомнят, то виделись в вечер «Мантекильи», а тот в пятом раунде выкладывался уже вовсю, публика стояла и бесилась, аргентинцы и мексиканцы исчезли, снесенные волной французов, которые видели не столько боксеров, сколько сам бокс, подмечали реакцию, движения ног, сейчас Эстевес убедился, что почти все разбираются в этом деле, только один-другой по-идиотски аплодировал внешне красивому, но безрезультатному удару и не видел того, что действительно происходило на ринге, где Монсон приближался и отходил, используя свою быстроту, которая с этих секунд все больше и больше отличалась от скорости «Мантекильи», уже уставшего, получившего несколько чувствительных ударов, дерущегося уже напролом, с гибким стройным телом, длинными руками, Монсон снова качался на канатах, чтобы затем опять нанести удары сверху и снизу, точные и сухие. Когда раздался гонг, Эстевес посмотрел на Вальтера, опять полезшего за сигаретами.
– Ну что ж, значит, так оно и есть,- сказал Вальтер, протягивая ему пачку.- Не выходит, так не выходит.
Было трудно говорить в таком шуме, публика знала, что следующий раунд может оказаться решающим, болельщики Наполеса подбадривали его, словно прощаясь, подумал Эстевес с симпатией, которая была уже вполне искренней, ведь теперь Монсон искал боя и находил его и на протяжении двадцати бесконечных секунд колотил по лицу и корпусу «Мантекильи», который спешил войти в клинч, как человек, что, закрывши глаза, бросается в воду. Больше он не выдержит, подумал Эстевес и с усилием оторвал глаза от ринга, чтобы взглянуть на матерчатую сумку рядом, на скамье, надо сделать это в перерыве, когда все сядут, как раз сейчас, потому что после все опять вскочат, и сумка будет одиноко лежать на скамейке, два удара левой подряд в лицо Наполесу, который опять пытался войти в клинч, Монсон был вне опасности и, почти не переждав, снова подскочил вплотную, точнейший крюк прямо в незащищенное лицо, теперь ноги, главное – это смотреть на ноги, Эстевес-то в этом собаку съел, он видел, как потяжелел «Мантекилья», как кидается вперед – неточно, грузно, в то время как ноги Монсона скользят то в сторону, то назад, прекрасный темп, и последний удар правой приходится как раз в живот, многие не слышали гонга в истерическом, истошном крике, но Вальтер и Эстевес услышали, Вальтер сел первым и не глядя поправил сумку, а Эстевес, усевшись чуть попозже, сунул туда пакет в долю секунды и, подняв уже пустую руку, взмахнул ею в выразительном жесте перед носом типа в синих брюках, который, казалось, не слишком-то разбирался в происходящем.
– Вот это чемпион, – сказал Эстевес негромко, потому что его все равно никто не услышал бы в таком шуме. – Карлитос, черт побери.
Он взглянул на Вальтера, который спокойно курил, видно было, что он смирился, что тут поделаешь, не выходит, так не выходит. Все уже стояли в ожидании сигнала к началу седьмого раунда, внезапная недоуменная тишина и затем дружный вопль при виде выброшенного полотенца, Наполес сидит в своем углу, Монсон выскакивает на середину, подняв перчатки над головой, и выглядит стопроцентным чемпионом, приветствуя публику, перед тем как потонуть в вихре объятий и магниевых вспышек. Финал не поражает красотой, но он неоспорим, «Мантекилья» выходит из игры, чтобы не быть тренировочной грушей для Монсона, все потеряно, вот он встает, подходит к победителю и поднимает перчатки к его лицу, это похоже на ласку, а Монсон кладет свои перчатки ему на плечи, и они снова расходятся, теперь уж навсегда, подумал Эстевес, и никогда больше не встретятся они на ринге.
– Да, бой был отличный,- сказал он Вальтеру, который вешал сумку на плечо и разминал затекшие ноги.
– Мог бы быть и подлиннее,- сказал Вальтер,- наверняка секунданты Наполеса не дали ему выйти.
– А к чему? Ты же видел, как его потрепало, он слишком хороший боксер, чтобы этого не понимать.
– Да, но боксеры его класса выкладываются до конца, ведь никогда не знаешь наперед, как все повернется.
– С Монсоном – знаешь,- сказал Эстевес и, вспомнив приказ Перальты, радушно протянул руку.- Ну, мне было очень приятно.
– Мне тоже. До скорого.
– Чао.
Он увидел, как Вальтер вышел вправо, следом за толстяком, который на крике спорил с женой, и повернулся к типу в синих брюках, но тот не торопился; они медленно продвигались влево, наконец их вынесло в проход. Французы позади спорили насчет техники, но Эстевес, посмеиваясь про себя, смотрел на женщину, которая обнимала своего друга или мужа, что-то кричала ему в ухо и целовала в губы и в шею. Если этот тип не совсем идиот, подумал Эстевес, он должен понять, что на деле-то она целует Монсона. Пакет уже не оттягивал кармана, теперь можно было перевести дух, оглядеться вокруг, девушка прижимается к спутнику, понуро выходят мексиканцы, и их шляпы вдруг кажутся меньше, аргентинский лаг наполовину свернут, но еще реет в воздухе, два толстых итальянца понимающе глядят друг на друга, один говорит почти торжественно: "Gli Га messo in culo"[8], и другой кивает столь емкому резюме, в дверях давка, люди редут медленно и устало по дощатым настилам к мостику с поручнями, холодная ночь, моросит мелкий дождь, в конце мостика, скрипящего под предельной нагрузкой, опираясь о перила, курят Перальта и Чавес, они не шевелятся, зная, что Эстевес увидит их и скроет удивление и подойдет так, как он подошел, в свою очередь вытаскивая пачку сигарет.
– Монсон сделал из него котлету,- сообщил Эстевес.
– Знаю,- отозвался Перальта.- Я там был.
Эстевес поднял на него удивленные глаза, но они одновременно повернулись и спустились с мостика среди уже редеющей толпы. Эстевес знал, что должен идти за ними, и увидел, как они свернули с проспекта, ведущего к метро, и вошли в более темную улочку, Чавес один только раз бросил взгляд назад, чтобы убедиться, что он не потерял их из виду, потом они направились прямо к машине Чавеса и сели в нее, не спеша, но и не теряя времени. Эстевес сел сзади рядом с Перальтой, машина рванула и двинулась в южном направлении.
– Так, значит, ты там был,- сказал Эстевес.- Я и не знал, что ты любишь бокс.
– Плевал я на бокс, – сказал Перальта,- хотя Монсон стоит своих денег. Я пошел, чтобы издали приглядывать за тобой. Чтобы тебе не быть одному, если что случится.
– Ну так ты видел. Знаешь, бедняга Вальтер болел за Наполеса.
– Это был не Вальтер, – сказал Перальта.
Машина все ехала к югу, Эстевес смутно чувствовал, что так они не попадут в район Бастилии, но это чувство маячило где-то совсем в глубине, потому что все остальное было как взрыв в лицо, словно Монсон колотил не «Мантекилью», а его самого. Он даже не смог раскрыть рта, смотрел на Пеаральту и ждал.
– Мы не успели тебя предупредить,- сказал Перальта.- Жаль, что ты вышел из дома так рано, когда мы позвонили, Мариса сказала, что ты уже ушел и не вернешься.
– Мне хотелось пройтись немного, прежде чем спуститься в метро, – сказал Эстевес. – Но давай рассказывай.
– Все пошло к черту, – продолжал Перальта. – Вальтер позвонил утром из Орли, мы сказали ему, что надо делать, он подтвердил, что получил билет на бокс, все было в ажуре. Мы договорились, что перед выходом он позвонит из квартиры Лучо, чтобы уж знать наверняка. В половине восьмого он не позвонил, мы позвонили Женевьеве, она перезвонила нам и сказала, что Вальтер не появлялся у Лучо.
– Его ждали на выходе из Орли, – раздался голос Чавеса.
– Но тогда кто же это… – начал Эстевес и не договорил, он вдруг все понял, и холодный пот заструился по шее, потек за воротник рубашки, и судорогой свело живот.
– У них было семь часов, чтобы вытянуть из него сведения, – сказал Перальта.- И доказательство – этот тип знал во всех деталях, как надо себя вести. Ты же слышал, как они работают, даже Вальтер не смог выдержать.
– Завтра или послезавтра его найдут где-нибудь на пустыре… – скучно произнес голос Чавеса.
– А теперь тебе не все равно? – отозвался Перальта. – Перед тем как прийти на бокс, я устроил, чтобы все выметались
из явок. Знаешь, у меня была еще надежда, когда я входил в этот чертов шатер, но он уже сидел на месте, и делать было нечего.
– Но раз так, – сказал Эстевес, – когда он убрался с деньгами…
– Конечно же, я пошел за ним.
– Нет, раньше, если ты знал…
– Делать было нечего, – повторил Перальта.- Увидев, что номер срывается, этот тип устроил бы там скандал и нас бы всех замели, ты знаешь, что полиция с ними заодно.
– И что дальше?
– Снаружи его ждали еще трое, у одного был пропуск или что-то там еще, и в одну минуту они уже сидели в машине, которая была на стоянке компании Делона и людей с большими деньгами, а кругом полицейский на полицейском. Тогда я вернулся к мостику, где нас ждал Чавес, вот и все. Конечно, я заметил номер машины, но на хрена он нам нужен.
– Мы выезжаем из Парижа, – сказал Эстевес.
– Да, едем в спокойное местечко. Как ты, видимо, понял, дело теперь в тебе.
– Почему во мне?
– Потому что теперь этот тип знает тебя в лицо и в конце концов они тебя разыщут. После случившегося с Вальтером явок уже нет.
Значит, мне надо уезжать, – сказал Эстевес. Он подумал о Марисе и о малыше, как увезти их, как оставить одних, все это смешивалось с деревьями, начинался лес, в ушах гудело, как будто толпа все еще выкрикивала имя Монсона, тот миг, когда все замерли, словно не веря своим глазам, и полотенце упало на середину ринга, вечер «Мантекильи», бедняга. И тот тип болел за «Мантекилью», если теперь подумать, странно, чтоб он был на стороне побежденного, ему следовало болеть за Монсона,- забрать деньги, как Монсон, как человек, который поворачивается спиной и уходит, унося с собой все, еще и насмехаясь над неудачником, беднягой с разбитым лицом или с протянутой рукой, говорящим ну, мне было очень приятно. Автомобиль затормозил среди деревьев, и Чавес выключил мотор. В темноте вспыхнула спичка и зажгла другую сигарету – сигарету Перальты.
– Значит, мне надо уезжать, – повторил Эстевес. – В Бельгию, если хочешь, там ты знаешь кто.
– Там ты был бы в безопасности, если бы только добрался, – сказал Перальта, – но видишь, как оно получилось с Вальтером, у них есть люди повсюду, они орудуют вовсю.
– Меня они не схватят.
Как Вальтера. Кто бы сказал, что Вальтера можно схватить и заставить говорить. А ты знаешь и другое, побольше Вальтера, вот что плохо.
– Меня не схватят, – повторил Эстевес. – Послушай, мне только надо подумать о Марисе и малыше, теперь, когда все пошло к черту, я не могу бросить их здесь, они отыграются на ней. За день я все устрою и увезу их в Бельгию, повидаю сам знаешь кого и дальше отправлюсь один.
– День – это слишком долго, – сказал Чавес, поворачиваясь к ним. Глаза уже привыкли к темноте, Эстевес виде силуэт и лицо Перальты, когда тот подносил сигарету ко рту и затягивался.
Хорошо, я уеду как только смогу, – сказал Эстевес. Прямо сейчас, – сказал Перальта, доставая пистолет.
Мы так любим Гленду
Поначалу откуда мы могли это знать. Идешь себе в кино или в театр и получаешь удовольствие, не думая о тех, кто проделал тот же ритуал, выбрал место и час, одевался, звонил по телефону, одиннадцатый ряд или там пятый, полумрак, музыка, ничейная земля и земля всех, где каждый – никто, просто мужчина или женщина в своем кресле, быть может, беглое извинение за то, что опоздал, замечание вполголоса – кто-то его услышит или пропустит мимо ушей, – почти всегда тишина, взгляды, устремленные на сцену или на экран, отталкивающие все здешнее, то, что лежит по эту сторону. И в самом деле, учитывая рекламу, бесконечные очереди, афиши и рецензии, откуда нам было знать, что столькие из нас любят Гленду.
На это ушло три-четыре года, и было бы рискованно утверждать, кто положил всему начало – Ирасуста или Диана Риверо, они сами не помнили, как это вышло, что в один прекрасный день, где-то в кафе, куда они зашли с друзьями выпить по рюмочке после киносеанса, были сказаны или подуманы слова, которые внезапно сблизили их, и возникло то, что мы позже стали называть ядром, а более молодые – клубом. От клуба тут не было ничего, просто мы любили Гленду Гарсон, и этого было достаточно, чтобы выделить нас из тех, кто только восхищался ею. Так же как они, мы тоже восхищались Глендой, а кроме того, Анук, Мэрилин, Анни, Сильваной и еще – почему бы и нет? – Марчелло, Ивом, Витторио и Дирком, но только мы одни любили Гленду, и этот факт определил сущность нашего ядра, оно пошло отсюда, стало нашим секретом, который мы доверяли лишь тем, кто в ходе долгих бесед постепенно обнаруживал, что тоже любит Гленду.
Начавшись с Дианы или Ирасусты, ядро медленно разрасталось, в год, когда шло «Снежное пламя», нас было едва ли шестеро или семеро, а когда выпустили «Полезный дар элегантности», ядро расползлось, и мы чувствовали, что нас уже невыносимо много и нам грозит снобистское подражательство и преходящий сентиментализм. Мы, самые первые – Ирасуста, Диана и еще двое-трое, решили повысить требовательность, не принимать без испытаний, без экзамена, замаскированного порциями виски и эрудицией напоказ (о, как характерны для Буэнос-Айреса, для Лондона, для Мехико эти полуночные экзамены). К премьере «Непрочных возвратов» пришлось признать с меланхоличным торжеством, что нас много – тех, кто любит Гленду. Частые встречи в кино, взгляды после сеанса, эти как будто потерянные лица женщин и мучительное молчание мужчин – все это отличало нас очевиднее, чем какой-нибудь значок или пароль. Не поддающиеся исследованию жизненные механизмы приводили нас в одно и то же кафе в центре, отдельные столики начали сдвигаться, неожиданно завелась привычка спрашивать один и тот же коктейль, и тогда мы могли наконец отбросить ненужные сомнения и взглянуть друг другу в глаза, туда, где еще жил последний кадр с Глендой в последней сцене последнего фильма.
Двадцать, быть может, тридцать – мы так и не узнали, сколько же нас стало, потому что иногда Гленда шла месяцами в одном кинотеатре или одновременно в двух или в четырех, а как-то раз – исключительное событие – она появилась на сцене в спектакле «Исступленные», в роли молодой девушки-убийцы, и ее успех, прорвав все плотины, вызвал взрыв недолговечного восторга, который мы не принимали всерьез. К тому времени мы уже знали друг друга, многие из нас ходили друг к другу в гости, чтобы поговорить о Гленде. С самого начала Ирасуста молчаливо был признан как бы президентом, хотя он никогда и не помышлял о власти. А Диан Риверо разыгрывала неторопливые шахматные партии, утверждая или отвергая кандидатов, гарантируя истинность их призвания, ограждая от пролаз и глупцов. То, что зародилось как свободная ассоциация, приобретало теперь структуру клана, и на смену первоначальным, поверхностным беседам пришли конкретные вопросы: эпизод со споткнувшейся в «Полезном даре элегантности», заключительная реплика из «Снежного пламени», вторая эротическая сцена в «Непрочных возвратах». Мы так любили Гленду, что не могли мириться с чужаками, с восторженными лесбиянками, с эрудитами от эстетики. Даже возник обычай (мы так и не узнали откуда) собираться в кафе по пятницам, когда фильм с Глендой шел в центре, а когда картины повторно показывали в кинотеатрах на окраинах, мы выжидали неделю до следующей встречи, чтобы все успели там побывать; все обязанности были строго регламентированы и исполнялись беспрекословно, под страхом презрительной улыбки Ирасусты или этого любезно-убийственного взгляда Дианы Риверо, которым она обличала отступника, заслужившего тяжелое наказание.
В тот период наши встречи были полны только Глендой, ее блистательным присутствием в каждом из нас, и мы не знали расхождений и сомнений. Лишь постепенно, поначалу робко и виновато, некоторые, осмелев, начали высказывать отдельные критические замечания, недоумения или разочарования от менее удачной сцены, от проскользнувшей банальности или шаблонности. Мы знали, что Гленда не виновата в срывах, замутнявших в иных местах великолепную прозрачность «Хлыста» или финал «Никогда не знаешь почему». Мы были знакомы с другими работами этих режиссеров, знали, откуда брались сюжеты и кто писал сценарии, с ними мы бывали беспощадны, ибо уже чувствовали, что наша любовь к Гленде идет дальше простого интереса к актрисе и что только ее одну не портило все, что так несовершенно делали другие. Диана первой заговорила о нашей миссии, она затронула это в свойственной ей косвенной манере, не формулируя того, что на самом деле было для нее столь существенно, и мы увидели, как ее радость проявилась в двойной порции виски, в удовлетворенной улыбке, когда мы открыто признали ее правоту, признали, что нам уже мало только кинозалов, кафе, мало того, что мы так любили Гленду.
Но и тогда не было сказано ясных слов, нам они были не нужны. Важно было лишь счастье хранить Гленду в душе каждого из нас, и это счастье могло быть полным только по достижении совершенства. Внезапно нам стали невыносимы ошибки, промахи: мы не могли согласиться с тем, что «Никогда не знаешь почему» кончается именно так, или что в «Снежное пламя» включен отвратительный эпизод игры в покер (Гленда в нем не участвовала, но каким-то образом он пачкал ее, как рвота, – этот жест Нэнси Филлипс и недопустимый приход раскаявшегося сына). Как всегда, Ирасусте выпале четко сформулировать ожидавшую нас миссию, и в этот вечер мы разошлись по домам, как бы придавленные взятой на себя ответственностью и вместе с тем предвкушая будущее счастье – счастье без единого темного пятнышка, когда образ Гленды не будут омрачать несовершенство и предательство.
Инстинктивно ядро сомкнуло свои ряды, наша цель не допускала расплывчатого плюрализма. Ирасуста сказал о лаборатории, оборудованной в загородном доме в Ресифе-де-Лобос, лишь тогда, когда она была уже готова. Мы поровну распределили задания среди тех, кто должен был отвечать за сбор всех существующих копий «Непрочных возвратов» – этот фильм мы выбрали благодаря тому, что в нем было сравнительно мало неудачных моментов. Никому и в голову не пришло ставить вопрос о деньгах, Ирасуста был компаньоном Говарда Хьюза по добыче олова в Пичинче, с помощью простейшей механики мы получали в руки необходимую власть, реактивные самолеты, союзников, суммы на взятки. У нас даже не было своей конторы, компьютер компании «Хейгар Лосе» программировал задания и этапы их выполнения. Через два месяца после фразы Дианы Риверо лаборатория была уже в состоянии начать работу,- заменяя слабый эпизод с птицами в «Непрочных возвратах» на другой, который возвращал Гленде идеальный ритм и точное ощущение драматического действия. Картина вышла уже несколько лет назад, и ее вторичное появление на международных экранах не сопровождалось никакими сюрпризами: память любит подшучивать над ее обладателями и умеет убедить их в достоверности замен и новых вариантов; наверное, даже сама Гленда не почувствовала поправок, но зато отметила – ибо это отметили мы все – идеальное совпадение увиденного с воспоминанием, очищенным от шлака, совпадение с тем, чего бы она могла пожелать.
Мы работали без отдыха; едва удостоверившись в эффективности лаборатории, мы тут же завершили изъятие копий «Снежного пламени» и «Призмы»; затем в стадию переработки вступили другие фильмы, ритм операций был точнейшим образом определен персоналом «Хейгара Лосса» и лаборатории. У нас возникли трудности с «Полезным даром элегантности»: богачи из арабских нефтяных эмиратов хранили у себя копии исключительно для личного пользования, и потребовались сложные маневры и особая помощь, чтобы выкрасть их (к чему употреблять другое слово) и заменить на другие без ведома владельцев. Лаборатория работала замечательно, на уровне, который поначалу казался нам недостижимым, хотя мы и не решались сказать это Ирасусте; как ни странно, скептичнее всех была настроена Диана, но когда Ирасуста показал нам «Никогда не знаешь почему» и мы увидели настоящий финал, где Гленда не возвращалась в дом Романо, а мчалась на своей машине к утесу и потрясала нас своей великолепной логичнейшей гибелью в бурном потоке, мы поняли, что в этом мире тоже возможно совершенство и что теперь Гленда совершенна, совершенна для нас навсегда.
Конечно же, самым трудным было решать, что надо заменить, что вырезать, как сместить акценты в монтаже и в ритме фильма, различия в нашем восприятии Гленды приводили к серьезным стычкам, и примирить спорщиков удавалось лишь после долгого анализа, а в иных случаях брало верх мнение большинства в ядре. Но хотя некоторые из нас, побежденные, смотрели новый вариант с некой горечью, чувствуя, что он не вполне отвечает нашей мечте, думаю, никто не остался разочарованным проделанной работой, мы так любили Гленду, что результаты всегда были оправданными и часто превосходили то, о чем думалось вначале. Случались и тревоги: не обошлось без непременного письма читателя в газете «Тайме», который выражал удивление по поводу трех эпизодов в «Снежном пламени» - ему казалось, что они шли в ином порядке; а в «Опиньон» появилась статья одного критика, протестовавшего против вырезанной сцены в «Призме» – как он предполагал, по причине бюрократического ханжества. Во всех случаях принимались срочные меры для того, чтобы избежать возможных последствий; это было не так уж трудно, люди легкомысленны, они быстро забывают, или принимают то, что им дают, или устремляются в погоню за чем-нибудь новеньким, мир кино переменчив, как мир политики, все меняется, за исключением нас – тех, кто так любит Гленду. Более опасными по существу были полемики, вспыхивавшие в ядре, риск ереси или раскола. Хотя мы чувствовали себя едиными, как никогда, накрепко спаянными нашей миссией, как-то вечером вдруг раздались аналитические голоса тех, кого не обошла эпидемия политического философствования, в разгар работы они принялись ставить перед всеми моральные проблемы, спрашивали, не глядимся ли мы с мазохистским рвением в бесконечный ряд зеркал, не вытачиваем ли бессмысленные барочные узоры на слоновьем клыке или на зернышке риса. И было нелегко повернуться к ним спиной, ибо ядро могло выполнить свою задачу так, как, скажем, сердце или самолет выполняет свою: лишь подчиняясь идеальному ритму. Было нелегко выслушивать критику, обвинявшую нас в эскапизме, в растрачивании попусту сил, нужных для решения не терпящих отлагательств реальных проблем, которые в наши дни особенно требуют объединения всех усилий. И тем не менее не было необходимости сурово душить едва намечавшуюся ересь, даже сами бунтовщики ограничивались отдельными сомнениями, и они, и мы так любили Гленду, что надо всеми расхождениями по этическим и историческим пунктам господствовало чувство, которое будет объединять нас всегда: уверенность в том, что совершенствование Гленды совершенствует нас самих и совершенствует мир. Мы даже были вознаграждены с лихвой, ибо один из философов, преодолев период напрасных колебаний, восстановил былое единодушие: из его уст мы услышали слова о том, что любая частность тоже имеет историческое значение и нечто столь неизмеримо важное, как изобретение книгопечатания, родилось из сугубо индивидуального и частного желания многократно повторить и увековечить имя женщины.
И так мы дожили до дня, когда удостоверились, что образ Гленды не омрачен теперь ни малейшей тенью; он изливался с экранов мира таким, каким она сама – в этом мы были уверены – хотела бы, чтоб он изливался, и, может быть, поэтому нас не слишком удивило сообщение прессы о том, что она объявила о своем уходе из кино и со сцены. Невольный и замечательный вклад Гленды в наш труд не мог быть простым совпадением или чудом, очевидно, что-то в ней помимо ее сознания уловило нашу безыменную любовь и из глубины ее существа донесся единственный ответ, который она могла нам дать, ее ответная любовь выразилась в окончательном слиянии с нами, хотя профаны воспримут это лишь как ее отсутствие. Мы переживали счастье седьмого дня, мы отдыхали после сотворения своего мира; теперь мы могли созерцать любое произведение Гленды, избавившись от постоянного страха перед грозящими нам завтра новыми ошибками и несообразностями; теперь мы собирались вместе, невесомые как ангелы или птицы, в абсолютности настоящего, быть может, похожего на вечность.
Да, но под теми же небесами Гленды один поэт сказал, что вечность влюблена в преходящие творения времени, и год спустя Диане выпало узнать об этом и сообщить всем нам. Обычная и по-человечески понятная новость: Гленда объявляла о своем возвращении на экран, причины те же, что и всегда: чувство неудовлетворенности человека, не занимающегося своим делом, персонаж точь-в-точь по ней, близкие съемки. Никто не забудет этого вечера в кафе, как раз после просмотра «Полезного дара элегантности», только что вернувшегося в центральные кинотеатры. Собственно, Ирасусте не было необходимости высказывать вслух то, что все мы ощущали как горечь несправедливости и бунтарства. Мы так любили Гленду, что наше отчаяние не затрагивало ее, чем она виновата в том, что она актриса, что она Гленда, весь ужас заключался в порочной машине, вновь запущенной в ход, в реальности цифр, столкновении престижей, новых «Оскарах», как незаметная трещина раскалывающих наше небо, завоеванное с таким трудом. Когда Диана положила руку на рукав Ирасусты и сказала: «Да, это единственное, что нам осталось», она знала, что говорила за всех. Никогда еще ядро не обладало такой страшной силой, никогда еще не тратилось меньше слов, чтобы придать ей действенность. Мы расстались раздавленные, уже переживая то, что произойдет в день, о котором лишь один из нас будет знать заранее. Мы были уверены, что больше не встретимся в кафе, что отныне каждый найдет себе одинокий уголок в нашем идеальном царстве. Мы знали, что Ирасуста сделает все необходимое, нет ничего проще для такого человека, как он. Мы даже не простились, как обычно, с беззаботной уверенностью, что вскоре встретимся вновь как-нибудь вечером после «Непрочных возвратов» или «Хлыста». Казалось, мы заторопились расстаться, бормоча, что уже поздно, что пора по домам; мы вышли порознь, каждый желал бы забыть, забыть, пока все не останется позади, но каждый знал, что этого не дано, что предстоит еще как-то утром раскрыть газету и прочесть эту новость, глупые фразы пустых профессиональных некрологов. Мы никогда ни с кем не будем говорить об этом, мы станем вежливо избегать друг друга в кино и на улице; только так ядро сможет сохранить верность, сберечь в молчании память о выполненном долге.
Мы так любили Гленду, что одарили ее последним нерушимым совершенством. Поместив ее на недосягаемую высоту, мы убережем ее от падения, и верные почитатели будут и впредь поклоняться ей, не боясь, что образ ее потускнеет, ибо с креста не сходят живым.
Пространственное чутье кошек
Когда Алана и Озирис смотрят на меня, в их взглядах нет ни малейшего притворства, ни малейшей двуличности. Они смотрят открыто и прямо, и я купаюсь в голубом свете глаз Аланы и в зеленых лучах, льющихся из узеньких щелок Озириса. Так же смотрят они друг на друга, Алана поглаживает черную спинку Озириса, а тот поднимает мордочку от блюдца с молоком и удовлетворенно мяукает, женщина и кот, узнавшие друг друга в измерениях, недоступных моему пониманию, куда не проникают мои ласки. Давно уже я отказался понять Озириса, мы добрые друзья, но расстояние между нами непреодолимо; однако Алана – моя жена, и тут расстояние уже иное, она вроде бы не чувствует его, но как оно мешает моему счастью, когда Алана смотрит на меня, когда смотрит на меня прямо, так же как Озирис, и улыбается или рассказывает что-то, ничего не тая, отдаваясь мне каждым жестом, каждым словом, как в любви, когда все ее тело становится таким, как ее глаза, полная преданность, непрерываемая взаимность.
И странно, хотя я отказался от попыток вжиться в мир Озириса, моя любовь к Алане не может смириться с чувством чего-то законченного, с положением пары, неразлучной вовек, с жизнью без всяких секретов. Позади этих голубых глаз есть что-то еще, под всеми словами, стонами, молчаниями существует другая область, дышит другая Алана. Я никогда не говорил ей об этом, я слишком ее люблю, чтобы расколоть гладкую поверхность счастья, по которой укатилось в прошлое уже столько дней, столько лет. Я по-своему упрям и пытаюсь понять, открыть ее до конца; наблюдаю за ней, не шпионя; следую за ней, но без недоверия; люблю чудесную, слегка поврежденную статую, незаконченный текст, кусочек неба, вписанный в окно жизни.
Было время, когда мне казалось, что музыка приведет меня к Алане; я видел, как, слушая наши пластинки – Бартока, Дюка Эллингтона, Гала Косту, - она словно понемногу становилась прозрачнее, музыка обнажала ее по-иному, делала ее все больше Аланой, потому что Алана не могла быть только этой женщиной, которая всегда смотрела на меня открыто и прямо, ничего не тая. Я искал Алану вопреки Алане, за пределами Аланы, чтобы любить еще сильнее; и если вначале музыка позволила мне различить других Алан, настал день, когда я увидел, как перед гравюрой Рембрандта она изменилась еще больше, словно облака на небе вдруг перестроились и пейзаж, освещенный по-новому, стал иным. Я почувствовал, что живопись увлекала ее за границы самой себя – для единственного зрителя, который следил за мгновенной, никогда не повторяемой метаморфозой, ловил облик иной Аланы, смутно просвечивающей в Алане. Невольные посредники – Кейт Джаррет, Бетховен, Анибал Троило – помогли мне подойти ближе, но перед картиной или перед гравюрой Алана еще больше освобождалась от того, чем, по ее мнению, была, на миг вступала в воображаемый мир, чтобы, сама того не зная, выйти за свои пределы, переходя от картины к картине, делясь своими наблюдениями или молча,- колода карт, которые каждое новое впечатление тасовало для того, кто осторожно и внимательно, чуть позади или держа ее под руку, следил, как чередуются дамы и тузы, пики и трефы – Алана.
Что можно было поделать с Озирисом? Дать ему молока, оставить в покое, пусть удовлетворенно мурлычет, свернувшись черным клубком; но Алану я мог привести в эту картинную галерею, как сделал это вчера, еще раз оказаться в зеркальном театре, полном скрытых камер, застывших образов на полотнах перед этим другим образом той, что, одетая в веселые джинсы и красную блузку, погасив сигарету у входа, переходила затем от одной картины к другой, останавливалась точно на том расстоянии, которого требовал ее взгляд, время от времени оборачиваясь ко мне, чтобы бросить какое-то замечание или сравнить наши впечатления. Она даже не подозревала, то я пришел сюда не ради картин, что, стоя чуть позади или ядом, я смотрел иным взглядом, не имевшим ничего общего с ее. Она никогда бы не догадалась, что ее медленные, задумчивые шаги от картины к картине меняли ее настолько, что мне приходилось зажмуриться и бороться с желанием немедленно схватить ее в объятия, закружить, завертеть, увлечь за собой, бегом, бегом, на улицу, домой. Легкая, непринужденная, естественная в процессе узнавания, радости, открытий, она останавливалась и медлила перед полотном, и ее время отличалось от моего, было чуждо моей судорожной, настороженной жажде.
До тех пор все было лишь смутным предчувствием – Алана в музыке, Алана перед Рембрандтом. Но теперь моя надежда оправдывалась почти невыносимо, с самого прихода Алана отдалась созерцанию картин с дикой невинностью хамелеона, переходя из одного состояния в другое и ничего не зная о том, что затаившийся зритель подстерегает ее движения, наклон головы, жест рук или гримаску губ, внутреннюю игру красок, делающую ее другой, обнажающую те глубины, где другая всегда была Аланой, прибавленной к Алане, карты ложились одна на одну, колода собиралась, становилась полной. Идя рядом с ней, продвигаясь вперед вдоль стен, я видел, как она вся открывалась навстречу каждой картине, мои глаза множили ослепительный треугольник, стороны которого тянулись от нее к картине, от картины ко мне и возвращались к ней, чтобы подметить перемену, окружающий ее теперь иной ореол, а через миг он уступал место новому, новой тональности, по-настоящему, окончательно раскрывающей ее суть. Невозможно предвидеть, сколько будет повторяться это преобразование, сколько новых Алан наконец приведут меня к синтезу, из которого мы оба выйдем успокоенные, удовлетворенные, она, ничего о том не зная, зажжет новую сигарету, а затем попросит меня повести ее куда-нибудь выпить по глотку, а я буду отчетливо сознавать, что мои долгие поиски окончены, что отныне моя любовь будет охватывать видимое и невидимое, будет встречать чистый взгляд Аланы, не думая о запертых дверях, о скрытых от взора пейзажах.
Я увидел, как она надолго замерла перед одинокой лодкой и черными скалами на первом плане; неприметными волнообразными движениями рук она как бы плыла по воздуху, искала выхода в открытое море, устремлялась к далеким горизонтам. И меня уже не могло удивить, что другая картина, где решетка с рядом остроконечных копий преграждала доступ к аллее деревьев, заставила ее сделать шаг назад, как бы в поисках нужного угла зрения, а на самом деле отвергая эту недоступность, не соглашаясь с ней. Птицы, морские чудовища; окна, открытые в тишину или впускающие некое подобие смерти, - каждая новая картина меняла Алану, окрашивала ее в новые тона, исторгала из нее новые модуляции, утверждая принятие свободы, полета, больших пространств, протест перед лицом ночи и пустоты, ее жажду солнца, ее почти пугающее сходство с фениксом. Я держался позади, зная, что не сумею выдержать ее взгляд, удивленный вопрос в ее взгляде, когда она увидит на моем лице потрясенное подтверждение, потому что это был и я, это осуществлялся мой проект Алана, моя жизнь Алана, именно того я желал и не мог добиться, скованный рамками города и собственной осмотрительности, зато теперь – вот оно Алана, вот оно – Алана и я, начиная с этого дня, с этого мига. Мне хотелось схватить ее обнаженную, сжать в объятиях, любить так, чтобы все стало ясно, чтобы все было сказано между нами и из бесконечной ночи любви для нас, знавших уже столько таких ночей, родилась бы первая заря новой жизни.
Мы достигли конца галереи, я подошел к выходу, все еще пряча лицо, ожидая, чтобы уличный воздух и огни вернули мне то, что знала во мне Алана. Я увидел, что она остановилась перед полотном, спрятанным от меня спинами других посетителей, и надолго застыла, глядя на картину, где были изображены окно и сидящий на подоконнике кот. В последнем своем преображении она превратилась в статую, наглухо отделенную от окружающих, от меня, когда я нерешительно приблизился, ища ее взгляд, ушедший в полотно. Я заметил, что кот – вылитый Озирис, он смотрел вдаль, на что-то, скрытое от нас стеной. Неподвижный в своем созерцании, он был менее неподвижен, чем Алана. И каким-то образом я почувствовал, что треугольник сломался, когда Алана повернула голову ко мне треугольника уже не было, она ушла в картину, но не вернулась, она продолжала стоять рядом с котом, глядя в окно на то, что не мог видеть никто, кроме них, на то, что видели только Алана и Озирис всякий раз, когда открыто и прямо смотрели мне в глаза.
Как добраться до страны хронопов
Посольство хронопов
Хронопы живут в разных странах, окруженные несметным числом фамов и надеек, но с некоторых пор есть страна, где хронопы достали из карманов цветные мелки, которые вечно носят с собой, и намалевали большущими буквами «КРЫШКА» на стенах у фамов, а буквами поменьше и поспокойнее – «РЕШИСЬ» на стенах у надеек, следствием чего явились потрясения, каковые не оставляют ни малейшего сомнения в том, что каждый иноземный хроноп должен сделать все от него зависящее, дабы незамедлительно отправиться в эту страну на предмет ознакомления с нею.
Когда решение незамедлительно отправиться в эту страну на предмет ознакомления с нею принято, перво-наперво посольство страны хронопов выделяет несколько служащих в помощь хронопу-разведчику, и обыкновенно этот хроноп является в посольство, где имеет место следующая беседа, а именно:
– Как подживаете, хроноп хроноп?
– А как подживаете вы? Вылет в четверг, просьба заполнить вот эти пять анкет и принести пять фото анфас.
Хроноп-путешественник благодарит и по возвращении домой с воодушевлением заполняет пять анкет, весьма затруднительных для него, хотя после заполнения первой он с радостью обнаруживает, что на четырех остальных надо лишь переписать те же самые затруднения. Тут же хроноп бежит в фотомат, где запечатлевается следующим образом: первые пять фотографий с серьезным видом, шестая – с высунутым языком. Последнюю хроноп оставляет для себя и премного этим доволен.
В четверг с утра пораньше хроноп укладывает чемоданы, а именно кладет в них две зубные щетки и калейдоскоп, после чего садится в уголок и смотрит на жену, набивающую чемоданы самым необходимым, но так как его жена того же хронопского племени, что и он, она вечно забывает самое необходимое, вследствие чего они усаживаются на чемоданы верхом, но те все равно не закрываются, как раз в этот момент звонит телефон и посольство уведомляет, что произошла ошибка и вылетать надо было в предыдущее воскресенье, в результате чего между хронопом и посольством завязывается яркая беседа, в которой посверкивают перочинные ножички и слышится глухой стук падающих чемоданов – открываясь, они позволяют разлететься во все стороны плюшевым медведям и высушенным морским звездам,- так что самолет вылетает в ближайшее воскресенье и просьба представить пять фотографий анфас.
Крайне встревоженный ходом событий, хроноп наносит визит посольству, и едва ему открывают двери, как он кричит во все миндалины, что пять фото уже представлены, а вместе с ними и пять анкет. Служащие не обращают на это ни малейшего внимания и просят не беспокоиться, так как, в сущ-ости, в фотографиях особой нужды нет, но что, наоборот, надо как можно быстрее добиться чешской визы – неожиданность, поражающая хронопа-путешественника подобно молнии. Как известно, хронопы приходят в уныние по любому поводу, и вот большие слезы катятся по его щекам, а из груди вырывается стон:
– Жестокое посольство! Путешествие пошло прахом, все хлопоты напрасны, просьба вернуть фото!…
Но все обходится, и восемнадцать дней спустя хроноп с супругой взлетают с аэродрома Орли и садятся в Праге после полета, в котором самое сенсационное, как водится,- пластмассовый поднос с грудой лакомств, с восторгом съедаемых, не говоря уже о тюбике с горчицей, спрятанном в карман жилета как сувенир.
В Праге умеренная погода – пятнадцать градусов ниже нуля, так что хроноп и его жена не высовывают носа из транзитного отеля, где по ковровым дорожкам слоняются иноязычные существа. К вечеру путешественники приходят в себя и едут на трамвае к Карлову мосту, идет снег, и на льду столько детей и уток, что хроноп и его жена берутся за руки и танцуют хронопские танцы стояк и коровяк, приговаривая:
– Прага, легендарный город, гордость центра Европы! Потом они возвращаются в отель и с нетерпением ждут, когда за ними придут и пригласят продолжить путешествие, что чудесным образом происходит – и не через два месяца, а на следующий день.
Самолет хронопов
При входе в хронопский самолет перво-наперво обращаешь внимание на то, что у этих хронопов очень мало самолетов и они вынуждены использовать как можно рациональнее пространство в них, из-за чего самолет больше походит на автобус, но это не мешает воцарению на борту буйного веселья, ибо почти все пассажиры – хронопы с тонкой прослойкой надеек, и все они возвращаются домой, за исключением иностранны хронопов, которые поначалу несколько оцепенело взирают н энтузиазм тех, кто возвращается домой, а под конец навостряются веселиться на их манер, и в самолете устанавливается атмосфера шумных дебатов, сравнимых лишь с ревом почтенных моторов, что в сумме – похлеще трехсерийного смертоубийства.
Между тем самолет должен взлететь в двадцать один но, ноль, но едва пассажиры уселись и начали трепетать, как и подобает в этих случаях, появляется прехорошенькая стюардесса, которая произносит следующую речь, а именно:
– Так что кэп велел сказать, все выходите, летим часа через два…
Подобные вещи (и это является признанным фактом) не заботят хронопов – они рады-радехоньки, что компания тут же выдаст им большие бокалы с разноцветными соками в баре аэропорта, не говоря уже о том, что можно снова покупать почтовые открытки и посылать их другим хронопам, вдобавок ко всему компания велит накормить их обильным ужином в одиннадцать вечера, и вот так хронопы могут осуществить самую розовую мечту своей жизни – одной рукой кушать, а другой строчить почтовые открытки. Потом все возвращаются в самолет, и похоже, что он намеревается взлететь, и тут же стюардесса приносит синие и зеленые пледы, и даже закутывает хронопов своими дивными руками, и гасит свет в надежде, что они хоть немного угомонятся, но происходит это не сразу, что выводит из себя надеек и нескольких иностранных хронопов, которые приучены засыпать, едва погаснет свет, где бы они ни находились. Разумеется, путешествующий хроноп уже испробовал все кнопки и рукоятки в пределах досягаемости, и все это его крайне радует, но напрасно он надеется, будто стоит ему нажать соответствующую кнопку, и стюардесса тут же принесет еще немного сока или поплотнее укутает пледом (на его счастье, зеленым),- вскоре он обнаруживает, что стюардесса спит, как медвежонок, на трех смежных сиденьях, которые с большими ухищрениями стюардессы выкраивают себе в подобных случаях. Хроноп уже готов смириться и вздремнуть, как неожиданно зажигаются все огни и показывается стюард с подносами, так что хроноп и его жена начинают потирать руки, приговаривая: – Ничего нет лучше, чем добрый завтрак после освежающего сна, в особенности если он с сухими хлебцами.
Столь обоснованные мечты тут же рассеиваются стюардом, начинающим разносить выпивку с мистическими и поэтическими названиями вроде «аньехо на скале», заставляющим вспомнить гравюру со старым японским рыбаком, или «мохи-то», навевающим нечто не менее японское. И все же хронопу кажется недопустимым, что их вырвали из объятий Морфея с единственной целью тут же ввергнуть в объятья алкоголя, но он смекает, что это еще полбеды, ибо появляется стюардесса с подносами, где помимо других лакомств виднеются пирожное, миндальное мороженое и угрожающих размеров банан. Учитывая, что не прошло и пяти часов, как компания предоставила им полный ужин в аэропорту, хроноп склонен рассматривать эту еду как нежелательную, но стюард растолковывает: никто не мог предвидеть, что они будут ужинать так поздно, а если не хотят, так пусть и не кушают – последнее хроноп считает недопустимым, и вот, с большим старанием поглотив пирожное и мороженое, он прячет банан во внутренний левый карман пиджака, что делает и жена, но только – в сумку. Подобные эпизоды скрашивают путешествия на хронопском самолете, и вот после стоянки в Гандере, где не происходит ничего, достойного упоминания (день, когда бы в таком захолустье, как Гандер, что-нибудь произошло, так же неправдоподобен, как сурок, выигравший шахматный турнир), самолет хронопов влетает в очень синие небеса, а внизу открылось еще более синее море, и все вокруг становится настолько синим, что хронопы радостно подпрыгивают, и неожиданно внизу завиднелась пальмовая роща, и кто-то из хронопов вопит, что теперь уже и неважно, упадет ли самолет (сей патриотический лозунг принимается иностранными хронопами и в особенности надейками с некоторым холодком), и вот так прибываешь в страну хронопов.
Естественно, хроноп-путешественник осмотрит эту страну, и однажды по возвращении домой напишет о поездке воспоминания на разноцветных листках и станет раздавать их на углу своего дома, чтобы все могли ознакомиться. Фамам он даст синие листки, ибо наперед знает, что когда фамы все это прочтут, они позеленеют, а ведь мало кто догадывается, что хронопам очень нравится сочетание этих цветов. Надейкам же, которые, получая подарок, краснеют, хроноп даст белые листки, так что надейки смогут, прикрыть ими щеки, и хроноп, не отходя от дома, сможет любоваться разными приятными цветами, которые будут разлетаться в разные стороны, унося воспоминания о его путешествии.
Из книги «Некто Лукас»
Лукас – его дискуссии с единомышленниками
Начало почти всегда одинаковое: впечатляющее внутрифракционное соглашение по куче вопросов при большом взаимном доверии, но в какой-то момент нелитературные члены, любезно обратившись к членам литературным, в тридесятый раз поставят перед ними вопрос о направленности, о понятности для наибольшего числа читателей (или слушателей, или зрителей, но в основном – о да – читателей).
В подобных случаях Лукас склонен отмалчиваться, ибо его книжонки уже высказались за него, но так как порою на него все же более или менее дружески наседают (что и говорить – нет дружественнее тумака, чем от лучшего дружка), Лукас делает кислое выражение лица и выделяет из себя, скажем, такое:
– Друзья, вопрос подобный никогда
не стал бы ставить, я вас уверяю,
писатель, твердо верящий в свое
предназначенье носовой скульптуры, летящей с носом корабля вперед,
наперекор ветрам и соли. Точка.
А ставить он его не стал бы, ибо
(поэт,
писатель рассказчик
и бытописатель),
то бишь мечтатель, выдумщик, художник,
оракул, мифотворец и т.п.,
своей первейшею задачей ставит
язык как средство, чье посредство нас
связует постоянно со средой.
Короче на два тома с приложеньем, -
вы недвусмысленно хотите, чтобы
(поэт,
писатель рассказчик
и бытописатель)
отверг идею продвигаться с носом,
чтоб hie et nunc[9] (переведите, Лопес!)
застыл и паче чаянья не вышел
за семантические и к тому же
за синтаксические и, конечно,
за познавательные и притом
параметрические рамки смысла,
понятного обычным людям. Хм.
Иначе говоря,- чтоб воздержался
от поиска того, что за пределом
отысканного, или чтоб искал,
подыскивая тут же объясненье
искомому, чтоб сысканное стало
подробно завершенным изысканьем.
На это предложенье
отвечу я, друзья:
как можно – быть в движенье,
все время тормозя? (А вышло лихо!)
Научные законы отвергают
возможность столь двояких побуждений,
скажу еще прямее: нет пределов
воображению, как нет пределов
глаголу! Закадычные враги -
язык и выдумка! От их борьбы
рождается на свет литература,
диалектическая встреча Музы
с Писцом, неизреченного – со словом.
Не хочет слово быть произнесенным,
пока ему мы шею не свернем,
так Муза примиряется с Писцом
в редчайший миг, который мы зовем
Вальехо или, скажем, Маяковский.
– Допустим, – говорит кто-то, – но перед лицом исторической конъюнктуры каждый писатель и художник, если только он не законченный башнеслоновокостист, должен, более того – обязан канализировать свою направленность в сторону наибольшего удобопоиимания,- аплодисменты.
– Я и раньше догадывался, – скромненько замечает Лукас, – что подобных писателей подавляющее большинство, именно поэтому меня и удивляет столь упорное стремление довести большинство подавляющее до абсолютного! Что вы рас-так-так всего боитесь?! Ведь только обиженных и подозрительных может раздражать опыт, прямо скажем, передовой и посему трудный (трудный в первую голову для самого писателя и лишь во вторую голову для читающей публики, и это я подчеркиваю особо), – разве не очевидно, что только немногие могут развить подобный опыт? Не свидетельствует ли это, понимаете ли, что некоторые слои считают то, что не сразу ясно, преступно темным? Не кроется ли здесь тайное, а подчас и низменное побуждение уравнять шкалу ценностей, чтобы кое-кто мог хоть как-то удержаться на плаву?
– Есть только один ответ, – говорит кто-то, – вот он: ясность трудно достижима, в силу чего темное становится стратегией, чтобы под видом трудного протащить легкое, – запоздалые овации.
– Мы можем спорить с вами много лет, – хрипит Лукас, –
но камнем преткновенья будет снова
и снова сложная проблема слова.
(Кивки.) Никто не вступит – лишь Поэт
и то порой – на белую арену
бумаги, над которой вьется дым
неведомых законов, да, законов
капризного соитья смысла с ритмом,
когда внезапно посреди рассказа
или строфы всплывает Атлантида.
От этого защиты нет, поскольку
об этом знанье нет у нас познаний,
фатальность эта позволяет нам
плыть под водой действительности и,
взнуздав какое-либо междометье,
нащупать ритм, открыть сто островов,-
пираты ремингтонов (или перьев),
вперед на штурм глаголов и наречий,
пусть по лицу крылом нас подлежаще
бьет существительное-альбатрос!
Или, говоря проще, – заключает Лукас, сытый по горло, как и его товарищи, – предлагаю, ну, скажем, пакт.
– Никаких сделок! – ревет без которого в этих случаях не обходится.
– Простой пакт. Для вас primum vivere, duende filosofiare[10] подсознательно ассоциируется с vivere[11] в прошедшем времени в чем нет ничего плохого и что, пожалуй, дает единственную возможность взрыхлить почву для философствования, творчества и поэтизирования во времени будущем. И я надеюсь упразднить удручающее нас разногласие пактом, смысл которого в том, что вы и мы одновременно откажемся от наших наиболее впечатляющих достижений, дабы общение с ближним достигло своего максимального объема. Мы откажемся словотворчества на самом сверхзвуковом и разреженном уровне, а вы – от науки и технологии в их соответственно сверх звуковых и разреженных формах, то есть от компьютеров и реактивных самолетов. Если вы препятствуете нашему поэтическому наступлению – с какой стати вы должны так пузато лакомиться научным прогрессом?!
– А вот это уж дудки,- говорит который в очках.
– Естественно, – язвит Лукас,- смешно было бы ждать иного ответа. А уступить все-таки придется. Итак, мы будем писать проще (как бы, потому что это не так просто), а вы упраздните телевидение (впрочем, знаю я вас). Мы двинемся в направлении прямой коммуникабельности, а вы откажетесь от автомобилей и тракторов – картошку вы и лопатой можете сажать. Представляете, что будет означать это двойное возвращение к простоте, к тому, что будет понятно сразу всем, к единению с природой без посредников?!
– Предлагаю предварительно-немедленную дефенестрацию[12] единодушия,- говорит которого перекосило усмешкой.
– А я голосую против, – говорит Лукас, вертя бокал с пивом, которое всегда в подобных случаях поспевает вовремя.
Лукас – его наблюдения над потребительским обществом
Так как у прогресса ни-конца-ни-краю, в Испании стали продавать пакеты с тридцатью двумя спичечными коробками, на каждом из которых воспроизведено по фигуре из полного шахматного комплекта.
Тут же один смекалистый сеньор выбросил в продажу набор шахмат, каждая из тридцати двух фигур которого может служить кофейной чашечкой. Почти одновременно Базар Два Света выпустил в продажу кофейные чашки, которые предоставляют относительно мягкотелым дамам большой выбор достаточно твердых бюстгальтеров, после чего Ив Ст. Лоран незамедлительно скумекал лифчик, позволяющий подавать два яйца всмятку этаким довольно возбуждающим воображение способом.
Жаль, что до сих пор никто не нашел дополнительного применения яйцам всмятку, – это и обескураживает тех, кто кушает их, испуская тяжелые вздохи, – так рвется цепь радостных превращений, которая остается простой цепочкой, к слову сказать, довольно-таки дорогой.
Лукас – его долгие путешествия
Всему миру известно, что Земля отдалена от других систем тем или иным количеством световых лет. Но лишь немногие знают (в сущности, только я), что Маргариту отделяет от меня внушительное количество лет улитковых.
Сперва я думал, что имею дело с черепаховыми годами, но должен был отказаться от этой единицы измерения как от слишком оптимистической. При всей черепашьей медлительности я бы так или иначе добрался до Маргариты – совсем иное дело Ева, моя особо любимая улитка, не оставляющая мне в этом смысле ни малейшей надежды. Не помню уже, когда она начала свой путь, так незначительно отдаливший ее от моего левого башмака, после того как я с исключительным тщанием сориентировал ее по курсу, который мог привести ее к моей Маргарите. Окруженная свежим салатом-латуком, заботой и вниманием, она довольно обнадеживающе двинулась в дорогу, внушив мне надежду, что прежде, чем сосна вырастет выше крыши, серебристые рожки Евы попадут в поле Маргаритиного зрения, ублажив ее этим милым знаком моего внимания, а я бы в это время радовался на расстоянии, представляя ее радость, волнение ее кос и рук при виде приближающейся улитки.
Возможно, все световые года одной длины, с улитковыми не так, и Ева рискует совсем выйти из моего доверия. Не то чтобы она останавливалась – я имел возможность удостовериться по ее серебристому следу, что она движется, к тому же в правильном направлении, хотя ей приходится карабкаться и спускаться по бесчисленным стенам, а порой преодолевать целиком какую-нибудь фабрику по производству лапши. Но очень уж трудоемко для меня проверять ее похвальную точность: дважды я был задержан разъяренными сторожами и должен был несусветно лгать, поскольку правда стоила бы мне множества тумаков. Печальнее всего, что Маргарита в своем кресле, обитом розовым бархатом, ждет меня совсем с другой стороны города. Если бы вместо Евы я воспользовался услугами световых лет, у нас были бы уже внуки, но когда любишь долго и нежно, когда растягиваешь удовольствие от ожидания, естественней всего выбрать года улитковые. В конечном счете не просто решить, в чем преимущество, а в чем неудобство избранных нами решений.
Лукас – его битвы с гидрой
Лишь теперь, начав стареть, он понимает: убить ее не так-то просто.
Быть гидрой просто, а убить ее – нет, потому что если и вправду для убийства гидры надо отсечь ее многочисленные головы (от семи до девяти, по мнению авторитетных знатоков и определителей животного мира), то необходимо оставить хотя бы одну, поскольку гидра – сам Лукас, и чего он хочет – так это выбраться из гидры, но остаться в Лукасе, перейти из много- в одноголовое существо. Поглядел бы я на тебя, шипит Лукас, завидуя Гераклу, не испытавшему никаких затруднений с Лернейской гидрой, от которой после того, как он ухайдакал ее дубиной, остался живописный фонтан с семью или девятью струями крови. Одно дело убить гидру, а другое – быть этой гидрой, которая однажды была просто Лукасом, кем и желательно снова стать. К примеру, оглоушиваешь ее ударом по голове, коллекционирующей грампластинки, и другим ударом – по той, что неизменно помещает курительную трубку в левой части письменного стола, а стакан с фломастерами – в правой и немного в глубине. И начинаешь оценивать результаты.
Хм, кое-что достигнуто, две заминусованные головы приводят в критическое состояние оставшиеся, которые лихорадочно шевелят мозгами перед лицом столь рокового события. Иначе говоря, на какое-то время перестает быть навязчивой идея срочно дополнить собрание мадригалов Джезуальдо ди Венозы[13],
князя (Лукасу недостает двух дисков этой серии, похоже, что они распроданы и не будут переиздаваться, а это приуменьшает значение остальных. Бац! – и не стало головы с этими ее размышлениями, хотениями и зудениями). К тому же настораживающим новшеством является то, что рука, тянущаяся за трубкой, обнаруживает: оная не находится на своем месте. Воспользовавшись этой тягой к беспорядку, тут же и звезданем по голове, обожающей уединение, кресло для чтения рядом с торшером, виски в полседьмого с двумя кубиками льда и умеренным количеством содовой, книги и журналы, сложенные в порядке их поступления.
И все же убить гидру и вернуться в Лукаса очень трудно, думает он в самый разгар этой жестокой битвы. Для начала он принимается описывать ее на листе бумаги, вынутом из второго ящика письменного стола справа, хотя бумага лежит и на столе и вообще повсюду, но нет уж, сеньор, так заведено, и прекратим разговоры о суставчатой итальянской лампе, четыре позиции, сто ватт, стоящей вроде крана на стройке и тонко сбалансированной таким образом, что пучок света, и т. д. Молниеносный удар, и прощай голова – египетский писец в сидячем положении! Одной меньше, уф! Лукас все ближе к самому себе, дело пошло на лад.
Он так и не узнает, сколько еще голов ему остается прикончить, потому что раздается телефонный звонок: это Клодин, которая говорит, что надо идти – только по-бы-стрей! – в кино, где показывают что-то с Вуди Алленом[14]. Разумеется, Лукас приканчивал головы не в онтологическом порядке, как надо бы, и поэтому первая его реакция – нет, ни в коем случае, Клодин на другом конце провода превращается в маленького кипящего рака. Вуди-Аллен, Вуди-Аллен, а Лукас: милочка, не гони, если хочешь, чтобы у меня был сносный вид, ты что же, считаешь, что я должен бежать с поля боя, истекая плазмой и резус-фактором, лишь потому, что тебе втемяшился в голову Вуди Аллен, пойми, есть таланты и таланты. Когда на другом конце обрушивают на крючок Джомолунгму в виде телефонной трубки, Лукас смекает, что сперва надо было оттяпать голову, которая упорядочивает, обхаживает и градуирует время, возможно, тогда все сразу облегчилось бы и выстроилось: трубка-Клодин-фломастеры-Джезуальдо-в-разных-видах-ну-и-Вуди-Аллен, конечно. Но поздно – нет ни Клодин, ни даже слов, чтобы продолжить рассказ о битве, так как и битвы-то уже нет, какую голову отрубать, если всегда найдется еще одна, более начальственная, самое время отвечать с запозданием на письма, через десять минут виски с кубиками льда и содовой, совершенно очевидно, головы у него снова отросли, как он ни сшибал их, ни к чему это не привело. В ванной Лукас видит в зеркале всю гидру целиком с ее ртами, расплывшимися в ослепительных улыбках, со всеми зубами наружу. Семь голов, по одной на каждую декаду, хуже всего – подозрение, что у него могут вырасти две новые, чтобы потрафить некоторым специалистам в гидровой области, – конечно, если хватит здоровья.
Лукас – его подарки ко дню рождения
Купить торт в кондитерской «Два китайца» было бы слишком просто, Гладис догадалась бы об этом, хотя она чуть и близорука, и Лукас считает вполне оправданным потратить полдня, чтобы лично изготовить подарок для той, которая заслуживает не только это, но и гораздо больше, но уж это во всяком случае. С самого утра он носится по кварталу, покупая наилучшую муку и тростниковый сахар, после чего внимательнейшим образом перечитывает рецепт торта «Пять звезд», верх искусства доньи Гертруды, матери всех добрых застолий, и вскоре кухня его квартиры превращается в подобие лаборатории доктора Мабусе. Друзья, забегающие к нему, чтобы переброситься скачечными прогнозами, незамедлительно уходят, почувствовав первые признаки удушья: Лукас просеивает, процеживает, взбалтывает и распудривает различные тонкие ингредиенты с таким усердием, что воздух склонен увильнуть от своих прямых обязанностей.
Лукас – мастер своего дела, к тому же торт не для кого-нибудь, а для Гладис, что уже предполагает несколько уровней слоеного теста (нелегко сделать хорошее слоеное тесто), между которыми помещаются изысканные конфитюры, чешуйки венесуэльского миндаля, тертый кокосовый орех, даже и не тертый, а размолотый в обсидиановой ступке до атомного распада, затем следуют внешние красоты, заимствованные у палитры Рауля Сольди, но с выкрутасами, определенно вдохновленными Джексоном Поллоком, за исключением более спокойного сектора, отведенного под надпись «СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ», чей ошеломляющий рельеф инкрустирован вишенками и мандариновыми корочками в сиропе, – и все это Лукас выписывает шрифтом «баскервиль» четырнадцатого кегля, что придает надписи почти возвышенный характер.
Нести торт «Пять звезд» прямо на подносе или блюде Лукас считает пошлостью, достойной банкета в «Жокей клубе», и он осторожно помещает его на белый картонный круг, размеры которого чуть превышают окружность торта. Незадолго до торжества он надевает костюм в полоску и появляется в переполненной гостями прихожей, неся поднос с тортом в правой руке, что уже равно подвигу, а левой дружески отстраняет зачарованных родственников и более чем четверых просочившихся чужаков,- и все они клянутся, что скорее умрут на месте геройской смертью, нежели откажутся от дегустации блистательного дара. Вот почему за спиной Лукаса образуется что-то вроде кортежа, в котором изобилуют крики, аплодисменты и звуки сглатываемой слюны, а появление всех в гостиной напоминает чем-то провинциальную постановку «Аиды». Понимая всю торжественность момента, родители Гладис складывают руки в довольно банальном, но вполне уместном жесте, и все прерывают ярко-незначительную беседу, дабы продефилировать со всеми зубами наружу и глазами, обращенными к небесам.
Счастливый, удовлетворенный, чувствуя, что долгие часы труда завершаются чем-то близким к апофеозу, Лукас решается на финальное действие в этом Великом Предприятии его рука, взмывшая в жесте дароносца, довольно опасно проносится перед страждущими взорами публики и швыряет торт прямо в лицо Гладис. Все это занимает приблизительно столько же времени, сколько необходимо Лукасу для ознакомлена с текстурой брусчастки, что сопровождается ливнем пинков весьма напоминающим потоп.
Смех смехом, а не стало шестерых[15]
Чуть за пятьдесят – все мы мало-помалу начинаем умирать с другими умершими. Великие маги-волшебники нашей молодости один за другим покидают этот мир. Мы уже и не думали о них, они остались где-то там, в истории, others voices, others rooms[16] привлекли наше внимание. Конечно, и там они остались лишь в виде картин, на которые глядят не как вначале, в виде стихов, которые лишь слабо благоухают в памяти.
И вот (у каждого свои любимые тени, свои великие посредники) настает день, когда первый из них так страшно заполняет собой газеты и радиопередачи. Возможно, мы не сразу поймем, что в этот день началось и наше умирание, – я-то догадался об этом в тот вечер, когда в разгар ужина кто-то вскользь упомянул о сообщении по телевидению: в Мейи-ла-Форе только что скончался Жан Кокто, – словно частица меня самого упала на скатерть под ничего не значащие реплики.
А там и другие, всегда одинаково – по радио или из газет: Луи Армстронг, Пабло Пикассо, Стравинский, Дюк Эллингтон, а вчера вечером, когда я кашлял в гаванской больнице, – вчера вечером голос друга принес мне в постель слух извне: Чарли Чаплин! Нет сомнения, я выйду из этой больницы здоровым, но в шестой раз чуть менее живым.
Молчаливый спутник
Любопытная связь, возникшая между одной историей и одной догадкой о том, что случилось много лет назад и на довольно дремучем расстоянии, сейчас может считаться фактом. Однако до неожиданной беседы в Париже то, что произошло лет двадцать назад на безлюдном шоссе в аргентинской провинции Кордова, не вязалось со всем остальным.
Историю рассказал Альдо Франсесчини, догадку высказал я и обе всплыли в мастерской художников на улице Поля Валери, где мы попивали вино, курили и наслаждались беседой о вещах, связанных с нашей страной, без эффектных фольклорных вздохов, обычно испускаемых аргентинцами, которые шатаются здесь неведомо почему и зачем. По-моему, сперва заговорили о братьях Гальвес и тополях Успальяты, во всяком случае я помянул Мендосу, и Альдо, который сам оттуда, завелся, что называется, с пол-оборота, и не успели мы оглянуться, как он уже несся на автомобиле из Мендосы в Буэнос-Айрес, пересекая в полночь Кордову, и вдруг посреди дороги у него кончился то ли бензин, то ли вода в радиаторе. А история его сводится к следующему.
– Ночь была темная, место совершенно пустынное, и не оставалось ничего другого, как дожидаться какой-нибудь машины, которая бы нам помогла выйти из затруднения. В те годы на такие длинные перегоны многие прихватывали запасные канистры с бензином и водой. На худой конец проезжий подбросил бы нас с женой к гостинице в ближайший пункт, где таковая имелась бы. Была сплошная темнота, мы поставили машину у самой обочины, курили и ждали. Около часа ночи завиднелся идущий в сторону Буэнос-Айреса автомобиль, и я стал сигналить с дороги фонарем.
Такие вещи поначалу трудно объяснить, но еще до остановки автомобиля я почувствовал, что водитель останавливаться не хотел, что у этой машины, которая мчалась как угорелая, было желание гнать дальше, пусть бы я даже валялся на дороге с пробитой головой. В последний момент я еле отпрянул в сторону – по милости чертовых тормозов машину пронесло еще метров на сорок вперед, я бросился вслед и подбежал к ней со стороны водительского окна. Я погасил фонарь, панель приборов достаточно высвечивала лицо человека, который вел машину. Я сказал ему, в чем дело, и попросил помочь, и, пока я говорил, душа у меня стала уходить в пятки, – по правде говоря, еще когда я приближался к машине, я начал испытывать страх, безотчетный страх, в общем-то неоправданный, ведь в таком месте и в такую тьму больше должен был опасаться шофер. Объясняя ему что да как, я заглянул внутрь автомобиля, сзади никого не было, но рядом с водителем что-то сидело. Я говорю «что-то» за неимением лучшего слова, все началось и закончилось тут же, единственно реальным был страх, какого я никогда не переживал. Клянусь тебе, когда водитель, резко нажав на газ и сказав: «Нет у нас бензина!», рванул вперед, я испытал облегчение. Вернувшись к нашей машине, я не мог объяснить жене случившегося, но этого и не требовалось, она сама почувствовала весь этот бред как нечто угрожавшее нам со стороны автомобиля и ощутила это на расстоянии, даже не видя того, что увидел я.
Ты спросишь, что я увидел, а я и сейчас тебе не отвечу. Рядом с водителем, я сказал, находилось нечто черное, что не делало ни малейшего движения и не поворачивало головы. В конце концов мне ничего не стоило снова зажечь фонарь и осветить обоих, но объясни на милость, почему моя рука не решилась на это, почему все это длилось лишь миг, почему я чуть ли не благодарил бога, когда автомобиль рванулся и исчез, и в особенности – какого хрена я радовался, что просидел в открытом поле всю ночь, пока на рассвете какой-то грузовик не протянул нам руку помощи и флягу с граппой?
Чего я никогда не пойму, так это чувства, которое возникло прежде, чем я увидел то, что увидел и что помимо всего прочего почти ничем не было. Словно бы я испугался, еще когда почувствовал, как эти, в автомобиле, не хотят останавливаться и делают это против воли, только чтобы не сбить меня, но и это не объяснение: кому нравится, когда его останавливают в самую полночь в такой глуши. Мне казалось, все началось, когда я заговорил с водителем, но, пожалуй, я начал что-то подспудно ощущать, когда приближался к автомобилю, – какое-то напряжение, что ли. Иначе трудно объяснить состояние озноба, возникшее, когда мы обменивались словами с человеком за рулем и когда мне привиделся тот, другой, который тут же пробудил во мне страх и был сутью всего происходящего. Пойми тут! Был это монстр, какой-нибудь дефективный страшила, которого везли темной ночью, чтобы его никто не увидел? Больной с искалеченным или покрытым гнойниками лицом? Ненормальный, от которого шло какое-то зловещее излучение, гибельное наваждение? Бог весть. Только, знаешь, брат, никогда мне не было так страшно.
Так как при мне были тридцать восемь лет хорошо упакованных аргентинских воспоминаний, рассказ Альдо в определенной его части вызвал щелчок, и моя ЭВМ, мгновение поверещав, выбросила карточку с догадкой, а возможно, и объяснением.
Я вспомнил, что испытал нечто подобное в одном кафе в Буэнос-Айресе – этакий первозданный ужас, как в кино на «Вампире», – через уйму лет этот ужас сопрягся с ужасом Альдо, и, как всегда, подобное сопряжение стало силой, породившей догадку.
– Ехал в ту ночь рядом с водителем, – сказал я ему, – мертвец. Странно, что ты раньше не слышал об индустрии перевозки трупов в тридцатые и сороковые годы, были это в основном чахоточные, которые умирали в санаториях Кордовы, а семьи хотели похоронить их в Буэнос-Айресе. Что-то в местных законах или где-то там еще очень удорожало перевозку трупов, вот и родилась идея – слегка подмалевав мертвеца, сажать его рядом с водителем и делать перегон от Кордовы до Буэнос-Айреса за одну ночь, чтобы затемно добраться до столицы. Когда мне рассказали об этом, я ощутил почти то же, что и ты, потом я не раз силился понять это отсутствие воображения у типов, которые зарабатывали на жизнь подобным образом, да так и не мог. Представь себе: сидишь в одной машине с мертвецом, который притиснулся к твоему плечу, и жмешь со скоростью сто двадцать по абсолютно безлюдной пампе. За пять или шесть часов могло произойти всякое, труп – существо не столь закостенелое, как полагают, и живой не может быть настолько толстокожим, как это иногда кажется. Но вот что я тебе скажу, а ты плесни-ка вина, – по крайней мере двое из тех, что участвовали в этом деле, стали позже большими гонщиками в соревнованиях на шоссе. Заметь, этот разговор у час и начался с братьев Гальвес. Не думаю, что они занимались этой работенкой, но состязались-то они с теми, кто ею занимался. И верно – в этих сумасшедших гонках всегда ощущаешь плечом плечо смерти.
Лукас – его больницы (I)
Так как больница, куда лег Лукас, «пятизвездочная», где больной-всегда-прав, и сказать «нет», даже когда он просит невесть что, куда как серьезная проблема для медсестер, всем они обворожительно и наперегонки отвечают «да» – по причинам, указанным выше.
Конечно, невозможно удовлетворить просьбу толстяка из 12-й палаты, который в разгар цирроза печени требует каждые три часа бутылку джина, зато с каким удовольствием девушки сказали «да», «само собой», «ну, конечно», когда Лукас, увидевший во время проветривания палаты в холле букетик ромашек, почти застенчиво попросил разрешения унести одну ромашку в палату, чтобы хоть как-то скрасить обстановку.
Положив ромашку на тумбочку, Лукас нажимает на кнопку звонка и просит принести стакан с водой, чтобы придать растению более свойственное ему положение. Не успевают принести стакан и поставить туда цветок, как Лукас замечает, что тумбочка загромождена склянками, журналами, сигаретами и почтовыми открытками, так что – нельзя ли поставить какой-нибудь столик к изножью кровати, это позволит наслаждаться видом ромашки, не рискуя вывихнуть шею в процессе обнаружения цветка среди различных предметов, размножающихся на тумбочке.
Медсестра тут же приносит требуемое и ставит стакан с ромашкой в наилучшем для обозрения ракурсе, за что Лукас тут же ее благодарит, замечая вскользь, что его посещают многочисленные друзья, а стульев маловато и было бы весьма кстати, воспользовавшись наличием принесенного столика, добавить два-три удобных кресла, что создало бы более располагающую к беседе атмосферу.
Не успевают медсестры появиться со стульями, как Лукас говорит, что чувствует себя крайне обязанным перед друзьями, которые должны делить с ним горькую чашу сию, в силу чего большой стол явился бы как нельзя кстати, предварительно покрытый, конечно, скатеркой под две-три бутылки виски и полдюжины бокалов, желательно граненого стекла, не говоря уже о термосе со льдом и нескольких бутылках содовой.
Девушки разбегаются в поисках всех этих предметов и художественно располагают их на принесенном столе, при этом Лукас позволяет себе заметить, что присутствием бокалов и бутылок значительно снижается эстетический эффект ромашки, она прямо-таки затерялась в общем ансамбле, хотя выход из положения весьма прост, – ведь если чего-то и не хватает в помещении, так это шкафа для одежды и обуви, кое-как сваленной в районе вешалки, так что достаточно поместить стакан с ромашкой на шкаф, и цветок будет доминировать в палате, придав ей тот таинственный шарм, который является ключом к любому успешному выздоровлению.
Сверх меры уставшие от всего, но верные правилам больницы, девушки старательно передвигают широченный шкаф в сторону палаты – на нем в конце концов и водружается ромашка, напоминающая несколько оторопевший, но доброжелательный глаз. Медсестры карабкаются на шкаф, чтобы подлить немного воды в стакан, и тогда Лукас закрывает глаза и говорит, что теперь все в полном порядке и он попытается соснуть. Как только закрывают дверь, он вскакивает, вытаскивает ромашку из стакана и выбрасывает ее в окно, потому что это не тот цветок, который лично ему нравится.
Лукас – его больницы (II)
Головокружение, внезапная нереальность. Вот когда другая, незамечаемая, потаенная реальность плюхается жабой на твое лицо где-нибудь посреди улицы (какой именно?) августовским утром в Марселе. Не части, Лукас, давай по порядку, нужна ведь хоть какая-то связность. Само собой. Связность. Ладно, по рукам, но попробуем сделать это, ухватив нитку за конец, иначе не распутать клубка, – известно, что в больницу обычно попадаешь в качестве больного, а еще в качестве сопровождающего, так оно и вышло с тобой три дня назад, точнее, позавчера перед рассветом, когда карета «скорой» повезла Сандру и тебя с нею, тебя с ее рукой в твоей, тебя, ставшего свидетелем ее приступа, ее бреда, тебя, которому только и хватило времени, чтобы сунуть в сумку несколько ошибочно взятых или бесполезных вещей, тебя, легко одетого, как и подобает в августе в Провансе, – штаны, рубашка и сандалии, тебя, потратившего битый час на поиск больницы, на вызов «скорой», на артачившуюся Сандру и врача, сделавшего успокоительный укол, а там друзья из гостеприимного селеньица среди холмов помогли санитарам задвинуть носилки с Сандрой в карету, подобие утреннего туалета, несколько телефонных звонков, добрые напутствия, белые створки задней двери захлопнулись, оставив вас в капсуле, если не в склепе, тихо бредящая на носилках Сандра, а рядом ты, подпрыгивающий при толчках, потому что карета, прежде чем достигнет шоссе, должна съехать по усыпанной камнями дорожке, темнота, и ты рядом с Сандрой и двумя санитарами, а потом свет, на этот раз больничный, трубки, и пузырьки, и запах «скорой», которая темной ночью среди холмов искала наикратчайший путь к шоссе, пыхтела, словно выбившись из сил, а после во весь дух неслась, испуская двойной звук сирены, который столько раз слышишь со стороны всегда с одним и тем же спазмом в желудке и желанием не слышать.
Конечно, ты знал маршрут, но Марсель огромен, больница на окраине, а две ночи без сна не помогают опознавать все повороты и проезды, карета «скорой»- белая коробка без окошек, и в ней только Сандра, санитары и ты, целых два часа езды до ворот, регистрация, расписки, кровать, дежурный врач, чек за карету «скорой», чаевые, все в почти приятном тумане, спасительная дремота, Сандра уснула, и ты тоже можешь прилечь, медсестра принесла тебе раскладное кресло, которое одним своим видом предвещает сны не горизонтальные, не вертикальные, а скорее с косой траекторией, с коликами в почках и с ногами на весу. Но Сандра спит, и, значит, все хорошо, Лукас выкуривает еще одну сигарету, и кресло кажется ему даже удобным, и вот так мы оказываемся на позавчерашнем рассвете, палата номер 303, большое окно с видом на далекие горы и слишком близкие паркинги, где рабочие неторопливо передвигаются среди труб, грузовиков и мусорных баков, – все это и помогает Сандре и Лукасу воспрянуть духом.
Все идет как нельзя лучше, ведь Сандре после сна полегчало, ее взгляд прояснел, она шутит с Лукасом, появляются врачи и профессор с медперсоналом, и происходит то, что должно происходить утром в больнице, надеешься тут же выйти и вернуться на холмы, к отдыху, кефиру и минеральной воде, а там – термометр в Сандрин задний проходик, кровяное давление, новые документы, которые надо подписать в администрации, и вот тогда-то Лукас, спустившись эти бумаги подписать, на обратном пути сбивается с курса, не находя ни коридоров, ни лифта, – вот тогда-то у него и возникает первое и пока еще слабое ощущение жабой по лицу, длится это лишь мгновение, потому что все прекрасно, Сандра лежит в постели и просит купить ей сигареты (хороший признак) и позвонить друзьям, пусть знают – все идет хорошо, и Сандра очень скоро вместе с Лукасом вернется на холмы, к покою, и Лукас отвечает: хорошо, милая, ну, конечно, хотя знает: насчет очень скоро будет совсем не скоро, ищет деньги, которые, к счастью, прихватил с собой, записывает телефоны, и тогда Сандра говорит, что у нее нет пасты (хороший признак) и полотенец, – ведь во французские клиники надо являться со своим полотенцем и своим мылом, а иногда и со своим столовым прибором, – вот Лукас и составляет список гигиенических покупок, присовокупляя рубашку на смену для себя и еще одни трусики, а для Сандры ночную рубашку и туфли, потому что в карету «скорой» Сандру, само собой, выносили разутой, – кто ночью станет думать о таких вещах после двух бессонных дней и ночей.
На этот раз Лукас с первой же попытки добирается до выхода, что не так уж и трудно, – на лифте до первого этажа, там временный проход по дощатому настилу и просто по земляному покрытию (больницу модернизируют, и надо следовать по стрелкам, указующим проходы, хотя порой они их не указуют или указуют двояко), затем длиннущий переход, на этот раз взаправдашний, этакий королевский переход через бесконечные залы с офисами по сторонам, различными кабинетами, в том числе рентгеновскими, мимо санитаров с носилками и с больными, а не то одних санитаров или одних больных, поворот налево, еще один проход со всеми вышеперечисленными и еще всякими разными объектами, тесная галерея, выводящая на пересечение коридоров, и, наконец, заключительная галерея, ведущая к выходу.
Десять часов утра, и немного сонный Лукас спрашивает у дежурной в «Справочном», где можно купить вещи из его списка, и дежурная отвечает, что надо выйти из больницы через левый или правый вход, это безразлично, и дорога сама приведет к торговым центрам, разумеется, это не близко, так как больница огромна и может функционировать лишь на периферии города, – объяснение Лукас счел бы безукоризненым, если бы не был столь оглоушенным, столь не в своей тарелке, сталь в другом контексте все еще длящегося пребывания на холмах, – и стало быть, вот он шаркает в своих сандалиях и рубашке, измятой пальцами, когда он ночью ворочался в своем предполагающем отдых кресле, сбивается с пути и выходит к одному из корпусов больницы, возвращается по внутренним проездам и наконец отыскивает выход, – до этой поры пока все в норме, если не считать периодического ощущения жабой по лицу, но он цепко держится за мысленный провод, провод, связывающий его с Сандрой, находящейся там, наверху, в этом невидимом уже корпусе, и ему приятно думать, что Сандре немного лучше, что он принесет ей рубашку, если найдет ее, и пасту, и туфли. Он бредет вниз по улице вдоль ограды больницы, которая занудливо навевает мысли об ограде кладбищенской, жарища разогнала по домам всех, нет никогошеньки, только автомобили цепляют его на ходу, так как улица очень узкая, без деревьев и тени, в зените солнце, столь воспетое поэтами и столь терзающее Лукаса, который чувствует некоторый упадок сил и одинокость, надеясь увидеть, наконец, супермаркет или на худой конец две-три лавчонки, но нет ни того, ни другого, еще полкилометра, поворот, и убеждаешься, что мамона не испарилась, – сперва завиднелась заправочная станция, а это уже кое-что, лавка (запертая) и чуть ниже – супермаркет со старухами, обвешанными корзинками, снующими туда-сюда, автомобильчики и стоянки, забитые машинами. И вот Лукас блуждает по различным секциям, находит мыло и пасту, но не находит всего остального, нельзя вернуться к Сандре без полотенца и ночной рубашки, он беседует с кассиршей, которая советует пойти направо, потом налево (не совсем налево, а как бы) по улице Мишле, где находится супермаркет с полотенцами и всем таким. Все как в дурном сне, Лукас валится от усталости с ног, стоит ужасающая жара, в этом районе нет такси, и каждое новое разъяснение все больше удаляет его от больницы. «Мы победим!» – бормочет про себя Лукас, обтирая лицо рукой, и вправду все как в дурном сне, бедная лапочка Сандра, и все же мы победим, вот увидишь, у тебя будут полотенце, и ночная рубашка, и туфли, мать их растак!
Два-три раза он останавливается, чтобы отереть лицо, пот какой-то неестественный, он чувствует подобие страха, абсолютную бесприютность посреди (или на окраине) густо населенного города, второго во Франции, и опять – словно бы жабой промеж глаз, и он уже не знает, где находится (в Марселе, конечно, но – где, и это где – тоже ведь не то место, где он находится), все становится каким-то смешным и нелепым, а взаправдашним – лишь полдень, и встречная женщина говорит: а, вам супермаркет, идите вон туда, напротив будет Ле Корбюзье, и следом супермаркет, а как же, насчет ночных рубашек – это точно, моя оттуда, не за что, так что запомните, сперва туда, а после свернете.
Сандалии на ногах Лукаса словно огненные, штаны – сплошной ком, не говоря уже о трусах, ушедших под кожу, сперва туда, потом свернуть, и вдруг – Cite Radieuse, а потом еще раз вдруг – и напротив Лукас видит бульвар с деревьями и через дорогу – знаменитое здание Ле Корбюзье, которое он посетил двадцать лет назад между двумя этапами путешествия по югу, но тогда за блистательным зданием не было никакого супермаркета, а за плечами Лукаса – этих двадцати лет. Все это никому не интересно, ибо блистательное здание так же задрипано и малоблистательно, как в тот раз, когда он увидел его впервые. И совсем не важно, что он тащится сейчас под брюхом этого огромного цементного животного, приближаясь к ночным рубашкам и полотенцам. И все же это происходит именно здесь – именно в том месте, единственно знакомом Лукасу в марсельской округе, куда он неведомым образом попал, словно парашютист, выброшенный в два часа ночи на незнакомую территорию, на больницу-лабиринт, и вынужденный блуждать и блуждать, придерживаясь инструкций и безлюдных улиц, одинокий пешеход среди автомобилей, похожих на бездушные болиды, и здесь, под брюхом и бетонными ногами того единственного, что ему знакомо и что он может узнать среди незнакомого, – именно здесь он и получает взаправду жабой по лицу, и вот головокружение, внезапная нереальность, и другая, незамечаемая, потаенная реальность на миг разверзается, как трещина в магме, – Лукас таращится, страдает, дрожит, принюхивается к правде, – боже, заблудиться, обливаться потом, вдали от основ и опор, от знакомого и родного, от дома на холмах, от хлама в закромах, от милой рутины, более того, вдали от Сандры, которая где-то близко, но где, – снова надо расспрашивать, как вернуться, и он никогда не найдет такси в этом вражьем районе, да и Сандра – не Сандра, а горестная зверушка на больничной койке, да-да, вот что такое Сандра, весь этот пот и эта скорбь – это и есть Сандра, которая маячит где-то неподалеку от его сомнений и рвоты, от последней реальности, вот уж чепуха – заблудиться с больной Сандрой в Марселе, вместо того чтобы наслаждаться с Сандрой в доме на холмах!…
Конечно, эта реальность продержится недолго, конечно, Лукас и Сандра выберутся из больницы, и Лукас забудет тот миг, когда он, одинокий и потерянный, постиг всю нелепость своего состояния одиночества и потерянности, и все же, и все же… И вот он лениво (почувствовал себя лучше) начинает посмеиваться над всем этим свинством и вспоминает рассказ, прочитанный чуть ли не столетие назад, о фальшивом оркестре в одном из кинотеатров Буэнос-Айреса. Есть что-то похожее между типом, который выдумал этот рассказ, и им,- неведомо какое, но есть, во всяком случае, Лукас пожимает плечами (он и впрямь делает это) и в конце концов находит ночную рубашку и туфли, жаль, правда, что нет шлепанцев для него – вещь небывалая для города в самый полдень.
Павел Грушко Некто Хулио Кортасар
В августе 1984 года Хулио Кортасару исполняется семьдесят лет. В это трудно поверить – настолько молода, изобретательна, полна живой фантазии его проза. Художник предельно современен – современны проблемы (социальные, психологические, нравственные), которые его занимают, современна его мастера письма.
Избегая соблазна увлечься биобиблиографическим жанром, кажу лишь, что родился писатель в 1914 году в Брюсселе, что детство, юность и годы человеческого и творческого мужания прожил в Аргентине, что не по своей воле – как и многие другие латиноамериканцы – провел последние десятилетия на чужбине.
Автор нескольких романов (один из них – «Выигрыши» – знаком советским читателям), Кортасар еще и замечательный рассказчик – по тонкому ощущению пространства, в которое должна вместиться та или иная тема, по своеобразному способу ее выражения, по абсолютному слуху и чувству ритма. Никто, кажется мне, лучше самого писателя не выразил сущность своего дела: «Все написанное мною – относится к жанру фантастики… за неимением другого названия».
В рассказах Хулио Кортасара встречаются не только фантастические ситуации (к слову сказать, всегда с реалистической достоверностью психологических и бытовых деталей), но и фантастические персонажи вроде хронопов, фамов и надеек из цикла «Жизнь хронопов и фамов». (Один из рассказов о них вы прочтете в сборнике.)
Лишь на первый взгляд кажутся странными эти «зеленые и влажные фитюльки», которые прогуливают по городу своих рыб-флейт, пляшут стояк, коровяк и надею, позволяют путешествовать по себе вещам и людям, бальзамируют воспоминания, делают часы из артишоков, изобретают жизнемометр, делают открытие, что добродетель – микроб, лечат букетами роз, рисуют на черепашьих панцирях ласточек…
Вжившись в сказочный мир этих нелепых и забавных существ, мы вдруг понимаем, что в лице хронопов и фамов пред нами во всем своем разнообразии предстает все тот же род человеческий. Не вступая в спор по поводу литературоведческих терминов, поймем смысл еще одного авторского признания: «Я одержим подозрением о существовании иного порядка вещей, более таинственного и менее постижимого». В большинстве своих работ он словно ожидает, когда на грани действительного и вымышленного объявится область подсознательного, страна интуиции, некий продукт этой дивной (а порою – адской) лаборатории человеческого опыта. Без таких ситуаций, без подобных «включений» нет Кортасара, по ним он больше всего и узнается. И вот что, кстати, говорил Кортасар, отвечая на анкету «Иностранной литературы»: «Считаю, что фантастическое лишено всякого литературного интереса, если оно не возникло из самой действительности,- действительность часто содержит в себе элементы, которые может заметить и опознать только воображение…» Вряд ли мы ошибемся, если скажем, что воображение и интуиция в публикуемом ниже рассказе «Все огни – огонь» помогли автору цепью тончайших ассоциаций навести мостик между эпохой Древнего Рима и современностью.
В этой книжке читатель познакомится с рассказами из разных сборников, в том числе из последних – «Некто Лукас» (книги в чем-то автобиографической) и «Мы так любим Гленду». Но к какому бы периоду творчества Кортасара ни относились эти произведения, мы всегда найдем в них характерные для автора свойства: неожиданность, игру, загадку, парадокс.
Поклонники и обожатели киноактрисы Гленды лишают ее жизни из опасения, как бы их кумир не запятнал живущий в их душах идеальный образ («Мы так любим Гленду»). Герой рассказа «Что нами движет», преследуя убийцу своего друга, расправляется с ни в чем не повинным спутником на корабле, имевшим несчастье вызвать его недовольство. Однако тем, кто прочитает эти новеллы, станет ясно: именно кажущаяся иррациональность происходящего, неподвластность его обыденной логике позволяют автору с такой глубиной обнажить пустоту существования поклонников Гленды, развлекающихся игрой в интеллектуальную элиту, или показать абсурдность изживших себя традиций мести, под сенью которых скрываются агрессивность и равнодушие к жизни ближнего. Не все «секреты» в рассказах Кортасара раскрываются, часто Я ответ на загадку, предлагаемую читателям, неоднозначен («Непрерывность парков», «Застольная беседа», «Инструкции для с Джона Хауэлла») – писатель склонен к мистификации и розыгрышу. Но самой большой тайной остается все-таки тайна мастерства художника. По его признанию, он ни разу не мог воспользоваться ни одной темой, которые ему «дарили» друзья. Его рассказы как бы вытекают из звучания, из темы в музыкальном смысле. Он похож на джазового импровизатора, созидающего на виду и на слуху у зрителей-слушателей свое «сиюминутное» детище, ни на миг не забывая, конечно, о мелодической и ритмической основе – о «блюзовом квадрате».
Вот как говорит Кортасар о роли музыкального начала в своих коротких новеллах: «Действенность и смысл рассказа зависят от тех ценностей, которые определяют жизнь и суть стихотворение или джазовой музыки: напряжение, ритм, внутренняя пульсация, то непредвиденное в заданных рамках, та роковая свобода, которой нельзя изменить, не понеся безвозвратной потери».
Хочется, чтобы читатель» этого сборника проверил справедливость и других наблюдений Кортасара над жанром рассказа. Рассказ должен быть «колким, и беспощадно…кусачрм». «Время рассказа и eго пространство должны быть сконденсированы, находиться под большим духовным давлением и давлением формы». Или (здесь Кортасар пересказывает мысль другого аргентинского писателя): «Роман побеждает всегда «по очкам», рассказ должен выиграть нокаутом».
Активная жизненная позиция писателя, его несомненная антибуржуазность, вера в правомерность социалистических преобразований, исходящих, по его словам, «из интересов, человечных по самой своей сути», безусловно нашли выражение в творчестве Кортасара, однако не в прямой проекции, а преломившись в «магическом кристалле» искусства. Именно это делает столь сильным и выразительным, например, рассказ «Вечер «Мантекильи», где автор самым решительным образом выступает против современной нечаевщины, получившей распространение во всем мире среди левых и правых экстремистских груп пировок. Потому так неожиданны – просто дыхание перехва тывает – откровения-зарницы рассказа (опубликованного в советской печати) «Апокалипсис в Солентинаме», когда среди отснятых в Никарагуа слайдов народной живописи вдруг появ ляются страшные кадры насилия в Латинской Америке – «снова и снова я нажимал на кнопку проектора, отшатываясь шквала окровавленных лиц, кусков человеческого мяса и лав ны женщин и детей, бегущих по откосам Боливии и Гватемалы…» Как попали эти кадры на экран – ведь герой рассказа (в данном случае сам Кортасар) их не снимал? Не снимал… Но запечатлел, как все мы, своим сознанием, своей совестью, своей ненавистью к миру насилия и произвола…
Мне довелось лишь однажды в течение двух дней общаться с Хулио Кортасаром. Это было не так давно на Конгрессе в защиту чилийской культуры в польском городе Торуне. Писатель поразительно молод душой и красив – ростом, гривой волос, своей улыбкой. Привлекают его яркий и живой ум, изысканная деликатность и – одновременно – беспощадная ирония, когда речь идет о том, что омертвляет жизнь человечества в конце нашего великого, но такого порою жестокого двадцатого столетия. Облик Кортасара удивительно соответствует его произведениям. А сама пластика его прозы заставляет более чутко вслушиваться в звучание фамилии писателя. Два испанских корня составляют ее: «кортар» – резать, вспарывать, и «асар» – риск, удача, азарт.
Исследование, игра, острота, поиск – мир прозы Хулио Кортасара.
Павел Грушко
Примечания
Переводчики:
Непрерывность парков. Перевод В. Спасской
Застольная беседа. Перевод В. Спасской
Инструкции для Джона Хауэлла. Перевод В.Спасской
Все огни – огонь. Перевод В. Спасской
Что нами движет. Перевод Ю. Грейдинга
Лилиана плачет. Перевод Ю. Грейдинга
Место под названием Киндберг. Перевод В.Спасской
Вечер «Мантекильи». Перевод В. Спасской
Мы так любим Гленду. Перевод В. Спасской
Пространственное чутье кошек. Перевод В. Спасской
Как добраться до страны хронопов. Перевод П. Грушко
Из книги «Некто Лукас». Перевод П.Грушко
(обратно)1
сказал (лат).- Здесь и далее – прим. переводчика
(обратно)2
Хлебосольный хозяин
(обратно)3
Одна из первых систем кинематографа, созданная в США Диксоном в 1896 г.
(обратно)4
Закусочная, где подается жареное на решетке мясо.
(обратно)5
свободного джаза (англ.)
(обратно)6
«Матери выдумки» (англ.) – название женского поп-ансамбля
(обратно)7
Мексиканский народный романс.
(обратно)8
Здесь: «Он ему вставил фитиля» (итал.)
(обратно)9
тут же (лат).
(обратно)10
Сначала – жить, потом – философствовать (лат.).
(обратно)11
жить
(обратно)12
Под этим названием известно событие в Праге в 1618 г., когда протестантами были выброшены из окна замка Градиш два имперских губернатора, что послужило поводом для начала Тридцатилетней войны.
(обратно)13
Джезуальдо ди Веноза, Карло, князь Венозы (ок. 1560-1613 или 1614), итальянский композитор, мастер мадригала.
(обратно)14
Вуди Аллен - современный американский писатель и актер
(обратно)15
Парафраз строки из сонета Лоне де Неги, иные голоса, иные пространства (англ.).
(обратно)16
иные голоса, иные пространства (англ.)
(обратно)
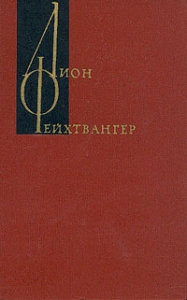


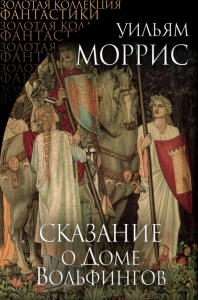
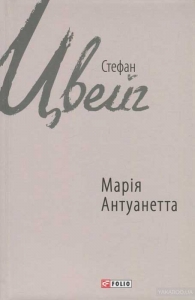
Комментарии к книге «Непрерывность парков», Автор неизвестен
Всего 0 комментариев