Франц Кафка В исправительной колонии
– Это особого рода аппарат, – сказал офицер ученому-путешественнику, не без любования оглядывая, конечно же, отлично знакомый ему аппарат. Путешественник, казалось, только из вежливости принял приглашение коменданта присутствовать при исполнении приговора, вынесенного одному солдату за непослушание и оскорбление начальника. Да и в исправительной колонии предстоявшая экзекуция большого интереса, по-видимому, не вызывала. Во всяком случае, здесь, в этой небольшой и глубокой песчаной долине, замкнутой со всех сторон голыми косогорами, кроме офицера и путешественника, находились только двое: осужденный – туповатый, широкоротый малый с нечесаной головой и небритым лицом, – и солдат, не выпускавший из рук тяжелой цепи, к которой сходились маленькие цепочки, тянувшиеся от лодыжек и шеи осужденного и скрепленные вдобавок соединительными цепочками. Между тем во всем облике осужденного была такая собачья покорность, что казалось, его можно отпустить прогуляться по косогорам, а стоит только свистнуть перед началом экзекуции, и он явится.
Путешественник не проявлял к аппарату интереса и прохаживался позади осужденного явно безучастно, тогда как офицер, делая последние приготовления, то залезал под аппарат, в котлован, то поднимался по трапу, чтобы осмотреть верхние части машины. Работы эти можно было, собственно, поручить какому-нибудь механику, но офицер выполнял их с великим усердием – то ли он был особым приверженцем этого аппарата, то ли по каким-то другим причинам никому больше нельзя было доверить эту работу.
– Ну, вот и все! – воскликнул он наконец и слез с трапа. Он был чрезвычайно утомлен, дышал, широко открыв рот, а из-под воротника мундира у него торчали два дамских носовых платочка.
– Эти мундиры, пожалуй, слишком тяжелы для тропиков, – сказал путешественник, вместо того чтобы, как ожидал офицер, справиться об аппарате.
– Конечно, – сказал офицер и стал мыть выпачканные смазочным маслом руки в приготовленной бадейке с водой, – но это знак родины, мы не хотим терять родину. Но поглядите на этот аппарат, – прибавил он сразу же и, вытирая руки полотенцем, указал на аппарат. – До сих пор нужно было работать вручную, а сейчас аппарат будет действовать уже совершенно самостоятельно.
Путешественник кивнул и поглядел туда, куда указывал офицер. Тот пожелал застраховать себя от всяких случайностей и сказал:
– Бывают, конечно, неполадки: надеюсь, правда, что сегодня дело обойдется без них, но к ним все-таки надо быть готовым. Ведь аппарат должен работать двенадцать часов без перерыва. Но если и случатся неполадки, то самые незначительные, и они будут немедленно устранены… Не хотите ли присесть? – спросил он наконец и, вытащив из груди плетеных кресел одно, предложил его путешественнику; тот не смог отказаться.
Теперь, сидя у края котлована, он мельком туда заглянул. Котлован был не очень глубок. С одной его стороны лежала насыпью вырытая земля, с другой стороны стоял аппарат.
– Не знаю. – сказал офицер, – объяснил ли вам уже комендант устройство этого аппарата.
Путешественник неопределенно махнул рукой; офицеру больше ничего и не требовалось, ибо теперь он мог сам начать объяснения.
– Этот аппарат, – сказал он и потрогал шатун, на который затем оперся, – изобретение прежнего нашего коменданта. Я помогал ему, начиная с самых первых опытов, и участвовал во всех работах вплоть до их завершения. Но заслуга этого изобретения принадлежит ему одному. Вы слыхали о нашем прежнем коменданте? Нет? Ну, так я не преувеличу, если скажу, что структура всей этой исправительной колонии – его дело. Мы, его друзья, знали уже в час его смерти, что структура этой колонии настолько целостна, что его преемник, будь у него в голове хоть тысяча новых планов, никак не сможет изменить старый порядок по крайней мере в течение многих лет. И наше предвидение сбылось, новому коменданту пришлось это признать. Жаль, что вы не знали нашего прежнего коменданта!… Однако, – прервал себя офицер, – я заболтался, а наш аппарат – вот он стоит перед нами. Он состоит, как вы видите, из трех частей. Постепенно каждая из этих частей получила довольно-таки просторечное наименование. Нижнюю часть прозвали лежаком, верхнюю – разметчиком, а вот эту, среднюю, висячую, – бороной.
– Бороной? – спросил путешественник.
Он не очень внимательно слушал, солнце в этой лишенной тени долине палило слишком жарко, и сосредоточиться было трудно. Тем больше удивлял его офицер, который, хотя на нем был тесный, парадный, отягощенный эполетами и увешанный аксельбантами мундир, так ревностно давал объяснения и, кроме того, продолжая говорить, еще нет-нет да подтягивал ключом гайку то тут, то там. В том же состоянии, что и путешественник, был, кажется, и солдат. Намотав цепь осужденного на запястья обеих рук, он оперся одной из них на винтовку и стоял, свесив голову, с самым безучастным видом. Путешественника это не удивляло, так как офицер говорил по-французски, а французской речи ни солдат, ни осужденный, конечно, не понимали. Но тем поразительней было, что осужденный все-таки старался следить за объяснениями офицера. С каким-то сонным упорством он все время направлял свой взгляд туда, куда в этот миг указывал офицер, а теперь, когда путешественник своим вопросом прервал офицера, осужденный, так же как офицер, поглядел на путешественника.
– Да, бороной, – сказал офицер. – Это название вполне подходит. Зубья расположены, как у бороны, да и вся эта штука работает, как борона, но только на одном месте и гораздо замысловатее. Впрочем, сейчас вы это поймете. Вот сюда, на лежак, кладут осужденного… Я сначала опишу аппарат, а уж потом приступлю к самой процедуре. Так вам будет легче за ней следить. К тому же одна шестерня в разметчике сильно обточилась, она страшно скрежещет, когда вращается, и разговаривать тогда почти невозможно. К сожалению, запасные части очень трудно достать… Итак, это, как я сказал, лежак. Он сплошь покрыт слоем ваты, ее назначение вы скоро узнаете. На эту вату животом вниз кладут осужденного – разумеется, голого, – вот ремни, чтобы его привязать: для рук, для ног и для шеи. Вот здесь, в изголовье лежака, куда, как я сказал, приходится сначала лицо преступника, имеется небольшой войлочный шпенек, который можно легко отрегулировать, так чтобы он попал осужденному прямо в рот. Благодаря этому шпеньку осужденный не может ни кричать, ни прикусить себе язык. Преступник волей-неволей берет в рот этот войлок, ведь иначе шейный ремень переломит ему позвонки.
– Это вата? – спросил путешественник и наклонился вперед.
– Да, конечно, – сказал офицер, улыбаясь. – Пощупайте сами. – Он взял руку путешественника и провел ею по лежаку. – Это вата особым образом препарирована, поэтому ее так трудно узнать; о ее назначении я еще скажу.
Путешественник уже немного заинтересовался аппаратом; защитив глаза от солнца рукою, он смотрел на аппарат снизу вверх. Это было большое сооружение. Лежак и разметчик имели одинаковую площадь и походили на два темных ящика. Разметчик был укреплен метра на два выше лежака и соединялся с ним по углам четырьмя латунными штангами, которые прямо-таки лучились на солнце. Между ящиками на стальном тросе висела борона.
Прежнего равнодушия путешественника офицер почти не замечал, но зато на интерес, пробудившийся в нем теперь, живо откликнулся, он приостановил даже свои объяснения, чтобы путешественник, не торопясь и без помех, все рассмотрел. Осужденный подражал путешественнику; поскольку прикрыть глаза рукой он не мог, он моргал, глядя вверх незащищенными глазами.
– Итак, приговоренный лежит, – сказал путешественник и, развалясь в кресле, закинул ногу на ногу.
– Да, – сказал офицер и, сдвинув фуражку немного назад, провел ладонью по разгоряченному лицу. – А теперь послушайте! И в лежаке и в разметчике имеется по электрической батарее, в лежаке – для самого лежака, а в разметчике – – для бороны. Как только осужденный привязан, приводится в движение лежак. Он слегка и очень быстро вибрирует, одновременно в горизонтальном и вертикальном направлении. Вы, конечно, видели подобные аппараты в лечебных заведениях, только у нашего лежака все движения точно рассчитаны: они должны быть строго согласованы с движениями бороны. Ведь на борону-то, собственно, и возложено исполнение приговора.
– А каков приговор? – спросил путешественник.
– Вы и этого не знаете? – удивленно спросил офицер, покусывая губы. – Извините, если мои объяснения сбивчивы, очень прошу простить меня. Прежде объяснения обычно давал комендант, однако новый комендант избавил себя от этой почетной обязанности; но что такого высокого гостя, – путешественник попытался обеими руками отклонить эту почесть, но офицер настоял на своем выражении, – что такого высокого гостя он не знакомит даже с формой нашего приговора, это еще одно нововведение, которое… – На языке у него вертелось проклятье, но он совладал с собой и сказал: – Меня об этом не предупредили, я не виноват. Впрочем, я лучше чем кто-либо другой, смогу объяснить характер наших приговоров, ведь здесь, – он похлопал себя по нагрудному карману, – я ношу соответствующие чертежи, сделанные рукой прежнего коменданта.
– Рукой самого коменданта? – спросил путешественник. – Он что же, соединял в себе все? Он был и солдат, и судья, и конструктор, и химик, и чертежник?
– Так точно, – кивая головой, сказал офицер.
Он придирчиво поглядел на свои руки; они показались ему недостаточно чистыми, чтобы прикоснуться к чертежам, поэтому он подошел к бадейке и снова тщательно вымыл их.
Затем извлек кожаный бумажник и сказал: – Наш приговор не суров. Борона записывает на теле осужденного ту заповедь, которую он нарушил. Например, у этого, – офицер указал на осужденного, – на теле будет написано: «Чти начальника своего!»
Путешественник мельком взглянул на осужденного; когда офицер указал на него, тот опустил голову и, казалось, предельно напряг слух, чтобы хоть что-нибудь понять. Но движения его толстых сомкнутых губ со всей очевидностью показывали, что он ничего не понимал. Путешественник хотел о многом спросить, но при виде осужденного спросил только:
– Знает ли он приговор?
– Нет, – сказал офицер и приготовился продолжать объяснения, но путешественник прервал его:
– Он не знает приговора, который ему же и вынесли?
– Нет, – сказал офицер, потом на мгновение запнулся, словно требуя от путешественника более подробного обоснования его вопроса, и затем сказал: – Было бы бесполезно объявлять ему приговор. Ведь он же узнает его собственным телом.
Путешественник хотел уже умолкнуть, как вдруг почувствовал, что осужденный направил взгляд на него; казалось, он спрашивал, одобряет ли путешественник описанную процедуру. Поэтому путешественник, который уже откинулся было в кресле, опять наклонился и спросил:
– Но что он вообще осужден – это хотя бы он знает?
– Нет, и этого он не знает – сказал офицер и улыбнулся путешественнику, словно ожидая от него еще каких-нибудь странных открытий.
– Вот как, – сказал путешественник и провел рукой по лбу. – Но в таком случае он и сейчас еще не знает, как отнеслись к его попытке защититься?
– У него не было возможности защищаться, – сказал офицер и поглядел в сторону, как будто говорил сам с собой и не хотел смущать путешественника изложением этих обстоятельств.
– Но ведь, разумеется, у него должна была быть возможность защищаться, – сказал путешественник и поднялся с кресла.
Офицер испугался, что ему придется надолго прервать объяснения; он подошел к путешественнику и взял его под руку; указав другой рукой на осужденного, который теперь, когда на него так явно обратили внимание, – да и солдат натянул цепь, – выпрямился, офицер сказал:
– Дело обстоит следующим образом. Я исполняю здесь, в колонии, обязанности судьи. Несмотря на мою молодость. Я и прежнему коменданту помогал вершить правосудие и знаю этот аппарат лучше, чем кто бы то ни было. Вынося приговор, я придерживаюсь правила: «Виновность всегда несомненна». Другие суды не могут следовать этому правилу, они коллегиальны и подчинены более высоким судебным инстанциям. У нас все иначе, во всяком случае, при прежнем коменданте было иначе. Новый, правда, пытается вмешиваться в мои дела, но до сих пор мне удавалось отражать эти попытки и, надеюсь, удастся в дальнейшем… Вы хотели, чтобы я объяснил вам данный случай; что ж, он так же прост, как любой другой. Сегодня утром один капитан доложил, что этот человек, приставленный к нему денщиком и обязанный спать под его дверью, проспал службу. Дело в том, что ему положено вставать через каждый час, с боем часов, и отдавать честь перед дверью капитана. Обязанность, конечно, нетрудная, но необходимая, потому что денщик, который охраняет и обслуживает офицера, должен быть всегда начеку. Вчера ночью капитан пожелал проверить, выполняет ли денщик свою обязанность. Ровно в два часа он отворил дверь и увидел, что тот, съежившись, спит. Капитан взял хлыст и полоснул его по лицу. Вместо того чтобы встать и попросить прощения, денщик схватил своего господина за ноги, стал трясти его и кричать: «Брось хлыст, а то убью!». Вот вам и суть дела. Час назад капитан пришел ко мне, я записал его показания и сразу же вынес приговор. Затем я велел заковать денщика в цепи. Все это было очень просто. А если бы я сначала вызвал денщика и стал его допрашивать, получилась бы только путаница. Он стал бы лгать, а если бы мне удалось опровергнуть эту ложь, стал бы заменять ее новой и так далее. А сейчас он у меня в руках, и я его не выпущу… Ну, теперь все понятно? Время, однако, идет, пора бы уже начать экзекуцию, а я еще не объяснил вам устройство аппарата.
Он заставил путешественника снова сесть в кресло, подошел к аппарату и начал:
– Как видите, борона соответствует форме человеческого тела; вот борона для туловища, а вот бороны для ног. Для головы предназначен только этот небольшой резец. Вам ясно?
Он приветливо склонился перед путешественником, готовый к самым подробным объяснениям.
Путешественник, нахмурившись, глядел на борону. Сведения о здешнем судопроизводстве его не удовлетворили. Все же он твердил себе, что это как-никак исправительная колония, что здесь необходимы особые меры и что приходится строго соблюдать военную дисциплину. Кроме того, он возлагал некоторые надежды на нового коменданта, который, при всей своей медлительности, явно намеревался ввести новое судопроизводство, которого этому узколобому офицеру никак не уразуметь. По ходу своих мыслей путешественник спросил;
– Будет ли комендант присутствовать при экзекуции?
– Это точно не известно, – сказал офицер, задетый этим внезапным вопросом, и приветливость исчезла с его лица. – Именно поэтому мы и должны поспешить. Мне очень жаль, но придется даже сократить объяснения. Однако завтра, когда аппарат очистят (большая загрязненность – это единственный его недостаток), я мог бы объяснить все остальное. Итак, сейчас я ограничусь самым необходимым… Когда осужденный лежит на лежаке, а лежак приводится в колебательное движение, на тело осужденного опускается борона. Она автоматически настраивается так, что зубья ее едва касаются тела; как только настройка заканчивается, этот трос натягивается и становится несгибаем, как штанга. Тут-то и начинается. Никакого внешнего различия в наших экзекуциях непосвященный не усматривает. Кажется, что борона работает однотипно. Она, вибрируя, колет своими зубьями тело, которое в свою очередь вибрирует благодаря лежаку. Чтобы любой мог проверить исполнение приговора, борону сделали из стекла. Крепление зубьев вызвало некоторые технические трудности, но после многих опытов зубья все же удалось укрепить. Трудов мы не жалели. И теперь каждому видно через стекло, как наносится надпись на тело. Не хотите ли подойти поближе и посмотреть зубья?
Путешественник медленно поднялся, подошел к аппарату и наклонился над бороной.
– Вы видите, – сказал офицер, – два типа разнообразно расположенных зубьев. Возле каждого длинного зубца имеется короткий. Длинный пишет, а короткий выпускает воду, чтобы смыть кровь и сохранить разборчивость надписи. Кровавая вода отводится по желобкам и стекает в главный желоб, а оттуда по сточной трубе в яму.
Офицер пальцем показал путь, каким идет вода. Когда он для большей наглядности подхватил у отвесного стока воображаемую струю обеими пригоршнями, путешественник поднял голову и, шаря рукой у себя за спиной, попятился было к креслу. Тут он, к ужасу своему, увидел, что и осужденный, подобно ему последовал приглашению офицера осмотреть борону вблизи. Потащив за цепь заспанного солдата, он тоже склонился над стеклом. Видно было, что и он тоже неуверенно искал глазами предмет, который рассматривали сейчас эти господа, и что без объяснений он не мог этого предмета найти. Он наклонялся и туда и сюда. Снова и снова пробегал он глазами по стеклу. Путешественник хотел отогнать его, ибо то, что он делал, вероятно, каралось. Но задержав путешественника одной рукой, офицер другой взял с насыпи ком земли и швырнул им в солдата. Солдат, встрепенувшись, поднял глаза, увидел, на что осмелился осужденный, бросил винтовку и, упершись каблуками в землю, так рванул осужденного назад, что тот сразу упал, а потом солдат стал глядеть сверху вниз, как он барахтается, гремя своими цепями.
– Поставь его на ноги! – крикнул офицер, заметив, что осужденный слишком уж отвлекает путешественника. Наклонившись над бороной, путешественник даже не глядел на нее, а только ждал, что произойдет с осужденным.
– Обращайся с ним бережно! – крикнул офицер снова. Обежав аппарат, он сам подхватил осужденного под мышки и, хотя у того разъезжались ноги, поставил его с помощью солдата прямо.
– Ну, теперь мне уже все известно, – сказал путешественник, когда офицер возвратился к нему.
– Кроме самого главного, – сказал тот и, сжав локоть путешественника, указал вверх: – Там, в разметчике, находится система шестерен, которая определяет движение бороны, а устанавливается эта система по чертежу, предусмотренному приговором суда. Я пользуюсь еще чертежами прежнего коменданта. Вот они, – он вынул из бумажника несколько листков. – К сожалению, я не могу дать вам их в руки, это самая большая моя ценность. Садитесь, я покажу вам их отсюда, и вам будет все хорошо видно.
Он показал первый листок. Путешественник был бы рад сказать что-нибудь в похвалу, но перед ним были только похожие на лабиринт, многократно пересекающиеся линии такой густоты, что на бумаге почти нельзя было различить пробелов.
– Читайте, – сказал офицер.
– Не могу, – сказал путешественник.
– Но ведь написано разборчиво, – сказал офицер.
– Написано очень искусно, – уклончиво сказал путешественник, – но я не могу ничего разобрать.
– Да, – сказал офицер и, усмехнувшись, спрятал бумажник, – это не пропись для школьников. Нужно долго вчитываться. В конце концов разобрались бы и вы. Конечно, эти буквы не могут быть простыми; ведь они должны убивать не сразу, а в среднем через двенадцать часов; переломный час по расчету – шестой. Поэтому надпись в собственном смысле слова должна быть украшена множеством узоров; надпись как таковая опоясывает тело лишь узкой полоской; остальное место предназначено для узоров. Теперь вы можете оценить работу бороны и всего аппарата?… Смотрите же!
Он вскочил на трап, повертел какое-то колесо, крикнул вниз: «Внимание, отойдите в сторону!» – и все пришло в движение. Если бы одно из колес не лязгало, это было бы великолепно. Словно бы сконфуженный этим злосчастным колесом, офицер погрозил ему кулаком, затем, как бы извиняясь перед путешественником, развел руками и торопливо спустился, чтобы наблюдать за работой аппарата снизу. Была еще какая-то неполадка, заметная только ему; он снова поднялся, залез обеими руками внутрь разметчика, затем, быстроты ради, не пользуясь трапом, съехал по штанге и во весь голос, чтобы быть услышанным среди этого шума, стал кричать в ухо путешественнику:
– Вам понятно действие машины? Борона начинает писать; как только она заканчивает первую наколку на спине, слой ваты, вращаясь, медленно перекатывает тело на бок, чтобы дать бороне новую площадь. Тем временем исписанные в кровь места ложатся на вату, которая, будучи особым образом препарирована, тотчас же останавливает кровь и подготавливает тело к новому углублению надписи. Вот эти зубцы у края бороны срывают при дальнейшем перекатывании тела прилипшую к ранам вату и выбрасывают ее в яму, а потом борона снова вступает в действие. Так все глубже и глубже пишет она в течение двенадцати часов. Первые шесть часов осужденный живет почти так же, как прежде, он только страдает от боли. По истечении двух часов войлок из рта вынимают, ибо у преступника уже нет сил кричать. Вот сюда, в эту миску у изголовья – она согревается электричеством, – накладывают теплой рисовой каши, которую осужденный при желании может лизнуть языком. Никто не пренебрегает этой возможностью. На моей памяти такого случая не было, а опыт у меня большой. Лишь на шестом часу у осужденного пропадает аппетит. Тогда я обычно становлюсь вот здесь на колени и наблюдаю за этим явлением. Он редко проглатывает последний комок каши – он только немного повертит его во рту и выплюнет в яму. Приходится тогда наклоняться, иначе он угодит мне в лицо. Но как затихает преступник на шестом часу! Просветление мысли наступает и у самых тупых. Это начинается вокруг глаз. И отсюда распространяется. Это зрелище так соблазнительно, что ты готов сам лечь рядом под борону. Вообще-то ничего нового больше не происходит, просто осужденный начинает разбирать надпись, он сосредоточивается, как бы прислушиваясь. Вы видели, разобрать надпись нелегко и глазами; а наш осужденный разбирает ее своими ранами. Конечно, это большая работа, и ему требуется шесть часов для ее завершения. А потом борона целиком протыкает его и выбрасывает в яму, где он плюхается в кровавую воду и вату. На этом суд оканчивается, и мы, я и солдат, зарываем тело.
Склонив ухо к офицеру и засунув руки в карманы пиджака, путешественник следил за работой машины. Осужденный тоже следил за ней, но ничего не понимал. Он стоял, немного нагнувшись, и глядел на колеблющиеся зубья, когда солдат по знаку офицера разрезал ему сзади ножом рубаху и брюки, так что они упали на землю; осужденный хотел схватить падавшую одежду, чтобы прикрыть свою наготу, но солдат приподнял его и стряхнул с него последние лохмотья. Офицер настроил машину, и в наступившей тишине осужденного положили под борону. Цепи сняли, вместо них закрепили ремни; в первый миг это казалось чуть ли не облегчением для осужденного. Потом борона опустилась еще немного, потому что этот человек был очень худ. Когда зубья коснулись осужденного, по коже у него пробежала дрожь; покуда солдат был занят правой его рукой, он вытянул левую, не глядя куда; но это было как раз то направление, где стоял путешественник. Офицер все время искоса глядел на путешественника, словно пытаясь определить по лицу иностранца, какое впечатление производит на того экзекуция, с которой он его теперь хоть поверхностно познакомил.
Ремень, предназначенный для запястья, порвался – вероятно, солдат слишком сильно его натянул. Прося офицера помочь, солдат показал ему оторвавшийся кусок ремня. Офицер подошел к солдату и сказал, повернувшись лицом к путешественнику:
– Машина очень сложная, всегда что-нибудь может порваться или сломаться, но это не должно сбивать с толку при общей оценке. Для ремня, кстати сказать, замена найдется сразу – я воспользуюсь цепью; правда, вибрация правой руки будет уже не такой нежной.
И, закрепляя цепь, он добавил:
– Средства на содержание машины отпускаются теперь очень ограниченные. При прежнем коменданте я мог свободно распоряжаться суммой, выделенной специально для этой цели. Здесь был склад, где имелись всевозможные запасные части. Признаться, я их прямо-таки транжирил – транжирил, конечно, прежде, а вовсе не теперь, как то утверждает новый комендант, который только и ищет повода отменить старые порядки. Теперь деньгами, отпущенными на содержание машины, распоряжается он, и, посылая за новым ремнем, я должен представить в доказательство порванный, причем новый поступит только через десять дней и непременно низкого качества, никуда не годный. А каково мне тем временем без ремня управляться с машиной – это никого не трогает.
Путешественник думал: решительное вмешательство в чужие дела всегда рискованно. Он не был ни жителем этой колонии, ни жителем страны, которой она принадлежала. Вздумай он осудить, а тем более сорвать эту экзекуцию, ему сказали бы: ты иностранец, вот и помалкивай. На это он ничего не смог бы возразить, напротив, он смог бы только прибавить, что удивляется в данном случае себе самому; ведь путешествует он лишь с познавательной целью, а вовсе не для того, чтобы менять судоустройство в чужих странах. Но очень уж соблазнительна была здешняя обстановка. Несправедливость судопроизводства и бесчеловечность наказания не подлежали сомнению. Никто не мог заподозрить путешественника в своекорыстии: осужденный не был ни его знакомым, ни соотечественником, да и вообще не располагал к сочувствию. У путешественника же имелись рекомендации высоких учреждений, он был принят здесь чрезвычайно учтиво, и то, что его пригласили на эту экзекуцию, казалось, даже означало, что от него ждут отзыва о здешнем правосудии. Это было тем вероятнее, что нынешний комендант, в чем он, путешественник, теперь вполне удостоверился, не был сторонником такого судопроизводства и относился к офицеру почти враждебно.
Тут путешественник услыхал крик взбешенного офицера. Тот наконец с трудом впихнул войлочный шпенек в рот осужденного, как вдруг осужденный, не в силах побороть тошноты, закрыл глаза и затрясся в рвоте. Офицер поспешно рванул его со шпенька вверх, чтобы повернуть голову к яме, но было поздно – нечистоты уже потекли по машине.
– Во всем виноват комендант! – кричал офицер, в неистовстве тряся штанги. – Машину загаживают, как свинарник.
Дрожащими руками он показал путешественнику, что произошло.
– Ведь я же часами втолковывал коменданту, что за день до экзекуции нужно прекращать выдачу пищи. Но сторонники нового, мягкого курса иного мнения. Перед уводом осужденного дамы коменданта пичкают его сластями. Всю свою жизнь он питался тухлой рыбой, а теперь должен есть сласти. Впрочем, это еще куда ни шло, с этим я примирился бы, но неужели нельзя приобрести новый войлок, о чем я уже три месяца прошу коменданта! Можно ли без отвращения взять в рот этот войлок, обсосанный и искусанный перед смертью доброй сотней людей?
Осужденный положил голову, и вид у него был самый мирный; солдат чистил машину рубахой осужденного. Офицер подошел к путешественнику, который, о чем-то догадываясь, на шаг отступил, но офицер взял его за руку и потянул в сторону.
– Я хочу сказать вам несколько слов по секрету, – сказал он, – вы разрешите?
– Разумеется, – ответил путешественник, слушая его с опущенными глазами.
– Это правосудие и эта экзекуция, присутствовать при которой вам посчастливилось, в настоящее время уже не имеют в нашей колонии открытых приверженцев. Я единственный их защитник и одновременно единственный защитник старого коменданта. О дальнейшей разработке этого судопроизводства я теперь и думать не думаю, все мои силы уходят на сохранение того, что уже есть. При старом коменданте колония была полна его сторонников; сила убеждения, которой обладал старый комендант, отчасти у меня есть, однако его властью я не располагаю ни в какой мере; поэтому его сторонники притаились, их еще много, но все молчат. Если вы сегодня, в день казни, зайдете в кофейню и прислушаетесь к разговорам, вы услышите, наверно, только двусмысленные намеки. Это все сплошь сторонники старого, но при нынешнем коменданте и при нынешних его взглядах от них нет никакого толку, h вот я вас спрашиваю: неужели из-за этого коменданта и его женщин такое вот дело всей жизни, – он указал на машину, – должно погибнуть? Можно ли это допустить? Даже если вы иностранец и приехали на наш остров лишь на несколько дней! А времени терять нельзя, против моей судебной власти что-то предпринимается; в комендатуре ведутся уже совещания, на которые меня не приглашают; даже сегодняшний ваш визит представляется мне показательным для общей обстановки; сами боятся и посылают сначала вас, иностранца… Как, бывало, проходила экзекуция в прежние времена! Уже за день ао казни вся долина была запружена людьми; все приходили ради такого зрелища, рано утром появлялся комендант со своими дамами, фанфары будили лагерь, я отдавал рапорт, что все готово, собравшиеся – никто из высших чиновников не имел права отсутствовать – располагались вокруг машины. Эта кучка плетеных кресел – жалкий остаток от той поры. Начищенная машина сверкала, почти для каждой экзекуции я брал новые запасные части. На виду у сотен людей – зрители стояли на цыпочках вон до тех высоток – комендант собственноручно укладывал осужденного под борону. То, что сегодня делает простой солдат, было тогда моей, председателя суда, почетной обязанностью. И вот экзекуция начиналась! Никаких перебоев в работе машины никогда не бывало. Некоторые и вовсе не глядели на машину, а лежали с закрытыми глазами на песке; все знали: сейчас торжествует справедливость. В тишине слышны были только стоны осужденного, приглушенные войлоком. Нынче машине уже не удается выдавить из осужденного стон такой силы, чтобы его не смог заглушить войлок, а тогда пишущие зубья выпускали едкую жидкость, которую теперь не разрешается применять. Ну а потом наступал шестой час! Невозможно было удовлетворить просьбы всех, кто хотел поглядеть с близкого расстояния. Комендант благоразумно распоряжался пропускать детей в первую очередь; я, по своему положению, конечно, всегда имел доступ к самой машине; я часто сидел вон там на корточках, держа на каждой руке по ребенку. Как ловили мы выражение просветленности на измученном лице, как подставляли мы лица сиянию этой наконец-то достигнутой и уже исчезающей справедливости! Какие это были времена, дружище!
Офицер явно забыл, кто перед ним стоит; он обнял путешественника и положил голову ему на плечо. Путешественник был в большом замешательстве, он нетерпеливо глядел мимо офицера. Солдат кончил чистить машину и вытряхнул из жестянки в миску еще немного рисовой каши. Как только осужденный, который, казалось, уже вполне оправился, это заметил, он стал тянуться языком к каше. Солдат то и дело его отталкивал, каша предназначалась, видимо, для более позднего времени, но, конечно, нарушением порядка было и то, что солдат запускал в кашу свои грязные руки и ел ее на глазах у голодного осужденного.
Офицер быстро овладел собой.
– Я вовсе не хотел вас растрогать, – сказал он, – я знаю, понять сегодня те времена невозможно. Вообще-то машина работает и говорит сама за себя. Она говорит сама за себя, даже если стоит одна в этой долине. И под конец тело все еще летит в яму по какой-то непостижимо плавной кривой, хотя у ямы, в отличие от тех времен, не лепятся, как мухи, сотни людей. Тогда нам приходилось ограждать яму крепкими перилами, теперь они давно сорваны.
Путешественник, чтобы спрятать от офицера лицо, бесцельно озирался по сторонам. Офицер решил, что тот смотрит, как пусто в долине; поэтому он схватил его за руки и, вертясь около него, чтобы поймать его взгляд, спросил:
– Вы видите этот позор?
Но путешественник промолчал. Офицер вдруг оставил его в покое; растопырив ноги, упершись руками в бока он несколько мгновений неподвижно глядел в землю. Затем он ободряюще улыбнулся путешественнику и сказал:
– Вчера, когда комендант вас приглашал, я находился неподалеку от вас. Я слышал это приглашение. Я знаю коменданта. Я сразу понял, зачем он вас приглашает; хотя он достаточно могуществен, чтобы выступить против меня, на это он еще не отваживается, но заручиться вашим отзывом обо мне, отзывом уважаемого иностранца, ему хочется. Его расчет точен: вы находитесь на нашем острове второй день, вы не знали старого коменданта и его образа мыслей, вы скованы европейскими традициями, может быть, вы принципиальный противник смертной казни вообще и такого механизированного исполнения приговора в частности; вы видите, наконец, что казнь совершается без публики, убого, на машине, уже немного изношенной. Разве все это вместе взятое (так думает комендант) не позволяет надеяться, что вы не одобрите моих действий? А если вы их не одобрите, то вы (а я все еще рассуждаю, как комендант) не станете об этом молчать, ведь вы, конечно, доверяете большому своему опыту. Правда, вы знаете своеобразные нравы разных народов и судите как ученый, поэтому вы, наверно, выскажетесь против подобных действий не так решительно, как, может быть, высказались бы у себя на родине. Но коменданту этого и не нужно. Достаточно одного просто неосторожного, сказанного невзначай слова. Оно вовсе не должно соответствовать вашим убеждениям, если только оно внешне отвечает его желанию. Что он самым хитрым образом начнет вас расспрашивать – в этом я уверен. А его дамы сядут кружком и навострят ушки; вы скажете, например: «У нас судопроизводство другое», или: «У нас обвиняемого сначала допрашивают, а уж потом выносят ему приговор», или: «У нас есть и другие наказания, кроме смертной казни», или: «У нас пытки существовали только в средневековье». Все это замечания правильные, и вам они кажутся естественными – невинные замечания, не затрагивающие моих действий. Но как воспримет их комендант? Я уже вижу, как наш комендант резко отодвинет стул и поспешит на балкон, я уже вижу, как его дамы устремятся за ним, я уже слышу его голос – дамы называют этот голос громовым – и слышу, как он говорит: «Великий ученый Запада, уполномоченный рассмотреть судоустройство во всех странах, только что заявил, что наш старозаветный порядок бесчеловечен. После подобного заключения такого лица я, конечно, не могу мириться с этим порядком. Итак, я приказываю отныне…» И так далее. Вы хотите вмешаться, вы не говорили того, что он вам приписывает, вы не называли моего метода бесчеловечным, напротив, по вашему глубокому убеждению, это самый человечный и наиболее достойный человека метод, вы восхищены и этой техникой, но уже поздно – вы не можете даже выйти на балкон, где уже полно дам, вы хотите обратить на себя внимание, вы хотите кричать, но дамская ручка закрывает вам рот, а я и дело старого коменданта погибли.
Путешественник подавил улыбку: вот до чего легка была, оказывается, задача, которую он считал такой трудной. Он ответил уклончиво:
– Вы переоцениваете мое влияние; комендант читал мое рекомендательное письмо, ему известно, что я не знаток судоустройства. Если бы я высказал свое мнение, это было бы мнение частного лица, ничуть не более важное, чем мнение любого другого, и, уж во всяком случае, куда менее важное, чем мнение коменданта, обладающего, как мне представляется, очень широкими правами в этой колонии. Если его мнение об этой системе действительно так определенно, как вам кажется, тогда, я боюсь, этой системе пришел конец и без моего скромного содействия.
Понял ли это офицер? Нет, он еще не понял. Он помотал головой, быстро оглянулся на осужденного и солдата, которые, вздрогнув, отстранились от риса, подошел к путешественнику вплотную и, глядя ему не в лицо, а куда-то на пиджак, сказал тише, чем раньше:
– Вы не знаете коменданта, вы относитесь к нему и ко всем нам – простите меня – до некоторой степени простодушно; ваше влияние, поверьте мне, трудно переоценить. Да ведь я же был счастлив, когда узнал, что вы будете присутствовать на экзекуции один. По замыслу коменданта, это распоряжение должно было нанести мне удар, а я обращаю его себе на пользу. Во время моих объяснений вас не отвлекали ни лживые нашептывания, ни презрительные взгляды, которых при большом скоплении публики вряд ли удалось бы избежать, вы видели машину и собираетесь посмотреть на казнь. Ваше мнение, конечно, уже сложилось; если у вас и есть еще какие-то сомнения, то зрелище казни их устранит. И вот я обращаюсь к вам с просьбой: помогите мне одолеть коменданта! Путешественник не дал ему продолжать.
– Как я могу! – воскликнул он. – Это же невозможно. Я так же не могу быть вам полезен, как не могу повредить вам.
– Можете, – сказал офицер. Путешественник не без испуга увидел, что офицер сжал кулаки. – Можете, – еще настойчивее повторил офицер. – У меня есть план, который не подведет. Вы думаете, что вашего влияния недостаточно. Я знаю, что его достаточно. Но даже если согласиться, что вы правы, разве не следует для сохранения этого порядка испробовать любые, пусть и недостаточно действенные средства? Выслушайте же мой план… Для его успеха нужно прежде всего, чтобы сегодня вы как можно сдержаннее выражали в колонии свое мнение о нашем судопроизводстве. Если вас прямо не спросят, не высказывайтесь ни в коем случае; высказаться же вы должны коротко и неопределенно – пусть видят, что вам тяжело говорить об этом, что вы огорчены, что если бы вы стали говорить откровенно, то разразились бы прямо-таки проклятиями. Я не требую, чтоб вы лгали, ни в коем случае, вы должны только коротко отвечать: «Да, я видел исполнение приговора» или «Да, я выслушал все объяснения». Только это, ничего больше. Ведь для огорчения, которое должно звучать в ваших словах, у вас достаточно поводов, хотя и иного свойства, чем у коменданта. Он, конечно, поймет это совершенно превратно и истолкует по-своему. На этом и основан мой план. Завтра в комендатуре под председательством коменданта состоится большое совещание всех высших чиновников управления. Комендант, конечно, ухитряется превращать такие совещания в спектакль. Построили даже галерею, которая всегда заполнена зрителями. Я вынужден участвовать в этих совещаниях, хотя меня там просто тошнит. Вас-то, конечно, пригласят на это совещание; а если сегодня вы будете вести себя согласно моему плану, то это приглашение обратится даже в настойчивую просьбу. Но если вас по какой-либо непонятной причине не пригласят, вам придется потребовать приглашения; в том, что тогда вы его получите, можно не сомневаться. И, значит, завтра вы будете сидеть с дамами в комендантской ложе. Комендант будет время от времени поглядывать вверх, чтобы удостовериться в вашем присутствии. После разбора множества несущественных, смешных, рассчитанных только на слушателей вопросов – обычно это строительные работы в порту, снова и снова строительные работы! – зайдет речь и о нашем судоустройстве. Если комендант сам не начнет этого разговора или начнет его недостаточно скоро, я позабочусь, чтобы он начался. Я встану и сделаю сообщение о сегодняшней казни. Очень коротко, только это сообщение. Такие сообщения там, правда, не принято делать, но я его все-таки сделаю. Комендант поблагодарит меня, как всегда, с любезной улыбкой, и тут уж он, конечно, никак не упустит удобного случая. «Только что, – он начнет таким или подобным образом, – мы выслушали сообщение о состоявшейся казни. Я лично хотел бы прибавить, что при этой казни как раз присутствовал великий ученый, который, вы все это знаете, оказал огромную честь нашей колонии своим посещением. Сегодняшнее наше заседание также приобретает особую значительность ввиду его присутствия. Так вот, не спросить ли нам этого великого ученого, какого он мнения о казни, совершенной по старому обычаю, и о судебном разбирательстве, ей предшествовавшем?» Все, конечно, одобрительно аплодируют, я – громче всех. Комендант отвешивает вам поклон и говорит: «В таком случае я от имени всех присутствующих задаю этот вопрос». И тут вы подойдете к барьеру. Положите руки так, чтобы они были всем видны, иначе дамы их схватят и станут играть вашими пальцами…
И вот наконец ваше слово. Не знаю, как я вынесу напряжение оставшихся до этого мига часов. Не ограничивайте себя в своей речи ничем, говорите правду во весь голос, наклонитесь над барьером и прокричите, да, да, прокричите свое мнение, свое твердое мнение коменданту в лицо. Но, может быть, вы этого не хотите, это не в вашем характере, у вас на родине, может быть, ведут себя при таких обстоятельствах иначе? Это тоже правильно, этого тоже совершенно достаточно – не вставайте вообще, скажите только несколько слов, произнесите их так, чтобы их слышали разве что сидящие под вами чиновники, этого достаточно; вы вовсе не должны говорить об отсутствии зрителей, о лязгающем колесе, о порванном ремне и о вызывающем рвоту войлоке, о нет, все остальное я беру на себя, и поверьте, если моя речь не выгонит его из зала, она поставит его на колени и заставит признать: старый комендант, я перед тобой преклоняюсь…
Вот мой план, хотите ли вы помочь мне осуществить его? Ну конечно, хотите, более того, вы обязаны это сделать!
Офицер взял путешественника за обе руки и, тяжело дыша, заглянул ему в лицо. Последние слова он прокричал так, что даже солдат и осужденный насторожились: хотя они ничего не понимали, они перестали хватать еду и, продолжая жевать, поглядели на путешественника.
Ответ, который он должен был дать, был для путешественника с самого начала совершенно ясен; слишком многое повидал он на своем веку, чтобы заколебаться сейчас, он был по существу человеком честным и не трусил. Все же теперь при виде солдата и осужденного он на одно мгновение помедлил. Но в конце концов он сказал то, что должен был сказать:
– Нет.
Офицер заморгал глазами, не переставая, однако, глядеть на него.
– Вам требуется объяснение? – спросил путешественник.
Офицер молча кивнул головой.
– Я противник этого судебного порядка, – сказал путешественник. – Еще до того, как вы оказали мне доверие – а доверием вашим я, конечно, ни в коем случае не стану злоупотреблять, – я уже думал, вправе ли я выступить против этого порядка и имеет ли мое вмешательство хоть какие-либо виды на успех. К кому я должен был бы обратиться прежде всего – было мне ясно: к коменданту, конечно. Вы сделали это еще более ясным, однако укрепили меня в моем решении вовсе не вы, напротив, честная ваша убежденность очень меня трогает, хоть она и не может сбить меня с толку.
Офицер промолчал, повернулся к машине, потрогал одну из латунных штанг и, откинув голову, поглядел вверх, на разметчик, словно проверяя, все ли в порядке. Солдат и осужденный, казалось, тем временем подружились: осужденный, хотя из-за ремней это удавалось ему с трудом, делал солдату знаки, солдат наклонялся к нему; осужденный что-то шептал солдату, а солдат кивал ему в ответ.
Путешественник подошел к офицеру и сказал:
– Вы еще не знаете, как я собираюсь поступить. Я выскажу коменданту свое мнение о здешнем судопроизводстве, но выскажу его не на совещании, а с глазу на глаз; да я и не намерен оставаться здесь так долго, чтобы участвовать в каких-либо заседаниях; завтра утром я уже уеду или по крайней мере сяду на судно.
Офицер, казалось, пропустил все это мимо ушей.
– Значит, наше судопроизводство вам не понравилось, – сказал он скорее для себя и усмехнулся, как усмехается старик над блажью ребенка, пряча за усмешкой свои раздумья. – Тогда, стало быть, пора, – сказал он наконец и вдруг взглянул на путешественника светлыми глазами, выражавшими какое-то побуждение, какой-то призыв к участию.
– Что пора? – тревожно спросил путешественник, но не получил ответа.
– Ты свободен, – сказал офицер осужденному на его языке. Тот сперва не поверил. – Ну, свободен же, – сказал офицер.
В первый раз лицо осужденного по-настоящему оживилось. Правда ли это? Не мимолетный ли это каприз офицера? Или, может быть, чужеземец выхлопотал ему помилование? Что происходит? Все эти вопросы были, казалось, написаны на его лице. Но недолго. В чем бы тут ни было дело, он хотел, если уж на то пошло, быть и вправду свободным, и он стал дергаться, насколько позволяла борона.
– Ты порвешь ремни, – крикнул офицер. – Лежи смирно! Мы отстегнем их.
И, дав знак солдату, он принялся вместе с ним за работу. Осужденный тихо смеялся, он поворачивал лицо то влево – к офицеру, то вправо – к солдату, но и путешественника не забывал.
– Вытащи его! – приказал офицер солдату.
Ввиду близости бороны нужно было соблюдать осторожность. От нетерпенья осужденный уже получил несколько небольших рваных ран на спине. Но теперь он перестал занимать офицера. Тот подошел к путешественнику, снова извлек свой кожаный бумажник, порылся в нем и, найдя наконец листок, который искал, показал его путешественнику.
– Читайте, – сказал он.
– Не могу, – сказал путешественник, – я же сказал, что не могу этого прочесть.
– Вглядитесь получше, – сказал офицер и встал рядом с путешественником, чтобы читать вместе с ним.
Когда и это не помогло, он на большой высоте, словно до листка ни в коем случае нельзя было дотрагиваться, обрисовал над бумагой буквы мизинцем, чтобы таким способом облегчить путешественнику чтение. Путешественник тоже старался вовсю, чтобы хоть этим доставить удовольствие офицеру, но у него ничего не получалось. Тогда офицер стал разбирать надпись по буквам, а потом прочел ее уже связно.
– «Будь справедлив!» написано здесь, – сказал он, – ведь теперь-то вы можете это прочесть.
Путешественник склонился над бумагой так низко; что офицер, боясь, что тот дотронется до нее, отстранил от него листок; хотя путешественник ничего больше не сказал, было ясно, что он все еще не может прочесть написанное.
– «Будь справедлив!» написано здесь, – сказал офицер еще раз.
– Может быть, – сказал путешественник, – верю, что написано именно это.
– Ну ладно, – сказал офицер, по крайней мере отчасти удовлетворенный, и поднялся по трапу с листком в руке; с великой осторожностью уложив листок в разметчик, он стал, казалось, целиком перестраивать зубчатую передачу; это была очень трудоемкая работа, среди шестеренок были, наверно, и совсем маленькие, порой голова офицера вовсе скрывалась в разметчике, так внимательно осматривал он систему колес.
Путешественник неотрывно следил снизу за этой работой, у него затекла шея и болели от солнца, заливавшего небо, глаза. Рубаху и штаны осужденного, уже лежавшие в яме, солдат достал оттуда концом штыка. Рубаха была ужасно грязная, и осужденный выстирал ее в бадейке с водой. Когда он одел штаны и рубаху, оба, и солдат и осужденный, громко рассмеялись, ибо одежда была сзади разрезана вдоль. Считая, возможно, своим долгом позабавить солдата, осужденный принялся кружиться перед ним в разорванном платье, а тот, присев на землю, со смехом хлопал себя по коленям. Однако ввиду присутствия господ они еще сдерживали и свои чувства и себя.
Управившись наконец со своей работой, офицер еще раз с улыбкой оглядел каждую мелочь, захлопнув капот открытого дотоле разметчика, спустился, поглядел в яму, а затем на осужденного, удовлетворенно отметил, что тот забрал оттуда свою одежду, затем подошел к бадейке, чтобы помыть руки, с опозданием увидел противную грязь, огорчился, что ему не придется, значит, вымыть руки, погрузил их наконец (эта замена явно не устраивала его, но делать было нечего) в песок, затем встал и начал расстегивать свой мундир. При этом ему прежде всего попались два дамских платочка, которые он раньше засунул за воротник.
– Вот тебе твои платки, – сказал он, бросая их осужденному. А путешественнику, объясняя, сказал: – Подарки дам.
Несмотря на явную торопливость, с которой он снял мундир, а затем донага разделся, он обращался с каждым предметом одежды очень бережно; серебряные аксельбанты на мундире он даже особо разгладил пальцами, а одну из кистей поправил, встряхнув. Никак, правда, не вязалось с этой бережностью то, что, расправив ту или иную часть обмундирования, он сразу же раздраженно швырял ее в яму. Последним оставшимся у него предметом был кортик на портупее. Он вытащил кортик из ножен, переломил его, затем сложил все вместе – куски кортика, ножны и портупею – и швырнул это с такой силой, что в яме звякнуло.
Теперь он стоял нагишом. Путешественник кусал себе губы и ничего не говорил. Хоть он и знал, что произойдет, он не имел права в чем-либо мешать офицеру. Если судебный порядок, которым дорожил офицер, был действительно так близок к концу – возможно, из-за вмешательства путешественника, считавшего это вмешательство своим долгом, – офицер поступал сейчас совершенно правильно, на его месте путешественник поступил бы точно так же.
Солдат и осужденный ничего не понимали, сперва они даже не глядели на офицера. Осужденный был очень рад, что ему возвратили его платки, но долго радоваться ему не пришлось, ибо солдат выхватил их у него резким, внезапным рывком. Тогда осужденный в свою очередь попытался выхватить платки у солдата из-за пояса, куда тот их заткнул, но солдат был начеку. Так они полушутливо и спорили. Только когда офицер разделся совсем, они насторожились. Казалось, осужденного особенно потрясло предчувствие какого-то великого поворота. То, что произошло с ним, происходило теперь с офицером. Теперь, наверно, дело доведут до конца. Очевидно, так приказал этот чужеземец. Это была, следовательно, месть. Не выстрадав до конца, он будет до конца отомщен. Широкая беззвучная усмешка появилась теперь на его лице и больше уже не сходила с него.
А офицер между тем повернулся к машине. Если и раньше было ясно, что он отлично в ней разбирается, то теперь впору было поражаться, как он управляет машиной и как она его слушается. Стоило ему только поднести руку к бороне, как та несколько раз поднялась и опустилась, пока не приняла того положения, которое требовалось, чтобы он поместился; он только дотронулся до края лежака, и лежак уже начал вибрировать; войлочный шпенек оказался как раз против рта, видно было, что вообще-то офицеру хочется обойтись без него, но после минутного колебания он превозмог себя и взял его в рот. Все было готово, только ремни висели еще по бокам, но в них явно не было нужды – офицера не требовалось привязывать. Однако осужденный заметил висящие ремни и, полагая, что при незакрепленных ремнях экзекуция будет несовершенна, ретиво кивнул солдату, и они побежали к машине привязать офицера. Тот уже вытянул одну ногу, чтобы толкнуть рубильник, включавший разметчик; увидев подбежавших, офицер перестал вытягивать ногу и дал привязать себя. Однако теперь он уже не мог достать до рубильника; ни солдат, ни осужденный рубильника не нашли бы, а путешественник не собирался и пальцем шевельнуть. Этого и не понадобилось; как только ремни застегнули, машина сразу же заработала: лежак вибрировал, зубцы ходили по коже, борона поднималась и опускалась. Путешественник успел уже наглядеться на это, прежде чем вспомнил, что одна шестерня в разметчике должна лязгать. Но все было тихо, никаких шумов не было слышно.
Благодаря такой тихой работе машина совершенно перестала привлекать к себе внимание. Путешественник перевел взгляд на солдата и на осужденного. Осужденный был более оживлен – все в машине его занимало, он то наклонялся, то становился на цыпочки, все время показывая что-то солдату указательным пальцем. Путешественнику это было неприятно. Он собирался остаться здесь до конца, но глядеть на солдата и осужденного было невыносимо.
– Ступайте домой, – сказал он им.
Солдат, вероятно, так и поступил бы, но осужденный воспринял этот приказ чуть ли не как наказание. Он сложил руки, умоляя оставить его здесь, а когда путешественник отрицательно покачал головой, даже упал на колени. Путешественник понял, что никакие приказы тут не помогут, и направился было к солдату и осужденному, чтобы просто прогнать их. Тут он услышал наверху, в разметчике, какой-то шум. Он посмотрел вверх. Значит, все-таки одну шестерню заедает? Но это было что-то другое. Капот разметчика медленно поднялся и распахнулся. Показались, поднявшись, зубцы одной шестерни, а вскоре показалась и вся шестерня, как будто какая-то огромная сила сжимала разметчик и этой шестерне не хватало места; шестерня докатилась до края разметчика, упала, покатилась стоймя по песку и легла в песок. Но наверху уже поднималась еще одна, а за ней другие – большие, маленькие, едва различимые, и со всеми происходило то же самое, и каждый раз казалось, что теперь-то уж разметчик должен быть пуст, но тут появлялась новая, еще более многочисленная вереница, поднималась, падала, катилась по песку и ложилась в песок. Из-за этого зрелища осужденный совсем забыл о приказе путешественника, шестерни приводили его в восторг, он хотел схватить каждую и просил солдата помочь ему, но всякий раз испуганно отдергивал руку, потому что вдогонку спешило уже другое колесо, которое, его – по крайней мере когда катилось – пугало.
Путешественник, напротив, очень встревожился; машина явно разваливалась, ровный ее ход был обманчив, у него возникло такое чувство, что теперь он должен помочь офицеру, так как тот не может уже о себе позаботиться. Но, сосредоточив все свое внимание на выпадении шестерен, путешественник упустил из виду остальные части машины, когда же он теперь, после того как из разметчика выпала последняя шестерня, склонился над бороной, его ждал новый, еще более неприятный сюрприз. Борона перестала писать, она только колола, и лежак, вибрируя, не поворачивал тело, а только насаживал его на зубья. Путешественник хотел вмешаться, может быть даже остановить машину, это уже была не пытка, какой добивался офицер, это было просто убийство. Он протянул руки к машине. Но тут борона с насаженным на него телом подалась в сторону, как это она обычно делала только на двенадцатом часу. Кровь текла ручьями, не смешиваясь с водой, – трубочки для воды тоже на этот раз не сработали. Но вот не сработало и последнее – тело не отделялось от длинных игл, а истекая кровью, продолжало висеть над ямой. Борона чуть было не вернулась уже в прежнее свое положение, но, словно заметив, что она еще не освободилась от груза, осталась над ямой.
– Помогите же! – крикнул путешественник солдату и осужденному, схватив офицера за ноги. Он хотел с этой стороны налечь на ноги, чтобы те двое с другой стороны налегли на голову и все вместе медленно сняли офицера с зубцов. Но те двое никак не решались приблизиться: осужденный и вовсе отвернулся; путешественнику пришлось подойти к ним и силой подвести их к изголовью лежака. Тут он почти против своей воли увидел лицо мертвеца. Оно было такое же, как при жизни, на нем не было никаких признаков обещанного избавления: того, что обретали в этой машине другие, офицер не обрел; губы были плотно сжаты, глаза были открыты и сохраняли живое выражение, взгляд был спокойный и уверенный, в лоб вошло острие большого железного резца.
Когда путешественник – ссолдатом и осужденным позади – подошел к первым домам колонии, солдат показал на один из них и сказал:
– Вот кофейня.
В нижнем этаже этого дома было глубокое, низкое, пещероподобное помещение с закоптелыми стенами и потолком. Со стороны улицы оно было широко открыто. Хотя кофейня мало отличалась от остальных домов колонии, которые все, кроме роскошных зданий комендатуры, сильно обветшали, она произвела на путешественника впечатление исторической достопримечательности, и он почувствовал власть прежних времен. Он подошел к этому дому, прошел впереди своих провожатых между незанятыми столиками, стоявшими перед кофейней на улице, подышал затхлым прохладным воздухом, который шел изнутри.
– Старик похоронен здесь, – сказал солдат. – Священник отказал ему в месте на кладбище. Некоторое время вообще не знали, где его хоронить, но в конце концов похоронили здесь. Об этом вам офицер наверняка не рассказывал, ведь этого он, конечно, стыдился больше всего. Он даже несколько раз пытался выкопать старика ночью, но его каждый раз прогоняли.
– Где эта могила? – спросил путешественник, не поверив солдату.
Солдат и осужденный сразу же опередили его и показали вытянутыми руками туда, где, как им было известно, находилась могила. Они провели путешественника к задней стене, где за несколькими столиками сидели посетители. Это были, по всей видимости, портовые рабочие, дюжие люди с короткими блестяще-черными окладистыми бородами. Все были без пиджаков, в драных рубахах; это был бедный, униженный люд. Когда путешественник приблизился, некоторые поднялись, прижались к стене и стали глядеть на него.
– Это иностранец; – слышался шепот вокруг, – он хочет посмотреть могилу,
Они отодвинули один из столиков, под которым действительно находился надгробный камень. Это был простой камень, достаточно низкий, чтобы столик мог его спрятать. На нем очень мелкими буквами была сделана надпись. Путешественнику пришлось стать на колени, чтобы ее прочесть. Надпись гласила: «Здесь покоится старый комендант. Его сторонники, которые сейчас не могут назвать своих имен, выкопали ему эту могилу и поставили этот камень. Существует предсказание, что через определенное число лет комендант воскреснет и поведет своих сторонников отвоевывать колонию из этого дома. Верьте и ждите!» Когда путешественник прочел это и поднялся, он увидел, что вокруг него стоят люди и усмехаются так, словно они прочли надпись вместе с ним и, найдя ее смешной, призывают его присоединиться к их мнению. Путешественник сделал вид, что не заметил этого, раздал им несколько монет и, подождав, пока могилу прикроют столом, покинул кофейню и направился к порту.
Солдат и осужденный встретили в кофейне знакомых, которые их задержали. Но, видимо, они быстро отделались от них: не успел путешественник дойти до середины длинной лестницы, что вела к лодкам, как они уже бежали за ним вдогонку. Они, вероятно, хотели в последнюю минуту заставить путешественника взять их с собой. Пока путешественник договаривался внизу с лодочником о доставке на судно, эти двое стремглав молча бежали по лестнице, ибо кричать они не осмеливались. Но когда они добежали донизу, путешественник был уже в лодке и лодочник как раз отчалил. Они успели бы еще прыгнуть в лодку, но путешественник поднял с днища тяжелый узловатый канат и, погрозив им, удержал их от этого прыжка.


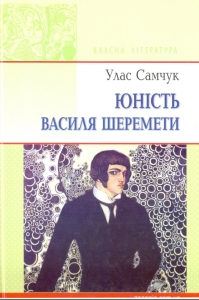
Комментарии к книге «В исправительной колонии», Франц Кафка
Всего 0 комментариев