Дети на дороге
Я слышал, как за садовой решеткой тарахтели телеги, а порой и видел их в слабо колышущиеся просветы листвы. Как звонко потрескивали этим звонким летом их деревянные спицы и дышла! Работники возвращались с полей, они так гоготали, что мне неловко было слушать. Я сидел на маленьких качелях, отдыхая под деревьями в саду моих родителей.
А за решеткой не унималась жизнь. Дети пробежали мимо и вмиг исчезли; груженые доверху возы с мужчинами и женщинами – кто наверху на снопах, кто сбоку на грядках – отбрасывали тени на цветочные клумбы; а ближе к вечеру я увидел прохаживающегося мужчину с палкой; несколько девушек, гулявших под руку, поклонились ему и почтительно отступили на поросшую травой обочину.
А потом в воздух взлетела, словно брызнула, стайка птиц; провожая их глазами, я видел, как они мгновенно взмыли в небо, и мне уже казалось, что не птицы поднимаются ввысь, а я проваливаюсь вниз. От овладевшей мной слабости я крепко ухватился за веревки и стал покачиваться. Но вот повеяло прохладой, и в небе замигали звезды вместо птиц – я уже раскачивался вовсю.
Ужинаю я при свече. От усталости кладу ложки на стол и вяло жую свой бутерброд. Теплый ветер раздувает сквозные занавеси, иногда кто-нибудь, проходя за окном, придерживает их, чтобы лучше меня увидеть и что-то сказать. А тут и свеча гаснет, и в тусклой дымке чадящего фитилька еще некоторое время кружат налетевшие мошки. Если кто-нибудь за окном обращается ко мне с вопросом, я гляжу на него, как глядят на далекие горы или в пустоту, да и мой ответ вряд ли его интересует.
Но если кто влезает в окно и говорит, что все в сборе перед домом, тут уж я со вздохом встаю из-за стола.
– Что ты вздыхаешь? Что случилось? Непоправимая беда? Безысходное горе? Неужто все пропало? Ничего не пропало. Мы выбегаем из дому.
– Слава богу! Наконец-то!
– Вечно ты опаздываешь!
– Я опаздываю?
– А то нет?
– Сидел бы дома, раз неохота с нами!
– Значит, пощады не будет?
– Какой пощады? Что ты мелешь?
Мы ныряем в вечерний сумрак. Для нас не существует ни дня, ни ночи. Мы то налетаем друг на друга, и пуговицы наших жилеток скрежещут, как зубы, то мчимся вереницей, держась на равном расстоянии, и дышим огнем, словно звери в джунглях. Будто кирасиры в былых войнах, мы, звонко цокая и высоко поднимая ноги, скачем по улице и с разбегу вырываемся на дорогу. Несколько мальчиков спустились в канаву и, едва исчезнув в тени откоса, уже выстроились, точно чужие, на верхней тропе и оттуда глядят на нас.
– Эй, вы, спускайтесь!
– Нет уж, давайте вы сюда!
– Это чтобы нас сбросили под откос? И не подумаем! Нашли дураков!
– Скажи уж прямо, что боишься! Смелей!
– Бояться? Вас? Много на себя берете! И не с такими справлялись!
Мы кидаемся в атаку, но, встретив сильный отпор, падаем или скатываемся в травянистую канаву. Здесь все равномерно прогрето дневным зноем, мы не чувствуем в траве ни тепла, ни холода, а только безмерную усталость.
Стоит повернуться на правый бок и подложить кулак под голову, и тебя смаривает сон. Но ты еще раз пытаешься встряхнуться, вытягиваешь шею и вздергиваешь подбородок – чтобы провалиться в еще более глубокую яму. Потом выбрасываешь руки и слабо взбрыкиваешь ногами, словно готовясь вскочить, – и проваливаешься еще глубже… И кажется, этой игре конца не будет.
Но вот ты уже в самой глубокой яме, тут бы и уснуть по-настоящему, растянуться во всю длину, а главное – выпрямить ноги в коленях, – но сна как не бывало; ты лежишь на спине, точно больной, сдерживая подступающие слезы, и только помаргиваешь, когда кто из ребят, прижав локти к бокам, прыгает с откоса на дорогу и его черные подошвы мелькают над тобой в воздухе.
Луна забралась выше; облитая ее сиянием, проехала почтовая карета. Сорвался легкий ветерок, он пробирает и в канаве; где-то невдалеке зашумел лес. Одиночество уже не доставляет удовольствия.
– Эй, где вы?
– Сюда! Сюда!
– Собирайтесь все вместе!
– Что ты прячешься, что за дурацкая фантазия?
– Разве вы не слыхали, почта проехала!
– Как, уже проехала?
– Ну ясно! Когда она проезжала, ты видел третий сон!
– Это я спал? Будет врать!
– Лучше ты помалкивай. Ведь и по лицу видно!
– Что пристал?
– Пошли!
Мы бежим гурьбой, кое-кто держится за руки, приходится закидывать голову как можно выше, так как дорога идет под уклон. Кто-то испустил боевой клич индейцев, ноги сами несут нас в бешеном галопе, ветер подхватывает на каждом прыжке. Ничто не может нас удержать. Мы так разбежались, что, обгоняя друг друга, складываем руки на груди и спокойно озираемся по сторонам.
Останавливаемся мы перед мостиком, переброшенным через бурный ручей; те, кто убежал вперед, вернулись. Вода, омывающая корни и камни, бурлит, точно днем, не верится, что уже поздний вечер. Кое-кому не терпится залезть на перила мостика.
Из-за кустарников в отдалении вынырнул поезд, все купе освещены, окна приспущены. Кто-то затянул веселую песенку – тут каждому захочется петь. Мы поем куда быстрее, чем идет поезд, и, так как голоса не хватает, помогаем себе руками. Наши голоса звучат вразнобой, и нам это нравится. Когда твой голос сливается с другими, кажется, будто тебя поймали на крючок.
Так мы поем, спиной к лесу, лицом к далеким пассажирам. Взрослые в деревне еще не ложились, матери стелят на ночь.
Пора и по домам. Я целую стоящего рядом, пожимаю две-три ближайшие руки и стремглав бегу назад, пока никто меня не окликнул. На первом же перекрестке, где меня уже никто не увидит, поворачиваю и тропками пускаюсь обратно к лесу. Меня тянет город к югу от нас, о котором в деревне не перестают судачить.
– И люди же там! Представьте, никогда не спят!
– А почему не спят?
– Они не устают!
– А почему не устают?
– Потому что дураки.
– Разве дураки не устают?
– А с чего дуракам уставать?
Разоблаченный проходимец
Наконец-то, часам к десяти, мы с моим спутником – я был с ним едва знаком, но он и сегодня будто невзначай за мной увязался и добрых два часа таскал меня по улицам – подошли к господскому дому, куда я был приглашен провести вечер.
– Ну вот, – сказал я, хлопнув в ладоши в знак того, что мне окончательно пора уходить. Я и до этого делал попытки с ним расстаться, но не такие решительные. Он меня ужасно утомил.
– Торопитесь наверх? – спросил он. Изо рта у него послышался странный звук, будто лязгнули зубы.
– Да! Тороплюсь!
Я был зван в гости, о чем сразу же предупредил, и мне следовало давно уже быть наверху, где меня ждали, а не стоять у ворот, глядя куда-то вбок, мимо ушей моего случайного спутника. А тут мы еще замолчали, словно расположились здесь надолго. Нашему молчанию вторили обступившие нас дома и темнота на всем пространстве от крыш до самых звезд. И только шаги невидимых прохожих, чьи пути-дороги были мне безразличны, и ветер, прижимавшийся к противоположной стороне улицы, и граммофон, надрывавшийся за чьими-то запертыми окнами, распоряжались этой тишиной, словно они от века и навек ее полновластные хозяева.
Мой провожатый покорился неизбежности и с улыбкой, говорившей о сожалении – как его, так и якобы моем, – вытянул руку вдоль каменной ограды и, закрыв глаза, прислонился к ней головой.
Но я не стал провожать его улыбку взглядом – внезапный стыд заставил меня отвернуться. Только по улыбке догадался я, что передо мной самый обыкновенный проходимец из тех, что обманывают простаков. А ведь я не первый месяц в городе, мне ли не знать эту братию! Я не раз наблюдал, как такой пройдоха вечерами показывается из-за угла, гостеприимно простирая руки, словно трактирщик; как он толчется у афишной тумбы, перед которой вы стали, будто играет в прятки, но уже непременно хоть одним глазком подглядывает за вами; как на перекрестках, где вы невольно теряетесь, он выскакивает точно из-под земли и ждет вас на самом краю тротуара. Уж я-то вижу их насквозь, ведь это были мои первые городские знакомые, встреченные в захудалых харчевнях, и это им я обязан первыми уроками той неуступчивости, которая, как я успел убедиться, присуща всему на земле, так что я уже ощущаю ее и в самом себе. Такой субъект станет против вас и не сдвинется с места, хоть вы давно от него ускользнули и некого больше обманывать. Он не сядет, не ляжет и не упадет наземь, а все будет пялиться на вас, стараясь обмануть и на расстоянии! И у всех у них одни и те же приемы: станут поперек дороги, стараясь отвлечь вас от вашей цели, предлагая взамен для постоя собственную грудь; а когда вы наконец придете в ярость, бросятся к вам с распахнутыми объятиями.
И эти-то надоевшие фокусы я лишь сегодня распознал, до одури навозившись с тем субъектом. Я изо всех сил тер себе кончики пальцев, стараясь стряхнуть этот позор.
А субъект все стоял, прислонясь к стене, по-прежнему полагая себя пройдохой, и довольство собой румянило его щеки.
– Вы разгаданы! – крикнул я и даже легонько хлопнул его по плечу.
А потом взбежал по лестнице, и беспричинно преданные лица слуг в прихожей были для меня приятной неожиданностью. Я смотрел на одного, на другого, пока они снимали с меня пальто и обмахивали мне штиблеты. А потом вздохнул с облегчением и, выпрямившись во весь рост, вошел в гостиную.
Внезапная прогулка
Вечером, когда ты, кажется, окончательно решил остаться дома, надел халат, сидишь после ужина за освещенным столом и занялся такой работой или такой игрой, закончив которую обычно ложишься спать, когда погода на дворе стоит скверная, так что сам бог велит не выходить из дому, когда ты уже так долго просидел за столом, что своим уходом сейчас удивил бы, когда и на лестнице уже темно и парадное заперто, а ты, несмотря на все это, с внезапным недовольством встаешь, меняешь халат на пиджак, сразу оказываешься одетым для выхода, объявляешь, что должен уйти, и после краткого прощанья уходишь и вправду, вызвав у оставшихся большее или меньшее, в зависимости от поспешности, с какой ты захлопнул за собой дверь, раздражение, когда ты приходишь в себя на улице и все части твоего тела отвечают на эту уже нежданную свободу, которую ты им дал, особой подвижностью, когда чувствуешь, что одним этим решеньем ты собрал в себе всю отпущенную тебе решительность, когда с большей, чем обычно, ясностью понимаешь, что ведь у тебя больше силы, чем потребности легко совершить и вынести самую быструю перемену, и когда так шагаешь по длинным улицам – тогда ты на этот вечер полностью отрешаешься от своей семьи, она уходит в бесплотность, а сам ты, до черноты резко очерченным монолитом, вовсю подхлестывая себя, поднимаешься к истинному своему облику.
Все это только усиливается, если в этот поздний вечерний час навестишь друга, чтобы посмотреть, как живется ему.
Решения
Вырваться из жалкого состояния легко, наверно, даже нарочитым усилием. Я сорвусь с кресла, обегу стол, пошевелю головой и шеей, зажгу огонь в глазах, напрягу мышцы вокруг них. Буду противодействовать каждому чувству, бурно приветствовать А., если он сейчас явится, любезно терпеть Б. у себя в комнате, жадными глотками, несмотря на боль и тягость, впивать в себя все, что скажет В.
Но даже если это удастся, с каждой ошибкой-а они неизбежны – все это, и легкое, и трудное, будет стопориться, и мне придется вернуться по кругу назад.
Поэтому все же самое правильное – сносить все, быть незыблемым, как тяжелая масса, и, даже если чувствуешь, что тебя как бы ветром сдуло, не трепыхаться напрасно, глядеть на другого взглядом животного, не чувствовать раскаянья, короче, собственноручно подавить то, что еще в виде призрака осталось от жизни, то есть умножить в себе последний, совсем уже могильный покой и не признавать ничего, кроме него.
Характерный жест такого состояния – это движенье проведенного над бровями мизинца.
Прогулка в горы
Не знаю, – воскликнул я беззвучно, – я не знаю. Раз никто не идет, так никто и не идет. Я никому не сделал зла, мне никто не сделал зла, но помочь мне никто не хочет. Никто, никто. Ну и подумаешь. Только вот никто не поможет мне, а то эти Никто-Никто были бы даже очень приятны. Я бы очень охотно – почему нет? – совершил прогулку в компании таких Никто-Никто. Разумеется, в горы, куда же еще? Сколько их, и все они прижимаются друг к другу, сколько рук, и все они переплелись, сплотились вместе, сколько ног, и все они топчутся вплотную одна к другой. Само собой, все во фраках. Вот так мы и идем. Ветер пробирается всюду, где только между нами осталась щелочка. В горах дышится так свободно! Удивительно еще, что мы не поем.
Горе холостяка
До чего кажется скверно – остаться холостяком, в старости, с трудом сохраняя достоинство, просить, чтобы тебя приняли, если тебе захотелось провести вечер с людьми, болеть и неделями смотреть из угла своей постели на пустую комнату, всегда прощаться перед парадным, никогда не взбираться по лестнице рядом с женой, иметь в своей комнате лишь боковые двери, которые ведут в чужие жилища, приносить домой свой ужин в одной руке, любоваться чужими детьми и не сметь непрестанно повторять: «У меня нет их», уподобляться по внешности и повадкам одному или двум холостякам из воспоминаний молодости.
Так оно и будет, только и в самом деле выступать в этой роли сегодня и потом будешь ты сам, с телом и головой, а значит, и со лбом, чтобы хлопать по нему ладонью.
Купец
Возможно, и есть такие, в которых я возбуждаю чувство жалости, но я этого не ощущаю. Моя небольшая торговая контора требует от меня столько забот, что голова трещит, а особых перспектив я не вижу, ведь дело-то у меня очень небольшое. Я уже заранее должен обо всем распорядиться, следить, чтобы приказчик ничего не забыл, предостеречь его от возможных ошибок и каждый сезон учитывать моды следующего, и не то, что будут носить в моем кругу, а то, что понравится далекому провинциальному покупателю.
Мои деньги в чужих руках; обстоятельства этих людей мне неизвестны; я не могу предвидеть, какая беда на них обрушится; как же я могу ее предотвратить? Что, если одних обуял дух расточительства и они кутят где-нибудь в ресторане, а другие не сегодня-завтра сбегут в Америку, а пока кутят вместе с ними?
Когда наконец вечером, после рабочего дня, я запираю свою контору и мне вдруг становится ясно, что в течение нескольких часов я не буду трудиться на пользу своего дела, требующего от меня непрестанных хлопот, вот тут-то ко мне возвращается, словно отхлынувшая обратно волна, остаток той энергии, которой я зарядился с утра; меня распирает от этой ни на что не направленной энергии, она рвется наружу и увлекает меня за собой.
Однако я не могу воспользоваться таким своим настроением; все, что я могу сделать, – это пойти домой, потому что лицо и руки у меня грязные и потные, костюм в пятнах и пыли, на голове рабочая кепка, а на ногах башмаки, исцарапанные гвоздями от ящиков. Я несусь, как на волнах, прищелкиваю пальцами то одной, то другой руки, глажу по головке встречных детишек.
Но идти мне недалеко. Я уже дома, открываю дверцу лифта и вхожу в кабину.
И вижу, что я вдруг совершенно один. Другие, которым приходится подыматься пешком, утомляются и не могут отдышаться, дожидаясь, пока им отворят дверь, у них есть повод для недовольства и раздражения, они входят в переднюю, вешают шляпу, идут по коридору мимо нескольких застекленных дверей к себе в комнату и только там оказываются одни.
А я уже сейчас в лифте один и смотрю, опершись на колени, в узенькое зеркало. Когда лифт начинает подыматься, я говорю: «Успокойтесь, отойдите, куда вам хочется, под сень деревьев, за оконные портьеры, в зелень беседок!»
Я говорю с озлоблением. А за матовыми стеклами кабины скользят вниз лестничные перила, словно течет быстрая река.
«Летите прочь; пусть ваши крылья, которых я ни разу не видел, унесут вас в деревню или в Париж, если уж вас так тянет туда.
Но посмотрите в окно, когда со всех трех улиц на площадь вливаются демонстрации, не уступая друг другу дороги, перепутываясь, а за их последними рядами уже снова возникает пустая площадь. Машите платками, возмущайтесь, умиляйтесь, славьте нарядную даму, проезжающую мимо.
Перейдите по деревянному мостику через речушку, улыбнитесь купающимся детям, порадуйтесь громовому «ура» тысячи матросов на дальнем крейсере.
Пойдите следом за незаметным прохожим и, затащив в подворотню, ограбьте его, а потом, засунув руки в карманы, поглядите каждый, как он печально побредет дальше и свернет за угол.
Скачущие врассыпную полицейские осаживают коней и оттесняют вас. Ну и пусть, безлюдные улицы портят им настроение. Вот, пожалуйста, они уже едут обратно по двое в ряд, шагом огибают угол улицы, вскачь несутся через площадь».
Пора выходить. Я спускаю лифт, звоню, горничная открывает дверь, и я здороваюсь с ней.
Рассеянно глядя в окно
Что будем делать в эти весенние дни, которые теперь быстро наступают? Сегодня утром небо было серое, а подойдя к окну сейчас, удивляешься и прижимаешься щекой к ручке окна.
Внизу видишь свет уже, правда, низкого солнца на лице девочки, которая идет и оглядывается, и одновременно видишь на нем тень мужчины, который ее догоняет.
Но вот уже мужчина прошел, и лицо ребенка совсем светлое.
Дорога домой
Вот она, убедительность воздуха после грозы! Мои заслуги предстают передо мной и подавляют меня, хотя я и не упираюсь.
Я шагаю, и мой темп – это темп этой стороны улицы, этой улицы, этого квартала. Я по праву ответствен за всякий стук в двери, по крышкам столов, за все застольные здравицы, за влюбленные пары в своих постелях, в лесах новостроек, прижатые в темных улицах к стенам домов, на кушетках борделей.
Я оцениваю свое прошлое в сравнении со своим будущим, но и то, и другое нахожу превосходным, ни того, ни другого не могу предпочесть и порицаю лишь несправедливость Провидения, которое так благоволит ко мне.
Только войдя в свою комнату, я становлюсь немного задумчив, хотя ничего такого, о чем бы стоило задуматься, я, поднимаясь по лестнице, не нашел. Мне не очень помогает то, что окно настежь открыто и что в каком-то саду еще играет музыка.
Пробегающие мимо
Если гуляешь ночью по улице и какой-то человек, видный уже издалека, – ибо улица перед нами идет в гору и с неба светит полная луна, – бежит нам навстречу, то мы не будем хватать его, даже если он слаб и одет в лохмотья, даже если кто-то бежит за ним следом и кричит, но мы дадим спокойно бежать ему дальше. Ибо стоит ночь и мы не виноваты в том, что улица поднимается перед нами в свете полной луны, и кроме того, быть может, эти двое устроили эту погоню ради развлечения; быть может, они преследуют третьего; быть может, первого преследуют ни за что; быть может, второй хочет совершить убийство, и мы станем соучастниками этого убийства; быть может, оба ничего не знают друг о друге и каждый лишь на свой страх и риск бежит домой, в постель; быть может, это лунатики; быть может, первый вооружен.
И в конце концов, разве не может быть так, что мы устали? Не хватили ли мы чересчур вина? Мы рады, что не видим больше и второго.
Пассажир
Я стою на площадке трамвайного вагона, и у меня нет никакой уверенности насчет моего положения в этом мире, в этом городе, в своей семье. Даже приблизительно я не мог бы сказать, какие притязания вправе я на что-либо предъявить. Я никак не могу оправдать того, что стою на этой площадке, держусь за эту петлю, еду в этом вагоне, что люди сторонятся, пропуская вагон, или замедляют шаг, или останавливаются перед витринами… Никто этого от меня и не требует, но это безразлично.
Вагон приближается к остановке, девушка подходит к ступенькам, готовясь выйти. Она предстает передо мной так
отчетливо, словно я ощупал ее. Она в черном, складки юбки почти неподвижны, блузка в обтяжку, с воротничком из белого густого кружева, левую руку она прижала ладонью к стене, зонтик в правой стоит на второй сверху ступеньке. Лицо у нее смуглое, кончик носа, по бокам слегка вдавленного, округл и широк. У нее обильные каштановые волосы, чуть растрепавшиеся на правом виске. Маленькое ухо почти притерто, но мне, поскольку я стою близко, видна вся тыльная сторона правой раковины и тень у самой ложбинки.
Я спросил себя тогда: как это получается, что она не дивится себе, что она не раскрывает рта и ничего такого не говорит?
Платья
Когда я вижу на красивых девушках красивые платья с пышными складками, рюшами и всяческой отделкой, мне часто приходит на ум, что платья не долго сохранят свой вид: складки сомнутся и их уже не разгладить, отделка запылится и ее уже не очистить, и ни одна женщина не захочет изо дня в день с утра до вечера носить то же самое роскошное платье, ибо она побоится показаться жалкой и смешной.
Однако я вижу красивых девушек с хрупкими изящными фигурками, с очаровательными личиками, гладкой кожей и пышными волосами, которые изо дня в день появляются в той же самой данной им от природы маске и, подперев то же самое личико теми же самыми ладонями, любуются на свое отражение в зеркале.
Только иногда, когда они поздно вечером вернутся с бала и взглянут в зеркало, им вдруг покажется, что на них смотрит потрепанное, одутловатое, запыленное лицо, всеми уже виденное и перевиденное и порядком поизносившееся.
Отказ
Когда я встречаю красивую девушку и прошу ее: «Будь добра, пойди со мной», – а она молча проходит мимо, она хочет этим сказать:
«Ты не герцог с громким именем, не широкий американец с телосложением индейца, с горизонтально-спокойными глазами, с кожей, овеянной воздухом лугов и бегущих через них рек, ты не путешествовал к большим озерам и по ним, которые находятся сама не знаю где. Вот и спрашивается, зачем мне, красивой девушке, идти с тобой?»
«Ты забываешь, тебя не мчат сквозь улицы, плавно качаясь, автомобили; я не вижу, чтобы за тобой правильным полукругом следовали, бормоча благословения тебе, затянутые в костюмы господа из твоей свиты; твои груди хорошо упрятаны в корсаж, но твои ляжки и бедра вознаграждают себя за эту воздержанность; ты носишь платье из тафты с плиссировкой, как то прошлой осенью доставляло удовольствие решительно всем нам, и все-таки ты улыбаешься – иногда, – нося на теле эту опасность для жизни».
«Да, мы оба правы и, чтобы нам неопровержимо не осознать это, пойдем лучше по домам врозь».
Наездникам к размышлению
Ничто, если вдуматься, не может соблазнить быть первым на скачках.
Слава, что ты признан лучшим наездником страны, радует при первых звуках оркестра слишком уж сильно, чтобы избежать раскаянья на следующее утро.
Зависть противников, людей хитрых и довольно влиятельных, не может не причинить нам боль в узком проезде, который мы проскакиваем теперь после той равнины, что вскоре оказалась перед нами пуста, когда и несколько обойденных соперников ничтожно метнулись за горизонт.
Многие наши друзья спешат получить выигрыш и лишь через плечо кричат нам «ура» от отдаленных окошек касс; а самые лучшие друзья и вовсе не ставили на нашу лошадь, боясь в случае проигрыша разозлиться на нас, и теперь, поскольку наша лошадь пришла первой и они ничего не выиграли, отворачиваются, когда мы проезжаем мимо, и предпочитают оглядывать трибуны.
Конкуренты сзади, твердо держась в седле, стараются осмыслить неудачу, постигшую их, и обиду, которая им как-никак наносится; они принимают бодрый, словно начнется новая скачка, и серьезный вид после этой детской игры.
Многим дамам победитель кажется смешным, потому что он пыжится и все же не знает, что делать с нескончаемыми рукопожатиями, салютованиями, поклонами и приветствиями издали, в то время как побежденные молча похлопывают по холке своих лошадей, а те ржут.
Наконец и вовсе начинает лить дождь с помрачневшего неба.
Окно на улицу
Кто живет одиноко, но иногда все-таки хочет приобщиться к чему-то, кто с учетом времени суток, погоды, условий работы и тому подобного хочет немедленно увидеть любую руку, за которую он мог бы ухватиться, – тот без окна на улицу долго не выдержит. Да и в том случае, если он ничего не ищет, а только, усталый, поводя взглядом между небом и публикой, подходит к своему подоконнику, нехотя и чуть запрокинув голову, – да и тогда лошади внизу увлекут его в свое сопровождение, состоящее из повозки и шума, а тем самым в конечном счете к человеческому согласию.
Желание стать индейцем
Быть бы индейцем, готов хоть сейчас, и на мчащейся лошади, наискось в воздухе, коротко вздрагивать над дрожащей землей, а потом отпустить шпоры, ибо нет шпор, а потом отбросить поводья, ибо нет поводьев, и едва видеть перед собой землю выкошенной догола степью, уже без холки, уже без головы лошади.
Деревья
Ибо мы как срубленные деревья зимой. Кажется, что они просто скатились на снег, слегка толкнуть – и можно сдвинуть их с места. Нет, сдвинуть их нельзя – они крепко примерзли к земле. Но, поди ж ты, и это только кажется.
Большой шум
Я сижу в своей комнате, в обиталище шума всей квартиры. Слышу, как хлопают все двери, из-за их шума я избавлен только от шагов тех, кто в них проходит, даже когда в кухне захлопывается печная заслонка, я это слышу. Отец прорывается через двери моей комнаты и проходит в волочащемся сзади халате; из печи в соседней комнате выгребают золу; Валли, выкрикивая через переднюю слово за словом, спрашивает, вычищена ли уже отцовская шляпа; чье-то шипение, которое хочет быть в дружбе со мной, только вызывает крик какого-то отвечающего голоса. Отпираемая нажимом на ручку входная дверь скрипит, как катаральное горло, затем, отворяясь, воет женским голосом и наконец запирается с глухим, мужским толчком, который на слух бесцеремонней всего. Отец ушел, теперь начинается более легкий, более рассеянный, более безнадежный шум, возглавляемый голосами двух канареек. Я уже раньше думал об этом, канарейки напоминают мне это снова – не следует ли чуть приоткрыть дверь, проползти как змея в соседнюю комнату и так, на полу, попросить тишины у моих сестер и их гувернантки.
Тоска
Когда мне стало совсем уж невмоготу – это случилось в ноябрьские сумерки – и я, как по беговой дорожке, бегал по ковровой дорожке у себя в комнате туда и обратно, туда и обратно, и, увидя в окно освещенную улицу, пугался, поворачивал назад, и обретал в глубине зеркала на другом конце комнаты новую цель, и кричал только для того, чтобы услышать крик, хоть и знал, что на него ничто не откликнется и ничто его не ослабит, что он возникнет и ничто его не удержит и он не кончится, даже когда замолкнет, – и тут вдруг прямо в стене открылась дверь, открылась очень поспешно, потому что надо было спешить, и даже извозчичьи лошади на улице, заржав, взвились на дыбы, как обезумевшие в бою кони.
Из совсем темного коридора, в котором еще не зажигали лампы, возник, словно маленькое привидение, ребенок и встал на цыпочки на чуть заметно качающейся половице. Сумеречный свет в комнате ослепил его, и он уже хотел закрыть лицо руками, но неожиданно успокоился, взглянув на окно, за которым темнота поборола наконец высоко поднявшуюся светлую дымку от уличных фонарей. Касаясь правым локтем стены, ребенок стоял в открытой двери на сквозняке, и ветер овевал его ноги, шею, виски.
Я покосился на него, потом сказал: «Добрый день» – и взял с экрана перед печкой пиджак, потому что не хотел стоять здесь так, полуодетым. На миг я открыл рот, чтобы выдохнуть волнение. Во рту был плохой вкус, у меня дрожали ресницы, короче говоря, недоставало только этого давно, впрочем, предвиденного посещения.
Ребенок все еще стоял у стены, на том же месте, он касался правой ладонью стены и, разрумянившись от удовольствия, тер кончиками пальцев шершавую оштукатуренную стену. Я спросил:
– Вы действительно пришли ко мне? Это не ошибка? В таком большом доме ошибка всегда возможна. Я такой-то, живу на четвертом этаже. Так как же, вы хотите видеть именно меня?
– Спокойно, спокойно, – небрежно сказал ребенок, – все правильно.
– Тогда входите в комнату, я хотел бы закрыть дверь.
– Я уже закрыл дверь. Не утруждайте себя. Вообще успокойтесь.
– Какой же это труд? Но в коридоре много жильцов, и я, разумеется, со всеми знаком; большинство сейчас как раз возвращаются со службы; если они услышат в комнате разговор, они просто сочтут себя вправе открыть дверь и посмотреть, что здесь происходит. Тут ничего не поделаешь. Трудовой день кончился; они на время свободны, не станут же они со мной считаться! Да вы и сами это знаете. Дайте я закрою дверь.
– Ну и что же? Что это вы, право? По мне, пусть хоть весь дом приходит. А потом, повторяю: я уже закрыл дверь; вы думаете, только вы умеете закрывать дверь? Я даже запер ее на ключ.
– Тогда все в порядке. Больше мне ничего не требуется. На ключ можно было даже не запирать. А теперь, раз уж вы пришли, располагайтесь поудобнее. Вы мой гость. Меня бояться вам нечего. Не стесняйтесь, будьте как дома. Я не собираюсь ни задерживать вас, ни прогонять. Неужели мне надо это говорить? Что вы, меня не знаете?
– Да, вам действительно не надо было это говорить. Больше того, вы не должны были это говорить. Я еще ребенок; к чему столько церемоний?
– Что вы, помилуйте. Разумеется, вы еще ребенок. Но не такой уж маленький. Вы уже подросток. Если бы вы были девочкой, вам бы не следовало так вот просто взять и запереться со мной в комнате.
– Об этом не стоит беспокоиться. Я только хотел сказать:
то, что я вас хорошо знаю, для меня не такая уж гарантия, это только избавляет вас от труда лгать мне. К чему эти церемонии! Бросьте, бросьте, пожалуйста. К тому же я вас не так хорошо знаю, я не во всем и не всегда в вас разбираюсь, особенно в такой темноте. Хорошо бы зажечь свет. Нет, лучше не надо. Во всяком случае, я запомню, что вы мне угрожали.
– Что? Я угрожал вам? Но помилуйте, я так рад, что вы наконец пришли. Я сказал «наконец», потому что уже поздно. Мне непонятно, почему вы пришли так поздно. Возможно, что я обрадовался и в волнении наговорил всякой всячины, а вы меня не так поняли. Охотно допускаю, что наговорил всякой всячины и даже, если хотите, угрожал вам. Только, ради бога, не надо ссориться! Но как вы могли этому поверить? Как могли вы меня так обидеть? Почему вы хотите во что бы то ни стало испортить те короткие минуты, что вы здесь? Посторонний и тот бы постарался быть внимательнее, подойти к человеку ближе.
– Охотно верю; подумаешь, открытие! Я по самой своей природе ближе вам, чем любой посторонний, как бы он ни старался. Это вы тоже знаете, к чему же тогда такие жалобы? Скажите лучше, что это кривлянье, и я сейчас же уйду.
– Вот как! Однако наглости у вас хватает! Вы слишком осмелели. В конце концов, вы все же в моей комнате и как сумасшедший трете пальцы о мою стену. Это моя комната, моя стена! И, кроме того, все, что вы говорите, не только дерзко, но и смешно. Вы говорите, что по самой своей природе вынуждены так со мной разговаривать. Это правда? Вынуждены по самой своей природе? Очень мило со стороны вашей природы. Ваша природа-это моя природа, и если я по своей природе любезен с вами, то и вы тоже обязаны быть любезны.
– А вы любезны?
– Я был любезен.
– Почем вы знаете, может, и я еще буду любезен.
– Ничего я не знаю.
И я подошел к ночному столику и зажег стоявшую на нем свечу. В ту пору у меня в комнате не было ни газового, ни электрического освещения. Я посидел еще некоторое время за столом, пока мне это не надоело, затем надел пальто, взял с дивана шляпу и задул свечу. Выходя, я задел за ножку кресла.
На лестнице я встретился с жильцом с моего этажа.
– Опять уходите из дому, вот бездельник! – сказал он, шагнув через две ступеньки и остановившись.
– А что прикажете делать? – ответил я. – Сейчас у меня в комнате было привидение.
– Вы говорите таким недовольным тоном, словно вам в супе попался волос.
– Шутить изволите. Но заметьте, привидение-это привидение.
– Истинная правда. А что, если вообще не веришь в привидения?
– А я, по-вашему, верю в привидения? Но что толку от моего неверия?
– Очень просто. Попытайтесь преодолеть страх, когда к вам в самом деле пожалует привидение.
– Да, но суть не в этом страхе. Настоящий страх-это страх перед причиной явления. А этот страх остается. Он меня мучает. – Я нервничал и от волнения рылся во всех карманах.
– Но раз вы не боитесь самого привидения, почему вы его не спросили о причине его появления?
– Очевидно, вы еще ни разу не говорили с привидениями. Разве от них дождешься вразумительного ответа! Все только вокруг да около. Впечатление такое, будто они больше нас сомневаются в своем существовании, что, впрочем, не так уж удивительно при их хилости,
– А знаете, я слышал, что их можно откормить.
– Вы хорошо осведомлены. Можно. Но кому охота?
– А почему же? Если это, например, привидение женского пола, – сказал он и шагнул на верхнюю ступеньку.
– Ах, так, но даже и в таком случае не стоит, – сказал я.
Я опомнился. Сосед поднялся уже выше, и, чтобы увидеть меня, ему пришлось наклониться вперед и вытянуть шею.
– Но все же, – крикнул я, – если вы попробуете, придя наверх, забрать себе мое привидение, тогда между нами все кончено раз и навсегда.
– Да я ведь просто пошутил, – сказал он и втянул голову.
– В таком случае все в порядке, – сказал я. Теперь я, собственно, мог спокойно отправиться на прогулку. Но я чувствовал себя таким одиноким и потому предпочел подняться наверх и лечь спать.



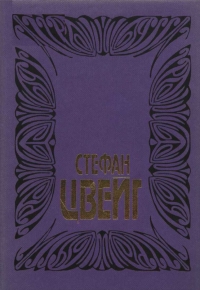

Комментарии к книге «Созерцание (сборник)», Франц Кафка
Всего 0 комментариев