Джек Лондон Джон — Ячменное Зерно
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Эта мысль созрела у меня однажды в день выборов. В послеполуденный час я спустился с фермы по Лунной долине в маленькое селение, чтобы сказать свое «да» или «нет» по поводу разных поправок к конституции штата Калифорния. Было жарко, и я выпил несколько рюмок перед тем, как опустить свой бюллетень, и две-три после. Покончив с делами, я верхом поехал обратно горной тропой вдоль наших виноградников и пастбищ. К себе на ферму я прибыл к вечеру и успел еще разок выпить перед ужином.
— Ты голосовал за женское равноправие или против? — осведомилась Чармиан.
— За!
Она издала возглас удивления, ибо должен признаться, что в дни молодости я, несмотря на свой пылкий демократизм, был противником женского равноправия. С годами я выработал в себе известную терпимость, поняв, хотя и без восторга, общественную неизбежность этой реформы.
— Все-таки объясни, почему ты голосовал за? — допытывалась Чармиан.
Я принялся объяснять многословно и сердито. И чем больше говорил, тем сильнее злился. (Нет, я не был пьян. Ведь я ехал на Разбойнике. Интересно знать, какой пьяный усидел бы на этой лошади!)
Пьян не пьян, но возбужден я был изрядно, в голове приятно шумело, в общем, я чувствовал себя в ударе.
— Как только женщины добьются избирательного права, они потребуют сухого закона, — сказал я. — Тогда тебе крышка, Джон — Ячменное Зерно! Уж они-то, жены, сестры, матери, угробят тебя наверняка!
— А мне ведь казалось, что Джон — Ячменное Зерно — твой друг, заметила Чармиан.
— Да, друг. Нет, нет, какое там! Никогда он мне не был другом. Когда я с ним, мне чудится, что мы друзья, но тут-то я меньше всего ему предан. Он король обманщиков. Он правдивейший из правдивых. Он окрыляет человека. Но он в союзе и с Курносой. Путь, который он указывает, ведет к обнаженной правде и к гибели. От него и прозрение и безумие. Он враг жизни, он учит мудрости, но мудрости потусторонней. Он кровавый убийца, губитель молодых жизней.
Чармиан глядела на меня с недоумением.
А я уже не мог остановиться. Да, действительно я был в ударе!
Мозг работал четко. Каждая мысль сидела в своей клетке, готовая вырваться наружу, словно узник, ждущий в глухую полночь сигнала к побегу. И каждая мысль была, как откровение, точная, четкая, образная. Алкоголь озарил мой мозг ярким светом. Джон — Ячменное Зерно пожелал излить свою душу и выбалтывал сокровенные тайны моими устами. Картины прошлого воскресали у меня в голове, сменяясь ряд за рядом, точно войска на параде.
Я был властен отбирать их в любом порядке. Я полностью владел своими мыслями, распоряжался словами, подкреплял их примерами из своего богатого жизненного опыта. В этом и есть колдовская сила Джона — Ячменное зерно: он изощряет ум, нашептывает роковые истины, освещает серость жизни багряными лучами прозрения.
Я бегло обрисовал Чармиан свое прошлое, коснулся главных черт своей натуры. Я не потомственный алкоголик. Никакого органического влечения к алкоголю у меня нет. В этом смысле я рос нормальным человеком. Привычка к алкоголю у меня благоприобретенная, и я немало выстрадал, пока привык пить. Вначале меня тошнило от спиртного хуже, чем от лекарств. Я до сих пор ненавижу его вкус. Я пью только ради того, чтобы быть "под хмельком", а в возрасте от пяти до двадцати пяти меня и это не привлекало. Потребовалось двадцать лет насилия над организмом, чтобы преодолеть отвращение к алкоголю и создать к нему привычку.
Я рассказал Чармиан, как познакомился с алкоголем, как болел после каждой выпивки, и привык к нему лишь потому, что он оказывался всегда под рукой. Под рукой — это даже не то слово. Все увлечения в период формирования моей личности толкали меня к алкоголю. Мальчишкой, продавая газеты, в годы юности, плавая матросом, работая рудокопом и просто странствуя в чужих краях, я всегда видел, что где бы ни сходились мужчины — обменяться мыслями, пошутить, покуражиться, похвастать, отдохнуть от вечного отупляющего труда и забыться, — на столе непременно появлялась бутылка. Местом сборищ был кабак. Люди собирались там за бутылкой, как собирались в седой древности их первобытные предки вокруг кочевого костра.
Я напомнил Чармиан про лодочные домики на южных островах Тихого океана, куда ее не допускали. Курчавые туземцы пировали и пьянствовали там без жен — для них это была святая святых, для женщин — табу, нарушение которого каралось смертью.
Кабак помог мне в юношеские годы уйти от мелочной женской опеки, открыв передо мной широкий свободный мужской мир. Все пути вели в кабак. Тысячи неведомых дорог сходились там и расходились оттуда по всему свету.
— Привычка к алкоголю создалась у меня из-за того, что он был доступен, — вот где корень зла, — заключил я свой рассказ. — Мне он совсем не нравился. Я смеялся над ним. А в конце концов стал пьяницей. Двадцать лет я прививал себе вкус к крепким напиткам, потом еще десять лет заставлял себя их полюбить. И никогда мне это не доставляло радости. По натуре я человек простодушный, жизнерадостный. Но когда со мной Джон — Ячменное Зерно, я становлюсь мрачным пессимистом и испытываю все муки ада.
Впрочем, нужно отдать ему должное, — поспешил я добавить, как привык это делать всегда. — Джон — Ячменное Зерно режет правду в глаза. Вот в чем его сила. Так называемая житейская правда — вовсе не правда. Это та непременная ложь, которая поддерживает жизненные устои, а Джон — Ячменное Зерно не оставляет от нее камня на камне.
— И вряд ли этим оказывает большую услугу жизни! — вставила Чармиан.
— Ты права, — согласился я. — В этом-то вся трагедия. Если на то пошло, он скорее играет на руку смерти. Вот почему я нынче голосовал за женское равноправие. Вспомнил всю свою жизнь и понял, что стал пьяницей оттого, что алкоголь был всегда слишком доступен. Поверь, не так уж много людей рождаются алкоголиками. К слову сказать, само это понятие требует разъясне ния. Алкоголик — это тот, кто органически не может существовать без вина и бессилен бороться со своей страстью. А большинство пьющих — вовсе не прирожденные алкоголики. Ни первая, ни двадцатая, ни даже сотая рюмка не доставила им удовольствия. Пить они приучились так же, как приучаются курить, хотя, впрочем, второе куда проще. Причина одна — доступность алкоголя. Женщины это знают. Расплачиваться за все приходится им, бедняжкам, — женам, матерям, сестрам. Зато когда их допустят к урнам, они потребуют запрещения спиртных напитков.
И это будет очень полезно: избавит молодое поколение от многих бед. Не видя вина, не питая к нему слабости, люди не станут даже вспоминать о нем. В результате жизнь подростков и юношей сделается содержательнее. И жизнь девушек, их будущих подруг, тоже.
— Почему бы тебе не написать об этом на благо грядущих поколений? сказала Чармиан. — Чтобы жены, сестры и матери поняли, за что им следует голосовать.
— Воспоминания алкоголика? — поморщился я, — вернее, не я, а Джон Ячменное Зерно: ведь он уже сидел во мне и слышал мою покровительственно-благодушную болтовню. Только он, Ячменное Зерно, способен вдруг превратить улыбку в презрительную гримасу.
— Нет, — сказала Чармиан, привыкшая по-женски не обращать внимания на его грубые выпады. — Ты ведь доказываешь, что ты не алкоголик, не запойный пьяница, а свел дружбу с бутылкой лишь потому, что она была всегда излишне доступна. Вот об этом и напиши и назови свою книгу "Воспоминания об алкоголе".
ГЛАВА ВТОРАЯ
Итак, я приступаю. Прошу читателя выслушать меня сочувственно, постараться понять меня и других, о ком я здесь пишу, разобраться в обстановке, которая нас окружала. Прежде всего надо сказать, что я пьяница со стажем, хотя врожденной склонности к спиртным напиткам никогда за собой не замечал. Я не глуп. Я не скотина. По части выпивки прошел всю науку, какая есть, и всегда знаю меру. Меня никогда не приходится укладывать спать. И не надо поддерживать, чтобы я не упал. Короче говоря, я нормальный, обыкновенный человек и пью, как все.
Об этом я и намерен написать: о влиянии алкоголя на нормального, обыкновенного человека. Не буду касаться поведения запойных пьяниц и не намерен их защищать; такие экземпляры составляют ничтожное меньшинство.
Все пьющие делятся, в общем, на два типа. Первый хорошо известен всем: это глупое, тупое существо, всегда в дурмане, ходит широко расставляя ноги, словно в качку матрос, часто валяется в канавах, а уж когда нахлещется, видит синих мышей и розовых слонов. Это тот самый забулдыга, который дает юмористам неисчерпаемый материал для карикатур.
Пьяница второго типа наделен воображением и проницательностью. Даже когда в голове у него шумит, он сохраняет привычную устойчивость — не пишет вензеля на мостовой, не валится с ног, хорошо знает, где он и что с ним происходит. Власть алкоголя распространяется лишь на его мозг, но не на тело. Такой человек бывает блестящим, остроумным, душою общества. Бывает и провидцем в космических масштабах, с железной логикой, нередко облеченной в форму силлогизмов. Алкоголь рассеял все иллюзии, раскрыл ему горькую правду о том, что душа его скована железным обручем долга. В этот час Джон — Ячменное Зерно коварно показывает свое могущество. В канаве валяться — дело не хитрое. Но удержаться и не пасть — мучительнейшая пытка, если ты прозрел и понял, что тебе дано одно только право покончить с собой. В этот час прозрения становится очевидной истина, что познаваемы только законы жизни, но смысл ее — никогда. И это страшный час! Сам о том не догадываясь, ты ступаешь на смертную стезю.
Ослепительный свет вдруг пронизывает все. Бессмертия не существует это небылица, плод душевного смятения, посеянного страхом смерти и усугубленного воображением, будь оно трижды проклято! Человек лишен инстинкта смерти: когда настает последний час, у него не хватает воли умереть. И потому он тешит себя обманом, будто ему удастся перехитрить судьбу и вырвать у нее вторую жизнь — за гробом; истлевать во тьме могил, испепеляться в печах крематория — это удел других! Зато уж тот, кому Джон — Ячменное Зерно сорвал повязку с глаз, постиг всю правду. Всех ждет один конец. Под луной ничто не ново, в том числе и миф о бессмертии, это утеха малодушных. А ты, ты крепко стоишь на земле, ты знаешь, что и как. Плоть, вино, блеск ума, солнечные лучи, звездная пыль — вот из чего сработан на краткий срок непрочный механизм, и сколько ни будут стараться ученые богословы и медики, все равно конец один — на свалке.
Разумеется, такие приступы меланхолии не что иное, как душевное заболевание, которым человек с воображением расплачивается за дружбу с Ячменным Зерном. Дураку гораздо легче.
Он напивается до бесчувствия, спит одурманенный, и если видит сны, то всегда сбивчивые. А человеку с головой Джон — Ячменное Зерно посылает безжалостные и призрачные силлогизмы Белой Логики. И этот человек начинает взирать на жизнь с ее суетой желчным взглядом немецкого философа-пессимиста. Развенчивает все иллюзии. Переоценивает все ценности. Добро — это зло, правда — обман, жизнь — не больше как шутка. В своем маниакальном бреду, убежденный, как Бог, в собственной правоте, он видит только дурное. Жена, дети, друзья в свете Белой Логики — лицемеры и обманщики. Уверовав, что видит их насквозь, он замечает в них только мелочность, ничтожество, скудоумие и нравственную нечистоплотность. Он их раскусил и понял, что это убогие, маленькие себялюбцы, жалкие смертные, чья жизнь быстротечнее, чем век мотылька. Они не распоряжаются своей судьбой. Они рабы случая.
И он тоже. Он это понял. Но также понял, что он другой: он все видит, все знает. Единственное право, которым он обладает, — право покончить с собой. И это очень плохо. Ведь человек рождается на свет, чтобы жить, любить и быть любимым. А Джон — Ячменное Зерно толкает его на самоубийство — быстрое или медленное:
пустить пулю в лоб или шаг за шагом уходить из жизни на протяжении многих лет. Кто свел с ним дружбу, тому не избежать этой роковой, справедливой расплаты.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В первый раз я напился, когда мне было пять лет. День был жаркий, мой отец пахал в поле за полмили от дома. Меня послали отнести ему пива. "Да смотри, не расплескай по дороге!" — наказали мне на прощание.
Пиво было, помнится, в деревянном ведерке с широким верхом и без крышки. Я нес его и плескал себе на ноги. Я шел и размышлял: почему это пиво считается такой драгоценностью? Небось, вкусно! А то почему мне не велят его пить? Ведь все, что родители запрещают, всегда очень вкусно. Значит, и пиво тоже.
Уж эти взрослые понимают, что к чему! А тут, как назло, полное ведро. Пиво выливается мне на ноги и на землю. Чего же зря добру пропадать? Никто не узнает, пролил я или выпил?
Я был так мал, что пришлось сесть и поставить ведерко себе на колени, чтобы отхлебнуть. Сперва я лизнул пену. Бог ты мой!
Где же этот дивный вкус? Значит, не в пене, уж слишком она противная. Тут я вспомнил, что взрослые ее сдувают и только потом пьют. Я сунул нос в ведро и принялся лакать густую жидкость. Ну и дрянь же! Все-таки я пил. Не может быть, чтобы взрослые так ошибались! Трудно сказать, сколько я выпил тогда:
я был карапуз, а ведро казалось огромным, а я все хлебал, не отрываясь, погрузив лицо по самые уши в пену. Но глотал я, признаться, как лекарство: меня тошнило, и хотелось скорее покончить с этим мучением.
Наконец я встал, передергиваясь от отвращения, и пошел дальше. Наверное, после все же будет приятно, думал я. По пути я прикладывался к ведерку еще несколько раз, и вдруг заметил, что там изрядно недостает. Но я вспомнил, что пиво размешивают, и, схватив палочку, принялся мешать, пока пена не вздулась до краев.
Отец ничего не заметил. Ему очень хотелось пить, и, быстро осушив ведерко, он снова взялся за плуг. Я попробовал пойти рядом, но, сделав несколько шагов, упал под лошадь, едва не напоровшись на стальной лемех. Отец так резко осадил назад, что лошади едва не растоптали меня. Потом отец рассказывал, что я был на волосок от гибели. Смутно помню, как он нес меня на край поля, где росли деревья, и все передо мной качалось и ходило ходуном. Меня страшно тошнило и мучил страх, что я совершил дурной поступок.
Я проспал под деревьями до вечера. На закате отец разбудил меня, и, с трудом поднявшись, я побрел за ним. Я был еле жив: ноги казались свинцовыми, резало в животе, к горлу подступала тошнота. Я чувствовал себя отравленным. Собственно говоря, это и было самое настоящее отравление.
После этого случая у меня надолго пропал интерес к пиву, так же как к кухонной плите, о которую я однажды обжегся.
Да, взрослые правы. Пиво не для маленьких. Взрослым что — они пьют, не моргнув глазом! Да им и касторка нипочем, и разные пилюли! А я проживу и без пива. И прожил бы всю жизнь, если бы не обстоятельства. В той среде, где я рос, Джон — Ячменное Зерно манил к себе на каждом шагу. От него невозможно было спрятаться. Все дороги вели к нему. И за двадцать лет общения с ним, приветствуя его при встречах и восхваляя без всякой искренности, я в конце концов привязался к этому негодяю.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Мой второй поединок с Джоном — Ячменное Зерно состоялся, когда мне исполнилось семь лет. На сей раз меня подвело воображение: страх толкнул меня к алкоголю. Наша семья, занимавшаяся сельским хозяйством, переехала на новую ферму в округ Сан-Матео, к югу от Сан-Франциско, на пустынное, голое побережье. В те времена это была совершенная глушь, и моя мать частенько напоминала нам с гордостью, что мы коренные американцы, не то что другие фермеры — разные ирландцы да итальянцы.
Однажды воскресным утром — не помню сейчас, по какому поводу, — я очутился на ферме Морриси. Там собралась молодежь с окрестных ферм. Были и люди постарше, которые начали пить еще спозаранку, а то и со вчерашнего вечера. Все члены обширной семьи Морриси, многочисленные сыновья и племянники, были как на подбор: крупные, здоровые, в тяжелых сапогах, с зычными голосами и внушительными кулачищами.
Внезапно со двора раздались вопли девушек: "Караул! Дерутся!" Мужчины выскочили из кухни и кинулись туда. Во дворе сцепились два полуседых краснолицых великана. Один из них носил прозвище Черный Мэт — по слухам, он убил когда-то двух человек. Женщины визжали, крестились и бормотали молитвы, многие закрывали лица руками, хотя и поглядывали между пальцев. Зато уж я смотрел во все глаза. Можно сказать без преувеличения, что я был самым заинтересованным зрителем.
А вдруг мне повезет, и я увижу убийство! Или, по крайней мере, хотя бы настоящую мужскую драку! Каково же было мое разочарование, когда оказалось, что Черный Мэт и Том Морриси, обхватив друг друга за пояс и поднимая ноги в огромных сапожищах, просто топчутся на месте, как пара дрессированных слонов. Для хорошей драки они были слишком пьяны. Тут подоспели миротворцы и увлекли их обратно на кухню, чтобы вспрыснуть восстановление прежней дружбы.
Скоро все уже опять говорили разом, из богатырских глоток мужчин, привыкших к труду на вольном воздухе, неслись веселые возгласы и смех. Виски развязало языки этим обычно молчаливым фермерам. А я, готовый в любой миг пуститься наутек, замирая от страха, заглядывал в открытую дверь и дивился, что за непонятные люди эти взрослые. Чего это вдруг Черный Мэт и Том Морриси уселись в обнимку, навалились грудью на стол и громко всхлипывают?
Кухонный пир продолжался, и девушки во дворе забеспокоились. Они знали, чем обычно кончаются такого рода пирушки, и с минуты на минуту ожидали беды. Свидетелями быть никому не хотелось. И вот кто-то предложил отправиться всей компанией на большую итальянскую ферму в четырех милях от Морриси, где можно потанцевать. Долго не раздумывая, юноши и девушки разделились на пары и двинулись по песчаной дороге. Я заметил, что каждый юноша поспешил пристроиться к своей симпатии, — уж предоставьте семилетнему всезнайке быть в курсе амурных дел своих соседей! И даже мне доверили даму: маленькую ирландочку одних со мной лет. В этой непринужденной компании, кроме нас, детей не было. Самой старшей паре было от силы двадцать лет, а большинству мальчишек и девчонок — эдак четырнадцать — шестнадцать. Мы же с ирландочкой представляли самый юный возраст и шли, держась за руки, хотя время от времени, подзадориваемый старшими, я обхватывал ее за талию. Но так идти было неудобно. Однако я шествовал весьма горделиво, и в это солнечное воскресное утро дорога меж песчаных холмов не казалась мне длинной и мрачной. Смотрите, и, у меня есть подружка, я тоже теперь взрослый!
Итальянская ферма принадлежала холостякам. Нас встретили очень радушно. Всех угостили красным вином и стали сдвигать мебель в просторной столовой, освобождая место для танцев.
Ребята плясали с подружками под аккордеон. Мне эта музыка показалась восхитительной, ничего лучше я никогда не слыхал. Молодой итальянец с аккордеоном даже умудрялся вскакивать и танцевать, схватив в объятия свою девушку и играя за ее спиной.
Сам я не участвовал в танцах, я сидел за столом и восхищенно таращил глаза. Ведь я был еще малышом и новые впечатления впитывал с величайшей жадностью. Время от времени наши ирландские ребята подходили к столу и наливали себе вина; было весело, и у всех было хорошее настроение. Но вот некоторые начали спотыкаться танцуя и даже падать, а один парень забился в угол и там уснул. Их подружки обиделись и собрались уходить, но другие беззаботно хихикали: мол, нам-то что, пускай!
Хозяева предложили и мне выпить за компанию, но я отказался. Я еще не забыл истории с пивом и не собирался пополнять свой опыт. На беду, молодой итальянец Питер, коварная душа, заметив, что я сижу один, вдруг воспылал участием и протянул мне через стол полстонки вина. Я отказался. Лицо его сразу приняло суровое выражение, и он еще настойчивее предложил мне выпить. И тут на меня напал страх — причину я сейчас объясню.
У моей матери были свои теории. Во-первых, она была твердо убеждена, что все черноволосые и черноглазые представители рода людского — лжецы. Излишне говорить, что мать сама была блондинкой. Другим глубоким ее убеждением являлось то, что черноглазые латинские народы безмерно обидчивы, коварны и кровожадны. Перенимая жизненную мудрость из уст матери, я накрепко запомнил ее слова, что если обидеть итальянца, пусть даже из-за пустяка или совсем нечаянно, он тотчас схватится за нож. "Всадит тебе нож в спину!" — говорила всегда мать.
И хотя только сегодня я горел желанием увидеть, как Черный Мэт будет убивать Тома Морриси, меня куда меньше привлекала перспектива самому доставить удовольствие танцующим видом ножа, торчащего у меня меж лопаток. В то время я еще не научился понимать разницу между теориями и фактами. Я слепо верил тому, что говорила мать об итальянцах, С другой стороны, у меня имелись зачаточные представления о гом, что гостеприимство свято. Я попал в гости к коварному, обидчивому и кровожадному итальянцу. Мне внушили, что, если я его обижу, он даст мне ножом, как дает копытом норовистая лошадь, если ты разозлил ее. Как на грех, у этого Питера были те самые страшные черные глаза, о которых меня предупреждала мать. Они не были похожи на глаза знакомых мне людей — голубые, серые и карие глаза членов нашей семьи или на добродушные — цвета небесной лазури — глаза ирландцев. Возможно, Питер был под хмельком. Во всяком случае, глаза его блестели, как антрацит, искрились насмешкой. Но для меня их выражение было загадочным — мог ли я в свои семь лет анализировать, понимать, что со мной шутят? Во взгляде Питера я прочел свой смертный приговор и уже повторил свой отказ менее решительно. Тогда глаза Питера стали еще страшнее. Сурово и повелительно уставившись на меня, итальянец пододвинул ко мне вплотную стопку с вином.
Что тут было делать? Впоследствии я встречался не раз лицом к лицу со смертью, но такого леденящего ужаса, как тогда, я больше не испытал. Я поднес стопку к губам. Взгляд Питера смягчился. Значит, он меня не убьет, обрадовался я. На сердце стало поспокойнее, но в желудке творилось Бог знает что. Вино было молодое, самых дешевых сортов, горькое, кислое, изготовленное из бросового винограда и сцеженное со дна бочки. Еще противнее, чем пиво! Есть один только способ пить лекарство: пить не раздумывая. Этот способ я и применил: запрокинув голову назад, осушил стопку. Потом судорожно глотнул, силясь удержать в себе этот яд, словно огнем опаливший мое нутро.
Представляю себе, как поражен был Питер. Он снова налил полстопки и поставил передо мной. Похолодев от ужаса, но понимая, что от судьбы не уйдешь, я проглотил вторую порцию. Это показалось Питеру и вовсе невероятным. Решив поделиться с другими своей интересной находкой, он подозвал молодого усатого итальянца Доминика: посмотри, что за диво! Мне налили полную стопку. На какие жертвы не идешь, спасая свою жизнь! Я призвал себе на помощь все мужество, подавил тошноту и выпил.
Доминик заявил, что сроду не видывал такого храброго мальчишку. Он еще два раза наполнил до краев мою стопку и следил, как я поглощаю вино. К тому времени мой героизм привлек внимание и других. Меня обступили пожилые батраки, итальянцы из Старого Света, которые не понимали по-английски и не танцевали с ирландскими девчонками. Я видел темные жестокие лица, красные рубахи, кожаные пояса и знал, что у каждого из этих людей, окруживших меня, точно шайка пиратов, есть нож. А Питер и Доминик все требовали, чтобы я демонстрировал свое умение пить.
Если бы не мое проклятое воображение, я бы отбрыкивался и со мной бы не случилось такое происшествие. Но все наши ребята увлеклись танцами, и некому было вызволить меня из беды. Не знаю, сколько этого страшного зелья пришлось мне тогда влить себе в глотку. Мне запомнилось лишь ощущение безграничного страха перед обступившей меня кровожадной сворой, стол из грубых досок, залитый вином, да бесчисленные стопки с огненной жидкостью, которую я все пил и пил. Как ни ужасно вино, получить смертельную рану еще хуже; и я твердил себе, что должен выжить любой ценой.
Теперь, умудренный опытом, я понимаю, почему не лишился тогда чувств. Я уже говорил, что был скован, парализован страхом и мог только машинально поднимать руку, поднося ко рту стопку за стопкой. Окаменев, я стал сосудом, в который вливалось вино. От страха мой желудок атрофировался. Даже тошнить перестало. Неудивительно, что итальянцы сочли меня диковинным ребенком, видя, как я с безразличием автомата поглощаю столько вина. Утверждаю без хвастовства, что подобное зрелище им было в диковинку.
Настала пора уходить. Пьяные выходки ребят заставили наиболее рассудительных девушек заторопиться домой. Я оказался за дверью подле своей маленькой дамы. С ней не случилось такой беды, как со мной, ее никто не пытался напоить. Она смотрела как зачарованная на фокусы, которые выделывали наши ребята, старавшиеся сохранять равновесие, идя рядом со своими подружками. Потом она стала их передразнивать. Мне это показалось очень забавным, и я тоже пошел писать вензеля. Но она-то не пила ничего, мне же от этих шалостей винные пары ударили в голову. Уже с первых шагов у меня получалось правдоподобнее, чем у нее, а через несколько минут я выделывал такие антраша, что сам себе удивлялся. Я заметил, как один паренек, который, шатаясь, прошел шагов десять, остановился на краю дороги, вперил мрачный взгляд в канаву и завершил свое глубокомысленное созерцание тем, что свалился в нее. Это вышло смешно до чертиков, и, подражая ему, я тоже направился к канаве, разумеется, без всякого намерения падать. Очнулся я уже на дне канавы, откуда меня вытаскивали перепуганные девчонки.
Мне вдруг надоело валять дурака. Шутливое настроение разом испарилось. В глазах поплыло, стало трудно дышать, и я начал жадно ловить воздух. Две девушки тащили меня под руки.
Ноги мои были точно налиты свинцом. В голове и в сердце стучало, как молотом. Будь я слаб, я умер бы тогда наверняка. Даже при всей своей выносливости я был близок к смерти, о чем не догадывались мои встревоженные спутницы. Я слышал, как они спорили, кто виноват, некоторые даже плакали, жалея себя, жалея меня и сетуя на своих кавалеров, показавших себя в столь невыгодном свете. Но мне было все безразлично. Я задыхался, мне не хватало воздуха. Каждый шаг был пыткой. До дому четыре мили. Четыре мили! Как сквозь туман, я увидел переброшенный через ручей мостик; помню, мне почудилось, что он очень далеко. А там и ста футов не было! Дойдя до него, я опустился на землю и в изнеможении лег плашмя. Девушки пытались поднять меня, но я был не в состоянии двинуться. Они стали звать на помощь; к нам подошел подвыпивший семнадцатилетний Ларри и принялся делать мне искусственное дыхание, прыгая у меня на груди Помню, хотя и смутно, визг девушек, кинувшихся к Ларри и оттащивших его в сторону. Больше я ничего не запомнил, но мне рассказывали потом, что Ларри залез под мост, лег и проспал там до утра.
Когда я открыл глаза, было уже темно. Всю дорогу меня несли в бессознательном состоянии и дома уложили в постель.
Я тяжко занемог и бредил. Пережитые ужасы, которые не укладывались в мое детское сознание, вызвали мучительные галлюцинации. Кого-то убивали, потом убийцы гнались за мной. Я кричал, буянил, отбивался. И страдал невыносимо. Когда после приступа ко мне на некоторый срок возвращалось сознание, я слышал голос матери: "Что ж это будет! Помешался ребенок!" И я опять начинал бредить, задыхаясь от нового кошмара: я в желтом доме, меня избивают надзиратели, а вокруг дико орут сумасшедшие.
Как-то раз я слышал и запомнил разговор взрослых о китайских притонах Сан-Франциско. И вот в бреду мне стало казаться, что я попал в подземелье и там, в тысяче притонов за коваными дверями, тысячу раз отбиваюсь от смерти. Вдруг я вижу отца — он сидит за столом в одном из подземных склепов и ведет с китайцами крупную игру на золото, разбросанное по столу. Я разражался потоками страшной брани, вскакивал с постели, вырывался из рук родных и ругал отца на чем свет стоит. Я повторял всю грубую брань, которую безнадзорный ребенок слышит от деревенских мужчин, но в обычных условиях никогда не осмелится произнести вслух. В бреду я ругал отца: негодяй, сидит в подземелье и играет с китайцами, у которых длинные косы и кривые когти!
Поражаюсь, как я тогда выжил. Едва ли артерии и нервные центры семилетнего ребенка способны выдерживать такие чудовищные приступы белой горячки. В ту ночь, когда я попал в лапы Джона — Ячменное Зерно, в нашем деревянном домике никто не спал. А вот Ларри, ночевавший под мостом, наверное, так не бредил. Спал себе небось мертвецким сном, поутру, может быть, голова трещала с похмелья — вот и все. Если он сейчас жив, то вряд ли помнит эту ночь — мало ли что бывало! А мне она врезалась в память на всю жизнь. С тех пор минуло тридцать лет, но и сейчас, когда я пишу эти строки, я помню кошмары, душившие меня, и заново испытываю муки, которые пережил в ту ночь.
Я долго болел, и мать уже могла не напоминать мне о вреде пьянства. Она была потрясена этим происшествием. Она считала, что я совершил дурной поступок, очень дурной — разве этому она меня учила? А я, не смея перечить, не зная даже слов, которые раскрыли бы ей причины моего поведения, был не способен, конечно, объяснить, что как раз ее-то поучения и оказались всему виной! Ведь если бы не ее теории насчет черных глаз и итальянцев, я бы в рот не взял эту мерзкую кислятину! Только став взрослым, я поведал ей, в чем была истинная подоплека этого позорного происшествия.
Во время выздоровления я размышлял над разными вещами.
В те дни я многого еще не понимал, но кое-что стало мне совершенно ясно. Я чувствовал, что провинился, но все-таки люди несправедливы. Ведь не я же был виноват, хоть и поступил нехорошо!
Тем не менее я дал себе зарок никогда больше не пить. Бешеная собака так не боится воды, как я тогда боялся вина!
И все же должен подчеркнуть: как ни тяжко дался мне этот опыт, он не помешал моей дальнейшей дружбе с Джоном — Ячменное Зерно. Уже в то время все вокруг толкало меня к нему.
Во-первых, взрослые, за исключением моей матери — женщины крайне строгих взглядов, воспринимали это происшествие весьма добродушно. Чепуха! Что за стыд! Во-вторых, свидетели моего позора — парни и девушки — со смехом судачили о том, кто чем отличился в этот день, и вспоминали разные забавные подробности: как Ларри прыгнул мне на грудь, а потом мертвецки пьяный завалился под мост, как другой паренек провел ночь в дюнах, а третий свалился в канаву. Итак, я понимал, что никто не считает это постыдным. Наоборот, я совершил лихой подвиг, которым можно гордиться. Окружающие восприняли это как яркое событие, скрасившее на миг унылые будни мрачного побережья, вечно окутанного туманом.
Фермеры-ирландцы добродушно журили меня, похлопывая по плечу, и вскоре я возомнил себя героем. Питер, Доминик и другие итальянцы хвалили меня за доблесть. Общественная мораль не запрещала пить. Пили, кстати, все. В нашей общине не было ни одного трезвенника. Даже убеленный сединами пятидесятилетний учитель маленькой сельской школы в периоды запоя, сраженный Ячменным Зерном, устраивал нам внеочередные каникулы.
Никаких нравственных запретов в этой области не существовало.
Мое отвращение к алкоголю носило чисто физиологический характер. Мне не нравилось чертово зелье.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Я так никогда и не сумел преодолеть в себе физическое отвращение к алкоголю. Но я подавлял его. И поныне всякий раз подавляю. Мой вкус не мирится с ним, а я знаю: полезно то, что вкусно. Но люди пьют, не думая о пользе, им бы только одурманить мозг, а если тело страдает… что ж, тем хуже для тела!
Однако, несмотря на мое физическое отвращение к алкоголю, самые светлые детские воспоминания связаны у меня с питейными заведениями. Сидя на телеге с картофелем, которую тащили, утопая в песке, наши лошади, я ежился от сырости, не знал, как размять затекшие ноги, но дорога не казалась мне длинной: я ехал и мечтал. Мечтал, что вот мой отец или другой, кто ведет упряжку, сделает остановку возле кабака в Колме и зайдет выпить.
Забегу и я, погреюсь у громадной печки и получу коржик.
Скромный коржик казался мне сказочным лакомством. И от кабака, значит, есть польза! Примостившись снова на телеге, я наслаждался коржиком целый час. Осторожно откусывал микроскопические порции, боясь уронить даже крошку, и так долго жевал каждый кусочек, что он под конец превращался в жидкую кашицу, просто волшебную на вкус. Я старался не глотать ее, а только смаковал, вертя на языке и засовывая то за одну щеку, то за другую, пока она не таяла и капельками, струйками стекала мне в горло. Сам Хорас Флетчер мог бы у меня поучиться!
Я любил кабаки. Особенно кабаки Сан-Франциско. Какие там бывали яства! Диковинные булочки и печенья, сыр, колбасы, сардины — божественная снедь, какой я сроду дома не видывал. Помню, один кабатчик как-то угостил меня сладким напитком — содовой водой с сиропом. Отец не платил, кабатчик угощал задаром и потому стал для меня воплощением доброты и щедрости.
Я мечтал о нем долго и запомнил на всю жизнь, хотя видел всего лишь раз, когда мне было семь лет. Его заведение находилось в Сан-Франциско, где-то к югу от Маркет-стрит. Слева от входа была стойка с напитками. Справа тянулась другая стойка — с бесплатными закусками. Помещение было узкое и длинное, в конце его, за пивными бочками, стояли круглые столики и стулья. Кабатчик был голубоглазый блондин, светлые мягкие пряди волос выбивались у него из-под черной шелковой ермолки. Хорошо помню, что он был в коричневом вязаном жилете, и даже сейчас я мог бы показать то место среди батареи бутылок, откуда он вытащил графин с красным сиропом. Он вел долгую беседу с моим отцом, а я, глядя на него с обожанием, потягивал сладкую водичку. По сей день у меня сохранилась о нем благодарная память.
Несмотря на опыт с алкоголем, столь трагически закончившийся оба раза, Джон — Ячменное Зерно продолжал дразнить и притягивать меня своей доступностью: до него всегда было рукой подать. Кабак действовал на мое детское воображение пока еще косвенно, но уже довольно сильно. Ребенок, только начинавший познавать мир, уже считал, что кабак — восхитительное учреждение. Ни в магазинах, ни в общественных местах, ни в домах, где живут люди, никто не раскрывал предо мной дверей, не приглашал погреться у огня или отведать волшебный напиток с узенькой полки у стены. Все двери были вечно на замке, и только двери кабака вечно распахнуты. Всегда и повсюду — на шоссе и проселках, на оживленных улицах и в пустынных переулках — я находил приветливый кабачок, теплый и ярко освещенный в зимнюю стужу, темный и прохладный в летний зной. От него веяло гостеприимством, если не сказать домашним уютом!
Когда мне исполнилось десять лет, наша семья рассталась с фермой и переехала в город. Там я нанялся разносить по домам газеты. Почему? Во-первых, семья нуждалась в деньгах, вовторых, мне необходимо было движение и свежий воздух. Дело в том, что я узнал дорогу в бесплатную библиотеку и зачитывался до одури. На фермах, где мы прежде жили, читать было нечего.
Каким-то чудом мне удалось достать четыре книги, и я проглотил их с жадностью. Первая была биография Гарфилда, вторая — "Путешествие в Африку" Поля де Шейю, третья — роман Уйда, в котором не хватало последних сорока страниц, и четвертая — «Альгамбра» Ирвинга. «Альгамбру» мне дала почитать школьная учительница. Я был застенчивый мальчуган, — в отличие от Оливера Твиста, у меня язык не повернулся попросить еще, хотя, возвращая Ирвинга, я надеялся, что учительница предложит мне что-нибудь сама. Но она ничего не предложила, видимо, сочла меня неблагодарным, и я проплакал от обиды все три мили от школы до дома. Долго еще потом я ждал с замирающим сердцем, что она даст мне какую-нибудь книжку. Не раз, бывало, совсем уже решусь попросить, но в последнюю секунду у меня отнимался язык.
И вот я очутился в Окленде, где на полках бесплатной библиотеки обнаружил огромный, неведомый доселе мне мир — тысячи книг, еще увлекательнее, чем те четыре. В ту пору библиотеки не были рассчитаны на малолетних читателей, и со мной случались занятные казусы. Помню, меня привлекло в каталоге название "Приключения Перигрина Пикля". Я заполнил требование, и библиотекарша выдала мне собрание сочинений Смоллета — в одном пухлом томе, без намеков на цензурные сокращения. Я проглатывал все, что мне давали, но особенно любил исторические романы и книги о приключениях, а также воспоминания разных путешественников. Я читал утром, днем и ночью.
Читал в постели, за едой, по дороге в школу и домой, читал на переменах, когда другие ребята занимались играми. У меня начались нервные подергивания. Кто бы ко мне ни подошел, я говорил: "Уйди! Не раздражай меня!"
Итак, десяти лет я попал на улицу в качестве разносчика газет. Теперь уже мне стало не до чтения. Я бегал по городу и попутно учился драться, учился быть наглым, развязным, пускать пыль в глаза. Я был наделен любознательностью и воображением и впитывал все, как губка. Наряду со всем прочим меня интересовали питейные заведения. Я заглядывал во многие из них. Весь квартал на восточной стороне Бродвея, между Шестой и Седьмой улицами, сплошь занимали кабаки.
В этих местах царила особая жизнь. Мужчины разговаривали как-то особенно громко, раскатисто хохотали; во всем ощущался размах, которого не хватало в скучной повседневной жизни. Здесь бурлили страсти, подчас не на шутку: пускались в ход тяжелые кулаки, лилась кровь, и здоровенные полисмены, расталкивая толпу, спешили на место происшествия. Мальчишке, чья голова была набита историями о схватках бесстрашных путешественников и моряков, драка в кабаке представлялась увлекательным событием — за отсутствием иных. Ведь никак не назовешь увлекательной ежедневную беготню с газетами от одной двери к другой!
А здесь даже в горьких пьяницах, которые спали мертвецким сном, положив голову на стол или развалясь на полу среди опилок, было нечто таинственное и загадочное.
И еще одно: кабаки были узаконены. Отцы города санкционировали их, выдавали на них патенты. Другие ребята, народ неопытный, считали, что кабак — что-то ужасное. Может быть, возражал я, но в каком смысле? Ужасно интересно! Ужасны и пираты, и кораблекрушения, и всякие битвы, но какой мальчишка не рад пожертвовать жизнью, лишь бы все это испытать?
Нужно добавить, что в кабаках я встречал людей известных:
репортеров и редакторов, адвокатов и судей. Они накладывали на кабак печать общественного одобрения. И это лишь разжигало мой интерес. Значит, и для этих людей в кабаке есть нечто заманчивое, необыкновенное, о чем я догадывался и что тоже искал. И я старался понять, что это такое — ведь не зря же люди слетаются сюда, как мухи на мед! Мир казался мне светлым и радостным, я еще не знал горя, потому и не понимал, что кабацкие завсегдатаи глушат здесь усталость от каторжного труда и неистребимую душевную горечь.
Не подумайте, что я тоже пил. До пятнадцати лет я редко касался рюмки, хоть и общался с пьяницами и часто захаживал в злачные места. Не пил я лишь потому, что мне это не нравилось.
За пять лет я несколько раз менял работу. Одно время служил на складе и помогал развозить лед; затем поступил мальчиком в кегельбан, где был бар со спиртными напитками; а потом уборщиком пивных павильонов в парке, где устраивались воскресные гулянья.
Веселая толстуха Джози Харпер содержала пивную на углу Телеграф-авеню и 39-й улицы. Туда я целый год доставлял вечернюю газету, пока меня не перевели в другой район Окленда, район доков, пользовавшийся дурной славой. В конце первого месяца я явился к Джози Харпер за деньгами, и она налила мне рюмку вина. Мне было неловко отказаться, и я выпил. Но уж потом всегда старался застать не ее, а буфетчика.
В первый день моей работы в кегельбане буфетчик, по заведенному обычаю, пригласил нас, мальчиков, во время перерыва выпить. Все спросили пива. Я лимонаду. Ребята захихикали, а буфетчик странно и недоверчиво поглядел на меня. Но все же он откупорил бутылку. Потом, улучив минутку во время работы, ребята объяснили мне, что я рассердил буфетчика. Бутылка лимонада стоит гораздо дороже, чем кружка пива, значит, сам соображай: если не хочешь остаться без работы, пей пиво.
Да и пиво же — вещь сытная! А в лимонаде что? После этого, если мне не удавалось улизнуть от попойки, я пил пиво и каждый раз дивился, что в нем находят хорошего. По-видимому, я чего-то не понимал.
Вот что я действительно любил, так это сласти. За пять центов можно было купить пять громадных шоколадных бомб и наслаждаться ими до бесконечности. Я умел растянуть такую бомбу на целый час. Любил и тягучую коричневую нугу, которую продавал один мексиканец. За пятак он давал такой кусище, что с ним, бывало, за три часяе не расправишься. Съев его, я частенько обходился без обеда. И был сыт, а пивом — никогда.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Но жизнь готовила меня к новым схваткам с Ячменным Зерном. Мне исполнилось четырнадцать лет. Начитавшись о мореплавателях, мечтая о тропических островах и неведомых морских далях, я завел себе ялик с выдвижным килем и бороздил на нем прибрежные воды залива Сан-Франциско и Оклендской бухты.
Мне хотелось стать моряком. Хотелось уйти от скуки и однообразия. Я был в расцвете юности, бредил необыкновенными приключениями и пиратской вольницей, не подозревая, что у приключений и у вольницы одна основа алкоголь.
И вот однажды, когда я поднимал парус, ко мне подошел Скотти. Это был рослый семнадцатилетний парень, служивший, по его словам, юнгой на британском корабле и сбежавший оттуда во время стоянки в Австралии. Устроившись на другой пароход, он добрался до Сан-Франциско и теперь намерен поступить на китобойное судно. На рейде поблизости от китобойной флотилии стоит большая яхта «Айдлер». Ее сторожит гарпунщик, который собирается скоро уйти в рейс на китобойном судне «Бонанза».
Не соглашусь ли я подвезти его, Скотти, на моем ялике к этому гарпунщику?
Соглашусь ли?! После того как я наслышался столько интересного об этой яхте, возившей контрабандой опиум с Гавайских островов, и о сторожившем ее гарпунщике! Я часто видел этого парня и завидовал его привольному житью: он никогда не расстается с морем, даже спит на «Айдлере», я же обязан ночевать всегда дома. Парню было всего девятнадцать лет (кстати, что он гарпунщик, приходилось вершь на слово: других свидетельств не было), но для меня он был личностью столь героической, что я никогда не посмел бы даже заговорить с ним и всегда держался в почтительном отдалении от его яхты. Так неужели я откажусь подвезти беглого морячка Скотти к нему на яхту контрабандистов? Разве это мыслимо?
Услышав наш окрик, гарпунщик вышел на палубу и пригласил нас к себе. С видом взрослого, опытного моряка я оттолкнул лодку, чтобы не оцарапать беленькую яхту, и ловко прикрепил ее брошенным мне фалинем. Мы спустились вниз. До этого мне никогда не приходилось бывать в каюте. От одежды, висевшей на стенке, несло плесенью. Ну и что! Ведь эти кожаные куртки на плисовой подкладке и синие штормовки носят моряки! И брезентовые шляпы тоже, и резиновые сапоги, и клеенчатые плащи… В каюте был, по-видимому, учтен каждый дюйм площади, вот почему сделали такие узенькие койки, откидные столики, какие-то мудреные стенные шкафчики. Я увидел всеведущий компас, фонарь в кардановом подвесе, в углу небрежно скатанные синей стороной наверх морские карты, сигнальные флажки в алфавитном порядке и календарь, приколотый к стенке остриями морского циркуля. Вот это жизнь! Наконец-то я попал на борт судна и здесь, на яхте контрабандистов, гарпунщик и беглый английский матрос, назвавший себя Скотти, разговаривают со мной как с равным.
Девятнадцатилетний гарпунщик и семнадцатилетний матрос вели себя как настоящие мужчины. Хозяин сразу же намекнул, что неплохо бы выпить, и гость, порывшись в карманах, выудил какую-то мелочь. Гарпунщик взял фляжку и отправился в тайный притон (пивных поблизости не было) раздобывать виски. Мы пили дрянной самогон из маленьких стопок. Пусть не говорят, что я слаб или спасовал! Эти двое — мужчины, видать по тому, как они пьют. Кто умеет пить, тот мужчина. И я пил с ними стопку за стопкой, ничем не разбавляя и не закусывая, хотя эту пакость не сравнить было ни с мексиканской нугой, ни с божественной шоколадной бомбой. Меня передергивало и тошнило от каждой рюмки, но я стойко скрывал свое отвращение.
Не раз в этот вечер кто-нибудь из нас уходил с пустой фляжкой и возвращался с полной. Я тоже принял участие в расходах, выложив, как мужчина, все свое богатство — двадцать центов, не без тайного сожаления о том, сколько конфет мог бы купить на эти деньги. От выпитого мы изрядно захмелели. Гарпунщик рассказывал Скотти про штормы у мыса Горн и южные штормы, про холодные ветры у Ла-Платы, высокие струи бризов и ураганы в Беринговом море, про китобойные корабли, затертые во льдах Арктики.
— Там не очень-то наплаваешься: вода как лед, — доверительно сказал он, обращаясь ко мне. — Вмиг сведет руки и ноги — и баста. Уж если кит перевернет шлюпку, сразу ложись поперек весла, тогда даже при судорогах удержишься на воде,
— Понятно! — Я благодарно кивнул, убежденный, что стану китобоем и меня ждет катастрофа в Ледовитом океане. Я принял этот ценный совет вполне серьезно и помню его по сей день.
Сам я на первых порах больше помалкивал. Господи, кто я такой по сравнению с ними — четырнадцатилетний мальчишка, еще и не нюхавший океана! Мне полагается только слушать, что говорят эти опытные морские волки, и, не отставая, опрокидывать в горло стопку за стопкой. Пусть видят, что и я как-никак мужчина!
Хмель давал себя знать. Мало-помалу исчезали тесные стены каюты, и слова гарпунщика и Скотти врывались в мое сознание, будто дикие порывы вольного ветра; меня качало на волнах фантазии, я уже мысленно переживал морские приключения — великолепные, отчаянные, неистовые.
Мы пили за дружбу. Сдержанность исчезла, недоверие как рукой сняло. Нам вдруг почудилось, что мы уже много лет знаем друг друга, и мы дали торжественную клятву отныне ходить в плавание обязательно всей тройкой Гарпунщик рассказал нам о своих неудачах и тайных грехах. Скотти плакал, вспоминая оставленную им в Эдинбурге старушку мать, как он утверждал, даму благородного происхождения, попавшую из-за него в стесненные обстоятельства ей пришлось во всем себе отказывать, чтобы заплатить пароходной компании за обучение сыночка морской специальности; заветной мечтой матери было увидеть Скотти офицером торгового флота и джентльменом, и она была убита горем, узнав, что ее любимчик сбежал с парохода в Австралии и нанялся на другой простым матросом. В подтверждение своих слов, Скотти вытащил из кармана последнее очень грустное письмо матери и, плача, прочел его вслух. Мы с гарпунщиком тоже прослезились и поклялись, что все вместе поступим на китобойное судно «Бонанза», а когда, кончив плавание, получим кучу денег, явимся в Эдинбург и выложим все, что заработали, доброй старушке в передник.
А хмель все пуще горячил мой мозг. Кто бы узнал во мне сейчас обычно застенчивого и скромного малого? Теперь новоявленный двогшик — Джон Ячменное Зерно — владел моими устами и делал слышным мой голос: пусть знают, что я тоже мужчина, бесстрашный искатель приключений! Я начал хвастаться, как плаваю по заливу в своем ялике при самом бешеном зюйдвесте, когда даже капитаны больших шхун не рискуют сняться с якоря. Потом я (или мой двойник Джон — Ячменное Зерно — это одно и то же!) заявил матросу Скотти, что он, может, и плавал на океанских кораблях и знает их устройство, зато уж я собаку съел по части парусников; могу его кое-чему поучить.
Кстати сказать, это не было ложью, хотя в обычное время моя природная скромность не позволила бы мне громко оспаривать опытность Скотти. Но такова особенность Ячменного Зерна:
он развязывает тебе язык, и ты выбалтываешь самые сокровенные мысли.
Скогти, которому тоже что-то нашептывал Джон — Ячменное Зерно, естественно, обиделся Но я не отступал. Я ему покажу, этому беглому типу, даром что ему семнадцать! Мы горячились и хорохорились, наскакивая друг на друга, как драчливые петушки, но гарпунщик заставил нас помириться и выпить по стоике. После этого мы нежно обнялись и стали клясться в вечной дружбе. И тут мне вспомнилось далекое воскресенье, ферма в Сан-Матео и два великана, Черный Мэт и Том Морриси, которые сперва подрались, а потом так же, как мы, заключили мир. И это сравнение помогло мне почувствовать себя совсем взрослым.
Вскоре началось пение. Скотти и гарпунщик горланили матросские песни, а я подтягивал. На «Айдлере» я впервые услышал "Дуй, попутный ветер", "Облако летит", "Виски, Джонни, виски". Я был наверху блаженства. Вот она, настоящая жизнь! Не то что мое унылое прозябание: Оклендская бухта, надоевшая беготня с газетами, доставка льда, возня с кеглями.
Весь мир становился сейчас моим, все дороги сходились у моих ног, Джон — Ячменное Зерно горячил мое воображение, рисуя будущее, полное необыкновенных событий.
Мы уже были не простые смертные, а юные боги во хмелю, непостижимо мудрые, великодушные и могущественные. Сейчас, став намного старше, я понимаю, что если бы алкоголь всегда возносил на такую высоту, мне бы никогда не хотелось быть трезвым.
Но в нашем мире расплата неизбежна. Существует железный закон: плати за силу слабостью, за душевный взлет — упадком духа, за промелькнувший миг мужества — пресмыканием в грязи. Если за долгий-долгий срок ты вырвешь для себя минуту счастья, с тебя взыщется ростовщический процент: сократится твоя жизнь!
Сила чувств и постоянство чувств, как огонь и вода, — извечные враги. Сосуществовать они не могут. И даже сам чародей Джон — Ячменное Зерно такой же раб органической химии, как и мы, смертные. Мы платим за марафонский бег своих нервов, и Джон — Ячменное Зерно не избавит нас от расплаты. Он может вознести нас высоко, но вечно удерживать там не властен, — иначе все люди стали бы его приверженцами. Зато уж если ты стал на его путь, так ты и плати за его дьявольскую кадриль!
Однако все сказанное выше явилось плодом более зрелых размышлений. Этого не понимал еще четырнадцатилетний мальчишка, который примостился в каюте «Айдлера» между гарпунщиком и матросом, наслаждаясь ароматом плесени, источаемым одеждой моряков, и подпевая новым товарищам: "Янки к нам плывут на помощь".
В приливе пьяной откровенности мы кричали и говорили разом. У меня был очень крепкий организм и желудок страуса, и я во всю силу продолжал состязание, а вот Скотти, тот начал сдавать. Речь его становилась бессвязной — то ли слов не находил, то ли язык заплетался. Отравленное сознание меркло. Глаза утратили осмысленное выражение. Пьяный мозг расслабил мышцы лица и тела (чтобы сидеть прямо, тоже ведь нужна воля). Пропала способность управлять движениями. Скотти хотел подлить себе виски, но бессильно выронил стопку на пол. К моему удивлению, он горько заплакал, потом перекинул ноги на койку и через минуту уже храпел.
Посмеиваясь над незадачливым собутыльником, мы с гарпунщиком продолжали допивать вдвоем последнюю фляжку под аккомпанемент тяжелого храпа Скотти. Наконец и гарпунщик свалился, — на поле битвы остался я один.
Я был преисполнен гордости, и Джон — Ячменное Зерно тоже. Вот, оказывается, какой я молодец! Перепил двоих! Они лежат мертвецки пьяные, а я твердо стою на ногах! Сейчас даже выйду на палубу подышать свежим воздухом. Эта попойка на «Айдлере» показала мне, что у меня луженый желудок и я долго не пьянею. В молодости я очень гордился такими качествами, но теперь понимаю, что в этом как раз и была моя беда. Лучше опьянеть от двух-трех рюмок, и, наоборот, горе тому, кто способен пить без конца, не хмелея.
Уже вечерело, когда я вышел на палубу. В каюте нашлось бы и для меня место, но мне надо было домой. Кроме того, хотелось доказать самому себе, что я стойкий парень. У борта покачивался мой ялик. Кончался отлив. Вода уходила, борясь с напористым ветром, дувшим с океана со скоростью сорок миль в час. Я видел крутые гребни волн и под ними струи отлива.
Я поднял парус, сел за румпель, выбрал шкоты и взял старт к берегу. Лодка накренилась и бешено закачалась. Меня обдало фонтаном брызг. Я был в восторженном настроении. Я плыл, распевая "Дуй, попутный ветер", и чувствовал себя уже не мальчишкой, прозябающим в сонном Окленде, а мужчиной, Богом, — сама природа покорялась мне, взнузданная моей волей.
Отлив кончился. Вода ушла на все сто ярдов от берега, обнажив мягкое, илистое дно. Я выдвинул киль, врезался в тину, убрал парус и, став по привычке на корме, принялся грести веслом. Тут-то я и начал терять равновесие и, пошатнувшись, вывалился за борт, лицом прямо в липкую грязь. Но что пьян, я смог понять, лишь когда встал на ноги, весь в тине, расцарапанный до крови ракушками, облепившими киль. Ладно, пустяки!
Там, на рейде, два здоровенных моряка валяются на койках мертвецки пьяные, кто, как не я, их перепил? Значит, я мужчина! Я же держусь на ногах, хоть, правда, и по колени в грязи. Вернуться в лодку я счел ниже своего достоинства. Я брел по тине, толкая впереди себя свой ялик и горланя песню, — пусть все знают, что я мужчина.
Расплата не заставила себя ждать. Я расхворался на несколько дней, от ракушечных царапин на руках образовались нарывы, и целую неделю я был как без рук: даже рубашку не мог ни надеть, ни снять.
Я дал себе зарок больше не пить. Баста! Игра не стоит свеч.
Слишком дорога расплата. Угрызений совести я не испытывал, одно лишь физическое отвращение. Мне казалось, что никакие веселые минуты не окупают часов страданий и дурного настроения.
Возобновив прогулки на своем ялике, я обходил теперь «Айдлер» как можно дальше. Скотти исчез. Гарпунщик был все там же, но я избегал его. Как-то раз, заметив, что он высаживается на берег, я спрятался за склад. Я боялся, что он опять предложит мне выпить, может, у него и фляжка припасена.
И все же — в этом таятся чары Ячменного Зерна — выпивка на «Айдлере» была ярким событием в моей монотонной жизни.
Я часто вспоминал о ней со всеми подробностями. Кстати, она мне объяснила некоторые странности мужского поведения. Скотти при мне плакал, что он никудышный парень, горевал о печальной судьбе оставленной им в Эдинбурге матери — дамы благородного происхождения. Гарпупщик рассказал о себе необыкновенно интересные вещи. Множество волнующих намеков о том, какова жизнь за пределами моего узкого мирка, воспламенили мое воображение, и я был убежден, что я не менее достоин ее, чем эти двое. Мне открылись тайники мужской души, да и моей собственной тоже — я обнаружил в ней такие способности и силы, о которых раньше не догадывался.
Да, тот день был день особенный. Он и поныне кажется мне таким. Память о нем выжжена в моем мозгу. Но за него потребовалась расплата. Я отказался платить и вернулся к моим «бомбам» и мексиканской нуге. На мое счастье, мой здоровый организм не пускал меня к алкоголю. Мне было противно мерзкое зелье. И все же обстоятельства снова и снова толкали меня на путь пьянства. За много лет общения с Ячменным Зерном я привык к нему, стал искать его везде, где только собирались мужчины, и восхвалял как друга и благодетеля. И вместе с тем презирал и ненавидел его. Да, странный он друг, этот Джон — Ячменное Зерно!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Едва мне стукнуло пятнадцать, я поступил на консервную фабрику. Несколько месяцев подряд я работал самое меньшее по десять часов в день. Прибавьте к этому обеденный перерыв, ходьбу на фабрику и с фабрики, время на то, чтобы утром встать, одеться и позавтракать, а вечером — поужинать, раздеться и лечь, и от суток останется от силы девять часов — здоровому подростку успеть бы только выспаться! Но я и от этих девяти коечто урывал для чтения, покуда сон не смежил мне глаза.
Бывало и так, что нас не отпускали домой до полуночи.
А иногда рабочий день длился по восемнадцать и двадцать часов.
Один раз мне пришлось простоять возле машины тридцать шесть часов без смены. Несколько недель подряд я уходил с фабрики не раньше одиннадцати, добирался до постели лишь к половине первого, а в половине пятого уже вставал и, наскоро одевшись и перекусив, спешил на работу, чтобы ровно в семь по гудку быть возле машины.
Теперь уже не выкраивалось ни минуты для любимого занятия — чтения. Но при чем тут Джон — Ячменное Зерно? Какое отношение он имеет к рассказу о стоическом труде пятнадцатилетнего паренька? О, громадное! Судите сами Я упрашивал себя:
неужели смысл жизни лишь в том, чтобы быть рабочей скотиной?
Да и ни одна лошадь в Окленде не работает столько часов! Если это и есть жизнь, меня она ничуть не пленяет. Я думал о своем ялике, обраставшем ракушками, вспоминал ветерок на заливе, восходы и закаты, видеть которые теперь не мог, вспоминал, как щекочет ноздри соленый запах моря и обжигает тело соленая вода, когда нырнешь за борт, вспоминал, что мир полон прекрасного, удивительного, необыкновенного, но мне все что недоступно. Мне казалось, что единственный способ избавиться от каторжного труда бросить все и уйти в море. В море я всегда заработаю кусок хлеба Но море неизбежно вело в лапы Джона — Ячменное Зерно, и этого я не знал, но и когда узнал, у меня все-таки хватило решимости не вернуться к проклятой консервной машине.
Я рвался туда, где дуют ветры приключений. А ветры приключений носили суда устричных пиратов вдоль Сан-Францисской бухты. Ночные набеги на чужие устричные садки, драки на отмелях, обратный путь с добычей вдоль городских причалов и ранним утром — рынок, покупатели: торговки и кабатчики… Набег на чужие садки считался уголовным преступлением, за это ждала тюрьма, полосатый костюм арестанта, ходьба в затылок. Ну и что же, говорил себе я, даже в тюрьме рабочий день короче, чем на консервной фабрике! Куда романтичнее быть устричным пиратом или арестантом, чем рабом машины! Я был охвачен жаждой приключений, романтики, хмельная юность наполняла мне душу.
И вот я отправился к своей бывшей кормилице Дженни, чью черную грудь сосал младенцем. Она была немного богаче, чем мои родители: служила сиделкой и за это получала приличную плату. Не сможет ли она одолжить деньги своему "белому сыночку"? Что за вопрос! Бери, сколько тебе надо!
Затем я разыскал Француза Фрэнка, устричного пирата, который, по слухам, хотел продать свой шлюп «Карусель». Шлюп стоял на якоре на аламедской стороне близ Уэбстерского моста; когда я явился, Фрэнк принимал гостей, угощая компанию сладким вином. Побеседовать о деле он вышел на палубу. Да, он готов продать свой шлюп. Но сегодня воскресенье. К тому же у него гости. Завтра он приготовит купчую, и я смогу вступить во владение. А сейчас он зовет меня познакомиться с компанией. Гости сидели внизу: две сестрицы — Мэйми и Тэсс, которых сопровождала приличия ради некая миссис Хедли, шестнадцатилетний устричный пират по кличке Виски Боб и черноусая портовая крыса лет двадцати — Паук Хили. Мэйми приходилась Пауку племянницей, ее величали Королевой устричных пиратов, и на пирушках она восседала на почетном месте. Фрэнк был в нее влюблен (о чем я в то время еще не знал), но она никак не соглашалась выйти за него замуж.
В ознаменование нашей сделки Фрэнк налил мне стакан красного вина из большущей оплетенной бутылки. Я вспомнил красное вино с итальянской фермы и внутренне содрогнулся.
Даже к пиву и виски я не испытывал такого отвращения. Но на меня в упор глядела Королева, подняв свой стакан, наполовину выпитый. У меня тоже есть гордость! Хоть мне и пятнадцать, но я не допущу, чтобы ее считали взрослой, а меня нет. А тут еще эти люди: ее сестра, миссис Хедли, мальчишка — устричный пират, усатый Паук — все с полными стаканами. Так неужели я захочу прослыть молокососом? Нет, тысячу раз нет, скорее всю бутыль выпью! И я мужественно осушил свой стакан.
Француз Фрэнк был страшно рад сделке, которую я скрепил задатком золотой монетой в двадцать долларов. Он снова налил всем. Я уже имел случай убедиться в выносливости своего организма и думал, что если и выпью с ними немного, то не придется расплачиваться целую неделю. Мне не страшно пить наравне с ними, тем более что они еще до моего прихода успели хватить как следует!
Началось пение. Паук спел "Бостонского вора" и "Черную Лу", Королева "Если бы я была птичкой", а ее сестрица Тэсс — "Ах, не обижай мою дочку". Веселье бурно нарастало.
Я увидел, что вовсе не обязательно каждый раз пить со всеми вместе, никто все равно не замечает и ничего не спрашивает, так что, перегнувшись через перила, я просто выплескивал свою порцию в море.
Рассуждал я так: чудаки люди, почему им нравится такая мерзость! Ладно, это их дело! Не мне их учить! Наоборот, если я хочу, чтобы меня считали взрослым, я должен делать вид, что тоже не дурак выпить. Согласен. Идет. Но я буду пить лишь_ самую малость, лишь столько, сколько необходимо, чтобы сохранить престиж.
Тем временем Королева начала кокетничать с новоявленным пиратом, то есть со мной. Не с кем-нибудь, а с хозяином, владельцем шлюпа! Она поднялась на палубу подышать свежим воздухом и потащила меня с собой. Я ни о чем не догадывался, но она, конечно, знала, что внизу, в каюте, Фрэнк бесится от злости.
Вскоре к нам присоединились Тэсс с Пауком и Бобом и, наконец, миссис Хедли с Фрэнком. Мы сидели со стаканами в руках и пели песни, то и дело передавая друг другу бутыль с вином.
Единственным трезвым в этой компании был я.
И я был так счастлив, как, конечно, никто из них. Вчера в это время я сидел за машиной, в духоте, в спертом воздухе, без конца повторяя одно и то же движение. Какой контраст с царящим здесь беспечным весельем! Я попал сюда чудом и вот сижу, как свой, в кругу устричных пиратов, искателей приключений, которые не желают быть рабами установленных порядков, которые презрели всяческие запреты и законы и стали хозяевами своей судьбы.
Джон — Ячменное Зерно помог мне отбросить смущение и страх и приобщиться к этому союзу вольных душ.
Предвечерний бриз весело врывался мне в легкие, рябил воды залива, гнал шаланды, которые нетерпеливо гудели, требуя, чтобы развели мост. Вокруг сновали буксиры с красными трубами, их пенистый шлейф покачивал наш шлюп. От склада вытянули баржу с грузом сахара, и она прошла мимо нас. Солнечные блики золотили морскую рябь; жизнь казалась великолепной. Паук запел:
Да это же Лу, моя черная Лу,
Ты где пропадала так долго без звука?
Сидела в тюрьме,
Гадала во тьме,
Возьмет ли мой милый меня на поруки
Для меня это был бунт, воплощение романтического духа-, нечто запретное, но исполненное блеска и смелости. Я знал, что завтра не пойду на консервную фабрику. Завтра я стану устричником, начну разбойничать, как самый удалой пира г, — в тех рамках, в каких это возможно в наш век в заливе Сан Франциско. Паук уже дал согласие плавать со мной, представлять в одном лице всю мою команду и даже готовить еду, когда я буду вести шлюп. Порядок жизни у нас будет такой: с утра мы запасаемся провиантом и пресной водой, потом поднимаем большой парус — грот (под таким громадным я еще никогда не плавал!) и, захватив конец отлива, выходим навстречу ветру. Начинается прилив, мы убавляем паруса, несемся к острову Аспарагус и там становимся на якорь за много миль от берега. Наконец-то осуществится моя мечта: я буду спать на воде! На следующее утро проснусь, а вокруг — вода, и потом все время, день и ночь, на воде.
Когда на закате Француз Фрэнк собрался доставить своих гостей на берег, Королева попросила меня перевезти ее отдельно в моем ялике. Однако я не понял, почему Фрэнк вдруг передумал ехать на берег и, поручив гостей Виски Бобу, сам остался на шлюпе. Не понял я также, почему Паук шепнул мне с ухмылкой: "Черт возьми, ты, брат, не зеваешь". Да и могло ли мне прийти в голову, Что седой пятидесятилетний дядя ревнует ко мне, мальчишке?
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
В понедельник рано утром мы встретились, как было условлено, в пивной Джонни Хейнхолда под вывеской "Последний шанс" для завершения сделки. Я уплатил причитающиеся деньги и получил купчую, после чего Француз Фрэнк заказал угощение. Меня это не удивило: очевидно, есть такой обычай, притом логичный, — получивший деньги «обмывает» сделку в том заведении, где она заключена. Удивило меня другое: чек) ради Фрэнк угощает всех? Вот мы с ним выпили вдвоем, это правильно, но зачем приглашать еще Джонни Хейнхолда, хозяина пивной?
Я сразу прикинул, что он зарабатывает и на той рюмке, которую выпивает сам. Уж так и быть, пригласи Паука и Виски Боба: всетаки друзья, вместе плавали; но при чем тут портовые грузчики Билл Келли и Суп Кеннеди?
Вскоре к нам присоединился Пэт, брат Королевы, и нас уже стало восемь. День едва начинался, но все заказали себе виски Что мне оставалось делать в этой компании мужчин, которые принялись пить с самого утра? "Виски!" приказал я небрежным тоном, будто для меня это самое привычное дело. Я опрокинул рюмку в горло. Бр-р! У меня по сей день на языке вкус этой дряни.
Узнав, что Француз Фрэнк уплатил за угощение восемьдесят центов, я пришел в ужас. Восемьдесят центов! Моя бережливая душа возмутилась. То, что пропито шутя, за один миг, равнялось моему заработку на фабрике за восемь часов. И что толку — горечь, и все! Транжир он, этот Француз Фрэнк, что и говорить!
Я не мог дождаться, чтобы уйти оттуда и поскорее побежать на мой чудесный шлюп. Но почему-то никто уходить не собирался.
Даже Паук, воплощавший в одном лице мою команду, медлил.
А я, дурак, так и не догадался, чего они ждут Уже потом я часто старался представить себе, как я тогда выглядел в их глазах: приняли чужака в компанию, угощают, а он хоть бы раз поднес людям по рюмочке!
Француз Фрэнк, озлившийся на меня еще накануне, получив все деньги за «Карусель», перестал скрывать свою злобу И почувствовал это, заметив его недобрый взгляд, но причины не мог понять. Чем ближе я узнавал людей, тем загадочнее они казались. Джонни Хейнхолд перегнулся через стойку и зашептал мне:
— Он на тебя точит зубы. Остерегайся!
Я снисходительно кивнул, как человек, умудренный опытом и знающий людскую породу. Но в душе я недоумевал. Госггоди!
Я в свои пятнадцать лет только и знал что каторжный труд и чтение, когда выпадала свободная минута. К тому же я был совершенно равнодушен к Королеве устричных пиратов и понятия не имел, что Фрэнк, как истый француз, безумно влюблен в нее.
Мог ли я догадаться, что невольно нанес оскорбление Фрэнку и что в порту уже ходили злорадные слухи о том, что Королева, едва увидев меня, дала ему отставку? Очевидно, если бы я это знал, то понял бы, почему был не в духе брат Королевы, Пэт.
Виски Боб отозвал меня в сторону.
— Мой тебе совет: следи в оба! — зашептал он. — Фрэнк — опасный человек. Я еду с ним в одно место на реке покупать шхуну для ловли устриц. Если встретишься с ним на отмелях, смотри не зевай! Он грозится потопить тебя. Ночью, если узнаешь, что он близко, снимайся с якоря и уходи подальше, да не забудь потушить огни. Понял?
Еще бы не понять! Я кивнул, поблагодарил за совет, как мужчина мужчину, и вернулся к компании у стойки. Так я и не угостил их. Мне было невдомек, что они этого ждут. Затем мы с Пауком ушли, и у меня даже сейчас горят от стыда уши, когда я пытаюсь представить себе, что говорили тогда мне вслед эти люди.
Я спросил Паука как бы невзначай, чего это Фрэнк бесится.
— Ревнует к тебе, оттого и бесится, — последовал ответ.
— Да что ты! — сказал я и подумал: "Вот чепуха-то!"
Легко понять, сколько мужской гордости разбудило в пятнадцатилетнем пареньке сообщение, что Француз Фрэнк, которому перевалило за пятьдесят, этот авантюрист и моряк, побывавший на всех океанах, ревнует меня к девушке с романтическим прозвищем "Королева устричных пиратов". Я читал про такое в книгах, но применительно к себе об этом не думал. Может, что и будет со временем, но когда-то еще! Ведь в то утро, когда мы в первый раз подняли грот и, снявшись с якоря, под всеми парусами помчались против ветра в залив, я был совсем еще желторотым птенцом.
Итак, я простился с изнурительным трудом на консервной фабрике и стал устричным пиратом. Правда, породнила меня с пиратами выпивка, и будущее сулило примерно то же самое. Но не идти же мне из-за этого на попятный! Всюду, где царит вольная жизнь, мужчины пьют. Романтике и приключениям всегда сопутствует бутылка. Ради первого и второго приучайся к третьему! А не хочешь — возвращайся к своим книжкам в бесплатную библиотеку, будешь опять читать о подвигах других, но зато уж о собственных и не помышляй, если не считать подвигом рабский труд у консервной машины за десять центов в час!
Нет, даже эта нелепая и расточительная страсть моряков к пиву, вину и виски не отпугнет меня от сказочной жизни на воде. Допустим, что им почему-то нравится смотреть, как я пью.
Что ж, если они все так же будут покупать эту гадость и насильно угощать меня, придется пить. Это будет моя плата за их дружбу. Только не напиваться допьяна! Сумел же я выкрутиться в то воскресенье, когда договаривался о покупке «Карусели», а ведь там, на шлюпе, кроме меня, трезвых не было. Ладно, решено:
буду пить, если им это доставляет удовольствие, но постараюсь всеми силами не напиваться.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Общаясь с устричными пиратами и принуждая себя пить, я без всякой внутренней тяги стал превращаться в заправского пьяницу.
Чем ближе я знакомился с новой жизнью, тем больше прелести в ней находил. Никогда не забуду своего счастья, когда я впервые вышел с пиратской флотилией на ночной лов устриц. На яхте «Энни» собрались пираты — храбрые силачи и щуплые портовые крысы, многие с тюремным прошлым, а впрочем, все они были врагами закона и, следовательно, все — кандидатами на отсидку. На них были резиновые сапоги, рыбацкие робы, они переговаривались хриплым шепотом, а у Большого Джорджа за пояс были заткнуты револьверы в доказательство того, что он шутить не любит.
Теперь, вспоминая прошлое, я понимаю, что занимался глупым и постыдным ремеслом. Но в те времена я не видел лучшего примера, а Джон — Ячменное Зерно казался другом, и я начинал уже привыкать к нему. Пиратская вольница была мне по душе; теперь я сам становился участником приключений, о которых, до сих пор знал только по книгам.
Тигр Нельсон (которого звали так в отличие от Старого Тигра — его папаши) плавал на яхте "Северный олень" со своим компаньоном Рыбой. Рыба тоже слыл головорезом, зато уж Нельсон не знал никакого удержу, был попросту бешеный. В двадцать лет он был сложен, как Геркулес. Спустя два года его застрелили в Бенишии, и полицейский следователь утверждал, что такого могучего телосложения никогда еще не встречал, хотя перевидел на своем веку немало покойников.
Нельсон не умел ни читать, ни писать. С малых лет отец брал его в море, и шхуна стала его вторым домом. Этот парень обладал фантастической силой, в порту за ним ходила слава первого драчуна. У него бывали страшные приступы гнева, когда он совершенно терял рассудок и уж не отвечал за свои поступки.
Я познакомился с ним, выйдя в первый раз за устрицами; он тянул сеть, хотя была буря и все остальные, бросив по два якоря, не осмеливались подойти к берегу.
Ох и парень же был этот Нельсон! Неудивительно, что я просиял от гордости, когда, встретив меня возле пивной "Последний шанс", он со мной заговорил. И вообразите, что со мной сделалось, когда он пригласил меня выпить. Мы подошли к стойке, выпили по кружке пива, и он говорил со мной как со взрослым, — об устрицах и судах и о недавнем таинственном происшествии: кто-то простелил дробью грот на яхте «Энни».
Мы стояли и разговаривали. "Чего мы здесь торчим? — недоумевал я. Пиво выпито. Но разве можно уйти первому, если великому Нельсону нравится стоять здесь, облокотившись на стойку?" Через несколько минут он, к моему удивлению, предложил выпить по второй; я согласился. Беседа продолжалась. Нельсон не проявлял желания уйти.
Запаситесь терпением — я расскажу, что я тогда думал и какой я был недотепа. Во-первых, мне отчаянно льстило общество Нельсона, который среди устричных пиратов и портовых искателей приключений ходил в героях. На мою беду Нельсону захотелось подпоить меня. У меня не было никаких моральных побуждений не пить пиво, я просто терпеть его не мог. Но разве это причина, чтобы отказаться от общества Нельсона? Ему вздумалось выпить со мной. Отлично, я готов помучиться разок ради его удовольствия.
Итак, мы продолжали беседу и пили пиво — заказывал и платил Нельсон. Я думаю, его просто разбирало любопытство:
что, мол, я за птица? Сколько кружек способен выдуть за его счет, пока не соображу наконец, что и сам должен угостить?
Выпив шесть кружек и помня свой зарок насчет умеренности, я решил: хватит! Мне нужно на шлюп, пояснил я Нельсону.
Шлюп стоит на пристани ярдах в ста отсюда.
Мы простились. Я зашагал к причалу, и со мной — Джон — Ячменное Зерно, перекочевавший до мне из шести кружек пива.
В голове шумело, но мозг работал превосходно. Я ощущал прилив необычайной гордости: вот и я стал заправским устричником, тороплюсь на собственный шлюп после дружеской выпивки в кабаке с главарем пиратов Нельсоном! Я никак не мог забыть, как мы стояли с ним вдвоем, облокотившись на стойку, и пили пиво.
Чудаки люди, думал я, что за радость тратить уйму денег на парня, которому и пить-то противно!
Размышляя на эту тему, я вспомнил, как люди приходят в пивную вдвоем и платят по очереди. А на «Айдлере» мы втроем платили за виски, выложив из карманов всю мелочь. Вспомнил я также правило, которому следуют мальчишки: если ты сегодня угостил приятеля «бомбой» или нугой, другой раз угощает он.
Так вот почему Нельсон торчал у стойки! Он ждал ответного угощения. А я-то, выхлебав за его счет целых шесть кружек, сам не поставил ни одной! Такое обращение с великим Нельсоном!
Я почувствовал, что лицо мое заливает краска. Присев на тумбу возле причала, я уткнул лицо в ладони. От стыда у меня горели щеки, шея, лоб. Вряд ли мне приходилось когда-нибудь еще так мучительно краснеть.
Сидя там, на тумбе у причала, багровый от стыда, я многое передумал и по-новому оценил. Я родился в бедной семье. Вырос в бедности. Часто недоедал. Никогда не имел игрушек, как другие дети. Мои самые ранние воспоминания отравлены бедностью, постоянной нуждой. В восемь лет я впервые надел нижнюю сорочку, купленную в магазине, и то лишь нижнюю. Когда ее стирали, я вынужден был снова облачаться в какое-нибудь немыслимое изделие домашнего шитья. Я так гордился своей новой сорочкой, что ни за что не хотел надевать на нее верхнюю. Из-за этого я впервые восстал против матери и, хотя довел себя до истерики, все же добился, что она разрешила мне носить сорочку напоказ — как верхнюю.
Только тот, кто голодал, способен по-настоящему оценить пищу, только моряки и жители пустынь знают цену питьевой воде. И только ребенок, умеющий мечтать, привыкает дорожить тем, что было долго ему недоступно. Еще в раннем детстве я убедился, что должен всего добиваться сам. Воспитанный в бедности, я вырос скуповатым. Первыми моими самостоятельными приобретениями явились серии картинок от папирос, альбомы-премии табачных фабрикантов и их рекламные плакаты. Родители не давали мне денег из моего заработка, и я выменивал остававшиеся газеты на эти сокровища. Если попадались два одинаковых экземпляра, я выменивал их у ребят на что-нибудь другое; бегая по городу с газетами, я мог с легкостью совершать операции подобного рода и пополнять свои богатства.
В скором времени я был уже обладателем всех серий табачных реклам: "Знаменитые скаковые лошади", "Парижские красавицы", "Женщины всех национальностей", "Флаги всех наций", "Знаменитые актеры", "Чемпионы бокса" — и тому подобных.
Каждая серия была в трех видах: на карточках, на плакатах и в альбомах.
Затем я начал собирать вторые экземпляры альбомов и выменивать их на другие сокровища, которые ребята покупали на деньги родителей и, конечно, не могли понять их подлинной ценности — не то что я, у которого никогда не было ни цента на расходы. Я менял почтовые марки, камни, птичьи яйца, игральные шарики. (У меня была великолепная коллекция агатов, какой не было ни у кого из мальчишек. Моей гордостью было несколько штук, ценою не менее трех долларов; мне их оставил в залог за двадцать центов один паренек-рассыльный. Выкупить их он не успел, так как его забрали в исправительную колонию.)
Я готов был менять и менять, пока не получал тот или иной вожделенный предмет. В этом деле я достиг совершенства и заработал себе репутацию сквалыги. У меня и старьевщик мог заплакать под конец нашего торга. Ребята звали меня на помощь, если им надо было продать тряпье, бутылки, старые мешки или бидоны из-под керосина, и платили мне комиссионные за услуги.
Вот таков был этот подросток, сидевший сейчас на пристани:
бережливый, расчетливый, привыкший в поте лица зарабатывать на фабрике десять центов в час, а в эту минуту занятый размышлением о том, что пиво по пять центов кружка поглощается с быстротою молнии и без всякой пользы. Я попал в среду людей, которыми восхищался. Мне льстило их общество. А разве вечное крохоборство и скаредничество приносили мне когда-нибудь хоть долю того острого наслаждения, которое я испытал среди устричных пиратов? Так что дороже: деньги или наслаждения? Эти люди без всякой жалости швыряют на ветер пятаки — много пятаков. Им наплевать на деньги, они могут, глазом не моргнув, угостить восемь человек виски по десять центов стопка, как сделал это Француз Фрэнк или Нельсон, который выбросил давеча шестьдесят центов на пиво для двоих!
Решай же! Дело серьезное. Перед тобой выбор: деньги или товарищи, скупость или романтика. Либо забудь, как дороги день-ч ги, либо откажись от дружбы с этими людьми, у которых непонятная страсть к крепким напиткам.
Я зашагал назад к пивной; возле нее по-прежнему околачивался Нельсон.»
— Зайдем выпьем по кружке! — пригласил я.
Мы снова подошли к стойке, выпили, потолковали, но на сей раз десять центов платил уже я. Целый час работы у машины за кружку этой мерзости, которой и пить совсем не хочется! Но теперь мне это было уже нетрудно. У меня теперь был новый взгляд на вещи. Не деньги — главное. Главное дружба!
— Еще кружечку? — спросил я.
Мы выпили по второй, и на сей раз тоже за мой счет. Нельсон, как опытный пьяница, приказал хозяину, стоявшему за стойкой:
— Мне маленькую, Джонни!
Тот кивнул и налил ему треть порции, хотя взял все равно пять центов.
К этому времени я был уже под хмельком, и такое жульничество меня не обеспокоило. Вообще я учился. По-видимому, дело не в количестве выпитого теперь даже я это понимал. Мы с Нельсоном достигли той стадии, когда пьешь уме не ради пива, а лишь для поддержания дружбы. Еще одно важное открытие: я тоже могу себе заказывать небольшие порции, и бремя дружбы станет на две трети легче.
— Пришлось сбегать на шлюп за деньгами, — заметил я небрежным тоном, отхлебывая пиво, надеясь, что Нельсону станет ясно, почему я позволил себе выпить шесть кружек за его счет.
— Да что ты, зачем было ходить? — удивился он. — Такому парню Джонни дал бы с удовольствием в кредит. Правда, Джонни?
— Еще бы! — ухмыльнулся Джонни.
— Сколько там у тебя за мной записано? — полюбопытствовал Нельсон.
Джонни вытащил из-под стойки конторскую книгу, нашел в ней лист с фамилией Нельсон и что-то подсчитал. Оказалась сумма в несколько долларов. Мне сразу захотелось тоже иметь личный счет в этой книге. Это показалось мне признаком наивысшей солидности.
Выпив еще несколько кружек, за которые я тоже уплатил, Нельсон собрался уходить. Мы распрощались, как добрые друзья, и я побрел на пристань, где стояла «Карусель». Паук в это время готовил ужин и разводил огонь.
— Где это ты так наклюкался? — усмехнулся он, оглядев меня с трапа.
— Да это мы там, с Нельсоном, — бросил я небрежно, стараясь скрыть свою гордость.
Тут меня осенила мысль, ведь и Паук из их компании! Теперь, настроившись на новый лад, начну практиковаться.
— Пошли, — сказал я, — айда к Джонни, выпьем!
По дороге мы встретили Рыбу, только что сошедшего на берег. Компаньон Нельсона, усатый Рыба, был славный малый лет тридцати, удалой и красивый эта кличка вовсе не шла к нему.
— Пойдем выпьем! — предложил я.
Он принял мое приглашение, и мы продолжали путь уже втроем. В дверях пивной мы столкнулись с выходившим оттуда Пэтом, братом Королевы.
— Куда бежишь? — спросил я, поздоровавшись. — Мы тут собрались выпить. Давай с нами за компанию!
— Да я уже! — ответил он.
— Что значит «уже»? Можно еще одну!
Пэга не пришлось долго уговаривать, и после двух кружек пива я приобрел его расположение. Да, в этот день я многое узнал про Ячменное Зерно. Не беда, что пить противно. За десять центов, почти что даром, хмурый и вечно недовольный парень, готовый стать моим врагом, превратился в доброго друга. Мы с ним мирно посудачили о том, как идет устричный лов, о разных происшествиях в порту, и он даже повеселел и стал глядеть приветливо.
— Мне маленькую, Джонни, — скомандовал я, хотя остальные все взяли по большой.
Надо было слышать, каким небрежным тоном опытного кутилы я это произнес. Наверняка, кроме Джонни Хейнхолда, никто не угадал, что я еще новичок.
До моего слуха донеслось, как Паук потихоньку спросил его:
— Где это он успел нализаться?
— Да они тут с Нельсоном, почитай, с двух часов пировали, — ответил Джонни.
Я не подал виду, что слышал, но душа моя возликовала.
Даже кабатчик признал меня мужчиной! "Они тут с Нельсоном пировали"… Дивные слова! Кабатчик совершил обряд посвящения пивной кружкой!
Мне вспомнилось то утро, когда Француз Фрэнк угощал Джонни, продав мне «Карусель». Увидев, что всем налито, я сказал: "И себя не забудьте, Джонни!" Получилось так, будто я давно уже собирался это сказать, да вот увлекся разговором с Рыбой и Пэтом.
Джонни метнул на меня пронзительный взгляд, поражаясь, должно быть, тому, как быстро я постигаю эту науку, и налил себе виски из отдельной бутылки. На миг мое бережливое сердце сжалось ч То, что он налил себе, стоит десять центов, а то, что нам, — пять. Но я тут же прогнал эту недостойную мысль и, вспомнив свои новые принципы, постарался себя не выдать.
— Запишите в кредит, ладно? — сказал я, когда мы осушили кружки, и был вполне счастлив, узрев на чистом листе его книги свое имя и цифру 30 — за поставленное мною угощение.
Воображение дорисовало мне эту страницу в будущем: многомного перечеркнутых колонок цифр, а последняя — открытая.
Я угостил всех по второй, и, к моему удивлению, Джонни не остался в долгу за выпитое на десять центов виски. На сей раз он взял все на свой счет и расквитался со мной, как я прикинул, полностью.
— А теперь пойдем в «Сент-Луис», — предложил Паук, когда мы вышли на улицу. Пэт ушел домой — он весь день грузил уголь, — а Рыба побежал к себе на шхуну готовить ужин.
Мы отправились в «Сент-Луис» вдвоем. В этой пивной я был впервые. В большом зале собралось человек пятьдесят, главным образом портовые грузчики. Там я снова встретил Супа Кеннеди и Билла Келли. Заглянул также и Смит с «Энни», тот самый, который носил револьверы за поясом. Явился и Тигр Нельсон.
Я познакомился там, кроме того, с новыми людьми — с братьями Виги, владельцами этой пивной, и с Джо по кличке Гусь, у которого были злые глаза и перебитый нос. Этот Гусь носил пестрый жилет и играл на губной гармошке, как ангел, так сказать, подгулявший ангел. Он славился своими буйными попойками, изумлявшими и восхищавшими даже портовых забулдыг Окленда.
Угощая новых собутыльников (которые, кстати, и сами не скупились), я вдруг подумал, что на этой неделе вряд ли смогу вернуть очередную часть долга моей кормилице Дженни. "Ну, ничего, — решил я, или, вернее, решил за меня Джон — Ячменное Зерно, — ты мужчина, тебе надо знакомиться с людьми. Няня Дженни обойдется без твоих денег. Она же не умирает с голоду.
У нее наверняка есть еще деньги в банке. Пусть подождет, понемногу все выплатишь".
Таким образом я узнал еще одно свойство Джона — Ячменное Зерно. Он разрушает нравственные устои. Нечестные поступки, казалось бы, немыслимые, когда ты трезв, пьяный совершает без угрызений совести. Тут ты не властен, ибо Джон — Ячменное Зерно встает между твоими внезапными желаниями и нравственными правилами, которым ты всегда следовал.
Я перестал думать о своем долге няне Дженни и, знакомясь с новыми людьми, уже не жалел медяков. А в голове шумело все сильнее. Не знаю, кто уволок меня в этот вечер на шлюп и уложил на койку, — по всей вероятности, Паук.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Итак, я добился того, что меня стали считать мужчиной.
У меня установились великолепные отношения с портовым людом и с устричными пиратами. Они находили, что я славный малый и далеко не робкого десятка. Между прочим, усвоив тогда на пристани новый взгляд на деньги, я навсегда потерял к ним интерес. Никто больше не называл меня скрягой, наоборот, мое легкомысленное отношение к деньгам служит и теперь источником тревоги для многих моих родных.
Я настолько отрешился от скупости, что передал через когото наказ матери созвать ребят с нашей улицы и раздать им мои коллекции. И даже ни разу не полюбопытствовал, кому что досталось. Я стал мужчиной и постарался забыть все, что связывало меня с детством.
Моя репутация упрочивалась. Услышав рассказ о том, как Фрэнк сделал попытку налететь на «Карусель» со своей шхуной, а я стоял, наведя на него двустволку, прихватив ногами румпель, чтобы удержать шлюп на курсе, портовый народ говорил:
"В этом парне что-то есть, даром что молод!" И, желая доказать, что это действительно так, я вдвоем с помощником то, бывало, доставлю на рынок больше устриц, чем все остальные суда, то первым вернусь к рассвету на якорную стоянку близ острова Аспарагус после артельного набега на дальнюю, южную часть залива. А однажды в пятницу утром после ночного лова я привел свою «Карусель» в Окленд, потеряв руль, но зато первым из всей флотилии и без всякой конкуренции успел выгодно сбыть свой товар в этот традиционный рыбный день. Был еще такой случай: я привел «Карусель» под кливером, потому что Скотти спалил мой большой парус — грот (да, не удивляйтесь, тот самый Скотти, с которым мы когда-то кутили на «Айдлере»; после Ирландца, сменившего Паука, он стал на некоторое время моим помощником).
Однако мою репутацию упрочили не только подвиги на воде.
И на суше я считался теперь компанейским парнем, не жалеющим денег на угощение. Это-то и обеспечило мне прозвище "Король устричных пиратов". Я и не гадал, что оклендские портовые кутилы, первое время ошеломлявшие меня своим поведением, вскоре будут, в свою очередь, поражены моими отчаянными выходками.
Что бы ни случилось в жизни, это всегда отмечалось выпивкой. Кабак это клуб бедняков, кабак — место их сборищ. Мы уславливались о встречах то в одном кабаке, то в другом. В кабаке мы праздновали успех, в кабаке оплакивали неудачи, в кабаке заводили новые знакомства.
Разве можно забыть день моего знакомства с отцом Нельсона, по кличке Старый Тигр? Это произошло в пивной "Последний шанс". Нас познакомил Джонни Хейнхолд. Один тот факт, что старик — отец силача Нельсона, сам по себе был достоин внимания. К тому же он владел и командовал каботажной шхуной "Энни Майн", и я мечтал поступить к нему матросом. Но важным для меня было то, что он как бы олицетворял романтику. Это был голубоглазый светловолосый сухощавый викинг, сильный и мускулистый, несмотря на возраст. В старое время, когда профессия моряка была весьма опасной, он плавал по морям под флагами всех наций.
Я слышал о нем много фантастических историй и привык издали относиться к нему с обожанием. Благодаря кабаку мне удалось узнать его поближе. Но даже там, если бы не выпивка, знакомство могло ограничиться рукопожатием или в лучшем случае — двумя-тремя фразами (старик был неразговорчив).
— Не выпьете ли кружку пива? — предложил я с любезной настойчивостью, выдержав короткую паузу, которой, по моим наблюдениям, требовал трактирный этикет.
Разумеется, приняв мое угощение, Нельсон должен был поговорить со мной, а Джонни, как полагается хозяину, подавал тактичные реплики на общие темы. После того как мы выпили по кружке, капитан Нельсон также счел своим долгом угостить меня. Это еще больше оживило нашу беседу, и Джонни, видя, что его участие больше не требуется, занялся другими посетителями.
Чем больше мы пили, тем приветливее становился капитан Нельсон. Он нашел во мне внимательного слушателя, который хорошо знал из книг о жизни моряков. И, начав вспоминать в этот летний день свою бурную молодость, он рассказал мне много интереснейших историй. Если бы не Джон — Ячменное Зерно, если бы не пиво, которое я подливал ему щедрой рукой, старый морской волк едва ли просидел бы со мной до вечера.
Заботливый Джонни Хейнхолд украдкой дал мне знак со своего наблюдательного пункта за стойкой, что я хмелею и пора переходить на «маленькую». Но покуда капитан Нельсон пил большими кружками, гордость не позволяла мне отставать от него.
И лишь когда старый шкипер потребовал себе малую кружку, я последовал его примеру. Ох и пьян же я был, когда наступило время трогательного и долгого прощания! Но я был доволен, что мне удалось напоить Старого Тигра. Юношеская скромность не позволила мне заподозрить, что опытный старый пират пьян еще сильнее, чем я.
Мне рассказывали потом Паук, Пэт, Рыба, Джонни Хейнхолд и другие, что Нельсон очень хорошо обо мне отзывался, — какой, мол, прекрасный паренек… Для старика это было особенно необычно, — все знали его злой, жестокий нрав. Он никогда ни о ком не говорил ничего хорошего (даже свое прозвище Тигр он получил за привычку в припадке бешеного гнева бросаться на человека и впиваться острыми ногтями ему в лицо). А я заслужил его расположение исключительно благодаря Джону — Ячменное Зерно!
Я привел этот случай лишь как один из примеров тех многочисленных приманок, соблазнов и услуг, с помощью которых Джон — Ячменное Зерно вербует себе приверженцев.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
И все же у меня не развилось органической потребности в алкоголе. Хоть я пил очень много все эти несколько лет, естественной тяги к вину я не испытывал. Попойки вошли в мою жизнь, так же как в жизнь окружавших меня людей. Но на шлюп я не брал с собой ничего спиртного, на воде мне не хотелось пить. И только поставив «Карусель» у причала и войдя в одно из питейных заведений, где вино лилось рекой и каждый пил и угощал других, я чувствовал, что, как мужчина, обязан тоже пить во исполнение своего общественного долга.
Бывало и так, что во время стоянки на городской пристани или на песчаной отмели мне наносили визит Королева с сестрой в сопровождении братца Пэта и миссис Хедли. Как хозяин шлюпа, я должен был оказывать им гостеприимство, в их понимании этого слова. Посему я срочно посылал на берег Паука, Ирландца или Скотти (в зависимости от того, кто из них составлял в то время мою команду), сунув ему в руки бидон для пива или бутыль для красного вина. Бывали и другие визитеры: мордастые полисмены и сыщики, обычно поднимавшиеся на борт «Карусели» в тот момент, когда под покровом тьмы я продавал устрицы, и так как мы все были во власти этих людей, приходилось угощать из устрицами с острым перечным соусом и ставить на стол кувшины, полные пива, а то и бутылки с более крепкими напитками.
Но сколько я ни пил, Джон — Ячменное Зерно не становился мне милее. Мне нравилось его умение создавать дружескую атмосферу и не очень нравился он сам. Находясь в обществе пьющих, я всегда старался поддерживать свое мужское достоинство, но в глубине души по-прежнему позорно мечтал о сладостях. Впрочем, я скорее бы умер, чем позволил другим узнать мою тайну. Зато, спровадив «команду» на ночь в город, я предавался наедине своей страсти. Я шел в библиотеку, менял там книги, потом покупал на двадцать пять центов конфет разных сортов, какие можно долго сосать, шмыгал к себе на шлюп, запирался в каюте и, лежа на койке, часами блаженствовал за книгой, отправляя в рот одну конфету за другой. Вот тогда-то я действительно испытывал удовольствие. Четвертак, потраченный в кондитерской лавчонке, приносил мне куда больше радости, чем доллары, выброшенные в кабаках.
Втягиваясь в пьянство, я стал подмечать, что все яркие моменты жизни неизменно связаны с возлияниями. Каждое из них было памятным событием. Такие люди, как Джо Гусь, вели счет календарю от выпивки до выпивки. Все портовые грузчики еле дожидались субботнего вечера, чтобы напиться. Мы, устричные пираты, обычно пили, уже распродав свой товар, хотя нередко две-три рюмки и встреча со случайным приятелем влекли за собой внеочередную попойку.
Именно такие попойки нравились мне больше всего. В это время всегда происходило что-нибудь неожиданное и волнующее.
Например, в одно воскресенье Нельсон с Фрэнком и капитаном Спинком выкрали у Виски Боба и Ники-Грека лодку для ловли лосося, которую те, в свою очередь, стащили у кого-то. На устричной флотилии произошли перемены. Нельсон подрался с Биллом Келли на «Энни» и ходил с простреленной левой рукой. Затем, поссорившись с Рыбой, он потерял компаньона и начал плавать на "Северном олене" с рукой на перевязи, командуя двумя новыми матросами, но те, испугавшись его дикой удали, вскоре бежали от него. На берегу они рассказывали такие истории о его страшной вспыльчивости, что никто не соглашался к нему идти. Из-за отсутствия команды его шхуна стояла на якоре у песчаной отмели.
Рядом стояла моя «Карусель», оставшаяся без грот-паруса. На ней жили мы со Скотти. Виски Боб расстался с Фрэнком и отправился промышлять вверх по реке вдвоем с Ники-Греком.
Результатом этой экспедиции явилась новенькая лодка для ловли лосося, украденная у рыбака-итальянца. Бедный итальянец обошел всех устричных пиратов, разыскивая свою лодку; из того, что было известно о путешествии Боба и Ники, мы сделали вывод, что похитители — они. Но где же лодка? Сотни рыбаков — греков и итальянцев — обыскали всю реку и весь залив, осмотрели каждую топь и болотце. В конце концов отчаявшийся владелец объявил, что заплатит пятьдесят долларов тому, кто укажет местонахождение лодки. Это повысило наш интерес, но лишь усугубило тайну.
Как-то в воскресенье ко мне явился старый капитан Спинк и сказал, что ему надо побеседовать со мной с глазу на глаз. По его словам, в это утро он удил рыбу возле старой Аламедской паромной станции. Когда начался отлив, он заметил привязанную к свае под водой веревку, которая тянулась вниз.
Как он ни старался, он не сумел обнаружить предмет, к которому был привязан другой конец веревки. Подальше он увидел такую же веревку на другой свае, которая тоже пряталась в песке, но и ее вытянуть не удалось. Он уверен, что там зарыта похищенная лодка. Если мы вернем ее владельцу, то получим пятьдесят долларов. Но у меня были своеобразные понятия о воровской чести, и я отказался быть причастным к этому делу.
Я уже говорил, что Фрэнк поссорился с Виски Бобом, Нельсон тоже был его врагом. (Бедняга Виски Боб! Это был беззлобный, добродушный, слабохарактерный и щедрый человек, выросший в семье бедняков, прирожденный пьяница. Смерть положила конец его пиратской деятельности. Когда его тело выволокли из воды возле берега, оно было пробито во многих местах пулями.) Через час после того, как капитан Спинк ушел от меня, я увидел его на борту "Северного оленя" — он был с Нельсоном. Сзади следовала шхуна Фрэнка.
Скоро они вернулись, как-то странно, рядом. Когда они подплыли ближе, я увидел, что к «Оленю» и к шхуне Фрэнка пришвартована рыбачья лодка. Была уже середина отлива, и они уткнулись в песок отмели, с лодкой посередине.
Не откладывая в долгий ящик, Ганс, матрос Фрэнка, спустил шлюпку и стал поспешно грести в северном направлении, к пристани. О цели его путешествия красноречиво говоршщ большая оплетенная бутыль на корме. Мужчинам не терпелось вспрыснуть пятьдесят долларов, заработанных столь легким путем. Так уж принято у приверженцев Ячменного Зерна. Они пьют, празднуя удачу, а если удачи пока нет, пьют за удачу в будущем. Если же постигла неудача, пьют, чтобы ее забыть. Они пьют при свидании с другом и пьют, когда поссорятся и потеряют друга. Если любовь увенчалась счастьем, тут уж сам Бог велел выпить! А если нет, это тем более повод напиться. В периоды бездеятельности они видят свое спасение в пьянстве: тогда и энергия появится и инициатива. В трезвом состоянии их тянет пить, а когда напьются, хочется еще.
Разумеется, нас со Скотти, как приятелей, тоже позвали на пирушку. Таким образом, и мы помогли делить шкуру неубитого медведя: ведь пятьдесят долларов никто еще не получил! И вот обычный томительно-скучный воскресный день вдруг превратился в чудесный праздник. Мы болтали и пели, смеялись и хвастались своими подвигами, а Фрэнк с Нельсоном следили, чтобы не было пустых стаканов. С городской пристани нас было хорошо видно, и к нам стали стекаться оттуда друзья-приятели. Лодка за лодкой подплывали к нашей стоянке, и Ганс едва успевал курсировать между мелью и берегом то с пустой, то с полной бутылью.
Вдруг откуда ни возьмись появились совершенно трезвые Виски Боб и Ники-Грек и стали осыпать товарищей-пиратов гневными упреками за то, что те посмели утащить их добычу.
Фрэнк под нашептывание Джона — Ячменное Зерно произнес ханжескую речь о добродетели и честности и, несмотря на свои пятьдесят лет, вытащил Виски Боба на песок и принялся избивать его. Ники-Грек схватил лопату с короткой ручкой и кинулся спасать товарища, но с ним в два счета расправился Ганс.
Окровавленных Боба и Ники бросили в лодку, и в ознаменование победы над ними пьянка возобновилась.
К этому времени гости, пестрое, многонациональное сборище, разгоряченное алкоголем, позабыли всякую сдержанность.
Воскресли древние споры, вспыхнула стародавняя вражда. В воздухе запахло кровью. Стоило грузчику вспомнить обиду, нанесенную ему когда-то матросом со шхуны, или, наоборот, матросу вспомнить, что его обидел грузчик; стоило устричному пирату кого-то в чем-то обвинить или услышать обвинение по своему адресу, — мгновенно сжимались кулаки и начиналась драка.
И каждая драка кончалась перемирием и новой выпивкой, причем противники, успокоенные нашими общими усилиями, тут же обнимались и клялись друг другу в вечной дружбе.
И надо же было Супу Кеннеди выбрать именно такой момент, чтобы явиться за своей старой рубахой, оставленной им на «Олене» еще при Рыбе! В конфликте между Рыбой и Нельсоном он был на стороне первого. Скажем для ясности, что привел его требовать старую рубаху не кто иной, как Джон — Ячменное Зерно: Кеннеди уже успел основательно нагрузиться в пивной «Сент-Луис».
Слово за слово, пошли в ход кулаки. Это было в кокпите. Увидев, что человек с двумя здоровыми руками напал на однорукого, Фрэнк рассвирепел и швырнул в него железным ломом; не знаю, каким чудом уцелела тогда башка Супа. (Если "Северный олень" еще сохранился, на его фальшборте должны быть видны следы от лома.)
С искаженным от гнева лицом Нельсон вытащил из лубка свою простреленную забинтованную руку и, отталкивая нас, пытавшихся образумить его, зарычал сквозь пьяные слезы, что уложит Супа Кеннеди одной рукой. Мы были вынуждены пустить их на песок помериться силами. Увидев, что Нельсону приходится очень туго, Фрэнк (а с ним и Джон — Ячменное Зерно) ринулся ему на помощь, что было, конечно, не по правилам. Тогда запротестовал Скотти и потянул Фрэнка назад, а тот в ярости пихнул его в грудь, повалил наземь и стал избивать. Сцепившись в клубок, юни откатились футов на двадцать по песку — с трудом их растащили. За это время успели подраться и другие. Их кое-как удалось унять — не без помощи выпивки и других мер. Но Нельсон и Суп Кеннеди не прекращали рукопашной. Время от времени мы подхо дили к ним с разными советами, вроде: "Швырни ему песку в глаза!" (Это говорилось, когда они отлеживались на песке почти уже без сил.) И песок летел в глаза противнику; потом передышка кончалась, оба вставали и снова дрались до изнеможения.
Понятно, что все это было убого, бессмысленно и скотски Грубо, но постарайтесь понять меня! Мне еще не быЛо шестнадцати, я сгорал от страсти к приключениям, моя голова была набита историями о пиратах и мореплавателях, о разграбленных городах и стычках, а дрянь, которую я пил, еще пуще горячила мой мозг.
Меня окружала вольница — грубая и дикая, вполне естественная для тех мест, где я жил, и для того времени, которое я выбрал, чтобы родиться. Но я не терял и надежд на будущее. Здесь лишь начало. С отмели морская дорога выведет меня через Золотые Ворота в бескрайний мир приключений, где будут битвы не из-за старого тряпья и краденых рыбачьих лодок, а во имя высоких идей и романтических целей.
А пока что, к общему удовольствию подгулявшей компании, мы поругались со Скотти: я стал его дразнить за то, что он позволил старику Фрэнку положить себя на обе лопатки; кончилось тем, что Скотти отказался работать у меня и сбежал вечером, захватив пару моих одеял. Ночью, когда устричные пираты валялись мертвецки пьяные, прилив поднял шхуну Фрэнка и "Северного оленя", стоявших на якорях. Рыбачья лодка, полная воды и камней, по-прежнему оставалась на дне.
Под утро я услышал дикие вопли, доносившиеся с «Оленя», и, ежась от утреннего холода, вылез посмотреть, что случилось.
Я увидел картину, о которой в порту долго потом вспоминали со смехом. Красавица лодка лежала на песке раздавленная, плоская, как блин, а на ней торчали шхуна Фрэнка и «Олень». На беду, крепкий дубовый форштевень лодки выбил доску из днища «Оленя», и с приливом вода хлынула в пробоину. Нельсон проснулся, когда его койка была уже в воде. Я помог ему откачать воду и заделать пробоину.
Потом Нельсон приготовил завтрак, и за едой мы обсудили положение. У него не было ни гроша. У меня тоже. О пятидесяти долларах теперь нечего было мечтать: кто станет платить за жалкую груду щепок? Из-за больной руки Нельсон вышел из строя, а команды у него не было. У меня сгорел парус, и я тоже остался без помощника.
— Давай-ка вдвоем? — предложил Нельсон.
— Ладно, — ответил я.
И так я вошел в компанию с Тигром, самым бешеным и необузданным из всех пиратов. Заняв у Джонни Хейнхолда денег, мы запаслись провизией, наполнили бочонки пресной водой и в тот же День отплыли к устричным отмелям.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Признаться, я никогда не жалел, что провел эти сумасшедшие месяцы с Нельсоном. Уж кто-кто, а он умел водить судно, хотя каждый, кто плавал с ним, трепетал от страха. Ему доставляло наслаждение быть всегда на волосок от гибели, выкидывать номера, о которых другие даже не мечтали. У него была мания, что брать рифы — позор. За время нашего совместного плавания я не помню, чтобы на «Олене» были когда-нибудь зарифлены паруса, даже при самом сильном ветре. Оттого у нас никогда не просыхала палуба. Мы шли напролом и плавали только под полными парусами. И когда нам показалось, что Оклендский порт уже не может дать достаточно острых ощущений, мы покинули его и отправились дальше.
Такое чудесное существование стало для меня возможным лишь благодаря Джону — Ячменное Зерно. Впрочем, за это-то я на него и сердит. Ведь я хотел только одного: вольной жизни, интересных приключений, но добиться этого мог не иначе как при помощи Ячменного Зерна. Так уже было заведено среди людей, избравших подобный образ жизни. И коль скоро я вознамерился жить так, как они, я вынужден был им подражать. Ведь разве удалось бы мне без пива войти в компанию с Нельсоном и подружиться с ним? Если бы я в тот день отказался выпить с ним и не угостил его, он бы не взял меня к себе. Он хотел иметь такого компаньона, с которым можно не только вместе работать, но и вместе кутить.
Я с головой окунулся в новую жизнь, усвоив неверную мысль, что суть Ячменного Зерна в том, чтобы валить человека с ног и превращать в скота, проведя его сперва сквозь все стадии опьянения, какие только может выдержать железное здоровье.
Я терпеть не мог вкус алкоголя и шел в кабак лишь для того, чтобы нахлестаться до одури. Еще недавно скупой и бережливый маленький Шейлок, доводивший старьевщика до слез, едва не лишившийся рассудка, когда Фрэнк за минуту растранжирил восемьдесят центов на виски для восьмерых, я теперь сорил деньгами почище любого из самых заядлых пьяниц.
Помню, раз мы с Нельсоном сошли на берег. У меня было в кармане сто восемьдесят долларов. Я собирался первым делом купить кое-что из одежды, а потом уже выпить. Мне необходимо было приодеться. Все мое имущество было на мне: рваные резиновые сапоги, которые протекали так, что вода в них, к счастью, не задерживалась, рабочий комбинезон за полдоллара, сорокацентовая ситцевая рубаха да парусиновая матросская шляпа. Другой шляпы у меня не было, так что эту приходилось носить и на берегу. Заметьте, что я не упоминаю ни белья, ни носков но той причине, что я их не имел.
Чтобы попасть в магазин одежды, надо было пройти мимо десятка кабачков. Поэтому я прежде всего зашел выпить. До магазина одежды я так и не добрался. На следующее утро я вернулся на шлюп, без гроша в кармане, одурманенный, но довольный собой, и мы отчалили. На мне было то же тряпье, что и раньше, а от ста восьмидесяти долларов не осталось ни цента. Люди несведующие, пожалуй, не поверят, что молодой парень, совсем мальчишка, способен за двенадцать часов пропить сто восемьдесят долларов. Берусь доказать.
И я даже не сокрушался об этих долларах. Я был преисполнен гордости: небось теперь местные пропойцы убедились, что я умею сорить деньгами не хуже любого из них. Я доказал сильным людям, что я тоже сильный человек. Они смогли лишний раз убедиться, что я с полным правом ношу титул Короля То, что я стал так относиться к деньгам, было, возможно, реакцией на мое нищенское детство и тяжкий труд, который мне пришлось изведать ребенком. Где-то у меня в мозгу таилась, вероятно, мысль, что лучше быть атаманом забулдыг, чем рабом машины. Когда по двенадцать часов не выходишь из цеха, жизнь лишена событий.
Зато если, по-вашему, не событие прокутить за двенадцать часов сто восемьдесят долларов, тогда я пас!
Не стану подробно рассказывать о своей дружбе с Джоном — Ячменное Зерно и лишь отмечу те факты, из которых становится ясно, как он коварен. Меня спасали от белой горячки три обстоятельства: во-первых, очень крепкий организм, во-вторых, здоровая жизнь на море, на вольном воздухе и, в-третьих, то, что я пил только от случая к случаю. Выйдя на промысел, мы никогда не брали с собой ни пива, ни виски.
Предо мной открывался мир. Я уже знал несколько сот миль водных путей, побывал во многих городах — больших и малых — и рыбачьих деревушках вдоль побережья. Тайный голос гнал меня дальше. Чего я искал? Не знаю, но я чувствовал, что впереди очень много интересного. А Нельсону даже этот кусочек мира казался слишком обширным. Он тосковал по своему любимому Оклендскому порту и в конце концов решил туда вернуться; мы с ним простились как лучшие друзья.
Оставшись один, я порешил сделать своим штабом старинный городок Бенишию на проливе Каркинез. Здесь, среди целой флотилии рыбачьих баркасов, теснившихся на берегу, обреталась теплая компания пьяниц и бродяг, к которым я теперь примкнул. Я занимался ловлей лосося и бороздил залив и реки в качестве агента рыбачьего патруля, но все больше и больше времени проводил на берегу — набирался опыта по части пьянства, кутил вовсю.
Перепить меня не мог никто, а я, чтобы лобахваллться, пил частенько куда больше, чем следовало. Однажды утром меня вытащили без чувств из развешенных для просушки рыбачьих сетей, в которых я накануне запутался, спьяну не разглядев, куда иду, не зная, на каком я свете. Пей этому поводу было много разговоров, шуток и смеха, и как тут не выпить? A я ходил героем.
Шутка ли!
Зато после беспробудного трехнедельного пьянства я решил:
хватит! Вершина достигнута. Пора найти другое развлечение!
Внутренний голос подсказывал мне — и пьяному и трезвому, — что попойки и разбойничьи набеги — это еще не все. Мое счастье, что я слышал этот голос и слышу его постоянно. Таков уж я от природы.
В тот момент он звал меня бродить по белу свету. Но это не был голос благоразумия, нет; здесь были и любопытство, и неусидчивость, и жажда прекрасного, которое я, может быть, где-то видел мельком, а может быть, только угадывал. Для чего жить, спрашивал я себя, если считать, что это все? Нет, обязательно есть что-то еще. (Должен подчеркнуть, что, когда я с годами превратился в настоящего алкоголика, этот голос, подсказывавший, что жизнь богата иными гранями, сильно помог мне бороться с Ячменным Зерном.)
Впрочем, ускорил мое решение переменить жизнь новый чудовищный трюк Ячменного Зерна, показавший, в какую непостижимую бездну может свести опьянение. После одной грандиозной попойки я отправился в час ночи спать к себе на шлюп. В проливе Каркинез очень сильное течение, вода бурлит, как у мельничного колеса. В тот момент, когда я лез к себе на шлюп, был полный отлив. Я не удержался на ногах и бухнул в воду. Ни на причале, ни на шлюпе никого не было. Меня стало относить течением. Но я не испугался. Мне даже понравилось это неожиданное происшествие. Я хорошо плавал, вода ласкала мое разгоряченное тело, как прохладная простыня.
Но тут-то и отколол свой сумасшедший номер Джон — Ячменное Зерно: вселил в меня дикое желание отдаться воле волн. Я никогда не задумывался о смерти, тем более о самоубийстве. А тут мне взбрело на ум, что это будет прекрасный конец короткой, но яркой жизни. Я, еще не познавший любви ни девушки, ни женщины, ни ребенка, не изведавший еще счастья от общения с искусством, не штурмовавший хладные, как звезды, высоты философии, видевший лишь крохотную — с булавочную головку — частицу великолепного мира, решил, что все уже знаю, все перевидел, все испытал и теперь пора прекратить земное существование. Это, конечно, были его штучки — Ячменного Зерна: окрутил меня, опутал и спьяну тащил умирать.
О, что-что, а это он умеет! Итак, все перевидено, все трынтрава! Чаша переполнилась, я презирал себя за тот скотский образ жизни, который вел последнее время, и понимал, что меня ждет за мой грех. Живой пример несчастные босяки и бездельники, пьянствовавшие за мой счет. У них в жизни ничего уже не осталось. Так что ж, хочешь тоже превратиться в такого? Нет, тысячу раз нет! И я плакал от сладкой грусти, что гибнет юный герой. (Кто не видел меланхолического пьяницу с глазами на мокром месте, непременную принадлежность любого кабака? Если там не найдется более подходящих слушателей, он будет изливать свою душу кабатчику, а тот обязан слушать: за это ему платят!)
Вода была чудесная. Так и должен умереть мужчина. Джон — Ячменное Зерно затянул другую песню в моем пьяном мозгу.
Нечего печалиться и плакать! Это смерть героя, который добровольно решил покончить счеты с жизнью. И я стал громко распевать предсмертную песню, пока бульканье и плеск воды не напомнили мне, где я нахожусь.
Ниже Бенишии, там, где пристань Солано выдается в море, пролив расширяется и образует так называемую Тернерскую бухту. Я плыл в полосе берегового течения, которое идет к пристани Солано и Далее в бухту. Мне было давно известно, что в том месте, где течение огибает остров Мертвеца и несется к пристани, образуется сильный водоворот. Меньше всего мне хотелось попасть на сваи. Тогда мне понадобится лишний час, чтобы выбраться из бухты.
Я разделся в воде и, с силой выбрасывая руки, поплыл поперек течения. И лишь увидев, что огни пристани остались позади, позволил себе лечь на спину и передохнуть. Огромное усилие не прошло даром: я долго не мог отдышаться.
Обрадованный, что удалось избежать водоворота, я снова запел свою предсмертную песнь, вернее, попурри, какое мог сочинить экспромтом свихнувшийся от пьянства парень. "Не пой, погоди! — зашептал мне Джон Ячменное Зерно. — На Солано всю ночь люди. Там могут быть железнодорожники. Они услышат тебя, сядут в лодку и поспешат к тебе на помощь, а ты ведь не хочешь, чтобы тебя спасли". Конечно, нет! Еще новости! Лишиться возможности погибнуть героем! Ни в коем случае! И я лежал на спине, под небом, усеянным звездами, смотрел, как проплывают мимо знакомые огоньки пристани — красные, зеленые, белые, — и сентиментально прощался со всеми вместе и с каждым в отдельности.
Очутившись на середине пролива, я снова запел. Я плыл, изредка делая несколько взмахов руками, отдаваясь течению, погруженный в пьяный полусон. Так прошло несколько часов; перед рассветом холод протрезвил меня настолько, что я стал интересоваться, где я нахожусь, и гадать, успею ли выплыть в залив Сан-Пабло до того, как прилив начнет тащить меня назад.
Затем я почувствовал, что ужасно устал и окоченел. Хмель прошел, и я уже не хотел умирать. На Контра Коста стали вырисовываться очертания медеплавильного завода Селби и маяк Лошадиного острова. Я решил плыть к берегу Солано, но, обессиленный и замерзший, сложил руки и вверил себя течению, лишь время от времени делая несколько взмахов, чтобы держаться на поверхности воды, которая становилась все беспокойнее, так как начинался прилив. И тут мне стало страшно.
Я был уже совсем трезв и ни за что не хотел умирать. По многим и многим причинам стоило жить. Но чем больше я находил причин, тем меньше было шансов на спасение.
Рассвет застал меня у маяка Лошадиного острова. После четырех часов в воде я попал в опасную полосу водоворотов, образуемых быстрыми течениями из проливов Валлехо и Каркинез; вдобавок начавшийся прилив стал нагонять волны из Сан-Пабло, и все эти три силы вступили в борьбу. Поднялся ветер, короткие крутые волны то и дело захлестывали меня, и я уже начал глотать соленую воду. Как опытный пловец, я понимал, что скоро мне крышка. И вдруг откуда ни возьмись появился рыбачий баркас — какой-то грек шел в Валлехо; еще раз мое здоровье и физическая выносливость спасли меня от козней Ячменного Зерна.
Кстати, должен сказать, что такие отчаянные номера Джон — Ячменное Зерно выкидывает не только со, мною. Статистические данные о проценте самоубийств по его милости раскрывают чудовищную картину. Пусть мой случай не типичен: у здорового, нормального, жизнерадостного юноши нет оснований лишать себя жизни. Но если бы я долго до этого не пьянствовал и нервы и мозг не были у меня отравлены, я в припадке белой горячки не польстился бы на эффект, который сулила мне романтическая гибель. Впрочем, и закоренелые, старые пьяницы, изверившиеся в жизни и потерявшие человеческий облик, тоже чаще всего решаются на самоубийство после длительного запоя, когда их нервы и мозг находятся в полном дурмане.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
И вот я простился с Бенишией, где Джон — Ячменное Зерно едва не прикончил меня, и, подчиняясь внутреннему зову, отправился далее на поиски нового. Но где бы я ни скитался, дорога всегда приводила в кабак. Кабак был клубом бедняков, и только туда мне был открыт доступ. Там можно было заводить знакомства. Там можно было подойти к стойке и заговорить с первым встречным. Куда еще решился бы я зайти в чужом городе во время странствий? Зато, переступив порог кабака, я уже не чувствовал себя одиноким.
Позвольте мне сделать отступление, уже касающееся наших Дней. В прошлом году я запряг в шарабан четверку лошадей и вместе с Чармиан отправился на три с половиной месяца путешествовать по глухим горным районам Калифорнии и Орегона Каждое утро я садился писать свой роман, а когда кончал ежедневную порцию, мы ехали дальше и к вечеру делали остановку на новом месте. Гостиницы попадались не часто, дорожные условия бывали самые различные, и мне всегда приходилось накануне планировать маршрут, помня в первую очередь о своей работе.
Надо было и норму выполнить, и выехать вовремя. Иной раз, в предвидении долгого пути, я вставал в пять часов утра и сразу принимался за дело. Когда же до следующего пункта было близко, я мог сесть писать и позже скажем, часов в девять.
Но сам маршрут, как его планировать? Приехав в любой городок, я ставил лошадей на конюшню и оттуда, не заходя еще в гостиницу, спешил в пивную. Прежде всего выпить — этого хотелось ужасно, но была и деловая причина: получить информацию. Итак, со стаканом в руке я обращаюсь к бармену с привычной фразой: "И себе налейте, пожалуйста!" Мы пьем, и я приступаю к расспросам: в каком состоянии дороги и где можно остановиться?
— Дайте-ка подумать, — скажет, бывало, бармен, — через Таруотерский водораздел проходит дорога. Прежде она была в хорошем состоянии. Я ездил по ней три года назад. Вот только весной ее завалило. Лучше, пожалуй, спросить Джерри. Эй, Джерри (или Том, или Билл), — крикнет он человеку на другом конце стойки, — как там Таруотерская дорога? Ты по ней ездил на той неделе в Вилкинс.
И покуда тугодум Джерри, Билл или Том собирается облечь свои мысли в неуклюжую речь, я приглашаю его присоединиться к нам. Начинается обсуждение достоинств той или иной дороги и гостиницы, и за сколько часов я доеду, и где лучшие места для ловли форели. В дискуссию включаются еще какие-то люди — новый повод для выпивки.
Еще два-три питейных заведения, и, легонько захмелев, я уже знаю почти всех здешних жителей и все, касающееся городка и окрестностей. Я успел познакомиться с местными адвокатами, редакторами газет, политическими деятелями, с приезжими фермерами, охотниками и шахтерами, и вечером, когда мы с Чармиан выходим прогуляться по главной улице, она не может понять, откуда у меня в совершенно чужом городе так много знакомых.
Вот какую помощь оказывает Джон — Ячменное Зерно, приобретая благодаря этому еще большую власть над людьми. И сколько я ни ездил по свету, я везде наблюдал то же самое. И кабаре в Латинском квартале, и кофейня в глухой итальянской деревушке, и портовый кабачок в приморском городе, и фешенебельный клуб, где пьют виски с содовой, — все они властью Ячменного Зерна сближают людей. В будущем, когда жизнь станет лучше и Джон Ячменное Зерно прекратит существование наряду с другими атрибутами варварства, надо будет подумать о создании новых учреждений вместо кабаков, где люди смогут собираться, знакомиться, находить друг друга и узнавать то, что им нужно.
Но вернусь к прерванному рассказу. После Бенишии мой путь снова лежал через кабаки. Моральных преград я не ощущал, но вкус алкоголя был мне по-прежнему противен. Вместе с тем при всем почтении к Джону — Ячменное Зерно я стал относиться к нему настороженно: ведь он сыграл со мной злую шутку, потащив топиться, когда я вовсе не хотел умирать. Я пил, но помнил о нем, твердо намереваясь дать ему решительный отпор, если он опять начнет подбивать меня на самоубийство.
Итак, что ни город, то кабак и новые знакомства. Если мне нечем бывало заплатить за койку, я знал, что в кабаке-то уж, во всяком случае, смогу приставить стул к жарко натопленной печке В кабаке можно было умыться, причесаться, почистить платье. Это были удивительно удобные заведения, и у нас на Западе они встречались на каждом шагу.
Никуда, ни в чей незнакомый дом я бы так легко не вошел.
Никто не раскрывал предо мной дверей, не приглашал погреться у огня. Церкви я не знал. Священники были мне чужды, и я даже не стремился к знакомству с ними. Какая бесцветная у них жизнь, думал я, никаких ярких событий, интересных лереживаний. В моих глазах священники принадлежали к тому роду людей, которые живут под колпаком: ни шагу с насиженного места, узкие, ограниченные, напичканные предрассудками, рабы системы и порядка. Ни темперамента, ни фантазии, ни чувства товарищества. А мне хотелось, чтобы моими друзьями были хорошие люди — добрые, приветливые, щедрые и великодушные, полные пусть даже безрассудной отваги, но только не заячьи душонки.
Кстати, именно хороших людей с кипучим темпераментом, готовых на риск, благородных, отзывчивых, обладающих самыми милыми человеческими слабостями, и ловит в свои сети Джон — Ячменное Зерно. Прибавим и это к перечню обвинений: он гасит пламя души, топит в вине живость ума, и если не губит разом своих жертв и не лишает рассудка, то так или иначе калечит их, ожесточает сердца, вытравляя все благородное, что было заложено в них природой.
И все-таки скажу по опыту зрелых лет, избави меня. Бог от того большинства обыкновенных людей, которых нельзя назвать хорошими, ибо от них веет холодом, которые не курят, не пьют, не употребляют бранных слов, но зато ничего не осудят, никогда не совершат смелого поступка. Это все малодушные людишки, глушащие в себе зов жизни, не осмеливающиеся рвать паутину быта. Вы их не встретите в кабаке, но не увидите и на баррикадах. Их не влекут неведомые дали, они не способны самозабвенно полюбить. У них свои заботы: не промочить ноги, не утомить сердце, не упустить возможности добиться маленького обывательского успеха при своих незначительных талантах.
Итак, на скамье подсудимых Джон — Ячменное Зерно! Сколь ко хороших, ценный людей, чьи недостатки проистекают от их достоинств — от чрезмерной силы, от чрезмерной храбрости, от душевного огня и благородной отваги, Джон — Ячменное Зерно захватывает и уничтожает. Конечно, он уничтожает и безвольных, но я говорю сейчас не о таких. Я говорю о ценнейшем чело веческом материале, который он беспощадно сжигает. И все это происходит оттого, что Джон — Ячменное Зерно торчит на каждой улице, на каждом перекрестке. Он всегда доступен, находится под охраной закона, ему отдает честь постовой полисмен, не мешая ему зазывать прохожих и тащить в те места, где собираются славные, смелые люди и пьют мертвую. Если бы Ячменное Зерно убрали с дороги, смелых людей рождалось бы не меньше, но они не губили бы себя, а жили с пользой.
Я всегда замечал, что пьяницам свойственно чувство товарищества. Бывало, бредешь по шпалам к водокачке — дождаться там товарного поезда — и вдруг наткнешься на компанию «алки» (так называются бродяги, пьющие аптечный спирт). Они громко и весело приветствуют незнакомца, подзывают и предлагают выпить с ними спирт, умело разбавленный водой. И вот я сажусь с ними бражничать; скоро в голове у меня шумит, и Джон — Ячменное Зерно нашептывает мне, что жизнь прекрасна и все мы здесь люди смелые и славные, а главное — свободные, как ветер, хотим — валяемся на земле, хотим — нет, и готовы плевать на все человечество, погрязшее в тесном, затхлом житейском болоте.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Вернувшись в Окленд после моих странствий, я снова попал в порт и возобновил дружбу с Нельсоном, который теперь постоянно околачивался на берегу и вел еще более разгульный образ жизни, чем раньше, плавая со мной. Я проводил с ним все время, кроме тех редких случаев, когда меня брали ненадолго на какуюнибудь шхуну, где не хватало рук.
Таким образом, я лишился тех полезных для здоровья дней, когда занимался физическим трудом на свежем воздухе и не касался спиртного. Теперь я пил ежедневно, не зная меры, — еще не изжил превратного представления, будто вся прелесть Ячменного Зерна заключается в том, чтобы доводить себя до бесчувствия, до скотского состояния. Словно пропитанный алкоголем, я почти не вылезал из питейных заведений, стал кабацким завсегдатаем, если не хуже.
Теперь Джон — Ячменное Зерно опутывал меня хитрее и коварнее, чем в тот раз, когда увлек топиться в море. Мне было неполных семнадцать лет, я относился с презрением ко всякой постоянной работе и, считая себя не хуже других головорезов, пил вовсю, чтобы не отстать от них. Я не знал детства — слишком рано созрев, был не по годам умудрен житейским опытом и циничен. Судьба еще не подарила мне девичьей любви, но уже протащила сквозь огонь и воду, и я был уверен, что школу жизни и любви прошел с начала и до конца. И эта наука не была мне полезна: отнюдь не пессимист по натуре, я проникся убеждением, что жизнь — дрянная и скучная штука.
Понимаете, Джон — Ячменное Зерно притуплял мои чувства, отбивал охоту к приключениям, любопытство к жизни. Не все ли мне равно, что находится на другой стороне планеты? И там небось мужчины и женщины, такие же, как у нас, женятся, выходят замуж, тянут лямку, утопая в мелочных заботах, и пьют, конечно, горькую! Не ехать же ради выпивки на край света! Куда проще пойти на угол к Джо Виги — там все к твоим услугам! Или в "Последний шанс" Джонни Хейнхолда. Да и других пивных тьма-тьмущая!
Чем сильнее пропитывал алкоголь живую ткань моего тела и мозга, тем глуше становился зов жизни. Равнодушие гасило былые беспокойные стремления. Гнить заживо и помереть можно и в Окленде, для этого не надо тащиться за тридевять земель! И если бы я дал полную волю Джону — Ячменное Зерно, то он живо управился бы со мной. Я стал забывать о том, что такое аппетит, зато хорошо знал уже другое ощущение, когда утром встаешь и тебя шатает, нутро сводит, руки трясутся, и ты весь одержим одним желанием: опохмелиться стаканом крепкого виски (о, Джон — Ячменное Зерно умеет закрутить! Тело и мозг, обожженные, оглушенные и отравленные, ждут, что их спасет тот самый яд, который их едва не прикончил!).
Коварству Ячменного Зерна нет границ. Сперва он пытался подбить меня на самоубийство, потом решил покончить со мной иначе — не менее энергичными мерами. Но, видимо, сочтя и это недостаточным, придумал еще одну уловку и наверняка сгубил бы меня, если бы я сам не поумнел и не начал пить с оглядкой. Я понял наконец, что даже моя редкая выносливость имеет предел, а вот он, Ячменное Зерно, неутомим. Я понял, что за час-другой он может одолеть меня, несмотря на мою крепкую голову, сильные плечи и могучую грудь, положить на обе лопатки и задушить в своих дьявольских тисках.
Как-то под вечер мы с Нельсоном сидели в пивной «Оверленд». Сидели там только потому, что остались без гроша, а дело было накануне муниципальных выборов. Видите ли, во время предвыборных кампаний местные политические дельцы обычно обходят пивные, охотясь за голосами избирателей. Ну вот, сидит за столиком человек, размышляет, чем бы промочить горло, не угостит ли кто-нибудь стаканчиком, или, может, стоит сходить в другое место попросить в кредит, как вдруг нежданно-негаданно распахивается дверь и входит целая компания хорошо одетых джентльменов, которые держатся со всеми запросто и мигом создают задушевную обстановку.
Для каждого у них готова улыбка и приветствие — и для тебя, не имеющего пяти центов на кружку пива, и для робкого босяка там в углу, который, конечно, ни в каких избирательных списках не числится, но может быть вписан в них, как временно проживающий в портовой гостинице. Как только в помещение пивной вступили, выпятив грудь, широкоплечие пузатые господа политиканы, которых сам Бог создал оптимистами и хозяевами жизни, ты на коне. Ты чувствуешь, что вечер у тебя не пропал, — начало, во всяком случае, положено. А там, глядишь, Бог пошлет еще какого-нибудь щедрого дядю, вот тебе и полная удача! Не заставляя себя просить, ты устремляешься к стойке, осушаешь стаканчик-другой, и тебя просвещают насчет фамилий джентльменов и того, на какие посты они ждут народного избрания.
Эти обходы пивных, совершаемые политиканами, помогли мне узнать горькую правду о некоторых сторонах их благородной деятельности и рассеять иллюзии, в свое время внушенные мне чтением таких увлекательных книг, как «Молотобоец» и "Из лодочников в президенты".
Итак, в тот вечер мы с Нельсоном сидели в пивной с пересохшими глотками и без гроша в кармане, но, как истые пьяницы, с верой в душе, что откуда-то перепадет выпивка. Главная надежда, конечно, была на кандидатов. Вдруг вбегает прославленный кутила Джо Гусь со злыми глазами и перебитым носом, как всегда, в своем пестром жилете.
— Пошли, ребята, есть даровая выпивка, — говорит он нам, — пей хоть бочку. Я сразу о вас подумал. Только бы не прозевать.
Конечно, мы заинтересовались:
— Где это?
— По дороге расскажу. Пошли, а то опоздаем!
Он повел нас быстрым шагом в сторону жилой части города.
— Организует это дело Хэнкокская пожарная команда, — пояснил нам Джо. Ог нас ничего не требуется, кроме одного:
нацепить красную рубаху и пожарную каску и взять в руки факел.
В Хейуортсе будет шествие. Нас туда повезут на специальном поезде.
(Кажется, это был Хейуортс. А, впрочем, может быть, Сан-Леандро или Найлс. И хоть убейте, не помню, к какой партии относились хэнкокские пожарники — к демократам или республиканцам. Так или иначе, начальству не хватало народу для участия в шествии, и потому призвали добровольцев с обещанием выпивки.)
— Там столько всего наготовили! — рассказывал Джо Гусь. — Виски разливанное море! Кандидаты скупили весь запас в кабаках. Все будет даром. Подходи и пей! Ух и кутнем там за милую душу!.
В помещении пожарных на Восьмой улице, недалеко от Бродвея, мы напялили рубахи и каски пожарных, вооружились факелами, после чего нас повели гуртом на станцию и погрузили в вагоны. Впрочем, пить нам пока не дали, и мы ворчали довольно открыто. Но эти политиканы — народ хитрый: зная, с кем имеют Дело, они и в Хейуортсе ничем нас не угостили. Приказ был такой: сперва походи с факелом, тогда заработаешь выпивку!
Волей-неволей пришлось подчиниться. Зато когда шествие кончилось, открылись все кабаки. Всюду был нанят дополнительный персонал, у каждой стойки в шесть рядов толпились охотники выпить. Некогда было обтирать мокрые стойки, мыть посуду:
буфетчики только успевали наливать. Портовые забулдыги из Окленде ждать не желали!
Но толпиться в очереди и драться за каждый стакан показалось нам слишком нудным занятием. Все ведь и так наше, верно?
Для нас же куплено! Разве мы честно не участвовали в факельном шествии? Приняв все это в расчет, мы совершили фланговую атаку: обошли стойку сзади, отпихнули запротестовавших было буфетчиков и захватили полные охапки бутылок.
На улице мы отбили горлышки о край цементного тротуара и принялись пить. Джо Гусь и Нельсон побаивались неразбавленного виски в больших количествах, а я нет. Я пока еще придерживался ошибочного представления, что нужно пить сколько влезет, — особенно когда это на даровщину. Мы угощали еще кого-то, не забывая, разумеется, и себя; я же хлестал больше всех, — надо признаться, без всякого удовольствия, вспомнив при этом пиво, которым отравился в пятилетнем возрасте, и вино, от которого заболел, когда мне было семь. Я пил виски, как горькое лекарство, всячески стараясь подавить отвращение. Покончив с одной партией, мы направились в другой кабак, оттуда в третий, — всюду бесплатное виски лилось рекой, и всюду мы применяли тот же способ захвата трофеев.
Не знаю, сколько я выпил — две кварты или пять. Знаю лишь, что в начале пиршества я залпом вливал в себя по четверти кварты виски, не разбавляя и не запивая водой.
Местные политиканы, достаточно опытные в подобных делах, не позволили окпендским пьяницам застрять в городке. Поэтому перед отправлением обратного поезда специальный патруль обошел все кабаки. Я уже ощущал на себе действие винных паров. Меня и Нельсона выволокли из кабака, и мы оказались в хвосте довольно беспорядочной колонны. Я делал героические попытки идти вместе со всеми, но почти не владел своим телом. Ноги мои подгибались, в голове был туман, сердце громко стучало, легким не хватало воздуха.
Мои силы быстро таяли, и помутневший рассудок подсказывал, что я упаду и не доберусь до поезда, если буду плестись вот так в хвосте колонны. Я вышел из рядов и побежал по боковой тропинке, протоптанной вдоль дороги, под развесистыми кронами деревьев. Нельсон, смеясь, пустился за мной. Есть вещи, которые навсегда врезаются в память, как кошмарный сон. Я ясно помню пышные кроны и то отчаяние, которое охватило меня, когда я бежал под ними, то и дело спотыкаясь и падая, к великому удовольствию всей пьяной братии. Им-то казалось, что я валяю дурака, чтобы их позабавить. Они и не догадывались, что Джон — Ячменное Зерно вцепился мне в горло мертвой хваткой. Я был с ним один на один, и горькая обида сжала мне сердце: никто понятия не имеет, что я борюсь со смертью! Я, словно утопающий, иду ко дну на глазах у толпы зевак, а они думают, что все это шуточки — им на потеху!
Пробежав немного, я упал и потерял сознание Очевидцы рассказывали мне, что было после. Силач Нельсон поднял меня на руки и понес на станцию. Он втащил меня в вагон и бросил на скамью, но я бился и хрипел. Не отличаясь чуткостью, Нельсон все-таки сообразил, что со мной дело плохо. Теперь я понимаю, что был тогда на волосок от смерти. Пожалуй, так близок к ней я не был никогда. Но я не знал, что со мной тогда твори лось, — это мне рассказал уже Нельсон.
Нутро мое горело адским пламенем, у меня было такое чувство, что я сейчас задохнусь. Воздуха! Воздуха! Я рванулся открыть окно, но оно не поддалось: все окна в вагоне были завинчены гайками. Нельсон решил, что у меня белая горячка и я хочу выброситься из окна. Все его попытки усмирить меня ни к чему не привели. Я схватил чей-то факел и трахнул по стеклу.
Надо сказать, что среди оклендских портовых пьяниц существовали две группировки: за Нельсона и против. В вагоне были представители обеих, причем сильно подвыпившие. Когда я разбил окно, противники Нельсона обрадовались случаю. Один из них размахнулся и дал мне в зубы, да так сильно, что я не устоял на ногах.
Это послужило сигналом для общей свалки. Обо всем этом я узнал потом; дополнительным свидетельством служила моя щека, к которой на следующий день невозможно было притронуться. Зато мой обидчик получил по заслугам и рухнул на меня, а Нельсон навалился на него сверху всем телом; после этого началось такое побоище, что скоро не осталось ни одного целого окошка, да и сам вагон едва не разнесли в щепки.
Пожалуй, это было мое счастье, что меня подбили и вывели из игры. Резкие движения, которые я делал во время драки, усиливали сердцебиение, и мои несчастные легкие требовали больше кислорода.
Когда драка кончилась и я открыл глаза, я был еще без сознания. Так тонущий человек, ничего не сознавая, машинально продолжает борьбу со стихией. Не помню, что я делал, но я до того отчаянно кричал: "Воздуха! Воздуха!", — что Нельсон сообразил:
положение серьезное и тут не пахнет самоубийством. Он вытащил из оконной рамы битое стекло и дал мне высунуться наружу по плечи и придерживал меня за пояс, чтобы я не выпал. Так я проехал до самого Окленда, отвечая буйным сопротивлением на все попытки Нельсона втащить меня обратно в вагон.
Только наглотавшись вволю воздуха, я почувствовал, что ко мне возвращается сознание. Единственное ощущение, запомнившееся мне с той минуты, когда я упал на тропинку под деревом, до той, когда проснулся на следующий вечер, было ощущение смертельного удушья: я стою, высунув голову из окна, поезд мчится, в ушах свистит ветер, искры от паровоза обжигают мне лицо, а я жадно открываю рот и никак не могу надышаться.
Я заставлял себя дышать как можно глубже, резкими, короткими вздохами накачивая в легкие как можно больше воздуха. Я понимал, что иначе смерть; у меня был опыт пловца, умевшего держаться под водой; в те мгновения, когда ко мне возвращалось сознание, возвращалось и ощущение мучительного удушья, и я спасался лишь тем, что подставлял лицо ветру и искрам и дышал, ненасытно дышал.
Больше ничего не помню. Я пришел в себя на следующий вечер в портовой ночлежке. Рядом со мной никого не было. Никто не вызвал доктора: я мог очень просто отдать Богу душу. Но Нельсон и остальные решили, что мне с похмелья лучше всего выспаться, и оставили меня одного в обморочном состоянии на целых семнадцать часов. Врачам известно, сколько людей гибнет от кварты виски. Обычно пишут, что это были опытные пьяницы, но они погибли оттого, что пили на пари — кто кого перепьет.
В то время я, конечно, этого не знал. Итак, я получил еще один урок. Тем, что я выжил, я обязан не доблести или заслугам, а счастливой судьбе и крепкому здоровью. Здоровье снова одержало верх над Джоном — Ячменное Зерно. Я спасся от новой западни, еще раз выкарабкался из трясины и, поняв всю степень риска, научился пить с большей осторожностью, чем прежде.
О Господи! С тех нор прошло двадцать лет, и — должен признаться — я не потерял времени даром: многое перевидал, многое пережил и сделал, потому я содрогаюсь каждый раз при мысли, что этих чудесных двух десятилетий могло и не быть. А ведь никак не скажешь, что Джон — Ячменное Зерно не потрудился надо мной во время кутежа с хэнкокскими пожарниками!
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Отправиться в дальнее плавание я задумал еще в начале зимы 1892 года. И вовсе не потому, что поездка с пожарниками в Хейуортс послужила мне уроком. Я по-прежнему пьянствовал и почти не вылезал из кабаков. Я понял, что виски не приводит к добру, но ничего предосудительного в нем не видел. Виски опасно, но не менее опасно и многое другое! Да, кое-кто умирает от виски, но разве не может случиться, что у рыбака перевернется лодка и он утонет? А с бродягами не бывает ли несчастных случаев:
попал под поезд — и готово! Если делать все с умом, тогда не страшны ни ветер, ни море, ни поезда, ни пивные! Люди пьют, пей и ты, только соблюдай осторожность, чтобы не повторились те времена, когда ты хлестал по целой кварте, если не больше!
Итак, я понял, что Джон — Ячменное Зерно ведет своих приверженцев к гибели, и потому решил отправиться в плавание.
Правда, смертная стезя представлялась мне еще довольно туманно, но я уже видел две тропы, кое-где переплетавшиеся. Прежде всего, присматриваясь к окружающим, я заметил, что жизнь, которую ведем мы, любители пьянства, куда опаснее, чем жизнь остальных людей.
Джон — Ячменное Зерно подавляет нравственные устои и толкает на преступления. Я убедился, что пьяный способен на такие дела, каких никогда бы не замыслил, если бы не выпил. Но это еще не самое страшное. Самое страшное — наказание. Преступление губит преступника. Мои собутыльники — в трезвом состоянии славные, безобидные ребята, — напившись, превращались в бандитов и головорезов. Их забирали в полицию, и мы уже ставили на них крест. Мне давали кое с кем из ник свидание перед отправкой на ту сторону залива в тюрьму. И очень часто я слышал из их уст: "Если бы я не был тогда пьян!.." По милости Ячменного Зерна творились такие чудовищные дела, которые потрясали даже мою огрубевшую душу.
Вторая смертная тропа уготовлена для хронического алкоголика. Такой может ни с того ни с сего протянуть ноги. Захворает какой-нибудь пустячной болезнью, ни для кого не опасной, и, глядишь, угаснет как свечка. И его, одинокого, неухоженного, найдут в один прекрасный день в постели мертвым. А иной утонет или станет жертвой несчастного случая, как Билл Келлй, например, который, будучи пьян, разгружал судно и ему оторвало палец. Могло бы с таким же успехом оторвать и голову.
И вот, прикинув свои шансы, я решил искать спасения от Ячменного Зерна. Этак быстро отправишься на тот свет, а при моей молодости и жизнелюбии такая перспектива меня не прельщала. Но как спастись? Только бегством. В заливе Сан-Франциско зимовала зверобойная флотилия, в кабаках я встречал шкиперов, охотников, рулевых и гребцов. Среди них был охотник на котиков Пит Холт, с которым я договорился о работе: он нанял меня гребцом на свою шхуну. Мы с Питом тут же скрепили наш новый союз выпивкой, пропустив рюмок по шесть каждый.
И сразу во мне ожила тяга к перемене мест, которую Джон — Ячменное Зерно старался усыпить. Кабацкая жизнь в Оклендском порту показалась мне невыносимой, и было даже странно, что я находил в ней до сих пор столько привлекательного. Я стал бояться за свою жизнь — как бы со мной не случилось чего-нибудь До отплытия, которое было назначено на январь. Я вел себя скромнее, меньше пил и чаще бывал дома. Я уклонялся от участия в пьяных оргиях приятелей, а когда на Нельсона находило буйство, избегал моего друга.
12 января 1893 года мне стукнуло семнадцать лет, а 20 января я подписал в вербовочном агентстве контракт на работу матросом на трехмачтовой промысловой шхуне "Софи Сезерленд", отплывавшей к берегам Японии. Что ж, вы думаете, мы не вспрыснули такое событие? Джо Виги разменял мой авансовый чек, и я поставил угощение; потом Пит Холт поставил угощение, за ним Джо Виги и другие охотники. Что поделаешь, так уж заведено у мужчин, и не мне, семнадцатилетнему юнцу, учить уму-разуму зрелых мужей, славных и отважных!
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
На "Софи Сезерленд" не было спиртного, и ничто не портило нашего безмятежного настроения. Пятьдесят один день плыли мы в южной полосе северо-восточного пассата к Вонинским островам.
Эта группа островов, расположенная в стороне от остальной Японии, была местом сбора канадской и американской промысловых флотилий. Здесь они запасались питьевой водой и ремонтировались перед выходом на трехмесячную охоту на котиков вдоль северных берегов Японии до Берингова моря.
Мирное плавание в течение пятидесяти одного дня без привычного пьянства замечательно укрепило мои силы. Организм очистился от яда, и я не испытывал никакого желания пить или вспоминать виски. Разумеется, на баке не обходилось без разговоров о выпивке, матросы рассказывали с юмором и заметным удовольствием про свои похождения по пьяной лавочке, видимо оставившие у них в мозгу более глубокий след, чем прочие события их богатой впечатлениями жизни.
Из баковых матросов самым старшим был Луис, толстый пятидесятилетний спившийся шкипер. Его погубил Джон — Ячменное Зерно, и он заканчивал свою карьеру так же, как и начинал, — баковым матросом. Этот пример произвел на меня очень сильное впечатление. Джон — Ячменное Зерно не всегда разит насмерть, иногда он губит и другим путем. Луиса он не убил, а поступил с ним гораздо злее. Он лишил его власти, места в жизни и жизненных благ, растоптал его самолюбие и сослал на галеры — Луису предстояло работать до конца дней простым Maтpocoм, a так как он обладал завидным здоровьем, то конец был еще весьма далек.
Мы завершили тихоокеанский рейс и, миновав поросшие лесом вулканические хребты Бонинских островов, проскользнули между рифами в хорошо защищенную гавань и бросили якорь там, где уже стояло десятка два морских бродяг, подобных нашей шхуне. С берега доносились запахи каких-то неведомых растений.
Туземцы на странных челноках и японцы на сампанах — еще более странных — сновали по заливу и карабкались к нам на борт.
В первый раз в жизни я был в чужой стране, приплыл за тридевять земель, чтобы собственными глазами увидеть то, о чем до сих пор читал только в книжках. Я сгорал от нетерпения поскорее сойти на берег.
Я заключил тройственный союз со шведом Виктором и норвежцем Акселем (мы стали так неразлучны, что в продолжение всего плавания нас называли "Святая Троица"). Высмотрев тропинку, которая ныряла в дикое ущелье и выбегала оттуда на крутую гору, покрытую застывшей лавой, а дальше петляла ввысь среди пальм и цветов, Виктор предложил, чтобы мы пошли по ней наверняка там очень живописные места, какие-нибудь необыкновенные туземные деревни и вообще тьма интересного.
Мы согласились. Аксель внес другое предложение — отправиться на рыбную ловлю. Мы и на это согласились с восторгом, решив раздобыть сампан и прихватить одного или двух японских рыбаков, которые знают хорошие места. Что касается меня, то мне было все любопытно, я готов был пойти куда угодно.
Посовещавшись, мы спустили шлюпку и, лавируя меж коралловых рифов, подошли к берегу. Там мы втащили свою шлюпку на белый коралловый песок и зашагали в глубь острова под тенью кокосовых пальм. Скоро мы очутились в центре маленького городка, где на глазах у горстки растерявшихся, беспомощных японских полицейских пили, пели и плясали, предаваясь буйному веселью, несколько сот матросов всех наций.
Виктор и Аксель заявили, что перед длинной прогулкой пешком необходимо опрокинуть по рюмочке. Смел ли я отказаться выпить с моими мужественными приятелями? Сдвинем стаканы, выпьем за дружбу! Таков обычай. Мы все смеялись над нашим капитаном, презирая его за то, что он трезвенник и ничего не пьет.
Мне в этот раз совершенно не xoтелось пить, но я не мог рисковать своей репутацией хорошего товарища и славного малого. Даже внезапная мысль о Луисе не остановила меня, когда я глотнул едкую, обжигающую жидкость. Да, его-то Джон — Ячменное Зерно подбил основательно, но ко мне это не относится: я молод!
У меня горячая алая кровь и организм железный! Что и говорить, молодость всегда презрительно посмеивается над разрушительным действием времени!
Нам подавали какой-то непонятный алкогольный напиток ужасной крепости. Происхождение его трудно было установить, вернее всего, это было что-то местное. Но зато этот бесцветный, как вода, напиток был горяч, как огонь, и валил с ног мгновенно.
Он был налит в плоские бутылки из-под голландского джина, на которых еще оставались старые этикетки с подобающим названием «Якорь». Для нас он в самом деле оказался якорем: дальше этого места мы не двинулись. И не пошли на сампане удить рыбу.
Пробыв в городке целых десять дней, мы так и не дошли до той тропинки, начинавшейся на голом склоне и убегавшей ввысь среди цветов и деревьев.
В городке мы встретили старых знакомых с других шхун, с которыми виделись в кабаках Сан-Франциско перед отплытием.
Встреча с каждым знакомым отмечалась выпивкой, потом следовал оживленный разговор, потом опять пили, пели песни и вообще валяли дурака, пока у меня не закружилась голова и все стало казаться замечательным: и эта обстановка, и люди, бражничающие на коралловом берегу, — крепкие закаленные морские волки, к которым я, грешным делом, причислял и самого себя. В мозгу завертелись образы старинных баллад: храбрые рыцари в огромном пиршественном зале, и на лучших местах за круглым столом те из них, кто признан наиболее достойным; викинги, едва успевшие вернуться из морских походов, но готовые по первому зову опять устремиться на битву… Нет, не прошли те времена, мы потомки этого славного древнего племени!
В середине дня Виктор совсем обезумел от пьянства и готов был колотить всех и вся. Я много перевидел на своем веку сумасшедших в палатах для буйных, чье поведение мало отличалось от того, что вытворял мой товарищ, но должен сказать, что те, пожалуй, вели себя спокойнее. Мы с Акселем то и дело вмешивались, пытаясь утихомирить разошедшегося приятеля, но за это на нас самих сыпались удары; под конец, пустив в ход разные уловки и всю свою пьяную хитрость, мы сумели увести его, втолкнуть в шлюпку и переправить на шхуну.
Но не успел Виктор ступить на палубу, как и там устроил дебош. Он был способен уложить семерых и в припадке пьяного буйства уже не отвечал за себя. Мне особенно запомнилась сценка с одним матросом, которого Виктор загнал в каморку, где хранились цепи. К счастью, тот забился в угол и только поэтому спасся, Виктор же расшиб себе в кровь кулаки о тяжелые звенья якорной цепи. Когда мы уволокли его оттуда, он в пьяном бреду переключился на другое: вообразил себя великим пловцом, прыгнул за борт и начал доказывать свои таланты, барахтаясь, как подбитый дельфин, и захлебываясь соленой водой.
Мы вытащили своего свихнувшегося компаньона, отвели в кубрик и, лишь раздев и уложив его на койку, почувствовали, что сами еле держимся на ногах. Но все же мне и Акселю казалось, что мы еще мало повидали, и мы снова отправились на берег, оставив Виктора храпеть на койке. Интересно, что говорили о Викторе другие матросы — сами не дураки выпить: "Да разве же можно такому человеку пить!" При этом они неодобрительно качали головами. Виктор был очень толковым матросом, и все на баке считали его прекрасным товарищем. Образцовый моряк во всех отношениях, он пользовался общей любовью и уважением. А вот Джон — Ячменное Зерно превращал его в одержимого. Это-то и встревожило остальных корабельных пьяниц. Они знали, что если хватить лишнего (а какой матрос не грешен в этом?), то можно свихнуться, но, разумеется, только чуть-чуть. Буйство не входило в программу. Оно портило удовольствие окружающим и подчас кончалось трагедией. Но легонько свихнуться — это казалось в порядке вещей! А я скажу: неверно! Разве может человечество мириться с безумием, как бы оно ни проявлялось? И кто еще способен так доводить людей до безумия, как Джон — Ячменное Зерно!
Но вернусь к моему рассказу. Побродив по городу, мы с Акселем попали в японский кабачок и, спокойно усевшись за столиком, принялись сравнивать, у кого из нас больше синяков.
Все было тихо и мирно, мы заказали какой-то напиток и не спеша потягивали его, вспоминая события дня. Мы были так рады посидеть в тишине, что решили выпить по второй порции. Спустя какое-то время туда заглянул один матрос с нашей шхуны, потом еще несколько, и мы степенно выпили всей компанией. После этою мы потребовали музыку, но тут, заглушая японские самисены и тайко, с улицы послышался отчаянный крик. Мы сразу догадались, кто это. С глазами налитыми кровью, дико размахивая могучими лапищами и бешено рыча, забыв про существование дверей и прорвав бумажные стены домика, в помещение ворвался Виктор. Его душила звериная ярость, он жаждал крови — безразлично чьей. Музыканты пустились наутек, мы тоже, кто через двери, кто сквозь стены, с одним лишь желанием — спастись.
Когда Виктор поутих и стал впадать в беспамятство, мы поладили с хозяином кабачка, уплатив ему за причиненные нашим товарищем разрушения, и отправились вдвоем с Акселем искать для выпивки местечко поспокойнее. На главной улице не прекращалось буйное веселье. Сотни матросов плясали и веселились напропалую. Понимая бессилие начальника полиции, который не мог образумить гостей с небольшим штатом блюстителей порядка, губернатор колонии издал приказ всем капитанам собрать людей по судам до захода солнца.
Что-о? Такое обращение! Едва эта новость облетела шхуны, всех, словно ветром, сдуло на берег. Даже те, кто и не собирался в город, стали прыгать в шлюпки. Злополучное распоряжение губернатора послужило поводом для всеобщего дебоша. Солнце уже давно скрылось, но все были полны задора: пусть попробуют выдворить нас отсюда! Больше всего народу собралось перед домом губернатора; толпа горланила матросские песни, с гиканьем и топотом отплясывала виргинскую кадриль и другие народные танцы, плоские бутылки с «Якорем» ходили по рукам. Полиция, хоть и усиленная резервами, была бессильна что-либо предпринять, и полицейские, сбившись в кучки, тоскливо ждали дальнейших распоряжений губернатора. Но тот, конечно, мудро воздерживался.
А мне вся эта вакханалия ужасно нравилась. Для меня словно возродились времена испанского владычества. Я видел лишь смелость и дерзание: вот как действуем мы, неустрашимые мореплаватели, среди японских бумажных домиков!
Губернатор так и не издал приказа очистить город, и мы с Акселем долго еще кочевали из одного кабачка в другой. Потом, уже порядком осоловев, я выкинул какой-то номер, в результате которого мы с ним потеряли друг друга. Оставшись один, я продолжал заводить новые знакомства, пил и все пуще пьянел.
Помню, в каком-то месте я подсел к компании японских Рыбаков, рулевых-гавайцев из нашей флотилии и молодого матроса-датчанина, недавно покинувшего Аргентину, где он подвизался в качестве ковбоя. Этот датчанин очень интересовался национальными обычаями и церемониями. Поэтому мы пили с полным соблюдением японского этикета сакэ — бесцветный тепленький и слабый напиток, который подавался в миниатюрных фарфоровых чашечках.
Еще мне запомнилась встреча с двумя парнями лет восемнадцати — двадцати из английских семейств средней руки. Беглые юнги, сбежавшие с кораблей, где они проходили учение, они в конце концов угодили на промысловые шхуны матросами. Это были здоровые, румяные, ясноглазые ребята, почти мои ровесники, приучавшиеся, как и я, к жизни среди мужчин. Впрочем, их уже можно было считать мужчинами. Пить слабенькое сакэ они не желали. Они требовали отравы похлестче, чем в бутылках из-под «Якоря», — отравы, которая жидким пламенем растекалась по жилам и воспламеняла мозг. Помню, эти ребята пели чувствительный романс с таким припевом:
Ты моя гордость, сынок,
Вот тебе мой перстенек
Если нагрянет беда,
Он защитит всегда
Песня тонула в пьяных слезах — для матери такой сын не гордость, а позор! И я пел и плакал вместе с ними, наслаждаясь трагедией их возвышенных чувств и стараясь делать в пьяном мозгу какие-то заключения о том, что такое жизнь и что такое романтика. И еще одна, последняя картинка, врезавшаяся мне в память (все остальное заволокло туманом времени): я и мои юнги стоим в обнимку, раскачиваясь из стороны в сторону, — над нами небо, усеянное звездами. Все поют развеселую матросскую песню, кроме одного матроса, который сидит на земле и рыдает; все отбивают такт и машут плоскими бутылками. Со всех сторон доносятся хриплые голоса, поющие такие же песни; и жизнь прекрасна, великолепна, романтична и полна головокружительного безумия.
Далее тьма, но вот я открываю глаза и в брезжущем свете дня вижу японку, заботливо склонившуюся надо мной. Это жена здешнего портового лоцмана — я лежу у двери ее дома.
Мне холодно, я дрожу и чувствую себя прескверно после вчерашнего кутежа. Почему я так легко одет? Ох эти проклятые юнги!
Сбежали и на этот раз! И мое добро прихватили! Пропали мои часы. Пропали деньги — ведь у меня оставалось несколько долларов. И куртки нет, и пояса. Даже башмаки утащили!
Вот так прошли все десять дней на Бонинских островах.
Я описал лишь один. Виктор пришел в себя после своего припадка и присоединился к нам, и мы снова продолжали попойки втроем, правда, теперь уже с некоторой осторожностью. Что касается тропинки среди цветов, — увы, мы так туда и не попали, не повидали горных красот. Зато мы вдоволь насмотрелись на городок и на бутылки из-под «Якоря».
Тот, кто обжегся, должен предупреждать других об опасности.
Я мог бы куда больше повидать, мог бы получить настоящее удовольствие от пребывания на Бонинских островах, если бы вел себя как следует. Впрочем, рассуждать о том, как следует себя вести, а как не следует, довольно бессмысленное занятие. Важно одно как ты себя ведешь фактически. Люди судят лищь по точным и неоспоримым фактам. Об этом-то я и рассказал. Я себя вел так же, как остальные моряки, попавшие на Бонинские острова, и как миллионы других мужчин, в какой бы части света они не находились в тот момент. Все толкало меня на этот путь: ведь я был мальчишка, правда, не трус, но и не Бог — в общем, обыкновенное существо, стремившееся подражать старшим, которые, если вам угодно, весьма ему импонировали — своей силой, здоровьем, гордостью, свободолюбием. А кроме всего прочего — щедростью:
они не дорожили и собственной жизнью!
На этом пути не стояло никаких препятствий. Он напоминал открытый колодец во дворе, где играют дети. Отважным малышам, которые еще и ходят-то еле-еле, но уже полны любопытства к жизни, бесполезно говорить. "Не подходи, опасно!" Все равно подойдут. Родители это знают. И знают, что кое-кто из детей, наиболее любознательных и смелых, непременно свалится в колодец. Есть только один верный способ уберечь их — закрыть колодец. Так и с Ячменным Зерном. Никакие слова и поучения не удержат зрелых мужчин и подрастающую молодежь от пьянства, если алкоголь будет неизменно доступен и его употребление будет символизировать отвагу, мужество и величие духа.
Единственная мера для народор двадцатого века — это за крыть колодец. Двадцатый век должен стать двадцатым веком по существу, а не пережитком древних веков. Всякие приметы варварства: сжигание ведьм, религиозная нетерпимость, фетишизм и тому подобное, должны быть изгнаны из нашей жизни, и среди них, далеко не последним, Джон — Ячменное Зерно,
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
От Бонинских островов мы устремились на север и, наткнувшись на стадо котиков, преследовали его в северном направлении. Мы охотились свыше трех месяцев, невзирая на трескучий мороз и сплошной туман, нередко прятавший солнце на целую неделю. Это была грубая, тяжелая работа, во время которой никто не пил и даже не помышлял о виски. Потом мы взяли курс на юг, на Иокогаму; мы везли большую партию котиковых шкурок и предвкушали хороший заработок.
Мне очень хотелось сойти на берег повидать Японию, но когда мы бросили якорь, нас заставили целый день чистить шхуну и отпустили на берег только вечером. И здесь все пошло по-заведенному, ибо так уж принято среди мужчин: Джон — Ячменное Зерно подхватил меня и увлек за собой. Капитан дал нашу долю денег охотникам, и нам велели ехать за ними в один японский кабачок, где нас будут ждать. Мы отправились туда на рикшах.
В кабачке распоряжались наши ребята. Виски лилось рекой. Все вдруг разбогатели, и все угощали друг друга. Кончились сто дней напряженной работы — прощай, вынужденная трезвость, прощай, дисциплина! Мы были здоровые, жизнерадостные люди и, конечно, стремились сперва выпить. А потом, говорили мы, пойдем осматривать город.
Ну, и повторилась старая история. Тосты следовали за тостами, волшебное тепло разливалось по жилам, голоса становились мягче, души тоже — не дай Бог кого-нибудь обидеть: как это с одним ты пьешь, а с другим не желаешь? Мы все товарищи, все вместе штормовали, вместе выбирали и травили снасти, сменяли друг друга у штурвала, вместе работали на кливере и каждый раз, после того как нос шхуны вырывался из-под волны, бросались смотреть, не смыло ли за борт кого-нибудь из нашей братии. Поэтому все пили и все угощали, голоса становились громче, пошли бесконечные воспоминания о великодушных товарищеских поступках; драки и ссоры были забыты, и каждый искренне верил, что те, с кем он пьет, — лучшие люди на свете.
Мы попали в этот кабачок в начале вечера, и до самого утра никакой Японии я не повидал, кроме этого кабачка — обыкновенного питейного заведения, каких и у нас, да и в каждой стране хоть отбавляй.
Мы простояли в Иокогаме две недели, но все наши впечатления о Японии ограничились, пожалуй, только портовыми кабаками. По временам для разнообразия устраивались особенно бурные оргии. После одной из них я совершил что-то вроде подвига, поплыв темной ночью к себе на шхуну, и, пока я спал мертвецким сном, морская полиция, обнаружив на берегу мою одежду, обшарила всю гавань в поисках трупа.
Может быть, ради таких удовольствий и напиваются, думал я.
В нашем узком мирке мою пьяную выходку сочли примечательным событием. Весь порт только и говорил об этом. В глазах японских лодочников и посетителей портовых кабаков я стал на несколько дней героем. Это был незаурядный случай, случай, которым я мог гордиться. Даже сейчас, вспоминая его двадцать лет спустя, я испытываю тайную гордость. Это был яркий момент в моей жизни; таким же удовольствием, наверное, было для Виктора превратить в развалины кабачок на Бонинских островах, а для беглых английских юнг — ограбить случайного знакомого, то есть меня.
Интересно, что я по-прежнему не мог понять, в чем кроются тайные чары Ячменного Зерна. Мне был противен алкоголь, пить не доставляло мне никакой радости, не прельщала меня и реакция, которую он производил на мой организм, — я в этой реакции не нуждался. Я пил потому, что пили люди, с которыми я общался, а также потому, что из гордости не мог допустить, чтобы их считали мужчинами, а меня нет. Но в душе я оставался сластеной и, пользуясь случаем, когда меня никто не видел, покупал конфеты и блаженствовал.
Под звуки разухабистой песни мы подняли якорь и вышли из Иокогамской гавани, держа курс на Сан-Франциско. Мы воспользовались северным пассатом, в корму нам дул сильный западный ветер, и за тридцать семь дней мы благополучно пересекли Тихий океан. Нам предстояло получить приличные деньги в окончательный расчет, и все эти тридцать семь дней мы, совершенно трезвые, только и делали, что строили вполне разумные планы насчет того, как их потратим.
Каждый прежде всего повторял фразу, которую вечно можно услышать на баке возвращающихся qyfloe: "Ну уж только не к этим шакалам в портовые гостиницы!" Затем высказывались сожаления о деньгах, ухлопанных в Иокогаме, а после каждый начинал мечтать вслух о самом заветном. Виктор, например, говорил, что, как только получит расчет в Сан-Франциско, даже и не взглянет на порт и на берег Барбари с его кабаками, а сразу побежит дать объявление, что ищет комнату с пансионом в скромной рабочей семье.
— Устроюсь и запишусь в танцкласс на недельку-другую, чтобы познакомиться с хорошими девушками и ребятами, — мечтал он. — Присмотрюсь к разным компаниям, начну ходить в гости и на вечера, буду жить на свои деньги — мне их хватит до января, а там наймусь опять на промысловую шхуну.
Пить он больше не станет, точка. Он знает, какой бывает конец, особенно у него: напьешься — и потеряешь рассудок, а заодно и деньги. По горькому опыту он знал, чем пахнет трехдневная пьянка с хищными портовыми шакалами, и можете не сомневаться, что он предпочтет прожить зиму, пользуясь разумными развлечениями в приятном обществе.
Аксель Гундерсон, который не любил танцев и прочих светских удовольствий, говорил так:
— Мне причитается много денег. Теперь я могу съездить на родину. Я уже пятнадцать лет не видел мать и родных. Вот получу Деньги и отошлю их домой, чтобы они там меня дожидались.
А сам поступлю на хороший пароход и еще подработаю до приезда в Европу. Получится кругленькая сумма вместе с теми — так много у меня еще никогда не было. Дома на меня будут смотреть, как на принца. Вы себе не представляете, какая в Норвегии Дешевая жизнь! Я сделаю всем подарки и смогу жить там, как миллионер, целый год. А потом опять уйду в море.
— У меня планы такие же, — заявил Рыжий Джон. — Я целых три года не получал писем из дома, а уже десять лет, как я оттуда уехал. В Швеции такая же дешевизна, как в Норвегии, Аксель. Я из крестьян, моя семья живет в сельской местности. Я тоже отошлю домой всю получку, и мы с тобой вместе наймемся на один пароход. Обогнем мыс Горн — и до свидания, Америка! Только давай уж выбирать хороший!
В результате этих разговоров Аксель так увлекся шведской идиллией, а Рыжий Джон — колоритными норвежскими обычаями, что оба возмечтали уехать вместе. Решили, что первые полгода они поживут у родственников Джона в Швеции, а вторые — у родственников Акселя в Норвегии. До конца плавания они были неразлучны, обсуждая на все лады эту единственную тему.
Джон Каланча был чужд родственных привязанностей. Но и плавать матросом ему надоело. Он тоже в портовые гостиницы больше ни ногой. Снимет, по примеру Виктора, комнату в тихой семье и поступит в морское училище учиться на шкипера. Остальные высказывались примерно в том же духе. Каждый божился, что наконец возьмется за ум и перестанет сорить деньгами. К черту ночлежки, портовые притоны, пьянство! Таков был общий девиз на баке.
Матросы стали бережливы. Такого благоразумия за ними никогда не водилось. Они больше не покупали старой одежды у эконома. Обойдемся своим тряпьем, говорили они, накладывая заплату на заплату самых фантастических размеров. Эти заплаты так и назывались. "Обратный рейс". Люди экономили даже на спичках, дожидаясь, пока двое или трое не набьют трубку.
Как только мы вошли в гавань Сан-Франциско и кончился врачебный осмотр, нашу шхуну окружили лодки с агентами портовых гостиниц. Они наводнили палубу, и каждый расхваливал свое заведение, и у каждого была за пазухой бесплатная бутылка виски. Но мы держались твердо и предложили им убраться подобру-поздорову, добавив на прощание несколько соленых словечек. Не желаем ни их гостиниц, ни их виски. Мы бережливые матросы-трезвеншши и знаем, как лучше потратить свои денежки.
Наконец, получив расчет, мы вышли из конторы на улицу с карманами, полными денег. Вокруг нас сразу завертелись портовые хищники. Наши ребята переглядывались. Мы пробыли вместе семь месяцев, и вот дороги наши расходятся. Остается выполнить последний, прощальный дружеский обряд (ничего не попишешь, так принято!).
— Ну пошли, ребята! — сказал шкипер.
Неизбежный кабак был рядом. Дальше — еще целая дюжина.
Когда мы входили, хищники так и вились вокруг. Некоторые из них последовали за нами внутрь, но мы не пожелали иметь с ними дела.
Мы выстроились в ряд у длинной стойки: шкипер, помощник, шестеро охотников, шестеро рулевых и пятеро гребцов. Одного гребца ке хватало: близ мыса Джеримо во время снежной бури мы погребли его в море, привязав к его ногам мешок с углем. Нас было девятнадцать, собравшихся, чтобы отметить прощание. Семь месяцев тяжелой работы и в шторм и в затишье были позади, и мы в последний раз смотрели друг на друга. Вряд ли придется снова встретиться: судьба гоняет моряков по белу свету. Девятнадцать человек собрались для прощального тоста. Шкипер угостил, мы выпили. Потом помощник выразительно оглядел нас и потребовал еще девятнадцать рюмок. Мы любили и его и шкипера — оба славные люди, — так можно ли, выпив с одним, отказать другому?
Следующим поставил угощение Пит Холт — охотник с моей лодки (он утонул через год, когда "Мери Томас" пошла ко дну вместе со всей командой). Время шло, рюмки то и дело наполнялись, кругом стоял веселый гул голосов, в голове у меня шумело.
Каждый из шести охотников требовал, чтобы мы выпили с ним хотя бы рюмку во имя святой дружбы. Шестеро рулевых и пятеро гребцов настаивали на том же. Все были при деньгах, каждый считал, что его деньги не хуже, чем деньги другого, и хотел показать свою щедрую, независимую натуру.
Рюмки наполнялись девятнадцать раз. Джон — Ячменное Зерно имел полное основание торжествовать победу. Куда девались все любовно выношенные планы? Команда вывалилась из кабака прямо в объятия портовых хищников. Матросских капиталов хватило ненадолго: кому на неделю, а кому на два дня. Когда все деньги были пропиты, хозяева гостиниц переправили гуляк на борт отплывающих судов. Красавец Виктор благодаря какомуто знакомству устроился в спасательную команду на пляже. Он так и не пошел учиться танцам и не напечатал объявления о том, что ищет комнату в рабочей семье. И Джон Каланча не поступил в морское училище. К концу недели ему посчастливилось наняться крючником на речной пароход. Рыжий Джон и Аксель не послали ни гроша родственникам в Скандинавию. Их, как и других матросов с нашей шхуны, раскидало в разные стороны, точнее, их спровадили на суда содержатели портовых гостиниц, и они отправились бороздить моря, чтобы вернуть этим шакалам мифические авансы, которых и в глаза не видали.
Меня спасло то обстоятельство, что у меня были родные и дом, куда я мог вернуться. Я переехал через залив в Окленд и, кстати, смог полюбоваться, как обстоят дела на дороге смерти.
Нельсона уже не было в живых: его застрелили, когда он в пьяном виде пытался оказать сопротивление полиции. Соучастник его сидел в тюрьме. Виски Боб исчез. Исчезли неизвестно куда и Старый Коул, и Старый Смудж, и Боб Смит. Другой Смит, с «Энни», тот, что носил пистолеты за поясом, утонул. Француз Фрэнк, по слухам, скрывался где-то в верховьях реки, боясь показаться в городе из-за каких-то провинностей. Многие друхие отбывали сроки наказания в Сан-Квентинской и Фолсомской тюрьмах. Алек Большой, Которого называли Королем греков, мой приятель и собутыльник по Венишии, совершил двойное убийство и бежал за границу.
Фитцсиммонс, с которым я служил в рыбачьем патруле, долго болел и умер; ему всадили нож в спину, поранили легкое, и все это осложнилось туберкулезом. И так далее и тому подобное, — на дороге смерти было полно имен, полно знакомых, и, судя по тому, что я знал об этих людях, все они были жертвами Ячменного Зерна, за одним только исключением: гибель Смита с «Энни» произошла не по его вине.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Мое увлечение Оклендским портом совсем прошло. И быт и нравы, царившие там, перестали меня привлекать. Пить и околачиваться без цели мне больше не хотелось. Я снова стал посещать Оклендскую бесплатную библиотеку, кстати разбираясь теперь гораздо лучше в том, что читал. С другой стороны, мать часто напоминала мне, что хватит бездельничать, пора остепениться и найти постоянное занятие. Наша семья очень нуждалась.
Поэтому я поступил на джутовую фабрику, где мне платили десять центов в час — доллар за десятичасовой рабочий день, то есть столько же, сколько на консервной фабрике несколько лет назад, хотя я стал сильнее да и работал лучше. Впрочем, мне обещали прибавку спустя некоторое время на двадцать пять центов в день.
Так начался у меня период добродетельной жизни. За несколько месяцев я не попробовал ни капли спиртного. Но здоровому, мускулистому восемнадцатилетнему парню, которого еще не успел изуродовать однообразный физический труд, необходимы хороший отдых и интересные развлечения, помимо чтения книг.
Однажды я забрел в Союз христианской молодежи. Там царил здоровый спортивный дух, но все это как-то отдавало детской. Мне было поздно включаться в такую жизнь. Я был не мальчик и не юноша, привык держать себя на равной ноге со взрослыми и, несмотря на юные годы, успел уже познакомиться со многими темными и страшными сторонами жизни. Молодые люди в Союзе христианской молодежи отнеслись ко мне как к человеку с другой планеты. Мы юворили на разных языках: благодаря жизненному опыту я чувствовал себя стариком по сравнению с ними (теперь, вспоминая это, я понимаю, что, в сущности, у меня никогда не было детства). Во всяком случае, ребята из Союза казались мне наивными младенцами. Но это было бы еще полбеды, если бы я чувствовал духовную поддержку со стороны моих новых знакомых. К сожалению, и этого не было: в книгах я тоже разбирался лучше, чем они. Их скудный практический багаж и столь же скудный интеллектуальный давали в сумме столь крупную отрицательную величину, что она перевешивала их моральные качества и успехи в области спорта.
Одним словом, мне было неинтересно играть с приготовишками. Я был лишен возможности жить такой же чистой, правильной жизнью, как они, потому что моим наставником долгое время был Джон — Ячменное Зерно. Я слишком рано узнал много лишнего. И все же с наступлением лучших времен, когда Джон Ячменное Зерно будет изгнан из нашей жини и люди перестанут испытывать в нем необходимость, Союзу христианской молодежи и, возможно, другим, более интересным и инициативным организациям выпадет честь развлекать тех, кто нынче находит свое призвание в пьянстве и спаивании других. Но пока что мы живем иначе, потому и будем говорить о современной жизни, которую знаем.
Я работал на джутовой фабрике по десять часов в день. Работа была нудная, монотонная. А мне хотелось жить. Мне хотелось проявить себя в чем-нибудь ином, не только ловко работая у станка за десять центов в час. При этом пивные и кабаки, разумеется, исключались. Я повзрослел и стал ощущать в себе новые склонности, волнующие желания, которых прежде не замечал. К счастью, в это время мне повезло: я познакомился с Луисом Шаттоком. Мы стали друзьями.
Луис был очень славный малый, ничуть не испорченный. Но он любил всякие безобидные шалости и мнил себя бог весть каким многоопытным городским ловеласом. А я себя к таковым не причислял. Луис был красив, очень обходителен и обожал женский пол. Свидания с девушками и романы поглощали его, как самый интересный спорт. Я же на этот счет был простаком. До сих пор я стремился проявлять мужество в других сферах. Любовная сторона жизни для меня не существовала. Посему, когда Луис однажды кинул мне: "Адье!" и, элегантно приподняв шляпу, поздоровался с какой-то знакомой девицей и тут же пошел ее провожать, меня кольнула зависть. Мне тоже захотелось участвовать в этой игре.
— Что ж, — сказал Луис, — заведи себе барышню — и все!
Но это было труднее, чем казалось. Разрешите мне сделать маленькое отступление, чтобы вам стало понятнее. Луис не встречался с девушками в семейной обстановке. Он не был вхож ни в какие дома, где имелись молоденькие дочки, а уж я-то и подавно.
Ведь это был совершенно новый для меня мир! Ни я, ни Луис не могли посещать танцклассы и танцевальные вечера, где обычно знакомится молодежь. У нас на это не было денег. Луис работал подмастерьем кузнеца и получал чуть побольше, чем я. Оба мы Жили с родными и платили за свое содержание. Стол и квартира, сигареты и самые скромные обновки поглощали львиную долю нашего заработка; на личные расходы ежедневно оставалось центов семьдесят, от силы — доллар. Мы складывались и делили деньги поровну, а в тех случаях, когда одному из нас предстояло свидание с какой-нибудь молодой особой, весь наличный остаток вручался ему: на трамвай в Блэр-парк и обратно — двадцать Центов, тридцать центов на две порции мороженого и в крайнем случае двадцать на мексиканское темали в специальном ресторанчике — дешевле угощения уже не было.
Безденежье меня не огорчало. Презрение к деньгам, которое я перенял от устричных пиратов, осталось у меня на всю жизнь.
Скопидомство не доставляло мне никакой радости; моя философия нашла воплощение в жизни: я был так же равнодушен к деньгам, не имея десяти центов в кармане, как тогда, когда собирал возле стойки товарищей и целую ораву прихлебателей и прокучивал с ними десятки долларов.
Но где все-таки найти барышню? В семействах, которые знал Луис, не было девушек. Собственных знакомых я еще не завел. А своих немногочисленных приятельниц Луис не собирался никому уступать, да так вообще не водится у молодежи. Впрочем, он иногда просил знакомых девушек привести для меня подружку, но ни одна из них мне не нравилась: все они казались какими-то замухрышками по сравнению с теми красотками, которых отбирал для себя Луис.
— Придется тебе действовать но моему, — сказал мне он в конце концов… — Я если захочу познакомиться, то знакомлюсь.
И тебе советую.
Вот так он меня учил. Не забудьте, что с деньгами у нас было туго. Нам было нелегко платить за стол и квартиру и сохранять мало-мальски приличный вид. Встречались мы с ним по вечерам после работы на улице, изредка в маленькой табачной лавчонке в тихом переулке. Это было единственное место, куда мы позволяли себе заходить. Там мы покупали сигареты, а иногда на пятачок жгучих мятных леденцов (да, я забыл сказать: мы с ним$7
Итак, я заговорил о девушках. По совету Луиса я должен был прибегнуть к самому простому способу: выбрать ту, которая мне понравится, подойти и познакомиться. Мы с Луисом обычно прогуливались по улицам. Девушки тоже прогуливались парами.
Если девушка заметит, что кто-то на нее смотрит, она и сама обязательно начнет постреливать в него глазками (я уже человек средних лет, но и поныне, в какой бы город или поселок я ни приезжал, мой наметанный глаз сразу подмечает милую, невинную игру взглядов мальчишек и девчонок, которым не сидится дома в весенние и летние вечера).
Беда была в том, что я, столько повидавший за свои юные годы, в этот идиллический период жизни вдруг оказался скромен и застенчив, как дитя. Луис все время меня подбадривал. Но я был далек от девушек. Они мне казались какими-то неземными созданиями. В критический момент я трусливо пасовал.
Тогда Луис приступал к практическим урокам: выразительный взгляд, улыбка, решительное движение, галантный поклон, удачное словцо, в ответ смущение, хихиканье, кокетливо потупленные глазки; глядишь, мой друг уже познакомился и кивает мне головой: иди, мол, сюда, представлю! Но как только мы разделялись на пары, я неизменно убеждался, что себе Луис выбрал хорошенькую, а мне оставил дурнушку.
Со временем, после разных историй, в подробности которых сейчас не буду входить, я, конечно, приобрел некоторый опыт в таких делах, у меня появилось много знакомых девушек, я тоже научился вежливо снимать шляпу, и они благосклонно соглашались прогуляться со мной вечерком. Но завоевать девичье сердце мне удалось не сразу. Я нервничал и горячился. За все это время меня ни разу не потянуло в пивную. Позже, в зрелые годы, занимаясь социологическими обобщениями, я много размышлял насчет наших романтических авантюр. Все это было прекрасно.
овеяно чистотой молодости, и мое обобщение может относиться скорее к сфере биологии, нежели социологии. Смысл ею примерно таков: если исключить различие р одежде, то "знчтная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны".
Вскоре пришел и мой черед удостоиться любви девушки, и я узнал всю прелесть нежного чувства. Назовем это милое существо Хейди. Ей еще не исполнилось шестнадцати лет, и она носила юбочку, едва доходившую до краев ее высоких ботинок. Мы оказались рядом на собрании Армии Спасения, но Хейди не принадлежала к этой организации, и ее тетка, сидевшая рядом с ней по другую руку, тоже нет, — она заглянула сюда на полчаса из любопытства: она жила в деревне, а в ту пору у них там этого еще не было. Луис присутствовал тут же и наблюдал за нами, — мне кажется, что он ограничивался наблюдением по очень простой причине: Хейди не принадлежала к тому типу женщин, который ему нравился.
Мы не разговаривали в эти незабываемые полчаса, а только робко переглядывались, сразу же отводя глаза в сторону, но все же несколько раз наши взгляды встретились. У нее было худенькое продолговатое лицо и прелестные карие глаза. А носик просто очаровательный и рот тоже, хоть и немножко капризный. На ней был шотландский беретик, из-под которого выбивались каштановые волосы, — такого красивого оттенка волос я никогда не видел. Эти полчаса убедили меня на всю жизнь, что любовь с первого взгляда не выдумка.
Я не долго блаженствовал: Хейди и тетушка ушли, не дождавшись конца (это не возбраняется в Армии Спасения), после чего собрание утратило для меня всякий интерес, и, посидев для приличия еще две-три минуты, мы с Луисом тоже направились к выходу. Но тут из задних рядов поднялась одна женщина и устремилась вслед за мной. Я не стану ее здесь описывать. Она была из той компании, с которой я вел дружбу и порту, и, увидев, узнала меня. Нельсон умер у нее на руках, и она помнила, что я был его единственным другом. Ей хотелось рассказать мне, при каких обстоятельствах он был убит, и я сам хотел это знать. И вот я шагнул от зарождающейся юношеской любви к девушке в берете — назад, в мир изведанных диких чувств.
Едва дослушав печальный рассказ, я побежал искать Луиса в страхе, что, даже не разглядев как следует свою первую любовь, я уже ее потерял. Но Луис был надежный малый. Он объявил мне, что ее зовут Хейди и ему известно, где она живет. Она ходит каждый день мимо его кузницы в школу Лафайета и обратно домой. Кроме того, он видел ее несколько раз с другой школьницей — Руфью и с третьей — Нитой, подружкой Руфи, у которой мы покупаем леденцы в табачной лавочке. Сделаем так: пойдем к Ните и попросим ее передать Руфи записочку для Хейди. Если это удастся, мне только останется написать записку.
Маневр удался. Выкраивая время для получасовых встреч, я познал счастливое безумие юношеской любви. Принято считать, что это не самая сильная любовь на свете. Может быть! Но что она самая нежная, это я со всей смелостью утверждаю! О, как все было прелестно! Ни у одной девушки не было более робкого поклонника, чем я, хотя я был весьма основательно и не по возрасту испорчен. Но я совершенно не знал девушек. Король устричных пиратов, побывавший в дальних краях на правах взрослого, мае тер управлять судном в непогоду и шляться по самым гнусным портовым притонам, всегда готовый принять участие в кабацкой драке, а затем угощать у стойки всю команду, я терялся, не зная, как обращаться с этой тоненькой девушкой-подростком в короткой юбчонке, чья наивность была пропорциональна моей житейской мудрости, кладезем которой я себя мнил.
Помню, мы сидели вдвоем на скамейке под звездным небом.
Нас разделяло изрядное расстояние — наверно, фут. Мы сидели вполоборота друг к другу, положив локти на спинку скамейки, и только раз или два наши локти соприкоснулись. Млея от счастья, я что-то говорил, осторожно подбирая слова — как бы нечаянно не оскорбить ее нежный слух! И все это время я силился сообразить, что мне сейчас надо делать. Чего ждут девушки от влюбленных, которые сидят с ними рядом? Чего ждет от меня эта девушка? Чтобы я поцеловал ее? Может быть, попробовать? Если она этого ждет, а я ее не поцелую, что она обо мне подумает?
Теперь я понимаю: она оказалась мудрее меня, эта маленькая девушка-подросток в коротенькой юбке. Она часто встречалась с мальчиками и сейчас кокетливо, по-женски как бы благословила меня. Она сняла перчатки и держала их в руке. Не помню, что я сболтнул, но этим ее прогневил, и она легонько похлопала меня своими перчатками по губам. Я чуть не задохнулся от восторга, У меня до сих пор сохранилось в памяти нежное благоухание духов, которые источали эти перчатки.
И тут меня стали одолевать сомнения. Что же дальше? Схватить эту ручку, машущую перед моим носом душистыми перчатками? Поцеловать мою Хейди или раньше обнять? Или при f двинуться к ней поближе?
Я не сделал ни того, ни другого, ни третьего. Просто не отважился. Сидел, как пень, и томился от любви. И, прощаясь с ней, не поцеловал ее. Я помню наш первый поцелуй: это было в другой раз, тоже вечером, в минуту прощания. Я призвал себе тогда на помощь всю свою смелость — и отважился! Мы с ней встречались украдкой раз десять и целовались тоже раз десять, не больше, — как целуются мальчишки и девчонки: торопливо, безгрешно, словно удивляясь чему-то. Я никуда не мог ее пригласить, даже на дневной спектакль в театр. Только раз угостил леденцами за пять центов. Но мне кажется, что я ей нравился. О себе и не говорю: я был по уши влюблен и мечтал о ней больше года. Память об этой любви мне дорога до сих пор.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
В присутствии непьющих людей я никогда не думал о выпивке.
Луис не пил. Ни я, ни он не могли себе этого позволить, и — что еще более важно — ни я, ни он не испытывали подобных желаний.
Мы были нормальные, здоровые, трезвые юноши. Если бы нас тянуло к алкоголю, мы, при всей нашей бедности, наверняка нашли бы к нему дорогу.
Каждый вечер после работы мы шли домой ужинать. Потом, умытые и чисто одетые, встречались на углу или в табачной лавочке. Но теплая осень кончилась, а в стужу и в слякоть фланировать по улицам не так-то приятно! Табачная лавчонка не отапливалась. Нита или другой, кто был за прилавком, спешили удалиться в заднюю комнатку, где топилась печь. Нас туда не приглашали, а в лавке было холодно, как на дворе.
Как быть? Единственный выход — отправиться в пивную, где собираются мужчины, где они водят дружбу с Ячменным Зерном.
Я хорошо помню ветреный сырой вечер, когда мы, дрожа без пальто, потому что купить их было не на что, решили зайти в пивную.
Там всегда тепло и уютно. Мы шли туда без всякого желания пить, хотя и знали, что это не благотворительное учреждение и там нельзя сидеть, ничего не заказывая.
Денег у нас было очень мало. Мы не могли позволить себе истратить мелочь, которая была нужна на трамвай, если придется встретиться с девушками (одни мы никогда не ездили, а ходили только пешком). Но, попав в пивную, мы решили использовать свои деньги как можно лучше. Потребовали колоду карт, уселись за столик и целый час играли в экрю. Первый раз Луис заказал пиво, второй раз я: две кружки за десять центов — Дешевле ничего не было, но даже это мы уплатили скрепя сердце.
Мы разглядывали посетителей. Это были почти все пожилые рабочие, главным образом немцы, встречавшиеся здесь со своими знакомыми и не обращавшие на нас внимания. Нам не понравилось в этой пивной, и мы ушли оттуда недовольные, потеряв вечер и выбросив двадцать центов на совершенно ненужное нам пиво.
Потом, в другие вечера, мы заходили еще кое-куда и под конец попали в "Националы) — пивную на углу улиц Десятой и Франклина. Здесь собиралась более приятная публика. Луис встретил каких-то знакомых, я — прежних соучеников, с которыми ходил в школу, когда еще носил короткие штанишки. Мы вспоминали разных ребят, спрашивали, где тот, где этот, и, конечно, пили. Сперва они угощали нас. Потом, как водится, мы угощали их. Это было ужасно досадно, ибо уменьшило наши капиталы на сорок — пятьдесят центов.
Мы хорошо провели вечерок, но и здорово обанкротились.
Ухнули сразу все деньги, отложенные нами на неделю. Все-таки мы решили ходить в эту пивную, только быть поэкономнее. На ату же, предстоящую, неделю мы ввели жесточайший режим.
Пришлось отменить свидание с двумя девушками из Западного района, с которыми мы собирались завести флирт. Мы должны были встретиться с ними на следующий вечер, но отказались от этого удовольствия: не осталось денег на трамвай, чтобы проводить девушек домой. Как многие люди, попавшие в финансовые затруднения, мы были вынуждены прервать свою "светскую жизнь" по крайней мере до субботней получки. Пришлось нам с Луисом назначать друг другу свидания в конюшне и до конца нашего добровольного отшельничества играть там вдвоем в экрю и казино, трясясь от стужи, несмотря на застегнутые по самое горло куртки.
Мы частенько ходили в "Националы), но тратили лишь ту минимальную сумму, которая необходима, чтобы провести вечер в тепле. Иногда, впрочем, на нашу голову сваливалась нежданная беда: например, два раза подряд нас втягивали в игру в санчопедро на выпивку впятером. Такая трагедия могла влететь в целое состояние — от двадцати пяти до восьмидесяти центов, — иди знай, сколько партнеров потребуют пива по десять центов кружка! Правда, у нас теперь появилась возможность временно избежать краха: мы завели в этой пивной кредит. Но ясно, что такая ситуация лишь оттягивала роковой час расплаты и склоняла к большим тратам, чем если бы мы платили сразу. (Когда весной следующего года я внезапно покинул Окленд, я не успел уплатить владельцу пивной доллар семьдесят пять центов, а вернувшись в город через несколько лет, уже не нашел этого человека. Так и остался мой долг неоплаченным, и если моему кредитору случится прочесть эти строки, пусть он имеет в виду, что я готов расплатиться с ним по первому требованию!)
Этот пример с «Националом» я привожу, чтобы еще раз показать, что Джон — Ячменное Зерно пользуется всеми средствами воздействия — от приманки до грубой силы — при таком общественном устройстве, когда кабаки торчат на каждом углу, на каждом перекрестке. Мы были здоровые, молодые парни. Нас вовсе не соблазняла выпивка, да и денег на нее у нас не хватало. Но в дождь и стужу нам некуда было деться, и мы поневоле шли в кабак и тратили последние гроши на пиво. Некоторые критики могут возразить мне, что мы могли с таким же успехом пойти в Союз христианской молодежи, в вечернюю школу, в какойнибудь кружок или, наконец, к друзьям своего возраста. На это я им ничего толком не отвечу, знаю лишь, что мы не шли. Не шли, и дело с концом. И в настоящее время вы найдете сотни тысяч таких же юношей, как мы с Луисом, которых манит и зазывает Джон — Ячменное Зерно, хватает под руку и тащит в теплый, уютный кабак, где с присущим ему коварством понемногу превращает в пьяниц.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Хозяева джутовой фабрики не выполнили своего обещания прибавить мне двадцать пять центов в день, и, как свободный гражданин Соединенных Штатов, прямые предки которого сражались во всех американских войнах, начиная от самых первых битв колонистов с индейцами еще задолго до революции, я воспользовался своим правом на свободный труд и заявил, что порываю с ними всякие отношения.
По-прежнему полный решимости найти себе постоянное занятие, я понимал, что быть неквалифицированным рабочим невыгодно. Надо овладеть какой-нибудь специальностью, скажем электротехникой. Спрос на электриков все время растет. Но как научиться этому делу? Поступить в техническую школу или в университет я не мог: денег но было, а главное, я не испытывал должного почтения к храмам науки. Я считал себя практичным человеком, какие нужны в этом практическом мире. К тому же я тогда еще верил в легенды, которые во времена моего детства в Америке всасывались с молоком матери.
Мальчишка-лодочник сумел стать президентом. Любой подросток, поступивший на службу в торговую фирму, может подняться по служебной лестнице до положения младшего компаньона фирмы, если он предан делу и проявляет рвение, бережлив и не пьет спиртных напитков. А уж потом стать старшим компаньоном — всего лишь вопрос времени. Очень часто, если верить легенде, этот малый, доказав серьезность своих намерений, женится на Дочери хозяина. Теперь, обретя некоторый опыт по части обращения с прекрасным полом, я уверовал в свой успех. Я женюсь на Дочке хозяина! Какие могут быть сомнения? Все герои американских легенд добивались этого, едва отрастив усы!
Поставив крест на всяких приключениях, я отправился на электрическую станцию, которая снабжала током одну из линий городского трамвая. Меня принял сам директор в своем кабинете, обставленном с такой роскошью, что я был буквально потрясен. Но я все-таки отважился и заговорил… Я сказал директору, что хочу стать электромонтером, никакая работа меня не страшит, — я привык к тяжелому труду, а что касается моей физической пригодности, то пусть он посмотрит на меня и убедится. Я сказал ему, что готов начать с самой маленькой должности и пробивать себе дорогу собственными усилиями, что я хочу целиком посвятить себя именно этой профессии и его почтенному учреждению.
Директор слушал меня с благосклонной улыбкой. С такими принципами я пойду далеко, заявил он. Его долг — поддерживать молодых американцев, которые стремятся самостоятельно пробивать себе дорогу. Предприниматели всегда ищут таких юношей, как я, но, к сожалению, находят их крайне редко. Мое желание достойно наивысшей похвалы, и он постарается дать мне возможность проявить себя в полной мере (я внимал ему с радостно бьющимся сердцем и думал: не его ли дочка станет моей женой?).
— Прежде чем получить самостоятельный участок, где вы столкнетесь со всеми сложностями и тонкостями профессии, — предупредил он, — нужно будет еще поработать в депо, где производится ремонт и установка моторов. (Тут я окончательно решил, что это будет именно его дочка, и принялся гадать о другом: много ли у него акций трамвайной компании?)
— Но имейте в виду, — продолжал директор, — что без подготовки никто вас не назначит помощником. Место в цехе надо еще заслужить. В депо надо начинать с более скромной роли — уборщика. Подметать пол, мыть окна, поддерживать порядок в помещении… Когда вы докажете, что справляетесь с этими обязанностями, тут уже вас могут назначить помощником электромонтера.
Мне было не вполне ясно, каким образом подметание и уборка помещения служат подготовкой к профессии электромонтера, но в книжках, как правило, все начинали с черной работы и благодаря своему усердию под конец становились владельцами всего предприятия.
— Когда выходить на работу? — спросил я, желая как можно скорее начать головокружительную карьеру.
— Поскольку мы с вами оба понимаем, что начинать нужно с самой нижней ступеньки, — сказал директор, — имейте в виду, что депо — это уже гораздо выше. Надо еще поработать в машинном отделении смазчиком.
У меня сердце екнуло: путь к хозяйской дочке становился все длиннее. Но в следующий миг я успокоился. Ничего, легче будет стать хорошим электротехником, если знать как следует паровые двигатели. Работая в громадном машинном зале смазчиком, я изучу каждый винтик, каждую гайку. Господи! Будущее снова сияло передо мной радужными красками.
— Когда выходить на работу? — повторил я прочувствованным тоном.
— Погодите. И машинное отделение еще не самая первая ступень, — сказал он. — Туда тоже нельзя поступить без предварительной подготовки. Начинать надо, естественно, с котельной.
Я вижу, что вы толковый малый, значит, должны понимать, что даже засыпка угля — целая наука, а вовсе не пустяк, как кажется некоторым. Да будет вам известно, что весь уголь, предназначенный для топки, мы тщательно взвешиваем и, таким образом, изучаем тепловой коэффициент разных сортов. Мы точно знаем себестоимость нашей продукции и следим за кочегарами, чтобы они — по глупости или недобросовестности — не разбазаривали уголь. — Директор снова осклабился. — Видите, как много значит такой на первый взгляд незначительный вопрос? И чем больше знаний у вас будет в этой области, тем более ценным работником вы станете: приобретете уважение и в наших глазах и в своих собственных. Ну как, согласны?
— Безусловно, — храбро ответил я. — Чем скорее, тем лучше.
— Вот и отлично. Явитесь завтра в семь часов утра.
Меня повели и показали, в чем будут заключаться мои обязанности. Сообщили условия: десять часов работы, не исключая праздников и воскресных дней, один выходной день в месяц.
Жалованье тридцать долларов. Не очейь-то жирно! Ведь я уже несколько лет назад получал на консервной фабрике тот же доллар за десять часов! Впрочем, утешал я себя, мне до сих пор никто не платил больше, потому что я не имею квалификации. Отныне все будет иначе. Я поступаю сюда, чтобы изучить ремесло, получить специальность и сделать карьеру, добиться богатства и руки директорской дочки.
Начинаю же я, как полагается, с азов. По всем правилам.
Я подаю уголь кочегарам, те засыпают его в топку, тепловая энергия превращается в пар, пар — в электричество, а там уже колдуют электромеханики. Без сомнения, с подачи угля начинается все, — если, конечно, директору не вздумается направить меня в шахту, где добывают уголь, чтобы я получил еще более полное представление об источниках электрической энергии, приводящей в движение трамвай.
Работа! Мне приходилось уже работать бок о бок с мужчинами, но казалось, что то была просто игра. Какое там десять часов! Я подавал уголь для обеих смен и, даже не отдыхая в обеденный перерыв, ни разу не управился раньше восьми вечера.
Я работал по двенадцать-тринадцать часов в день и не получал сверхурочных, — не то что на консервной фабрике.
Почему? Открою вам секрет, не удивляйтесь! Я выполнял работу двух человек. До моего поступления дневную смену обслуживал один сильный взрослый рабочий, а ночную — другой, тоже, конечно, взрослый и сильный. Каждому платили сорок долларов в месяц. А директор, чтобы сэкономить, заставил меня работать за двоих и назначил мне тридцать долларов. Я-то думал, что он готовит меня в электромонтеры. А он просто хотел сберечь компании пятьдесят долларов в месяц.
Но я не знал, что работаю за двоих Мне этого никто не сказал: директор предупредил всех, чтобы мне не смели юворить.
В первый день я просто лез из кожи вон, гак (таралсл: с молниеносной быстротой наполнял углем железную тачку, бегом кагил ее на весы, взвесив, мчался в котельную и вываливал уголь перед топкой.
Работа! Я делал больше, чем те двое взрослых, вместо которых наняли меня. Каждый из них подвозил уголь к котлам и сваливал на чугунные плиты перед топкой. Я же мог это делать только для дневной смены, а для ночной должен был складышть уголь в кучу у стены котельной. Помещение было тесное, первоначально оно предназначалось для подсобных целей. Мне приходилось готовить на ночь целую гору и подпирать ее толстыми бревнами, а потом забрасывать уголь наверх лопатой.
В это первое утро я весь взмок от пота, но не снижал темна, хотя чувствовал, что изнемогаю. К десяти часам утра я израсходовал столько энергии, что успел проголодаться. Я вытащил толстый ломоть хлеба с маслом, который принес на обед, и, весь в угольной пыли, жадно съел его стоя, хотя от усталости у меня подгибались колени. К одиннадцати часам мой обеденной, котелок был уже пуст.
Ладно, не все ли равно! Зато я смогу теперь работать весь перерыв.
Прошел перерыв и вторая половина дня. Наступил вечер, зажгли свет, а я еще работал. Ушел дневной кочегар, заступил на вахту ночной. А я все таскал и таскал уголь.
В половине девятого, голодный и совершенно без сил, я смыл с себя грязь, переоделся и побрел к трамваю. До дома было три мили; мне выдали служебный трамвайный билет, предупредив, однако, что я могу сидеть только в том случае, если на мое место не найдется желающих из числа платных пассажиров. Я забился в уголок на задней площадке, моля Бога, чтобы никто не согнал меня с места. Вагон постепенно наполнялся. Я не успел проехать и полпути, как вошла женщина, для которой уже не оказалось места. Я сделал попытку встать и — о ужас! — не смог Холодным ветром меня словно ггрижало к скамье. Всю дорогу я промучился, стараясь расправить ноющие суставы и мускулы, чтобы наконец вылезти и встать на подножку. Когда трамваи подошел к нашей остановке, я спрыгнул и только чудом не рухнул на землю.
С трудом волоча ноги, я одолел два квартала до дома и, при храмывая, ввалился в кухню. Пока мать готовила мне ужин, я на кинулся на хлеб с маслом, но, даже не успев утолить голод и не дождавшись, пока дожарится мясо, заснул как убитый. Сколько мать ни старалась меня растормошить, я так и не проснулся и m съел свою порцию мяса. Видя, что это дело гиблое, она позвал, на помошь отца, и вдвоем они потащили меня в комнату. Там и свалился на постель как подкошенный. Родители раздели меня и укрыли, а утром началась новая пытка: опять не могли добудиться! Я еле поднялся, а тут прибавилась еще беда: распухли кисти. Зато я наелся досыта, вознаградив себя за пропущенный накануне ужин, и взял с собой на работу вдвое больше еды, чем вчера.
Да, работенка! Разве может восемнадцатилетний парень перелопатить больше угля, чем двое взрослых сильных рабочих? Ничего себе работа! Уже задолго до обеденного перерыва я съел все, что принес с собой, до крошки. Но я был исполнен желанием доказать этим людям, на что способен сильный парень, решивший пробить себе дорогу. Как на грех, руки распухали все больше и отказывались служить. Кто не знает, как больно ступить на ногу, когда растянешь сухожилие! Представьте же себе, какая пытка нагребать лопатой уголь и таскать тяжелую тачку, когда на обеих руках растянуты связки!
М-да, это была работа! Я много раз присаживался то тут, то там в укромном уголке и плакал от унижения и злобы, усталости и отчаяния. Второй день был самым мучительным, и если я выдержал тринадцать часов, даже заготовив весь уголь для ночной смены, то только благодаря дневному кочегару, который перетянул мне кисти широкими ремешками. Он так крепко их замотал, что они оказались словно в гипсе. Эти ремешки просто спасли меня: сняли нагрузку с кистей и помешали опухоли распространиться.
Так я учился на электромонтера. Что ни вечер, я с трудом добирался до дому и, не успев кончить ужин, засыпал за столом.
Меня волокли в кровать и раздевали, как маленького. Каждое утро, набрав с собой кучу еды, словно отправляясь в голодный край, я шел, согнувшись в три погибели, на работу.
Я больше не менял книги в библиотеке. Не назначал свиданий девушкам. Я превратился в рабочую скотину. Работал, ел и спал, а мозг мой все время находился в состоянии спячки. Это был какой-то кошмар. Я работал ежедневно, по воскресеньям тоже, задолго уже начав мечтать о том единственном свободном дне, который мне дадут в конце месяца, — вот когда я отосплюсь в свое удовольствие! Буду валяться целый день в постели и бездельничать!
Но странная штука: за это время я ни разу не выпил и даже не вспомнил об алкоголе. А между тем мне было известно, Что от сильного переутомления люди запивают. Я видел такие случаи и даже испытал это на себе. Но я был предельно чужд Алкоголизма, и мне в голову не приходило, что, если выпить, станет легче. Зачем я привожу этот пример? Чтобы показать, что у меня не было потребности в алкоголе. Только со временем, спустя уже много лет, от частого общения с бутылкой я стал испытывать явную тягу к Ячменному Зерну.
Я часто замечал, что дневной кочегар поглядывает на меня как-то странно. Наконец однажды он заговорил, предварительно взяв с меня клятву, что я никому ничего не скажу. Директор пригрозил, что, если он проболтается, ему несдобровать. Затем он рассказал мне о двух уволенных рабочих и о том, сколько они получали. Я один делаю за тридцать долларов то, что двое других делали за восемьдесят. Он бы мне и раньше рассказал, но был уверен, что я все равно не выдержу и уйду. Губишь себя, малый, а что толку-то? Сбиваешь цену на труд, лишил двоих работы — вот тебе и все!
Бежать за расчетом? Нет, я американец, я человек гордый.
Я доработаю до конца дня и докажу директору, что я силен и вынослив. Уволюсь потом, и пусть он знает, какого хорошего работника потерял.
Так я по глупости и сделал: трудился, как вол, пока к шести часам не кончил заготовку угля для ночной смены. На этом кончилось мое обучение электротехнике, ради которого я пошел работать за жалкие тридцать долларов. Дома я завалился спать и проснулся лишь на вторые сутки.
Счастье мое, что я поработал недолго и не успел надорваться. Впрочем, кожаные браслеты на руках я проносил потом целый год. Мой трудовой пыл сменился полным отвращением к физической работе. Я попросту не желал работать. Даже думать об этом мне было противно. Наплевать, если никогда не устроюсь прочно! К черту всякое ремесло и учение! Куда веселее бродячая жизнь! И вот, снова став искателем приключений, я взял курс на восток, путешествуя в товарных вагонах.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Однако стоило мне вернуться к поискам приключений, Джон — Ячменное Зерно опять оказался тут как тут. Я кочевал по чужим городам, и где, как не за кружкой пива или стаканом виски, можно было познакомиться с людьми и набраться впечатлений? Иногда это была встреча в кабаке с подвыпившими местными жителями, иногда разговор с приветливым железнодорожником, уже изрядно заложившим за воротник, но имевшим в карманах про запас еще пару фляжек, иногда выпивка с кучкой отпетых «алки» в какомнибудь подозрительном притоне. Пили даже в тех штатах, где спиртные напитки были официально запрещены, например в Айове. Помню, я слонялся по главной улице Де-Мойна в 1894 году, и совершенно незнакомые люди зазывали меня в подпольные распивочные: парикмахерские, слесарные мастерские, мебельные магазины. И везде мы отдавали обильную дань Бахусу.
Куда ни повернись, он был всюду. В те благословенные времена даже бродяги могли позволить себе раздавить рюмку довольно часто. Даже в тюрьме в Буффало мы умудрились устроить грандиозную попойку, а выйдя на свободу, опохмелились, выклянчив деньги на улице у прохожих.
Меня не соблазняло пьянство, но там, где пили другие, не отставал и я. Всегда я подбирал себе в компанию живых, интересных людей, а эти-то как раз пили больше всех. Зато они были настоящие товарищи и по большей части темпераментные, своеобразные личности. Пожалуй, именно из-за своего темперамента они и пренебрегали обыденным, будничным, ища утехи в обществе Ячменного Зерна. Так или иначе, эти люди, дружившие с Ячменным Зерном, притягивали меня больше других.
Мои скитания по Соединенным Штатам изменили во мне ряд былых представлений. Я был бродягой и, находясь за сценой или, вернее, под сценой, не играл никакой роли в жизни американского общества. Зато снизу было виднее, как действуют механизмы, приводящие в движение колеса общественной машины.
В частности, я узнал, что физический труд вовсе не пользуется тем почетом, о котором разглагольствуют учителя, проповедники и политиканы. Люди без ремесла представляют собой жалкое, беззащитное стадо Даже владеющие ремеслом должны состоять в профсоюзе, чтобы оградить свое право зарабатывать кусок хлеба.
Профсоюзы всеми средствами борются с предпринимательскими союзами за повышение заработной платы и уменьшение рабочего дня: когда не действуют угрозы, прибегают к пулям. Теми же методами пользуются их противники. Я не видел, чтобы рабочему оказывали почет. Когда он старел или с ним приключалась беда, его просто выкидывали на мусорную свалку, как негодную машину Я знал много таких, которые доживали свой век, отнюдь не окруженные почетом.
Итак, мои новые представления сводились к тому, что физический труд не в почете и не стоит на него делать ставку. Не надо мне ни ремесла, ни директорской дочки! И подальше от преступлений: они до добра не доведут. Преступника ждет такой же несчастный конец, как и рабочего. Нынче в цене не физическая сила, а мозг. Не буду, решил я, продавать свои мускулы на невольничьем рынке. Буду продавать мозг, только мозг, и баста!
Я вернулся в Калифорнию с твердым намерением получить образование. В свое время я окончил начальную школу, теперь пошел учиться в среднюю. Чтобы прокормить себя, я нанялся дворником. Мне немного помогала сестра, но я не брезгал никакой работой: готов был и газоны стричь, и ковры выбивать, если оказывалось свободное время. Я понимал весь глубокий смысл парадокса, что только труд может спасти от труда, и это поддерживало во мне соответствующее рвение.
Юношеская любовь, Хейди, Луис Шатток, вечерние прогулки — все было в прошлом. На развлечения у меня не хватало вре Мени. Я вступил в дискуссионный клуб имени Генри Клея, бывал и гостях у некоторых его участников и познакомился с интеллигентными девушками, щеголявшими в длинных платьях. Посещал и другие маленькие сборища, где велись диспуты о поэзии, искусстве и тонкостях английской грамматики. Я вступил в Оклендское отделение социалистической партии — там мы штудировали политическую экономию и философию, обсуждали вопросы политики. Некоторое время я работал в библиотеке и прочел горы литературы, чтобы оправдать звание члена по меньшей мере полудюжины организаций.
За полтора года я ни разу не пригубил рюмки, даже не вспоминал о спиртном. Не было ни времени, ни желания. Покончив с дневными обязанностями дворника, я перевоплощался в ученика, а редкие свободные минуты посвящал шахматам. Со всем пылом души я познавал новый мир, и до чего же отвратительным казался мне теперь старый мир Джона — Ячменное Зерно!
Впрочем, однажды я все-таки посетил пивную. Зашел к Джонни Хейнхолду в "Последний шанс" занять у него денег. Вот вам еще одна черта Джона Ячменное Зерно. Кабатчики славятся добротой. Как правило, они куда щедрее, чем так называемые деловые люди. Мне требовалось до зарезу десять долларов, а обратиться было не к кому. И я пошел к Джонни Хейнхолду. Я несколько лет не посещал его заведение, так что он от меня не имел пользы, и на этот раз я тоже ничего не выпил. Однако он дал мне десятку, не спросив ни залога, ни процентов.
После этого мне приходилось часто обращаться к Джонни Хейнхолду с подобными просьбами. Поступив в университет, я за нял у него сорок долларов, тоже без поручительства и процентов, хотя не потратил в "Последнем шансе" даже десяти центов. Но я хочу отметить один обычай, так сказать, неписаное правило: когда через несколько лет фортуна улыбнулась мне, я специально ездил выпить на другой конец города к Джонни в "Последний шанс", это было как бы процентом за его ссуды. Он сам никогда об этом не просил и на это не рассчитывал. Я же действовал согласно хорошо изученным мною правилам, которые диктуются Ячменным Зерном. Когда человек попадает в беду и ему некуда податься, потому что без залога и поручительства ни один зверь ростовщик не даст ему ссуды, есть один выход, обратиться к знакомому кабатчику. А так как человеку свойственно чувство благодарности, можете быть уверены, что, оказавшись снова при деньгах, он пропьет их именно там, где ему помогли в трудную минуту.
Не могу не вспомнить то время, когда я начинал литературную деятельность и вынужден был содержать большую семью:
жену и детей, мать и племянника, не считая попавших в нужду кормилицу Дженни с ее суриком, — на очень скромный гонорар, который получал катастрофически нерегулярно от журнальных издательств. Существовало два места, где я пользовался кредитом:
парикмахерская и кабак. Парикмахер брал с меня пять процентов в месяц с платой вперед. Иными словами, когда я занимал у него сто долларов, он давал мне девяносто пять. Пять долларов удерживалось в виде процентов за первый месяц. За второй я платил ему еще пять, и так до тех пор, пока, наконец, не удавалось одним рассчитанным ударом выколотить у издателей причитающийся мне гонорар и ликвидировать свой кабальный долг.
Другой, кто выручал меня в трудную минуту, был соседний кабатчик. Несколько лет мы знали друг друга в лицо, но я ни разу у него не выпил, даже придя попросить взаймы. И все же он мне никогда не отказывал, какую бы сумму я ни просил. К сожалению, он переехал в другой город до того, как я разбогател. До сих пор жалею, что его нет. Согласно правилам, которые я изучил, мне полагалось бы заглядывать к нему и пропивать у него время от времени несколько долларов в знак благодарной памяти о прошлом.
Я вовсе не собираюсь прославлять кабатчиков; это скорее ода Джону Ячменное Зерно. Я лишь добавляю еще один штрих ко множеству других, благодаря которым люди привыкают к пьянству и в конце концов убеждаются, что уже не в состоянии жить без алкоголя.
Но возвращаюсь к моему рассказу. Охладев к былым авантюрам, уйдя с головой в учение и дорожа каждой минутой, я просто позабыл, что где-то существует кабак. Вокруг меня никто не пьянствовал. Найдись среди моих новых друзей любители выпить и позови они меня с собой, я наверняка не сумел бы устоять. А так в свободный час я садился за Шахматную доску, шел на прогулку с интеллигентными девушками из университета или ехал за город на велосипеде (если он не был в это время в ломбарде).
Хочется снова подчеркнуть главное: несмотря на пройденную мною большую и жестокую школу Джона — Ячменное Зерно, я не чувствовал никакой тяги к алкоголю. Порвав с прошлым, я наслаждался обществом идиллически настроенных студентов и студенток. Я проник в волшебный чертог мысли и был духовно опьянен. (Увы! Довольно скоро я узнал, что и в этом случае не избежать похмелья!)
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Для прохождения курса средней школы нужно было три года.
На такой срок у меня не хватало ни терпения, ни денег. При таких темпах мне было не вытянуть, а мне хотелось поступить потом в Калифорнийский университет. Вот почему, проучившись первый год, я стал искать пути покороче: занял деньги и поступил на старшее отделение подготовительных курсов, где натаскивали к экзаменам в высшие учебные заведения. Мне гарантировали, что Через четыре месяца я поступлю в университет и таким образом выгадаю два года.
Ну и зубрил же я! Ведь надо было усвоить материал за два класса в четыре месяца. Я так зубрил квадратные уравнения и химические формулы, что через пять недель они уже не лезли мне в голову. И вдруг меня вызывает директор курсов. Очень жаль, говорит, но ему придется вернуть мне деньги и попросить меня покинуть стены его учебного заведения. Нет, дело не в успеваемости. Как слушатель, я на хорошем счету, и он уверен, что поступи я по окончании курсов в университет, я бы и там в грязь лицом не ударил. Но, к его прискорбию, начались неприятные разговоры.
Как это — за четыре месяца пройти двухлетний курс? Может получиться скандал, в университетах и так стали строже относиться к подготовительным курсам. Он не может поставить под удар свою репутацию и просит меня оказать ему любезность и отчислиться.
Я подчинился. Вернул долг и, стиснув зубы, засел за самостоятельную зубрежку. До вступительных экзаменов в университет оставалось еще три месяца. Мне предстояло осилить за эти три месяца в стенах своей комнаты, без лабораторий и учителей, весь курс за два класса и повторить пройденное за истекший год.
Я долбил по девятнадцать часов в день все эти три месяца, лишь несколько раз позволив себе короткую передышку. Я был измотан до последней степени: тело мое ныло, голова раскалывалась на части, но я продолжал зубрить. У меня стали болеть глаза, подергиваться веки, еще немного — и пришлось бы бросить занятия! Под конец я, кажется, маленько свихнулся: мне представилось, что я решил квадратуру круга, но я нашел в себе твердость отложить выведение формулы. После испытаний — вот тогда я себя покажу!
Сдавая экзамены, я несколько дней не отдыхал и не спал почти ни минуты, — только и делал, что зубрил да повторял. Зато когда я сдал последний письменный экзамен, мое переутомление достигло предела. Я не мог уже смотреть на книги. Не мог ни о чем думать; любой человек, способный мыслить, внушал мне ужас.
При таком состоянии одно спасение было — тряхнуть стариной. Я не стал ждать результатов испытаний. Одолжив у знакомого яхту, я бросил в каюту сверток одеял и немного еды, поднял парус и рано утром с концом отлива вышел из Оклендской бухты.
Меня подхватил прилив, и попутный ветер погнал в северном направлении, туда, где курился залив Сан-Пабло. Над Каркинезским проливом, у медеплавильного завода Селби, стоял туман, за кормой оставались старые береговые знаки, которыми я научился пользоваться во время плавания на шхуне Нельсона, всегда ходившей под всеми парусами.
Впереди показалась Бенишия. Я миновал Тернерскую верфь, обогнул пристань Солано и подошел вплотную к лежащим на песке рыбачьим шаландам здесь я когда-то жил, предаваясь пьянству.
В этот момент что-то со мной произошло, но смысл случившегося я осознал лишь через много лет. У меня не было ни малейшего намерения высадиться в Бенишии. Я шел с попутным ветром, свистевшим мне в уши и надувавшим паруса, — лучшей погоды ни один моряк не пожелает! Впереди виднелись мысы Буллхед и Армипойнтс, — значит, скоро Сьюисанский залив, он тоже, наверно, сейчас в тумане. Но стоило мне завидеть эти рыбачьи шаланды Бенишии, как я, не раздумывая, принял решение: увалился под ветер, раздернул шкоты и направился к берегу. В этот миг мой усталый, измученный мозг подсказал мне чего я хочу. Выпить.
Напиться.
Да, я правильно понял это властное желание. Мой усталый мозг требовал забвения, и другого способа забыться я не знал.
Вот в чем суть! Впервые в жизни я сознательно, намеренно пожелал напиться. Это было новое, незнакомое пока еще мне проявление власти Ячменного Зерна: не тело, а мозг на этот раз требовал алкоголя. Переутомленный, измученный, издерганный мозг.
Тут я хочу поговорить о самом главном. При всем моем переутомлении мне и в голову не пришю бы напиться, если бы я прежде не увлекался пьянством. Преодолевая органическое отвращение к алкоголю, я приучился пить, потому что не хотел прослыть плохим товарищем, и еще потому, что без Джона Ячменное Зерно невозможно было обойтись, если ты стремился к интересной, богатой приключениями жизни. И вот я достиг такого состояния, когда мой мозг пожелал не просто выпить, а напиться мертвецки пьяным. Если бы я не пил столько лет подряд, я не вспомнил бы и сейчас о виски. Я пошел бы дальше мимо Буллхеда, в бурлящий Сьюисанский залив и в свите ветра, надувающего мой парус и пробирающего меня насквозь, забыл бы свою усталость и вернулся бы со свежей головой.
Я пришвартовался и поспешил туда, где покачивались у причала рыбачьи шаланды. Мне на шею бросился Чарли Ле Грант.
Его супруга Лиззи прижала меня к своей объемистой груди. Меня обступили Билл Мерфи, Джо Ллойд и другие товарищи по рыбачьему патрулю. Все обнимали меня наперебой. Чарли схватил бидон и побежал через железнодорожное полотно в кабак Йоргенсона.
Это означало, что будет пиво. Но мне хотелось чего-нибудь покрепче, и я крикнул ему вдогонку, чтобы он прихватил и бутылку виски.
Эта бутылка пропутешествовала много раз через рельсы — туда и обратно. Подошли другие рыбаки, старые приятели — греки, русские, французы. Каждый по очереди угощал, потом все начиналось сызнова. Люди приходили и уходили, а я оставался на месте и пил со всеми. Пил с ненасытной жадностью, виски обжигало нутро, а я блаженствовал, чувствуя, что в голове шумит все больше и больше.
Пришел Рыба, плававший с Нельсоном до того, как я занял его Место. Он был так же красив, как прежде, только еще более непутевый, почти совсем свихну вшийся от пьянства. У него только что произошла ссора с компаньоном, совладельцем шлюпа «Газель», и оба пустили в ход кулаки и ножи. Сейчас он старался воддержать в себе боевой дух, рассказывая об этой драке. Мы вынили с ним и помянули Нельсона, силача Нельсона, который спит вечным сном в этом городке, и оба прослезились, вспоминая о покойнике одно только хорошее, и по этому поводу еще несколько раз осушили стаканы.
Меня просили остаться переночевать, но я видел через открытую дверцу, как ходят волны, и слышал, как воет ветер. И пока я старался забыть мои три месяца сплошной зубрежки, Чарли Ле Грант перенес мои вещи в большую шаланду, на каких промышляют лосося. Он дополнил снаряжение мешком угля, рыбацкой жаровней, кофейником и сковородкой, банкой кофе, мясом и только что пойманным морским окунем.
Моим друзьям пришлось поддерживать меня, провожая по шатким мосткам причала, когда я шел садиться в шаланду. Они поднимали шпринтом верхний угол паруса до тех пор, пока он не натянулся, как доска. Кто-то из них высказал опасение по поводу шпринтов, но я настаивал, и Чарли меня поддержал. Он никогда не сомневался в моем умении и знал, что, пока у меня есть глаза, я сумею управлять судном. Мне бросили фалинь. Я взялся за румпель, выбрал шкот и, хотя предо мной все ходило ходуном, отвалил от берега, помахав на прощание рукой.
Сильнейший ветер, изменивший течение, вздымал высокие волны. Сьюисанский залив побелел от ярости. Но рыбачья шаланда — это крепкая посудина, и я умел ею управлять. Я гнал ее на гребни волн и наперерез волнам и громко посылал ко всем чертям книги и школы. Вздыбленные волны нахлестали мне воды на целый фут, но я только смеялся, когда у меня хлюпало под ногами, и распевал во весь голос. Море и ветер — чепуха! Я называл себя владыкой мира, оседлавшим разъяренную стихию, и Джон Ячменное Зерно не отступал от меня ни на шаг. Вперемешку с математическими и философскими формулами и изречениями великих ораторов я вспоминал старые песни тех лет, когда работал на консервной фабрике и был устричным пиратом: "Черная Лу", "Облако летит", "Не обижай мою дочку", "Бостонский вор", "Сюда, бродяги-игроки", "Если бы я была птичкой" и «Шенандоа».
Так прошло несколько часов. Когда яркие лучи восхода за жгли небо, я был уже там, где мутные воды Сакраменто сливаются с мутными водами Сан-Хоакина. Наперерез течению я проскользнул по зеркальной поверхности закрытой гавани Блек Даймонд в устье Сан-Хоакина и дальше к Антиоху, где, несколько отрезвев и голодный, как волк, лег в дрейф рядом с груженным картофелем баркасом, оснастка которого показалась мне знакомой.
На нем действительно оказались мои старые приятели. Они зажарили в оливковом масле моего морского окуня и пригласили меня разделить с ними трапезу. Мы ели рагу, сильно приправленное чесноком, и итальянский хлеб с румяной корочкой, без масла, и за пивали еду крепким красным вином.
Моя шаланда была полна воды, но в маленькой каюте баркаса одеяла и койки были сухие, и мы лежали, и курили, и вспоминали былые дни, прислушиваясь, как воет ветер в снастях и гудят на мачте туго натянутые фалы.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Через неделю я вернулся домой освеженный и готовый приступить к занятиям в университете. В течение этой недели я не пил.
Стараясь избежать возлияний, я избегал и встреч со старыми друзьями, ибо там, где были они, неизменно появлялся Джон — Ячменное Зерно. Я хорошо отдохнул, и мне захотелось выпить вдлько в первый день, потом уже не тянуло. Не воображайте, что меня беспокоила совесть. Я не стыдился и не жалел, что принял участие в попойке в Бенишии, — просто вычеркнул ее из памяти и с удовольствием снова сел за учебники.
Прошло много времени, прежде чем я вспомнил этот случай и оценил его по достоинству. Тогда, да и не только тогда, мне казалось, что все это только шутка. Но в зрелом возрасте в периоды наибольшего умственного напряжения и душевной неуравновешенности я вспоминал, что алкоголь обладает силой, помогающей забыться, и жаждал его всем своим существом.
Но в то время случай в Бенишии не помешал мне вести вполне пристойный образ жизни. Во-первых, я не скучал по вину, а вовторых, моими товарищами были студенты, народ непьющий. Вернись я к поискам приключений, волей-неволей пришлось бы пить.
Ибо здесь и таится главная опасность: все дороги приключений облюбовал Джон — Ячменное Зерно.
Я закончил первый семестр и в январе 1897 года перешел на второй. Но наша семья очень бедствовала, и мне стало казаться, что я трачу слишком много времени на университет. Я решил обойтись без высшего образования. Ничего, не такая уж большая потеря! Я учился два года, прочел уйму книг, и это ценил больше всего. Впрочем, была и другая польза: я стал лучше говорить и писать. Правда, я не отвык спрашивать «чего» вместо «что», зато правило, согласно которому в английском языке нельзя употреблять отрицательное местоимение с отрицательной формой глагола, усвоил твердо: при письме я уже не делал этой ошибки, а если она и проскальзывала иной раз в речи, так только когда я волновался.
Я решил не откладывать в долгий ящик занятие творчеством.
Меня привлекали четыре отрасли: музыка, поэзия, статьи по философским, экономическим и политическим вопросам и, наконец (хотя и меньше, чем все остальнсе), художественная проза.
Впрочем, музыку я сразу же исключил, как бесперспективное Дело. Засев у себя в комнатке, я начал писать сразу все: стихи, статьи и рассказы — и, Боже мой, с каким невообразимым рвением!
Подобная лихорадка творчества могла окончиться лишь тяжелым психическим заболеванием. Результатом моей бешеной работы могло стать не что иное, как размягчение мозга, и я угодил бы в сумасшедший дом. Я строчил напыщенные очерки, рассказы на социальные и научные темы, юмористические стихи и разные другие — от триолетов и сонетов до трагедии, написанной белыми стихами, и тяжеловесной эпической поэмы в духе Спенсера. Бывали периоды, когда я не вставал из-за письменного стола по пятнадцать часов, забывал даже поесть или ради столь скучного деля не хотел прерывать вдохновения.
Затем начались муки с перепечаткой. У мужа моей сестры была пищущая машинка, на которой он работал днем. Мне разрешалось пользоваться ею ночью. Это была удивительная машинка.
Я готов и сейчас заплакать, вспоминая свои поединки с ней. Она была, пожалуй, из самых первых пишущих машин: более допотопной конструкции я не встречал. Шрифт ее состоял из одних прописных букв. В этой машинке сидел какой-то дьявол. Она не подчинялась никаким известным физическим законам и опровергала древнюю аксиому, что одинаковые предметы, применяемые в одинаковых условиях, дают одинаковые результаты. Клянусь, ее нельзя было заставить работать одинаково два раза подряд. Она упрямо доказывала, что только разные условия приносят одинаковые результаты.
Как у меня болела от нее спина! До знакомства с ней я был далеко не неженкой и выдерживал любое, самое сильное физическое напряжение, а тут она убедила меня, что я далеко не Геркулес. После каждой новой схватки с ней я испытывал такие боли в плечах, что заподозрил с ужасом у себя ревматизм. Стук от нее был невероятный: издали казалось, будто грохочет гром или раскалывают топором мебель, потому что клавиши работали лишь тогда, когда по ним колотили с огромной силой. У меня даже связки на больших пальцах растянулись, и руки болели по локоть, а на концах пальцев натерлись волдыри, которые лопались и возникали снова. Если бы это была моя собственная машинка, я работал бы на ней молотком.
А ведь мне приходилось не просто бороться с машинкой, а перепечатывать рукописи! Выстукивание тысячи слов превращалось в подвиг, сопровождаемый тысячью проклятий. Но я-то писал в день куда больше, чем тысячу слов. Я стремился поскорее перепечатать мои творения и разослать но редакциям, уверенный, что там их ждут не дождутся.
Ох и уставал же я! Но при всей усталости — и умственной и физической желание выпить ни разу не заявляло о себе. Я был полон возвышенных интересов и не нуждался в наркотиках. Все часы бодрствования, кроме тех, разумеется, когда приходилось воевать с проклятой машинкой, я посвящал вдохновенному труду И, кроме того, у меня еще были иллюзии, несовместимые с пьянством, например, что существует настоящая любовь и в нее верят все мужчины и женщины, что отцы не отрекаются от своих детей, что есть на свете справедливость, что людям необходимо искусство, и множество других наивных представлений, помогающих нам жить.
Увы, оказывалось, что редакции не так уж хотели услышать голос молодого автора! Мои опусы совершали удивительнейшие путешествия от Тихого океана до Атлантического и оттуда ко мне обратно. Может быть, издателей поражал сумасшедший вид моих рукописей, и поэтому они не желали печатать ни одной строчки. Но, Господи, их мог с одинаковым успехом отпугнуть и бредовый текст, не только оформление! Я продал букинистам за бесценок учебники, в свое время приобретенные с величайшим трудом. Занимал понемногу деньги, где только удавалось, и все-таки сидел на шее у старика отца, который продолжал работать, несмотря на слабое здоровье.
Все это длилось недолго — несколько недель. Потом мне пришлось сдаться и поступить на работу. Однако и на этот раз я не искал забвения в вине. Меня не огорчал такой оборот дела. Что ж, значит, откладывается начало литературной карьеры, вот и все:
Может быть, у меня действительно не хватает подготовки? Чем больше я читал, тем яснее мне становилось, что я едва только успел коснуться источника знаний. Я все еще парил в облаках. День и большую часть ночи, когда людям полагается спать, я проводил за чтением.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Я нашел работу за городом, в небольшой, прекрасно оборудованной механической прачечной при Бельмонтской академии.
Всю работу там от сортировки и стирки до глажения белых сорочек, воротничков, манжет и даже нарядного белья профессорских жен выполняли два человека: я и еще один парень. Мы работали, как сто чертей, особенно с наступлением лета, когда ученики стали носить полотняные брюки. Гладить их — ужасная канитель, а их было пропасть сколько. Больше месяца стояла тропическая жара, и мы работали каждый день до седьмого пота, но никак не успевали все переделать. Даже ночью, когда все ученики спали мирным сном, мы с моим напарником при электрической лампочке катали и гладили белье.
Рабочий день был томительно длинен, работа очень тяжела, хотя мы многое усовершенствовали и каждое движение у нас было Рассчитано. Мне платили тридцать долларов в месяц на всем готовом — это больше, чем на электростанции и на консервной фабрике, потому что я экономил двадцать долларов на еде; дирекции же такая щедрость ничего не стоила, ибо мы питались на кухне.
Повзрослев, я стал более ловким, и, может быть, образование тоже учитывалось, потому-то, видимо, мне и перепали лишние двадцать долларов. При таких темпах, подшучивал я над собой, к концу жизни дослужишься до ночного сторожа с окладом в шестьдесят долларов или, чего доброго, до полисмена — там уж, поди, долларов сто, да и как-никак побочные доходы!
Всю неделю мы трудились, не жалея сил. Поэтому в субботу вечером были измочалены до предела. Когда-то, еще на консервной фабрике, я возмущался, что меня заставляют работать как лошадь.
Вот именно, рабочая лошадь! Кстати, моя интеллектуальная жизнь сейчас не многим отличалась от жизни лошади. Книги перестали для меня существовать. Хотя я привез с собой в прачечную сундучок, набитый книгами, читать я не мог. Едва раскрыв книгу, я тут же засыпал, а если и прочитывал несколько страниц, то все равно ничего не помнил. Я уже не пытался заниматься серьезными науками, такими, как политическая экономия, биология или право, а перешел на более легкий предмет — историю. Но все равно засыпал. Взялся было за литературу — тот же результат!
Под конец, когда я стал клевать носом даже над увлекательными романами, я бросил чтение совсем. За все время работы в прачечной я не осилил ни одной книги.
В субботу, получив свободу до понедельника, я ощущал только желание спать, да еще одно — напиться. Второй раз в жизни я явственно услышал призыв Джона — Ячменное Зерно! В первый раз я внял ему по причине умственного переутомления, но ведь теперь такого переутомления не было! Наоборот, голова была вялая, пустая, мозг пребывал в спячке. Но именно в этом-то и была беда. Мозг мой, активный и любознательный, оживший от чудес, которые раскрыл перед ним новый замечательный мир книг, страдал от бездеятельности и застоя.
И, уже изведав дружбу с Джоном — Ячменное Зерно, я знал точно, что он сулит: пьяный бред, воображаемое могущество, забытье… Пусть! Лишь бы не думать про машины, в которых бушуют струи воды, про вращающиеся паровые катки и центробежные отжимы, крахмальные сорочки и нескончаемые полотняные брюки, от которых со свистом валит пар, когда по ним проносится мой раскаленный утюг. Вот кто клюет на Ячменное Зерно: слабые, неудачники, изверившиеся в себе и потерявшие силы. С Ячменным Зерном им сразу становится легко. Но он вечный обманщик. Он придает ложную силу и ложное воодушевление, он приукрашивает то, что на самом деле выглядит очень и очень скверно.
Но надо помнить, что Джон — Ячменное Зерно многолик.
Он привлекает не только слабых и изверившихся, но и пышущих здоровьем богатырей, и неистребимых жизнелюбов, и тех, кому ненавистно безделье. Он может подхватить под руку любого человека, как бы тот себя ни чувствовал. Он может опутать своими сетями каждого, лишив его воли к сопротивлению. Он дает людям новый светоч вместо старого и фейерверк иллюзий вместо скучной действительности, но в конце концов грубо обманывает всех, кто заключил с ним сделку.
Однако почему я не запил тогда? По простой причине: до ближайшей пивной было полторы мили. По-видимому, я все-таки не ощущал слишком властного желания. Иначе я не поленился бы отмахать и в десять раз большее расстояние. Но скажу и другое:
если бы пивная находилась за углом, я бы непременно напился.
А так я волей-неволен валялся в гони, листая воскресные газеты.
Но я был слишком утомлен, чтобы читать этот вздор. Еще куда ни шло юмористическое приложение, там хоть немного смешно.
Поглядев на картинки, я скоро завалился спать.
Хотя в период моей работы в прачечной Джон — Ячменное Зерно не победил меня, все же он добился известного успеха. Его призыв дошел до моего слуха. Я ощущал беспокойное желание и жаждал успокаивающего средства. Он приучал меня к мысли, что в будущем мне без него не обойтись.
Но кону пояснить, что желание это зрело только в мозгу.
Мое тело не требовало алкоголя. Ведь не захотелось же мне ни разу выпить во время работы на электростанции, хотя там я очень сильно уставал; а вот устав от умственного труда, я сразу же после университетских экзаменов напился вдребезги. Работая в прачечной, я уставал физически, но все же не так сильно, как подтаскивая уголь. Я был другим во время работы на электростанции: мой мозг еще спал. Зато потом я успел уже побывать в чертоге мысли.
Когда я таскал уголь для котлов, мозг спал, но когда я поступил в прачечную, он жаждал деятельности и признания, а его насильно умерщвляли.
И все же, хоть я и не поддался алкогольному соблазну в прачечной, как поддался тогда в Бенишии, семена желания зрели у меня в мозгу.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
После прачечной сестра с мужем снарядили меня за свой счет в Клондайк. Было начало осени 1897 года. Золотая лихорадка в тех местах только еще начиналась. Мне был двадцать один год, я отличался отменным здоровьем. Помню, в конце двадцативосьмимильного перехода с поклажей через Чилкутский перевал от Дайи-Бича до озера Линдерман я не только шел в ногу с индейцами, но даже перегонял многих.
Последний переход от стоянки до озера был гри мили. Я ходил туда и обратно по четыре раза в день, каждый раз неся на себе по сто пятьдесят фунтов. Иными словами, я ежедневно проделывал пешком по труднопроходимым тропам двадцать четыре мили, из которых двенадцать были с поклажей в сто пятьдесят фунтов.
К черту литературу! Я снова стал искателем приключений, на этот раз мечтая разбогатеть. И где же, как не здесь, должен был я встретить Джона Ячменное Зерно? Я вновь столкнулся со смельчаками, с бродягами и искателями приключений, которые легко терпели голод, но не могли обойтись без виски. Виски путешествовало с ними рядом, в то время как муку зарывали в укромном месте до возвращения.
По счастью, в моей четверке остальные трое не пили. Поэтому я тоже не пил и совершал грехопадение лишь в тех редких случаях, когда попадал в пьющую компанию. У меня в походной аптечке хранилась кварта виски, но я шесть месяцев к ней не притрагивался. Только когда мы попали в уединенный лагерь, я откупорил свою бутылку для доктора, которому предстояло оперировать больного. Никаких обезболивающих средств не было.
Врач и больной осушили сообща мою бутылку, после чего началась операция.
Через год, заболев цингой, я вернулся в Калифорнию и узнал, что мой отец умер и я теперь глава семьи и ее единственный кормилец. Если сказать, что от Берингова моря до Британской Колумбии я ехал на пароходе кочегаром, а оттуда до Сан-Франциско путешествовал в трюме, станет ясно, что я не вывез из Клондайка ничего, кроме цинги.
Времена были тяжелые. Даже чернорабочим устроиться было невозможно. Я был бы рад и этому, потому что по-прежнему не имел никакой специальности. О литературной деятельности я больше не помышлял. С этим покончено! Я должен добывать пропитание для нас троих, сделать все возможное, чтобы мы не остались без крова. Нужно купить зимнюю одежду, так как моя годится только для лета. Итак, немедленно найти работу! Будущее решится потом; пока есть более неотложные дела.
Когда страна переживает тяжелые времена, первыми терпят бедствие неквалифицированные рабочие. У меня не было опыта, если не считать работы в прачечной и на судах. Как глава семьи, я теперь не осмеливался уйти в море, а в прачечную устроиться не мог. Я стал на учет в пяти конторах по найму. Поместил объявление в трех газетах. Обошел всех своих немногочисленных зна комых, прося их посодействовать в отношении работы, но сделать это они либо не хотели, либо не могли.
Положение стало отчаянным. Я заложил часы, велосипед и непромокаемый плащ — гордость отца, завещанный им мне. Этот плащ был и остался единственным наследством за всю мою жизнь.
Новый он стоил пятнадцать долларов, а ростовщик мне дал за него два. Да, забыл рассказать: как-то раз ко мне явился один из моих давнишних портовых дружков и принес фрачную пару, завернутую в газетную бумагу. Он не мог вразумительно объяснить мне, как попал к нему этот костюм, да я и не требовал под ровностей. Я решил взять у него этот костюм. Не для того, чтобы носить. Боже упаси! Я дал ему взамен кучу ненужного старья, которое не брали в заклад. Он распродавал это старье по мелочам и кое-что за него выручил. А фрачную пару я заложил за пять долларов, небось она До сих пор висит у ростовщика на вешалке. Я и не собирался ее выкупать.
Работы по-прежнему не было. А ведь на рынке труда я был выгодным товаром. Мне было двадцать два года, я весил сто шестьдесят пять фунтов, и каждый фунт был годен к работе; цинга моя почти прошла: я лечился тем, что жевал сырой картофель.
Я обошел все места, гре требовались рабочие, пробовал даже стать натурщиком, но художественные мастерские и без меня осаждало множество безработных парней с хорошим телосложением. Я писал по объявлениям, предлагал свои услуги для ухода за престарелыми калеками. Надумал было заняться продажей швейных машин на комиссионных началах, без жалованья, но, узнав, что в тяжелые времена бедняки не покупают швейных машин, отказался от роли агента.
Конечно, наряду с такими легкомысленными затеями я готов был наняться чернорабочим или портовым грузчиком куда угодно!
Надвигалась зима, и в армию городских безработных вливались еще и сельские батраки. А тут как на грех я не был членом профсоюза: не до того мне было, когда я гулял по свету или штурмовал высоты наук!
Я брался за все, работал и поденно и почасно. Подстригал траву на газонах, подрезал живые изгороди, выбивал ковры. Пошел держать экзамен на почтальона и сдал лучше всех. Но, к сожалению, вакансий не было, и меня поставили на очередь. В ожидании, пока подойдет моя очередь, я подрабатывал по мелочи то тут, то там. Я начал писать газетный очерк о том, как пропутешествовал в лодке по Юкону, проделав 1900 миль за девятнадцать Дней. Я надеялся получить за это десять долларов, хотя в жизни не писал для газет и не знаю, откуда у меня взялась уверенность, что мне заплатят.
Увы! Первая сан-францисская газета, в которую я послал по почте свой очерк, даже не откликнулась, хотя материал не возвращала. Чем дольше он там лежал, тем крепче я верил, что очерк принят.
И странная вещь! Одни рождаются счастливчиками, другим судьба преподносит неожиданные подарки. Моя же участь была иной: меня гнала к счастью горькая нужда. Я давно уже отказался от мысли стать писателем. Я писал свой очерк с одним желанием:
заработать десять долларов, больше ничего я не хотел. Десять долларов помогут мне продержаться, пока я получу постоянную работу. Ох, если бы сейчас освободилась вакансия на почте, вот было бы счастье!
Но вакансия на почте все не освобождалась, и никаких перспектив постоянной работы не было; я продолжал заниматься чем попало, а в дни вынужденного безделья начал писать повесть с продолжением страниц на сто для детского журнала "Юс компэнион". За неделю я все закончил и перепечатал на машинке. Видимо, из-за такой спешки мою повесть не приняли.
Пока моя рукопись путешествовала туда и обратно, я взялся за рассказы. Один я продал за пять долларов журналу "Оверленд мансли". За другой получил сорок от журнала "Блэк кэт". "Оверленд мансли" предложил мне семь долларов пятьдесят центов за любой мой рассказ — плата по напечатании.
И выкупил велосипед, часы и отцовский плащ и взял на про кат пишущую машинку. Заплатил долги в лавки, которые про доставляли мне небольшой кредит. Один португалец-бакалейщик никогда не разрешал мне набирать больше чем на четыре долла ра, а другой, по фамилии Гопкинс, установил лимит в пять долларов.
Как раз в это время меня вызвали в почтовое ведомство Я попал в чрезвычайно затруднительное положение. Постоянное жалованье в шестьдесят пять долларов было oгромным соблазном Я не знал, на что решиться. Никогда не смогу простить началь нику почтовой конторы Окленда его отношения ко мне. Я пошел к нему по вызову, надеясь поговорить с ним как с человеком. Я че стно выложил ему, как обстоят дела: кажется, я нашел свое призвание, начал я хорошо, но уверенности все-таки не чувствую. Но мог бы он взять следующего кандидата из списка, а меня передвинуть на его место в очереди?
Начальник грубо прервал меня:
— Значит, вы не желаете занять это место?
— Да нет же, — возразил я, — я только прошу вас, разрешите мне подождать!
— Или поступайте сейчас же, или заявите, что вы отказы ваетесь, ответил он ледяным тоном.
К счастью моему, грубость этого человека вывела меня из себя
— Ладно, отказываюсь, — сказал я.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Так я сжег свои корабли и занялся литературной деятельностью. Боюсь, что я всегда был склонен к крайностям. Я просиживал за столом с рассвета до поздней ночи: писал и перепечатывал на машинке, штудировал грамматику, разбирал произведения и стили разных авторов, читал о жизни известных писателей, стараясь понять причины их успеха. Пяти часов сна мне было достаточно, остальные девятнадцать я работал почти без передышки. Свет в моей комнате не гас до двух-трех часов ночи; заметив это, одна наша добродетельная соседка стала строить догадки в духе Шерлока Холмса: я картежник и поэтому никогда не бываю днем на улице, а лампу в окне выставляет моя мать, чтобы ее непутевый сын находил по ночам дорогу домой.
Для начинающего писателя нет хуже проклятия, чем долгое безденежье, гонорара не шлют, а все, что только можно заложить, уже заложено. Я проходил почти всю зиму в легком костюме, но самый долгий и мучительный период нужды подстерегал меня на следующее лето. Было время отпусков, когда сотрудники редакций разъезжаются на отдых и никто не занимается рукописями.
Я страдал оттого, что не с кем было посоветоваться. Я не знал ни одного литератора, даже начинающего, ни одного репортера.
Между тем я чувствовал, что добиться литературного успеха можно лишь при том условии, если забыть все, чему нас учили в средней школе и университете. Тогда меня это возмущало, но теперь стало понятно: профессора и преподаватели не были способны научить нас писать так, чтобы увлечь читателей на пороге нового века. Они знали свою классику "Бредущие по снегу", "Сартор Резартус", но для американских издателей в 1899 году это был неходовой товар. Издатели искали произведений на современные темы и готовы были столь щедро платить за них авторам, что если бы университетские профессора умели писать как нужно, они бы бросили свои кафедры.
Я держался кое-как, уломав бакалейщика и мясника подождать с уплатой долга, заложил опять часы, велосипед и отцовский плащ. Зато я работал вовсю, почти не оставляя себе времени для сна. Критики ставят мне на вид, что мой литературный герой Мартин Идеи слишком быстро стал образованным человеком.
Бывший матрос, окончивший лишь начальную школу, стал у меня за три года известным писателем. Критики говорят, что в жизни так не бывает. Но Мартин Идеи — это я! К концу этих трех лет (из которых два я проучился в средней школе и университете, а третий посвятил литературной работе), усиленно и непрерывно занимаясь, я уже печатался в таких журналах, как "Атлантик панели", держал корректуру своей первой книги, готовившейся к лечати издательством Хафтона и Миффлина, заинтересовал своими статьями по вопросам социологии журналы «Космополитен» и «Мак-Клюрс», отказался от сделанного мне по телеграфу предложения стать редактором одного нью-йоркского издательства и помышлял о женитьбе.
Все это требовало большого напряжения. Особенно тяжелым был третий год, когда я учился писательскому ремеслу. В течение этого времени, напрягая свой мозг до предела, систематически не досыпая, я не пил и не ощущал в этом потребности. Алкоголь для меня не существовал. По временам голова плохо работала, но ни разу не показалось, что виски может принести облегчение. Господи! Письмо от издательства, извещающее, что моя работа принята, было самое верное облегчение! Тоненький конверт, полученный с утренней почтой, вселял куда больше бодрости, нежели полдюжины коктейлей. А если в нем был еще и чек на приличную сумму, то это действовало сильнее самой грандиозной попойки!
Да и вообще в тот период жизни я не знал, что такое коктейль.
Помню, когда вышла моя первая книга, группа знакомых по Аляске устроила в мою честь встречу у себя в Богемском клубе в Сан-Франциско. Мы сидели, утопая в роскошных кожаных креслах, и заказывали напитки. Я понятия не имел, что существует столько разных ликеров и сортов виски. Я никогда не пробовал ликеров, и то, что виски разбавляют содовой водой и пьют со льдом из высоких бокалов, явилось для меня новостью. Я не знал, что название «Шотландское» тоже относится к виски. Мне были известны только напитки бедняков, которые пили вдоль границы и в портовых кабаках: дрянное пиво и еще более дрянное виски, без специальных названий. Я был сконфужен, не зная, что заказать, и лакей чуть не упал в обморок, когда я наконец велел подать красного вина, — это после обеда-то!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
По мере того как я становился признанным писателем, повышалось мое материальное благосостояние и шире становился кругозор. Я заставлял себя писать и перепечатывать тысячу слов ежедневно, включая воскресные и праздничные дни, и по-прежнему усиленно занимался, хотя, пожалуй, несколько меньше, чем прежде. Зато разрешал себе спать по пять с половиной часов — полчасика все-таки прибавил. С деньгами все обстояло благополучно, и я смог больше отдыхать. Я чаще ездил на велосипеде, благо он теперь всегда был дома, боксировал и фехтовал, ходил на руках, занимался прыжками в высоту и в длину, стрелял в цель, метал диск и плавал. Я заметил, что усталому телу требуется больше сна, чем усталой голове. Иной раз после сильного физического напряжения я спал шесть часов, а то и целых семь. Но такое роскошество позволял себе не часто. Столько еще предстояло узнать, столько сделать! Проснувшись после семи часов сна, я чувствовал себя преступником и благословлял того, кто придумал будильник.
Как и прежде, я не испытывал желания пить. Я все время находился в приподнятом настроении, был преисполнен светлой веры. Я был социалистом, хотел спасти человечество, и никакое виски не могло бы вызвать во мне того душевного подъема, какой порождали социалистические идеалы. Литературные успехи придали более громкое звучание моему голосу — так мне по крайней мере казалось. Во всяком случае, моя репутация писателя собирала большую аудиторию, чем моя репутация оратора. Меня приглашали наперебой разные общества и клубы выступить с изложением своих идей. Я боролся за правое дело, одновременно занимаясь самообразованием и писательством, и был всецело этим поглощен.
Прежде круг моих друзей был очень ограничен. Теперь я стал бывать в обществе. Отовсюду сыпались приглашения, особенно часто на званые обеды, и я завел знакомство и подружился со многими состоятельными людьми. Почти все они пили. Пили у себя дома и угощали меня. Алкоголиками никто из них не считался:
они пили умеренно, и я следовал их примеру в знак своего расположения и благодарности за гостеприимство. Но мне не нравилось пить, я мог спокойно обойтись без этого, и если меня спросят, помню ли я свой первый коктейль или первый бокал виски с содовой, я чистосердечно отвечу: нет.
Теперь у меня был свой дом. Когда ходишь в гости, надо приглашать и к себе. Видите, как изменился мой жизненный уровень!
В гостях меня поили вином, значит, и я не должен ударить лицом в грязь. Поэтому я завел запасы пива, виски и столовых вин. С тех пор меня никогда нельзя застать врасплох.
И все же в течение всего этого периода я ничуть не стремился к алкоголю. Я пил за компанию, когда пили другие. Мне было совершенно безразлично, какой напиток выбирать. Я слепо подражал другим. Если все пили виски, я пил то же, если все пили пиво или сарсапарель, я и здесь не отставал. Но без гостей я никогда не касался спиртного. В моем кабинете постоянно стоял графин виски, но я целые месяцы, если не годы, понятия не имел, что можно пить в одиночестве.
Придя на званый обед, я замечал приветливо поблескивающий предобеденный коктейль, и не скажу, что не предвкушал удовольствия. Однако я прекрасно обходился и без него, зная, что источник необходимого внутреннего подъема — во мне самом, поэтому один у себя дома вовсе не почитал коктейль перед едой необходимым.
Вместе с тем я помню, ко мне захаживал один очень интересный человек, постарше меня, большой любитель виски. Просиживая с ним вдвоем весь день в моем кабинете, мы опрокидывали рюмку за рюмкой, пока мой друг не приходил в приподнятоe настроение, а я тоже чувствовал, что хлебнул лишнего. Вы спросите: зачем я это делал? Не знаю. Вероятно, по старой привычке, по примеру тех дней и ночей, когда в компании взрослых мужчин подростку было стыдно сидеть с пустым стаканом.
А вернее, еще потому, что теперь я перестал бояться Джона — Ячменное Зерно, вообразив, что он мой слуга, а не наоборот.
В этом-то и крылась главная опасность. Я убедил себя, что я хозяин положения: ведь сумел же я сказать ему «нет», когда учился и работал! Хотел — пил, хотел — не пил, пьянеть — не пьянел; а главный мой аргумент был тот, что алкоголь мне совсем не по вкусу. В этот период я пил по той же причине, которая побудила меня пить со Скотти и гарпунщиком, а позднее — с устричными пиратами: я знал, что у мужчин так принято, и хотел выглядеть в их глазах мужчиной. Мои новые знакомые — тоже искатели приключений, но интеллектуального порядка — пьют. Отлично.
Почему же не пить вместе с ними? Мне Джон — Ячменное Зерно не страшен!
Такое представление сохранялось у меня не один год. Иногда я порядком выпивал, но это были исключительные случаи. Это мешало моей работе, а я к работе относился очень ревностно.
Помню, собирая материал для книги о жизни лондонской бедноты, я поселился на Восточной стороне Лондона и, встречаясь с представителями «дна», несколько раз напивался. Потом я готов был себя убить за это. Однако и тут я уступил Джону — Ячменное зерно лишь потому, что забрел опять на путь приключений, где без него — ни шагу.
Бывало, полагаясь на свой опыт и близкое знакомство с этим грешником Ячменным Зерном, я состязался с другими мужчинами, кто кого перепьет. В прошлом это тоже случалось на пути приключений в разных концах земли. Мне тогда казалось, что ставится на карту моя честь. Странная честь, которая заставляет человека пить! Но это нелепое представление не теория, оно воплощается в действиях.
Как-то раз, например, группа молодых и пылких революцио неров пригласила меня в качестве почетного гостя "на кружку нива". На подобных пирушках я никогда не бывал. Принимая приглашение, я не знал, в чем цель этой встречи. Завяжутся пылкие, взволнованные споры, думал я, кто-нибудь, возможно, выпьет лишнее, но что касается меня, то я буду свято соблюдать меру.
Оказалось, что такие пирушки устраиваются, чтобы разогнать скуку: эти милые молодые люди искали случая потешиться за счет почетных гостей. Я узнал уже потом, что до меня "на кружке пива" у них был в качестве почетного гостя талантливый молодой радикал, человек, не искушенный в пьянстве, и они заставили его напиться, как говорят, в лежку.
Очутившись в их компании и узнав цель приглашения, я почувствовал прилив глупой мужской гордости. Я им покажу, этим молокососам! Увидят, кто из нас здоровяк, кто крепче и выносливее, у кого луженый желудок и упрямая голова! Посмотрим, кто дойдет до скотского состояния, а кто и виду не подаст! Скажите, какие щенки — вообразили, что могут перепить меня!
Пьянка была задумана как состязание на выносливость. А раз ве настоящий мужчина уступит лавры без боя? Бр-р, что за пиво!
Я уже успел за это время привыкнуть к более дорогим сортам.
Но ведь когда-то я пил и такое, и перепивал силачей! А уж этих юнцов наверняка сумею заткнуть за пояс! Итак, состязание нача лось! В нем приняли участие только сильнейшие. Но и они оставляли кружки недопитыми, и только почетный гость должен был пить до дна.
Мои ночные бдения, книги, которые я прочел, мудрость, которую усвоил, все было вмиг забыто и подавлено чудовищной властью атавизма: во мне словно проснулась жадная обезьяна, поднял голову хищный тигр, и они подсказывали одно лишь низменное, скотское желание — перепдеголять других скотов!
Когда пирушка кончилась, я на твердых ногах спокойно вышел на улицу, чего нельзя было сказать о моих любезных хозяевах. Мне запомнился один из них: он стоял на углу и обиженно плакал, отчего я не пьян. Он и представить себе не мог, ценою каких невероятных усилий, порожденных тренировкой прошлых лет, я сохранял сознание, управляя мускулами и подавляя тошноту, говорил нормальным голосом и заставлял свой мозг мыслить логично и последовательно. А все же я тайно ликовал. Они остались в дураках, а не я! Как же не гордиться? Черт возьми, я и поныне горд! Вот что за нелепое существо — человек!
Но на другое утро я уже не написал положенной тысячи слов. Я чувствовал себя больным, отравленным. Это был невыносимый день. После обеда мне предстояло выступление на митинге.
Я выступил и, наверное, говорил отвратительно. Несколько давешних собутыльников сидели в передних рядах и внимательно следили за мной, стараясь, по-видимому, обнаружить во мне эффект нашей вчерашней оргии. Не знаю, что заметили они, но я в них действительно кое-что разглядел и утешал себя мыслью: им сейчас не лучше, чем мне!
Я дал себе зарок больше не пить. И правда, с тех пор ни на какие "кружки пива" меня уже не могли затащить. Я больше не участвовал ни в каких соревнованиях по пьянству. Пить, конечно, приходилось и после, но я соблюдал осторожность и благоразумно отказывался состязаться с кем бы то ни было. Так опытный пьяница приобретает еще больше опыта.
Приведу пример, который подтверждает, что в этот период я пил только ради компании. Я плыл на «Титанике» в Европу.
С самого начала путешествия я подружился с английским телеграфистом и молодым испанцем, младшим компаньоном одной транспортной фирмы. Они пили только "лошадиную шею" — так назывался безалкогольный прохладительный напиток с кусочком апельсиновой корки или яблочной кожуры. И в продолжение всего пути я тоже пил одну только "лошадиную шею". Если бы мои новые друзья предпочли виски, надо полагать, я пил бы с ними виски. Не вздумайте заключить из этого, что я был слабохарактерным. Нет, мне просто было безразлично. Нравственных уз я не ощущал. Я был молод, силен и бесстрашен, и алкоголь не играл в моей жизни решительно никакой роли.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Но я еще не был готов назвать Джона — Ячменное Зерно своим другом. Чем старше я становился, тем заметнее был мой успех и выше заработок. Чем свободнее я мог путешествовать, тем более настойчиво вмешивался в мою жизнь Джон — Ячменное Зерно. И все же наше знакомство оставалось, если можно так выразиться, шапочным. Я пил, только чтобы поддержать компанию, а в одиночестве не прикасался к бутылке. Иногда я бывал слегка пьян, но считал, что это лишь дань обществу за его радушное отношение ко мне.
Я был еще настолько далек от дружбы с Ячменным Зерном, что даже в приступе отчаяния не подумал воззвать к нему о помощи. У меня были тогда неприятности — житейские и сердечные, о которых здесь говорить не место. Но, кроме того, я переживал трагедию идейного свойства, она-то и сыграла в дальнейшем главную роль.
Со мной случилась довольно обычная история. Я начитался позитивистской философии и слишком долго был позитивистом.
Пыл молодости заставил меня совершить вечную ошибку молодых:
очертя голову пуститься на поиски правды. Я сорвал с нее все покровы и отступил, потрясенный страшным ликом. Так я потерял прекрасную веру во все, кроме человечества, а оно в то время спало непробудным сном.
Длительные приступы пессимизма хорошо знакомы большинству людей, и о них не стоит здесь распространяться. Достаточно сказать, что я тяжко страдал. Я думал о самоубийстве с хладнокровием греческого философа и жалел, что не могу уйти из жизни, у меня на руках была целая семья. Но то был вопрос чисто моральный. Спасла же меня единственная уцелевшая вера вера в народ.
То, за что я боролся, ради чего просиживал бессонные ночи, обмануло меня. Успех я презирал. Слава казалась мне мертвым пеплом. Люди, принадлежавшие к более высоким слоям общества, чем портовые пьяницы и баковые матросы, оказались ужасающе убогими в умственном отношении. Женская любовь стоила не больше всего прочего. Оставались деньги, — но ведь спать-то можно лишь в одной постели, а сотню бифштексов не съешь зараз, хоть ты на них и заработал! Искусство и культура в свете незыблемых фактов биологии казались мне смешными, а те, кто их представлял, — и того потешнее.
Из всего этого можно заключить, как далеко зашла моя болезнь. От природы я боец. Но цель оказалась недостойной борьбы. Оставался народ. Есть еще за что бороться — за народ!
Но даже тогда, дойдя до предела отчаяния, блуждая во мраке и судорожно нащупывая последнюю нить, которая связывала меня с жизнью, я оставался глух к призывам Ячменного Зерна.
В моем мозгу ни разу не мелькнула мысль, что алкоголь — лекарство. Лживыми посулами он не заставит меня жить! Пуля в лоб — вот единственный выход, говорил я себе, нажми курок — и погрузишься в вечную спасительную тьму. В доме всегда было много виски — для гостей. Сам я его не касался. Я стал бояться своего револьвера. Это совпало у меня с тем периодом, когда я обрел светлый и чистый идеал — народ — и подчинил ему свои желания и волю. Прежде я так мучительно жаждал смерти, что мог бы покончить с собой во сне; теперь, опасаясь этого, я отдал свой револьвер друзьям и просил спрятать его, чтобы мне, в моем бессознательном влечении, не удалось его найти.
Но народ спас меня. Народ приковал меня к жизни. Есть еще за что бороться — вот она, моя цель! К чертям предосторожность! Смеясь над тем, что предрекали мне редакторы и издатели, являвшиеся источником моей ежедневной сотни бифштексов, дерзко, сам того не замечая, оскорбляя чувства инакомыслящих, я ринулся в бой за социализм. Более умеренные радикалы заявляли, что своим отчаянным, безумным пылом, своей опасной революционностью я на пять лет задержал развитие социалистического движения в Соединенных Штатах. Теперь, когда прошло столько времени, я выскажу, между прочим, свое глубокое убеждение, что я, наоборот, ускорил развитие социализма — по меньшей мере на пять минут!
Народ, а не Джон — Ячменное Зерно спас меня от тяжелой болезни. В период выздоровления мне подарила свою любовь женщина, развеяв мой пессимизм, на который, впрочем, спустя некоторое время меня снова обрек Джон — Ячменное Зерно.
Но теперь я искал правду уже менее ревностно. Мне было страшно сорвать с нее последние покровы даже тогда, когда я уже сжимал их в руке. Я не стремился больше видеть голую правду, наоборот, я подавлял в себе желание увидеть ее опять. А то, что повидал однажды, старался во что бы то ни стало вытравить из памяти.
И я был очень счастлив. Все шло хорошо, я наслаждался мелочами, а важное старался не принимать всерьез. Читал попрежнему, но без былого увлечения. Я и сейчас продолжаю читать, но ко мне уже не вернется то восторженное юношеское чувство, с которым я раскрывал книгу, надеясь, что она сообщит мне тайны жизни и секреты звезд.
В этой главе я хотел рассказать, что тяжелую болезнь, которая по временам может постигнуть каждого, я сумел преодолеть без помощи Ячменного Зерна. Любовь, социализм, народ — эти Здоровые побудители человеческого сознания вылечили меня и спасли. Пожалуй, нет на свете человека, более чуждого алкоголизму. И все же… Но об этом — в дальнейших главах. Из них станет ясно, какой ценой я заплатил за двадцать пять лет общения с вечнодоступным Джоном — Ячменное Зерно.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Вылечившись от тяжелой болезни, я продолжал пить, только когда бывал в компании. Пил, если пили другие и я бывал рядом.
Но незаметно у меня стала расти потребность в алкоголе. Физическая потребность? Нет. Я занимался боксом, плавал, катался на яхте, ездил верхом, наслаждался здоровой жизнью на лоне природы. Медицинская комиссия, перед которой я предстал в связи с желанием застраховать жизнь, дала самую высокую оценку моему физическому состоянию. Теперь, обдумывая прошлое, я полагаю, что возбуждающее действие спиртных напитков было необходимо моим нервам и мозгу. Попытаюсь разъяснить.
Дело обстояло примерно так: физиологически, с точки зрения желудка, виски было мне, как всегда, противно. Я находил в нем не больше вкуса, чем в пиве, которым отравился в пятилетнем возрасте, и в вине, от которого заболел, когда мне было семь лет.
Работая или читая в одиночестве, я не чувствовал желания выпить. Но что-то со мной произошло: то ли сказывался возраст и житейская мудрость, а может быть, и то и другое; то ли появилась старческая вялость, но я перестал испытывать удовлетворение и возбуждение в обществе людей. Светские развлечения, которыми я прежде увлекался, вдруг потеряли свою прелесть, мне наскучило пошлое воркованье дам и напыщенные, высокомерные речи тупых невежд — мужчин. Поделом, нельзя знать так много! Или так мало? Впрочем, это неважно, что бы там ни было, я дорого расплачивался. Факты говорили сами за себя: общение с людьми все меньше радовало и согревало мою душу.
Может быть, раньше я парил в облаках, а может быть, чего-то не разглядел. Но это не было ни истерикой, ни следствием нервного переутомления. Пульс мой был нормален, сердце в превосходном состоянии, легкие — тоже. Врачи страховой компании пришли от них в восторг. Я писал ежедневно свою тысячу слов.
Был пунктуален в делах. С радостью занимался спортом. Спал как младенец. И все-таки…
Стоило мне очутиться на людях, как на меня нападала ужасающая тоска, и я чувствовал, что начинают душить слезы.
Меня не смешили глупые шутки, над которыми смеялись остальные, речи чопорных болванов не развлекали меня. Я перестал ухаживать за женщинами, под внешней мягкостью и наивностью которых скрывалась примитивная прямолинейность. В достижении своих биологических целей они не останавливались ни перед чем.
как их праматери — самки обезьян; не важно, что потомки ходили уже не в собственной меховой шкуре, а кутались в меха других животных.
Я не был пессимистом, честное слово, нет! Мне просто все надоело. Я слишком часто видел одно и то же, слышал слишком часто одни и те же песни и шутки. Я настолько хорошо знал подоплеку этого "парада муз", знал, как приводятся в движение закулисные механизмы, что никакая великолепная игра, звонкое пение и заразительный смех не могли заглушить в моих ушах назойливый скрип за сценой.
Не следует заглядывать за кулисы: там можно нечаянно увидеть, как тенор — ваше божество — избивает свою жену. Я туда заглянул и платил за это. Можег быть, я делал это по глупости.
Причина не играет роли. Важны обстоятельства, а они были таковы, что общение с людьми становилось для меня все неприятнее и тягостнее. Вместе с тем иногда — признаться, в очень редких случаях — мне попадались люди замечательные (или, быть может, наивные, как я), и мы проводили вместе чудесные часы в мечтах, в этом рае глупцов. Таким замечательным — или наивным — человеком была моя жена. С ней никогда не было скучно, я видел в ней неиссякаемый источник удивления и восхищения. Но я не мог быть всегда только с ней. И было бы несправедливо и неразумно требовать, чтобы она проводила все время исключительно со мной. Кроме того, я выпустил уже ряд книг, пользовавшихся успехом, а общество требует, чтобы писатель уделял ему часть своего досуга. Да и вообще всякому нормальному человеку и для себя самого и для дела необходимо общение с людьми.
Тут-то мы и добрались до сути. Как участвовать в жизни общества, если интерес к этой игре пропал? Звать на помощь Джона — Ячменное Зерно? Лет двадцать пять, если не больше, он терпеливо ждал, пока я его позову. Сотни прежних его уловок не достигли цели — меня спасало железное здоровье и моя счастливая звезда. Но у него было еще многое припрятано про запас.
Я заметил, что несколько коктейлей делали меня снисходительным к пошлостям, изрекаемым глупцами. Два-три коктейля, а когда и один, перед обедом, помогали смеяться от души над тем, что было давно уже не смешно. Как хлыст, как шпоры коню, был нужен коктейль моему усталому мозгу и тоскующей душе.
Он подстегивал меня, и мне становилось весело, я начинал петь, и смеяться, и болтать с хорошенькими женщинами, и повторять избитые истины, к полному удовольствию самонадеянных посредственностей, которые ничего иного не понимали.
Без помощи коктейля я был неинтересным собеседником, но, выпив, сразу оживал. Подстегнув себя искусственно, одурманив мозг, я становился душою общества. Все началось так незаметно, что даже я, старый знакомый Джона Ячменное Зерно, не догадался, куда это ведет. Вначале мне захотелось вина и музыки, а очень скоро — бешеной музыки и очень много вина.
В эту пору я и заметил, что с нетерпением жду предобеденного коктейля. Мне хотелось его, и я это понимал. Попав в качестве военного корреспондента на Дальний Восток, я зачастил в один дом: не только принимал все приглашения к обеду, но завел привычку регулярно заглядывать туда и среди дня. Хозяйка была очаровательная женщина, но не ради нее я ходил в этот дом. Истина была проще: моя знакомая, как никто в этом громадном городе, умела приготовлять коктейли, а честность требует сказать, что искусство приготовления алкогольных смесей среди иностранцев здесь было на высоте. Ни в клубе, ни в гостиницах, ни в частных домах таких напитков не подавали. Коктейли в этом доме отличались особенно тонким вкусом. Это были шедевры. Они даже не пахли ненавистным мне спиртом, но зато необыкновенно кружили голову. Однако пил я только ради хорошего настроения. Покинув этот город, я несколько месяцев сопровождал японскую армию на марше, проехав сотни миль мимо рисовых полей и через горные перевалы, пока мы не вступили в Маньчжурию. Но при этом я не пил. В моих вьюках всегда можно было найти несколько бутылок виски, но для себя я не открыл ни одной, даже не вспоминал о них. Разумеется, если в лагерь попадал белый человек, я откупоривал бутылку, и мы, по мужскому обычаю, распивали ее вместе.
Ведь если бы я попал к нему, он сделал бы то же самое: угостил бы меня из своего запаса. Я возил с собой виски для гостей и потому записывал расход на счет газеты, которую представлял.
Теперь, оглядываясь назад, я могу проследить постепенный рост моей тяги к алкоголю. Сигналы были уже тогда — незначительные эпизоды, серьезности которых я не подозревал.
Приведу такой пример: за много лет у меня сложилась привычка проводить каждую зиму шесть или восемь недель в плавании по заливу Сан-Франциско. На моей ходкой яхте "Морская пена" была удобная каюта с печкой. Юноша-кореец готовил мне еду, и я обычно приглашал кого-нибудь из друзей, чтобы разделить с ними прелесть плавания. Пишущая машинка неизменно путешествовала со мной, свою обязательную тысячу слов я печатал ежедневно. В тот раз, о котором пойдет речь, я взял с собой Клаудсли и Тодди. Тодди был у меня на яхте впервые, Клаудсли уже плавал со мной раньше, и я знал его вкус. Он любил пиво, так что я обычно запасал пива, и мы пили с ним вместе.
На этот раз было иначе. Моего второго друга недаром называли Тодди: он умел великолепно готовить пунш, или тодди. Зная это, я припас несколько галлонов виски. Увы, их не хватило!
Пришлось многократно пополнять запасы, так как мы с Клаудсли пристрастились к обжигающему тодди, дьявольски приятному на вкус и чудесно поднимавшему настроение.
Я полюбил этот напиток и стал уже ждать с нетерпением, когда наш друг начнет обычное священнодействие. Мы пили точно в определенное время: по стакану перед завтраком, обедом и ужином и последний стакан перед сном.
Допьяна мы не напивались, но четыре раза в день нам было очень весело. Когда Тодди неожиданно вызвали по делам в Сан-Франциско, мы с Клаудсли заставили слугу-корейца готовить наш любимый напиток так же регулярно по рецепту, завещанному уехавшим другом.
Но это продолжалось, только пока я был на яхте. Дома я никогда не пил перед завтраком и на сон грядущий. С тех пор я вообще больше не пил горячего тодди, а прошло уже много лет!
И все-таки он мне очень нравился — после него становилось так хорошо и весело! С присущим ему коварством — исподволь и незаметно — тодди вербовал приверженцев в лагерь Джона — Ячменное Зерно. Пока я ощущал только легкий зуд, но ему суждено было перерасти в грозную, неутолимую страсть А я-то, прожив столько лет бок о бок с Ячменным Зерном и смеясь над всеми его тщетными попытками завоевать меня, ничего этого не знал и даже не подозревал!
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
От тяжелой болезни мне помогла излечиться новая способность находить удовольствие в малом — в разных занятиях, не связанных с книгами и важными проблемами. Я забавлялся:
играл в пятнашки в плавательном бассейне, пускал воздушных змеев, возился с лошадьми, решал головоломки. Мне перестала нравиться городская жизнь. Ферма в Лунной Долине показалась мне сущим раем. Больше я не вернусь жить в город! Теперь меня туда влекли лишь музыка, театр и турецкие бани.
Жилось мне очень хорошо. Я много работал, но также много развлекался и был счастлив. Читал я по большей части романы и очень мало серьезных книг. Вообще занимался куда меньше, чем прежде. Меня все еще интересовали основные проблемы всего сущего, но это был, так сказать, интерес благоразумный. Я уже обжегся однажды, пытаясь сорвать покровы, чтобы увидеть голую правду. В моем новом отношении к жизни была чуточка лжи, чуточка лицемерия, но это была хитрость человека, желающего жить. Я сознательно закрывал глаза на то, что считал грубым проявлением биологических законов. В конце концов я лишь старался побороть дурную привычку, изменить неверное направление ума. Повторяю, я был счастлив. Перебирая в памяти свое прошлое и беспристрастно анализируя его, я понимаю, что это, несомненно, был самый счастливый период моей жизни.
Но близилось время расплаты — непонятной, бессмысленной С меня взыскивалось за двадцать лет игры в прятки с Джоном — Ячменное Зерно. К нам на ферму часто приезжали друзья и оставались на несколько дней погостить. Некоторые из них не пили спиртного. Но тем, кто пил, было трудно обойтись несколько дней без алкоголя. Я не мог нарушить законы гостеприимства и лишить их привычного удовольствия. И я завел винный погреб — специально для гостей.
Меня не настолько интересовали коктейли, чтобы я захотел узнать рецептуру этих смесей. Поэтому я договорился с владельцем пивной в Окленде, что он будет приготовлять для меня коктейли большими партиями и присылать их на ферму. Когда гостей не было, я не пил. Но я стал замечать, что, закончив утреннюю работу, радуюсь присутствию гостя, ибо это служит мне предлогом выпить коктейль за компанию.
Впрочем, я был столь далек от алкоголизма, что даже один коктейль поднимал мое настроение. Одного бокала мне было достаточно, чтобы вызвать приятные мысли и смех в предвкушении восхитительного процесса еды. С другой стороны, мой желудок так стойко сопротивлялся алкоголю, что действие коктейля всегда было легким и кратковременным. Однажды кто-то из гостей, не церемонясь, попросил второй бокал. Пришлось и мне повторить.
Вторая порция согрела меня еще пуще первой, смех стал громче и сердечнее. Такие впечатления не забываются. Иногда мне кажется, что я начал пить по-настоящему из-за того, что был очень счастлив.
Помню, мы с Чармиан отправились верхом на прогулку в горы. Слуги были отпущены на весь день, и нам предстояло самим разогреть ужин, когда мы вернулись вечером домой. Мы с удовольствием возились на кухне. Я был наверху блаженства. Книги и высокие истины будто перестали существовать. Тело мое дышало здоровьем, я чувствовал приятную усталость после долгой езды.
День выдался на диво. Вечер тоже. Со мной была любимая женщина, мой лучший друг, мы с ней пировали в веселом уединении. Никаких неприятностей. Все счета оплачены, и я не знаю, куда деть лишние деньги. Будущее все шире раскрывается передо мной. Как вкусно пахнет мясо на сковородке! Мы громко смеемся, нам весело. Я очень голоден, в предвкушении аппетитного ужина у меня текут слюнки.
Мне было так хорошо, что в глубине сознания вдруг возникла потребность усилить это ощущение. Я был так счастлив, что мне захотелось стать еще счастливее. И я знал, как этого достичь. Меня научили этому тысячи встреч с Ячменным Зерном. Я несколько раз выходил из кухни, и каждый раз содержимое графина с коктейлем уменьшалось на одну порцию. Это дало отличный результат: я не был навеселе, не был пьян, но мне стало еще теплее, еще радостнее. Как ни прекрасна была моя жизнь раньше, сейчас она казалась мне еще прекраснее. Это был один из самых светлых моментов в моей жизни. Но много лет спустя мне пришлось, как вы скоро увидите, расплатиться за него. Такие минуты неповторимы, хотя человек создал неумную басню, будто одинаковые причины всегда вызывают одинаковые результаты. Это вовсе не так. Разве тысячная трубка опиума доставляет такое же наслаждение, как первая? Разве после года пьянства один коктейль так же согревает, как несколько?
Однажды, окончив утреннюю работу, я выпил перед обедом коктейль в одиночестве. С того дня я стал всегда пить бокал перед обедом, даже когда не было гостей. Тут-то он меня и сцапал.
Джон — Ячменное Зерно! Я начал пить регулярно, а главное — пить в одиночестве. Я пил уже не ради вкусовых ощущений, а ради действия, которое произведет на меня алкоголь.
Теперь каждый день перед обедом меня тянуло выпить.
И мне никогда не приходило в голову, что лучше бы воздержаться.
Пью же я за свой счет! Денег хватит и на тысячу порций! Лишь бы захотелось! И что такое один коктейль для человека, который в течение нескольких лет пил куда более крепкие напитки в неограниченном количестве!
У меня на ферме был следующий распорядок дня: с четырех или с пяти часов утра я работал в постели над корректурами, в половине девятого садился за письменный стол, до девяти разбирал почту и тому подобное, а ровно в девять неизменно начинал писать. К одиннадцати — иногда немного раньше или немного позже — моя тысяча слов была готова. Еще полчаса уходило на то, чтобы привести в порядок письменный стол, и на этом мой рабочий день кончался. В половине двенадцатого я ложился в гамак под деревьями и читал письма и газеты. В половине первого я обедал, после обеда плавал или катался верхом.
Раз я выпил коктейль в неурочное время — в половине двенадцатого, перед тем как устроиться в гамаке. С тех пор я стал это проделывать и дальше, причем не отказываясь от обычного предобеденного коктейля. Прошло немного времени, и я заметил, что, сидя за письменным столом, в разгар работы я с нетерпением ожидаю этого коктейля, который можно будет выпить в половине двенадцатого.
Тут-то я впервые понял совершенно ясно, что хочу спиртного. Ну и что за беда? Я не боюсь Джона — Ячменное Зерно! Я к нему давно привык. Я пью с умом и с осторожностью. И никогда больше не буду пить сверх меры. Мне известно, как опасен алкоголь и к чему он приводит. Я помню, как Джон Ячменное Зерно старался меня погубить. Но все это было давным-давно.
Пить до одури? Доводить себя до бесчувствия? Нет! Я хочу, чтобы мне было тепло и радостно, чтобы мне хотелось смеяться, чтобы лучше работалось, — вот зачем, собственно говоря, я и пью! Я воображал, что властен и над самим собой, и над. Ячменным Зерном.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Увы! Одно и то же возбуждающее средство быстро перестает оказывать прежнее действие. Постепенно я стал замечать, что один коктейль уже не производит на меня должного впечатления.
После одного бокала я не ощущал никакой реакции — ни тепла, яи веселой приподнятости. Чтобы ощутить прежний результат, требовалось уже два или три. А я к этому результату стремился.
Я выпивал первый бокал в половине двенадцатого, направляясь с письмами к гамаку, а через час, перед обедом, осушал второй. Потом я стал вылезать из гамака на десять минут раньше, чтобы успеть пропустить до обеда два коктейля. Итак, это вошло в привычку: три коктейля между работой и обедом. Нет ничего губительнее этой привычки — пить регулярно и наедине с самим собой.
Я охотно пил с гостями, но когда никого не было, пил один.
Затем я сделал следующий шаг. Если гость бывал человеком умеренным, я выпивал два бокала, пока он пил один: первый — с ним вместе, второй — от него тайком. Второй бокал я пил украдкой и, более того, пил один, даже если у меня в гостях был друг, товарищ, с которым можно было бы выпить вместе. Но Джон — Ячменное Зерно и тут поспешно находил оправдание:
нехорошо навязывать гостеприимство и спаивать гостей. Начнешь уговаривать, он и напьется — много ли ему нужно! Что же остается делать, как не пить второй стакан украдкой: ведь я не виноват, что мне для приятного самочувствия требуется вдвое больше!
Пожалуйста, не сделайте заключения, что я дурак или слабовольная тряпка. По общепринятым понятиям, я преуспел в жизни, и, если не будет нескромным сказать, преуспел необычайно, а для этого понадобилось немало ума и силы воли. Организм у меня железный: он вынес такое, от чего слабые гибнут, как мухи. Однако все, что я рассказываю, — правда, это случилось со мной и с моим хваленым организмом. Это не теория, не отвлеченные схемы, а сама жизнь, лишь подчеркивающая власть Ячменного Зерна. Это порождение варварства мертвой хваткой держит человечество со времен седой и дикой старины и собирает с него чудовищную дань, пожирая молодость, подрывая силы, подавляя энергию, губя лучших, цвет рода людского. А мы все не можем его уничтожить!
Итак, возвращаюсь к своей исповеди. Во второй половине дня я долго и энергично плавал в бассейне, потом совершал великолепную прогулку верхом по горам или по Лунной Долине и возвращался домой в таком изумительном настроении, что жадно хотел еще полнее ощутить свое счастье. Я знал, что для этого надо: коктейль перед ужином. Но не один, а по меньшей мере два-три.
Кстати, почему бы не г? Ведь только так и чувствуешь, что живешь, а я с малотетства юрнчий поклонник жизни! Вскоре эта вечерняя выпивка тоже вошла в привычку.
Теперь я постоянно искал предлога выпить. Предлогом могло служить что угодно: милая компания, легкое раздражение, вызванное разговором с архитектором или с вороватым каменщиком, строившим сарай; гибель любимого коня, распоровшего брюхо о колючую проволоку, приятные вести из редакции, полученные с утренней почтой… На ловца и зверь бежит: повод находился всегда. Властное желание выпить определяло все. Так после двух десятков лет игры в прятки с Джоном — Ячменное Зерно, когда я бегал от него, а если пил, то нехотя, я стал ощущать к нему влечение. И слабость мою породила моя же собственная сила:
если обычному человеку хватает одного бокала, то мне, чтобы почувствовать то, к чему я стремился, нужна в два, три, четыре раза большая порция.
Одно правило я все же соблюдал: не касался спиртного, пока не кончена тысяча слов. Коктейль как бы отделял рабочую часть дня от предстоящего отдыха. Тогда уже работа исключалась из моего сознания. Ни одна мысль о ней не тревожила меня до утра, когда ровно в девять я усаживался за письменный стол и начинал дневное задание. Эту новую способность полностью переключаться я ценил. Стена, воздвигаемая алкоголем, позволяла мне сохранять творческую энергию. Не так уж страшен Джон — Ячменное Зерно, как его изображают! Он оказывает много полезных услуг, и это одна из них.
Я продолжал создавать произведения, исполненные чистоты, здоровья, искренности. В них ни на йоту нет пессимизма. Болезнь указала мне путь жизни. Я понял, что без иллюзий не обойтись, и воспевал иллюзии. Я и сейчас пишу так же: чистые, бодрые, оптимистические произведения, внушающие любовь к жизни.
И критики не устают уверять меня, что я полон богатырской жизнеутверждающей силы и сам нахожусь в плену иллюзий, положенных в основу моего творчества.
Я отклонился от темы, но мне хочется еще раз спросить себя о том, о чем спрашивал уже много тысяч раз. Зачем я пил? С какой стати? Я был счастлив. Может быть, чересчур счастлив? Я был здоров. Может быть, слишком здоров? Действительно ли у меня было столько лишней энергии? Трудно сказать. Не знаю. Я могу лишь высказать одно предположение, которое кажется мне всего более вероятным: виновата моя длительная дружба с Джоном — Ячменное Зерно. Долго тренируясь, левша может научиться пользоваться правой рукой. Не случилось ли так же со мной? Не стал ли я пьяницей после долгой практики?
Ведь я был так счастлив! Выздоровел, и ко мне пришла любовь. Я зарабатывал больше денег, затрачивая на это меньше усилий. Энергия била во мне ключом. Я спал, как младенец. Продолжал писать книги, имевшие успех, и в политических спорах убеждал моих противников фактами, которые ежедневно воспитывали во мне все больше уверенности в моей правоте. Грусть, печаль, разочарование ни на секунду не омрачали мою жизнь.
Я был все время счастлив. Жизнь звенела, как радостный гимн.
Жаль было даже тратить время на сон, ибо я тогда лишал себя того наслаждения, которое испытывал наяву. И все-таки я пил.
Джон — Ячменное Зерно уже злорадно потирал руки.
Чем больше я пил, тем больше мне требовалось для достижений моей цели. Приезжая из Лунной Долины в город и обедая в ресторане, я заказывал коктейль, но он не производил на меня никакого действия. Он не возбуждал меня. Уже по дороге в ресторан я был вынужден искать повода выпить. Иногда это были дватри коктейля, а если я встречал друзей, то четыре, пять, шесть — тут уже не приходилось считать. Однажды я куда-то спешил и не успел спокойно выпить несколько бокалов. Меня осенила блестящая мысль: заказать двойной коктейль. С тех пор если я торопился, то заказывал двойной коктейль. Это сберегало время.
В результате обильных и регулярных возлияний я был все время под хмельком. Мой мозг так привык к искусственному подстегиванию, что без него становился вял и неактивен. Встречаясь с людьми, бывая в обществе, я все больше и больше нуждался в алкоголе. Я мог присоединиться к компании и чувствовать себя на равной ноге с остальными, только когда у меня шумело в голове, и оттого делалось тепло и весело, появлялся интерес и задор, а весь мир словно подергивался радужной пеленой.
Был и другой результат. Оказалось, что Джон — Ячменное Зерно начинает затягивать сети все туже. Он угрожал мне старым недугом, подбивая опять пуститься на поиски правды, сорвать покровы с нее и взглянуть ей в лицо. Я снова начал задумываться о смысле жизни. Но на этот раз все происходило постепенно.
Иногда мне на мгновение становилось страшно. К чему это ведет? Но Джон — Ячменное Зерно — мастер увиливать от ответа.
Он говорит: "Пойдем выпьем, я тебе все объясню!" И он умеет убедить, умеет выбрать примера ради какой-нибудь случай и потом уже не устает о нем напоминать.
Однажды со мной произошло несчастье: потребовалась сложная операция. Как-то утром, неделю спустя после операции, слабый, измученный, я лежал на больничной койке. Загар на моем лице, обросшем за время болезни бородой, превратился в нездоровую желтизну. Врач стоял у моей постели, собираясь уходить. Он посмотрел неодобрительно на сигарету, которую я держал во рту.
— Это дело надо бросить, — сказал он назидательным тоном. — Вас это погубит. Взгляните на меня!
Я взглянул. Он был примерно моего возраста, сильный, широкоплечий, с живыми глазами и здоровым румянцем во всю щеку. Мужественный, здоровый, превосходный экземпляр человеческой породы.
— Прежде я курил, — продолжал он, — сигары. Но даже от них отказался. И вот результат, видите?
Он говорил убежденно, имея на это полное основание. А через месяц он умер. И умер не от несчастного случая. Его погубили какие-то мудреные палочки, носящие длинное научное название?
Он невыносимо страдал, и много дней мучительные крики этого здоровяка и красавца были слышны на весь квартал. С криком он и умер.
— Видишь, — говорил мне Джон — Ячменное Зерно, — он следил за собой. Даже бросил курить сигары. И вот конец.
Не слишком приятно, а? А такую заразу можно подхватить где угодно. От нее не убережешься. Твой доктор-здоровяк остерегался, как только мог, а все-таки подхватил! Когда зараза в воздухе, не знаешь, кого она сделает своей жертвой. Может быть, тебя. Подумай, сколько хорошего этот доктор потерял! Так неужели ты хочешь отвергнуть то, что предлагаю я? А вдруг и тебя подстерегает такая же участь? В жизни нет справедливости — это лотерея.
А я скрашиваю жизнь лживой улыбкой и смеюсь над действительностью. Смейся и ты! Тебя ждет такой же конец, смейся, пока можешь. Мир довольно непригляден. Я преображаю его. Жизнь — дрянная штука, если с твоим доктором могло такое приключиться. Спасение лишь в одном: выпей еще стаканчик и забудь про все!
И, разумеется, я пил еще стаканчик — скорее по привычке.
Я пил каждый раз, когда Джон — Ячменное Зерно напоминал мне о происшествии с доктором. Но пил разумно, соблюдая осторожность. Всегда старался выбирать напитки лишь самого высшего качества, избегал скверного виски, которое валило с ног. Между прочим, надо заметить, что когда человек начинает пить разумно, не теряя рассудка, это значит, что он далеко зашел и дело плохо.
Я продолжал придерживаться своего правила: не пить по утрам, пока не окончу свою тысячу слов. Впрочем, иногда я на день отрывался от работы. В таких случаях я не боялся выпить первый раз довольно рано: ведь я не нарушаю своего правила!
А люди неискушенные еще спрашивают, как это можно привыкнуть пить!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Когда мой «Снарк» вышел из бухты Сан-Франциско в дальнее плавание, на нем не было спиртного (правда, месяцев через шесть мы случайно обнаружили, что это не так). Чтобы приструнить Джона — Ячменное Зерно, я ввел на судне сухой закон.
Отсюда видно, что я все-таки прислушивался к голосу разума, который нашептывал мне слова предосторожности.
Разумеется, я лукавил с собою и лебезил перед Ячменным Зерном. Я призывал на помощь науку, говорил себе, что буду пить только в порту. Во время плавания мой организм будет освобождаться от алкоголя, зато на стоянках выпивка доставит мне больше удовольствия. Виски будет сильнее подстегивать, возбуждать меня и покажется еще вкуснее.
От Сан-Франциско до Гонолулу мы плыли двадцать семь дней.
На второй день я уже не вспоминал Ячменное Зерно. Этим я хочу еще раз подчеркнуть, что по природе своей я не алкоголик.
Иногда во время плавания, предвкушая обеды и ужины на Гавайских островах (мне уже приходилось там бывать несколько раз), я, разумеется, думал и о напитках, предшествующих трапезам.
Я не скучал по выпивке, а просто подумывал о ней как о неотъемлемой части веселого и очень приятного времяпрепровождения.
Таким образом, я опять убеждал себя, что сам распоряжаюсь Джоном Ячменное Зерно. Хочу — пью, хочу — нет. Все зависит от моего собственного желания.
Около пяти месяцев кочевали мы по Гавайским островам.
На суше я пил, и даже немного больше, чем перед отъездом из Калифорнии. Гавайцы вообще употребляют больше спиртного, чем жители умеренных широт (точнее, широт, удаленных от экватора). А ведь Гавайские острова — только субтропики! Чем дальше мы углублялись в тропики, тем больше пили вокруг, тем чаще пил и я.
С Гавайских островов мы направились на Маркизские.
Мы были в море шестьдесят дней и за все время ни разу не увидели не только земли, но даже паруса или пароходного дымка. Как-то случайно наш кок, наводя порядок в камбузе, нашел клад. На дне рундука с провиантом лежала дюжина бутылок анжелики и мускателя. Попали они сюда, очевидно, с нашей фермы вместе с домашним вареньем и маринадами. Пролежав шесть месяцев в теплом камбузе, густое сладкое вино стало еще лучше.
Я отхлебнул. Восхитительно! С тех пор раз в день, определив положение судна и заполнив лоцию, я выпивал полрюмки вина.
Эффект был поразительный: я становился добрее, море — еще более прекрасным. Каждое утро, выстукивая в каюте свою тысячу слов, я с нетерпением ждал заветной минуты.
К сожалению, приходилось делиться с другими, а срок нашего плавания оставался неясным. Какая жалость, что бутылок лишь дюжина! Когда все они были выпиты, я даже пожалел, что угощал своих спутников. Меня томила жажда. Скоро ли наконец Маркизские острова?
Когда мы бросили якорь, я уже не владел собой. На островах мы обнаружили несколько белых, множество туземцев, довольно хилых на вид, и дивную природу. Рому было море разливанное, абсента — сколько душе угодно, но ни виски, ни джина. Я отведал рома. Огненное зелье! Ну что ж! Будем пить абсент. К сожалению, пить приходилось в большом количестве: иначе он на меня совершенно не действовал.
С Маркизских островов мы увезли столько бутылок абсента, что хватило до Таити; а уж там я сделал солидный запас виски — шотландского и американского. Но, пожалуйста, не делайте неправильных выводов! Я не был пьяницей в общепринятом смысле: не шатался, не терял рассудка. Человек опытный, привычный, здоровый по природе не позволит себе пасть так низко.
Он пьет для бодрости, для хорошего настроения, и только. Он тщательно остерегается тошноты и головной боли от перепоя, боится стать беспомощным и уронить свое достоинство в глазах окружающих.
Человек привычный доводит себя до легкого опьянения, и у него все получается тихо, мило и прилично. Он пьет круглый год, и ему все сходит с рук. В Соединенных Штатах сотни людей пьют в клубах, в гостиницах, у себя дома, они никогда не бывают пьяными и в то же время всегда навеселе. Если им это сказать, они категорически запротестуют. Они думают, как когда-то думал я, что сами распоряжаются Джоном — Ячменное Зерно, а не наоборот.
Во время плавания я сдерживался, зато вознаграждал себя на берегу. Но в тропиках я почувствовал усиленную потребность в алкоголе. То, что там белые очень много пьют, всем известно.
Тропики вообще не подходящее место для белых. Светлая кожа не защищает их от ослепительно яркого солнца. Ультрафиолетовые и другие невидимые глазу лучи солнечного спектра сжигают и разрушают ее. Так сжигали и разрушали рентгеновские лучи кожу первых экспериментаторов, не догадывавшихся об опасности.
У белых людей в тропиках резко портится характер. Они становятся жестокими, безжалостными, совершают чудовищные злодеяния, которых в жизни не совершили бы в привычном, умеренном климате. Они становятся нервными, раздражительными, безнравственными и пьют — пьют сверх всякой меры. Пьянство — одна из форм деградации, которой подвергаются белые, находящиеся слишком долго под действием раскаленного солнца. Потребность в алкоголе усиливается помимо их воли. Белым нельзя долго жить в тропиках. Там они обречены, и пьянство лишь ускоряет их гибель. Но никто об этом не думает. Все пьют.
Я тоже заболел от солнца, хотя пробыл в тропиках сравнительно недолго. Я пил там вовсю, впрочем, хочу сразу оговориться, что заболел и прервал путешествие на «Снарке» не по этой причине. Я был силен как бык и много месяцев боролся с болезнью, которая разрушала мою кожу и нервные ткани. Плавая под тропическим солнцем вдоль Ново-Гебридских и Соломоновых островов, лавируя между коралловыми атоллами Лайна, я работал за пятерых, несмотря на малярию и мелкие неприятности вроде библейской серебристой проказы. Вести судно сквозь рифы, мели и проливы, вдоль неизведанных берегов коралловых морей — само по себе тяжелый труд. На яхте не было штурмана, кроме меня.
Среди моей команды не нашлось никого, с кем я мог бы посоветоваться и проверить свои наблюдения, оказавшись в непроглядной мгле среди рифов и мелей, не нанесенных на карту. Я бессменно стоял на вахте. Доверить судно было некому. Иногда приходилось выстаивать сутки напролет, а отдыхать уж йотом, урывками.
Я был капитаном и боцманом. Третьей моей обязанностью было лечение больных, и, признаться, это занятие на «Снарке» тоже оказалось не из легких. На борту все болели малярией, настоящей тропической малярией, которая может убить человека в три месяца. Весь мой экипаж страдал от кожных язв и чесотки.
Повар-японец от всех этих бед сошел с ума. Один из матросовполинезийцев чуть не умер от черной лихорадки. Да, работы было по горло: я давал лекарства, перевязывал раны, рвал зубы и спасал от пустяков вроде пищевого отравления.
Четвертой моей обязанностью было писать ежедневно свою тысячу слов. И ее я выполнял регулярно, за исключением тех дней, когда приступ малярии валил меня с ног или бурые шквалы налетали на «Снарк». Была у меня и пятая обязанность: как путешественник и писатель, стремившийся все повидать и запомнить, я должен был систематически вести дневник. Шестая, последняя, заключалась в том, что, как владелец яхты, я выполнял, так сказать, официальные функции, когда мы прибывали в незнакомые дальние места, где появление судна — целое событие. Мне приходилось принимать гостей у себя на яхте, посещать плантаторов, торговцев, губернаторов, капитанов военных судов, патлатых туземных вождей и премьер-министров, которые иногда оказывались счастливыми обладателями ситцевой набедренной повязки.
Разумеется, я пил. Пил, принимая гостей, и пил, когда меня принимали. Пил наедине. Работая за пятерых, я считал себя вправе выпить. Алкоголь нужен человеку, работающему сверх сил. Я заметил, как он действует на мою команду. Поднимая якорь с глубины в сорок морских саженей, люди уже через полчаса выбивались из сил и дрожали всем телом, стараясь отдышаться.
Добрая порция рома вмиг восстанавливала их работоспособность.
Весело крякнув, вытерев рот ладонью, человек вновь принимался за дело. Я убеждался в чудодейственной силе рома и в других случаях, например когда приходилось между приступами малярии работать по шею в воде, накренив яхту набок, чтобы устра нить повреждение.
Еще одна черта многоликого Джона! Внешне он будто бы тебя спас и ничего не потребовал взамен. Помог восстановить иссякшие силы, поднял на ноги, и ты опять готов работать.
Некоторое время действительно ощущаешь приток свежих сил.
Помню, я однажды нанялся грузить уголь на океанский пароход.
Работа была адская, и восемь дней нас, грузчиков, поддерживали тем, что поили виски. Мы трудились полупьяные. Без виски мы бы не справились с этой работой.
Сила, которую дает Джон — Ячменное Зерно, не мнимая, а подлинная. Извлекается она из обычных источников силы, и за нее в конечном счете нужно расплачиваться, да не как-нибудь, а с процентами. Но разве измученный трудом человек станет заглядывать вперед? Он принимает это чудесное превращение как нечто естественное. И усталый коммерсант, и работник умственного труда, и выбившийся из сил чернорабочий — все они, поверив лжи Ячменного Зерна, становятся на путь, ведущий к смерти.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Я приехал в Австралию и лег в больницу, чтобы подлечиться, а потом продолжить путешествие. Пробыв там несколько недель, я ни разу не вспомнил об алкоголе: знал, что он никуда от меня не денется! Но, выписавшись из больницы, я убедился, что от главного меня не вылечили. Серебристая проказа так и осталась.
Таинственная солнечная болезнь, которую австралийские врачи лечить не умели, по-прежнему разрушала кожу. Меня все еще трепала малярия; страшные приступы валили меня с ног в самые неожиданные моменты. Из-за нее пришлось отказаться от лекционной поездки по городам Австралии, на которую я было согласился.
Итак, я отказался от плавания на «Снарке» и решил сменить климат на более прохладный. Выйдя из больницы, я в тот же день принялся пить как ни в чем не бывало. За едой пил вино, а перед едой — коктейли. Пил виски с содовой, если его предпочитали мои собутыльники. Я чувствовал себя полным властелином Ячменного Зерна: захочу — напьюсь, захочу — брошу — и гордо думал, что именно так будет всю жизнь. Некоторое время спустя я поехал на крайний юг Тасмании, к 43° южной широты: там было прохладнее. Спиртных напитков там не было, но это для меня не имело значения. Я не пил и нисколько не огорчался по этому поводу.
Наслаждаясь прохладой, я ездил верхом и ежедневно писал свою тысячу слов, за исключением тех случаев, когда меня с утра выводил из строя жестокий приступ малярии.
Пусть никто не подумает, что причиной моей болезни было злоупотребление алкоголем. Ведь и мой слуга, японец Наката (он и поныне живет у меня), болел тропической лихорадкой.
Чармиан тоже, причем она заболела еще и тропической неврастенией, от которой избавилась лишь после нескольких лет лечения в умеренном климате. Однако ни она, ни Наката в рот не брали спиртного!
Вернувшись в Хобарт-Таун, где можно было достать виски, я снова взялся за старое. В Австралии повторилась та же история.
А вот возвращаясь на пароходе, капитан которого был трезвенником, я не притронулся к виски все сорок три дня пути. В Эквадоре, прямо под лучами экваториального солнца, где люди умирают от желтой лихорадки, оспы и чумы, я сразу же начал пить, и пил все, что попадалось под руку, лишь бы опьянеть. Я не заболел ни одной из местных болезней, Чармиан и Наката тоже, хотя они ничего не пили.
Влюбленный в тропики, несмотря на все беды, которые они мне причинили, я по пути делал остановки в разных местах и не скоро еще добрался до родной Калифорнии с ее чудесным умеренным климатом. Но где бы ни заставало меня утро — в плавании или на суше, — я выполнял свое ежедневное задание:
тысячу слов. Малярия теперь реже давала себя знать, кожные язвы рубцевались, и я пил вовсю, как положено здоровому, сильному мужчине.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Вернувшись к себе на ферму, в Лунную Долину, я продолжал систематически пить. Мой распорядок исключал алкоголь только утром: первый стакан я выпивал, лишь окончив свою тысячу слов. После этого и до обеда я уже не считал стаканов и был все время под хмельком. Перед ужином я снова подкреплялся.
Пьяным меня никто не видел по очень простой причине: я и не был пьян. Но навеселе обязательно — дважды в день. Если бы другой, непривычный человек пил столько каждый день, он наверняка давно протянул бы ноги!
Старая история! Чем больше я пил, тем больше мне было нужно для достижения желаемого действия. Вскоре меня уже перестали удовлетворять коктейли. Мне было некогда возиться с ними, да и желудок мой столько не вмещал. Виски действовало куда сильнее. Его требовалось меньше, а результат был ощутимее. Теперь мою предобеденную порцию составляло пшеничное или ржаное виски, смеси выдержанных вин, а в конце дня — виски с содовой.
Прежде я всегда превосходно спал, теперь мой сон испортился. Бывало, если я проснусь среди ночи, то начну читать и снова засыпаю. Теперь это уже не помогало. Я мог читать два часа и даже три, но сон не приходил. Навевало его только виски, да и то рюмки три, не меньше.
После этого до утра уже оставалось так мало времени, что алкоголь не успевал переработаться в организме, и я просыпался с ощущением сухой горечи во рту, с головной болью и спазмами в желудке — в общем, чувствовал себя прескверно. Похмелье, как у всех заядлых пьяниц! Для бодрости срочно требовалось что — нибудь выпить. И Джон — Ячменное Зерно, уже сумевший втереться ко мне в доверие, не медлил. Итак, выпивка перед завтраком — для аппетита. Я приобрел в это время еще одну привычку: держать возле постели кувшин с водой — и пил по ночам, чтобы умерить жжение и сухость во рту.
Мой организм находился под непрерывным воздействием алкоголя. Я не разрешал себе передышки. Уезжая в какоенибудь глухое место и не зная, смогу ли достать там виски, я брал с собой из дому кварту, а подчас и несколько кварт. Прежде меня поражало, когда это делали другие. Теперь я сам так поступал не краснея! Все мои мудрые правила летели к чертям, когда я оказывался в мужской компании. Я дружно пил со всеми вместе то же самое и в том же количестве, что и они.
Во мне горел ненасытный огонь. Пламя поддерживалось изнутри и разгоралось все ярче. В течение дня не было ни минуты, когда бы мне не хотелось пить. Я начал отрываться от работы, чтобы осушить стакан, написав пятьсот слов. А вскоре и вовсе не приступал к работе, пока не выпью.
Я очень хорошо понимал, чем все это грозит, и положил себе за правило не пить, пока не кончу писать. Но гут возникло неожиданное дьявольское осложнение. Без алкоголя работа уже не шла.
Не выпив, я не мог писать. Я начал бороться с этим. Вот она, мучительная жажда, — которой я не знал раньше! Я сидел за письменным столом, брал в руки перо, вертел бумагу, но слова не шли.
В мозгу была одна лишь мысль: против меня в буфете стоит Джон Ячменное Зерно. Отчаявшись, я наливал себе виски, и тогда колесики в мозгу возобновляли работу, и я отстукивал тысячу слов на машинке.
В своем городском доме в Окленде я прикончил все запасы и решил больше их не пополнять. Это не помогло, ибо, к сожалению, на нижней полке буфета еще оставался ящик пива. Тщетно пробовал я работать, уверяя себя, что пиво — жалкий заменитель сильнодействующих средств, что я не люблю его. Мысль об этом ящике не давала работать. И только когда я выпил полкварты, появились нужные слова. Но мне пришлось многократно повторить эту порцию, прежде чем тысяча слов легла на бумагу.
Хуже всего было то, что от пива у меня делалась ужасная изжога, впрочем, несмотря на это, я довольно быстро разделался с ящиком.
Теперь на полках было пусто. Я не пополнял запасов. Совершая героические усилия над собой, я все-таки вернулся к правилу писать свою ежедневную тысячу слов без помощи алкоголя. Но, пока я писал, жажда все больше и больше разгоралась. Едва поставив точку, я выскакивал из дома и мчался в город выпить.
Господи! Если Джон — Ячменное Зерно мог так поработить меня, чуждого ему по природе, как же должен страдать настоящий алкоголик, который старается подавить свою органическую потребность в алкоголе и не находит никакого понимания и сочувствия у близких — те лишь презирают и высмеивают его!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Но никуда не денешься от расплаты. Джон — Ячменное Зерно стал взыскивать с меня по старым счетам — и не столько с тела, сколько с души. Вернулась прежняя тяжелая болезнь — недуг чисто психического свойства. Давно забытые призраки прошлого снова подняли голову. Но теперь они были иными — гораздо более страшными. Прежде они были порождением ума, и я сумел их победить нормальной здоровой логикой. Теперь же их воскресила Белая Логика Джона — Ячменное Зерно, а уж он не позволит похоронить свои призраки! Заболев пессимизмом, алкоголик должен пить еще больше — другого лекарства Джон — Ячменное Зерно, несмотря на обещания, дать не может.
Как описать Белую Логику тем, кто с ней не знаком? Пожалуй, прежде всего нужно сказать, что сделать это едва ли возможно. Возьмем для примера Страну Гашиша, страну огромную и древнюю. В прошлом я совершил туда два незабываемых путешествия. Мне врезались в память все подробности моих странствий.
Однако тщетными оказываются мои попытки описать свое паломничество, пусть даже самый мелкий эпизод, людям, которые там не побывали.
Прибегая к самым гиперболическим ярким сравнениям, я говорю своим слушателям: целые века немыслимых страданий, бездны ужаса можно испытать в промежутке между двумя нотами джиги, исполняемой на рояле. Я бьюсь целый час, стараясь описать один только штрих из жизни этой Страны, но в конце концов вижу, что меня не поняли. А если я не способен передать слушателям даже впечатление об одной из всех виденных мною удивительных и страшных вещей, то, конечно, они не получат ни малейшего представления о Стране Гашиша в целом.
Зато стоит мне заговорить с человеком, побывавшим в этих фантастических краях, и мы сразу поймем друг друга. Одна фраза, одно слово мгновенно вызовет в его мозгу те образы, о которых мне за несколько часов так и не удалось дать представление людям, которые там не были. Так же обстоит дело и с царством Джона — Ячменное Зерно, где правит Белая Логика. Тем, кто ни разу не ступал туда, рассказ странника покажется непонятным и фантастическим. Мне остается лишь попросить их принять мои слова на веру.
Алкоголь вселяет в человека роковые предчувствия, и здесь трезвый уступает пьяному. Истины бывают в этом мире разные:
одни более правдивы, другие — менее, а некоторые совершенно ложны, но именно они полезнее всех остальных, потому что все живое хочет жить. И ты, мой неискушенный читатель, сразу поймешь, как кощунственно и безумно царство Ячменного Зерна, о котором я пытаюсь рассказать языком его приверженцев. Я знаю, что этот язык тебе чужд, ибо все такие, как ты, трезвенники решительно избегают дорог, ведущих к смерти, признавая только дороги жизни. На свете много разных дорог и разных истин. Но будь терпелив Возможно, моя речь покажется тебе косноязычной, но, может статься, ты и уловишь очертания неведомых стран, поймешь хотя бы отдаленно людей иного склада.
Да, алкоголь говорит правду, но эта правда далека от привычных норм. Нормально то, что способствует здоровью и, следовательно, жизни. Нормальная правда — это правда низшего порядка.
Взгляните на рабочую лошадь. Как ни безотрадно ее существование, бедняга с первого до последнего дня, неизвестно почему, верит, что все на свете прекрасно, что ярмо полезно. Инстинктивный страх внушает ей, что нет ничего ужаснее смерти, что жизнь — это благо, что со временем, когда сил станет меньше, ее не заставят работать, не будут хлестать и понукать, что старость все почитают и ценят. На самом же деле водовоз запряжет костлявую старую клячу и заставит таскать непосильно тяжелую бочку, и страдалица прослужит покорно и безропотно до последнего вздоха. А потом? Потом ее свезут на живодерню, и тощая плоть, упругие кости, соки, нервы и ферменты пойдут на кожи, птичий корм, клей и удобрения. Пока же теплится жизнь, несчастная кляча должна принимать на веру правду низшего порядка — правду жизни, ибо без нее всякое существование стало бы невозможным.
Эта лошадь, как и ее сестры и все прочие животные, включая человека, ослеплена и оболванена. Жить любой ценой! Жизнь хороша, несмотря на все страдания, несмотря на то, что впереди — неизбежный конец. Такого рода истина необходима не для природы, нет, но для живых существ, которым суждено пробыть на земле недолгий срок и погибнуть. Как ни ошибочна низшая правда, ее суть остается разумной и здоровой: если хочешь жить, сохраняй веру в жизнь!
Из всех животных только человеку дано мыслить. Страшная способность! Силою ума человек проникает в суть вещей, видит лицом к лицу вселенную, нагло равнодушную к нему и его мечтам.
Ему это доступно, но в то же время и опасно. Чтобы жить жадно, полно, трепетно, надо быть слепым и верить только чувствам. Что хорошо, то и правда. Только такая правда нужна, хотя она и низшего порядка, только ею должен руководствоваться человек, отвергая все остальное Он должен принимать за чистую монету обман ума и чувств, должен верить лживым признакам страсти.
Так обычно человек и поступает. Опасно видеть темные стороны жизни, ее пустоту и бесплодие, пугаться собственной похоти и алчности. Многим удалось мельком взглянуть на правду иного порядка, на высшую правду, и они отступили в испуге. Очень многие переболели этой тяжкой болезнью, выжили и рассказали другим, а сами тут же забыли о ней навсегда. Они живут. Они поняли истину, потому что в них самих и заключается жизнь. Они правы.
Как же действует Джон — Ячменное Зерно? Он приносит проклятие тем, кто одарен воображением, кто страстно и горячо любит жизнь. Ячменное Зерно шлет им Белую Логику, апостола высшей правды, врага жизни, жестокую и холодную, как межзвездные пространства, как труп, как лед неопровержимых доказательств и незабываемых фактов. Джон — Ячменное Зерно не хочет, чтобы мечтатель грезил, чтобы живущий жил. Он разит живых и превращает в ничто парадокс бытия, пока его жертва не возопит, как в "Городе страшной ночи": "Наша жизнь — обман, наша смерть — темная бездна". И тот, кого Ячменное Зерно избрал своей жертвой, вступает на дорогу смерти.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Но вернемся к рассказу о моей жизни и о том, какое влияние оказала на меня в прошлом Белая Логика Ячменного Зерна.
На прелестной ферме в Лунной Долине, отравленный длительным пьянством, я одержим мировой скорбью — горьким наследием смертных. Тщетно стараюсь я понять причину своей тоски.
Я сплю в теплой постели. Надо мною прочная кровля. В доме полный комфорт. Пища — любая, какую только душа пожелает.
Физически я совершенно здоров. Машина, так сказать, работает отлично. Ни мозг, ни мускулы не переутомлены работой. Я владею землей, у меня есть деньги, я добился литературного успеха, пользуюсь влиянием и чувствую, что вношу свою лепту в дело служения ближним. Со мной рядом подруга, которую я люблю.
У меня есть дети — плоть от моей плоти. Я честно выполняю свой долг гражданина. Я построил дом, и не один, а несколько, вспахал много сотен акров земли. А деревья, — не я ли посадил сто тысяч деревьев? Из любого окна в моем доме видны их стройные стволы и кроны, тянущиеся ввысь, к солнцу.
Моя жизнь, безусловно, сложилась счастливо. Вряд ли из миллиона найдешь сотню таких, которым повезло, как мне. И все же, несмотря на все успехи, мне тоскливо. Я тоскую оттого, что со мной Ячменное Зерно, я не виноват, что родился в такое время, которое наши потомки, люди эпохи разума, будут называть темными веками варварства. Джон — Ячменное Зерно увязался за мною, когда я был молод и глуп. Он был доступен, он манил меня на каждом углу, на каждом перекрестке. Псевдоцивилизация, при которой я жил, разрешила и узаконила торговлю этим зельем, отравляющим душу. Жизнь была устроена так, что меня и миллионы таких, как я, влекло, тянуло, а подчас и поневоле гнало в кабак.
Разделите со мной один из миллионов приступов тоски, которые нагоняет Джон — Ячменное Зерно! Я объезжаю свои прекрасные владения. Я сижу на великолепной лошади. Воздух пьянит, как вино. Виноградники на покатых холмах пылают осенними красками. Над горою Сонома собирается морской туман.
В тихом небе догорает вечернее солнце. У меня есть все, чтобы считать себя счастливым. Я живу. Я полон грез и тайн. Я весь пропитан солнцем, воздухом и светом. Все во мне живучее, здоровое. Я двигаюсь, управляю движениями существа, на котором сижу верхом. Я горд оттого, что живу, оттого, что познал страсть и вдохновение. У меня есть еще тысячи других причин гордиться.
Я властитель царства разума, я попираю все ничтожное копытами своего коня…
А между тем, глядя на изумительную красоту, открывающуюся моему взору, я ощущаю горечь. Да, жалок ты, человек, среди этой природы, которая существовала до тебя и будет существовать, когда тебя не станет! Сколько людей хлебнули горя, трудясь здесь в поте лица, не щадя сил, прежде чем эта упрямая почва стала плодоносной. А теперь она перешла ко мне. Да разве вечное может быть достоянием смертных? Эти люди умерли. Умру и я. Они трудились, корчевали пни, копали и сеяли и, расправляя онемевшие спины, глядели, как я, на такой же закат, на те же осенние краски, позолотившие виноградные гроздья, на тот же клочковатый туман, выползающий из-за гор. Их нет. И я знаю, что мне тоже скоро конец.
Конец? Он уже начался. У меня во рту хитроумное приспособление дантиста, заменяющее мне часть зубов. Кулаки мои тоже не те, какими были в молодости. Былые драки и потасовки лишили их силы. Правую руку я повредил, когда стукнул по голове какогото парня, имя которого сейчас и не вспомню. Левую тяжело поранил, обороняясь в другой отчаянной драке. Никто сейчас не поверит, что у меня был поджарый живот спортсмена. Да и ноги не те: я не жалел их, когда бешено работал и по ночам устраивал безумные оргии, сказались теперь все кровоподтеки и растяжения. Никогда уже не смогу я раскачиваться на головокружительной высоте, уцепившись за канат среди кромешной тьмы и воя шторма. Никогда больше не буду гнать собачью упряжку по бескрайней снежной пустыне Арктики.
Я знаю, что под моей распадающейся плотью, которая начала умирать с минуты, когда я появился на свет, — скелет, что под мясистым покровом, который называется лицом, — костлявый прообраз Курносой. Но я не боюсь. Бояться — значит быть здоровым. Страх смерти усиливает желание жить. А я болен — Белая Логика лишила меня этого страха. В том-то и суть проклятия Ячменного Зерна, что ты дерзко смотришь смерти в лицо и презираешь иллюзии жизни.
Я озираюсь вокруг и всюду вижу одно и то же безжалостное непрерывное разрушение — результат естественного отбора. Белая Логика заставляет меня снова раскрыть заброшенные книги и — слово за словом, параграф за параграфом — педантично развенчивает поэзию и красоту жизни. Все суета и тлен! Вокруг меня все гудит и жужжит, но я знаю, что это копошится жалкая мошкара, старающаяся изо всех сил, чтобы ее писк был услышан., Я возвращаюсь домой. Надвигаются сумерки. Ночные хищники выходят на охоту, и повторяется душераздирающая трагедия жизни: сильный пожирает слабого. Мораль отсутствует. Она есть только у человека, это он придумал целый кодекс поведения для охраны жизненных порядков, то есть низшей правды. Для меня в этом нет ничего нового — я еще в пору своей мучительной болезни узнал эти высокие истины, но заставил себя их забыть.
Они были так серьезны, что я отказывался принимать их всерьез, играл с ними боязливо и осторожно, словно то были злобные псы, которых опасно дразнить. Я лишь касался их и был достаточно умен и хитер, чтобы их не будить. Зато теперь Белая Логика их смело будит: она отчаянная, ей не страшны земные кошмары.
"Пусть осуждают меня философы всех школ, — нашептывает она мне по дороге домой, — я не боюсь! Я истина. Ты это знаешь.
Тебе не одолеть меня. Говорят, что я пособница смерти. Допустим.
Жизнь лжет, чтобы люди хотели жить. Жизнь — непрерывная ложь, безумная пляска в царстве зыбких теней, где плавают, вздымаясь и опадая, призраки нездешних миров, прикованные колесами лун. Призраки. Тени. Жизнь — страна теней, тени меняются, растворяются во мгле, переходят одна в другую; вот они здесь, вот уже исчезли, они мерцают, бледнеют, гаснут и снова появляются, меняя свой облик. Ты сам такой же призрак, потомок бесчисленных призраков прошлого. Все твои знания — мираж, все желания тоже. Мириады безыменных призраков из поколения в поколение передавали эти желания, которые вселились в тебя, а от тебя перейдут к бесчисленным поколениям призраков будущего. Жизнь быстротечна, жизнь — лишь видение. Ты сам не что иное, как видение. Призраки прошлого, вселившего в тебя, помогли тебе, постепенно меняя формы, превратиться из амебы в то, что ты есть. Ты начал жизнь свою лепетом и с этим лепетом исчезнешь, растворишься в призраках, которые придут тебе на смену".
Что возразить? Окутанный вечерней мглой, я продолжаю путь и презрительно думаю о жизни, которую Конт назвал Великим Фетишем. Вспоминаю изречение другого великого пессимиста:
"Все преходяще. Из земли ты вошел, и в землю сойдешь, и возрадуешься покою".
Но вот человек, которому покой не сладок; из мглы вырисовывается фигура и движется в мою сторону. Это старик рабочий с моей фермы, выходец из Италии. Он раболепно снимает передо мною шапку, ибо в его глазах я поистине царь и Бог. Я даю ему хлеб и кров, от меня зависит вся его жизнь. Он работает как вол изо дня в день, а живет хуже, чем лошади в моей конюшне, где всегда постлана свежая солома. Труд искалечил его. Он ходит, едва волоча ноги, он кособок, у него узловатые руки и пальцы безобразно скрючены. Не очень-то красивый призрак! И мозг его так же изуродован, как тело.
"По своей глупости он и не подозревает, что он призрак, — издевается Белая Логика. — Он верит лишь чувствам. Он раб обмана, именуемого жизнью. Его голова набита навязчивыми идеями. Он верит в загробную жизнь. Он наслушался поповских бредней, сулящих ему райское блаженство, неверное, как мыльный пузырь. Он хочет видеть себя бестелесным духом, витающим в межзвездном пространстве. Он непоколебимо убежден, что вселенная создана для него и что ему суждено остаться бессмертным в некоем сверхчувственном мире теней, воздвигнутом им же самим и ему подобными из обманов и иллюзий.
Но ты, человек просвещенный, начитанный, ты, кому я доверила свои страшные тайны, ты-то знаешь, каков он на самом деле — этот твой земной брат — злая шутка природы, химический фокус, одетый в платье зверь, сумевший возвыситься над остальным звериным миром по той счастливой случайности, что задние лапы у него оказались более устойчивы. Он брат не только тебе, но горилле и шимпанзе. В гневе он колотит себя в грудь, дрожит и рычит в безудержной ярости. Им управляют чудовищные звериные побуждения, он весь состоит из обрывков неосознанных древних инстинктов".
"Но он верит в бессмертие! — пытаюсь слабо возразить я. — Ведь это великолепно: такой болван, а, видишь, оседлал время, вообразил себя вечным!"
"Ба, — прерывает меня Белая Логика. — Не хочешь ли ты захлопнуть книги и поменяться местами с этим рабом желудка и похоти?"
Я стою на своем: "Но глупцы ведь счастливы!"
"Значит, и твой идеал счастья такой же, как у медуз, которые всплывают во мгле на поверхность недвижного теплого моря?»
Да уж, если Джон — Ячменное Зерно избрал тебя жертвой, ты его не переспоришь!
"Один шаг — и ты у благословенной Нирваны буддистов, — заключает Белая Логика. — Ну, вот ты и дома. Полно, не унывай!
Выпей! Мы с тобой люди просвещенные, мы знаем, что все суета сует!"
В моем кабинете, уставленном шкафами с книгами, в этом мавзолее человеческой мысли, я наливаю себе виски, потом снова и снова, и вот из бездонных глубин моего сознания вырываются "разбуженные мною псы". Ату! и они перепрыгивают через барьеры закона и предрассудков, пробиваются сквозь лабиринты религии и суеверия.
"Пей, — уговаривает Белая Логика. — Древние греки верили, что вино придумали бохи, чтобы смертные нашли в нем забвение.
Вспомни, что сказал Гейне".
Да, я помню слова этого пылкого еврея: "Все кончается с последним вздохом: и радость, и горе, и любовь, макароны и театр, зеленые липы и малиновые леденцы, власть человеческих отношений, сплетни, собачий лай и шампанское".
"Твой яркий свет — болезнь, — говорю я Белой Логике, — ты все лжешь".
"Потому, что говорю жестокую правду?" — парирует она.
"Увы, это так, в мире все перепутано и запутано", — печально соглашаюсь я.
"Лиу Лин был мудрее тебя, — издевается Белая Логика. — Помнишь его?"
Я киваю головой: да, я помню Лиу Лина, знаменитого пьяницу, одного из поэтов, которые жили в Китае много веков тому назад и называли себя "Семь мудрецов бамбуковой рощи".
"Ему принадлежит высказывание, — шепчет Белая Логика, — что пьяному мирские тревоги — что водоросли на реке. Так выпей же еще и поверь: все эти иллюзии и обманы — такие же водоросли".
Пока я прихлебываю новую порцию виски, мне вспоминается еще один китайский философ, Чаь Цзы, который за 400 лет до Рождества Христова бросил вызов сонному миру: "Как мне знать, не жалеют ли мертвецы о том, что когда-то цеплялись за жизнь?
Того, кому снится пир, наутро ждут горе и слезы; того, кому снятся горе и слезы, ждет веселье. Во сне они не знают, что спят.
Иные пытаются разгадать свой сон и, лишь проснувшись, узнают, что все пригрезилось… Глупцу кажется, что он не спит, и он утешает себя лестной мыслью, будто знает, кто он: король или бедный крестьянин. И ты сон, и Конфуций сон, и я, говорящий вам, что вы сны, — я тоже сон.
Однажды мне приснилось, что я мотылек и порхаю по воздуху. Я забыл, кто я есть на самом деле. Вдруг я проснулся и снова стал самим собою. Но так и не узнал, был ли я тогда человеком, которому приснилось, что он мотылек, или мотыльком, которому снится, что он человек"
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
"Хватит, — говорит Белая Логика, — забудь мечтателей-азиатов, которые жили в старину. Налей бокал, развернем пергаментные свитки, посмотрим, кто были мечтатели недавних времен, грезившие здесь, на теплых холмах твоей родины".
Я начинаю читать список имен прежних владельцев моего токайского виноградника. Этот скорбный лист начинается с Мануэля Микельгорено, бывшего когда-то "мексиканским губернатором, главнокомандующим и инспектором департамента обеих Калифорний"; он пожаловал десять квадратных лье земли, отнятой у индейцев, полковнику дону Мариано Гвадалупе Валлехо в награду за службу родине и за то, что тот в течение десяти лет содержал солдат за свой счет.
Полуистлевшая пачка документов — свидетельство человеческой алчности похожа на летопись грозной битвы. Тут доверенности и закладные, передаточные и дарственные грамоты, судебные решения и постановления о потере права выкупа закладной, запреты и купчие, ордер на арест за неуплату налогов, прошения об опекунстве, указы о разделе имущества… Как не похожа с виду эта земля, мирно согретая теплым солнцем бабьего лета, на неподатливое, непокорное чудовище, пережившее всех, кто с ним боролся, раздирал его на части и канул в вечность.
Кто был этот Джеймс Кинг из Уильяма? Даже самый старый житель Лунной Долины ничего о нем не расскажет. А ведь только шестьдесят лет тому назад он дал дону Мариано Валлехо восемнадцать тысяч долларов под залог каких-то земель, среди которых был и участок, ныне занятый моим виноградником Токай. Откуда явился и куда исчез Питер О'Коннор, после того как подписал документ о приобретении лесистого участка, ныне тоже занятого токайским виноградником? Далее появляется Луис Ксомортаньи — ну и фамилия! — она, кстати, занимает несколько страниц летописи этой многострадальной земли…
Дальше — переселенцы, американское племя. Они ползут через безводные пространства Великой Американской пустыни, верхом на мулах перебираются через перешеек, огибают на парусниках мыс Горн, чтобы вписать свои, ныне забытые имена туда, где еще раньше канули в Лету десять тысяч поколений кочевых индейцев. Что говорят мне такие фамилии, как Халлек, Хейстингс, Свэт, Тэйт, Денмен, Трейси, Гримвуд, Карлтон, Темпл? Сегодня их не найти в Лунной Долине.
Одно имя стремительно уступает место другому, но упрямая земля остается, и новые люди царапают на ней свои имена. А вот и такие, о которых я что-то смутно помню, хотя лично их не знал:
Коулер и Фролинг, построившие большой винный завод на вершине холма. Увы! Виноградарям это показалось неудобным, они не стали возить виноград на такую кручу. Коулер и Фролинг разорились, потеряли участок, а землетрясение 1906 года довершило их беды, разрушив завод, — среди его каменных руин теперь живу я.
Ла Мотт. Этот поднял целину, разбил виноградники и фруктовые сады, развел в искусственных водоемах рыбу, выстроил себе великолепный по тем временам особняк, но земля победила его, и он сгинул. Теперь на месте садов и виноградников, великолепного особняка и рыбных садков решил оставить о себе след и я, посадив сто тысяч эвкалиптовых деревьев.
От Купера и Гринлоу на участке Хилл-Ренч остались две могилы: "Маленькая Лили" и "Маленький Дэвид", — крохотный квадратик, обнесенный грубо сколоченной оградой. Купер и Гринлоу в свое время выкорчевали девственный лес и расчистили три поля в сорок акров. Теперь эти поля засеяны канадским горохом, а весной я их перепашу под травы.
Хаска — полузабытая легендарная личность, чья слава гремела лет тридцать тому назад. Он очистил за холмом шесть акров земли, заросшей кустарником, и маленькая долина носит теперь его имя. Он возделал почву, выстроил дом за каменным забором, посадил яблони. А теперь даже места, где стоял этот дом, не найти, а линию забора можно лишь угадать по еле заметным знакам.
Борьбу бывшего владельца продолжил я, завел ангорских коз, чтобы они съели проклятый кустарник, который заглушил яблони Хаски. И вот я тоже скребу эту землю, вписав свое имя в ее летопись, но я тоже исчезну, и лист с моим именем истлеет.
"Фантазеры и призраки!" — хихикает Белая Логика
"Но ведь их борьба не прошла даром!" — возражаю я.
"Она основывалась на иллюзии, значит, была ложью".
Я настаиваю на своем:
"Ложь во имя жизни!"
"Скажи, пожалуйста, какая разница, — перебивает меня Белая Логика — Ну, довольно, налей свой бокал, давай посмотрим, что говорят апостолы лжи, стоящие на твоих книжных полках.
Полистаем Уильяма Джеймса".
"Что ж, человек со здоровой психикой, — говорю я — Философского камня он не нашел, однако в его произведениях много здорового и оптимистического".
"Рационализм, сведенный к сентиментальности! — усмехается Белая Логика — В конце концов он все-таки стал проповедовать бессмертие. Стал втискивать факты в рамки религии и свой зрелый ум использовал для высмеивания разума. С вершины разума Джеймс проповедует отказ от мышления и возврат к слепой вере. Все к лучшему в этом лучшем из миров! Старые жонглерские штучки метафизиков: подавить разум, чтобы спастись от пессимизма, который диктуется трезвым, суровым рассудком.
Плоть твоя — это ты? Или нечто постороннее, чем ты владеешь? Что такое твое тело? Машина, преобразующая возбудители в чувства. Возбудители и чувства запоминаются. Из них кристаллизуется опыт. Значит, ты и есть опыт в твоем сознании. Сейчас, в этот момент, ты — это твои мысли. Твое «я» одновременно и субъект и объект. Оно утверждает вещь, и в то же время оно и есть вещь. Мыслитель — это мысль, знающий — это знание, обладатель — это то, чем владеешь.
Наконец, ты должен знать, что в человеке слито множество изменчивых состояний сознания, целый поток сознания; каждая мысль — это новое «я», непрерывное изменение, но никогда не завершение; это — мелькание призраков, и все миллионы при зраков никогда не переходят в реальность, а остаются светляками, призраками в царстве призраков. Но человек не согласен примириться с этим. Он отказывается признать, что он исчезнет Он не может исчезнуть. Если нужно умереть, он оживет опять!
Эта необходимая ложь, которую люди бормочут как заклина ние против сил Ночи, не новость Знахари и колдуны были отцами метафизики Люди всегда страшились Смерти, и, чтобы завоевать их души, метафизики были готовы лгать Им казался чересчур жестоким суровый закон Екклезиаста, по которому участь чело века и животного одна как те, так и эти умирают Превратив свои верования в планы, а религию и философию в средства дости жения своих целей, метафизики стараются одолеть Смерть Призраки надежды заполняют твои книжные полки блуж дающие огни, мистический туман, психологические полутона, душевные оргии, стоны среди могил, нелепый гностицизм, за вуалированные мысли, путаный субъективизм, осторожное нащу пывание, галлюцинации в грандиозных масштабах — вот что представляют собой твои книги! Погляди на них, на эти скорбные творения мрачных безумцев и страстных бунтовщиков — всех тво их Шопенгауэров, Стриндбергов, Толстых и Ницше!
Ну хватит! Бокал пуст. Наполни его и забудь обо всем!"
Я подчиняюсь, ибо теперь в голове шумит уже очень сильно Я пью за печальных мыслителей, стоящих на моих книжных пол кэх, и вспоминаю стихи Ричарда Хоуви:
Живи! Любовь и Жизнь как свет и тьма
Приходят по$7
Скорей бери что жизнь дает сама
Пока не станешъ пищею червям
"Позволь я кончу за тебя!" — просит Белая Лотка "Не надо! — в пьяном гневе восклицаю я Я вижу тебя насквозь, я не боюсь тебя! Под маской гедонизма ты все та же Ты смерть, ты уводишь во мрак вечной ночи Гедонизм бессмыслица Это тоже ложь, а в лучшем случае хитрый компромисс малодушных"
"Позволь, я все таки докончу стихотворение!" — прерывает Белая Логика.
Но если ты не хочешь жизнь влачить
Всегда ее ты волен прекратить
Без страха пробуждения в гробу.
[Здесь и далее перевод стихов В Рогова]
Но я вызывающе смеюсь, ибо сейчас, в эту минуту, я знаю, что Белая Логика, нашептывающая мне о смерти, — величайшая лгунья Она сама сорвала с себя маску обратила против себя кажущееся добродушие, и во мне вдруг оживают забытые стремле ния молодости, и начинает казаться, что еще не поздно воспользо ваться теми возможностями, которые книги и жизнь так упорно от рицают.
Я успеваю еще опрокинуть в горло бокал в ту минуту, когда раздается обеденный гонг Смеясь над Белой Логикой я выхожу в столовую, усаживаюсь с гостями за стол и с напускной серьез ностью принимаюсь разглагольствовать по поводу новых журналов и пустяков, происходящих в мире, сыплю парадоксами и колкостями. А когда надоедает, начинаю дразнить собеседников, насмехаясь над фетишами трусливых буржуа, и сочинять эпиграммы, не щадя их маленьких идолов, высмеивая глупость их мудрецов.
Нужно быть клоуном! Клоуном, и только! Если хочешь быть философом, подражай Аристофану. Впрочем, никому из сидящих за столом не приходит в голову, что я пьян, — я просто в ударе Когда обед кончается, я продолжаю дурачиться, устраиваю игры, и все веселятся, как дети.
Ночь; гости прощаются и расходятся по комнатам, а я через кабинет, уставленный книгами, прохожу на веранду, где обычно сплю, и снова остаюсь наедине с Белой Логикой, которая не покидает меня, ибо я не в силах ее переспорить. Я слышу, как плачет молодость, и, погружаясь в пьяный сон, вспоминаю стихи Гарри Кемпа:
Мне Молодость в ночи рекла
"Отрада прежняя ушла,
Нет отдыха в пути моем,
Так утро делается днем,
А дню, что людям дарит свет,
До сумерек покоя нет
Недолговечней розы я,
На небе радуга моя
Недолго длит лучей игру
Я Молодость ведь я умру!"
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Я рассказал о том, как борюсь в сумерках души с Белой Логикой. Я старался, как мог, раскрыть перед читателем хотя бы на мгновение тайники человеческого сознания, одурманенного Джоном — Ячменное Зерно. Но пусть читатель помнит, что то, о чем он узнал за эти четверть часа, навеяно прихотью Ячменного Зерна, который меняет настроения человека тысячи раз в течение дня и ночи.
Мои воспоминания об алкоголе близятся к концу. Могу сказать, как человек, привыкший пить, что я до сих пор существую на свете лишь потому, что у меня здоровые легкие, сильные плечи и крепкий организм. Сомневаюсь, чтобы нашлось много юношей, которые могли бы вынести в возрасте пятнадцати — семнадцати лет физическое напряжение, равное тому, какое вынес я в эти годы, да и считанные мужчины, пережив подобное испытание, оказались бы способны написать об этом — книгу. Меня спасли не личные добродетели, а то, что я не был алкоголиком от природы и всеми силами боролся против Ячменного Зерна. И хотя сам я выжил, но на моих глазах многие погибли на его скорбной стезе.
Только благодаря счастливой судьбе, удаче, случаю — называйте как угодно! — я прошел сквозь пламя Ячменного Зерна.
Ему не удалось растоптать мою жизнь, погубить мою карьеру, вытравить любовь к жизни. Он опалил эту любовь своим огнем, но она сумела чудом сохраниться, подобно тому как может уцелеть солдат на поле боя, хотя все товарищи пали.
И как тот, кто пережил кровавую войну, восклицает: "Долой войну!" — так я кричу: "Долой алкоголь! Не отравляйте молодые жизни этим ядом!" Единственный способ прекратить войну — перестать воевать. Единственный способ прекратить пьянство — перестать продавать алкоголь. Китай прекратил всеобщее курение опиума, запретил выращивать его и ввозить в страну. Все философы, священники и врачи могли бы тысячу лет до хрипоты твердить о вреде опиума, но, пока яд был доступен, курение его продолжалось. Такова уж человеческая природа!
Мы умеем оберегать детей от мышьяка и стрихнина, от тифозных и туберкулезных бацилл. Примените такие же меры к Ячменному Зерну! Запретите его! Не выдавайте патентов и разрешений на кабаки, пусть Ячменное Зерно не подстерегает молодежь на каждом шагу! Я пишу не об алкоголиках и не для алкоголиков, а для юношей, которые ищут интересной жизни и веселого общества, для тех, кого извращает наша варварская цивилизация, спаивающая их на каждом перекрестке. Я пишу эту книгу для здоровых, нормальных юношей настоящего и будущего.
Вот почему в таком приподнятом настроении я спустился в Лунную Долину и отдал свой голос за предоставление женщинам избирательного права. Я знал, что они — жены и матери — заставят вычеркнуть из жизни Джона — Ячменное Зерно, это варварское наследие прошлого. Если у вас создастся впечатление, что я зол на Ячменное Зерно, вы недалеки от истины: вспомните, сколько я из-за него перестрадал! Мне искренне хочется оградить от него детей, моих и ваших.
Женщины — подлинные хранительницы нации. Мужчины — прожигатели жизни, искатели приключений, игроки. Если бы не жены, они бы погибли в конце концов. Одним из первых химических опытов человека была перегонка спирта, и на протяжении многих столетий этот опыт продолжается. Не было дня, когда Женщины не протестовали против этого, но они были бесправны и не могли сказать решительное слово. Как только женщины получат право голоса, они первым делом потребуют уничтожения кабаков.
Сами мужчины и через тысячу лет этого не сделают. Столь же нелепо было бы ждать, что морфинисты запретят продажу морфия.
Женщины знают, что за пьянство мужчин им приходится платить слезами и кровавым потом. Оберегая здоровье нации, они проголосуют за закон, который обеспечит жизнь будущим поколениям.
И ничего тут нет страшного. Пострадают от этого только неизлечимые алкоголики одного поколения. Я принадлежу к их числу и все же торжественно заверяю, основываясь на своем длительном знакомстве с Ячменным Зерном, что не так уж огорчусь, если придется бросить пить, — пусть только другие перестанут и негде будет достать спиртные напитки. Зато преобладающее число молодежи настолько чуждо пьянству, что, не видя спиртных напитков, они вообще не почувствуют утраты. Юноши будут узнавать из исторических книг, что когда-то в прошлом люди ходили в кабак, и это покажется им таким же диким обычаем, как бой быков и сожжение ведьм на кострах.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Конечно, автобиографическая повесть не может считаться законченной, если историю героя не довели до конца. Увы! Моя исповедь — не исповедь исправившегося алкоголика. Кстати, я и не был алкоголиком, стало быть, мне нечего исправляться.
Некоторое время тому назад мне довелось совершить плавание на парусном судне вокруг мыса Горн. Я пробыл на воде сто сорок восемь дней. Спиртного я с собой не взял, и, хотя капитан с удовольствием угощал бы меня каждый день, я ни разу не воспользовался его гостеприимством. Никто на судне не пил, подходящей обстановки не было, а органической потребности в алкоголе я не испытывал.
И тут я задал себе простой и четкий вопрос: если это так легко, почему же не придерживаться такого же правила на суше?
Я обдумал это всесторонне: времени было достаточно — сто сорок восемь дней, причем алкогольный соблазн был полностью устранен. И на основе своего прежнего опыта я пришел к некоторым выводам.
Прежде всего я убежден, что из тысячи и даже ста тысяч человек не найдется ни одного настоящего алкоголика. Я считаю, что употребление алкоголя — привычка. Она возникает в сознании.
Это не похоже на пристрастие к табаку, кокаину, морфию и прочим наркотикам. Потребность в алкоголе создается исключительно в мозгу и возникает от общения с людьми. Из миллиона пьющих никто не начал пить в одиночестве. Все начинают в компании. Алкоголь связывает людей тысячами нитей, как показал я в начале своей книги. Общение с людьми — это основа, на которой по большей части зиждется привычка пить. Сам алкоголь не имеет большого значения, главное — обстановка, в которой пьют. Не многие в наши дни чувствуют неотразимую потребность в алкоголе, если этому не предшествует длительное общение с пьющими.
Возможно, исключения бывают, но я их не встречал.
В течение пятимесячного плавания на паруснике я обнаружил, что среди потребностей моего организма потребность в алкоголе отсутствует. Однако заметил я и другое интересное явление: мое желание пить диктуется только рассудком и коренится исключительно в общении с людьми. Когда я вспоминал о выпивке, я тут же вспоминал о компании, и наоборот. Компания и алкоголь сиамские близнецы. Они сроднились воедино.
Отдыхая на палубе с книгой или беседуя с людьми, я заметил, что, какое бы место на земном шаре ни назвали, в моем мозгу мгновенно возникала ассоциация: выпивка и компания.
Бурные ночи и веселые деньки, волнующие события, босяцкая вольница все это вспоминалось сразу. Вот на странице книги я вижу слово «Венеция» и тотчас вспоминаю столики кафе на тротуарах. "Битва при Сантьяго", говорит кто-то, и я отзываюсь:
"Да, я бывал на месте битвы". Но пред мысленным взором встает не Кетл-Хилл, не Дерево Мира, а только кафе «Венера»
на площади Сантьяго, где однажды знойным вечером я пил и беседовал с незнакомцем, умиравшим от чахотки.
Или вот я читаю: "Восточная сторона Лондона", — и перед глазами ярко освещенный трактир. "Две кружки пива!", "Три виски!" Латинский квартал. Я в студенческом кабачке, вижу веселые лица, слышу смех. Мы пьем холодный абсент, темпераментные французы шумят, спорят о Боге, искусстве и демократии… Здесь все решается просто!
Попав в полосу холодного ветра, памперо, близ Ла-Платы, мы встревожены возможностью аварии и решаем зайти в Буэнос-Айрес, этот американский Париж. И в тот же миг я уже не вижу ничего, кроме залитых светом кафе; мне явственно слышится веселый звон стаканов, песни, смех и гул голосов. Спасаясь от северо-восточных штормов в Тихом океане, мы просим умирающего капитана зайти в Гонолулу, и, пока я горячо убеждаю его, предо мной возникает видение: прохладные террасы на берегу океана в Вайкики, где нам подают коктейли. Кто-то из спутников вспоминает, как жарят диких уток в Сан-Франциско, и я немедленно вижу зал ресторана, где переливаются блеском огни, стучат ножи, я с друзьями, и в руках у нас — наполненные рейнвейном высокие бокалы с золотой каемкой.
Итак, я все думал над этой проблемой. И если бы мне пришлось посетить все эти прекрасные места снова, то лишь ради этого. Поднимем бокалы! Магическая фраза! Лучшей, пожалуй, не найдешь во всем нашем языке. Привычка пить укоренилась в моем сознании и осталась на всю жизнь. Я люблю остроумную беседу, задушевный смех, громкие голоса мужчин, люблю, когда друзья, подняв бокалы, гонят прочь однообразие и скуку.
Итак, я решил: нет! Буду все-таки пить время от времени!
Несмотря на все мои книги, несмотря на все философские мысли, нашедшие во мне особый отклик, я решил спокойно продолжать то, к чему привык. Буду пить, конечно, умереннее и осторожнее, чем раньше. Я уже не позволю себе превратиться в ходячий факел, не призову на помощь Белую Логику. Я понял, что звать ее нельзя.
Белая Логика спокойно спит рядом с моим недугом. Они больше не станут меня тревожить. И все же скажу в заключение, что напрасно мои предки не уничтожили Ячменное Зерно прежде, чем я родился на свет. Очень жаль, что он процветал там, где я провел детство и молодость, иначе я бы не познакомился и не сблизился бы с ним.



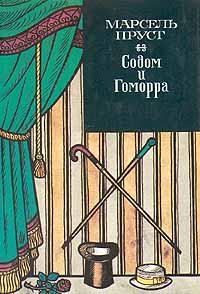
Комментарии к книге «Джон - Ячменное Зерно (Зеленый Змий)», Джек Лондон
Всего 0 комментариев