Юрий Дашкевич: Встречи с Габриэлой и ее земляками
Тем июльским днем 1961 года в Рио-де-Жанейро, открывая торжественное заседание Бразильской академии литературы, посвященное приему Жоржи Амаду в академики — в традиционное число «сорока бессмертных», — ее президент Раймундо Магальяэнс Жуниор приветствовал не только прославленного писателя, певца бразильского народа, но и героев его произведений.
«Вы, сеньор Жоржи Амаду, — говорил президент, — приобретаете тридцать девять друзей, давно ставших тридцатью девятью вашими поклонниками. Более того — неизмеримо более — выиграли мы, поскольку сюда прибыли не вы один. С собою вы привели по меньшей мере сотню персонажей — столь живых, столь полнокровных, столь реальных, как и вы сами. Привели — я неудачно выразился. Правду сказать, они еще до вас предстали… И сюда они пришли безо всяких церемоний, не испрашивали разрешения, да к тому же проникли так незаметно, что никто не отдал себе в этом отчета. А взгляните вокруг. Не замечаете?
Быть может потому, что не выделяются они своей одеждой, скромно притулились в коридорах либо в темных уголках… Проходите, дамы! Проходите, господа, раз вы уже тут! Входите, никто из вас не может здесь отсутствовать, вы же всюду выступаете во главе с вашим творцом, освещая ему путь… Входите и встаньте рядом с ним… И вы, Васко Москозо де Араган, капитан дальнего плавания! И вы, Жоаким Соарес да Кунья, хотя для вас предпочтительнее — Кинкас Сгинь Вода!.. Но осторожнее, не толпитесь! Прежде всего дайте пройти сеньоре доне Габриэле — аромату гвоздики и корицы цвета!..»
Простая и обаятельная мулатка Габриэла, по свидетельству Жоржи Амаду, «воспетая в краю какао», бесспорно заслужила особое внимание, ознаменовав своим появлением на страницах одноименного романа новый этап в творчестве писателя, став одной из популярнейших героинь современной прогрессивной литературы мира.
«Где она теперь? — спустя почти полтора десятка лет после выхода в свет романа писал Амаду. — Литературный персонаж принадлежит романисту, пока оба они вместе трудятся над своим творением — гончарной глиной, вымешанной на поту и крови, пропитанной болью, опрыснутой радостью. А сейчас девушка Габриэла из Ильеуса шествует по всему свету — кто знает, на каких языках говорит, я уже счет потерял».
В краю какао — неподалеку от города Ильеуса, что на юге штата Баия, 10 августа 1912 года родился Жоржи Амаду, создавший образ Габриэлы, образы ее земляков.
Еще в начале века сюда в поисках лучшей доли добрался отец будущего писателя, Жоан Амаду де Фариа, покинув родной штат Сержипе, самый маленький в Бразилии, отнюдь не богатый. В Баию многие тогда стремились, больше всего было беженцев из областей бедствия, северо-востока страны, где страшные засухи, сменявшиеся опустошительными наводнениями, обрекали людей на нищету, голод, гибель. А в Ильеусе, в Баие, видели землю обетованную: природные условия тут, как нигде, благоприятствовали выращиванию деревьев золотых плодов — какао. Были времена, когда Баия, поставлявшая более девяноста процентов всей национальной продукции какао, как магнит притягивала и тружеников, и разных авантюристов. Но процветание не оказалось вечным.
Не мало ударов судьбы пришлось претерпеть Жоану Амаду де Фариа. Однажды кто-то из алчных соседей, желая захватить его землю, подослал наемных убийц — их пулями был тяжело ранен Жоан Амаду, облив своей кровью десятимесячного Жоржи, которого он спасал. В ту пору Эулалия Леал, мать Жоржи, перед тем как лечь спать, непременно ставила заряженное ружье у изголовья постели: борьба за землю не стихала. На семью Амаду обрушилось еще одно несчастье: разливом реки смыло плантацию и постройки — пришлось переселиться в Ильеус и бедствовать там, пока отцу не удалось расчистить в лесных зарослях участок и разбить новую плантацию деревьев какао. С ранних лет Жоржи узнал привкус горечи в сладких бобах шоколадного дерева, возросшего на земле, обильно политой потом и кровью.
Детские и юношеские воспоминания впоследствии помогли писателю воссоздать сцены драматической жизни на юге штата Баия и в первом произведении, с которым он дебютировал в литературе, — романе «Страна карнавала» (1931) и в других романах — «Какао» (1933), «Бескрайние земли» (1943), «Сан-Жоржи дос Ильеус» (1944), «Габриэла, корица и гвоздика» (1958), о котором речь пойдет впереди, наконец, в изданном в 1984 году романе «Великая Засада: мрачный облик».
Не только юг штата Баия привлекал внимание писателя.
Действие романов «Пот» (1934), «Жубиаба» (1935), «Мертвое море» (1936), «Капитаны песков» (1937), «Пастухи ночи» (1964), «Дона Флор и два ее мужа» (1966), «Лавка чудес» (1969), а также новеллу и повести, составившие томик «Старые моряки» (1961), развертывается в столице этого же штата, которой Жоржи Амаду посвятил поэтичнейшую книгу «Баия Всех Святых — путеводитель по улицам и тайнам города Салвадора» (1945), где он живет последние десятилетия. В своем единственном драматургическом произведении «Любовь Кастро Алвеса» (1947; со второго издания выходит под названием «Любовь солдата») Амаду вывел образ знаменитого бразильского поэта, уроженца Баии, боровшегося за свободу в XIX веке. А в остальных романах? Исключением, пожалуй, является лишь «Военный китель, академический мундир, ночная рубашка» (1979), написанный в Баие, действующие лица которого автором размещены преимущественно в Рио-де-Жанейро, а «полем битвы» противоборствующих сторон — сил реакции и демократии — избрана Бразильская академия литературы в период господства антинародного режима «нового государства». Персонажи романа «Тереза Батиста, уставшая воевать» (1972) выступают частично в Баие, частично в штате Сержипе, там же действуют и герои романа «Тиета из Агресте, или Возвращение блудной дочери» (1976). Хотя в эпическом романе «Подполье свободы» (1954) автор ведет читателя то в Рио-де-Жанейро, то в Сан-Пауло, то в порт Сантос, однако в высказываниях, в воспоминаниях героев нередко всплывают Баия, Ильеус, Салвадор, изумрудные воды Бухты Всех Святых, засушливая полупустыня — сертаны или бесплодные равнины — каатинга на северо-востоке страны, где, по определению бразильского ученого Фрейре, «человек чаще всего стоит перед дилеммой — уходить или погибать». В романе «Красные всходы» (1946) нетрудно обнаружить случайных спутников мулатки Габриэлы — тех, кто брел с нею, спасаясь от засухи, через сертаны и каатингу, в надежде дойти до Ильеуса, «богатого города, где так легко устроиться… где деньги валяются на улицах», ведь «слава об Ильеусе распространялась по всему свету…» Вспомним, что и отца писателя в свое время привлек к себе Ильеус.
«Начиная со „Страны карнавала“, — подтверждал Жоржи Амаду, — все мои произведения рождены, сформировались в гуще бразильского народа, среди людей Баии».
Означает ли это, что большинство своих произведений писатель преднамеренно ограничивал географическими пределами родного штата, оставаясь только «баиянским романистом», придерживаясь рамок своеобразного микромира, не то «хроники одного провинциального города», как гласит подзаголовок в названии романа «Габриэла, корица и гвоздика»?
Буржуазные литературоведы, между прочим, не раз пытались и пытаются свести богатейшее творчество Амаду к так называемой региональной литературе с явной целью — умалить общенациональное, бразильское, вообще латиноамериканское звучание и значение его произведений. Попытки такого рода встречали отповедь со стороны бразильской прогрессивной критики, исследователей творчества писателя. «Неужели персонажи Жоржи Амаду — люди с мозолистыми руками и опухшими от клейкого какаового сока ногами, те, кто живет и умирает согбенными над землей, — могут считаться региональными…» — годы назад писал Алкантара Силвейра в журнале «Ревиста бразилиэнсе». Прошло время, и все же американский еженедельник «Паблишера уикли» по-прежнему относит Амаду к «регионалистам».
Действие романа «Габриэла, корица и гвоздика» в основном не выходит за городскую черту Ильеуса. Однако следует ли это произведение определять «романом провинциальных нравов»? Да и правомерно ли сюжет книги, кстати, не особенно сложный, трактовать лишь как историю любви Габриэлы и Насиба? Очевидно, было бы ошибочным согласиться с подобными оценками.
Амаду ведь предупредил читателя: события романа протекали «в городе Ильеусе в 1925 году», присовокупив не без иронии — «во времена, когда там наблюдался расцвет производства какао и всеобщий бурный прогресс». Заглянув в историю Бразилии, приходим к выводу: обоснованно суждение бразильского литературоведа Маурисио Виньяса, что в романе раскрыт «исторический и социальный процесс, происходивший в то время не только в этом портовом городе и в краю какао, но и во всей стране» («Эстудос сосиаис», № 3–4, 1958).
Откликаясь на появление романа «Габриэла, корица и гвоздика», другой видный бразильский прогрессивный критик, Миэсио Тати, посчитал нужным отметить: «Жоржи Амаду, одаренный повествователь сложных событий и отличный мастер захватывающей литературной беседы, не ограничиваясь в своих произведениях изложением происшедшего с теми или иными персонажами, включает все события в социальную, экономическую и политическую панораму; и интерес читателя, таким образом, в равной степени привлечен как общей панорамой (уточнена эпоха и определенная социальная среда — со всеми противоречиями политического и экономического порядка, — и не без основания „Габриэла“ представлена как „Хроника одного провинциального города“), так и отдельными событиями, когда в игру вступают извечные и общие страсти, обуревающие людей» («Пара тодос», № 53–54, 1958).
Первые отзывы бразильской критики на только что увидевшую свет «Габриэлу» и поныне сохраняют правоту суждений, злободневность.
Возникает вопрос: почему Жоржи Амаду посчитал нужным конкретизировать описываемый в романе период — 1925 год?
По оценке бразильского историка, «пятилетие после 1920 года было тяжелым для пролетариата, который все же не прекращал бороться, используя свое могучее оружие — стачку. Репрессии и террор были орудием правительства в эту трагическую эпоху нашей истории. Однако именно в этот период бразильский пролетариат начал ясно осознавать политическую роль, которую он призван сыграть в национальной жизни… Наступил период организации пролетариата» (Линьярес Э. Рабочие стачки первой четверти XX века — жури. «Эстудос сосиаис», № 2, 1958).
Тогда центрами рабочего движения были Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло, здесь возникли первые, еще небольшие группы коммунистов, заложившие основы для создания Бразильской коммунистической партии в 1922 году. В крупных городах и в военных гарнизонах вспыхивали восстания против диктатуры. Усиливался террор. Власти объявили осадное положение в стране, снятое только в 1927 году. Сложная обстановка складывалась в таких отсталых аграрных штатах, как Баия, где «в то время сельскохозяйственный пролетариат был рассеян, еще не достиг классового самосознания, не привлекался к активной борьбе», как отмечалось в журнале «Ревиста бразилиэнсе» (№ 25, 1959). Прижатый к океану плантациями деревьев какао, Ильеус живет своей, замкнутой жизнью, какой он жил многие годы, оставаясь одним из последних оплотов латифундистов, называвших себя «полковниками», самовольно присваивая себе этот воинский чин, сплошь да рядом не имея отношения к армии… Бурные события, происходившие чуть не по всей Бразилии, содрогавшейся от классовых битв, как будто обходили стороной Ильеус. И это воспринимается как нечто трагическое, зловещее. Тем временем национальная торгово-промышленная буржуазия начинает оттеснять с ключевых позиций экономической и политической жизни крупных землевладельцев-фазендейрос.
В романе «Габриэла» Жоржи Амаду, разумеется, выступает не в качестве историка, и роман — не историческое исследование.
Политические, социальные, экономические аспекты не выпячены в произведении на первый план. Однако в перипетиях напряженнейшей борьбы, развертывающейся на протяжении всего повествования между молодым экспортером Мундиньо Фалканом и старым «полковником» Рамиро Бастосом, точно в капле воды, отражено происходившее тогда в Бразилии.
Большой художник, Жоржи Амаду не только всегда верен исторической правде, в малом он умеет видеть многое — и рассказать об этом. В одной из бесед с автором этих строк он поделился своими раздумьями: «В Баие, как известно, родилась Бразилия, и первой бразильской столицей был город Салвадор. И если баиянский писатель живет жизнью людей Баии, стало быть, он живет жизнью всего бразильского народа, и проблемы всей нации — это его проблемы, равно как он не может оставаться равнодушным перед проблемами других, даже далеких народов. Так произведение, написанное бразильским писателем, баиянцем, будучи как бы локальным, приобретает универсальность. Бразильцы — нация метисов, нашими предками были белые, негры, индейцы, и этот сплав наложил своеобразный отпечаток и на национальный характер нашего народа, и на творчество бразильских писателей. Мы не замыкаемся „в себе“. Я не говорю об авторах, увлекающихся в своих произведениях словесной эквилибристикой. Главное в нашей литературе — художественное воссоздание действительности, от солнца до тени, от повседневного, реального — до фантастического, плода народного творчества… Баия — это не только Ильеус или Салвадор, это Бразилия…»
Итак, среди измученных, полумертвых от усталости беженцев, покинувших засушливый северо-восток, доплелась до Ильеуса Габриэла, оставив за плечами невероятно тяжелый путь по выжженной солнцем каатинге, по сертанам, где тропу меж колючих и обжигающих кустарников и кактусов приходилось прорубать мачете. Много испытаний пришлось ей пережить, и впервые перед читателем романа она предстает в далеко не привлекательном виде: «Пыль дорог каатинги покрыла лицо Габриэлы таким толстым слоем, что черты его невозможно было различить, и волосы уже нельзя было расчесать обломком гребня — столько пыли они в себя вобрали. Сейчас она походила на сумасшедшую, которая бесцельно бредет по дороге… одетая в жалкие лохмотья, покрытая грязью настолько, что невозможно было… определить возраст… ноги босы…».
«Образ Габриэлы сопровождал меня продолжительное время…», — заметил Жоржи Амаду в интервью, опубликованном бразильским журналом «Маншете».
Многие годы назад Жоржи в нашей беседе поведал о своей работе над романом «Габриэла, корица и гвоздика»:
«Я, право, собирался написать страниц сто или сто пятьдесят, не больше. И вдруг совершенно неожиданно для самого себя обнаружил, что написано уже более пятисот… Габриэла заставила меня работать против моей воли. Что делать! Мне очень хотелось написать солнечную книгу. Книгу, которую читали бы все, которая заинтересовала бы всех и которая не только развлекала бы читателя, но заставила бы его задуматься над многими явлениями нашей бразильской жизни…
Частенько ведь бывает, что внезапно начинаешь писать о чем-то, не имеющем ничего общего с тем, что было задумано. Новое возникает и в процессе работы. И „Габриэлу“ я задумывал писать как новеллу, да и предназначалась она для сборника десяти новелл десяти разных авторов, а вот в конце концов получился большой роман. Габриэла задала мне много работы.
Корни моих последних романов можно обнаружить в моих первых произведениях — в романах „Жубиаба“, „Пот“, „Какао“, „Мертвое море“ и в других, которые были мною написаны десятки лет назад. Возьмем, например, Габриэлу. Полистайте мои ранние книги и вы найдете силуэт Габриэлы, да, да, той самой Габриэлы. Пусть этот силуэт несколько прозрачен, не особенно четок, но черты Габриэлы бесспорны…»
Жоржи Амаду в ходе этой же беседы дал ключ к пониманию того, как, отталкиваясь от чего-то узко локального, «провинциального», происшедшего в небольшом географическом пункте, отдаленном от сердца страны, от центров ее политической и экономической жизни, писатель создал произведение общенациональной проблематики, поднял животрепещущие вопросы, так или иначе касающиеся жителей Амазонас, Рораимы или Амапа — на крайнем, экваториальном, севере республики, либо Рио-Гранде-до-Сул, на крайнем юге, Мато-Гроссо или Минас-Жераис, любой другой зоны.
«Мой путь в литературе, — говорил Амаду, — всегда был связан с конкретными условиями и обстоятельствами, в которых я, как и любой другой человек, находился. Но как писатель, неразрывно связанный со своим народом, я всегда иду по тому же пути, по которому идет мой народ».
В другом своем выступлении Жоржи Амаду подчеркнул:
«Что касается моих обязательств и моих пристрастий, то могу подтвердить — с начала моей сознательной жизни и поныне, надеюсь, что до самой последней строчки, написанной мною, я выполнял и выполняю зарок: быть всегда с народом, с Бразилией, с будущим.
Моими пристрастиями были и остаются выступления за свободу — против деспотизма и произвола, за эксплуатируемого — против эксплуататора, за угнетенного — против угнетателя, за слабого — против сильного, за радость — против скорби, за надежду — против отчаяния, — и я горжусь такими пристрастиями.
Но никогда я не был беспристрастным в борьбе человека с врагом человечества, в борьбе между будущим и прошлым, между завтрашним и вчерашним».
Эти принципы, несомненно, вдохновляли Жоржи Амаду и когда он работал над романом «Габриэла, корица и гвоздика».
И, видимо, потому такой горячий отклик нашел роман в сердцах его первых читателей на родине писателя, как только книга вышла в свет в 1958 году. Тогда же автору за этот роман было присуждено пять высших в стране литературных премий, за год с небольшим книга выдержала двенадцать переизданий (по подсчетам бразильского литературоведа Пауло Тавареса, за истекшие годы в Бразилии «Габриэла, корица и гвоздика» переиздавалась более шестидесяти раз, такой же успех завоевали «Старые моряки»). Вскоре роман был экранизирован, были сделаны телевизионные и радиопостановки. Переводы романа на разные языки разошлись по всему миру (первое издание на русском языке выпущено в 1961 году).
На литературную критику и читателей, конечно, не могло не произвести впечатления как социальное звучание романа, его сатирическая направленность против «власть предержащих», так и чувства гуманизма, глубокой человеческой солидарности, которыми проникнуто произведение, его поэтичность.
Насколько иронично изображены «сливки ильеусского общества», латифундисты-«полковники», провинциальные (да и только ли провинциальные!) политиканы, предприниматели авантюрного толка, захваченные ожесточенной междоусобицей, настолько тепло, с искренней любовью и симпатией, по выражению писателя, «вылеплены из гончарной глины» образы людей, находящихся на другой ступеньке общественной лестницы, в первую очередь женские образы, необычайно выразительные, запоминающиеся, неповторимые, раскрыты их непростые судьбы.
В опубликованном в Бразилии «Письме читательнице о романах и персонажах» Жоржи Амаду характеризует, в частности, героинь романа «Габриэла, корица и гвоздика»:
«Уже ушли в прошлое, сеньора, времена жестоких распрей, но еще господствовали обычаи и предрассудки феодального общества, введенные огнем карабинов. В ту пору, когда перемены в экономической структуре, вследствие перехода от устаревшей, отсталой формации к другой, более передовой, вызвали изменения в политической жизни, а также преобразование нравов, мулатка Габриэла возникла символом народа, сознающего свою силу и мудрость, содействовала тому, чтобы все поняли значение новых времен. Габриэла преодолевает препятствия в окружающем ее мире, одно ее присутствие придает лирическую нотку соперничеству мелких политиканов, время от времени прерываемому выстрелом кого-нибудь из полковников перед собственным крахом…
С появления Габриэлы начинается освобождение женщины в краю какао.
И вот Глория, великолепная мулатка, наложница, содержанка и невольница полковника, — это образ, сохранившийся со времен рабовладения, украшавший латифундию, — разрывает сковывавшие ее цепи, взламывает накрепко запертую дверь, идет навстречу запретной любви.
И вот Малвина — ученица, дочь феодального сеньора, осужденная влачить печальное существование, приговоренная быть невестой выбранного ее родителями жениха, пойти на брак по расчету, жить в условиях прозябания, мрачного, бесперспективного, она нашла в себе достаточно мужества, чтобы вырваться из установленных канонов, выступить против предписаний морали мертвого общества и поднять знамя завоеванной свободы. Она проломила стену ненависти, пересекла полосу безвыходности и одержала победу в жизни… А на заднем плане картины я поместил первую из всех, опаленную безутешным горем, охваченную пламенем любви Офенизию из далекого прошлого…
Я рассказал Вам о Малвине. Сколько раз я встречал ее в разных местах. Как-то заметил ее на пароходике компании „Ита“, направлявшемся из Рио-де-Жанейро в Аракажу. Это была юная студентка, обучающаяся на медицинскую сестру, продолжающая бороться против семьи, которая пыталась замкнуть ее в стенах помещичьей усадьбы в штате Сержипе — в ожидании подходящего мужа. „Лучше умереть“, — говорила она, а кулаки сжаты, глаза сверкают. Сколько раз я обнаруживал Малвину там или тут — непреклонно сражается она против социальной отсталости, отвоевывая свое право на жизнь и на любовь. И поныне иногда встречаю ее, сеньора, такой же: еще далеко от нас полное решение проблем, и потому сегодня мы стали очевидцами бунтарства юных — молодежь готова и далее искать и добиться справедливого решения».
Пространную цитату из письма Жоржи Амаду, еще не публиковавшегося у нас, я позволил себе привести здесь, поскольку в этом интересном документе романист, характеризуя героинь романа, делится своими размышлениями о вопросах, волнующих молодое поколение Бразилии.
Если томления, мечты о несбыточной любви дворянки Офенизии из прошлого столетия воспринимаются творением фольклора, то «плебейка» Габриэла, реальная бразильская девушка, действует активно и по-иному, она живет в реальном мире, не отрываясь от земли.
«Может быть, ребенок, а может быть, дочь народа, кто знает», — как сказал о ней автор романа, и для людей, по отзыву появлявшегося в романе сапожника Фелипе, посоветовавшего Габриэле украсить волосы красной розой, она — «песня, радость, праздник». Она добра, сердечна, искренна, непосредственна, бесхитростна. Она любит жизнь во всех ее проявлениях. И этой безграничной любовью к жизни определяется ее отношение к людям, ее поведение, которое порой может показаться достойным порицания, но которое неизменно диктуется бескорыстием, стремлением к свободе и непримиримостью ко всему, что связано со злом, что бесчеловечно в окружающей действительности.
Габриэла попала в Ильеус в напряженнейший момент истории города и всего края какао, когда к закату клонилось существовавшее многие десятилетия безраздельное господство могущественных плантаторов-«полковников», не выдерживавших наступления торгово-промышленной буржуазии.
В экономической жизни Ильеуса возник новый фактор: прибывший из Сан-Пауло, крупного промышленного центра страны, молодой и предприимчивый экспортер Раймундо Мендес Фалкан, более известный, как Мундиньо Фалкан, дал решительный бой восьмидесятидвухлетнему властелину всей округи «полковнику» Рамиро Бастосу, а заодно и родственникам, друзьям и единомышленникам последнего — землевладельцам-фазендейрос: «полковнику» Амансио Леалу, возглавлявшему банды наемных убийц-жагунсос, «полковнику» Артуро Рибейро, фамильярно прозванному Рибейриньо, «полковнику» Кориолано Рибейро, содержателю Глории, «полковнику» Мелку Таваресу, отцу Малвины, председателю муниципального совета.
Оценив угрозу наступления Мундиньо Фалкана, кое-кто из сторонников Рамиро Бастоса, прежде всего «полковники» Алтино Брандан и Аристотелес Пирес, предпочли порвать с престарелым владыкой края какао и перешли в лагерь экспортера. А позже, после смерти Рамиро Бастоса, можно было видеть, как Амансио Леал и Рибейриньо вместе с Мундиньо Фалканом «принесли мешок какао… первый мешок какао, который будет отправлен за границу непосредственно из Ильеуса». Соперники нашли общий язык.
Мундиньо Фалкан на первый взгляд выглядит деятельным организатором, отстаивающим прогресс не на словах, а на деле, в отличие от «движущих сил» ильеусского общества, убивающих время в баре «бразильца из Аравии» Насиба, где так любят поболтать о прогрессе, о цивилизации, о других высоких материях. Но что только не вкладывали ораторы в понятие «прогресс»! А благодаря Фалкану была углублена и расширена бухта — и через порт Ильеус теперь можно экспортировать какао, не потребуется вначале перевозить груз в Салвадор, ведь это сулит блестящее будущее, процветание, преуспеяние, прогресс!
«Хроника одного провинциального города», кстати, завершается сценой прихода шведского сухогруза в Ильеус. Однако автор не разделяет восторги ильеусцев: рентгенограмма Мундиньо Фалкана свидетельствует, что экспортер — тоже хищник, ловкий и расчетливый. В схватке с «полковником» Рамиро Бастосом он одержал верх, но чувства радости или гордости не испытывает, ему даже приходит на ум аналогия, пугающее предчувствие: рано или поздно настанут новые времена, появится кто-то другой, и тогда Фалкан, подобно Бастосу, утратит власть, ключевые позиции.
Впрочем, такими же недолговечными предстают и остальные персонажи романа, относящиеся к «сливкам» местного общества, занятые бесконечными сделками, аферами, всевозможными интригами, охваченные безудержной погоней за наживой. Мало чем отличается от них и Насиб Саад, владелец бара «Везувий», случайно встретивший на бывшем невольничьем рынке девушку-мулатку по имени.
Поступив кухаркой к Наибу и полюбив его всей душой, она стала любовницей «бразильца из Аравии». Вопреки желанию Наиб оформил с ней брак. И, возможно, в порыве какого-то подсознательного протеста она сблизилась с беспутным Тоника, сыном старого «полковника» Памиро. Так тяготилась она замужеством и тем, что ее хотят превратить в светскую даму, одну из тех, «избранных». «И зачем только он на мне женился», вздыхает Габриэла: все то, к чему была неравнодушна Габриэла, запрещалось сеньоре Саад, и все то, что обязана была делать сеньора Саад, так противно Габриэле… Переживания Габриэлы не надуманны. «Женщина теряет свои гражданские права, как только выходит замуж. Брак, который должен был бы полностью эмансипировать женщину, наоборот, путем закона приравнивает ее к детям, сумасшедшим и дикарям…» — читаем в статье, опубликованной под заголовком «Замужняя женщина: гражданка второй категории» издававшимся в Рио-де-Жанейро еженедельником «О семанарио» (№ 195, 1960).
Судьбе бразильской женщины посвящено не одно произведение Жоржи Амаду. Вспомним хотя бы знакомую нашим читателям дону Флор из романа «Дона Флор и два ее мужа» — героиня этой книги, по выражению Амаду, «зажатая в железные тиски буржуазного общества», смело бросает вызов тем, кто пытался отнять ее право на свободную жизнь, кто хотел бы свести ее к положению бесправного, безропотного существа. Вспомним «Терезу Батисту, уставшую воевать», также знакомую нашим читателям, «дикую девчонку из сертана», проданную в рабство (в середине XX века), выброшенную за борт буржуазного общества, но не побежденную, воюющую против волчьих законов капиталистической действительности. Вспомним героинь других романов Жоржи Амаду, обездоленных, но не сломленных, отстаивающих свои права, свое достоинство…
В том же году, когда «Габриэла, корица и гвоздика» — в первом бразильском издании, разошедшемся в необычно короткий срок, — начала триумфальное шествие к своим новым поклонникам, читателям на родине автора романа, в журнале «Сеньор», выходившем в Рио-де-Жанейро, публиковалась новелла «Необычайная кончина Кинкаса Сгинь Вода», в основу которой положено действительное происшествие с жившим в свое время «на дне» городских трущоб уроженцем штата Сеар неким Плутарко.
Через три года это произведение вместе с повестью «Чистая правда о сомнительных приключениях капитана дальнего плавания Васко Москозо де Араган» (основанной также на фактическом материале) было напечатано в одном томе под общим названием «Старые моряки».
«Габриэлу» и «Старых моряков», созданных почти одновременно, связывает не только общая тональность — тональность традиционного плутовского жанра, не только насыщенность подлинным народным юмором, но и идея победы человеческой солидарности, идея силы человеческого духа.
В романе «Габриэла, корица и гвоздика», как нам известно, Мундиньо Фалкан приплывает на пароходе национальной компании каботажного судоходства «Ита», чтобы завоевать Ильеус и край какао. На Капитанский мостик парохода «Ита», многими годами ранее, поднимается Васко Москозо де Араган, далекий от желания что-то захватывать, увлеченный собственной мечтой, даже бескорыстной. Мало кто из окружающих знает, что этот «морской волк», произведший самого себя в капиталы дальнего плавания, море видел лишь с берега и что родился он в Салвадоре — в том городе, где дважды уходил на тот свет Жоаким Соарес да Кунья, прозванный Кинкасом Сгинь Вода, в котором «говорила кровь древних мореходов», но который стяжал себе славу «на суше, без судна и без моря», пока не исчез в морской пучине.
Разными путями в жизни идут Васко Москозо де Араган и Кинкас Сгинь Вода, оба мечтатели, оба тянущиеся к свободе, но судьба каждого сложилась по-своему, и все же каждый из них борется с препятствиями, встретившимися в пути, с недоброжелательством, с неприязнью, враждебностью среды — на этот раз среды тупого, эгоистичного, закоснелого мещанства.
Сюжетное развитие новеллы и повести, составивших по замыслу автора единую книгу «Старые моряки», не отличается особенной сложностью, как, к примеру, история Габриэлы и Насиба, но тот или иной сюжет несет в себе значительную степень обобщения, это так свойственно мастерству Жоржи Амаду.
И автору еще надо избежать «перегрузок». Жена романиста, Зелия Гаттаи де Амаду, видная писательница, в своей книге воспоминаний «Дорожная шляпка» поведала о таком эпизоде, относящемся к периоду работы Жоржи над романом «Габриэла»: «Мне Жоржи сказал очень серьезным тоном: „Автор романа — я, но жизнь и смерть персонажей не зависит от моей воли“.
Воспитанная на уважении к бракосочетанию, я как-то предложила Жоржи: было бы хорошо сочетать браком Мундиньо Фалкана с Жерузой. Он опять не послушался меня, заявив: „Я уже рискнул повенчать Габриэлу с Насибом и попал впросак, не знаю, как мне выкрутиться, а сейчас хочешь навязать мне еще брак… Нет, они не поженятся!“… Со временем я поняла, что Жоржи поступил правильно, не выдавая замуж внучку могущественного полковника за его лютого врага; пусть об отношениях Жерузы и Мундиньо подумает читатель…».
Познакомившись с «Необычайной кончиной Кинкаса Сгинь Вода», выдающийся бразильский прогрессивный поэт Винисиус де Мораес писал в газету «Ултима ора»: «Я испытывал такое же чувство, какое больше никогда не повторялось, когда прочел романы и повести великих русских мастеров девятнадцатого века — Пушкина, Достоевского, Толстого, особенно Гоголя». По суждению другого бразильского литератора, Вамирэ Шакона, «за лиричнейшим Жоржи Амаду открываешь тень Максима Горького».
Вдохновленные высокими идеалами гуманизма, беспощадно изобличающие антинародную суть капиталистического мира, полные уверенности в победе человечества над темными силами реакции, произведения лауреата международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Жоржи Амаду близки и понятны сердцу советского читателя.
ГАБРИЭЛА, КОРИЦА И ГВОЗДИКА
Хроника провинциального городка
Благоуханье гвоздики,
цвета корицы кожа:
это и есть Габриэла
всех на свете пригожей[1].
(Песня зоны какао)История этой любви — «по любопытному совпадению», как сказала бы дона Арминда, — началась в тот яркий, озаренный весенним солнцем день, когда фазендейро[2] Жезуино Мендонса застрелил из револьвера свою жену дону Синьязинью Гендес Мендонсу — склонную к полноте шатенку, видную представительницу местного общества, большую любительницу церковных празднеств, — а вместе с нею и доктора Осмундо Пиментела, дантиста-хирурга, прибывшего в Ильеус всего несколько месяцев назад, элегантного молодого человека, наделенного поэтическим даром. И как раз в то утро, незадолго до того как разыгралась эта трагедия, старая Филомена привела наконец в исполнение свою давнишнюю угрозу — покинула кухню араба Насиба, уехав с восьмичасовым поездом в Агуа-Прету, где преуспевал ее сын.
Как потом отметил Жоан Фулженсио, человек высокой культуры, владелец магазина «Папелариа Модело» — центра интеллектуальной жизни Ильеуса, день для убийства был выбран неудачно. Такой прекрасный солнечный день, первый после долгого периода дождей, когда солнечные лучи были нежными, как ласка, не подходил для кровопролития. Впрочем, полковник Жезуино Мендонса, человек чести, человек действия, не охотник до чтения, был чужд эстетике, и поэтому подобные соображения не пришли ему в голову, забитую цифрами и расчетами. Ровно в два часа пополудни, когда, как все полагали, полковник находился у себя на фазенде, он неожиданно ворвался в дом дантиста и выстрелил в прекрасную Синьязинью и ее соблазнителя Осмундо, метко всадив в каждого по две пули. Это происшествие вытеснило на время остальные выдающиеся события дня: жители Ильеуса забыли о том, что утром село на мель у входа в гавань каботажное судно, о том, что открылась первая автобусная линия, связывающая Ильеус с Итабуной, о большом бале, который недавно состоялся в клубе «Прогресс», и даже о волнующем вопросе, поднятом Мундиньо Фалканом и касающемся землечерпалок для углубления фарватера в бухте. Что же до маленькой личной драмы Насиба, неожиданно оставшегося без кухарки, то об этом поначалу узнали лишь только самые близкие его друзья, не придавшие этой драме особого значения. Все занялись взволновавшей весь город трагедией — историей жены фазендейро и дантиста. Причиной было то, что все трое принадлежали к избранному обществу, а также и то, что дело изобиловало щекотливыми и пикантными подробностями.
Ибо, несмотря на всесторонний прогресс, вызывавший гордость у жителей города («Ильеус цивилизуется бурными темпами», — писал видный адвокат Эзекиел Прадо в газете «Диарио де Ильеус»), в этих краях по-прежнему превыше всего ценились бурные любовные драмы с ревностью и кровопролитием.
Со временем замолкло эхо последних перестрелок в борьбе за захват земель, но с этой героической поры в душах ильеусцев осталась жажда кровопролития.
Сохранились некоторые обычаи: ильеусцы любили похвастать своей отвагой, ходили днем и ночью с оружием, пили и играли. Укоренились также некоторые законы, и по сей день управляющие их жизнью. Один из них, самый неоспоримый, гласил, что обманутый муж может смыть свой позор только кровью виновных.
Закон был соблюден. Возникновение этого закона, не записанного ни в одном кодексе и существовавшего только в сознании людей, относится к давним временам — много лет назад его ввели сеньоры, которые первые вырубали чащи и сажали какао. Закон этот действовал в Ильеусе и в те дни 1925 года, когда на землях, удобренных телами убитых и пролитой кровью, расцветали рощи, когда приумножались состояния, когда повсюду наблюдался прогресс и город менял свой облик.
Жажда кровопролития в ильеусцах была столь сильна, что араб Насиб, которому отъезд Филомелы доставил большое огорчение, забыл о своих неприятностях и целиком отдался обсуждению этого двойного убийства. Менялся облик города, прокладывались новые улицы, привозились автомобили, строились дома, коттеджи, особняки, расширялись дороги, выходили в свет новые газеты, создавались клубы, Ильеус преображался. Но гораздо медленнее менялись обычаи и нравы людей. Так бывает всегда, в любом обществе.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Приключения и злоключения одного достойного бразильца (родившегося в Сирии) в городе Илбеусе в 1925 году, во времена, когда там наблюдался расцвет производства какао и всеобщий бурный прогресс; с любовью, убийствами, банкетами, презепио, различными историями на любой вкус — из далекого прошлого надменных дворян и простого народа, а также из недавнего прошлого богатых фазендейро и прославленных жагунсо с одиночеством и вздохами, со страстью, местью, ненавистью, с дождями, солнцем и лунным светом, с суровыми законами, политическими маневрами, волнующей проблемой бухты, с фокусником и танцовщицей, с чудом и иными волшебствами, или Бразилец из Аравии
ГЛАВА ПЕРВАЯ Томление Офенизии (которая появляется очень мало, но значение ее от этого не умаляется)
В этот год бурного прогресса…
(Из одной ильеусской газеты 1925 г.)Рондо Офенизии
Ах, послушай, милый брат, милый брат Луис Антоньо! Офенизия качалась на веранде в гамаке: летний зной и легкий веер, запах моря в ветерке, темя чешет ей рабыня, и вот-вот уснет она. Вдруг явился император борода как смоль черна. О восторг! Ах, на что мне эти рифмы, мадригалы Теодоро, платье новое из Рио, ожерелье и корсет, обезьянка, твой подарок, и мантилья, и перчатки, ах, на что, на что мне всё, милый брат Луис Антоньо? Они — черных два огня (Это очи государя!), как слепят они меня! Борода — как простыня (это борода монарха!) всю окутает меня! Я в мужья его беру! (Властелин тебе не пара!) Пусть! В любовники беру, к бороде прильнув, замру! (Ах, сестра, ты нас бесчестишь!) Милый брат Луис Антоньо! Что ты ждешь? Убей сестру! Не хочу барона, графа, не хочу землевладельца, мадригалов Теодоро, роз душистых и гвоздик бороды хочу коснуться, черной бороды монарха! Милый брат Луис Антоньо! Авила — наш род старинный, так послушай, милый брат: если императору не отдашь свою сестру, в этом гамаке в тоске я умру.О солнце и дожде с маленьким чудом
В том 1925 году, когда расцвела нежная любовь мулатки Габриэлы и араба Насиба, период дождей затянулся настолько дольше нормального и необходимого, что фазендейро, как испуганное стадо, метались по улицам и при встрече тревожно вопрошали друг друга со страхом в глазах:
— Неужели этому не будет конца?
Все говорили о дождях — ведь фазендейро никогда не приходилось видеть столько воды, низвергающейся с неба днем и ночью почти без перерыва.
— Еще неделя — и все начнет гнить. — Весь урожай…
— Боже мой!
Они мечтали об урожае, предсказывая, что он будет исключительно богатым, намного превосходящим прежние. А так как цены на какао неуклонно росли, то урожай принес бы им новые огромные доходы, процветание, изобилие, горы денег. И это значило бы, что дети полковников[3] будут учиться в самых дорогих колледжах больших городов; на вновь проложенных улицах будут возведены новые фамильные резиденции, обставленные роскошной мебелью из Рио-де-Жанейро, с роялями — украшением гостиных; будут открываться самые различные магазины, начнет разрастаться торговля, в кабаре вина будут литься рекой; с каждым пароходом станут прибывать женщины, в барах и гостиницах пойдет крупная игра — словом, это означало прогресс и цивилизацию, о которой шло столько разговоров.
И подумать только, что эти проливные дожди, превратившиеся сейчас в угрозу для урожая, пошли с таким опозданием, заставили ждать себя так долго и возносить молитвы. Несколько месяцев назад полковники поднимали глаза к чистому небу в поисках облаков, предвестников грядущего дождя. Плантации какао занимали весь юг Баии, и полковники с нетерпением ждали дождей, столь необходимых для созревания недавно народившихся плодов, сменивших цветы. Процессия святого Георгия в этом году превратилась в страстный коллективный обет покровителю города.
Разукрашенные золотом роскошные носилки со статуей святого гордо несли на плечах самые знатные люди города, крупнейшие фазендейро, облаченные в пурпурные мантии братства, и это говорило о многом, поскольку полковники не отличались религиозностью, не посещали церкви, не ходили к мессе и причастию, оставляя эти благоглупости женской половине семьи.
— Эти церковные церемонии — женское дело.
И вместе с тем они с готовностью откликались на просьбы епископа и священников о пожертвованиях на строительство и празднества. Они давали средства на постройку монастырской школы на вершине холма Витория, на постройку дворца епископа и духовных школ, на девятидневные молитвы «новены», на празднование в честь пресвятой Марии, на устройство в дни церковных праздников ярмарок с гуляньем, на организацию празднеств святого Антония и святого Иоанна.
В этом году, вместо того чтобы пить в барах, полковники с сокрушенным видом шли в процессии со свечами в руках, обещая святому Георгию все, что угодно, в обмен на долгожданные дожди. Толпа, следовавшая за носилками, подхватывала молитву священников. Отец Базилио, в парадном облачении, со смиренным лицом, благоговейно сложив руки, звучным голосом провозглашал слова молитвы. Избранный для этой почетной обязанности за свои выдающиеся заслуги, которые всеми признавались и уважались, он охотно выполнял ее еще и потому, что сам владел землями и плантациями и был самым непосредственным образом заинтересован в небесном вмешательстве. Поэтому он молился с удвоенной энергией.
Толпа старых дев окружила изображение святой Марии Магдалины, взятое накануне из церкви святого Себастьяна, чтобы сопровождать носилки со статуей покровителя во время шествия по городу. Их охватил экстаз, когда они увидели, как взволнован священник, который обычно читал молитвы благодушно и торопливо, время от времени прижмуривая глаза, а на исповеди не очень интересовался тем, что они хотели ему, поведать, чем сильно отличался, к примеру, от отца Сесилио.
Мощный прочувствованный голос падре гремел, вознося горячую молитву, ему вторили гнусавое пение старых дев, дружный хор полковников, их жен, дочерей и сыновей, торговцев, экспортеров, рабочих с плантаций, прибывших на праздник из провинции, грузчиков, рыбаков, женщин легкого поведения, приказчиков, профессиональных игроков и бездельников, мальчиков из духовных школ и девушек из Общества Пречистой Девы. Молитва возносилась к ясному, безоблачному небу, где висел палящий огненный шар — безжалостное солнце, которое могло погубить едва завязавшиеся плоды какаовых деревьев.
Некоторые дамы из общества во исполнение обета, данного ими на последнем балу в клубе «Прогресс», шли босиком, принося в жертву святому свою элегантность и вымаливая у него дождь. Шепотом давались различные обещания, святого торопили, поскольку уже нельзя было допустить ни малейшей отсрочки, ведь он отлично видит, какая беда постигла тех, кому он покровительствует, — и они просят у него немедленного чуда.
Свитой Георгий не остался глух к Молитвам, к неожиданному религиозному экстазу полковников и к деньгам, которые те обещали пожертвовать на собор.
Не могли его оставить равнодушным и босые ноги дам, с таким трудом ступавшие по брусчатке мостовой. Но больше всего, несомненно, святой был тронут жестокими страданиями отца Базилио. Священника настолько беспокоила судьба урожая на собственной какаовой плантации, что, когда умолкала страстная молитва и раздавалось громкое пение хора горожан, он давал клятву в течение целого месяца не прикасаться к прелестям своей кумы и хозяйки Оталии. Оталия официально доводилась ему кумой: пятерых крепышей столь же здоровых и многообещающих, как и какаовые деревья на плантациях падре, — завернув их в батист и кружева, она снесла в церковь, чтобы окунуть в купели. Не имея возможности их усыновить, падре Базилио стал крестным отцом всех пятерых — трех девочек и двух мальчиков — и, действуя в духе христианского милосердия, предоставил им право носить его звучную и достойную фамилию: Серкейра.
Мог ли святой Георгий отнестись безразлично к такому волнению? С незапамятных времен капитаний[4] он правил — хорошо ли, плохо ли — судьбами этого края, засаженного какаовыми деревьями.
Жорже де Фигейредо Коррейя, которому король Португалии подарил в знак расположения эти заселенные тогда дикарями десятки лиг[5] лесов пау-бразил[6], не пожелал оставить ради дикой селвы[7] развлечения лиссабонского двора и отправил своего испанского кума на смерть, которую тот принял от руки индейцев. Однако он дал куму совет доверить покровительству святого — победителя дракона этот феод, который король, его господин, соизволил ему пожаловать. Он не поехал в этот далекий первобытный край, но дал ему свое имя в честь тезки — святого Георгия.
И так со своего вздыбленного коня святой следил за бурной судьбой Сан-Жорже-дос-Ильеус около четырехсот лет. Он наблюдал, как индейцы зверски убивали первых колонизаторов и как индейцев, в свою очередь, истребляли и порабощали, видел, как создавались энженьо[8], кофейные плантации, одни небольшие, другие крупные. Он видел, как эта земля в течение целых столетий прозябала без всяких надежд на будущее. Затем он присутствовал при том, как появились первые саженцы какао, и это он повелел обезьянам жупара содействовать размножению какаовых деревьев, разнося повсюду их семена. Он это сделал, возможно, без определенной цели, а лишь для того, чтобы изменить немного пейзаж, который, должно быть, надоел ему за столько лет. Вряд ли он представлял себе, что с какао придет богатство, что для края, которому он покровительствует, наступят новые времена. Ему довелось наблюдать тогда страшные дела людей, совершавших вероломные убийства ради захвата долин и холмов, рек и гор; людей, которые выжигали чащу и лихорадочно насаждали все новые и новые плантации какао. Он увидел, как район стал вдруг разрастаться, как рождались города и поселки; увидел, как в Ильеус пришел прогресс, а с ним появился и епископ; увидел, как создавались новые муниципалитеты — Итабуна и Итапира, как организовалась монастырская женская школа; он видел, как прибывали на пароходах все новые люди, видел столько всего, что решил: ничто уже больше не сможет его удивить. И все же его поразило это неожиданное и глубокое благочестие полковников, людей грубых, пренебрегающих законами и молитвами; его поразил также безумный обет отца Базилио Серкейры, обладавшего невоздержанным и пылким характером, настолько пылким и невоздержанным, что святой далее усомнился, в состоянии ли будет падре выполнить обет до конца.
Когда процессия вылилась на площадь Сан-Себастьян, остановившись перед маленькой белой церковкой, когда Глория, улыбаясь, перекрестилась в своем окне, к которому летели проклятия, когда араб Насиб вышел из своего опустевшего бара, чтобы полюбоваться зрелищем, — в этот момент и свершилось пресловутое чудо. Нет, голубое небо не затянулось черными тучами и дождь не начался — вне всякого сомнения, чтобы не помешать процессии. Но на небе появилась прозрачная луна, отлично видимая, несмотря на ослепительно яркое солнце. Негритенок Туиска первым заметил луну и обратил на нее внимание своих хозяек — сестер Рейс, шествовавших в группе старых дев, одетых во все черное. Возбужденные старые девы завопили о чуде, их клич был подхвачен толпой, и вскоре новость распространилась по всему городу. В течение двух дней после этого ни о чем другом не говорили.
Святой Георгий услышал их молитвы, и теперь дождь будет наверняка.
Действительно, несколько дней спустя на небе собрались тучи, и к вечеру пошел дождь. Но, на беду, святой Георгий, на которого, конечно, произвели большое впечатление пылкие молитвы и серьезные обещания, босые ноги сеньор и поразительный обет целомудрия, данный отцом Базилио, перестарался, и вот теперь дожди шли не переставая. Период дождей затянулся более чем на две недели дольше обычного.
Едва зародившиеся плоды какао, которым угрожало солнце, выросли под дождями, и их оказалось невиданно много, однако теперь они снова нуждались в солнце. Если эти непрерывные проливные дожди будут продолжаться, плоды могут сгнить еще до начала уборки. Глаза полковников опять наполнились тревогой, они снова взирали на небо, теперь уже свинцовое, на льющийся как из ведра дождь, искали спрятавшееся за тучами солнце. Зажглись свечи на алтарях святого Георгия, святого Себастьяна, Марии Магдалины, даже в алтаре кладбищенской часовни Богоматери Победоносной. Еще неделя, еще дней десять дождей — и урожай погибнет без остатка. Это было тягостное ожидание.
Вот почему в то утро, когда начались описываемые события, старый полковник Мануэл Ягуар (прозванный так потому, что его плантации находились, как говорили и как он сам подтверждал, на краю света, где слышался рык ягуара) вышел из дому на самой заре, в четыре часа утра, и увидел очистившееся от туч необыкновенно голубое небо, каким оно бывает на рассвете, и солнце, заявившее о себе радостным лучом над морем. Он воздел руки кверху и воскликнул с огромным облегчением:
— Наконец-то!.. Урожай спасен!
Полковник Мануэл Ягуар ускорил шаг по направлению к рыбному рынку, что по соседству с портом, где ежедневно рано утром собирались старые друзья вокруг больших банок с кашей мингау, которой торговали баиянки[9]. Он шел быстро, будто его ждали, чтобы услышать новость, утешительную новость об окончании периода дождей. Лицо фазендейро расплывалось в счастливой улыбке.
Урожай был обеспечен, это будет высокий, на редкость богатый урожай, и, что особенно важно, цены на какао беспрерывно росли в том году, столь насыщенном социальными и политическими событиями, в том году, когда многое изменилось в Ильеусе, в том году, который оценивался как решающий год в жизни района.
По мнению одних, это был год, когда решили наконец проблему бухты; по мнению других, этот год был отмечен политической борьбой между Мундиньо Фалканом, экспортером какао, и полковником Рамиро Бастосом, старым местным лидером. Третьи вспоминают о сенсационном процессе полковника Жезуино Мендонсы; четвертые — о прибытии первого шведского судна, положившего начало экспорту какао прямо из Ильеуса.
Никто, однако, не упоминает об этом урожайном 1925/26 годе как о годе любви Насиба и Габриэлы, и даже, когда касаются перипетий их романа, не задумываются над тем, что история этой безумной страсти более, чем какое-либо другое событие, была в то время в центре жизни города, когда бурный прогресс и новшества цивилизации преображали облик Ильеуса.
О прошлом и будущем, которые переплелись на улицах Ильеуса
Затянувшиеся дожди покрыли дороги и улицы жидкой грязью, которую изо дня в день месили копыта ослов и верховых лошадей.
Даже по недавно сооруженной шоссейной дороге между Ильеусом и Итабуной, где теперь ходили грузовики и автобусы, в один прекрасный день оказалось совершенно невозможно проехать, ибо мосты на ней были снесены половодьем, а на отдельных участках грязь была такой непролазной, что шоферам приходилось отступать. Русский Яков и его молодой компаньон Моасир Эстрела, хозяин гаража, не на шутку встревожились. Перед началом дождей они основали компанию по организации пассажирского сообщения между двумя столицами зоны какао и заказали на юге четыре небольших автобуса. Путь по железной дороге занимал три часа, если поезд не опаздывал, по шоссе же его можно было проделать за полтора часа.
У Якова и прежде были грузовики — он занимался перевозкой какао из Итабуны в Ильеус. Моасир Эстрела оборудовал гараж в центре города, у него также были грузовики. Они объединились, выхлопотали ссуду в банке, выдав векселя, и заказали автобусы. Компаньоны потирали руки в предвидении доходов от выгодного дела. Вернее, потирал руки русский, Маосир же довольствовался тем, что насвистывал. Веселый свист раздавался в гараже, а на рекламных щитах города уже были расклеены объявления, оповещавшие о предстоящем открытии автобусной линии, которая позволит совершать поездки быстрее и дешевле, чем по железной дороге.
Однако прибытие автобусов задержалось, а когда они наконец при всеобщем ликовании были выгружены с небольшого судна компании «Ллойд Бразилейро», дожди достигли апогея, и дорога пришла в совершенно плачевное состояние. Потоки воды угрожали деревянному мосту через реку Кашоэйру, без которого сообщение было невозможно, и тогда компаньоны решили отсрочить открытие линии. Новые автобусы почти два месяца простояли в гараже, пока русский ругался на своем непонятном языке, а Моасир с яростью насвистывал. Векселя оказались просроченными, и, если бы Фалкан не выручил компаньонов из затруднительного положения, предприятие провалилось бы, даже не успев открыться. Мундиньо Фалкан сам обратился к русскому, вызвав его к себе в контору, и предложил дать в долг сколько нужно без всяких процентов. Мундиньо Фалкан верил в прогресс Ильеуса и считал необходимым содействовать ему.
Дожди уменьшились, уровень воды в реке спал, и, хотя погода все еще была плохая, Яков и Моасир наняли рабочих починить мосты, забутили наиболее грязные участки и открыли движение. Первый рейс — причем автобус вел сам Моасир Эстрела — послужил поводом для речей и шуток. Все пассажиры были приглашенные: префект, Мундиньо Фалкан и другие экспортеры, полковник Рамиро Бастос и несколько фазендейро, капитан, доктор[10], адвокат и врачи. Кое-кто, усомнившись в безопасности дороги, отказался от поездки под благовидным предлогом, но свободные места были тут же заняты, причем желающих оказалось столько, что некоторые ехали стоя. Путешествие продлилось два часа — ехать еще было очень трудно, — но закончилось без особых происшествий. По прибытии в Итабуну был устроен фейерверк, а затем дан завтрак в честь открытия линии. На завтраке русский Яков объявил, что по истечении первых двух недель регулярных рейсов в Ильеусе будет устроен большой обед, на который приглашаются видные деятели обоих муниципалитетов, чтобы еще раз отметить важную веху местного прогресса. Банкет был заказан Насибу.
Слово «прогресс» чаще других раздавалось в те времена в Ильеусе и Итабуне. Оно было у всех на устах и повторялось при каждом удобном случае. Слово это то и дело мелькало на страницах газет, как ежедневных, так и еженедельных; оно слышалось в спорах в «Папелариа Модело», в барах и кабаре. Ильеусцы повторяли его, когда разговор заходил о новых улицах, об озелененных площадях, о зданиях в торговом центре и современных особняках на набережной, об издании «Диарио де Ильеус», об автобусах, отправлявшихся утром и вечером в Итабуну, о грузовиках, перевозивших какао, о ярко освещенных кабаре, о новом кинотеатре «Ильеус», о футбольном стадионе, о колледже доктора Эноха, о тощих докладчиках, прибывавших из Баии и даже из Рио, о клубе «Прогресс» с его танцевальными вечерами. «Это прогресс!» говорили они с гордостью, убежденные в том, что все они способствовали столь глубоким изменениям в облике города и его обычаях.
Повсюду торжествовал дух процветания, дух головокружительного прогресса. Прокладывались улицы в сторону моря и по направлению к холмам, разбивались новые сады и площади, строились дома, коттеджи, особняки. Арендная плата увеличивалась, в торговом центре она выросла до небывалых размеров.
Южные банки создавали новые агентства, «Бразильский банк» выстроил себе красивое здание в четыре этажа.
Город постепенно терял свое сходство с военным лагерем, которое было для него характерно во времена войны за землю; уже не ездили верхом фазендейро с револьвером у пояса; исчезли страшные жагунсо[11], с ружьем наперевес бродившие по незамощенным улицам, которые всегда были покрыты либо грязью, либо пылью; смолкли выстрелы, наполнявшие страхом тревожные ночи; не видно было бродячих торговцев, раскладывавших свой товар прямо на тротуарах. Всему этому пришел конец, город засиял пестрыми яркими витринами, стало больше лавок и магазинов, бродячие торговцы появлялись теперь только на ярмарках, остальное время они разъезжали по провинции. Открывались бары, кабаре, кинотеатры, колледжи. Хотя религия здесь не была в большом почете, ильеусцы очень гордились тем, что в их городе была основана епархия, и первый епископ был встречен пышными празднествами. Фазендейро, экспортеры, банкиры, торговцы — все жертвовали на постройку монастырской школы для ильеусских девушек и на постройку дворца епископа. Оба эти здания сооружались на вершине холма Конкиста. Не менее охотно горожане давали деньги и на организацию клуба «Прогресс», основанного по инициативе коммерсантов и бакалавров во главе с Мундиньо Фалканом. В этом клубе по воскресеньям устраивались танцевальные вечера и время от времени большие балы. Открылись и футбольные клубы, процветало литературное общество имени Руя Барбозы. В эти годы за зоной Ильеуса постепенно укрепилось название «Королева Юга». Культура какао господствовала на всем юге штата Баия, и не было культуры доходнее ее; состояние приумножалось, столица какао — город Ильеус рос и расцветал.
И все же этот бурный прогресс, это великое будущее еще не были свободны от следов недавнего прошлого, которые оставались с времен захвата земель, вооруженных столкновений и разгула бандитов. Караваны ослов, перевозивших какао в экспортные склады, еще стояли в торговом центре вперемежку с грузовиками, которые начали с ними конкурировать. Еще ходило по улицам города немало людей, обутых в сапоги, с револьверами у пояса; по-прежнему легко вспыхивали на окраинных уличках драки; прославленные жагунсо похвалялись своими подвигами в дешевых кабаках; теперь уже изредка, но, как и раньше, прямо на улице, у всех на глазах, они совершали убийства.
Подобного рода темные личности смешивались на замощенных и чистых улицах с преуспевающими экспортерами, элегантно одевавшимися у баиянских портных, с бесчисленными коммивояжерами, шумливыми и любезными, всегда знающими свежие анекдоты, с врачами, адвокатами, дантистами, агрономами, инженерами, прибывавшими с каждым пароходом.
Многие фазендейро сняли теперь сапоги и приобрели самый мирный вид, ибо не носили при себе оружия.
Они строили для своих семей добротные дома, жили большую часть времени в городе и помещали детей в колледж доктора Эноха либо отправляли их в гимназии Баии; жены их выезжали на фазенды только по праздникам, ходили в шелках, носили туфли на высоких каблуках и посещали вечера в «Прогрессе».
Однако многое еще напоминало старый Ильеус. Не тот Ильеус времен энженьо, убогих кофейных плантаций, благородных сеньор, черных невольников, когда процветало поместье семейства Авила. О тех временах остались лишь смутные воспоминания, и только доктор ворошил это далекое прошлое. Но сохранились следы недавнего прошлого, когда происходили крупные вооруженные столкновения из-за земли. Эта борьба началась после того, как отцы иезуиты впервые привезли рассаду какао. Тогда люди, приехавшие в поисках богатства, ринулись в леса и стали оспаривать с ружьями и парабеллумами в руках свое право на владение каждой пядью земли. Тогда все эти Бадаро, Оливейры, Браз Дамазио, Теодоро дас Бараунас и многие другие прокладывали дороги, прорубали просеки, и, сопровождаемые своими жагунсо, бросались в смертельные схватки. Леса были вырублены и саженцы какаовых деревьев высажены в землю, удобренную телами и политую кровью убитых. В те времена здесь все основывалось на мошенничестве и правосудие служило интересам завоевателей; в те времена чуть не за каждым высоким деревом укрывался в засаде стрелок, подстерегавший жертву. Следы этого прошлого сохранились еще в некоторых сторонах жизни города и народных обычаях. Оно уходило постепенно, уступая место новым нравам. Но уходило сопротивляясь, и особенно тогда, когда дело касалось обычаев, с течением времени превратившихся почти в законы.
Одним из тех, кто был привязан к прошлому и с недоверием взирал на ильеусские новшества, кто жил почти все время на плантации и приезжал в город только для переговоров с экспортерами, был полковник Мануэл Ягуар. Идя по пустынной улице в то раннее ясное утро, первое после долгих дождей, он думал о том, что в тот же день уедет к себе на фазенду: приближалась пора урожая, теперь солнце позолотит плоды какао, вид плантаций будет радовать глаз. Жизнь среди какаовых деревьев была ему по душе, городу не удалось его увлечь, несмотря на то что там было столько соблазнов — кино, бары, кабаре с красивыми женщинами, всевозможные магазины. Он предпочитал привольно жить на фазенде, охотиться, любоваться какаовыми плантациями, беседовать с работниками, слушать по многу раз истории о том времени, когда за землю боролись с оружием в руках, и рассказы о змеях; ему нравились покорные девушки-метиски из убогих публичных домов в поселках. Он приехал в Ильеус переговорить с Мундиньо Фалканом, продать ему какао, условившись о поставке, и получить авансом деньги для новых совершенствований фазенды.
Экспортер оказался в Рио, а Мануэл не хотел вести переговоры с его управляющим, он предпочитал подождать, поскольку Мундиньо должен был прибыть следующим рейсом парохода «Ита».
И вот, пока он оставался в веселом, несмотря на дожди, городе, друзья таскали его по кинотеатрам (он обычно засыпал на середине фильма уставали глаза), по барам и кабаре. Женщины… о боже, как они надушены, просто ужас!.. И дерут дорого, клянчат драгоценности, кольца… Этот Ильеус — просто погибель…
Тем не менее ясное небо, уверенность, что урожай будет хороший, вид плодов какао, сохнувших в баркасах и источавших сок, вид караванов ослов, перевозивших эти плоды, — все это делало его счастливым, и ему вдруг пришла в голову мысль о том, что несправедливо держать семью в имении, оставлять детей без образования, а жену на кухне, точно негритянку, лишая ее развлечений и удобств. Живут же другие полковники в Ильеусе, строят себе хорошие дома, одеваются как люди…
Из всего того, чем он занимался в Ильеусе во время своих коротких поездок туда, ничто так не нравилось полковнику Мануэлу Ягуару, как эти утренние беседы с друзьями у рыбного рынка. Он, пожалуй, объявит им сегодня о своем намерении построить дом в Ильеусе и перевезти семью. Он думал об этом, шагая по пустынной улице, и, выйдя к порту, встретил русского Якова, обросшего рыжей бородой, нечесаного, но в благодушном настроении. Едва заметив полковника, Яков протянул к нему руки и что-то воскликнул, но, очевидно, был настолько возбужден, что перешел на родной язык, однако это не помешало не знавшему ни одного языка фазендейро понять его и ответить:
— Да… Наконец-то… Выглянуло солнце, дружище.
Русский потирал руки.
— Мы теперь будем делать три рейса в день: в семь утра, в полдень и в четыре вечера. И, пожалуй, выпишем еще пару автобусов.
Они вместе подошли к воротам гаража, и полковник смело заявил:
— Так и быть, на этот раз я поеду на вашей машине. Решился…
Русский усмехнулся:
— По хорошей дороге поездка займет немногим более часа…
— Вот это да! Подумать только! Тридцать пять километров за полтора часа… Прежде мы ехали верхом целых два дня… Если Мундиньо Фалкан прибудет сегодня на «Ите», вы можете забронировать мне билет на завтрашнее утро…
— Нет, полковник. На завтра нельзя.
— То есть как это так, почему?
— Потому что завтра банкет и вы мой гость. Обед будет первоклассный, приглашены полковник Бастос, два префекта — из Ильеуса и Итабуны, Мундиньо Фалкан — в общем, избранная публика… Еще управляющий «Бразильского банка»… Повеселимся на славу!
— Ну куда мне на эти банкеты… Я ведь живу скромно, не вылезаю из своего угла.
— И все же я настоятельно прошу вас прийти. Обед будет в баре Насиба «Везувий».
— Ну ладно, я останусь, а поеду послезавтра… — Я для вас оставлю место впереди.
Фазендейро стал прощаться.
— А эта колымага не перевернется? Ведь такая скорость… Прямо не верится…
О завсегдатаях рыбного рынка
Все на мгновение замолчали, прислушиваясь к пароходному гудку.
— Требует лоцмана… — сказал Жоан Фулженсио.
— «Ита» из Рио. Мундиньо Фалкан прибывает на этом пароходе, — сообщил капитан, который всегда был в курсе всех новостей.
Доктор снова заговорил, с решительным видом подняв палец и подчеркивая этим важность своих слов:
— Будет так, как я говорю; всего через несколько лет, может, лет через пять, Ильеус станет настоящей столицей — больше Аракажу, Натала, Масейо… На севере страны нет ныне города, где прогресс шел бы стремительней. Всего несколько дней назад я прочел в одной из газет Рио-де-Жанейро… — Он говорил медленно, с расстановкой. Даже в обычном разговоре доктор говорил как оратор, и его слушали с уважением.
Отставной чиновник, слывущий человеком образованным и талантливым, публикующий в газетах Бани длинные и тяжеловесные исторические статьи, Пелопидас де Ассунсан д'Авила, ильеусец старых времен, был чуть ли не славой города.
Окружающие закивали головами, все были довольны тем, что окончились дожди, и все они — фазендейро, чиновники, торговцы, экспортеры — очень гордились бесспорным прогрессом своего района. За исключением Пелопидаса, капитана и Жоана Фулженсио, никто из собравшихся нынче у рыбного рынка не был уроженцем Ильеуса. Все они приехали сюда, привлеченные какао, но уже давно чувствовали себя коренными ильеусцами, навеки связанными с этим краем.
Седовласый полковник Рибейриньо вспоминал:
— Когда я приехал сюда в тысяча девятьсот втором году — в этом месяце будет двадцать три года, — здесь была глухая провинция, поистине край света. Оливенса — так назывался тогда город… — улыбнулся он. — Причала не было и в помине, улицы были не замощены и пустынны. В общем, местечко, где только смерти ждать. А сегодня, смотрите, каждый день — новая улица. Порт полон судов. — Он показал на гавань: грузовое судно компании «Ллойд» стояло у причала железной дороги, пароход «Баияна» — у дебаркадера против складов, катер отходил от ближайшего причала, освобождая место для «Иты». Баркасы, катера и лодки, прибывшие с плантаций по реке, сновали между Ильеусом и Понталом.
Они беседовали у рыбного рынка, разбитого на пустыре против улицы Уньан, там, где заезжие цирки обычно возводят свои шатры. Негритянки продавали здесь мингау[12] и кускус[13], вареную кукурузу и пирожки из тапиоки. Здесь ежедневно еще до пробуждения города собирались фазендейро, привыкшие у себя на плантациях вставать на заре, и кое-кто из городских жителей — доктор, Жоан Фулженсио, капитан, Ньо Гало, иногда судья и Эзекиел Прадо (этот почти всегда являлся прямо из ближайшего дома терпимости).
Они приходили сюда якобы для того, чтобы купить свежую, только что выловленную рыбу, которая, еще живая, билась на столах базара, но на самом деле ради дружеской беседы. Они обсуждали последние события, высказывали предположения насчет дождя, урожая и цен на какао. Некоторые, например полковник Мануэл Ягуар, приходили так рано, что могли наблюдать, как покидают кабаре «Батаклан» запоздалые посетители и как рыбаки выгружают из лодок корзины с рыбой, которая поблескивает в лучах утреннего солнца, как серебряные лезвия. Полковник Рибейриньо, владелец фазенды «Принсеза да Серра», человек простой и добрый, хотя и очень богатый, почти всегда был тут, когда Мария де Сан-Жорже, красивая негритянка, отлично приготовлявшая мингау и кускус из маниоки, спускалась с холма с лотком на голове, одетая в цветастую ситцевую юбку и подкрахмаленную кофту с вырезом, наполовину обнажавшим ее полные груди. Сколько раз полковник помогал ей опускать на землю котелок с мингау и расставлять лоток, стараясь при этом заглянуть за вырез!
Некоторые приходили прямо в домашних туфлях, в пижамных куртках, надетых со старыми брюками.
Доктор здесь в таком виде, конечно, никогда не появлялся. Вообще создавалось впечатление, будто он и на ночь не снимает свой черный костюм, ботинки, стоячий воротничок с отворотами и строгий галстук. Программа ежедневно была одна и та же: придя на рыбный рынок, они съедали по порции мингау, потом следовала оживленная беседа, обмен новостями, сопровождавшийся раскатистым хохотом. Затем они шли к главному причалу порта, задерживались там ненадолго и расходились почти всегда у гаража Моасира Эстрелы, где семичасовой автобус забирал пассажиров на Итабуну…
Но вот снова раздался пароходный гудок, долгий и веселый, — он, казалось, хотел разбудить весь город.
— Видно, получил лоцмана. Теперь будет входить в гавань.
— Да, наш Ильеус — колосс. Ни одному краю не суждено такое будущее.
— Если какао в этом году подорожает и цена на него поднимется хотя бы до пятисот рейсов, то при нынешнем урожае у всех будет много денег… провозгласил с алчным видом полковник Рибейриньо.
— Даже я решил купить хороший дом для семьи. Куплю или построю… — объявил полковник Мануэл Ягуар.
— Ну вот и отлично! Наконец-то решились! — одобрил капитан, похлопывая фазендейро по спине.
— Давно пора, Мануэл… — усмехнулся Рибейриньо.
— Дело в том, что младших детей скоро придется отправлять в колледж, я не хочу, чтобы они оставались невеждами, как старшие, как их отец. Хочу, чтобы хоть один стал бакалавром, получил кольцо[14] и диплом.
— Вообще, — заявил доктор, — богатые люди вроде вас обязаны способствовать прогрессу города, сооружая удобные и светлые коттеджи, бунгало, особняки.
Посмотрите, какой дом на набережной построил себе Мундиньо Фалкан, а ведь он прибыл сюда всего два года назад, к тому же он холост. В конце концов на кой черт копить деньги, если ты живешь на плантации без всякого комфорта?
— А я вот думаю купить дом в Баие. И отправить туда семью, — сказал полковник. Он был крив на один глаз, а левая рука у него была повреждена со времен вооруженных схваток.
— Это непатриотично, — возмутился доктор. — Где вы нажили свои капиталы — в Баие или здесь? Зачем же вкладывать деньги в Баие, когда вы их заработали в Ильеусе?
— Спокойно, доктор, не шумите! Ильеус очень хорош, никто не спорит, но вы же понимаете, что Баия — столица, там есть все, в том числе и хороший колледж для ребят.
Доктор не унимался:
— Как же не шуметь? Ведь, приезжая сюда с пустыми карманами, вы набиваете их здесь, богатеете, а потом отправляетесь тратить деньги в Баию.
— Но…
— Я думаю, кум Амансио, — обратился Жоан Фулженсио к фазендейро, — что наш доктор прав. Кому же, как не нам, заботиться об Ильеусе?
— Я этого не отрицаю… — уступил Амансио. Он был человек спокойный и не любил споров. Никто из тех, кто, не зная Амансио, видел его сговорчивость, не мог предположить, что перед ним знаменитый главарь жагунсо, один из тех, кто пролил немало крови во время борьбы за леса Секейро-Гранде. — Лично для меня ни один город не может сравниться с Ильеусом. Новее же в Баие больше удобств и есть хорошие колледжи. Кто станет это отрицать? Мои младшие учатся там в колледже иезуитов, и жена не хочет больше оставаться вдали от них. Она и так умирает от тоски по сыну, который живет в Сан-Пауло. Что ж я могу поделать? Если бы речь шла только обо мне, я бы отсюда никогда не уехал…
Капитан вмешался в разговор:
— Уезжать из-за колледжа нет никакого смысла, Амансио. Ведь у нас есть колледж доктора Эпоха, так что просто нелепо говорить об этом. Даже в Баие нет лучшего колледжа, чем наш… — Капитане порядке помощи, но не из нужды, преподавал всеобщую историю в колледже, основанном адвокатом Энохом Лирой, который ввел современные методы обучения и изъял линейку как орудие наказания учеников.
— Но колледж Эпоха не приравнен к государственным учебным заведениям.
— Теперь, вероятно, уже приравнен. Энох получил телеграмму от Мундиньо Фалкана, в которой говорится, что министр просвещения обещал это сделать через несколько дней.
— И что же тогда?
— Ловкач этот Мундиньо Фалкан…
— Чего он добивается, черт возьми? — спросил полковник Мануэл Ягуар, но вопрос его остался без ответа, потому что как раз в этот момент начался спор между Рибейриньо, доктором и Жоаном Фулженсио о методах обучения.
— Может быть, может быть. Но, на мой взгляд, для начального обучения нет никого лучше доны Гильермины. Уж кто попадет к ней в руки… Мой сынишка учится у нее читать и считать. А вот обучение без линейки…
— Ну, у вас отсталые взгляды, полковник, — усмехнулся Жоан Фулженсио. — Те времена уже прошли. Современная педагогика…
— Что?
— Нет, линейка все же нужна…
— Вы отстали на целый век. В Соединенных Штатах…
— Девочек я помещу в монастырскую школу, это решено. А мальчишки пусть занимаются с доной Гильерминой…
— Современные педагоги упразднили линейку и телесные наказания, — удалось наконец вставить слово Жоану Фулженсио.
— Не знаю, кого вы имеете в виду, но заверяю вас, что это очень плохо. Если я и умею читать и писать…
Они шагали по причалу, споря о методах доктора Эноха и знаменитой доны Гильермины, о строгости которой рассказывали легенды. Туда же двигались, стекаясь из разных улиц, и другие группы, направлявшиеся встречать пароход. Несмотря на ранний час, в порту уже чувствовалось некоторое оживление. Грузчики таскали мешки какао со складов на пароход «Баияна».
Баркас с поднятыми парусами, похожий на огромную белую птицу, готовился отчалить. Послышался гудок, затрепетавший в утреннем воздухе; он оповещал о том, что судно отходит.
Полковник Мануэл Ягуар продолжал возмущаться:
— Чего он добивается, этот Мундиньо Фалкан? В нем, наверно, дьявол сидит. Мало ему собственных дел, так он сует свой нос всюду.
— Это понятно. Скоро выборы, а он хочет быть префектом.
— Не думаю…. Это для него маловато, — сказал Жоан Фулженсио.
— Да, он человек с амбицией.
— И все же из него получился бы неплохой префект. Он предприимчив.
— Здесь его еще мало знают. Он ведь в Ильеусе без году неделя.
Доктор, ярый сторонник Мундиньо, прервал говорившего:
— Нам нужны люди именно такого типа — дальновидные, смелые, решительные…
— Ну, положим, доктор, здешние жители никогда не были трусами…
— Я говорю не о той смелости, которая нужна, чтобы пустить в человека пулю. Я имею в виду другую смелость…
— Другую?
— Мундиньо Фалкан в Ильеусе без году неделя, как сказал Амансио. А посмотрите, сколько он уже сделал. Проложил проспект на набережной — в успех этого дела никто не верил, а оно оказалось выгодным и послужило к украшению города. Привез первые грузовики, без него не стала бы выходить «Диарио де Ильеус», не было бы и клуба «Прогресс».
— Говорят, кроме того, он дал взаймы Якову и Моасиру на открытие автобусной линии…
— Я того же мнения, что и доктор, — сказал капитан, прежде хранивший молчание. — Именно в таких людях мы и нуждаемся… в людях, понимающих, что такое прогресс, и содействующих ему.
Они дошли до причала, где встретили Ньо Гало, чиновника податного бюро, обладавшего гнусавым голосом. Это был типичный представитель богемы, обязав тельный участник всех сборищ и неисправимый антиклерикал.
— Привет благородной компании! — Он стал пожимать руки и тут же сообщил: — До смерти хочу спать, я всю ночь почти не сомкнул глаз. Был в «Батаклане» с арабом Насибом, а потом мы с ним отправились в заведение тетки Машадан, там поужинали с девицами… И все же я не мог не встретить Мундиньо…
Против гаража Эстрелы собирались пассажиры на первый автобус. Солнце взошло, день обещал быть великолепным.
— Урожай будет богатый.
— Завтра Яков и Моасир устраивают банкет…
— Да. Яков меня пригласил.
Беседа была прервана короткими, тревожными гудками, которые последовали один за другим. Толпа встречающих у причала насторожилась. Даже грузчики остановились и стали прислушиваться.
— Засел!
— Проклятая мель!
— Если так будет продолжаться, то даже «Баияна» не сможет войти в порт.
— А тем более пароходы «Костейры» и «Ллойда».
— «Костейра» уже угрожала, что ликвидирует линию.
Проход в гавань Ильеуса был трудным и опасным, как бы зажатый между городским холмом Уньан и холмом Пернамбуко, высящимся на островке по соседству с Понталом. Фарватер был узкий и неглубокий, а песок на дне двигался вместе с приливом и отливом.
Здесь пароходы часто садились на мель, и иногда требовался целый день, чтобы снять их. Большие пакетботы вообще не решались проходить над этой опасной мелью, несмотря на то что в Ильеусе была замечательная гавань.
Продолжали раздаваться гудки, по-прежнему тревожные. Люди, пришедшие встречать пароход «Ита», направились в сторону улицы Уньан, рассчитывая увидеть оттуда, что происходит у входа в бухту.
— Пойдем туда?
— Это возмутительно! — заявил доктор, когда они по немощеной улице огибали холм. — Ильеус производит основную массу какао для мирового рынка, Ильеус имеет первоклассный порт, а между тем доход от экспорта получает Баия. И все из-за этой проклятой мели.
Теперь, когда дожди прекратились, только и было разговоров, что о мели и о необходимости сделать порт доступным для крупных судов. Спорили об этом каждый день и повсюду. Предлагали различные меры, критиковали правительство, обвиняли в бездеятельности префектуру. И все же никакого решения не было принято, власти ограничивались обещаниями, а порт Баии по-прежнему собирал огромные экспортные пошлины.
Снова разгорелся спор. Капитан отстал, взял под руку Ньо Гало, которого он покинул накануне около часа ночи у дверей заведения Марии Машадан.
— Ну, какова оказалась девчонка?
— Утонченная штучка… — прогнусавил Ньо Гало и стал рассказывать: — Вы много потеряли. Надо было видеть, как Насиб объяснялся в любви этой новенькой косоглазой, что пошла с ним. Можно было со смеху помереть…
Пароходные гудки раздавались все громче и тревожнее, приятели ускорили шаг. Со всех сторон стекался народ.
О том, как в жилах доктора чуть не заструилась королевская кровь
Доктор не был доктором, капитан не был капитаном. Так же, как большинство полковников не были полковниками. Лишь немногие фазендейро приобрели в первое годы Республики, когда начали разводить какао, патент полковника национальной гвардии. И все же обычай остался: хозяину плантаций какао, которые давали урожай более тысячи арроб[15], присваивался, как нечто само собой разумеющееся, титул полковника, хотя титул этот отнюдь не являлся воинским званием, а лишь свидетельствовал о богатстве плантаторa. Жоан Фулженсио, любивший подсмеиваться над местными обычаями, говорил, что большинство фазендейро — «полковники жагунсо», так как многие из них принимали активное участие в борьбе за землю.
Среди представителей молодого поколения попадались и такие, которые даже не знали звучного и благородного имени Пелопидаса де Ассунсан д'Авила, настолько привыкли почтительно называть его доктором.
Что же касается Мигела Батисты де Оливейра, сына покойного Казузиньи, который занимал пост префекта в начальный период борьбы за землю и имел немалое состояние, но умер в бедности, — о доброте его и поныне вспоминают старые кумушки, — то его прозвали капитаном еще с детских лет, когда он, непоседливый и дерзкий сорванец, командовал сверстниками-мальчишками.
Хотя эти два известнейших в Ильеусе лица и были закадычными друзьями, горожане разделились в симпатиях к ним, постоянно споря, кто же из них двоих более выдающийся и более красноречивый оратор. При этом не скидывали со счетов и адвоката Эзекиела Прадо, непобедимого в. судебных словопрениях.
В национальные праздники — 7 сентября, 15 ноября и 13 мая[16], на праздниках конца и начала года с рейзадо[17], презепион бумба-меу-бой[18], на празднествах по случаю приезда в Ильеус литераторов из столицы штата жители города наслаждались речами доктора и капитана и снова и снова разделялись в оценке их ораторского искусства.
В этом многолетнем споре никогда не удавалось прийти к полному согласию. Одни отдавали предпочтение высокопарным тирадам капитана, в которых пышные прилагательные неслись друг за другом неистовой кавалькадой, а фиоритуры хриплого его голоса вызывали исступленные рукоплескания; другие Предпочитали длинные изысканные фразы доктора, его эрудицию, о которой свидетельствовало изобилие цитируемых имен и множество сложных эпитетов; среди них редкостными самоцветами блистали такие мудреные слова, что лишь немногие знали их истинное значение.
Даже мнения сестер Рейс, столь единые абсолютно во всем, в данном случае разделились. Слабенькую и нервную Флорзинью приводили в восторг порывистость капитана, его «сияющие зори свободы», она наслаждалась вибрациями его голоса в конце фраз. Кинкина, толстая и веселая Кинкина, предпочитала мудрость доктора, его старинный язык, его патетическую манеру, — например, когда он, воздев перст, восклицал:
«Народ, о, мой народ!» Они спорили между собой, вернувшись с публичных собраний в префектуре или с митингов на городской площади, как спорил весь город, не в состоянии отдать предпочтение тому или другому оратору.
— Я ничего не поняла, но это так красиво… — заявляла Кинкина, поклонница доктора.
— Когда он говорит, я чувствую, как у меня по спине бегут мурашки, отстаивала Флорзинья первенство капитана.
Памятными были те дни, когда на центральной площади Сан-Жоржена на украшенной цветами трибуне капитан и доктор выступали по очереди — первый как официальный оратор музыкального кружка имени 13 мая, второй — от городского литературного общества имени Руя Барбозы. Все прочие ораторы (даже учитель Жозуэ, чье лирическое пустословие имело своих приверженцев из числа учениц монастырской школы) стушевывались, и наступала тишина, как в самые торжественные моменты, когда над трибуной появлялась либо смуглая, вкрадчивая физиономия капитана, одетого в белоснежный костюм с цветком в петлице и рубиновой булавкой в галстуке, напоминающего своим длинным горбатым носом хищную птицу, либо тонкий силуэт доктора, почти совсем седого, маленького и суетливого, похожего на беспокойную болтливую пичужку и облаченного в неизменный черный костюм, под которым была сорочка с крахмальной грудью и высоким воротничком, с пенсне на шнурке, прикрепленном к пиджаку.
— Сегодняшнее выступление капитана было поистине каскадом красноречия. Какой прекрасный лексикон!
— Но у него слишком абстрактные образы. Зато все, что говорит доктор, полно мысли. Это не человек, а энциклопедический словарь!
Только Эзекиел Прадо мог составить им конкуренцию в тех редких случаях, когда он, почти всегда вдребезги пьяный, поднимался на необычную для него несудебную трибуну. У него также были бесспорные достоинства, и что касается юридических дебатов, то тут общественное мнение было единодушно: никто не мог с ним сравниться.
Пелопидас де Ассунсан д'Авила происходил из семьи португальских дворян Авила, обосновавшихся в этих краях еще во времена капитаний. Так, по крайней мере, утверждал доктор, основываясь на семейных документах. И это было веское утверждение, свидетельство ученого-историка.
Потомок знаменитых Авила, поместье которых, превратившееся ныне в мрачные руины, окруженные кокосовыми пальмами, находилось на берегу океана между Ильеусом и Оливенсой, он происходил в то же время и от плебеев торговцев Ассунсан. Ему ставили в заслугу то, что он одинаково ревностно хранил память о тех и других. Конечно, доктор мало что мог рассказать о своих предках по линии Ассунсанов, но зато хроника семьи Авила была богата различными событиями.
Скромный государственный чиновник на пенсии, доктор жил в мире величавых фантазий — в мире древней славы семьи Авила и славного настоящего Ильеуса. Об Авила, об их подвигах и родословной он даже писал в течение многих лет объемистую, обстоятельную книгу…
Что же касается прогресса Ильеуса, то доктор являлся его самым горячим пропагандистом, бескорыстным поборником.
Отец Пелопидаса был разорившимся потомком Авила по боковой линии. От благородной семьи он унаследовал лишь имя и аристократическую привычку не работать. Женился он на плебейке Ассунсан, дочери преуспевавшего владельца галантерейной лавки, все же по любви, а не из низменных побуждений, как в свое время утверждали злые языки. Лавка при жизни старого Ассунсана давала такую прибыль, что внук
Пелопидас был отправлен учиться на факультет права в Рио-де-Жанейро. И все же старый Ассунсан умер, не простив дочери до конца этого глупого брака с дворянином, а его зять, приобретя такие плебейские привычки, как игра в триктрак и петушиные бои, проел мало-помалу все товары лавки — метр за метром ткани, дюжину за дюжиной шпильки и моток за мотком пестрые ленты. Вслед за упадком рода Авила пришел конец и достатку Ассунсанов. И Пелопидас — он был уже на третьем курсе факультета — оказался в Рио без средств для продолжения учебы. Уже в те времена, когда он приезжал в Ильеус на каникулы, его величали доктором — сначала дед, затем прислуга и соседи.
Друзья отца устроили его на скромное место в государственное учреждение. Он бросил занятия и остался в Рио. Начал преуспевать по службе, но все же влачил жалкое существование, так как у него не было протекции и он не умел льстить и заискивать. Через тридцать лет он ушел в отставку и вернулся навсегда в Ильеус, чтобы целиком посвятить себя «своему труду» — монументальной книге о семье Авила и о прошлом Ильеуса.
Книга эта стала легендарной, О ней говорили с тех самых времен, когда, еще студентом, доктор опубликовал в небольшом столичном журнале, закончившем существование на первом же номере, ставшую знаменитой статью об амурных похождениях императора Педро II во время его поездки на север страны и невинной Офенизии, романтической и анемичной представительницы семьи Авила.
Статья молодого студента осталась бы в полной неизвестности, если бы журнал не попал случайно в руки одного писателя-моралиста, папского графа и члена Бразильской академии словесности. Ярый поклонник монарха, граф воспринял как личное оскорбление эту «грязную анархистскую инсинуацию», ставившую «славного мужа» в смешное положение воздыхателя, бесчестного гостя, добивавшегося благосклонности добродетельной девушки из семьи, которой он оказал честь своим посещением. Граф на безупречном португальском языке XVI столетия разнес дерзкого студента, приписав ему намерения и цели, которых Пелопидас никогда не имел. Студент возмутился резким ответом — профессор безжалостно расправился с ним. Для второго номера журнала он подготовил статью, написанную не менее классическим португальским языком, и привел в ней неоспоримые доводы. Основываясь на фактах и особенно на стихах поэта Теодоро де Кастро, он вдребезги разбил все возражения графа. Журнал, однако, перестал выходить, второй номер так и не появился. Газета, в которой граф нападал на Пелопидаса, отказалась публиковать его ответ и после долгих переговоров дала заметку в двадцать печатных строк в самом углу полосы, где резюмировалась статья доктора, написанная на восемнадцати страницах. Но еще и поныне доктор похвалялся своей «ожесточенной полемикой» с членом Бразильской академии словесности, имя которого известно во всей стране.
— Моя вторая статья сразила его и заставила замолчать…
В летописи интеллектуальной жизни Ильеуса эта полемика неоднократно и с гордостью упоминалась как свидетельство культуры Ильеуса наряду с почетным отзывом о рассказе Ари Сантоса — нынешнего президента общества Руя Барбозы, молодого человека, служившего в экспортной фирме, — который он получил на конкурсе, объявленном столичным журналом, а также наряду со стихами уже упоминавшегося Теодоро де Кастро.
Что же касается тайного флирта императора с Офенизией, то дело, видно, не пошло дальше взглядов, вздохов и произнесенных шепотом клятв. Путешествующий император познакомился с ней на празднике в Баие и без памяти влюбился в ее глаза. А поскольку в особняке Авила на Ладейра-до-Пелоуриньо проживал некий отец Ромуалдо, прославленный латинист, император появлялся там еще не раз под предлогом посещения этого мудрого священника. На легких кружевных балконах большого особняка монарх по-латыни сетовал на судьбу, томясь от тайного и неосуществленного влечения к прекрасной лилии рода Авила. Офенизия, встревоженная разговорами нянек, расхаживала по залу, где мудрый чернобородый император беседовал на научные темы с отцом Ромуалдо под почтительным наблюдением ничего не понимавшего Луиса Антонио д'Авилы, ее брата и главы семьи. Офенизия после отъезда влюбленного императора начала, правда, наступление, добиваясь переезда семьи ко двору, но потерпела поражение, столкнувшись с упорным сопротивлением Луиса Антонио, хранителя фамильной и девичьей чести.
Луис Антонио д'Авила погиб в чине полковника при отступлении из лагуны во время войны с Парагваем; он возглавлял тогда отряд, состоявший из солдат, набранных на его плантациях — энженьо. Романтическая Офенизия, так и оставшись девственницей, скончалась в поместье Авила от чахотки, тоскуя по бородатому императору; а поэт Теодоро де Кастро, страстный и нежный певец прелестей Офенизии, стихи которого завоевали в свое время известную популярность, хотя в отечественных антологиях его имя оказалось незаслуженно забытым, умер от пьянства.
Он посвятил Офенизии свои самые изящные стихи и, воспевая в изысканных рифмах ее хрупкую, болезненную красоту, умолял подарить ему ее недоступную любовь. Эти стихи еще и поныне декламируются под музыку ученицами монастырской школы на различных праздниках и вечеринках. Поэт Теодоро, обладавший сильным и необузданным темпераментом, несомненно, умер от любовного томления и тоски (кто станет оспаривать эту истину, высказанную доктором?) спустя десять лет после того, как из дверей погруженного в траур особняка был вынесен белый гроб с телом Офенизии. Поэт умер, захлебнувшись в дешевом по тогдашним временам алкоголе — кашасе[19] в энженьо Авила.
У доктора, как мы видим, не было недостатка в интересном материале для его еще не изданной, но заранее ставшей знаменитой книги: Авила владельцы сахарных плантаций и винокуренных заводов, сотен невольников и бескрайних земель, Авила — владельцы поместья в Оливенсе, большого особняка на Ладейре-до-Пелоуриньо в столице штата, Авила с пантагрюэльскими вкусами, Авила, содержавшие любовниц при дворе, Авила красивые женщины и бесстрашные мужчины, в том числе и ученый Авила. Помимо Луиса Антонио и Офинизии, до них и после них были и другие выдающиеся Авила, например, тот, что в 1823 году в Реконкаво вместе с дедом Кастро Алвеса[20] сражался с португальскими войсками, отстаивая независимость родины. Потом был Жеронимо Авила, вступивший в политическую борьбу, потерпев поражение на выборах, результаты которых он сфальсифицировал в Ильеусе, а его противники проделали то же самое в провинции; он со своими людьми стал разбойничать на дорогах, грабить селения и организовал поход на столицу штата, угрожая свергнуть правительство. Посредники добились умиротворения и вознаграждения разгневанного Авила.
Упадок семьи особенно стал заметен при жизни Педро д'Авила, носившего рыжую эспаньолку и отличавшегося сумасшедшим темпераментом; он покинул поместье (большой особняк в Баие был уже продан), энженьо и винокуренные заводы (к тому времени заложенные) и, оставив семью в городе, сбежал с цыганкой, обладавшей исключительной красотой и, по утверждению безутешной супруги, злыми чарами.
Известно, что Педро д'Авила нашел смерть в уличной драке, его убил другой любовник цыганки.
Все это теперь стало прошлым, давно забытым гражданами Ильеуса. Новая жизнь началась с появлением какао, а то, что было прежде, уже не представляло интереса. Энженьо и винокуренные заводы, сахарные и кофейные плантации, легенды и истории о них — все исчезло раз и навсегда; зато выросли плантации какао и возникли новые легенды и истории, в которых рассказывалось о том, как люди воевали между собой из-за земли. Слепые певцы разнесли по ярмаркам, вплоть до самых далеких сертанов, имена и подвиги героев какао, рассказали о славе. Ильеуса. Одного только доктора интересовало прошлое семьи Авила. Но это, конечно, не мешало ему пользоваться все более растущим уважением горожан. Грубые завоеватели земель, малограмотные фазендейро испытывали почти раболепное уважение к знанию, к ученым людям, которые писали в газетах и произносили речи.
Что же тогда говорить о человеке с такими блестящими способностями и познаниями, который может написать или уже написал целую книгу? Ибо столько ходило слухов о книге доктора и так восхвалялись ее достоинства, что большинство считало ее уже изданной много лет назад и давно вошедшей в сокровищницу отечественной литературы.
О том, как Насиб остался без кухарки
Насиб проснулся от стука в дверь комнаты, который повторился несколько раз. Насиб пришел домой на рассвете; после закрытия бара он ходил с Тонико Бастосом и Ньо Гало по кабаре, а потом очутился у Марии Машадан с Ризолетой, новенькой, слегка косившей девчонкой из Аракажу.
— Кто там?
— Это я, сеньор Насиб. Хочу проститься, я уезжаю.
Где-то поблизости прогудел пароход, видимо, вызывая лоцмана.
— Куда же ты уезжаешь, Филомена?
Насиб поднялся, рассеянно прислушался к гудку парохода. «По гудку можно догадаться, что „Ита“», — подумал он, стараясь по стрелкам будильника, стоявшего рядом с кроватью, определить, который час.
Только шесть, а он вернулся домой в четыре. Что за женщина эта Ризолета! Нельзя сказать, чтобы она была красавица, нет, она даже косит немного. Зато знает всякие шутки, укусила его за ухо, а потом откинулась назад да как захохочет… Но что это выкинула старая Филомена, спятила она, что ли?
— Буду жить в Агуа-Прете с сыном…
— Что это, черт возьми, ты выдумала, Филомена? С ума сошла, что ли?
Еще не совсем проснувшись и вспоминая о Ризолете, Насиб поискал глазами домашние туфли. Его волосатая грудь пахла дешевыми духами этой женщины.
Он так и вышел в коридор — босиком, в длинной ночной рубашке. Старая Филомена ожидала его в гостиной, на ней было новое платье, на голове цветной платок, а в руках зонтик. На полу лежал баул и сверток с изображениями святых. Она служила у Насиба с тех пор, как тот купил бар, то есть больше четырех лет.
Она была ворчливая, но чистоплотная и работящая, серьезная сверх всякой меры, исключительно честная и старательная. «Просто драгоценная жемчужина», — обычно отзывалась о ней дона Арминда. Но нередка она вставала с левой ноги и в такие дни открывала рог лишь затем, чтобы объявить о своем предстоящем уходе и отъезде, в Агуа-Прету, где ее единственный сын обосновался несколько лет назад, открыв зеленную лавку. Она часто заговаривала об отъезде, и Насиб уже не верил ей больше, полагая, что это просто безобидная блажь старухи, которая так привязана к нему, что могла бы сойти скорее за члена семьи или дальнюю родственницу, чем за прислугу.
Снова послышался гудок, Насиб открыл окно; так он и предполагал, это оказалась «Ита» из Рио-де-Жанейро. Остановившись у скалы Рапа, пароход вызывал лоцмана.
— Что за глупости, Филомена? Так неожиданно, без всякого предупреждения?.. Просто чепуха какая-то.
— Неправда, сеньор Насиб! С той самой минуты, как я переступила порог вашего дома, я не переставала говорить: «Когда-нибудь я обязательно уеду к моему Висенте…»
— Но ты могла бы предупредить меня вчера, раз уж собралась уезжать…
— Я так и сделала — передала вам через Шико, но вы не обратили внимания. И даже не заглянули домой…
Это верно: служивший у Насиба Разиня Шико, сын доны Арминды, сказал ему вчера, когда приносил из дома завтрак, что старуха велела предупредить, что уезжает. Но это повторялось почти каждую неделю; Насиб пропустил слова Шико мимо ушей и ничего не ответил.
— Я ждала вас всю ночь… До рассвета… А вы бегали по девчонкам… Такой человек, как вы, уже давно должен был жениться и сидеть дома, а не болтаться после работы где попало… В один прекрасный день, хоть вы и крепкий с виду, вы ослабеете и умрете…
Ее худой палец указывал на грудь Насиба, видневшуюся через вырез длинной рубашки, вышитой красными цветочками. Насиб опустил глаза и увидел следы губной помады. Ризолета!.. Старая Филомена и дона Арминда любили нападать на него за то, что он все еще холост, постоянно на что-то намекали и подбирали Насибу невест.
— Послушай, Филомена…
— Ничего не поделаешь, сеньор Насиб. На этот раз я действительно уезжаю. Висенте мне написал, что женится и что я ему нужна. Я уже уложила вещи…
И надо же было ей уехать накануне банкета автобусной компании «Сул-Баияна», назначенного на следующий день… Попробуйте приготовить и подать обед на тридцать персон, а старуха будто нарочно выбрала этот день для отъезда.
— Прощайте, сеньор Насиб. Пусть господь вас хранит и поможет вам найти хорошую невесту, которая возьмет на себя заботы о вашем доме…
— Но, Филомена, сейчас только шесть часов, а поезд уходит в восемь…
— Я поездам никогда не доверяю, дело ненадежное. Уж лучше я приду заранее…
— Давай я хоть расплачусь с тобой…
Все это походило на нелепый сон. Он стал шагать босиком по холодному цементному полу гостиной, чихнул, тихонько выругался. Теперь только простудиться не хватает… Вот сумасшедшая старуха…
Филомена протянула костлявую руку и подала ему кончики пальцев.
— До свидания, сеньор Насиб. Будете в Агуа-Прете, милости просим.
Насиб отсчитал нужную сумму и добавил немного — как бы там ни было, она это заслужила, — помог Филомене поднять баул, тяжелый сверток с многочисленными изображениями святых, которые прежде украшали ее комнатку окнами во двор, и, наконец, зонтик. Через окно лился радостный утренний свет, а с ним врывался легкий морской ветерок, слышалось пение птиц, и солнце ярко сияло на безоблачном после долгих дождливых дней небе. Насиб посмотрел на пароход, к которому подходил катер лоцмана, и махнул рукой, решив больше не ложиться. Лучше он поспит в час сиесты, чтобы к вечеру быть в форме: он обещал Ризолете вернуться. Чертова старуха, весь день испортила…
Он подошел к окну и посмотрел вслед Филомене.
Ветерок с моря заставил его вздрогнуть, его дом на Ладейре-де-Сан-Себастьян находился почти напротив входа в бухту. Хорошо хоть, что дожди кончились. Они продолжались так долго, что еще немного — и погубили бы урожай, ведь если бы дожди не прекратились, молодые плоды какао могли загнить на деревьях. Полковники уже начали беспокоиться.
В окне соседнего дома появилась Арминда, подруга старой Филомены, и помахала ей платком. — С добрым утром, сеньор Насиб.
— Сумасшедшая эта Филомена… Ушла от меня…
— Да… Подумать только, какое совпадение! Еще вчера я сказала Шико, когда он пришел из бара: «Завтра Филомена уедет, сын вызвал ее письмом…»
— Шико мне говорил, но я не поверил.
— Она сидела допоздна, все поджидала вас. Подумайте, какое совпадение, мы обе сидели и беседовали на пороге вашего дома. Только вы так и не пришли… — Она засмеялась, и смех ее выражал то ли осуждение, то ли понимание.
— Я был занят, дона Арминда, у меня много работы…
Она не спускала с него глаз. Насиб встревожился: неужели Ризолета измазала ему губной помадой и лицо? Возможно, очень возможно.
— Да, я всегда говорила: таких трудолюбивых людей, как сеньор Насиб, мало в Ильеусе… Работаете ночи напролет…
— И вот как раз сегодня, — пожаловался Насиб, — когда нужно готовить обед на тридцать персон, заказанный на завтра…
— Я и не слышала, когда вы пришли, а ведь я легла поздно, не раньше двух…
Насиб что-то проворчал. Эта дона Арминда была воплощенным любопытством.
— Что-то около того… Кто теперь приготовит обед? Это дело нелегкое… На меня вы лучше не рассчитывайте. Дона Элизабет вот-вот разродится, срок уже подошел. Поэтому я и не ложилась, ее Пауло мог прибежать за мной в любую минуту. Да я и не умею готовить эти изысканные блюда…
Дона Арминда, вдова, мать Разини Шико, мальчишки, служившего в баре Насиба, была весьма остра на язык и увлекалась спиритизмом. Как акушерка она пользовалась известностью, и за последние двадцать лет многих ильеусцев приняли ее руки, причем первыми ощущениями новорожденных в этом мире становились сильный запах чеснока и яркие румяна на лице доны Арминды.
— А дона Клоринда уже родила? Сеньор Раул не пришел вчера в бар…
— Да, она родила вчера вечером. Но они позвали доктора Демосфенеса. Ох уж эти мне новшества. Вам не кажется неприличным, что врач-мужчина принимает ребенка и видит чужую жену совершенно голой? Это же бесстыдство…
Для Арминды это было жизненно важным вопросом: врачи начинали конкурировать с нею; где же было видано раньше подобное безобразие: врач смотрит на голую чужую жену, да еще во время родовых схваток?.. Но Насиб был озабочен завтрашним обедом, а также закусками и пирожными, — у него в связи с отъездом кухарки тоже возникли серьезные проблему.
— Это прогресс, дона Арминда. Однако старуха поставила меня в дьявольски затруднительное положение.
— Прогресс? Бесстыдство это, вот что такое…
— Где я теперь достану кухарку?
— Придется пока обратиться к сестрам Рейс…
— Они, жадюги, ведь три шкуры сдерут. А я-то нанял двух девчонок помогать Филомене…
— Так уж создан мир, сеньор Насиб. Чего меньше всего ждешь, то и случается. Меня, к счастью, покойный муж предупреждает. Вот только на днях, вы и представить себе не можете… Это было во время сеанса у кума Деодоро.
Но Насиб не был расположен выслушивать историй из области спиритизма, который — являлся второй специальностью акушерки.
— Шико уже встал?
— Что вы, сеньор Насиб! Бедняга вернулся после полуночи.
— Пожалуйста, разбудите его. Мне нужно заблаговременно обо всем позаботиться. Сами понимаете, обед на тридцать персон в честь открытия автобусной линии. Приглашенные — все люди с положением…
— Я слышала, какой-то автобус перевернулся на мосту через реку Кашоэйра.
— Чепуха! Автобусы ходят туда и обратно набитые до отказа. Прибыльное дело.
— Подумать только, чего теперь не увидишь в Ильеусе, сеньор Насиб! Мне рассказывали, что в новой гостинице будет даже какой-то «лифт» — ящик, который сам подымается и опускается…
— Так вы разбудите Шико?
— Иду, иду… Говорят, что вообще больше не будет лестниц, ей-богу!
Насиб постоял еще немного у окна, глядя на пароход компании «Костейра», к которому подходил лоцманский катер. В баре кто-то говорил, что с этим судном должен прибыть Мундиньо Фалкан. Конечно, он привезет ворох новостей. Прибудут, наверное, и новые женщины для кабаре, для заведений на улицах Уньан, Сапо, Флорес. Каждый пароход из Баии Аракажу или Рио привозил партию девиц. Возможно, на этом судне будет также доставлен автомобиль доктора Демосфенеса — врач зарабатывал кучу денег, у него лучший в городе кабинет. Стоит, пожалуй, одеться и пойти в порт посмотреть, как будут высаживаться пассажиры.
Наверняка он встретит там обычную компанию. И, как знать, может быть, ему порекомендуют хорошую кухарку, которая справится с работой в баре? Кухарки в Ильеусе нарасхват, они нужны и в семьях, и в гостиницах, и в пансионах, и в кабаре. Чертова старуха…
И как раз тогда, когда он нашел эту прелесть Ризолету! Когда он не должен волноваться…
Он не видел иного выхода, по крайней мере на ближайшие несколько дней, как очутиться в когтях сестер Рейс. Сложная штука жизнь: еще вчера все шло хорошо, у него не было забот, он выиграл подряд две партии в триктрак у такого сильного противника, как капитан, отведал поистине божественную мокеку[21] из сири[22] у Марии Машадан и обнаружил эту новенькую Ризолету… А сегодня с самого раннего утра ему пришлось столкнуться с трудностями… Вот свинство! Сумасшедшая старуха… По правде говоря, он уже жалел об ее уходе, вспоминая ее чистоплотность, утренний кофе с кукурузным кускусом, сладким бататом, жареными бананами и бейжу[23]. Ему будет тоскливо без ее материнской заботы, без ее внимания, даже без ее воркотни.
Когда однажды у него был сильный жар — в то время в округе свирепствовал тиф, а также малярия и оспа, — она не выходила из его комнаты, спала прямо на полу. Где он теперь достанет такую кухарку?
Дона Арминда появилась в окне.
— Шико уже встал, сеньор Насиб. Он моется.
— Пойду-ка и я умоюсь. Спасибо.
— Потом приходите пить кофе. У нас, правда, скромный завтрак. Я хочу рассказать вам сон, я видела покойного мужа. Он мне говорит: «Арминда, старушка моя, дьявол завладел умами жителей Ильеуса. Здесь думают только о деньгах да о богатстве. Это кончится плохо… Скоро начнется такое…»
— Для меня, дона Арминда, уже началось… С отъездом Филомены. Да, для меня уже началось. — Он сказал это в шутку, но знал, что так оно и есть.
Пароход поднял лоцмана на борт и теперь маневрировал, разворачиваясь в направлении к гавани.
О хвале закону и праву, или о рождении и национальности
Поскольку у всех вошло в привычку называть Насиба арабом и даже турком, следует сразу же устранить всякое сомнение относительно его подданства. Он должен считаться урожденным бразильцем, а не натурализованным иностранцем. Правда, он родился в Сирии, но попал в Ильеус уже в возрасте четырех лет, прибыв в Баию на французском пароходе. В те времена на запах сулившего богатство какао в город с разнесшейся повсюду славой ежедневно стекались по морю, по реке и по суше, на пароходах, баркасах, парусных судах и лодках, верхом на ослах и пешком, продираясь сквозь чащи, сотни и сотни бразильцев и иностранцев из самых различных мест: из Сержипе и Сеары, из Алагоаса и Баии, из Ресифе и Рио, из Сирии и Италии, из Ливана и Португалии, из Испании и различных гетто. Рабочие, торговцы, молодые люди, стремившиеся завоевать себе положение, бандиты и авантюристы, пестрая толпа женщин и даже неведомо откуда взявшаяся чета греков. И все они — и белокурые немцы с недавно основанной шоколадной фабрики, и высоченные англичане, работавшие на строительстве железной дороги, — стали жителями зоны какао; они приспособились к обычаям этого еще полуварварского края с его кровавыми столкновениями, засадами и убийствами. Они прибывали и вскоре становились настоящими ильеусцами, истинными «грапиунами»[24], которые насаждают плантации, открывают лавки и магазины, прокладывают дороги, убивают людей, посещают кабаре, пьют в барах, строят быстро растущие поселки, штурмуют страшную селву, выигрывают и проигрывают большие деньги и чувствуют себя такими же ильеусцами, как и самые старые жители этого города, принадлежащие к семьям, обосновавшимся здесь еще до появления какао.
Благодаря этим людям, таким несхожим между собой, Ильеус постепенно терял вид лагеря жагунсо и становился городом. Все они — даже последний бродяга, приехавший, чтобы выманить деньги у разбогатевших полковников, способствовали поразительному прогрессу зоны.
Родственники Насиба — Ашкары — были не просто натурализованными бразильцами, они стали настоящими ильеусцами — и внешностью, и душой. Ашкары участвовали в борьбе за землю, причем их подвиги были одними из самых героических, и слава о них жила очень долго. Подвиги эти можно сравнить лишь с теми, которые совершили Бадаро, Браз Дамазио, знаменитый негр Жозе Нике и полковник Амансио Леал.
Один из братьев Ашкаров, по имени Абдула, третий по старшинству, погиб в игорном зале кабаре в Пиранжи, где он мирно играл в покер. Он пал, убив трех из пяти подосланных к нему жагунсо. Братья отомстили за его смерть так, что об этом долго помнили. Чтобы узнать подробности о богатых родственниках Насиба, достаточно покопаться в архивах суда, прочесть речи прокурора и адвокатов.
Арабом и турком его называли многие — и почти все они были его лучшими приятелями и делали это ласково, по-дружески. Однако Насиб не любил, когда его называли турком, раздраженно отмахивался от этого прозвища и даже иногда свирепел:
— Не обзывайте меня турком!
— Но, Насиб…
— Как угодно, только не турком. Я бразилец, — он хлопал огромной ручищей по своей волосатой груди, — и сын сирийца, благодарение богу.
— Араб, турок, сириец — не все ли равной…
— Как все равно?! Да ты что! Совсем ничего не понимаешь? Не имеешь никакого понятия ни об истории, ни о географии? Турки ведь бандиты, самая отвратительная нация на свете. Для сирийца не может быть оскорбления страшнее, чем когда его называют турком.
— Да ты не сердись, Насиб! Ведь я не хотел тебя обидеть. Все эти восточные национальности для нас одинаковы…
Возможно, этим прозвищем он был обязан не столько своему восточному происхождению, сколько большим, черным, висячим, как у свергнутого султана, усам — он их обычно крутил во время разговора. Эти густые усы росли на толстом добродушном лице с непомерно большими глазами, загорающимися при виде каждой женщины, с крупным чувственным ртом, легко расплывающимся в улыбке. Это был огромный бразилец, высокий и толстый, с приплюснутой головой и богатой шевелюрой, с солидным брюшком, точно «на девятом месяце», как язвил капитан, когда проигрывал Насибу партию в шашки.
— На родине моего отца… — так начинались все истории, которые Насиб любил подолгу рассказывать вечерами, когда за столиками бара оставался лишь узкий круг друзей. Ибо своей родиной он считал Ильеус, веселый приморский город в плодороднейшем краю какао, где он вырос и возмужал. Его отец и дяди, следуя примеру Ашкаров, прибыли сюда сначала одни, оставив семьи в Сирии. Насиб приехал позднее с матерью и старшей сестрой, которой было тогда шесть лет. Ему не было и четырех. Он смутно помнил путешествие в третьем классе и порт в Баие, где отец поджидал их.
Потом переезд на пароходе в Ильеус, на берег их доставили в лодке, поскольку тогда здесь не было даже причала. О Сирии, о его родной земле, у Насиба не осталось никаких воспоминаний, настолько он сжился с новой родиной, настолько стал бразильцем, ильеусцем. Насибу всегда казалось, будто он родился в момент прибытия парохода в Баию, когда его со слезами обнял отец. Впрочем, первое, что сделал бродячий торговец Азиз по прибытии в Ильеус, — он свез детей в Итабуну, называвшуюся тогда Табокас, и отвел в нотариальную контору старого Сегисмундо, чтобы зарегистрировать их бразильцами.
Почтенный нотариус быстро оформил акт натурализации с полным сознанием долга, выполненного за несколько мильрейсов. Не обладая задатками стяжателя, он брал дешево, сделав доступной для всех законную операцию, превращавшую детей иммигрантов, а то и самих иммигрантов, прибывших работать в краю какао, в истинно бразильских граждан, и продавая им солидные, не вызывавшие никаких сомнений свидетельства о рождении.
Случилось так, что старая нотариальная контора была подожжена во время одной из битв за землю, чтобы огонь уничтожил подложные акты обмеров и регистрации участков Секейро-Гранде, — об этом даже рассказано в одной книге. Никто, а тем более старый Сегисмундо, не виноват, что книги, где регистрировались рождения и смерти, сгорели в огне пожара, что заставило сотни ильеусцев пройти регистрацию заново (в то время Итабуна еще была районом муниципалитета Ильеус). Регистрационные книги погибли, но остались свидетельства, которые могли удостоверить, что маленький Насиб и робкая Салма, дети Азиза и Зорайи, родились в местечке Феррадас и были ранее, до пожара, зарегистрированы в данной нотариальной конторе.
Как мог Сегисмундо, не проявив большой бестактности, усомниться в словах богатого фазендейро полковника Жозе Антуиеса или владельца мануфактурного магазина коммерсанта Фадела, пользующегося доверием на бирже? Или хотя бы в более скромных показаниях пономаря Бонифасио, всегда готового немного прибавить к своему маленькому жалованью, выступив в качестве заслуживающего доверие свидетеля? Или в словах одноногого Фабиано, изгнанного из Секейро-до-Эспиньо и не имевшего иных средств к существованию, кроме вознаграждений за свидетельские показания?
Почти тридцать лет прошло с тех пор. Старый Сегисмундо умер, окруженный всеобщим уважением, и похороны его вспоминают и поныне. На них присутствовал весь город, поскольку у Сегисмундо давно уже не было врагов; исчезли и те, кто поджег его контору.
На могиле нотариуса выступали ораторы, они говорили о его достоинствах. Сегисмундо был, по их утверждению, замечательным слугой закона, примером для будущих поколений.
Он без лишних разговоров регистрировал любого доставленного к нему ребенка как родившегося в муниципалитете Ильеус (штат Баия, Бразилия), не предпринимая ненужных расследований, даже когда было очевидно, что родился тот уже после пожара нотариальной конторы. Он не был ни скептиком, ни формалистом, да это было невозможно в Ильеусе на заре эры какао. В то время фальсификация актов земельных обмеров и актов регистрации земель, подложные ипотеки, нотариальные конторы и нотариусы играли не последнюю роль в борьбе за освоение лесов и разбивку плантаций. Ну как тут было отличить фальшивый документ от подлинного? Разве можно думать о каких-то мелких формальностях вроде места и точной даты рождения ребенка, когда жизнь каждую минуту подвергается опасности, то и дело происходят перестрелки, свирепствуют банды вооруженных жагунсо, людей убивают из-за угла. Жизнь прекрасна и разнообразна, так зачем ему, старому Сегисмундо, копаться в названиях каких-то местностей? Какое значение, в самом деле, имеет то, где родился регистрируемый бразилец — в сирийской деревне или в Феррадасе, на юге Италии или в Пиранжи, в Трас-ос-Монтес или Рио-до-Брасо? У старого Сегисмундо хватало неприятностей с документами на право владения землей, так зачем же ему осложнять жизнь честных граждан, которые хотели лишь, выполняя закон, зарегистрировать своих детей? Он просто верил на слово этим симпатичным иммигрантам и принимал от них скромные подарки, ведь они приходили с дееспособными свидетелями, уважаемыми людьми, чье слово стоило иной раз больше любого официального документа.
А если случайно у него и возникало какое-либо сомнение, то более высокая плата за регистрацию и свидетельство, материя на платье для жены, курица или индейка примиряли нотариуса с его совестью. Дело в том, что он, как и большинство людей, оценивал настоящего грапиуну не по тому, где тот родился, а по его деятельности на пользу края, по мужеству, проявленному им при освоении селвы и в минуту смертельной опасности, по количеству посаженных какаовых деревьев либо по числу лавок и магазинов в общем, по сделанному им вкладу в развитие зоны. Такова была психология ильеусцев, такова была психология и старого Сегисмундо, человека с большим жизненным опытом, широким житейским кругозором и умеренной щепетильностью, с опытом и кругозором, поставленными на службу какаовому району. Ведь не благодаря же щепетильности достигли прогресса города юга Баии, были проложены дороги, разбиты плантации, возникла торговля, сооружен порт, построены здания, выпущены газеты, вывозится какао во все страны мира! Все это завоевано ценою перестрелок и засад, фальсифицированных земельных обмеров и актов регистрации, убийств и других преступлений, ценою крови и отваги, и не последнюю роль тут играли жагунсо и авантюристы, проститутки и шулера.
Впрочем, однажды Сегисмундо вспомнил о щепетильности. Дело касалось обмера лесов Секейро-Транде, и ему предложили слишком малое вознаграждение, поэтому его щепетильность сразу возросла. Результатом, однако, было лишь то, что сожгли его контору и всадили ему пулю в ногу. Пуля, правда, не достигла цели, ибо предназначалась для груди Сегисмундо.
С тех пор он стал менее щепетильным и более сговорчивым — типичным грапиуной, благодарение господу.
Поэтому, когда, уже восьмидесятилетним старцем, Сегисмундо скончался, его похороны превратились в подлинную манифестацию. Ильеусцы отдали должное человеку, который в этих местах являл собою пример патриотизма и преданности правосудию.
И вот по мановению его почтенной руки Насиб в один прекрасный вечер превратился в коренного бразильца, хотя уже отнюдь не был младенцем.
О том, как появляется Мундиньо Фалкан, важная персона, разглядывающая Ильеус в бенокль
С капитанского мостика парохода, стоявшего в ожидании лоцмана, несколько мечтательно смотрел на город молодой еще человек, хорошо одетый и тщательно выбритый. Может быть, черные волосы и большие глаза придавали ему романтический вид, почему женщины сразу обращали на него внимание. Но жестко очерченный рот и квадратный подбородок говорили о том, что он человек решительный, практичный, имеющий твердые цели и способный выполнить задуманное.
Капитан с обветренным лицом, покусывая трубку, протянул ему бинокль. Мундиньо Фалкан сказал, взяв его:
— Он, собственно, мне не нужен… Я знаю тут каждый дом, каждого человека. Будто родился на этом берегу. — Мундиньо указал пальцем на берег. — Вот тот дом слева, рядом с двухэтажным особняком, — мой. Могу сказать, что и набережную построил я…
— Это богатая земля, край будущего, — убежденно произнес капитан. Одно плохо — у входа в порт мель…
— Эту проблему мы тоже разрешим, — заверил его Мундиньо. — И очень скоро.
— Дай-то бог! Всякий раз, как я сюда захожу, я очень беспокоюсь за свое судно. На всем севере нет бухты хуже…
Мундиньо поднял бинокль и навел его на город. Он увидел свой дом, построенный в современном стиле, — для его сооружения был выписан архитектор из Рио, — особняки на набережной, сады при богатом доме полковника Мисаэла, колокольню собора, здание школы.
Вот дантист Осмундо в халате выходит из дому, чтобы искупаться в море пораньше: он не хочет шокировать население. На площади Сан-Себастьян ни души, в баре «Везувий» двери закрыты. Ночью ветер повалил рекламный щит у кинотеатра. Мундиньо рассматривал каждую деталь внимательно, почти с волнением. Ему и в самом деле все больше нравился этот край, он не жалел о безумном порыве, которому отдался несколько лет назад, как отдается на волю волн потерпевший кораблекрушение, желая достичь берега любой земли.
К тому же это была далеко не «любая» земля. Здесь производили какао. А где можно лучше поместить деньги и приумножать их? Достаточно иметь голову на плечах, трудолюбие, благоразумие и смелость. Все это у него было, но было и еще кое-что: женщина, которую нужно забыть, страсть, которую невозможно вырвать из сердца и из головы.
В этот его приезд в Рио мать и братья единодушно признали, что он сильно изменился, стал иным, чем прежде.
Старший брат Лоуривал с обычным для него пренебрежительным видом пресыщенного человека вынужден был признать:
— Паренек несомненно возмужал.
Эмилио улыбнулся, посасывая сигару.
— И зарабатывает неплохо. Мы не должны были разрешать тебе уехать, обратился он к Мундиньо. — Но кто мог подумать, что в нашем юном вертопрахе забьется деловая жилка?! Здесь ты никогда ничем, кроме попоек, не увлекался. Поэтому, когда ты уехал, забрав свои деньги, мы сошлись на том, что это очередное безумие, только на этот раз оно вышло за рамки твоих обычных проделок. Мы решили дождаться твоего возвращения и тогда попытаться наставить тебя на путь истинный.
Мать сказала почти с раздражением:
— Он уже не мальчик. Но на кого она, собственно, сердится? На Эмилио за его слова или на Мундиньо, который больше не является к ней просить денег после того, как промотает солидное месячное содержание?
Мундиньо дал им выговориться. Ему нравился этот диалог. Когда им больше нечего было сказать, он объявил:
— Теперь я думаю заняться политикой. Буду добиваться, чтобы меня выбрали на какой-нибудь пост. Быть может, стану депутатом. Мало-помалу я приобретаю вес в тамошних кругах. Что ты скажешь, Эмилио, если увидишь, как я поднимаюсь на трибуну палаты, чтобы ответить на одну из твоих угодливых речей, в которых ты расхваливаешь правительство? Я хочу выступить от оппозиции…
В большой мрачной гостиной их фамильной резиденции, обставленной строгой мебелью, собрались за беседой седая, пышноволосая мать, надменная, как королева, и все три брата. Лоуривал, выписывавший себе костюмы из Лондона, никогда не согласился бы стать депутатом или сенатором. Он отказался даже от министерского поста, когда ему этот пост предложили.
Быть губернатором штата Сан-Пауло — это еще куда ни шло… Может, Лоуривал и согласился бы — в том случае, если бы был избран всеми политическими партиями. Эмилио же являлся федеральным депутатом, его избирали и переизбирали вновь без всяких осложнений. Будучи гораздо старше Мундиньо, оба брата встревожились, услышав, что он самостоятельно ведет дела, экспортирует какао, получает завидные прибыли, с увлечением рассказывает об этом варварском крае, куда он уехал по причине, которую никто никогда не узнает, и заявляет, что вскоре станет депутатом.
— Мы можем тебе помочь, — отеческим тоном сказал Лоуривал.
— Мы сделаем так, чтобы твое имя было занесено в правительственный список одним из первых, тогда ты будешь избран обязательно, — добавил Эмилио.
— Я приехал сюда не просить, а только рассказать.
— Заносчив ты, однако, — пренебрежительно проворчал Лоуривал.
— Если будешь действовать в одиночку, тебя не выберут, — предупредил Эмилио.
— Ничего, пройду от оппозиции. Управлять я хочу только там, в Ильеусе. Сюда же я приехал не затем, чтобы просить у вас помощи. Весьма вам признателен!
Мать повысила голос:
— Ты можешь делать что тебе угодно, никто тебе не запрещает. Но почему ты восстаешь против братьев? Почему ты отстраняешься от нас? Они же хотят тебе только добра, они тебе братья.
— Я уже не мальчик, вы сами это сказали.
Потом он рассказал им об Ильеусе, о битвах прошлого, о бандитах, о землях, завоеванных силой оружия, о нынешнем прогрессе, о проблемах, стоящих перед городом.
— Я хочу, чтобы меня уважали, чтобы меня послали в палату выступать от ильеусцев. Какая мне польза, если вы вставите мое имя в какой-то избирательный список? Чтобы представлять фирму, достаточно Эмилио, а я теперь житель Ильеуса.
— Политика в масштабах местечка со стрельбой и оркестром, — усмехнулся Эмилио не то иронически, не то снисходительно.
— Зачем рисковать, если в этом нет необходимости? — спросила мать, пытаясь скрыть тревогу.
— Чтобы не быть лишь братом своих братьев. Чтобы самому стать кем-то.
Он поставил на ноги весь Рио-де-Жанейро. Ходил по министерствам, запросто беседовал с министрами, являлся к ним в кабинеты, встречал их в отчем доме, где они обедали за столом, во главе которого сидела его мать, либо в доме Лоуривала в Сан-Пауло, где они улыбались его жене Мадлен. Когда министр просвещения, который несколько лет назад был его соперником в борьбе за расположение одной прелестной голландки, сказал ему, что уже пообещал губернатору штата Баия предоставить в начале года колледжу доктора Эноха права государственного учебного заведения, Мундиньо рассмеялся:
— Дружище, не забывай, что ты многим обязан Ильеусу. Если бы я не уехал туда, тебе никогда бы не спать с Бертой, с твоей порочной голландочкой. Я хочу, чтобы официальный статут был дан колледжу немедленно. И не ссылайся на закон. Губернатору ты можешь вкручивать мозги, мне — нет… Для меня ты обязан сделать даже и то, что незаконно, то, что трудно и невозможно…
В министерстве путей сообщения и общественных работ он потребовал, чтобы прислали инженера.
Министр рассказал ему все о мели Ильеуса и порте Баии, объяснил, почему проявляют заинтересованность в этом вопросе люди, связанные с зятем губернатора.
— Это невозможно. Разумеется, твое требование, мой дорогой, справедливо, но невыполнимо. Это совершенно невозможно, губернатор взвоет от бешенства.
— Это он тебя назначил?
— Нет, конечно.
— Он может тебя свалить?.
— Думаю, что нет…
— Так в чем же дело?
— Ты не понимаешь?
— Нет. Губернатор — старик, его зять — вор, оба ничего не стоят. Вместе с правительством погибнет и их клан. Ты что же, пойдешь против меня, против самого богатого и могущественного штата? Чепуха! Я — это будущее, губернатор — прошлое. Кроме того, я обращаюсь к тебе только потому, что я твой друг. Я могу пойти выше, ты это хорошо знаешь. Если я поговорю с Лоуривалом и Эмилио, ты получишь распоряжение о посылке инженера от самого президента республики. Не так ли?
Ему нравилось шантажировать губернатора именами братьев, к которым он на самом деле не обратился бы с просьбой ни при каких обстоятельствах. Вечером он поужинал с министром, играла музыка, были женщины, шампанское и цветы. Договорились, что в следующем месяце инженер прибудет в Ильеус.
Три недели пробыл Мундиньо в Рио; он ненадолго вернулся к прежней жизни: праздники, вечеринки, девушки из высшего общества, артистки мюзик-холла.
Он удивлялся, почему все это, заполнявшее его жизнь в течение многих лет, теперь так мало его интересует и так быстро утомляет. Ему, в сущности, не хватало Ильеуса, не хватало шумной конторы, интриг, сплетен, кое-кого из тамошних людей. Никогда не думал он, что так привыкнет к этому городу, что он так захватит его.
Мать знакомила его с богатыми девушками, влиятельными семьями, искала для него невесту, которая отвлекла бы его от Ильеуса. Лоуривал хотел отвезти брата в Сан-Пауло — ведь Мундиньо еще числился его компаньоном по кофейным плантациям, и ему следовало бы побыть там. Он не поехал: только-только зарубцевалась рана в его сердце, только-только исчез из его снов образ Мадлен, он не станет снова встречаться с ней, страдать от ее пристального взгляда. Чудовищной была эта страсть, в которой они никогда не признавались, но которой были охвачены оба, в любую минуту выдержка могла им изменить, и тогда они бросились бы в объятия друг друга. Ильеусу он был обязан исцелением, ради Ильеуса он теперь и жил.
Лоуривал, высокомерный и пресыщенный, всячески старающийся показать свое превосходство, самодовольный сноб, бездетный вдовец, похоронивший жену-миллионершу, внезапно — во время одного из своих обычных путешествий в Европу — женился вторично, на француженке, манекенщице из дома моделей.
Между супругами была большая разница в возрасте, и Мадлен не очень скрывала причины, побудившие ее выйти замуж за Лоуривала. Мундиньо чувствовал, что если он не уедет навсегда, то ничто — ни моральные соображения, ни скандал, ни угрызения совести — не помешает им принадлежать друг другу. Они неотступно преследовали друг друга взглядами, руки их вздрагивали при соприкосновении, голоса срывались. Высокомерный и холодный Лоуривал никак не мог представить, что младший брат, этот сумасшедший Мундиньо, бросил все ради него, ради своего брата.
Ильеус излечил Мундиньо, а поскольку он вылечился, то, пожалуй, мог бы теперь спокойно смотреть на Мадлен, ведь никаких чувств к ней у него уже не осталось.
Он оглядел в бинокль Ильеус, увидел араба Насиба, стоявшего в окне своего дома. Улыбнулся, так как хозяин бара напомнил ему о капитане, с которым он обычно играл в шашки и в триктрак. Капитан будет ему очень полезен. Он стал лучшим другом Мундиньо, уже делает туманные намеки, что был бы не прочь заняться политической деятельностью. В городе ни для кого не была секретом неприязнь капитана к Бастосам, поскольку его отец был отстранен ими от власти и разгромлен в политической борьбе двадцать лет тому назад. Мундиньо делал вид, что не понимает намеков капитана, так как в то время лишь подготавливал почву. Теперь час настал. Нужно будет вызвать капитана на откровенный разговор и предложить ему возглавить оппозицию. Он покажет братьям, на что способен. Не говоря уже о том, что для прогресса Ильеуса, для ускорения темпов развития город нуждался в таком человеке, как он, — ведь эти полковники не понимают, что сейчас нужно району.
Мундиньо возвратил бинокль, в это время лоцман поднялся на борт, и судно повернулось носом ко входу в гавань.
О прибытии парахода
Несмотря на утренний час, небольшая толпа наблюдала за сложными работами по снятию парохода с мели. Он застрял у входа в бухту, засел там, казалось, намертво.
С вершины холма Уньан любопытные видели, как суетятся капитан и лоцман, отдавая приказания, как бегают матросы, как торопливо снуют офицеры. Маленькие шлюпки, подошедшие со стороны Понтала, окружили судно.
Пассажиры стояли у борта, почти все они были в пижамах и комнатных туфлях, кое-кто, впрочем, уже оделся, приготовившись к высадке. Они оживленно перекликались с родственниками, которые поднялись чуть свет, чтобы встретить их в порту, рассказывали, как прошло путешествие, обменивались шутками по поводу того, что пароход сел на мель. С борта кто-то крикнул семье, которая стояла на берегу:
— Бедняжка, она умирала в страшных мучениях!
При этом известии громко зарыдала дама средних лет, одетая во все черное и пришедшая в сопровождении печального худого мужчины с траурной повязкой на рукаве и черной ленточкой в петлице пиджака. Двое их детей наблюдали за суетой, не обращая внимания на слезы матери.
Зрители, разбившись на группы, обменивались приветствиями, обсуждали случившееся.
— Эта мель — позор для города…
— Она представляет серьезную опасность. В один прекрасный день какой-нибудь пароход застрянет тут навсегда, и тогда прощай порт Ильеус…
— Правительство штата не принимает мер…
— Не принимает мер? Да оно нарочно оставляет эту мель, чтобы к нам не заходили большие суда, чтобы только Баия экспортировала какао.
— И префектура тоже бездействует. Префект боится потребовать даже самую малость. Он только и может, что поддакивать правительству.
— Ильеус должен показать, чего он стоит.
Группа, пришедшая с рыбного рынка, включилась в разговор. Доктор со своей обычной горячностью призывал выступить против политических деятелей и правителей Баии, которые относятся к их муниципалитету с пренебрежением, как будто он не был самым богатым, самым процветающим из всех муниципалитетов штата, дающим самые большие доходы, не говоря об Итабуне, городе, растущем как гриб, — ведь его муниципалитет также страдает от бездеятельности правителей, от их косности, от равнодушия к проблеме порта Ильеуса.
— Вина действительно наша, и мы должны признать это, — сказал капитан.
— Почему наша?
— А чья же еще? И это легко доказать: кто делает политику в Ильеусе? Те же люди, что и двадцать лег назад. Мы выбираем на посты префектов, депутатов, сенаторов от штата и федеральных депутатов людей, которые не имеют ничего общего с Ильеусом, и делаем это во исполнение старых обязательств, взятых в незапамятные времена.
Жоан Фулженсио поддержал капитана:
— Это верно. Полковники продолжают голосовать за тех, кто оказал им в свое время поддержку.
— А в результате приносятся в жертву интересы Ильеуса.
— Обязательства нужно выполнять… — защищался полковник Амансио Леал. — Когда нам была необходима поддержка…
— Теперь у города совсем иные нужды…
Доктор погрозил пальцем:
— Этому безобразию надо положить конец. Следует избрать людей, которые представляли бы подлинные интересы нашего края.
Полковник Мануэл Ягуар рассмеялся:
— А голоса, доктор? Где вы добудете голоса?
Полковник Амансио Леал сказал, как всегда, мягко:
— Послушайте, доктор, теперь много говорят о прогрессе и цивилизации, о необходимости коренных перемен в Ильеусе. Я целыми днями только это и слышу. Но скажите, пожалуйста, благодаря кому совершился этот прогресс? Разве не благодаря нам, плантаторам? У нас есть свои обязательства, которые мы приняли в трудный час, а мы люди слова. Пока я жив, мой голос будет принадлежать куму Рамиро Бастосу и тому, на кого он укажет. Я даже знать не хочу его имени. А все потому, что Рамиро оказал мне большую поддержку, когда мы рисковали жизнью в этих дебрях…
Араб Насиб присоединился к кружку беседовавших, он все еще не совсем проснулся и был озабочен и расстроен.
— О чем речь?
Капитан объяснил:
— Полковники по своей отсталости не понимают, что сейчас уже не те времена, что сейчас все по-иному и проблемы теперь совсем другие, чем двадцать — тридцать лет назад.
Но араба не заинтересовала эта тема и не увлекла дискуссия, которая в другое время захватила бы его.
Насиба не покидала мысль, что накануне банкета бар остался без кухарки, поэтому он лишь кивнул в ответ на слова капитана.
— Вы что-то скучный. Почему у вас такое мрачное лицо?
— Кухарка ушла…
— Вот так причина!.. — И капитан вернулся к дискуссии, которая становилась все оживленнее и в которую вовлекалось все больше народу.
Вот так причина… Вот так причина… Насиб отошел на несколько шагов, как бы отдаляясь на известное расстояние от крамольной беседы. Звучный, громкий голос доктора переплетался с мягким, но твердым голосом полковника Амансио. Какое ему, Насибу, дело до префектуры Ильеуса, до депутатов и сенаторов!
Сейчас для него нет ничего важнее завтрашнего обеда на тридцать персон. Сестры Рейс если и примут заказ, то сдерут три шкуры… Надо же, как раз теперь, когда все шло так хорошо…
Когда он купил бар «Везувий» на площади Сан-Себастьян в жилом квартале вдалеке (даже, пожалуй, не вдалеке, поскольку расстояния в Ильеусе малы до смешного, а в отдалении) от торгового центра, от порта, где находились его главные конкуренты, то некоторые друзья и его дядя сочли, что он сошел с ума. Бар был в полном упадке, совершенно не посещался, в нем тучами летали мухи. А кафе в порту процветали, там было всегда полно народу. Но Насиб не хотел по-прежнему отмеривать ткани за прилавком магазина, за который он встал после смерти отца. Ему не нравилась эта работа, а еще больше общество дяди и шурина — агронома с экспериментальной станции какао.
Пока отец был жив, магазин торговал хорошо, старик был человеком предприимчивым и пользовался всеобщей симпатией. Дядя же, обремененный семьей и боявшийся всяких нововведений, трусливо топтался на месте, довольствуясь немногим. Насиб продал свою часть в деле, пустил деньги в оборот, заключил ряд рискованных сделок, покупая и продавая какао, и, наконец, купил бар; это было почти пять лет назад. Приобрел он его у одного итальянца, который уехал в провинцию, гонимый какаовыми галлюцинациями.
Бар в Ильеусе давал большую прибыль, даже большую, чем кабаре. В городе всегда было много народу, привлеченного слухами о возможности разбогатеть, толпа коммивояжеров заполняла улицы, немало людей останавливалось проездом. Не одна сделка была заключена за столиками баров, к тому же существовал обычай демонстрировать свою доблесть в выпивке и вошла в моду привычка, занесенная англичанами во времена постройки железной дороги: выпивать перед завтраком и обедом аперитив, разыгрывая в кости, кому платить. Эту привычку переняло все мужское население города.
До полудня и после пяти вечера бары бывали переполнены.
Бар «Везувий» был самым старинным в городе. Он занимал первый этаж дома на углу маленькой красивой площади недалеко от моря, где стояла церковь святого Себастьяна. На другом углу недавно открылся кинотеатр «Ильеус». «Везувий» пришел в упадок не потому, что был расположен в стороне от торговых улиц, где процветали кафе «Идеал», бар «Шик» и бар «Золотая водка» Плинио Арасы, с которыми конкурировал Насиб. В этом был повинен итальянец, который думал лишь о плантациях какао. Он не заботился о баре, не обновлял запасов вин, не предпринимал ничего, что могло бы привлечь посетителей. Старый граммофон, на котором прокручивались пластинки с оперными ариями, был сломан и стоял покрытый паутиной. Стулья развалились, ножки у столиков были сломаны, сукно на бильярде порвалось. Даже название бара, намалеванное огненными буквами на фоне извержения вулкана, совершенно выцвело от времени. Насиб приобрел всю эту рухлядь, а также название и помещение, за очень небольшие деньги. Итальянцу остался только граммофон с пластинками.
Насиб выкрасил все заново, заказал новые столы и стулья, поставил столики для игры в шашки и триктрак, продал бильярд в бар Макуко, оборудовал в глубине бара помещение для игры в покер. У него всегда был разнообразный ассортимент вин, мороженое для семей в часы вечерних прогулок по набережной и в часы окончания киносеансов, а в часы аперитива подавались изысканные закуски и сладости.
Это была мелочь, которая, казалось бы, не имела большого значения: акараже[25], абара[26], пирожки из маниоки и пубы[27], запеканки из нежных сири, креветок и трески, пирожные из сладкой маниоки и кукурузы.
Идею подал Жоан Фулженсио.
— Почему вы не готовите этих кушаний для продажи в баре? — спросил он однажды, смакуя акараже старой Филомены, которое она приготовила для араба, любившего поесть.
Поначалу бар посещали только приятели Насиба: компания из «Папелариа Модело», приходившая сюда поспорить после закрытия магазина, любители триктрака и шашек и иногда более респектабельные лица, например судья, а также адвокат Маурисио, которым не очень нравилось бывать в портовых барах, куда ходила разношерстная публика и где нередко вспыхивали бурные ссоры с драками и перестрелками. Затем бар стали посещать и семьи, привлеченные мороженым и фруктовыми прохладительными напитками. Но посетителей стало гораздо больше и бар начал процветать с тех пор, как в часы аперитива появились на столах закуски и сладости.
Многие часто приходили поиграть в покер в специальном зале. Для избранных посетителей — полковника Амансио Леала, богача Малуфа, полковника Мелка Тавареса, Рибейриньо, владельца обувного магазина сирийца Фуада, Оснара Фарии (единственным занятием которого были игра в покер и интрижки с негритяночками на холме Конкиста), Эзекиела Прадо и некоторых других — Насиб приберегал к полуночи часть запеканок, пирожков и сладостей. Пили в баре много, доходы Насиба росли.
Через короткое время «Везувий» снова достиг расцвета. Он опередил кафе «Идеал» и бар «Шик», только в «Золотой водке» посетителей было, пожалуй, больше. Насиб не мог жаловаться, хотя работал как вол.
Ему помогали Разиня Шико и Бико Фино, иногда негритенок Туиска, который обычно располагался со своим ящиком, щетками и гуталином на широком тротуаре у бара, рядом со столиками, стоящими на вольном воздухе. Дела шли хорошо, это занятие было Насибу по душе, в баре обсуждались все новости и все, даже самые незначительные городские события, а также все известия о том, что происходит в стране и за границей.
Посетители с симпатией относились к Насибу, «человеку порядочному и трудолюбивому», как говаривал судья, усаживаясь после обеда, чтобы созерцать море и движение толпы на площади, за один из столиков, стоявших на улице.
Все шло хорошо до сегодняшнего дня, когда сумасшедшая Филомена выполнила свою давнюю угрозу.
Кто станет готовить для бара и для него, Насиба, слабостью которого было хорошо поесть и который так любил вкусно приправленные и наперченные кушанья?
Нечего и думать, чтобы постоянно пользоваться услугами сестер Рейс, вряд ли они согласятся, да и он не в состоянии был их оплачивать. Сестры берут так дорого, что оплата их услуг поглотила бы весь его доход.
Надо сегодня же постараться раздобыть кухарку, и к тому же первоклассную, иначе…
— Пароходу, наверно, придется выбросить груз в море, чтобы сняться с мели, — заметил мужчина без пиджака. — Он, видно, крепко засел.
Насиб забыл на мгновение свои заботы: машины парохода работали со страшным ревом, но безуспешно.
— Этому надо положить конец… — послышался голос доктора, принимавшего участие в споре.
— Никому толком не известно, кто он такой, этот Мундиньо Фалкан, — как всегда вкрадчиво говорил Амансио Леал.
— Не известно? Ну, а я вам скажу, что он — именно тот, кто нужен Ильеусу.
Пароход содрогался, днище его волочилось по песку, машины стонали, лоцман выкрикивал команду.
На капитанском мостике появился мужчина, еще молодой, хорошо одетый. Заслонив рукою глаза от солнца, он старался найти друзей в толпе встречавших.
— Вон он… Мундиньо!
— Где?
— Там, наверху…
Раздались крики:
— Мундиньо! Мундиньо!
Тот услышал, посмотрел в сторону, откуда доносились голоса, помахал рукой. Потом спустился по трапу, исчез на несколько мгновений, затем, улыбаясь, появился у борта среди пассажиров. Тут он сложил ладони рупором и прокричал:
— Инженер едет!
— Какой инженер?
— Из министерства путей сообщения, обследовать бухту. Важные новости…
— Слыхали, что я вам говорил?
Позади Мундиньо Фалкана появилась незнакомая женщина, блондинка в большой зеленой шляпе.
С улыбкой она дотронулась до руки Мундиньо.
— Вот это бабенка, черт возьми! Мундиньо не теряет времени даром…
— Да, хороша! — согласился Ньо Гало, кивнув головой.
Пароход резко накренился, испугав пассажиров — блондинка даже вскрикнула, — и снялся с мели; радостные крики раздались на берегу и на борту судна. Стоявший рядом с Мундиньо смуглый, очень худой мужчина с сигаретой во рту поглядывал вокруг с безразличным видом. Экспортер сказал ему что-то, тот рассмеялся в ответ.
— Ловкач этот Мундиньо… — одобрительно заметил полковник Рибейриньо.
Пароход дал громкий, длинный гудок и направился к причалу.
— Ишь ты, прямо лорд, не то что мы, грешные, — мрачно отозвался полковник Амансио Леал.
— Пойдем узнаем, какие новости привез Мундиньо, — предложил капитан.
— А я пойду в пансион, переоденусь и выпью кофе. — Мануэл Ягуар распрощался.
— Я тоже… — Амансио Леал пошел с ним.
Друзья направились в порт, обсуждая сообщение Мундиньо.
— По-видимому, ему удалось расшевелить министерство. Он не зря там побывал.
— Мундиньо действительно пользуется авторитетом.
— Что за женщина! Лакомый кусочек… — вздыхал полковник Рибейриньо.
Когда они подошли к дебаркадеру, пароход маневрировал, готовясь причалить. Пассажиры, направляющиеся в Баию, Аракажу, Масейо, Ресифе, с любопытством поглядывали на берег. Мундиньо Фалкан сошел одним из первых и сразу очутился в объятиях друзей. Араб приветствовал его с подчеркнутой любезностью.
— Пополнел… — Помолодел…
— В Рио-де-Жанейро все молодеют…
Блондинка — не такая молодая, какой она казалась издали, однако более красивая, изящно одетая и умело подкрашенная («иностранная куколка», — решил полковник Рибейриньо) — и худой как скелет мужчина остановились неподалеку в ожидании. Мундиньо шутливо представил их, подражая цирковому зазывале:
— Принц Сандра, фокусник экстра-класса, и его супруга, танцовщица Анабела… Их гастроли состоятся в Ильеусе.
Мужчина, который с борта крикнул о том, что какая-то женщина умерла в мучениях, обнимался теперь с семьей и рассказывал печальные подробности:
— Она умирала целый месяц, бедняжка! Мне никогда не приходилось видеть подобных страданий…
Она стонала день и ночь так, что сердце разрывалось на части.
Пожилая женщина зарыдала еще сильнее. Мундиньо, артисты, капитан, доктор, Насиб, фазендейро пошли по дебаркадеру. Носильщики несли чемоданы, Анабела раскрыла зонтик.
— Не хотите ли пригласить эту девушку танцевать в вашем баре? предложил Насибу Мундиньо Фалкан. — У нее танец с покрывалами, мой дорогой, это произведет такой фурор…
Насиб поднял руки к небу:
— В баре? Что вы, ведь у меня не кино и не кабаре… А вот кухарка мне сейчас действительно нужна.
Все рассмеялись. Капитан взял Мундиньо под руку. — Как инженер?
— В конце месяца будет здесь. Министр мне это гарантировал.
О сестрах Рейс и их презепио
Сестры Рейс — толстенькая Кинкина и худенькая Флорзинья, возвращавшиеся с семичасовой мессы, ускорили мелкие шажки, завидев Насиба, ожидавшего их у ворот дома. Это были веселые старушки; вдвоем они насчитывали сто двадцать восемь лет добротной, неоспоримой девственности. Они были близнецы и последние представительницы древней ильеусской фамилии, существовавшей до начала эры какао, то есть потомки тех, что уступили место уроженцам Сержипе, Алагоаса, Сеары, жителям сертанов, арабам, итальянцам, испанцам. Владелицы хорошего дома на улице Полковника Адами, где они жили — и приобрести который, кстати, упорно добивались многие богатые полковники, — а также трех других домов на главной площади, они существовали на арендную плату за эти дома и на доходы от продажи сладостей, которыми торговал по вечерам негритенок Туиска. Знаменитые кондитерши, волшебницы кухни, они иногда принимали заказы на обслуживание званых завтраков и обедов.
Однако прославились они — и это сделалось достопримечательностью города — большим рождественским презепио, делаемым ежегодно в одном из парадных залов их голубого дома. Они трудились весь год, вырезая и наклеивая на картон картинки из журналов, чтобы презепио было еще больше, еще богаче и благочестивее.
— Вы сегодня что-то рано встали, сеньор Насиб…
— Иногда приходится.
— А где журналы, которые вы обещали?
— Принесу, донья Флорзинья, обязательно принесу. Уже подбираю.
Деятельная, подвижная Флорзинья выпрашивала журналы у всех знакомых, спокойная, солидная Кинкина лишь благодушно улыбалась. В своих старомодных платьях, с шалями на голове, они казались комическими персонажами, сошедшими со страниц старинной книги.
— Что вас привело к нам в столь ранний час?
— Я хотел поговорить с вами об одном деле.
— Так заходите…
Входная дверь вела на веранду, где росли цветы, за которыми хозяйки тщательно ухаживали. Согбенная годами служанка, еще более дряхлая, чем старые девы, расхаживала между горшками и вазами, поливая растения из ведра.
— Пройдите в зал презепио, — пригласила Кинкина.
— Анастасия, рюмку ликеру сеньору Насибу! — распорядилась Флорзинья. — Какой вы предпочитаете? Из женипапо[28] или ананасный? У нас еще есть апельсиновый и из маракужи…[29].
Насиб знал по собственному опыту, что если кто-либо хотел добиться успеха в переговорах с сестрами Рейс, он должен был непременно попробовать их ликер — с утра пораньше, о господи! — похвалить его, осведомиться, как идет оборудование презепио, проявить к нему интерес. Насибу нужно было обеспечить на несколько дней закуски и сладости для бара, а также обед, заказанный автобусной компанией на завтрашний вечер, и все это, не имея кухарки.
Дом был старинный, с двумя гостиными, окна которых выходили на улицу. Одну из них уже давно не использовали по назначению, превратив в зал презепио. Но презепио находилось в нем не в течение всего года. Его сооружали только в декабре и показывали желающим вплоть до наступления карнавальных празднеств, затем Кинкина и Флорзинья аккуратно его разбирали и начинали исподволь готовиться к следующему рождеству.
Презепио сестер Рейс было не единственным в Ильеусе. Существовали и другие, причем среди них были и красивые, и богатые, но все же когда кто-нибудь заговаривал о презепио, то всегда подразумевал прежде всего презепио сестер Рейс, так как все иные не шли с ним в сравнение. В течение пятидесяти с лишним лет презепио понемногу увеличивалось. Первое маленькое презепио сестры оборудовали еще в те времена, когда Ильеус был захолустьем, а Кинкина и Флорзинья — молоденькими шустрыми и веселыми девушками, пользовавшимися успехом у молодых людей (еще и поныне не совсем ясно, почему они так и не вышли замуж — возможно, слишком долго выбирали). В тихом Ильеусе той поры, еще до эры какао, между семьями существовало соревнование в устройстве самых красивых и богатых рождественских презепио. Европейского рождества с Дедом Морозом, защищенным от снега и холода теплой шубой и везущим в санях подарки для детей, в Ильеусе не бывало. Здесь на рождество делали презепио, посещали богадельни, ужинали после мессы в сочельник, а потом начинались народные гуляния с танцами рейзадо, трогательные пасториньи[30]: бумба-меу-бой, вакейро, каапора.
Из года в год презепио девиц Рейс увеличивалось, и по мере того, как их интерес к танцам падал, они все больше времени уделяли презепио, украшали его новыми фигурами, расширяли помост, на котором оно стояло, пока оно не заняло три из четырех стен зала.
С марта по ноябрь все время, остававшееся от обязательных посещений церкви (в шесть утра — месса и в шесть вечера — благословение), от приготовления сладостей, которые продавал постоянной клиентуре негритенок Туиска, от посещений друзей и дальних родственников, от пересудов с соседками, они вырезали картинки из журналов и альманахов, а потом аккуратно наклеивали их на картон. Устанавливать презепио в конце года им помогали: Жоаким, приказчик из магазина «Папелариа Модело», игравший на барабане в кружке имени 13 мая и потому считавший себя человеком с артистическими наклонностями, Жоан Фулженсио, капитан, Диоженес (хозяин кинотеатра «Ильеус» и протестант), ученицы монастырской школы, учитель Жозуэ, Ньо Гало, хотя он и был ярым антиклерикалом; все они также помогали сестрам собирать журналы. Когда в декабре работы становилось больше, к старушкам приходили помочь соседки, подруги и после экзаменов — девушки из монастырской школы. Презепио сестер Рейс стало чуть ли не коллективным достоянием местного общества, гордостью жителей города, и день его открытия был праздником для всех. Дом сестер наполнялся тогда до отказа, любопытные толпились даже на улице перед открытыми окнами, чтобы увидеть презепио, освещенное разноцветными лампочками. Проводку к ним, кстати, тоже делал Жоаким, который в этот славный день отважно напивался сладкими ликерами старых дев.
Презепио изображало, как и положено, рождество Христово в бедном хлеву в далекой Палестине. Но бесплодная восточная земля была лишь деталью в центре пестрого мира, где демократически перемешивались самые различные сцены и лица из всевозможных периодов истории, причем количество их росло из года в год. Знаменитости, политические деятели, ученые, военные, литераторы и артисты, домашние и дикие животные и строгие лики святых по соседству с ослепительной плотью полуобнаженных кинозвезд.
На эстраде возвышалась гряда холмов с небольшой долиной посередине, в одной из пещер находился хлев с колыбелью Иисуса, рядом с которой сидела Мария и стоял святой Иосиф, держа за уздечку скромного ослика. Эти фигуры не были ни самыми большими, ни самыми роскошными в презепио. Наоборот, они казались маленькими и бедными по сравнению с другими, но поскольку эти фигуры были в первом презепио, устроенном Кинкиной и Флорзиньей, сестры настояли на том, чтобы сохранить их. Совсем иной вид имела таинственная комета, возвестившая о рождестве Христовом, — она подвешивалась на проволочках между хлевом и небом, сделанным из голубой материи, к которой были приколоты звезды. Это был шедевр Жоакима, неизменно вызывавший похвалы, от которых увлажнялись глаза автора: огромная, с алым хвостом звезда из целлофана была столь остроумно задумана и выполнена, что казалось, от нее исходит свет, сияющий в огромном презепио.
Около хлева новорожденным любовались коровы, пробужденные этим великим событием от своего мирного сна, лошади, кошки, собаки, утки и куры, различные дикие животные, в том числе лев, тигр и жирафа.
Ведомые светом звезды Жоакима, туда пришли три волхва — Гаспар, Мелшиор и Балтазар, с золотом, ладаном и миррой. Фигуры белых библейских волхвов были вырезаны из старого альманаха. Что же касается черного волхва, который испортился от сырости, то его недавно заменили портретом султана Марокко, публиковавшимся тогда во всех газетах и журналах (и в самом деле, какой правитель больше подходит для замены отсыревшего волхва, чем тот, что так нуждается в покровительстве, отстаивая с оружием в руках независимость своего государства?).
Река — струйка воды, текущая по руслу, сделанному из разрезанной пополам резиновой трубки, — спускалась с холмов в долину, и изобретательный Жоаким спроектировал и соорудил даже водопад. Холмы пересекались дорогами, которые все, как одна, шли к хлеву; там и тут были раскиданы деревушки. А на дорогах, перед домами с освещенными окнами, среди изображений животных виднелись портреты мужчин и женщин, которые так или иначе прославились в Бразилии и во всем мире и чьи портреты удостоились опубликования в журналах. Здесь был Сантос-Дюмон в спортивной кепке, стоявший около своих примитивных аэропланов; вид у него был довольно грустный. Поблизости от него, на правом склоне холма, беседовали Ирод и Пилат. Дальше разместились политические деятели периода первой мировой войны: английский король Георг V, кайзер, маршал Жоффр, Ллойд Джордж, Пуанкаре, царь Николай II. На левом склоне блистала Элеонора Дузе с диадемой на голове и обнаженными руками. Тут же находились: Руй Барбоза, Жозе Жоакин Сеабра[31], Люсьен Гитри[32], Виктор Гюго, дон Педро II[33], Эмилио де Менезес[34], барон до Рио Бранко[35], Золя и Дрейфус, поэт Кастро Алвес и бандит Антонио Силвино. Все они были помещены рядом с наивными цветными гравюрами, — увидев их в журналах, сестры обычно восхищенно восклицали:
— Ах, как это подойдет для презепио!
В последние годы значительно возросло число портретов киноартистов это был вклад учениц монастырской школы. В результате Вильям Фарнум, Эдди Поло, Лия де Путти, Рудольфо Валентино, Чарли Чаплин, Лилиан Гиш, Рамон Наварро, Вильям Харт не на шутку угрожали завоевать все дороги и холмы презепио.
Появились также и портреты местных деятелей; бывшего мэра города Казузы Оливейры, прославившегося своими организаторскими способностями, покойного полковника Орасио Маседо, пионера освоения здешних земель. Был здесь, наконец, рисунок, сделанный Жоакимом по настоятельным просьбам доктора, на нем были изображены незабвенная Офенизия, а также грозные жагунсо и люди с ружьями на плече, сидящие в засаде. На столе у окна валялись журналы, ножницы, клей, картон.
Насиб торопился, ему хотелось поскорее договориться насчет обеда для автобусной компании, о сладостях и закусках. Он отхлебнул глоток ликера из женипапо и похвалил презепио.
— В этом году, видно, получится замечательно!
— Бог даст…
— Много нового добавили?
— Да как вам сказать… Пожалуй, нет.
Сестры уселись на диван, строго выпрямились и, улыбаясь арабу, ожидали, когда тот заговорит.
— Так вот… Послушайте, что у меня сегодня произошло… Старая Филомена уехала к сыну в Агуа-Прету…
— Да что вы говорите?.. Неужели уехала? Впрочем, она об этом уже давно поговаривала… — затараторили обе сестры одновременно — это была интересная новость.
— Но я никак не ожидал, что она уедет именно теперь. Сегодня, как нарочно, базарный день, в баре много посетителей. Кроме того, мне заказали обед на тридцать персон.
— Обед на тридцать персон?
— Его устраивают русский Яков и Моасир из гаража. Хотят отпраздновать открытие автобусной линии.
— А-а! — воскликнула Флорзинья. — Мне уже говорили.
— Да! — сказала Кинкина. — Я тоже об этом слышала. Говорят, приедет префект из Итабуны.
Будет здешний префект и префект из Итабуны, затем полковник Мисаэл, управляющий отделением «Бразильского банка» сеньор Уго Кауфман, в общем, избранная публика.
— Вы думаете, эта линия даст хороший доход? — осведомилась Кинкина.
— Что значит даст?.. Она уже дает… Очень скоро никто не станет ездить поездом. Целый час разницы…
— А опасность? — спросила Флорзинья.
— Какая опасность?
— Автобус может перевернуться… В Баие был такой случай — я читала в газете, три человека погибли…
— Поэтому я ни за что не стану ездить в этих машинах. Автомобиль не для меня. Я, конечно, могу умереть под колесами автомобиля, если он меня задавит на улице, но самой лезть в него — это уж увольте… — сказала Кинкина.
— На днях кум Эузебио прямо за руку тащил нас в свою машину, хотел прокатить. Даже кума Нока назвала нас отсталыми… — подхватила Флорзинья.
Насиб рассмеялся.
— Я надеюсь еще увидеть, сеньоры, как вы купите себе автомобиль.
— Мы?.. Да если бы у нас и были деньги…
— Но давайте поговорим о деле.
Они немного поломались, Насибу пришлось их упрашивать, но наконец сестры согласились, прежде заверив, что они это делают только из уважения к сеньору Насибу, достойному молодому человеку. Где это видано, чтобы за день заказывать обед на тридцать персон, да к тому же когда приглашенные такие уважаемые люди? Уже не говоря о том, что для презепио эти двое суток будут потеряны — ведь у них не останется времени, чтобы вырезать хотя бы одну фигуру.
Потом еще надо подыскать кого-нибудь, кто помог бы…
— Я договорился с двумя мулатками, чтобы они помогали Филомене.
— Мы предпочитаем дону Жукундину с дочками.
Мы уже привыкли к ней. К тому же она хорошо готовит.
— Не согласится ли она быть у меня кухаркой?
— Кто? Жукундина? Даже не думайте, сеньор Насиб, дома у нее трое взрослых сыновей да муж — кто о них позаботится? К нам она иногда приходит по дружбе…
Запросили они много. Если так платить кухаркам, обед не даст никакого дохода. Не возьми на себя Насиб обязательства перед Моасиром и русским… Но он человек слова, не подведет друзей, не сорвет званого обеда. Не может он и бар оставить без закусок и сладостей. Если бы он это сделал, то потерял бы посетителей и потерпел бы убыток еще больший. Без кухарки он может оставаться только несколько дней, иначе что с ним будет?
— Хорошую кухарку так трудно найти… — сказала Кинкина.
Это было верно. Хорошая кухарка в Ильеусе ценилась на вес золота, богатые семьи посылали за ними в Аракажу, в Фейру-де-Санта-Ана, в Эстансию.
— Итак, договорились. Я пошлю Шико за покупками.
— Чем скорее вы это сделаете, тем лучше, сеньор Насиб.
Он встал и пожал руки старым девам. Взглянул еще раз на заваленный журналами стол, на помост, уже приготовленный для установки презепио, на картонные коробки, набитые вырезками.
— Я принесу журналы. Я очень вам благодарен за то, что вы выручили меня…
— Пустяки! Мы охотно сделаем это для вас. Но все же, сеньор Насиб, вы должны жениться. Если бы вы были женаты, с вами не случалось бы таких историй…
— В городе столько незамужних девушек… И таких достойных…
— У меня есть на примете отличная невеста для вас, сеньор Насиб. Девушка порядочная, не из этих вертушек, что думают только о кино да о танцах… Воспитанная, умеет даже играть на пианино. Вот только бедная.
У старушек была манил сватать. Насиб рассмеялся.
— Когда я решу жениться, приду прямо к вам. За невестой.
О безнадежных поисках
Он начал свои безнадежные поиски с холма Уньан.
Наклонив вперед могучий торс и обливаясь потом, Насиб с перекинутым через плечо пиджаком обошел весь город из конца в конец. Веселое оживление царило на улицах; фазендейро, экспортеры, торговцы обменивались громкими приветствиями.
В этот базарный день лавки были битком набиты, врачебные кабинеты и аптеки переполнены. Спускаясь и поднимаясь по склонам холмов, пересекая улицы и площади, Насиб чертыхался. Когда вчера ночью он пришел домой, усталый после трудового дня и свидания с Ризолетой, он составил себе план на завтра — прежде всего поспать до десяти часов, пока Разиня Шико и Бико Фино, закончив уборку бара, не начнут обслуживать первых посетителей; затем вздремнуть во время сиесты после завтрака; сыграть партию в триктрак или в шашки с Ньо Гало или капитаном, потолковать с Жоаном Фулженсио, узнать, что творится в округе и в мире; сходить после закрытия бара в кабаре и, пожалуй, снова закончить вечер с Ризолетой. И вот вместо этого он вынужден бегать по улицам Ильеуса и лазать по крутым склонам…
На Уньане он отказался от услуг двух мулаток, которых раньше нанял в помощь Филомене для приготовления званого обеда. Одна из них, смеясь беззубым ртом, заявила, что умеет готовить лишь простые кушанья. Другая не умела и этого… Что же касается акараже, абара, сладостей, мокеки и запеканки из креветок, то их могла бы приготовить Мария де Сан-Жорже… Насиб, продолжая расспрашивать всех, кто попадался на пути, спустился с другой стороны холма.
Достать в Ильеусе кухарку, которая могла бы готовить для бара, оказалось делом трудным, почти невозможным.
Насиб спрашивал в порту, потом зашел к дяде: может, там случайно знают какую-нибудь кухарку? В ответ он услышал жалобы тетки: была тут одна более или менее подходящая, хотя и готовила не ахти как, но и та ушла ни с того ни с сего. И вот теперь ей пока не подыщут другую кухарку, приходится готовить самой. Не хочет ли Насиб позавтракать с ними?
В одном месте ему рассказали о знаменитой кухарке, жившей на холме Конкиста. «Повариха хоть куда!» — сказал испанец Фелипе, мастер по починке не только ботинок и сапог, но также седел и уздечек. Говорун, каких мало, злой на язык, но с незлобивым сердцем, этот Фелипе представлял в Ильеусе крайне левое крыло, объявляя себя при каждом удобном случае анархистом и угрожая очистить мир от капиталистов и клерикалов. Но это не мешало ему быть другом и нахлебником многих фазендейро, в том числе и отца Базилио. Прибивая подметку, он распевал анархистские песни, и стоило послушать ругательства, которыми он осыпал священников, когда играл с Ньо Гало в шашки. Фелипе заинтересовался кулинарной драмой Насиба.
— Есть тут одна, Мариазинья! Чудо, а не повариха!
Насиб направился на Конкисту; склон был еще скользким после дождей, негритяночки, собравшиеся в кружок, расхохотались, когда он упал, испачкав сзади брюки. После долгих расспросов он наконец нашел на вершине холма дом кухарки — лачугу из досок и жести. На этот раз у него почему-то возникла слабая надежда. Сеньор Эдуардо, державший молочных коров, дал положительную характеристику Мариазинье. Она в свое время работала у него, угодить умеет. Ее единственный недостаток — пьянство, кухарка была большая любительница кашасы и, когда напивалась, начинала буянить: оскорбляла жену Эдуардо, дону Мариану, поэтому ему пришлось уволить Мариазинью.
— Но вы ведь холостяк…
Пьяница она или нет, но, если она хорошая кухарка, он ее наймет. По крайней мере пока не найдет другую. Наконец он увидел убогий домишко и сидящую у двери босую Мариазинью — она расчесывала свои длинные волосы и уничтожала насекомых. Это была потрепанная женщина лет тридцати — тридцати пяти, распухшая от пьянства, но со следами красоты на смуглом лице. Она выслушала его, не выпуская гребень из рук. Затем рассмеялась, будто Насиб сказал ей что-то забавное:
— Нет, сеньор. Теперь я готовлю только для мужа и для себя. Он и слышать не хочет, чтобы я была у кого-то кухаркой.
Из дома послышался мужской голос:
— Кто там, Мариазинья?
— Какой-то сеньор ищет кухарку. Предложил мне пойти к нему… Говорит, будет хорошо платить…
— Пошли его к черту. Никакая ты не кухарка.
— Вот видите, сеньор? Он и слышать не хочет, чтобы я пошла в услужение. Ревнивый… Из-за каждого пустяка поднимает страшный шум… Мой муж сержант полиции, — заключила она с довольным и гордым видом.
— Долго ты будешь разговаривать с чужим человеком, жена? Гони его, пока я не рассердился…
— Лучше вам убраться восвояси…
Она снова принялась расчесывать волосы, отыскивая насекомых, и протянула ноги, подставляя их лучам солнца. Насиб пожал плечами.
— Может, знаешь еще кого-нибудь?
Она не ответила, лишь покачала головой. Насиб спустился по склону Витория, прошел через кладбище.
Внизу блестел озаренный солнцем город. Прибывший рано утром пароход «Ита» стоял на разгрузке. Паршивый городишко: столько говорится о прогрессе — и нельзя даже достать кухарку.
— Это потому, что растет спрос, — объяснил ему Жоан Фулженсио, когда араб зашел отдохнуть в «Папелариа Модело», — рабочую силу становится все труднее найти, и она дорожает. Послушайте, а может быть, вам спросить на базаре?
Воскресный базар представлял собою праздничное зрелище, шумное и живописное. Обширный пустырь напротив дебаркадера протянулся вплоть до полотна железной дороги. Куски сушеного, вяленого и копченого мяса, свиньи, овцы, олени, различная дичь. Мешки с белой маниоковой мукой. Золотистые бананы, желтые тыквы, зеленые жило[36], киабо[37], апельсины.
В палатках подавали на жестяных тарелках сарапател[38], фейжоаду[39], мокеки из рыбы. Крестьяне закусывали, запивая еду кашасой. Насиб справился и здесь.
Толстая негритянка, в тюрбане, с ожерельями на шее и браслетами на руках, сморщила нос.
— Работать на хозяина? Сохрани господь…
В клетках сидели невероятно яркие говорящие попугаи.
— Хозяйка, сколько хотите за этого блондина? — Восемь мильрейсов, и то только для вас…
— Такая цена не по мне.
— Но ведь он действительно говорящий. Знает все слова.
Попугай как бы в подтверждение пронзительно закричал.
Насиб прошел между грудами молодого сыра, солнце озаряло желтизну спелых жак[40]. Попугай кричал: «Дур-рак, дур-рак!» Никто не мог ничего посоветовать Насибу.
Слепец, перед которым на земле стояла плошка, рассказывал под гитару истории времен борьбы за землю:
Храбр Амансио сверх меры, меткостью своей гордится, лишь один Жука Феррейра мог с ним в храбрости сравниться. Темной ночью в селве жутко, повстречались близ границы. — Кто идет? — воскликнул Жука. — Человек — не зверь, не птица! — И коснулся палец спуска — рад Амансио сразиться. Дрогнул зверь, забилась птица в темной селве ночью жуткой.Слепцы обычно были хорошо осведомлены. Но сейчас они не могли помочь Насибу. Один из них, прибывший из сертана, ругал на чем свет стоит ильеусскую кухню. Не умеют тут готовить, вот в Пернамбуко еда так еда, не то что здешняя гадость; здесь никто не знает, что такое вкусно поесть.
Бродячие торговцы-арабы раскрыли свои чемоданы с грошовым товаром отрезами дешевого ситца, яркими поддельными ожерельями, кольцами с брильянтами из стекла и изготовленными в Сан-Пауло духами с иностранными названиями. Мулатки и негритянки — служанки из богатых домов — толпились перед чемоданами арабов.
— Покупайте, хозяйки, покупайте. Дешевле дешевого… — У торговца был смешной выговор, но голос его соблазнял.
Торговались подолгу. Ожерелье на черной груди, браслеты на смуглых руках мулаток — искушение большое! Стекло в кольце сверкало на солнце ярче любого брильянта.
— Все самое настоящее, высшего сорта.
Насиб на минуту помешал торговле — спросил, не знает ли кто-нибудь хорошую кухарку.
— Была тут одна, сеньор, очень хорошая, на все руки мастерица, служила у командора Домингоса Феррейры. С ней там так обходились, будто она и не прислуга…
Торговец протягивал Насибу безделушки:
— Купите, благородный сеньор, подарок для жены, или для невесты, или для возлюбленной.
Насиб продолжал свой путь, равнодушный ко всем искушениям. Негритяночки покупали вещи дешево и все же дороже их истинной цены.
Какой-то тип с ручной змеей и маленьким крокодилом клялся окружавшим его людям, что может излечить от всех болезней. Он демонстрировал флакон с чудодейственным лекарством, будто бы найденным индейцами в селве за какаовыми плантациями.
— Исцеляет кашель, насморк, чахотку, болячки, ветряную оспу, корь, черную оспу, малярию, головную боль, грыжу, любую дурную болезнь, опущение грудины и ревматизм… За пустяковую сумму — всего полтора мильрейса — он готов был уступить этот необыкновенный флакон.
Змея ползала по руке торговца, крокодил лежал у его ног недвижно, как камень. Насиб продолжал расспрашивать.
— Нет, сеньор, кухарки не знаю. А вот хорошего каменщика могу порекомендовать.
Глиняные кувшины, бутылки и горшки для хранения воды, кастрюли, миски для кускуса, глиняные лошади, быки, собаки, петухи, жагунсо с ружьями, верховые, полицейские и даже целые группы, изображавшие бандитов в засаде, похороны и свадьбу, стоили тостан[41], или два тостана, или крузадо[42]; это были творения грубых, но умелых рук кустарей. Негр, почти такой же высокий, как Насиб, выпил залпом стакан кашасы и смачно сплюнул на землю.
— Хороша водка, хвала господу нашему Иисусу Христу.
Затем на вопрос Насиба, заданный усталым голосом, он ответил:
— Не знаю, сеньор. А ты, Педро Пака, не слышал, нет ли где-нибудь кухарки? Тут полковник спрашивает…
Нет, Педро ничего не слышал. Возможно, кухарку удастся найти на невольничьем рынке, только сейчас там никого нет, уже давно из сертана не прибывали беженцы.
Насиб не пошел на невольничий рынок, помещавшийся на железной дороге, где останавливались беженцы, из-за засухи покинувшие сертан и искавшие работы. Здесь полковники нанимали работников и жагунсо, а также подбирали прислугу для семьи. Но в те дни рынок пустовал. Насибу посоветовали отправиться на поиски в Понтал.
Ну что ж, по крайней мере ему не придется лезть в гору. Он нанял лодку, пересек гавань. Прошел по немногочисленным песчаным улицам набережной, где на солнцепеке ребятишки бедняков играли в футбол тряпичным мячом. Хозяин булочной Эуклидес лишил его последней надежды:
— Кухарку? И не думайте… Вам не найти ни плохой, ни хорошей. На шоколадной фабрике они зарабатывают больше. Зря время теряете.
В Ильеус он вернулся усталый, хотелось спать.
В этот час бар уже, наверно, открыт и, вероятно, полон, поскольку был базарный день. Посетители не могут обойтись без Насиба, без его внимания, его шуток, его разговоров, его радушия. Двое служащих — настоящие идиоты! — без него не справятся. Но в Понтале, сказали ему, живет одна старуха, которая прежде была хорошей кухаркой, она прислуживала во многих семьях, а сейчас поселилась с замужней дочерью близ площади Сеабра. Он решил попытать счастья.
— Потом пойду в бар…
Старуха, оказалось, умерла более полугода назад, дочь хотела рассказать Насибу, как она хворала, но у того не было ни времени, ни желания ее выслушивать.
Он совсем пал духом и, если бы было можно, пошел бы домой спать.
Насиб вышел на площадь Сеабра, где находились здание префектуры и клуб «Прогресс». Он шагал, думая о своем безвыходном положении, когда заметил полковника Рамиро Бастоса, сидевшего на скамейке перед муниципальным дворцом и гревшегося на солнце. Насиб остановился и поздоровался, полковник предложил ему сесть:
— Давно я вас не вижу, Насиб. Как ваш бар? По-прежнему процветает? Так или иначе я желаю этого.
— У меня несчастье, полковник! Кухарка ушла. Я обошел весь Ильеус, даже в Понтале побывал, и нигде не нашел женщины, хотя бы умеющей готовить…
— Это не легко. Разве только выписать откуда-нибудь. Или поискать на плантациях…
— И как назло, на завтра русский Яков заказал обед…
— Да-да. Я тоже приглашен и, возможно, пойду, — Полковник улыбнулся, наслаждаясь солнцем, которое блестело на окнах префектуры и согревало его усталое тело.
О греющемся на солнце хозяине края
Насибу не удалось распрощаться — полковник Рамиро Бастос не допустил этого. А кто станет оспаривать приказание полковника, даже если оно отдается с улыбкой, почти просительным тоном.
— Еще рано. Давайте посидим немного, потолкуем.
В солнечные дни, неизменно в десять часов, полковник Рамиро Бастос выходил из дому и, опираясь на палку с золотым набалдашником, медленным, но еще твердым шагом шел по улице, которая вела от его дома к префектуре; на площади он садился на скамейку.
— Змея выползла греться на солнце… — говорил капитан, завидев его из окна податного бюро напротив «Папелариа Модело».
Полковник тоже замечал капитана, снимал панаму, кивал седой головой. Капитан отвечал на приветствие, хотя ему очень не хотелось делать этого.
Сквер, где полковник любил сидеть, был самым красивым в городе. Злые языки утверждали, что префектура уделяет особое внимание этому скверу именно из-за его соседства с домом полковника Рамиро. Но ведь на площади Сеабра находились также здание префектуры, клуб «Прогресс» и кинотеатр «Витория», на втором этаже которого селились молодые холостяки, а в зале, выходившем окнами на улицу, помещалось общество имени Руя Барбозы. Кроме того, площадь окружали лучшие в городе особняки и другие здания. Естественно, что власти относились к этой площади с особой заботой. Во время одного из правлений полковника Рамиро на ней был разбит сквер.
В тот день старик был в хорошем настроении и расположен поговорить. Наконец-то снова выглянуло солнце; полковник Рамиро чувствовал, как оно греет5 его согбенную спину, костлявые руки и даже сердце.
Это утреннее солнце для него, восьмидесятидвухлетнего старика, было самой большой, несказанной радостью. Когда шли дожди, он чувствовал себя несчастным, сидел в гостиной на своем австрийском стуле, принимал посетителей и выслушивал их просьбы, обещая помочь. Ежедневно приходили десятки людей. Но когда сияло солнце, он ровное десять часов — кто бы у него ни был — вставал, извинялся, брал палку и выходил на площадь. Он садился на скамейку в сквере, проходило какое-то время, и появлялся кто-нибудь, кто мог составить ему компанию. Взор его блуждал по площади, останавливаясь на здании префектуры.
Полковник Рамиро Бастос созерцал окружающее, как если бы оно было его собственностью. Впрочем, отчасти так оно и было, ибо он и его единомышленники уже много лет безраздельно правили Ильеусом.
Это был сухой старик, которого старость не могла осилить. Его небольшие глаза сохраняли блеск, что выдавало в нем человека, привыкшего повелевать. Один из крупных фазендейро района, он стал уважаемым и грозным политическим лидером. Власть пришла к нему во время борьбы за землю, когда могущество Казузы Оливейры было поколеблено. Он поддержал старого Сеабру, тот отдал ему власть над районом. Два раза он был префектом, теперь сенатором штата.
Раз в два года префект менялся, благодаря подтасованным результатам выборов, но на деле ничего не менялось, ибо править продолжал все тот же полковник Рамиро, чей портрет во весь рост можно было видеть в парадном зале префектуры, где проводились все собрания и торжества. Его ближайшие друзья либо родственники чередовались на посту префекта, они и шагу не делали без его ведома. Сын Рамиро Бастоса — детский врач и депутат палаты штата — заслужил славу хорошего администратора. Он проложил улицы, разбил площади и сады; во время его правления город начал менять облик. Поговаривали, что полковник Рамиро делал это для того, чтобы сын был избран в палату штата. В действительности же полковник на свой лад любил город, как любил сад при своем городском доме или плодовый сад в поместье. В саду при доме он посадил даже яблони и груши, выписав саженцы из Европы. Ему нравилось видеть город чистым (ради этого он убедил префектуру приобрести грузовики — на смену ослам), замощенным, озелененным, с хорошей канализацией. Он настаивал на строительстве красивых домов, радовался, когда приезжие говорили о красоте Ильеуса, о красоте его площадей и садов. Но вместе с тем упорно оставался глухим к некоторым иным неотложным проблемам: например, к строительству больницы, основанию городской гимназии, прокладке дорог в провинции и организации спортивных площадок. Он морщился, когда заходил разговор о клубе «Прогресс», и даже слышать не хотел об углублении фарватера. Этими вопросами он занимался лишь тогда, когда это было совершенно необходимо, когда он чувствовал, что в противном случае его престиж будет подорван. Так было, в частности, с шоссейной дорогой, сооружение которой было начато усилиями двух префектур — Ильеуса и Итабуны. Рамиро Бастос с недоверием взирал на многие новшества, и в особенности на новые обычаи. А поскольку оппозицию составляла маленькая группка недовольных, не имевших ни силы, ни веса, то полковник почти всегда осуществлял то, что хотел, абсолютно не считаясь с общественным мнением.
Впрочем, несмотря на всю свою власть, он в последнее время почувствовал, что его безоговорочный престиж, сила его слов, становившихся законом, были несколько поколеблены. Нет, не оппозицией, не этим я беспринципными людьми. Но город и вся зона какао росла и развивалась, и власть над ними вот-вот, казалось, выскользнет из его ослабевших в последнее время рук. Не собственные ли внуки выступили против него, когда он побудил префектуру отказать клубу «Прогресс» в ссуде? А газета Кловиса Косты, разве не осмелилась она обсуждать проблему открытия гимназии? Раз он слышал, как его внучки сказали: «Наш дед — ретроград!»
Он терпимо относился к кабаре, публичным домам, к безудержным ночным оргиям Ильеуса. Мужчинам это нужно, он сам был молодым. Но он не понимал, зачем эти клубы для юношей и девушек, где они болтают допоздна и танцуют эти новые танцы, в которых даже замужние женщины кружатся в объятиях посторонних мужчин. Какое бесстыдство! Жена должна жить взаперти, заботясь о детях и семейном очаге, Девушка в ожидании мужа должна учиться шить, играть на пианино, распоряжаться на кухне. И все же он не смог воспрепятствовать основанию клуба, как ни старался.
Этот Мундиньо Фалкан, прибывший из Рио, избегал его, он не приходил к нему ни с визитами, ни за советом, он все решал самостоятельно и делал, что хотел. Полковник смутно чувствовал в экспортере врага, который доставит ему немало неприятностей. Внешне они поддерживали отличные отношения. Когда они встречались — что случалось редко, — то обменивались вежливыми фразами, дружественными заверениями, предлагали друг другу помощь. Но этот Мундиньо начал всюду совать нос, его окружало все больше людей, он говорил о жизни и прогрессе Ильеуса, как будто это было его личным делом, входило в его компетенцию, как будто он имел здесь какую-то власть. Мундиньо происходил из семьи, привыкшей распоряжаться на юге страны, его братья обладали и весом в обществе, и средствами. Полковник Рамиро для него будто не существовал. Разве не этим объясняется поступок Мундиньо, решившего проложить проспект вдоль берега моря? Он неожиданно появился в префектуре как владелец прибрежных земельных участков с уже готовыми планами и чертежами.
Насиб сообщил Рамиро Бастосу самые свежие новости, полковник уже знал, что пароход «Ита» сел на мель.
— Мундиньо Фалкан прибыл на нем. Говорит, что дело с расчисткой мели…
— Чужак… — прервал его полковник. — Какого дьявола он заявился в Ильеус, что ему тут нужно? — Он говорил суровым голосом человека, который в прошлом поджигал фазенды, совершал налеты на поселки, безжалостно уничтожал людей. Насиб вздрогнул.
— Чужак…
Как будто Ильеус не был краем чужеземцев, прибывших с разных концов света. Но Мундиньо отличался от всех остальных. Другие держались скромно, сразу же покорялись власти Бастосов, их желания не шли дальше того, чтобы заработать побольше денег, обосноваться, поскорее приступить к освоению леса. Они не претендовали на заботы о «прогрессе города и района», не брались решать, что нужно Ильеусу. Несколько месяцев назад к полковнику Рамиро Бастосу обратился владелец одного ильеусского еженедельника Кловис Коста. Он задумал организовать компанию для издания ежедневной газеты. Кловис Коста уже присмотрел машины в Баие, теперь ему нужны были деньги.
Он пустился в пространные объяснения: ежедневная газета будет означать новый шаг в прогрессе Ильеуса, ни один провинциальный город штата еще не издает своей газеты. Журналист рассчитывал получить деньги у фазендейро, все они стали бы его компаньонами в органе, защищающем интересы какаовой зоны. Рамиро Бастосу идея не понравилась. От кого или от чего станет защищать этот орган? Кто угрожает Ильеусу?
Уж не правительство ли? Оппозиция была слишком легковесной, она не заслуживала внимания. Ежедневная газета показалась полковнику чрезмерной роскошью. Если у него попросят денег на что-либо иное, он готов их дать. Но только не на ежедневную газету…
Кловис вышел расстроенный, он пожаловался Тонико Бастосу, второму сыну полковника, городскому нотариусу. Он мог бы получить немного денег у некоторых фазендейро. Но отказ Рамиро означал отказ большинства. Обратись он к ним, они, без сомнения, спросили бы:
— А полковник Рамиро сколько дал?
Полковник больше не думал об этом деле. Издание ежедневной газеты представляло собой известную опасность. Достаточно будет в один прекрасный день не удовлетворить какую-либо просьбу Кловиса — и газета объединится с оппозицией, станет вмешиваться в муниципальные дела, производить расследования, чернить репутацию уважаемых людей. Своим отказом полковник Рамиро раз навсегда похоронил эту затею.
Так он и сказал Тонико, когда тот пришел к нему вечером обсудить дела и передал жалобу Кловиса:
— Тебе нужна ежедневная газета? Ну и мне не нужна. А следовательно, и Ильеусу тоже. — И он заговорил о другом.
Каково же было удивление полковника, когда некоторое время спустя он увидел на рекламных щитах и на стенах домов объявления о предстоящем выходе газеты. Он вызвал Тонико.
— Значит, газета все же выходит?
— Какая? Кловиса?
— Да. Уже расклеены объявления, что скоро она появится.
— Машины уже прибыли и устанавливаются.
— Как же так? Ведь я отказал ему в поддержке. Где же он нашел деньги? В Бане?
— Нет, отец, здесь. Их дал Мундиньо Фалкан…
А кто вдохновил основание клуба «Прогресс», кто дал деньги молодежи торговых предприятий на организацию футбольных клубов? Тень Мундиньо Фалкана простиралась всюду. Его имя звучало в ушах полковника все настойчивее. Вот и сейчас араб Насиб рассказывал о нем, что по приезде он объявил о скором прибытии инженеров из министерства путей сообщения для изучения вопроса об углублении фарватера. Кто его просил вызывать инженеров, кто дал ему право решать городские дела?
— А кто его просил? — резко повернулся старик к Насибу, будто тот отвечал за поступки Мундиньо.
— Этого уж я не знаю… За что купил, за то продаю…
Яркие цветы в саду сверкали в лучах великолепного солнца, птицы пели на деревьях. Полковник нахмурился, а Насиб не решался распрощаться. Старик был рассержен, но неожиданно снова заговорил. Если они думают, что он выбыл из игры, то ошибаются. Он еще не умер, и у него еще есть силы. Они хотят бороться?
Что ж, он будет бороться, ведь этим он занимался всю жизнь. Как он создавал свои плантации, устанавливал границы своих огромных фазенд, обеспечивал свое могущество? Ведь он не унаследовал все это от родителей, не рос под крылышком братьев в столичных городах, как этот Мундиньо Фалкан… Как он расправлялся со своими политическими противниками? Он уходил в леса с парабеллумом в руке во главе своих жагунсо. Любой ильеусец постарше может об этом рассказать. Еще у всех на памяти его дела. Мундиньо Фалкан делает большую ошибку, он не знает истории Ильеуса, лучше бы справился сначала… Полковник постукивал палкой по бетону тротуара. Насиб слушал молча.
Вежливый голос учителя Жозуэ прервал Рамиро Бастоса:
— Добрый день, полковник. Греетесь на солнышке?
Полковник улыбнулся и протянул руку.
— Да вот, беседую с милейшим Насибом. Подсаживайтесь. — Он подвинулся, давая место учителю. — В моем возрасте только и остается, что греться на солнышке…
— Ну, положим, полковник, немногие юноши могут тягаться с вами.
— Я и говорил как раз Насибу, что меня еще рано хоронить. Хотя есть люди, которые считают, что моя песенка спета…
— Этого никто не думает, полковник, — сказал Насиб.
Рамиро Бастос переменил тему, спросив Жозуэ:
— Как дела в колледже доктора Эпоха? — Жозуэ был преподавателем и заместителем директора колледжа.
— Хорошо, очень хорошо. Колледж приравнен к государственным учебным заведениям. Теперь в Ильеусе есть своя государственная гимназия. Это очень важно.
— Уже приравнен? А я не знал… Губернатор сообщил мне, что это будет оформлено только в начале года. Министр не мог сделать этого раньше, поскольку подобный акт не совсем законен. Я очень интересовался данным вопросом.
— Вы правы, полковник, оформление официального статута производится, как правило, в начале года, до того, как начнутся занятия. Но Эпох попросил Мундиньо Фалкана, когда тот уезжал в Рио…
— А!
— …и тот добился, чтобы в министерстве сделали исключение. Уже в этом году на экзамены в колледж прибудет федеральный инспектор. Это очень важно для Ильеуса…
— Без сомнения… Без сомнения…
Молодой преподаватель продолжал говорить, Насиб воспользовался этим, чтобы попрощаться, полковник его не слышал. Мысли Рамиро Бастоса витали далеко. Что, черт возьми, делает в Баие его сын Алфредо? Депутат палаты штата, который имеет доступ в губернаторский дворец и может в любое время запросто беседовать с губернатором, что ж он там, черт возьми, делает? Разве он, Бастос, не велел ему хлопотать о расширении прав колледжа? Если бы губернатор под нажимом Алфредо по-настоящему заинтересовался этим делом, то Энох и город были бы обязаны реорганизацией ему, Бастосу, и никому больше. Он, Рамиро, за последнее время почти не ездил в Баию на заседания сената, он плохо переносил дорогу. И вот результат: его ходатайства перед правительством валяются в министерствах, проходят обычный бюрократический путь, тогда как… Колледж наверняка получит права государственного учебного заведения в начале года — губернатор сообщил ему это так, будто без задержки удовлетворил его ходатайство. И он, Рамиро, остался доволен, передал эту новость Эноху, подчеркнув готовность, с которой правительство удовлетворило его просьбу.
— Через год в вашем колледже будет федеральный инспектор.
Энох поблагодарил, но не удержался и посетовал:
— Жалко, полковник, что у нас нет инспектора уже сейчас. Мы потеряем год, многих мальчиков отправят учиться в Баию.
— В середине года такая реорганизация невозможна. Придется немного подождать…
И вот теперь эта неожиданная новость. Колледж будет до срока приравнен к государственным учебным заведениям трудами и милостью Мундиньо Фалкана.
Ну ничего! Он, Рамиро, поедет в Баию, губернатору придется выслушать кое-что неприятное… Не такой он человек, с ним шутки плохи, он не даст подрывать свой авторитет. Но что, черт возьми, делает его сын в палате штата? У парня нет данных для политической карьеры, он хороший врач, хороший администратор, но он не в отца мягок, не умеет быть настойчивым. Другой, Тонико, думает только о женщинах, ни о чем другом и знать не хочет…
Жозуэ простился.
— До свидания, сын мой. Передайте Эноху мои поздравления. Я ожидал этой вести со дня на день…
Полковник снова остался один. Солнце больше не радовало его, он нахмурился. Он думал о прежних временах, когда такие дела решались просто. Если кто-либо становился на пути, достаточно было вызвать жагунсо, пообещать денег, назвать нужное имя. Теперь все иначе. Но этот Мундиньо Фалкан все же ошибается. Ильеус сильно изменился за последние годы, это верно. Полковник Рамиро пытался понять эту новую жизнь, этот Ильеус, нарождавшийся из того прежнего города, который принадлежал ему. Он думал, что понял этот новый Ильеус, познал его нужды, его потребности. Разве не он обеспечил благоустройство города, не он разбил площади и сады и замостил улицы, разве не он проложил шоссе вопреки обещаниям, которые дал англичанам, строившим железную дорогу? Почему же теперь, и так сразу, город выскальзывает у него из рук? Почему все вдруг начали делать то, что им взбредет в голову, на свой страх и риск, не слушая его, не ожидая его распоряжений? Что случилось с Ильеусом, неужели он, Рамиро, уже не понимает его, не управляет им?
Не таков он, чтобы сдаться без борьбы. Это его земля, никто не сделал для нее больше, чем Рамиро Бастос; никто на свете не отнимет у него маршальский жезл. Он чувствовал, что приближается новый период борьбы, не похожей на ту, которая велась когда-то, и, быть может, более трудной. Он встал и выпрямился, казалось, почти не чувствуя бремени лет. Он, может быть, и стар, но хоронить его еще рано, и, пока он жив, править здесь будет он. Он покинул сад и пошел во дворец префектуры. Полицейский у входа отдал ему честь. Полковник Рамиро Бастос улыбнулся.
О политическом заговоре
В тот самый момент, когда полковник Рамиро Бастос входил в здание префектуры, а араб Насиб вернулся в бар «Везувий», так и не найдя кухарки, Мундиньо в своем доме на набережной рассказывал капитану:
— Пришлось дать настоящее сражение, мой дорогой. Это оказалось совсем не так легко.
Мундиньо отодвинул чашку и вытянул ноги, лениво развалившись на стуле. Он ненадолго зашел в контору и увел к себе посетившего его друга якобы для того, чтобы познакомить его со столичными новостями, а на самом деле чтобы поговорить с ним в домашней обстановке. Капитан отхлебнул кофе и стал расспрашивать о подробностях.
— Но почему они так сопротивляются? В конце концов, Ильеус не какой-нибудь поселок. Наш муниципалитет приносит более тысячи конто[43] дохода.
— Ну, мой дорогой, министр тоже не всемогущ. Ему приходится считаться с интересами губернаторов. А правительство штата Баия меньше всего заинтересовано в расчистке мели в Ильеусе. Каждый мешок какао, который отправляется из порта Баии, — новая прибыль для тамошнего порта. А зять губернатора связан с владельцами порта. Министр так и сказал мне: сеньор Мундиньо, вы поссорите меня с губернатором Баии.
— Мошенник этот зять, а полковники никак не хотят уразуметь этого. Только сегодня я с ними спорил, пока «Ита» снималась с мели. Они поддерживают правительство, которое все забирает у Ильеуса, а взамен не дает ничего.
— Какое там… Но и здешние политические деятели не шевелятся.
— Больше того, они противятся мероприятиям, которые необходимы для города. Для подобной глупости нет названия. Рамиро Басгос сидит сложа руки, он недальновиден, а полковники идут за ним.
Поспешность, которую проявил Мундиньо в конторе, решив покинуть клиентов и перенести на вечер важные торговые переговоры, сразу исчезла, когда он заметил нетерпение капитана. Было необходимо, чтобы капитан сам предложил ему политическое руководство, чтобы он уговаривал его, а Мундиньо притворился бы удивленным. Он поднялся, подошел к окну и залюбовался волнами, разбивавшимися о берег, и прекрасным солнечным днем.
— Я иногда спрашиваю себя, капитан, какого черта я приехал сюда. В конце концов, я мог бы отлично жить, неплохо развлекаясь, в Рио и Сан-Пауло. Мой брат Эмилио до сих пор спрашивает меня: «Тебе еще не надоела эта сумасшедшая затея с Ильеусом? Не понимаю, зачем тебе понадобилось забираться в эту дыру?» Вы ведь знаете, что наша семья уже много лет торгует кофе?..
Мундиньо побарабанил пальцами по окну и взглянул на капитана.
— Не подумайте, что я жалуюсь, какао — дело выгодное. Даже очень. Но здешняя жизнь не идет ни в какое сравнение с жизнью в Рио. И все же я не хочу возвращаться туда. А знаете почему?
Капитану нравилось, что экспортер с ним откровенен, ему льстила дружба с таким человеком.
— Не скрою, мне было бы любопытно узнать. Впрочем, не мне одному… Всех интересует, почему вы приехали сюда, это одна из самых волнующих тайн на свете…
— Почему я приехал, значения не имеет. Почему я остался — вот это вопрос, который можно задать. Когда я прибыл сюда и остановился в отеле Коэльо, первым моим желанием было сесть на тротуар и заплакать.
— Это из-за нашей отсталости…
— Так вот, я думаю, что как раз она меня и удержала. Именно она… Богатый, неизведанный край, где все надо делать заново, где все впереди. Даже то, что уже сделано, как правило, сделано плохо и нуждается в замене. Здесь цивилизация, так сказать, в процессе становления.
— Цивилизация в процессе становления — неплохо сказано… — поддержал Мундиньо капитан. — В прошлом, во времена вооруженной борьбы за землю, говорили, что тот, кто приехал в Ильеус, никогда отсюда не уедет. Ноги увязают в соке какао, они прилипают к здешней земле навсегда. Вы никогда этого не слышали?
— Слышал. Но, поскольку я экспортер, а не фазендейро, я полагаю, что мои ноги увязли в уличной грязи. Она и внушила мне желание остаться, чтобы построить кое-что. Не знаю, понимаете ли вы меня…
— Вполне.
— Конечно, если бы тут нельзя было заработать, если бы какао не было хорошим бизнесом, я бы не остался. Но одного какао было бы недостаточно, чтобы удержать меня. Думаю, что у меня душа пионера, — засмеялся он.
— Так, значит, вот почему вы принимаетесь сразу за столько дел? Понимаю… Покупаете участки, прокладываете улицы, строите дома, вкладываете средства в самые различные предприятия…
Когда капитан перечислял все это, он отдавал себе ясный отчет в том, какой размах приняли дела Мундиньо, и в том, что его участие или влияние ощущалось во всем, что происходило в Ильеусе: открывались новые банковские филиалы, была создана автобусная компания, сооружена набережная, выпускалась ежедневная газета, прибывали специалисты для подрезки деревьев какао, приехал сумасшедший архитектор, который построил дом Мундиньо, вошел затем в моду и оказался заваленным работой.
— …даже артистку вы привезли… — заключил он с улыбкой, намекая на балерину, приехавшую утром на «Ите».
— Красивая, а? Бедняги! Я их встретил в Рио, они совсем не знали, что делать. Хотели поехать в турне, но у них не было денег даже на билеты… Вот я и стал их импресарио…
— В данном случае, мой дорогой, дело не в деньгах. Даже я согласился бы быть ее импресарио. Ее муж, похоже, принадлежит к братству…
— К какому?
— К братству святого Корнелия — терпеливых и добродушных мужей-рогоносцев.
Мундиньо сделал рукой протестующий жест:
— Ну что вы… Они вовсе не супруги, эта публика не женится. Живут они вместе, но каждый сам по себе. Как вы думаете, что она делает, когда негде танцевать?.. Для меня это было развлечением во время скучного путешествия. А теперь конец. Она в вашем распоряжении. Только ей надо платить, мой дорогой.
— Полковники потеряют голову… Но не рассказывайте им, что это не супружеская чета. Мечта каждого полковника — спать с замужней женщиной. Но, конечно, если кто-нибудь захочет лечь с их женой, то… Однако вернемся к вопросу о мели… Вы действительно намерены продвигать это дело?
— Для меня оно стало личным. В Рио я установил контакт с одной шведской компанией торгового судоходства. Они намерены организовать прямое сообщение с Ильеусом. Как только вход в гавань будет углублен настолько, чтобы дать возможность проходить судам с соответствующей осадкой.
Капитан слушал внимательно, одновременно обдумывая давно преследовавшие его соображения и планы. Настал час привести их в исполнение. Приезд Мундиньо в Ильеус был благословением неба. Но как он отнесется к его предложениям? Нужно действовать осторожно, завоевать доверие Мундиньо и потом убедить его. А Мундиньо был растроган привязанностью капитана, ему хотелось быть откровенным, и он поддался этому желанию.
— Послушайте, капитан, когда я приехал сюда… — он замолчал на мгновение, как бы сомневаясь, стоит ли продолжать, — я был почти беглецом. — Снова молчание. — Но бежал я не от полиции, а от женщины. Когда-нибудь, не сегодня, я расскажу вам все… Знаете ли вы, что такое страсть? Даже более чем страсть — безумие? Из-за него я и приехал сюда, бросив все. Мне и раньше говорили об Ильеусе, о какао. Я приехал посмотреть, что это за город, и больше не уехал. Остальное вы знаете: экспортная фирма, моя жизнь здесь, приятные знакомства, которые я завел, энтузиазм, который вселил в меня этот край. Вы понимаете, что меня соблазнили не только деньги. Я мог бы зарабатывать столько же или даже больше, экспортируя кофе. Но тут я сам делаю кое-что, я кем-то стал… Я делаю дело своими руками… — И он взглянул на холеные, тонкие руки с наманикюренными, как у женщины, ногтями.
— Об этом я и хочу с вами поговорить…
— Подождите. Дайте мне кончить. Я приехал по причинам интимного порядка, я бежал. Но если я тут остался, то в этом повинны мои братья. Я самый младший из трех, намного моложе остальных, я родился слишком поздно. Все уже было сделано, мне не надо было прилагать ни малейших усилий. Все шло само собой. Я всегда был только третьим. Первыми — двое старших. Это меня не устраивало.
Капитан был очень доволен, признания Мундиньо были ко времени. Он подружился с Мундиньо вскоре после его прибытия в Ильеус, когда тот основывал новую экспортную фирму. Капитан был федеральным сборщиком налогов, и на его долю выпало направить первые шаги молодого капиталиста. Они стали разъезжать вместе, капитан взял на себя роль гида. Отвез Мундиньо на фазенду Рибейриньо, в Итабуну, в Пиранжи, в Агуа-Прету, рассказал ему про обычаи края, даже рекомендовал женщин. Мундиньо же держался просто, сердечно, легко сближался с людьми. Вначале капитан просто гордился дружбой с этим прибывшим с юга богачом из влиятельной как в делах, так и в политике семьи, у которого брат был депутатом, а родственники — дипломатами. О старшем брате поговаривали даже как о будущем министре финансов. Только потом, с течением времени и по мере того, как Мундиньо развернул свою разностороннюю деятельность, капитан начал размышлять и строить планы: этот человек может выступить против Бастосов и свалить их…
— Я был балованным ребенком. Мне ничего не приходилось делать, все решали братцы. Я уже был взрослым мужчиной, но для них оставался мальчишкой. Они считали, что я должен развлекаться, пока не пришел мой черед, не настал «мой час», как говорит Лоуривал… — Мундиньо всегда хмурился, когда упоминал о старшем брате. — Вы понимаете? Я устал от безделья, от роли младшего брата. Возможно, я никогда не оказал бы сопротивления, остался бы таким же мягкотелым и продолжал вести праздную жизнь.
Но тут появилась эта женщина. Создалось безвыходное положение… Мундиньо устремил взгляд на море, расстилавшееся перед открытым окном, но, охваченный воспоминаниями, видел за горизонтом лишь образы, которые только он мог различить.
— Она хорошенькая?
Мундиньо усмехнулся.
— Хорошенькая — для нее звучит как оскорбление. Знаете ли вы, что такое красота, капитан? Верх совершенства? Такая женщина не называется хорошенькой.
Он провел рукой по лицу, как бы отгоняя видения.
— В общем… В глубине души я доволен. Теперь я уже не брат Лоуривала и Эмилио Мендес Фалканов. Я сам по себе. Это мой край, у меня своя фирма, и я, сеньор капитан, выверну Ильеус наизнанку, сделаю из него…
— …столицу, как говорил сегодня доктор… — прервал его капитан.
— На этот раз, когда я приехал, братья смотрели на меня уже иными глазами. Они потеряли надежду увидеть, как я, потерпев крах, возвращусь с поникшей головой. И в самом деле, я не так уж плохо продвигаюсь, а?
— Неплохо? Да ведь вы прибыли сюда совсем недавно и уже стали первым экспортером какао.
— Ну, положим, еще не первым… Кауфманы вывозят больше. Стевесон тоже. Но я их опережу. Меня увлекает то, что этот край еще в развитии, здесь все еще только начинается. Многое надо делать заново, и мне это по плечу. По крайней мере, — поправился он, — буду пытаться. А это и есть стимул для такого человека, как я.
— Вы знаете, что тут говорят? — Капитан встал, прошелся по гостиной. Момент наступил.
— Что? — Мундиньо ждал, догадываясь, что скажет капитан.
— Что у вас есть задатки политического деятеля. Не далее как сегодня…
— Задатки политического деятеля? Никогда не думал об этом, во всяком случае серьезно. Я думал лишь о том, как заработать деньги и стимулировать прогресс этого края.
— Все это очень хорошо и вполне вам по силам. Однако вам не удастся сделать и половины того, что вы задумали, пока вы не вмешаетесь в политическую жизнь, не измените существующего здесь положения.
— Как? — Карты были выложены на стол, игра началась.
— Вы сами сказали: министр вынужден прислушиваться к мнению губернатора. Правительство не заинтересовано в прогрессе Ильеуса, здешние политические деятели — кретины. Полковники не видят ничего дальше своего носа. Для них главное — сажать и собирать какао. Остальное их не интересует. Они выбирают идиотов в палату, голосуют за тех, на кого укажет Рамиро Бастос. Префектура переходит из рук сына Рамиро в руки кума Рамиро.
— Но полковник все-таки что-то делает…
— Мостит улицы, прокладывает дороги, сажает цветы. И только. О шоссе, например, он и не думает. Даже сооружение шоссейной дороги в Итабуну не обошлось без борьбы. Он ссылался на соглашение с англичанами, владельцами железной дороги, и на массу других причин… А мель? У него договоренность с губернатором… Кажется, Ильеус вот уже двадцать лет как застрял на одном месте…
Теперь Мундиньо сидел молча. В голосе капитана слышалась страстность, он стремился убедить Мундиньо, а тот думал: он прав, запросы полковников уже отстали от запросов края, быстро идущего по пути прогресса.
— Пожалуй, вы правы…
— Конечно, прав. — Капитан хлопнул экспортера по плечу. — Дорогой мой, хотите вы или не хотите, но выход для вас только один — заняться политической деятельностью…
— А зачем?
— Затем, что этого требуют Ильеус, ваши друзья, народ!
Капитан говорил торжественно, простирая вперед руки, словно произносил речь. Мундиньо Фалкан закурил.
— Это надо обдумать… — И он вообразил, как входит в федеральную палату депутатом от края какао; когда-то он предсказывал это Эмилио.
— Вы даже не представляете… — Капитан снова сел, довольный собой. Ни о чем другом сейчас не говорят. Все заинтересованы в прогрессе Ильеуса, Итабуны, всей зоны. У вас появилось бы бесчисленное множество сторонников.
— Я должен посоветоваться. Пока я вам не говорю ни да, ни нет. Но мне не хотелось бы впутаться в смешную авантюру.
— Авантюру? Если бы я вам сказал, что все очень просто и дело обойдется без борьбы, я бы солгал. Борьба будет, и, без сомнения, она будет нелегкой. Но ясно одно выиграть мы можем…
— Я должен все обдумать… — повторил Мундиньо Фалкан.
Капитан улыбнулся. Мундиньо проявил заинтересованность, а от интереса до согласия один шаг. В Ильеусе только Мундиньо Фалкан может выступить против власти полковника Рамиро Бастоса, он, и никто больше, только он может отомстить за отца капитана. Разве Бастосы не сместили старого Казузиньо, доведя его до разорения бесславно окончившейся для него политической борьбой? Разве не поэтому капитан остался без наследства и теперь целиком зависит от государственной службы?
Улыбнулся и Мундиньо Фалкан: капитан предлагает ему власть или, по крайней мере, подсказывает способы, как достигнуть ее. А власть — это то, к чему он стремится.
— Вы говорите, что хотите обдумать? Но учтите, выборы на носу. Надо начинать немедленно.
— Вы действительно полагаете, что я получу поддержку, что найдутся люди, которые захотят присоединиться ко мне?
— Вам надо только решиться. Не забывайте — вопрос о мели может стать решающим. Он затрагивает интересы всего населения. И не только здесь, но и в Итабуне, в Итапире, во всей провинции. Вот увидите, приезд инженера вызовет сенсацию.
— А вслед за инженером прибудут землечерпалки, буксиры…
— И кому Ильеус обязан всем этим? Видите, какой козырь у вас в руках? А знаете, что надо предпринять прежде всего?
— Что?
— Опубликовать в «Диарио» серию статей, разоблачающих правительство, префектуру и показывающих, как важен вопрос о мели. Ведь у вас есть даже газета.
— Ну, газета, положим, не моя. Я, правда, вложил деньги, чтобы помочь Кловису, но у него нет никаких обязательств по отношению ко мне. Мне кажется, он друг Бастосов. По крайней мере, друг Тонико, они часто бывают вместе…
— Он друг тому, кто больше заплатит. Поручите его мне.
Мундиньо решил сделать вид, что все еще немного колеблется.
— И все же стоит ли? Политика всегда грязное дело… Но если для блага края… — Он чувствовал себя немного смешным. — Возможно, это будет даже интересно, — добавил он.
— Мой дорогой, если вы хотите осуществить свои планы и принести пользу Ильеусу, у вас нет иного выхода.
— Это верно…
В дверь постучали, горничная пошла открыть. Фигура доктора появилась на пороге. Он воскликнул:
— Я заходил к вам в контору, чтобы поздравить с благополучным возвращением. Не застал и вот явился, сюда, чтобы приветствовать вас. Его рубашка с накрахмаленной грудью и стоячим воротничком была мокрой от пота.
Капитан поспешил объявить:
— Что вы скажете, доктор, если Мундиньо Фалкан будет нашим кандидатом на предстоящих выборах?
Доктор воздел руки к небу.
— Какая потрясающая новость! Сенсация! — Он повернулся к экспортеру. Если мои скромные услуги могут оказаться полезными…
Капитан взглянул на Мундиньо, как бы говоря: «Видите, я не солгал! Лучшие люди Ильеуса…»
— Но пока это секрет, доктор.
Они уселись. Капитан принялся подробно описывать действие политической машины края и связи между влиятельными лицами, заинтересованными в игре.
Эзекиел Прадо, например, у которого много друзей среди фазендейро, недоволен Бастосами, поскольку они не сделали его председателем муниципального совета.
Об искусстве сплетни
Насиб засучил рукава рубашки и осмотрел публику в баре. Почти вся она в этот час состояла из приезжих, остановившихся в городе ненадолго или прибывших на базар. Было также несколько пассажиров с «Иты», направлявшихся в северные порты; для обычных посетителей было еще рано. Он подозвал Бико Фино и отобрал у него бутылку португальского коньяку.
— Где это видано? — возмутился Насиб и подошел с официантом к стойке. Подавать всякой деревенщине настоящий коньяк… — Он взял другую, точно такую же бутылку, с такой же этикеткой, в которой португальский коньяк был смешан с отечественным, — на этой смеси араб неплохо зарабатывал.
— Но ведь это для моряков, сеньор Насиб.
— Ну и что же? А чем эти лучше?
Чистый коньяк, вермут без примеси, неразбавленные портвейн и мадера подавались только постоянной клиентуре и приятелям. Он не мог ни на минуту отлучиться из бара — официанты сразу начинали делать все не так. Если он не будет следить за всем сам, то в конечном счете прогорит. Насиб открыл кассу. Сегодня ожидается большой наплыв посетителей, а значит, немало будет всяких разговоров. Из-за отъезда Филомены он не только потерпел материальный ущерб и устал, но потерял душевное равновесие, не смог заняться многочисленными новостями и поразмыслить над разными вопросами, которые можно было бы обсудить, когда соберутся друзья. Новостей множество, а, по мнению Насиба, нет ничего более приятного (разве только еда и женщина), чем обсуждать или обдумывать новости. Сплетничать — высшее искусство и высшее наслаждение жителей Ильеуса. Искусство, которое старые девы довели до невероятного совершенства.
«Вот оно, сборище ядовитых змей», — говорил Жоан Фулженсио, завидев их у церкви в час благословения.
Но разве не в «Папелариа Модело» Жоана Фулженсио, где он хозяйничал среди книг, тетрадей, карандашей и ручек, собирались местные «таланты», обладавшие не менее острыми, чем у старых дев, языками?
Здесь, как и в портовых барах, как и за партиями покера сплетничали и толковали о разных разностях.
Однажды Ньо Гало передали, что идут разговоры о его похождениях в публичных домах. Он ответил своим гнусавым голосом:
— Дружище, я на это не обращаю внимания. Я знаю, что говорят обо мне и что говорят о других. Но я хороший патриот и стараюсь давать им темы для подобных толков.
Сплетни были главным развлечением города. А так как не все обладали добрым нравом Ньо Гало, то иногда в барах завязывались потасовки, обиженные требовали объяснений, выхватывали из-за пояса револьверы. Таким образом, искусство сплетни не было безопасным, ибо грозило расплатой.
В тот день было много тем для обсуждения, прежде всего проблема мели сложная и большая проблема, связанная с самыми различными событиями: с тем, что пароход «Ита» сел на мель, с тем, что скоро приедет инженер, с тем, что предпринимал Мундиньо Фалкан («Что ему нужно?» — возмущался полковник Майуэл Ягуар) и, наконец, с тем, что полковник Рамиро Бастос был очень раздражен. Уже этого сложного вопроса было достаточно, чтобы увлечь всех. И как забыть чету артистов — красавицу блондинку и жалкого принца с лицом голодной крысы? Деликатная и восхитительная тема, которая даст пищу для насмешек капитану и Жоану Фулженсио, для саркастических замечаний Ньо Гало и вызовет раскатистый хохот. Тонико Бастос, конечно, начнет ухаживать за балериной, но на этот раз его опередил Мундиньо Фалкан. Ясно, что не из любви к танцам привез ее экспортер, притащив и мужа с мундштуком во рту, он наверняка и проезд их оплатил. А потом завтрашний банкет автобусной компании. Узнать бы, почему приглашен такой-то и не приглашен такой-то! А новые женщины в кабаре, ночь с Ризолетой…
Ньо Гало зашел в бар невзначай. Это был не его час, в это время он обычно сидел в податном бюро.
— Я сделал глупость, вернувшись домой после прибытия «Иты», лег и проспал до сих пор. Дайте-ка мне выпить, надо идти работать.
Насиб, как всегда, подал ему смесь вермута с кашасой.
— Ну, как косенькая, а? — Ньо Гало усмехнулся. — Вы вчера были великолепны, араб, просто великолепны. — Затем он констатировал: Ассортимент женщину нас явно улучшается, в этом нет никакого сомнения.
— Я еще не встречал такой искусной бабенки… — Насиб шепотом рассказал о подробностях.
— Не может быть!
С ящиком для чистки обуви появился негритенок Туиска; сестры Рейс передали через него, что все в порядке, Насиб может быть спокоен. К вечеру они пришлют подносы со сладостями и закусками.
— Кстати, о закусках — дайте мне чего-нибудь заморить червячка.
— Разве вы не видите, что у меня ничего нет? Будет только вечером. От меня кухарка уехала.
Ньо Гало принял насмешливый вид.
— Почему бы вам не нанять Машадиньо или мисс Пиранжи?
Он намекал на двух известных в городе гомосексуалистов. Первый был мулат Машадиньо, прачка по профессии, отличавшийся чистоплотностью и аккуратностью, его нежным рукам семейные люди доверяли льняные и парусиновые костюмы, тонкие рубашки, крахмальные воротнички. Второй страшный негр, служивший в пансионе Каэтано, которого можно было встретить ночью на берегу моря, где он бродил в поисках порочных наслаждений. Мальчишки кидали в него камнями и дразнили: «Мисс Пиранжи! Мисс Пиранжи!»
Получив этот издевательский совет, Насиб разозлился:
— Пошли вы… в навозную кучу!
— Туда и направляюсь. Буду делать вид, что работаю. Немного погодя я вернусь, и если б вы рассказали про вчерашнюю ночь — все до мельчайших подробностей…
Бар заполнялся народом. Насиб увидел, как со стороны набережной появился Мундиньо Фалкан между капитаном и доктором. Они оживленно беседовали.
Капитан жестикулировал, время от времени его прерывал доктор. Мундиньо слушал, кивая головой. «Они что-то замышляют…» — подумал Насиб. Что, черт возьми, делал экспортер дома (ибо он наверняка шел оттуда) в такой час в компании этих двух приятелей? Приехав сегодня, после почти месячного отсутствия, Мундиньо должен был сидеть у себя в конторе, принимать полковников, обсуждать дела, покупать какао. Но поступки Мундиньо Фалкана были неожиданными, он делал все не так, как другие. Вот он шагает с беспечным видом и с величайшим оживлением обсуждает что-то с двумя приятелями, будто у него нет серьезных дел, требующих разрешения, клиентов, которые его ждут и которых надо отпустить. Насиб оставил кассу на Вико Фино и вышел из бара.
— Ну как, достали кухарку? — спросил капитан, уезживаясь.
— Я обошел весь Ильеус. И хоть бы одна…
— Коньяку, Насиб. И настоящего! — крикнул Мундиньо.
— И пирожков с треской…
— Будут только вечером…
— Эй, араб, что это у вас происходит?
— Так можно растерять клиентуру. Мы сменим бар… — рассмеялся капитан.
— К вечеру все будет. Я заказал сестрам Рейс.
— Хорошо хоть так…
— Хорошо? Они же дерут безбожно… Я терплю убытки.
Мундиньо Фалкан посоветовал:
— Вам, Насиб, нужно модернизировать свой бар. Привезти холодильник, чтобы всегда был лед, установить современное оборудование.
— Сейчас мне прежде всего нужна кухарка…
— Выпишите из Сержипе.
— А пока она приедет?
Наблюдая за друзьями, у которых был вид заговорщиков, Насиб заметил довольную улыбку капитана, а также то, что они внезапно прервали разговор при его приближении. Подошел Разиня Шико с бутылкой вина на подносе. Насиб подсел к столику друзей.
— Сеньор Мундиньо, чем вы досадили полковнику Рамиро Бастосу?
— Полковнику? Ровным счетом ничем. А что?
Насиб сдержанно ответил:
— Да ничего, просто так…
Капитана заинтересовали слова Насиба, и он хлопнул его по спине:
— Выкладывайте, араб. В чем дело?
— Сегодня я встретил его — он сидел напротив префектуры, греясь на солнце. Поговорили о том, о сем, я рассказал, что сеньор Мундиньо приехал сегодня и что скоро прибудет инженер. Старик прямо озверел. Спросил, при чем здесь сеньор Мундиньо, зачем он, мол, суется туда, куда его не просят.
— Видите? — прервал капитан. — Мель…
— Нет, не только мель. Потом подошел учитель Жозуэ и сказал, что колледж получил официальный статут, полковник так и подпрыгнул. Видно, он сам обращался с ходатайством к правительству, но не сумел ничего добиться. Рассердившись, он даже стукнул палкой по земле.
Насиб остался доволен молчанием друзей и впечатлением, которое на них произвело то, что он рассказал.
Он отомстил им за конспиративный вид, с которым они сюда явились.
Скоро он узнает, что они замышляют. Капитан сказал:
— Так вы говорите, он разозлился? Ну, ничего, скоро он еще больше взбесится, этот старый колдун. Он думает, что он тут один хозяин…
— Для него Ильеус как собственная фазенда. А нас, ильеусцев, он считает своими батраками… — заметил доктор.
Мундиньо Фалкан молча улыбался. В дверях кинотеатра показались Диоженес и чета артистов. Они увидели друзей за столиком у бара и направились к ним.
Насиб сказал:
— Именно. Сеньор Мундиньо для него «чужак».
— Он так и сказал? — спросил экспортер.
— Да, это его выражение.
Мундиньо коснулся руки капитана.
— Можете договариваться, капитан. Я решил. Старик еще попляшет под нашу музыку. — Последнюю фразу он сказал для Насиба.
Капитан поднялся, допил свою рюмку, чета артистов была уже близко. «Что они, черт возьми, замышляют?» — соображал Насиб. Капитан стал прощаться:
— Извините, мне нужно идти, срочное дело.
Мужчины поднялись из-за столика, задвигали стульями. Анабела, держа раскрытый зонтик, кокетливо улыбалась. Принц, зажав длинный мундштук во рту, протягивал свою худую, нервную руку.
— Когда премьера? — спросил доктор.
— Завтра… Мы договариваемся с сеньором Диоженесом.
Хозяин кинотеатра, как всегда небритый, пояснял своим унылым и жалобным голосом псаломщика:
— Думаю, он будет иметь успех. Ребятам нравятся фокусы. И даже взрослым. Но она…
— А почему вы боитесь за нее? — спросил Мундиньо, пока Насиб подавал аперитивы.
Диоженес почесал подбородок.
— Всем известно, что Ильеус — еще отсталая провинция. На танцы, которые она исполняет почти обнаженная, семьи не пойдут.
— Зал заполнят одни мужчины… — заверил его Насиб.
Но у Диоженеса была наготове куча отговорок.
Ему не хотелось признаться, что он сам, протестант и целомудренный человек, шокирован смелыми танцами Анабелы.
— Это больше подходит для кабаре… Для эстрады в кинотеатре такие танцы не годятся.
Доктор очень вежливо и изысканно извинялся перед улыбающейся артисткой за свой город: — Сеньора, простите нас. Отсталый край здесь, передового искусства не понимают. Такие танцы у нас считаются безнравственными.
— Но это же высокое искусство, — произнес замогильным голосом фокусник.
— Конечно, конечно… Но все же…
Мундиньо Фалкан потешался:
— Однако, сеньор Диоженес…
— В кабаре она может больше заработать. Будет в кинотеатре помогать мужу, а по вечерам танцевать в кабаре.
При упоминании о большом заработке глаза принца загорелись. Анабела спросила Мундиньо:
— А вы как думаете?
— По-моему, это неплохо. Иллюзионистка в кинотеатре и танцовщица в кабаре… — Прекрасно!
— А это заинтересует хозяина кабаре?
— Сейчас узнаем… — Мундиньо обратился к Насибу; — Насиб, сделайте одолжение, пошлите мальчика за Зекой Лимой, я хочу поговорить с ним. Только побыстрее, пусть немедленно придет.
Насиб крикнул негритенку Туиске, который тут же выбежал из бара Мундиньо давал хорошие чаевые.
Араб обратил внимание, что голос экспортера звучал властно и напоминал голос полковника Рамиро Бастоса, когда тот был моложе, — это был голос человека, привыкшего повелевать, диктовать законы. Нет, что-то должно произойти.
Оживление в баре возрастало, подходили новые посетители, за столиками становилось все более шумно, Разиня Шико носился как угорелый. Снова появился Ньо Гало и присоединился к компании. Подошел и полковник Рибейриньо и стал пожирать глазами танцовщицу. Анабела блистала в мужском обществе.
Принц Сандра, сохраняя по-прежнему вид голодающего факира, сидел весьма чинно и прикидывал в уме, сколько тут можно заработать. Стоило задержаться в этом злачном месте, чтобы выкарабкаться наконец из нищеты.
— Это вы неплохо придумали с кабаре…
— А в чем дело? — поинтересовался Рибейриньо.
— Она будет танцевать в кабаре.
— А в кино?
— В кино будут только фокусы. Для семейных. В кабаре же она исполнит танец семи покрывал…
— В кабаре? Отлично… Там будет полно… Но почему она не танцует в кино? Я думал…
— У нее новейшие танцы, полковник. Покрывала спадают одно за другим…
— Одно за другим? Все семь?
— Семейным может не понравиться.
— Да, пожалуй… Одно за другим… И все? Тогда действительно лучше в кабаре… Там веселее.
Анабела рассмеялась, она смотрела на полковника обещающим взглядом. Доктор повторил:
— Отсталый край, где искусство загнано в кабаре. — Даже кухарку здесь не найдешь, — пожаловался Насиб.
Пришли учитель Жозуэ и Жоан Фулженсио. Наступил час аперитива. Бар был переполнен. Насибу пришлось самому обслуживать посетителей. Многие требовали закусок и сладостей, а араб повторял все те же объяснения и ругал старую Филомецу. Русский Яков, потный, с растрепанной рыжей шевелюрой, поинтересовался, как обстоит дело с завтрашним банкетом.
— Не беспокойтесь. Я не уличная девка, не надуваю.
Жозуэ, человек весьма воспитанный, поцеловал Анабеле руку. Жоан Фулженсио, который никогда не посещал кабаре, запротестовал против пуританства Диоженеса:
— Никакого скандала не будет. Этот протестант просто ханжа.
Мундиньо Фалкан посматривал на улицу, поджидая капитана. Время от времени он переглядывался с доктором. Насиб наблюдал за их взглядами и заметил, что нетерпение охватило экспортера. Его они не обманут — что-то замышляется. Подувший с моря ветер вырвал раскрытый зонтик из рук Анабелы, он упал рядом со столиком. Ньо Гало, Жозуэ, доктор и полковник Рибейриньо бросились поднимать его. Только Мундиньо Фалкан и принц Сандра остались сидеть. Однако поднял зонт подошедший Эзекиел Прадо, его взгляд был мутным от пьянства.
— Примите с уважением, сеньора…
Глаза Анабелы, окаймленные длинными черными ресницами, перебегали с одного мужчины на другого, задерживаясь на Рибейриньо.
— Какие воспитанные люди, — сказал принц Сандра.
Тонико Бастос, пришедший из нотариальной конторы, с подчеркнутым дружелюбием бросился в объятия Мундиньо Фал кану.
— Ну, как Рио? Как вы его нашли? Вот где жизнь…
Он изучал Анабелу взглядом испытанного покорителя сердец и самого неотразимого мужчины в городе.
— Кто меня представит? — спросил он.
Ньо Гало и доктор сели за столик для игры в триктрак. За другим столиком кто-то рассказывал Насибу чудеса о какой-то кухарке. Вторую такую нигде не найдешь… Только она живет в Ресифе, служит в семье Коутиньо влиятельных в городе людей.
— Так на кой же черт она мне сдалась?
Габриэла в пути
Пейзаж изменился. Негостеприимная каатинга[44] сменилась плодородными землями, зелеными пастбищами, густыми, труднопроходимыми лесами с реками и ручьями. То и дело лил дождь. Переселенцы заночевали недалеко от винокуренного завода в зарослях сахарного тростника, качавшегося на ветру. Какой-то батрак подробно объяснил им, как идти дальше. Еще день пути — и они будут в Ильеусе, кончится трудное путешествие, начнется новая жизнь.
— Обычно беженцы располагаются лагерем неподалеку от порта, за железной дорогой в конце базара.
— А разве не нужно сразу идти искать работу? — спросил негр Фагундес.
— Лучше обождать. Очень скоро вас придут нанимать на какаовые плантации и для работы в городе…
— Для работы в городе? — заинтересовался Клементе, лицо которого было нахмурено и озабочено; он шел, повесив гармонику на плечо.
— В городе, в городе. Берут тех, у кого есть специальность: каменщиков, плотников, маляров. В Ильеусе строят очень много домов…
— Значит, там только такая работа?
— Не только, есть работа на складах какао, в доках.
— Что касается меня, — сказал крепкий, уже немолодой сертанежо[45], - то я наймусь расчищать лес. Говорят, там можно накопить денег.
— Когда-то было так, но теперь труднее.
— Я слышал, что человека, умеющего стрелять, в городе тоже неплохо принимают… — сказал негр Фагундес, ласково поглаживая ружье.
— Когда-то было так.
— А сейчас?
— Да как сказать, спрос, конечно, есть…
Клементе не был обучен ремеслу. Он всегда работал в поле; сажать, полоть, собирать урожай — больше он ничего не умел. Он хотел устроиться на какаовую плантацию, — ведь он столько слышал о людях, которые, подобно ему, бежали из сраженного засухой сертана, чуть не умирали с голоду, а потом быстро разбогатели в этих краях. Так рассказывали в сертане. Слава об Ильеусе распространялась по всему свету, слепцы под гитару воспевали его изобилие, коммивояжеры рассказывали, будто в этих богатых краях, населенных отважными людьми, можно устроиться очень быстро, ибо не было более доходной сельскохозяйственной культуры, чем какао. Множество переселенцев прибывало из сертана, спасаясь от засухи. Они покидали бесплодную землю, где падал скот и гибли посевы; уходили, пробираясь прорубленными в чаще тропами по направлению к югу. Многие погибали в дороге, не вынеся ужасов похода, другие умирали в районе дождей, где их подстерегали тиф, малярия, оспа. Оставшиеся брели, измученные, полумертвые от усталости, но сердца их бились в ожидании последнего дня пути.
Еще небольшое усилие — и они достигнут богатого города, где так легко устроиться, они придут в край какао, где деньги валяются на улицах.
Клементе шел изрядно нагруженный. Помимо своих вещей — гармоники и полного лишь наполовину дорожного мешка, он нес узелок Габриэлы. Шли беженцы медленно, так как среди них были и старики, впрочем, и молодые уже едва переставляли ноги и двигались из последних сил. Некоторые еле плелись, ведомые одной лишь надеждой.
Только Габриэла, казалось, не чувствовала тягот пути, ее ноги легко ступали по тропе, зачастую только что прорубленной в дикой чаще ударами мачете. Для нее будто не существовало камней, пней, переплетенных лиан. Пыль дорог покрыла лицо Габриэлы таким толстым слоем, что черты его невозможно было различить, и волосы уже нельзя было расчесать обломком гребня — столько пыли они в себя вобрали. Сейчас она походила на сумасшедшую, бесцельно бредущую по дороге. Но Клементе знал, какой она была на самом деле, он помнил все ее тело: и кончики пальцев, и кожу на груди. Когда их группы встретились в начале путешествия, лицо Габриэлы и ее ноги еще не были покрыты пылью, а ее волосы, распространявшие приятный аромат, были закручены на затылке. Но и теперь, несмотря на покрывавшую ее грязь, он представлял ее такой, какой увидел в первый день, — стройная, с улыбающимся лицом, она стояла, прислонившись к дереву, и кусала сочную гуяву[46].
— По тебе не скажешь, что ты идешь издалека…
Она рассмеялась:
— Идти осталось немного. Теперь уже совсем близко. Как хорошо, что мы скоро доберемся.
Его мрачное лицо стало еще мрачнее.
— Не нахожу.
— Почему ж это ты не находишь? — Она подняла к суровому лицу мужчины глаза, глядевшие то робко и наивно, то дерзко и вызывающе. — Разве ты пустился в путь не для того, чтобы наняться на какаовую плантацию и заработать деньги? Ты ведь только об этом и говоришь.
— Ты сама знаешь почему, — проворчал он гневно. — Я бы мог идти по этой дороге всю жизнь. Для меня не имеет значения…
В ее смехе послышалась некоторая горечь, но не печаль, Габриэла покорно, словно примирившись с судьбой, сказала:
— Всему наступает конец — и хорошему, и плохому.
Гнев, яростный гнев рос в нем. Он снова, сдерживаясь, повторил вопрос, который уже не раз задавал ей на дорогах и бессонными ночами:
— Так значит, ты не хочешь отправиться со мной в леса? Вдвоем работать на плантации, сажать какао? Очень скоро мы бы обзавелись своей землей и зажили бы по-новому.
Габриэла ответила ласково, но решительно:
— Я уже говорила тебе о своих намерениях. Я останусь в городе, не хочу больше жить в лесу. Наймусь кухаркой, прачкой или прислугой… — Она добавила, с удовольствием вспомнив: — Я уже работала в доме у богатых и научилась готовить.
— Так ты ничего не достигнешь. А если бы ты согласилась работать со мной, мы могли бы накопить денег и чего-нибудь добились…
Габриэла не ответила, прыгая по ухабам. Растрепанная, грязная, с израненными ногами, едва прикрытая лохмотьями, она казалась безумной. Но Клементе видел ее стройной и прекрасной, длинноногую, с высокой грудью, с распущенными волосами, обрамлявшими тонкое лицо.
Клементе нахмурился еще больше; как бы он хотел чтобы она всегда была с ним. Как он станет жить без тепла Габриэлы? Когда в начале похода их группы встретились, он сразу заметил девушку. Она шла с больным дядей, который совсем выбился из сил и задыхался от кашля. В первые дни Клементе наблюдал за ней издалека, не решаясь даже приблизиться. А она подходила то к одному, то к другому, разговаривала с людьми, помогала им, утешала.
По ночам в каатинге, где много змей и где человека невольно охватывает страх, Клементе брал гармонику, и звуки ее прогоняли тоску и одиночество. Негр Фагу идее рассказывал о подвигах и похождениях бандитов — он раньше был связан с жагунсо и убивал людей. Фагундес подолгу смотрел на Габриэлу своими серьезными кроткими глазами и поспешно вскакивал когда она просила его сходить за водой.
Клементе играл для Габриэлы, но не осмеливался обратиться к ней. И вот однажды вечером она подошла к нему танцующей походкой и, сверкнув своими невинными глазами, завела разговор. Ее дядя неспокойно и прерывисто дышал во сне. Габриэла прислонилась к дереву. Негр Фагундес рассказывал:
— С ним было пять солдат — пять макак, которых мы прикончили ножами, чтобы не тратить зря патронов…
В темноте жуткой ночи Клементе остро чувствовал близость Габриэлы, но не находил сил даже взглянуть на дерево, к которому она прислонилась. Звуки гармоники затихли, голос Фагундеса громко раздавался в тишине. Габриэла прошептала:
— Продолжай играть, иначе они заметят.
Он заиграл мелодию сертана, горло у него перехватило, сердце замерло. Девушка тихонько запела. Уже была глубокая ночь, и угли костра умирали, когда она легла рядом с ним так, будто в этом не было ничего особенного. Ночь была такой темной, что они почти не видели друг друга.
С той чудесной ночи Клементе жил в постоянном страхе потерять ее. Поначалу он думал, что, раз так случилось, она уже не бросит его, пойдет с ним искать счастье в лесах края какао. Но вскоре он начал тревожиться. Она держалась, словно ничего между ними не произошло, вела себя с ним так же, как и с остальными. Габриэла всей душой любила смех и веселье, шутила даже с негром Фагундесом, всем улыбалась, и никто не мог ей ни в чем отказать. Но когда наступала мочь, она, уложив дядю, приходила в далекий уголок, где устраивался Клементе, и ложилась рядом, будто весь день она ни о чем другом и не думала.
На другой день, когда Клементе почувствовал, что привязался к Габриэле еще больше, когда ему казалось, что она стала частицей его самого, он хотел поговорить с ней о планах на будущее, но она лишь рассмеялась, чуть не издеваясь над ним, и ушла к дяде, который за последние дни все сильнее уставал и страшно похудел.
Однажды после полудня им пришлось остановиться: дядя Габриэлы был совсем плох. Он харкал кровью и уже не мог идти. Негр Фагундес взвалил его себе на спину, как мешок, и нес часть пути. Старик задыхался, и Габриэла не отходила от него. Он умер к вечеру, когда у него пошла горлом кровь. Урубу кружили над его трупом.
И вот Клементе увидел ее сиротой, грустной и одинокой, нуждавшейся в помощи. Впервые ему показалось, что он понял ее: она просто бедная девушка, почти девочка, которую нужно поддержать. Он подошёл к ней и долго говорил о своих планах. Ему много рассказывали о крае какао, в который они идут. Он знал людей, вышедших из Сеары без единого тостана, а всего через несколько лет приезжавших погостить домой битком набитыми деньгами. Так будет и с ним. Он хочет вырубать лес, сажать какао, иметь собственную землю, прилично зарабатывать. Только бы Габриэла пошла с ним, а когда там появится падре, они поженятся. Она покачала головой, она уже не улыбалась насмешливо, а лишь сказала:
— На плантацию я не пойду, Клементе.
Еще многие умерли в пути; тела их остались на дороге на растерзание урубу. Каатинга кончилась, начались плодородные земли, пошли дожди. Габриэла по-прежнему ложилась с Клементе, по-прежнему стонала и смеялась и спала, припав к его голой груди. Клементе становился все мрачнее. Он рисовал ей радужное будущее, но она только смеялась и качала головой, опять и опять отказывая ему. Однажды ночью он грубо оттолкнул ее от себя:
— Ты меня не любишь!
Внезапно, откуда ни возьмись, появился, сверкая глазами, негр Фагундес с ружьем в руке. Габриэла сказала:
— Ничего, Фагундес.
Она ударилась о пень, возле которого они лежали.
Фагундес наклонил голову и ушел. Габриэла засмеялась, злоба в душе Клементе росла. Он подошел к ней, схватил ее за запястья, она упала на кустарник, оцарапав лицо.
— Я готов убить тебя, да и себя тоже…
— Почему?
— Ты не любишь меня. — Дурак ты…
— Но, боже мой, что мне делать?
— Все это неважно… — сказала она и притянула его к себе. Сейчас, в последний день похода, растерянный и страстно влюбленный, он наконец решился: он останется в Ильеусе, откажется от своих планов — ведь ему нужно только одно: быть рядом с Габриэлой.
— Раз ты не хочешь идти на плантации, я постараюсь устроиться в Ильеусе. Правда, у меня нет ремесла, я ничего не умею, умею только землю обрабатывать.
Она неожиданно взяла его за руку, и он почувствовал себя счастливым победителем.
— Нет, Клементе, не оставайся. Зачем?
— То есть как зачем?
— Ты шел сюда, чтобы заработать денег, купить плантацию, стать фазендейро. Это тебе по вкусу. Зачем же тебе оставаться в Ильеусе и терпеть лишения?
— Чтобы видеть тебя, чтобы мы были вместе.
— А если мы не сможем видеться? Нет, уж лучше иди своей дорогой, а я своей. Когда-нибудь мы, может быть, встретимся. Ты станешь богатым человеком и не узнаешь меня. — Она говорила спокойно, как будто ночи, которые они провели вместе, ничего не значили, как будто они были просто знакомы.
— Но, Габриэла…
Он не знал, что ей возразить, забыл все доводы, все оскорбления, забыл о своем намерении побить ее — чтобы она знала, что с мужчиной нельзя шутить. Он едва смог выговорить:
— Ты не любишь меня…
— Хорошо, что мы встретились, путь показался мне короче.
— Ты в самом деле не хочешь, чтобы я остался?
— Зачем? Чтобы терпеть лишения? Не стоит. У тебя своя цель, добивайся ее.
— А у тебя какая цель?
— Я не хочу идти в лес, не хочу работать на плантации. Остальное одному господу богу известно.
Он замолчал. Страдание терзало его грудь, ему хотелось убить Габриэлу и покончить с собой, прежде чем они дойдут до места. Она улыбнулась:
— Все это неважно, Клементе.
ГЛАВА ВТОРАЯ Одиночество Глории (вздыхающей в своем окне)
Отсталые и невежественные, неспособные понять законы нового времени, прогресс и цивилизацию, эти люди уже не могут управлять…
(Из статьи доктора в «Диарио де Ильеус»)Жаорьа Глории
У меня в груда огонь. Ах, огонь мне грудь сжигает! (Кто сгорит в моем огне?) Дал полковник мне богатства, дал красивый дом и сад, мебель во французском стиле, стулья хрупкие под зад, шелковые дал сорочки, пеньюары из батиста, только нет таких корсажей из атласа ли, из шелка ль, из тончайшего ль батиста, чтобы усмирили пламя в моем сердце одиноком. У меня есть яркий зонтик, деньги — на ветер бросать, покупаю в лучших лавках, все велю в кредит писать. Что хочу — куплю, но только жжет огонь, в крови бушуя: для чего мне всё, когда нет того, чего хочу я? Издали глядят мужчины, женщины отводят взгляды: я ведь Глория, я девка, я полковничья услада. Простыня бела льняная, пламя в сердце, пламя в теле. Одиноко мне в постели: груди, бедра полыхают, рот мой высох, истомлен, я от жажды умираю. Я же Глория, я девка, пламя в сердце, пламя в теле, и на белом льне постели снова одинок мой сон. Глаз мой — колдовской, зазывный, грудь моя лавандой пахнет, и в груди моей огонь. Про живот не расскажу я и про уголь раскаленный, что всечасно полнит жаром одиночество мое. Тайну Глория не выдаст, ничего не расскажу я про уголь раскаленный. Ах, красавчика-студента полюбить бы я хотела, ладного солдата-хвата я б хотела полюбить. Полюбить бы я хотела, это пламя погасить, одиночество избыть. Отворите мои двери я откинула засовы, ключ не буду я вставлять. Кто придет мой жар унять, пламя Глории принять? Кто слова любви мне скажет? Многое могу я дать. Кто на лен мой белый ляжет? У меня в груди огонь. Ах! Огонь мне грудь сжигает! (Кто сгорит в моем огне?)О соблазне в окне
Дом Глории находился на углу площади, и во второй половине дня она обычно сидела у окна, выставив напоказ свою пышную грудь и как бы предлагая себя прохожим. Это шокировало идущих в церковь старых дев и ежедневно в час вечерней молитвы вызывало одни и те же замечания:
— Позор!
— Мужчины грешат, сами того не желая. Стоит им посмотреть…
— Ее вид совращает даже детей…
Суровая Доротея, одетая во все черное, как это принято у старых дев, зашептала в святом негодовании:
— Полковник Кориолано мог бы снять дом для этой девки где-нибудь на окраине. А он посадил ее на виду у достойнейших людей города. Прямо под носом у мужчин…
— Совсем рядом с церковью. Это оскорбление для бога…
Начиная с пяти часов вечера мужчины, сидевшие в переполненном баре, пялили глаза на Глорию, видневшуюся в окне на той стороне площади. Учитель Жозуэ, надев синюю в белую крапинку бабочку и намазав голову брильянтином, высокий и прямой («как печальный одинокий эвкалипт», — писал он про себя в одной поэме), со впалыми чахоточными щеками, переходил площадь и шествовал по тротуару мимо окна Глории, держа томик стихов в руке.
В дальнем углу площади, окруженный небольшим аккуратным садом, в котором росли чайные розы и белые лилии, возвышался новый дом с кустом жасмина у ворот; он принадлежал полковнику Мелку Таваресу и служил причиной долгих и ожесточенных споров в «Папелариа Модело». Дом был выстроен в стиле модерн — первое творение архитектора, которого выписал из Рио Мундиньо Фалкан. Мнения местной интеллигенции о его достоинствах разделились, и споры велись без конца. Своими четкими и простыми линиями он контрастировал с неуклюжими двухэтажными домами и низкими особняками в колониальном стиле.
Ухаживала за цветами единственная дочь Мелка, ученица монастырской школы Малвина, по которой вздыхал Жозуэ. С мечтательным видом опускалась она на колени перед цветами и была прекраснее цветов.
Каждый вечер после занятий и неизменных бесед в «Папелариа Модело» учитель шел прогуляться по площади; раз двадцать проходил он перед садом Малвины; раз двадцать его жалобный взор устремлялся на девушку с немой любовной мольбой. Завсегдатаи бара Насиба наблюдали это ежедневное паломничество, отпуская колкие замечания:
— А учитель настойчив…
— Хочет завоевать независимость и получить плантацию какао, не затрудняя себя работами по посадке.
— Отправился на покаяние… — говорили старые девы при виде запыхавшегося учителя, который появлялся на площади. Они симпатизировали ему, сочувствовали его горячей страсти, остающейся без взаимности.
— Да она просто ломака, хочет изобразить из себя важную особу. Что ей еще нужно, чем для нее не пара этот ученый юноша?
— Так ведь он бедный…
— Брак по расчету не приносит счастья. Такой хороший молодой человек, такой начитанный, даже стихи сочиняет…
Подходя к церкви, Жозуэ умерял свой торопливый шаг и снимал шляпу, низко кланяясь старым девам.
— Такой воспитанный. Такой изысканный…
— Но у него слабая грудь…
— Доктор Плинио сказал, что легкие у него в порядке. Просто он хрупкий.
— Кривляка она, и больше ничего. А все потому, что у нее смазливое личико и у отца много денег. А юноша, несчастный, так страдает… — Из плоской груди старой девы вырывался вздох.
Сопровождаемый доброжелательными замечаниями старых дев и насмешками посетителей бара, Жозуэ приближался к окну Глории. Он шел, чтобы увидеть прекрасную и холодную Малвину. Ради нее он каждый вечер совершал эту прогулку медленным шагом с книгою стихов в руках. Но мимоходом его вдохновенный взгляд останавливался на пышной, высокой груди Глории, покоившейся на подоконнике, как на голубом подносе. От груди взгляд Жозуэ поднимался к смуглому, загорелому лицу с полным, чувственным ртом и лучистыми, зовущими глазами. Мечтательные очи Жозуэ загорались грешным низменным желанием, а его бледное лицо розовело всего лишь на мгновение, ибо, миновав пользующееся дурной славой окно, оно снова становилось бледным, а взор обращался к Малвине.
Учитель Жозуэ в глубине души тоже не одобрял злополучной идеи богатого фазендейро полковника Кориолано Рибейро поселить свою столь соблазнительную и столь открыто предлагающую себя любовницу именно на площади Сан-Себастьян, где жили лучшие семьи, в двух шагах от дома полковника Мелка Тавареса. Живи Глория на какой-нибудь другой улице, более удаленной от сада Малвины, он, возможно, в одну из безлунных ночей рискнул бы получить то, что обещали зовущие глаза Глории и ее полуоткрытые губы.
— Ишь как пялит глаза на парня!..
Старые девы в длинных черных глухих платьях, с черными шалями на плечах казались ночными птицами, опустившимися на паперть маленькой церкви. Они видели, как, поворачивая голову, Глория следила за Жозуэ во время его прогулок перед домом полковника Мелка.
— Он порядочный молодой человек. Смотрит только на Малвину.
— Я буду молиться святому Себастьяну, — сказала толстенькая Кинкина, чтобы Малвина полюбила его. Я поставлю святому самую большую свечу.
— И я… — вставила худенькая Флорзинья, во всем солидарная с сестрой.
Вздохи Глории, сидевшей у окна, походили на стоны. Тоска, печаль, негодование сливались в этих вздохах, которые оглашали площадь.
Она была преисполнена негодования против мужчин вообще. Все они были трусы и лицемеры. Когда в часы послеобеденного зноя площадь пустела и окна домов закрывались, мужчины, проходя перед открытым окном Глории, улыбались ей, умоляли ее взглядом и приветствовали ее с явным волнением. Но если кто-нибудь оказывался на площади, хотя бы одна-единственная старая дева, или мужчина шел не один, он сразу отворачивался, упорно смотрел в другую сторону, как будто ему было противно видеть Глорию с ее пышной грудью, выпиравшей из вышитой батистовой блузки.
Они напускали на себя вид оскорбленной невинности, даже если раньше, когда были одни, говорили ей любезности. Глория охотно распахнула бы окно так, чтобы ударить кого-нибудь из них по физиономии, но, увы, она была не в силах совершить это — ведь искра желания, тлевшая в глазах мужчин, была единственным утешением в ее одиночестве. Эта искра и так не могла утолить ее жажды и ее голода. Но если бы Глория ударила кого-либо рамой, то лишилась бы даже произнесенных украдкой робких слов. В Ильеусе не было замужней женщины (а в Ильеусе все замужние женщины жили строго, никуда не ходили и занимались только хозяйством), которую бы так надежно охраняли и которая была бы так недоступна, как эта содержанка.
С полковником Кориолано шутки плохи.
Его так боялись, что с бедной Глорией не решались даже здороваться. Только Жозуэ был немного смелее.
Каждый вечер, когда он шел мимо окна Глории, его взгляд загорался — и романтически гас перед воротами Малвины. Глория знала о страсти учителя и тоже чувствовала неприязнь к девушке, остававшейся безразличной к такой любви. Она называла ее тошнотворной дурой. Зная о страсти Жозуэ, Глория все же не переставала улыбаться той же зовущей и обещающей улыбкой и была ему благодарна, поскольку он никогда, даже в тех случаях, когда Малвина оказывалась у ворот дома под цветущим кустом жасмина, не отворачивался от нее, Глории. Ах, если бы он был посмелее и толкнул ночью входную дверь, которую Глория оставляла открытой… Как знать? А вдруг… Уж тогда бы она заставила его забыть гордую девушку.
Но Жозуэ не решался толкнуть массивную входную дверь. Да и никто другой не осмеливался. Мужчины боялись острых языков старых дев, сплетен и скандала, а в особенности полковника Кориолано Рибейро.
Ведь все знали историю Жуки и Шикиньи.
В тот день Жозуэ пришел немного раньше, в час сиесты, когда площадь уже опустела. Публики в баре осталось немного, там сидело лишь несколько коммивояжеров и доктор с капитаном, игравшие в шашки. Энох, решив отпраздновать получение колледжем официального статута, распустил после завтрака всех учащихся по домам. Учитель Жозуэ побывал на невольничьем рынке, где наблюдал прибытие многочисленной группы беженцев, потолковал в «Папелариа Модело», а теперь пил коктейль в баре, беседуя с Насибом.
— Масса беженцев. Засуха пожирает сертап.
— А женщины есть среди них? — поинтересовался Наеиб.
Жозуэ захотел узнать причину этого интереса!
— Вам что, не хватает женщин?
— Вы шутите, а у меня кухарка уехала, и я ищу новую. Иногда среди этих беженок попадаются подходящие…
— Там есть несколько женщин, но выглядят они ужасно. Одеты в лохмотья, грязные и словно зачумленные…
— Попозже схожу туда, может, кого и найдут Малвина не показывалась в воротах, и Жозуэ начинал проявлять нетерпение. Насиб сообщил:
— Девочка сейчас на набережной. Она совсем недавно пошла туда с подругами…
Жозуэ сейчас же расплатился и поднялся. Насиб стоял в дверях бара, наблюдая, как он уходит, должно быть, приятно почувствовать себя влюбленным. Пожалуй, когда девушка не обращает на тебя внимания, она становится еще более желанной. Рано или поздно такая любовь должна кончиться браком. Глория появилась в окне, глаза Насиба загорелись. Если когда-нибудь полковник ее бросит, все ильеусские мужчины начнут за ней охотиться. Но и тогда ему, Насибу, не заполучить ее, богатые полковники не допустят этого.
Подносы со сладостями и закусками наконец прибыли, любители аперитивов будут теперь довольны. Однако не может же он всегда платить такие огромные деньги сестрам Рейс. Когда ближе к вечеру посетителей станет поменьше, он сходит посмотреть на беженцев.
Как знать, а вдруг ему повезет и он найдет там кухарку.
Неожиданно послеобеденная тишина была нарушена громким рокотом голосов и криками. Капитан прервал игру и застыл с шашкой в руке, Насиб сделал шаг вперед. Шум усиливался.
Негритенок Туиска, продававший сладости сестер Рейс, примчался с набережной, держа поднос на голове. Он что-то крикнул, но никто ничего не понял. Капитан и доктор с любопытством обернулись, посетители встали. Насиб увидел Жозуэ и с ним еще несколько человек, торопливо идущих по направлению к набережной. Наконец удалось разобрать слова негритенка Туиски:
— Полковник Жезуино убил дону Синьязинью и доктора Осмундо. Сколько там крови!..
Капитан оттолкнул столик с шашечной доской и выскочил из бара. Доктор заторопился вслед за ним.
После минутной нерешительности Насиб бросился их догонять.
О жестоком законе
Известие об убийстве распространилось по всему городу тотчас же. На холме Уньан и на холме Конкиста, в изящных особняках на набережной и в лачугах Острова Змей, в Понтале и в Мальядо, в порядочных домах и в домах терпимости — всюду обсуждалось это ужасное происшествие. К тому же был базарный день, и в город съехалось много народу из провинции — из поселков и с плантаций, все хотели что-то продать и что-то приобрести. В магазинах, в бакалейных лавках, в аптеках и врачебных кабинетах, в конторах адвокатов и конторах по экспорту какао, в соборе святого Георгия и в церкви святого Себастьяна только и было разговоров, что об убийстве.
Особенно много толковали об этом в барах, где, как только стало известно о происшествии, сразу собралось много народу. В том числе и в баре «Везувий», расположенном поблизости от места трагедии. У дома дантиста — маленького бунгало на набережной — столпились любопытные. Стоявший у дверей полицейский давал объяснения. Люди окружили растерявшуюся и перепуганную горничную и выспрашивали у нее подробности. Девушки из монастырской школы, охваченные каким-то радостным возбуждением, расхаживали по набережной и шепотом тоже обсуждали происшедшее.
Учитель Жозуэ воспользовался случаем, чтобы подойти к Малвине, он напомнил девушкам о судьбе прославленных любовников: Ромео и Джульетты, Элоизы и Абеляра[47], Дирсеу[48] и Марилии.
Потом почти все те, кто находился у дома дантиста, оказались в баре Насиба, все столики были заняты, разгорелись споры. Все единодушно оправдывали фазендейро, и не раздалось ни одного голоса — даже на церковной паперти — в защиту бедной прекрасной Синъязиньи. Полковник Жезуино снова проявил себя сильным, решительным, храбрым и честным человеком, что он, впрочем, не раз доказывал еще во времена борьбы за землю. Как говорили, многие кресты на кладбище и по обочинам дорог появлялись благодаря его жагунсо, слава о которых живет и по сей день. Полковник не только пользовался услугами жагунсо, но и лично командовал ими в таких ставших знаменитыми операциях, как стычка с людьми покойного майора Фортунато Перейры на перекрестке Боа Морте и на опасных дорогах Феррадаса. Полковник Жезуино был человеком бесстрашным и волевым.
Жезуино Мендонса, происходивший из известной в Алагоасе семьи, прибыл в Ильеус совсем молодым, когда велась борьба за землю. Он расчищал селву и. насаждал плантации, с оружием в руках оспаривал свое право на землю, его владения постепенно разрастались, и имя его произносили со все большим уважением. Он женился на Синьязинье Гедес, красавице из старинной ильеусской семьи, унаследовавшей после смерти родителей какаовые рощи в районе Оливенсы.
Синьязинья была почти на двадцать лет моложе мужа, любила хорошо одеться, охотно руководила устройством церковных праздников в честь святого Себастьяна и приходилась дальней родственницей доктору. Она подолгу жила на фазенде и никогда за все годы замужества не подала многочисленным городским сплетникам никакого повода для злословия. И вот совершенно неожиданно, в сияющий солнечный день, в спокойный час сиесты полковник Жезуино Мендонса разрядил свой револьвер в жену и любовника, взволновав этим весь город и снова перенеся его в забытую эпоху кровопролитий. Даже Насиб забыл о том, что все еще не нашел кухарки, капитан и доктор оставили свои политические дела, а полковник Рамиро Бастос перестал думать о Мундиньо Фалкане. Известие распространилось с быстротой молнии, и уважение и восхищение, которыми и прежде была окружена худая и несколько мрачная фигура фазендейро, теперь возросли еще больше. Ибо так было заведено в Ильеусе: оскорбление, нанесенное обманутому мужу, могло быть смыто только кровью.
Так было заведено. В районе, где еще недавно то и дело возникали вооруженные столкновения, где дороги для караванов ослов и даже для грузовиков прокладывались по просекам, прорубленным жагунсо, и были отмечены крестами, напоминавшими об убитых, человеческая жизнь ценилась дешево, и не было иного наказания для изменившей жены, как смерть ее и любовника. Появление этого старинного закона относится к началу эры какао, он никогда не был записан на бумаге или занесен в кодекс, но тем не менее он был самым действенным из всех законов; и суд присяжных, собиравшийся для того, чтобы решить судьбу убийцы, всякий раз единогласно подтверждал эту традицию, находя способ обойти закон, предписывающий осудить того, кто убивает ближнего.
Несмотря на возникшую недавно конкуренцию трех местных кинотеатров, балов и танцевальных вечеров в клубе «Прогресс», футбольных матчей по воскресеньям и лекций литераторов из Баии и даже из Рио, приезжавших в Ильеус, чтобы поживиться несколькими мильрейсами в этом некультурном и богатом крае, заседания суда присяжных, собиравшиеся два раза в год, все еще оставались самыми интересными и популярными развлечениями в городе. В Ильеусе имелись известные адвокаты, такие, как Эзекиел Прадо, Маурисио Каирес и свирепый Жоан Пейшото с раскатистым басом. Это были признанные ораторы, выдающиеся риторы, заставлявшие публику трепетать и плакать. Маурисио Каирес, горячо преданный церкви и ее служителям, председатель братства святого Георгия, знал Библию наизусть и часто цитировал ее. Он учился в семинарии до того, как поступил на факультет права, часто прибегал к латыни, и некоторые считали, что он обладает не меньшей эрудицией, чем доктор.
В суде ораторские дуэли длились часами, в ответ на реплику тотчас раздавалась другая; заседания, представлявшие собой самые значительные события в культурной жизни Ильеуса, продолжались иной раз до рассвета.
Жители Ильеуса заключали крупные пари — оправдают или осудят виновного. Они любили азартные игры, и им было достаточно любого предлога. Иногда, теперь уже реже, после решения суда присяжных завязывалась перестрелка и следовало новое убийство.
Полковник Педро Брандан, например, был убит на лестнице префектуры, после того как суд присяжных его оправдал: сын Шико Мартинса, зверски убитого полковником и его жагунсо, совершил правосудие своими руками.
Никаких пари, однако, не заключалось, если суд присяжных собирался, чтобы вынести решение по делу об убийстве неверной жены: все знали, что неизбежным и справедливым будет единодушное оправдание оскорбленного мужа, и в суд шли лишь затем, чтобы послушать речи прокурора и адвоката, а также чтобы узнать пикантные подробности; что же касается скучной судебной процедуры и пустой болтовни законников, то это никого не интересовало. Убийцу еще ни разу не осудили, это противоречило бы закону края: обманутый муж только кровью может смыть оскорбление.
Убийство Синьязиньи и дантиста вызвало горячие толки, оно обсуждалось повсюду. Высказывались различные версии, следовали противоречивые подробности; но все были единодушны в одном: полковник заслуживает оправдания, а его мужественный поступок — одобрения.
О черных чулках
По базарным дням посетителей в баре «Везувий»
было всегда больше обычного, но в день убийства их было особенно много, причем все они были охвачены каким-то праздничным оживлением. Помимо завсегдатаев — любителей аперитива — и провинциалов, приехавших на рынок, явилось бесчисленное множество людей, желавших узнать и обсудить новость. Сначала они шли на набережную поглазеть на дом дантиста, а затем обосновывались в баре.
— Кто бы мог подумать! Ведь она буквально не выходила из церкви…
Насиб, сам метавшийся от столика к столику, подгонял своих служащих и в уме прикидывал выручку.
Такое бы преступление каждый день — и он очень скоро купил бы плантацию какао, о которой давно мечтает!
Мундиньо Фалкан, назначивший встречу с Кловисом Костой в баре «Везувий», сразу попал в атмосферу бурных дебатов. Он безразлично улыбался, озабоченный своими политическими проектами, которым уже отдался всецело. Таков уж был Мундииьо Фалкан: если он что-нибудь задумывал, то не успокаивался до тех пор, пока не приводил замысел в исполнение. Но доктора и капитана сейчас, казалось, не интересовало ничто, кроме убийства, будто утром между ними не было никакого разговора. Мундиньо ограничился тем, что выразил сожаление по поводу смерти дантиста, его соседа и одного из его немногих компаньонов по морским купаниям, которые считались в те времена в Ильеусе чуть не скандалом. Горячий и темпераментный доктор чувствовал себя отлично в этой тревожной обстановке.
Историю Синьязиньи он использовал как предлог для того, чтобы воскресить память Офенизии, возлюбленной императора:
— Дона Синьязинья была, кстати, дальней родственницей Авила, а это род романтических женщин.
Она, должно быть, унаследовала горькую судьбу первой из них.
— А что это за Офенизия? Кто она такая? — поинтересовался торговец из Рио-до-Брасо, приехавший в Ильеус на базар и желавший увезти к себе в поселок самый обширный и полный ассортимент подробностей убийства.
— Моя прародительница; она обладала роковой красотой, которая вдохновила поэта Теодоро де Кастро и внушила страстную любовь дону Педро Второму. Офенизия умерла с горя, потому что не смогла отправиться вместе с ним…
— Куда?
— Хм, куда… — сострил Жоан Фулжепсио. — В постель, куда же еще…
Но доктор продолжал серьезно:
— Ко двору. Она была готова стать его любовницей, и брату пришлось запереть ее на семь замков. Брат — полковник Луис Антонио д'Авила — принимал участие в войне с Парагваем. А Офенизия умерла с горя. В жилах доны Синьязиньи текла кровь Офенизии, кровь рода Авила, над которым тяготеет рок.
Появился запыхавшийся Ньо Гало и во всеуслышание сообщил новость:
— Жезуино получил анонимное письмо.
— Кто бы мог его написать?
Все молча погрузились в размышления, Мундиньо воспользовался этим, чтобы тихо спросить капитана:
— Ну а как Кловис Коста? Вы говорили с ним?
— Он был занят — писал об убийстве. Поэтому задержал выпуск газеты. Мы договорились встретиться вечером у него дома.
— Тогда я пошел…
— Уже? Разве вас не интересуют дальнейшие подробности?
— Я ведь не местный… — рассмеялся экспортер.
Подобное безразличие к острому и вкусному блюду вызвало всеобщее изумление. Мундиньо пересек площадь и встретился с группой учениц монастырской школы, которых сопровождал учитель Жозуэ. При приближении экспортера глаза Малвины засияли, она заулыбалась и оправила платье. Жозуэ, счастливый, что очутился в обществе Малвины, поздравил еще раз Мундиньо с тем, что тот добился официального статута для колледжа.
— Теперь Ильеус обязан вам и этим благодеянием…
— Ну что вы. Это было совсем несложно… — Мундиньо напоминал принца, великодушно дарящего дворянские титулы, деньги и милости.
— А что вы, сеньор, думаете об убийстве? — спросила Ирасема, пылкая шатенка, о которой уже сплетничали, будто она слишком долго кокетничает с поклонниками у ворот своего дома.
Малвина подалась вперед, чтобы услышать ответ Мундиньо. Тот развел руками.
— Всегда грустно узнать о смерти красивой женщины. В особенности о такой страшной смерти. Красивую женщину нужно почитать как святыню.
— Но она обманывала мужа, — возмущенно заявила Селестина, еще совсем молоденькая, но рассуждающая как старая дева.
— Если выбирать между смертью и любовью, я предпочитаю любовь…
— Вы тоже пишете стихи? — улыбнулась Малвина.
— Я? Нет, сеньорита, у меня нет поэтического дара. Вот наш учитель поэт.
— А я подумала… Ваши слова так напоминали стихи…
— Прекрасные слова, — поддержал ее Жозуэ.
Мундиньо впервые обратил внимание на Малвину.
Красивая девушка. Она не сводила с него глаз, глубоких и таинственных.
— Вы так говорите потому, что вы одиноки, — многозначительно сказала Селестина.
— А вы, сеньорита, разве не одиноки?
Все рассмеялись. Мундиньо простился. Малвина проводила его задумчивым взглядом. Ирасема рассмеялась почти дерзко.
— Уж этот сеньор Мундиньо… — И, наблюдая, как экспортер удаляется по направлению к дому, заметила: — А он интересный…
Ари Сантос, печатавшийся под псевдонимом Ариосто в отделе хроники «Диарио де Ильеус», служащий экспортной фирмы и председатель общества имени Руя Барбозы, нагнулся над столиком бара и зашептал:
— Она была голенькая… — Совсем?
— Совершенно голая? — тоном лакомки спросил капитан.
— Совсем, совсем… На ней были только черные чулки.
— Черные? — Ньо Гало был изумлен.
— Черные чулки! — Капитан щелкнул языком.
— Это распутство… — осуждающе сказал Маурисио Каирес.
— Должно быть, это красиво. — Араб Насиб, стоявший рядом, представил себе обнаженную дону Синьязинью в черных чулках и вздохнул.
Подробности убийства стали известны впоследствии из протоколов суда. Безусловно хороший дантист Осмундо Пиментел был столичным молодым человеком — он родился и воспитывался в Баие; оттуда он, получив диплом, и приехал в Ильеус всего несколько месяцев назад, привлеченный славой богатого и процветающего края. Устроился он неплохо. Снял бунгало на набережной и оборудовал в нем зубоврачебный кабинет, в комнате, выходящей на улицу. Прохожие могли, таким образом, видеть через широкое окно с десяти до двенадцати часов утра и с трех до шести дня новенькое, сияющее металлом кресло японского производства, а около кресла — элегантного дантиста в белоснежном халате, занятого зубами пациента. Отец дал Осмундо средства на оборудование кабинета, а также переводил в первые месяцы деньги на расходы — он был в Баие солидным торговцем, держал магазин на улице Чили. Зубоврачебный кабинет был оборудован в первой комнате, фазендейро же нашел жену в спальне, на ней, как рассказывал Ари и как стало известно из протоколов суда, были лишь «развратные черные чулки». Что же касается Осмундо Пиментел а, тот был вовсе босой, без носков какого бы то ни было цвета и вообще без всякой другой одежды, которая прикрывала бы его гордую, торжествующую молодость. Фазендейро недрогнувшей рукой выстрелил по два раза в каждого из любовников. Он стрелял на редкость метко и научился попадать в цель в ночных перестрелках на-темных дорогах.
Бар был переполнен, Насиб работал не покладая рук. Разиня Шико и Бико Фино бегали от столика к столику, обслуживая посетителей, и старались уловить из разговоров еще какую-нибудь подробность об убийстве. Негритенок Туиска помогал им, но был озабочен: кто ему теперь оплатит недельный счет за сладости для дантиста, которому он ежедневно приносил домой пирог из кукурузы и сладкой маниоки, а также маниоковый кускус? Иногда, оглядывая битком набитый бар и видя, что сладости и закуски с подноса, присланного сестрами Рейс, уже исчезли, Насиб поминал недобрым словом старую Филомену. Нужно же ей было уйти, оставив его без кухарки именно в такой день, когда произошло столько событий. Расхаживая от столика к столику, Насиб вступал в разговоры, выпивал с друзьями и все же не мог с полным удовольствием, всласть обсудить подробности трагедии: его беспокоила забота о кухарке. Не каждый день случаются истории, подобные этой, где есть все: и запретная любовь, и смертельная месть, и такие сочные детали, как черные чулки.
А он, как нарочно, должен идти искать кухарку среди беженцев, прибывших на невольничий рынок.
Разиня Шико, неисправимый лентяй, разнося бутылки и бокалы, то и дело останавливался послушать, что говорят.
Насиб торопил его:
— Давай, давай, пошевеливайся…
Шико останавливался у столиков, ведь и ему хотелось услышать новости, узнать поподробнее о черных чулках.
— Тончайшие, мой дорогой, заграничные… — Ари Сантос сообщал новые сведения. — Таких в Ильеусе не сыщешь…
— Конечно, он их выписал из Баии. Из отцовского магазина.
— Вот это да! — Полковник Мануэл Ягуар разинул рот от удивления. — Чего только не случается в этом мире…
— Когда вошел Жезуино, они были в объятиях друг друга и ничего не слышали.
— А ведь горничная закричала, когда увидела Жезуино…
— В такие минуты ничего не слышишь… — сказал капитан.
— Но полковник молодец, свершил правосудие…
Маурисио, казалось, уже готовил речь для суда:
— Он сделал то, что сделал бы каждый из нас в подобных обстоятельствах. Он поступил как порядочный человек: не для того он родился, чтобы стать рогоносцем. Есть лишь один способ вырвать рога — он его и применил.
Беседа становилась всеобщей, посетители, сидевшие за разными столиками, громко переговаривались, но ни один голос в этой шумной ассамблее, где собрались видные люди города, не поднялся в защиту внезапно вспыхнувшего чувства Синьязиньи, ее желаний, которые спали тридцать пять лет и вдруг, разбуженные вкрадчивыми речами дантиста, превратились в бурную страсть. Ее внушили и эти вкрадчивые речи, и волнистые кудри, и проникающие в душу грустные глаза, похожие на глаза пронзенного стрелами святого Себастьяна в главном алтаре маленькой церковки на площади, по соседству с баром. Ари Сантос, бывавший вместе с дантистом на литературных собраниях общества Руя Барбозы, где для избранной аудитории по воскресным утрам декламировались стихи и читались прозаические произведения, рассказывал, как все началось. Сначала Синьязинья нашла, что Осмундо похож на святого Себастьяна, которому она молилась, говорила, что у дантиста такие же, как у него, глаза.
— А все потому, что она слишком часто ходила в церковь… — заметил Ньо Гало, закоренелый безбожник.
— Именно… — согласился полковник Рибейриньо. — От замужней женщины, которая шагу не может ступить без падре, добра не жди.
Ему нужно было запломбировать еще три зуба, поэтому он с особой грустью вспоминал сладкий голос дантиста под жужжание японской бормашины, его красивые фразы и образные сравнения, похожие на стихи…
— У него была поэтическая жилка, — заметил доктор. — Однажды он продекламировал мне несколько прелестных сонетов. Превосходные стихи, достойные Олаво Билака[49].
Дантист, так непохожий на сурового и угрюмого мужа, который был лет на двадцать старше Синьязиньи, был на двенадцать лет моложе ее! А эти умоляющие глаза святого Себастьяна! Боже мой! Какая женщина — женщина в расцвете лет да еще замужем за стариком, который больше времени проводит на плантации, чем дома, которому она уже надоела, который не пропускает ни одной мулаточки на фазенде, который неотесан и груб, — какая женщина особенно если у нее нет забот о детях — смогла бы устоять?
— Не защищайте вы эту бесстыдницу, дорогой сеньор Ари Сантос… прервал его Маурисио Каирес. — Честная женщина — это неприступная крепость.
— Кровь… — мрачно сказал доктор, словно на него легло бремя вечного проклятия. — Кровь рода Авила, — кровь Офенизии.
— И вы считаете, что во всем виновата наследственность? Сравниваете платоническую любовь, которая не пошла дальше взглядов и не имела никаких последствий, с этой грязной оргией. Сравниваете невинную благородную девушку с этой распутницей, а нашего мудрого добродетельного императора с этим развратным дантистом…
— Я не сравниваю. Я лишь говорю о наследственности, о крови моих предков…
— И я никого не защищаю, — поспешил заверить Ари, — я просто рассказываю.
— Синьязинью перестали интересовать церковные праздники. Она начала посещать танцевальные вечера в клубе «Прогресс»…
— Вот вам пример разложения нравов… — вставил Маурисио.
— …и продолжала лечение, только уже без бормашины и не в сверкающем металлическом кресле, а в постели.
Юный Шико, стоя с бутылкой и стаканом в руках, жадно ловил эти подробности, вытаращив глаза и раскрыв рот в глупой улыбке. Ари Сантос заключил свою речь фразой, которая показалась ему лапидарной:
— Вот так судьба превратила честную, набожную и скромную женщину в героиню трагедии.
— Героиню? Вы мне своей литературщиной голову не морочьте. Не оправдывайте эту грешницу, иначе куда мы тогда придем? — Маурисио угрожающе вытянул руку. — Все это — результат разложения нравов, которое в нашем городе становится угрожающим: балы, танцульки, бесконечные вечеринки, флирт в темноте кинозалов. Кино учит, как обманывать мужей, и тоже ведет к упадку нравственности.
— Не сваливайте вину на кино и на балы, сеньор. Жены изменяли мужьям и задолго до кино и до балов. Начало положила Ева со змием… — засмеялся Жоан Фулженсио.
Капитан его поддержал. Адвокат преувеличивает опасность. Он, капитан, тоже не оправдывает замужнюю женщину, забывшую свой долг. Но из этого не следует, что нужно обрушиваться на клуб «Прогресс», на кино… Почему он не обвиняет мужей, которые не уделяют внимания женам, обращаются с ними как со служанками и дарят драгоценности, духи, дорогие платья, предметы роскоши девицам легкого поведения, этим мулаткам, которых они содержат и для которых они снимают дома? Хотя бы богатый особняк Глории на площади. Глория одевается лучше любой сеньоры, а тратит ли полковник Кориолано столько же на свою жену?
— Его жена такая же развалина, как и он…
— Я говорю не о ней, а о том, что вообще у нас происходит. Так это или не так?
— Замужняя женщина должна сидеть дома, воспитывать детей, заботиться о муже и семье…
— А девочки для того, чтобы проматывать деньги?
— Я не считаю, что дантист так уж виноват. В конце концов… — Жоан Фулженсио вмешался в спор: необдуманные слова капитана могли быть дурно истолкованы присутствующими фазендейро. — Дантист был холост, молод, его сердце было свободно. Он не был виноват в том, что женщина находила его похожим на святого Себастьяна. Он не был католиком, вместе с Диоженесом они были единственными протестантами в городе…
— Он далее не был католиком, сеньор Маурисио.
— Но почему он не подумал, прежде чем улечься с замужней женщиной, о незапятнанной чести ее мужа? — спросил адвокат.
— Женщина — это соблазн, это дьявол; из-за нее мы теряем голову.
— И вы думаете, что она сама ни с того ни с сего бросилась ему в объятия? Что он, бедняга, ничего не сделал для этого?
Присутствующих увлек спор между двумя уважаемыми интеллигентами адвокатом и Жоаном Фулженсио, из которых один держался строго и агрессивно, выступая как непреклонный блюститель морали, а другой добродушно улыбался, любил пошутить и поиронизировать, у него никогда нельзя было понять, говорит он серьезно или шутит. Насиб любил слушать подобные споры. К тому же тут еще присутствовали и могли принять участие в дискуссии доктор, капитан, Ньо Гало, Ари Сантос…
Жоан Фулженсио не считал, что Синьязинья могла сама броситься в объятия дантиста. Очевидно, он говорил ей любезности, вполне возможно. Но, спрашивал он, не является ли это первой обязанностью хорошего дантиста, который должен вежливо обходиться с пациентками, перепуганными его инструментами, бормашиной и этим страшным креслом? Осмундо был хорошим зубным врачом, одним из лучших в Ильеусе, кто станет это отрицать? Но кто будет отрицать и то, что зубные врачи внушают всем страх?.. Потому нелепо осуждать любезность врача, который хочет создать соответствующую обстановку, прогнать страх пациента, внушить доверие.
— Обязанность дантиста — лечить зубы, друг мой, а не читать стихи красивым пациенткам. Я уже говорил и повторю еще раз, что безнравственность, свойственная большим городам, грозит воцариться и у нас. Ильеусское общество пропитывается ядом, или, вернее, грязью разложения…
— Это прогресс, доктор…
— Этот прогресс я называю безнравственностью… — Он обвел бар свирепым взглядом. Разиня Шико даже вздрогнул.
Послышался гнусавый голос Ньо Гало:
— О каких нравах вы говорите? О балах, о кино?.. Но я живу здесь уже больше двадцати лет, и всегда в Ильеусе были кабаре, пьянство, азартные игры, женщины легкого поведения… Все это не сегодня появилось. Это было всегда.
— Но посещали кабаре, пьянствовали и играли в азартные игры мужчины. Я не могу сказать, что одобряю их поведение, но оно не так сильно разлагает семью, как клубы, куда молоденькие девушки и дамы ходят танцевать, забывая о семейных обязанностях. Кино — это школа распутства…
Тогда капитан поставил другой вопрос: как мог мужчина — и это тоже дело чести — отвергнуть красивую женщину, если эта женщина, считающая его похожим на святого, взбудораженная его словами и одурманенная ароматом его черных кудрей, пала в его объятия, ибо, вылечив ей зубы, он навеки ранил ее сердце? У мужчины тоже есть своя честь. По мнению капитана, дантист сам был жертвой; он скорее достоин сострадания, чем осуждения.
— Как бы вы поступили, сеньор Маурисио, если бы дона Синьязинья, божественно сложенная дона Синьязинья, в одних черных чулках бросилась вам в объятия? Побежали бы звать на помощь?
Некоторые из слушателей — араб Насиб, полковник Рибейриньо, даже седовласый полковник Мануэл Ягуар — подумали над заданным вопросом и решили, что ответить на него невозможно. Все они знали дону Синьязинью, не раз видели, как она с серьезным и сосредоточенным видом в глухом платье переходит площадь, направляясь в церковь… Разиня Шико, забыв о том, что ему надо обслуживать посетителей, вздохнул, представив себе обнаженную Синьязинью, бросающуюся ему в объятия. Но тут на него обрушился Насиб:
— А ну поворачивайся, парень. Это еще что за новости?!
Сеньор Маурисио уже полностью почувствовал себя в суде присяжных. Vade retro![50]
Дантист, правда, не был тем невинным юношей, каким его описал капитан (он чуть не назвал его «уважаемый коллега»). Но, чтобы ответить Маурисио, капитан обратился к Библии, этой книге книг, и упомянул для сравнения Иосифа…
— Какой Иосиф?
— Тот, которого искушала жена фараона…
— Ну, этот тип был, видно, неполноценным… — рассмеялся Ньо Гало.
Маурисио испепелил его взором.
— Такие шутки тут неуместны. Вовсе он не был невинным агнцем, этот Осмундо. Может быть, он был хорошим дантистом, но, несомненно, представлял угрозу для ильеусских семей…
И он обрушился на Осмундо так, будто находился перед судьей и присяжными: верно, что Осмундо хорошо изъяснялся и изысканно одевался, но к чему эта элегантность в городе, где фазендейро расхаживают в бриджах и высоких сапогах? Не является ли она доказательством упадка нравов и морального разложения?
Уже вскоре после его прибытия в город выяснилось, что он отлично танцует аргентинское танго. А все этот клуб, куда по субботам и воскресеньям девушки, юноши и замужние женщины приходят скакать… Этот самый клуб «Прогресс», который лучше было бы назвать «Клубом разврата»… Там ведь все теряют остатки стыда и скромности. Этот мотылек Осмундо влюбил в себя за восемь месяцев пребывания в Ильеусе с полдюжины самых красивых девушек, порхая с легким сердцем от одной к другой. Однако девушки на выданье его не интересовали, он хотел обладать замужней женщиной, чтобы кормиться на дармовщину за чужим столом.
Осмундо — один из тех бездельников, которые начинают появляться на улицах Ильеуса.
Он откашлялся и склонил голову, как бы благодаря за аплодисменты, которые часто раздаются в суде, несмотря на неоднократные запрещения судьи.
Но и в баре тоже зааплодировали.
— Хорошо сказано… — одобрил фазендейро Мануэл Ягуар.
— Без сомнения, — поддержал его Рибейриньо, — Жезуино подал хороший пример, он поступил как следовало.
— Не спорю, — сказал капитан. — Но, по сути, вы, сеньор Маурисио, и многие другие против прогресса.
— С каких это пор прогресс означает безнравственность?
— Вы против прогресса, и не говорите мне о безнравственности в городе, где полно кабаре и падших женщин, где каждый богатый человек имеет содержанку. Вы против кино, клубов, даже против семейных вечеринок. Вы хотите, чтобы жены не выходили из кухни…
— Домашний очаг — цитадель добродетельной женщины.
— Что касается меня, то я не против клубов, — заявил полковник Мануэл Ягуар. — Я даже люблю сходить в кино, посмеяться, когда идет веселый фильм. Правда, шаркать ногами — это уж увольте: я не в том возрасте. Но это одно, и совсем другое — считать, что замужняя женщина имеет право обманывать мужа.
— А кто это говорит? Кто с этим может согласиться?
Даже капитан, человек бывалый, живший в Рио и осуждавший многие обычаи Ильеуса, даже он не нашел в себе мужества выступить против жестокого закона. Столь сурового и неумолимого, что бедный доктор Фелисмино, врач, прибывший несколько лет тому назад в Ильеус, чтобы открыть клинику, не смог здесь работать, после того как обнаружил связь своей жены Риты с агрономом Раулом Лимой и прогнал ее к любовнику. Он был, впрочем, счастлив неожиданной возможности освободиться от нелюбимой жены, с которой повенчался неизвестно почему. Он никогда еще не был так доволен, как в день, когда обнаружил адюльтер: обманувшемуся относительно его намерений агроному пришлось полуголому бежать по улицам Ильеуса. Фелисмино счел, что нет мести лучше, утонченней и страшней, чем переложить на плечи любовника мотовство Риты, ее пристрастие к роскоши, ее невыносимый характер. Но жители Ильеуса не обладали развитым чувством юмора, никто доктора не понял: его сочли циником, трусом и безнравственным человеком; клиентура, которую он уже приобрел, рассеялась, некоторые даже перестали подавать ему руку, его прозвали «мерином».
Очутившись в безвыходном положении, Фелисмино вынужден был уехать.
О законе для наложниц
В этот день в шумном, почти как в праздники, баре вспомнили, кроме грустного приключения доктора Фелисмино, и многие другие истории. Как правило, все истории были устрашающие: с любовью, изменой и местью. И вполне естественно, поскольку Глория, как всегда, сидела у окна в своем доме неподалеку от бара, мучимая тревогой и одиночеством (ее служанка расхаживала среди зевак по набережной и даже забегала в «Везувий», чтобы узнать последние новости), кто-то вспомнил нашумевшую историю Жуки Вианы и Шикиньи. Конечно, она не шла в сравнение со случившимся сегодня, ведь полковники применяли смертную казнь лишь в случае измены жены. Содержанка же того не заслуживала. Так думал и полковник Кориолано Рибейро.
Когда полковники узнавали о неверности женщин, которых они содержали, либо оплачивая им комнату, еду и роскошную обстановку в пансионах для проституток, либо снимая для них дом на малолюдных улицах, — то они удовлетворялись тем, что попросту бросали их, лишая тем самым комфортабельных условий, и заводили другую женщину. И все же случались перестрелки и убийства из-за любовниц. Разве не обменялись недавно выстрелами в «Золотой водке» полковник Ананиас и торговый служащий Иво, известный под прозвищем Тигр, которое он получил за мастерскую игру в футбольной команде «Вера-Крус», где он был Центром нападения? Перестрелка завязалась из-за Жоаны, проститутки из Пернамбуко, с лицом, изрытым оспой.
Полковник Кориолано Рибейро был одним из тех, кто первым начал вырубать леса и сажать какаовые деревья. Немногие фазенды могли поспорить с его плантациями, разбитыми на замечательных землях, где какаовые деревья плодоносили через три года после посадки. Влиятельный человек, кум полковника Бастоса, Рибейро безраздельно господствовал в одном из самых богатых районов зоны Ильеуса. Обладая весьма простыми вкусами, он продолжал придерживаться обычаев старины и был умерен в своих потребностях: единственное, что он себе позволял — это содержать любовницу и снимать для нее дом. Почти все время полковник Рибейро жил на фазенде, в Ильеус приезжал верхом, пренебрегая удобствами поездов и недавно появившихся автобусов. Он носил брюки из дешевого материала, вылинявший под дождями пиджак, старую шляпу и вымазанные глиной сапоги. Ему нравилось жить на плантациях, отдавать распоряжения работникам, врубаться в чащу. Злые языки утверждали, что он ел рис только по воскресеньям либо по праздникам настолько был жаден, — а в будни довольствовался фасолью и кусочком сушеного мяса — едою работников. Между тем его семья жила в Баие, в роскошном доме, обставленном с большим комфортом; его сын получал юридическое образование, дочь не пропускала ни одного бала Атлетической ассоциации. Жена состарилась рано, еще в те времена, когда случались вооруженные столкновения и когда тревожными ночами полковник уезжал во главе жагунсо.
— Ангел доброты и демон уродства… — отзывался о ней Жоан Фулженсио, когда кто-либо порицал полковника за то, что он обрекает жену на одиночество, наведываясь в Баию лишь изредка.
Но и тогда, когда семья полковника жила в Ильеусе — в доме, где теперь устроилась Глория, — у него всегда были содержанки, которым он оплачивал стол и жилье. Иногда, приехав с фазенды, он, не слезая с лошади, направлялся прямо в свой «филиал», даже не повидав семьи. Они были его прихотью, его радостью, эти цветущие мулаточки, которыми он повелевал.
Как только пришла пора отдавать детей в гимназию, он перевез семью в Баию, а сам, приезжая в Ильеус, останавливался в доме содержанки. Там он принимал друзей, решал дела, спорил о политике, растянувшись в гамаке и попыхивая сигаретой. И когда сын приезжал на каникулы в Ильеус или на фазенду, ему приходилось искать отца у любовниц. Полковник привык экономить в личных расходах каждый грош, но щедро тратил деньги на содержанок, ему нравилось видеть их в роскошной обстановке, и они ни в чем не знали отказа.
До Глории многие женщины пользовались милостями полковника, причем, как правило, эти связи длились недолго. Его содержанки обычно сидели дома, редко выходили на улицу, пребывая в одиночестве, поскольку им было запрещено поддерживать знакомства и принимать гостей. Полковник приобрел славу чудовищного ревнивца.
— Я не люблю оплачивать женщину, которой пользуются другие… объяснял он, когда с ним заговаривали на эту тему.
Почти всегда первой порывала женщина, так как ей надоедала жизнь пленницы, сытой и хорошо одетой рабыни. Некоторые попадали затем в публичный дом, другие возвращались на плантации, одну увез в Баию коммивояжер. Впрочем, иногда любовница надоедала полковнику, ему хотелось новую. В таких случаях почти всегда он находил на своей фазенде либо в соседних поселках хорошенькую мулатку и прогонял надоевшую, щедро расплатившись с ней. Для одной содержанки, прожившей с ним больше трех лет, он купил таверну на улице Сапо. Время от времени он заезжал туда навестить эту женщину, присаживался поговорить с ней, справлялся, как идут дела. О любовницах полковника Кориолано рассказывали немало историй.
Одна история — о некой Шикинье, очень молоденькой и скромной девушке, стала назидательной. Шестнадцатилетнюю девочку, которая боялась, кажется, всего на свете, слабенькую, с ласковыми огромными глазами, полковник обнаружил у себя на плантации и привез в город, поселив в доме на одной из окраинных улиц. Приезжая в Ильеус, Рибейро всегда останавливался у нее. Полковнику уже было почти пятьдесят, и все же он сам — настолько скромной и робкой казалась Шикинья — покупал ей туфли, материю на платья и духи. А она, даже в самые интимные моменты, почтительно называла его «сеньором» и «полковником». Кориолано был в восторге.
Приехавший на каникулы студент Жука Виана увидел Шикинью в день церковного праздника. С тех пор он начал бродить по полутемной улице возле ее дома, хотя друзья и предупреждали его об опасности: с содержанкой полковника Кориолано никто не связывается, полковник шутить не любит. Жука Виана, студент второго курса факультета права, слывший храбрецом, пожал плечами. Его дерзкие усы, элегантные костюмы и любовные клятвы победили скромность Шикиньи.
Она уже открывала окно, которое в отсутствие фазендейро почти всегда было закрыто, и однажды ночью открыла дверь. С тех пор Жука стал компаньоном полковника в постели девушки. Компаньон без капитала и обязательств, он получал наибольшую прибыль пыла и страсти, о которой скоро всем стало известно и о которой заговорил весь город.
Еще и поныне историю эту во всех подробностях вспоминают и завсегдатаи «Папелариа МоДело», и старые девы, и игроки в триктрак. Жука Виана, потеряв всякую осторожность, заходил среди бела дня в домик любовницы Кориолано. Робкая Шикинья, превратившись в смелую возлюбленную, дошла до высшей дерзости — по вечерам она под руку с Жукой выходила на пустынный пляж полежать при свете луны. Шестнадцатилетняя девушка и юноша, которому не было и двадцати, сошли, казалось, со страниц какой-нибудь буколической поэмы.
Жагунсо полковника приехали к вечеру, выпили по нескольку стаканов кашасы в пустынном баре Тоиньо «Ослиная морда», угрожающе пошумели и направились в дом Шикиньи. Любовники предавались пылким любовным утехам на оплаченной полковником постели; уверенные в своей безопасности, они счастливо улыбались друг другу. Соседи, которые жили поблизости, слышали их смех, прерывистые вздохи и время от времени голос Шикиньи, стонавшей: «О любовь моя!»
Жагунсо вошли через двор, и соседи, теперь уже и дальние, услышали новые звуки. Вся улица проснулась от криков, люди собрались у дома, но никто не вмешивался в происходившее. Сначала, как рассказывают, юношу и девушку зверски избили, затем их обрыли наголо — срезали и длинные косы Шикиньи, и волнистые белокурые кудри Жуки Вианы — и от имени оскорбленного полковника велели им в ту же ночь исчезнуть навсегда из Ильеуса.
Теперь Жука Виана — прокурор в Жекие; даже после получения диплома он не вернулся в Ильеус. О Шикинье больше никто никогда не слыхал.
После этой истории разве осмелился бы кто-нибудь переступить без приглашения полковника порог дома его содержанки? И особенно порог дома Глории — самой соблазнительной, самой блестящей из всех наложниц, которых содержал Кориолано! Полковник состарился, его политическое влияние упало, но воспоминание об истории Жуки Вианы и Шикиньи хранилось до сих пор, и сам Кориолано заботился о том, чтобы воскрешать его, когда это казалось необходимым. Впрочем, в нотариальной конторе Тонико Бастоса недавно произошли новые события.
О симпатичном подлеце
Тонико Бастос, с большими черными глазами и романтической шевелюрой, в которой поблескивали серебряные нити, самый элегантный мужчина города, настоящий денди в своем синем пиджаке, белых брюках и до блеска начищенных ботинках, беззаботной походкой вошел в бар и сразу же услышал свое имя. Наступило неловкое молчание, и Тонико подозрительно спросил:
— О чем был разговор? Я слышал, как назвали мое имя.
— О женщинах, о чем же еще… — ответил Жоан Фулженсио. — А когда разговор заходит о женщинах, сразу вспоминается ваше имя. Иначе и быть не может…
Лицо Тонико расплылось в улыбке, он подсел к компании. Завоевание славы неотразимого покорителя сердец было смыслом его существования. Пока его брат Алфредо, врач и депутат палаты, осматривал детей в своем врачебном кабинете в Ильеусе или произносил речи в Баие, Тонико шатался по улицам, путался с проститутками, наставлял рога фазендейро в постелях их содержанок. Возле каждой прибывшей в город женщины, если она была красива, сразу же оказывался Тонико Бастос. Он вертелся вокруг ее юбки, говорил ей комплименты, был любезен и дерзок. Он действительно пользовался успехом, но охотно привирал, когда заходил разговор о женщинах. Тонико был другом Насиба и приходил обычно в час сиесты, когда опустевший бар дремал, приходил, чтобы удивить араба своими похождениями и победами и рассказами о том, как его ревнуют женщины. Не было в Ильеусе человека, которым бы Насиб восхищался больше.
Мнения о Тонико Бастосе разделялись. У одних он слыл добрым малым, немного эгоистичным, немного хвастливым, но приятным собеседником и, в сущности, безвредным человеком. Другие считали его самодовольным ослом, бездарным трусом, лентяем и ловкачом. Но обаяние Тонико считалось неоспоримым: покоряла его улыбка довольного всем на свете человека, его обходительность и мягкость. Сам капитан говорил, когда упоминали о То ни ко:
— Он — симпатичная каналья, неотразимый подлец.
Тонико Бастосу не удалось продержаться больше трех лет из семи, полагающихся для обучения на инженерном факультете в Рио. Его отправил туда полковник Рамиро, которому надоели скандалы Тонико в Баие. Наступил, однако, день, когда полковник перестал высылать ему деньги, и, отчаявшись увидеть сына с закопченным высшим образованием и работающим по специальности, подобно Алфредо, он велел Тонико вернуться в Ильеус, предоставил ему лучшую в городе нотариальную контору и сосватал самую богатую невесту.
Единственная дочь вдовы фазендейро, который сложил голову в борьбе за землю, дона Олга была для Тонико в высшей степени неподходящей женой. Он не унаследовал храбрости отца, и многие не раз видели, как он бледнел и терялся, если попадал в переделку из-за продажных женщин, но даже это не могло объяснить страха, который он постоянно испытывал перед женой. Без сомнения, истинной причиной этого страха был скандал, который повредил бы авторитету старого Рамиро, пользовавшегося всеобщим уважением. Ибо дона Олга то и дело угрожала своему супругу скандалом. Она все время ворчала, так как, по ее мнению, все женщины города бегали за ее Тонико. Соседи ежедневно слышали угрозы толстой сеньоры, которыми она осыпала мужа:
— Если когда-нибудь узнаю, что ты с кем-нибудь спутался…
Служанки в ее доме долго не удерживались: дона Олга не спускала с них глаз и увольняла при малейшем подозрении — ведь все они наверняка домогались ее красавца Тонико. Она поглядывала с недоверием на девушек из монастырской школы, на дам, танцевавших в клубе «Прогресс»; о ее ревности, невоспитанности, дурных манерах и потрясающей бестактности в Ильеусе рассказывали анекдоты. Она не знала ничего определенного о похождениях Тонико, и у нее не было оснований подозревать его в том, что он посещает дома терпимости, когда уходит вечером «потолковать о политике», как он говорил. Она бы все перевернула вверх дном, если бы ей стало известно нечто подобное.
Но Тонико держал язык за зубами и всегда находил способ обмануть ее, усыпить ее ревность. С видом самого верного и преданного супруга он прогуливался после обеда с женой по набережной, угощал ее мороженым в баре «Везувий» или вел в кино.
— Смотрите-ка, как он серьезен, когда гуляет со своей слонихой… говорили прохожие, встречая Тонико, принявшего самый благонамеренный вид, и толстую Олгу, на которой лопались платья.
Но несколькими минутами позже — после того как он отводил жену домой на улицу Параллелепипедов, где находилась его нотариальная контора, и уходил «потолковать с друзьями и узнать политические новости» — он становился другим человеком. Он отправлялся танцевать в кабаре, ужинал в домах терпимости; Тонико пользовался большим успехом, из-за него часто ссорились и ругались проститутки и иногда даже вцеплялись друг другу в волосы.
— В один прекрасный день этому придет конец, — предсказывали некоторые. — Дона Олга все узнает и устроит страшный скандал.
Уже не раз Тонико был на краю гибели. Но он опутывал жену сетью лжи, ловко рассеивал ее подозрения. Недешева была цена, которую он платил за репутацию неотразимого мужчины, первого сердцееда в городе.
— Ну, а что вы скажете об убийстве? — спросил его Ньо Гало.
— Какой ужас! Подумать только…
Тонико рассказали о черных чулках, он понимающе подмигнул. Снова стали вспоминать подобные истории, например, как полковник Фабрисио заколол жену и послал жагунсо застрелить любовника, когда тот возвращался с собрания масонской ложи. Жестокие нравы, требующие мести и крови. Суровый закон зоны какао.
Даже араб Насиб, несмотря на свои заботы (сладости и закуски сестер Рейс быстро исчезли), принял участие в беседе. И, как всегда, только для того, чтобы рассказать, что в Сирии, стране его предков, нравы были еще ужаснее. Он остановился у столика, его огромная фигура возвышалась над всеми присутствующими. Тишина воцарилась и за другими столиками, все хотели послушать Насиба.
— На родине моего отца было еще хуже… Там честь мужчины священна, никто не смеет ее пятнать. Под страхом…
— Чего?
Насиб медленно обвел взором слушателей — посетителей и друзей, принял драматический вид и наклонил свою большую голову.
— Распутную жену приканчивают ножом, ее разрезают на куски…
— На куски? — прогнусавил Ньо Гало.
Насиб приблизил к нему свое пухлое, щекастое лицо, состроил зверскую рожу и закрутил кончик уса.
— Да, кум Ньо Гало, там никто не удовлетворится тем, чтобы всадить две-три пули в изменницу и в соблазнившего ее негодяя. Наш край — край мужественных людей, и с неверной женой поступают иначе: режут гадину на кусочки, начиная с сосков…
— С сосков? Какое варварство! — Даже полковник Рибейриньо вздрогнул.
— Вовсе не варварство! Жена, изменившая мужу, другого не заслуживает. Если бы я был женат и жена наставила бы мне рога — о-о! — я бы с ней расправился по сирийскому закону: искромсал бы ее… На меньшее я бы не согласился.
— А как поступают с любовником? — поинтересовался Маурисио Каирес, на которого слова Насиба произвели большое впечатление.
— С мерзавцем, который запятнал честь мужа? — Он кинул мрачный взгляд и, подняв руку, коротко и глухо рассмеялся. — Его хватают несколько здоровых сирийцев, спускают с него штаны, раздвигают ноги… и муж хорошо отточенной бритвой… — Насиб опустил руку и сделал быстрый жест, дополняющий остальное. — Неужели? Не может быть!
— Именно. Кастрируют, как борова…
Жоан Фулженсио провел рукой по горлу.
— Но это невероятно, Насиб. Правда, каждая страна имеет свои обычаи…
— Черт знает что, — сказал капитан. — У вас, должно быть, немало кастратов… если учесть, как горячи эти турчанки…
— Но кто велит лезть в чужой дом и воровать то, что принадлежит другому? — вмешался Маурисио. — А потом, честь семьи…
Араб Насиб торжествовал, улыбаясь и приветливо поглядывая на посетителей. Ему нравилось быть хозяином бара, где ведутся такие интересные разговоры и споры, где играют в триктрак, шашки и покер.
— Пойдем сыграем… — предложил капитан.
— Сегодня не могу. Много народу. К тому же я скоро ухожу, пойду опять искать кухарку.
Доктор играть согласился, они с капитаном уселись за столик. Ньо Гало присоединился к ним, он решил сыграть с победителем. Пока встряхивали кости, доктор стал рассказывать:
— Подобный случай произошел с одним из Авила…
Он спутался с женой надсмотрщика, но муж узнал…
— И кастрировал вашего родственника?
— Кто сказал, что кастрировал? Муж ворвался с оружием в руках, но прадед успел выстрелить первым…
Компания стала понемногу расходиться, наступал обеденный час. Направляясь из гостиницы в кинотеатр, появились, как и утром, Диоженес и чета артистов. Тонико Бастос поинтересовался:
— Она только для Мундиньо?
Капитан, игравший в гаман, отозвался, чувствуя, что теперь он в какой-то степени ответствен за поступки Мундиньо:
— Он не имеет с ней ничего общего. Она свободна, как птичка, и если вам угодно…
Тонико присвистнул. Супруги поздоровались с ними. Анабела улыбнулась.
— Пойду-ка и я поприветствую их от имени города.
— Не путайте город в ваши грязные делишки, бездельник вы этакий.
— Осторожно: у мужа, наверно, есть бритва… — сказал полковник Рибейриньо.
Но они не успели подойти к артистам: появился полковник Амансио Леал, и любопытство пересилило — все знали, что Жезуино после убийства укрылся у него в доме. Утолив жажду мести, полковник спокойно удалился, чтобы избежать ареста на месте преступления.
Он прошел, не ускоряя шага, через весь город, в котором, как всегда в базарный день, царило оживление, явился в дом своего друга и товарища времен борьбы за землю и послал известить судью, что предстанет перед ним на следующий день. Он, безусловно, знал, что будет немедленно отпущен с миром и станет ждать суда на свободе, как это обычно бывало в подобных случаях. Полковник Амансио поискал кого-то взглядом и подошел к Маурисио.
— Могу я поговорить с вами, сеньор?
Адвокат поднялся, и они направились вдвоем в глубь бара. Фазендейро сказал что-то Маурисио, тот кивнул и вернулся за шляпой.
— С вашего разрешения я ухожу. — Полковник Амансио раскланялся. — Всего хорошего, сеньоры.
Они пошли по улице Полковника Адами: Амансио жил на площади, где находилась начальная школа.
Наиболее любопытные встали, чтобы посмотреть, как они идут по улице, молчаливые и серьезные, точно сопровождают религиозную процессию или покойника.
— Хочет нанять Маурисио для защиты.
— Ну что ж, это дело верное. На суде будет представлен и Ветхий завет, и Новый.
— Да… Но Жезуино не нужно адвоката. Все равно его оправдают.
Капитан обернулся, держа в руке кости, и сказал:
— Этот Маурисио — лжец и лицемер… Распутный вдовец.
— Говорят, что ни одна негритяночка не выдерживает, попав к нему в руки…
— Я тоже это слышал…
— Впрочем, одна бегает к нему с холма Уньан почти каждую ночь.
В дверях кинотеатра снова появились принц и Анабела, а за ними Диоженес, как всегда с унылым лицом.
Женщина держала в руке книгу.
— Сюда идут… — пробормотал полковник Рибейриньо.
Они встали при приближении Анабелы и предложили ей стул. Книга, оказавшаяся переплетенным в кожу альбомом, переходила из рук в руки. В альбоме были собраны газетные вырезки и рукописные отзывы об искусстве танцовщицы.
— После дебюта я хочу получить отзыв от каждого из вас, сеньоры. Анабела не согласилась присесть («Нам надо в гостиницу») и стояла, облокотившись на стул полковника Рибейриньо.
Она должна была дебютировать в кабаре в тот же вечер, а на другой день — в кинотеатре вместе с принцем, который выступал с фокусами. Он проводил сеансы гипноза и был необычайно силен в телепатии. Они только что закончили пробную демонстрацию для Диоженеса, и хозяин кинотеатра признал, что никогда ничего подобного не видел. На паперти собора старые девы, возбужденные убийством Синьязиньи и Осмундо, наблюдали теперь за Анабелой и мужчинами и ворчали:
— Ну, теперь еще одна начнет кружить им головы…
Анабела спросила своим мягким голосом:
— Я слышала, что сегодня в Ильеусе произошло убийство?
— Да. Один фазендейро убил жену и ее любовника.
— Бедняжка… — растроганно сказала Анабела, и это было единственное за весь день слово сожаления о печальной судьбе Синьязиньи.
— Феодальные нравы… — произнес Тонико Бастос, обращаясь к танцовщице. — Мы здесь живем в прошлом веке.
Принц пренебрежительно усмехнулся, кивнул головой и выпил залпом рюмку чистой кашасы — ему не нравились смеси. Жоан Фулженсио, прочтя похвалы искусству Анабелы, возвратил альбом. Чета распрощалась. Они хотели отдохнуть перед дебютом.
— Сегодня я жду всех вас в «Батаклане».
— Непременно придем.
Старые девы сгрудились на паперти собора, они были шокированы и осеняли себя крестом. Пропащий край этот Ильеус… У ворот дома полковника Мелка Тавареса учитель Жозуэ разговаривал с Малвиной.
Одинокая Глория вздыхала в своем окне. Вечер опускался на Ильеус. Бар начал пустеть. Полковник Рибейриньо отправился вслед за артистами.
К стойке бара подошел Тонико Бастос и облокотился о прилавок возле кассы. Насиб надел пиджак, отдав распоряжение Шико и Бико Фино. Тонико, погруженный в свои мысли, созерцал дно почти пустой рюмки.
— Мечтаете о танцовщице? Это дорогая штучка, на нее придется потратиться… Тем более что и конкуренция будет немалая. Рибейриньо уже нацелился.
— Я думал о Синьязинье. Какой ужас, сеньор Насиб…
— Мне уже говорили о ней и дантисте. Клянусь, я не поверил. Она была такая серьезная.
— Вы слишком наивны. — Тонико сам обслуживал себя на правах завсегдатая бара; он налил еще стакан вина и велел записать в счет; расплачивался он всегда в конце месяца. — Но могло быть еще хуже, намного хуже.
Насиб, нахмурившись, понизил голос:
— И вы плавали в этих водах?
Тонико не стал утверждать, ему было достаточно вызвать сомнение либо заронить подозрение. Он сделал неопределенный жест.
— Ведь она казалась такой серьезной… — Голос Насиба стал ехидным. — А оказывается, вся эта серьезность… Так, значит, и вы!
— Не будьте сплетником, араб. Об усопших плохо не говорят.
Насиб открыл было рот, хотел что-то сказать, но передумал и только вздохнул. Значит, дантист был не первым… Этот ловкач Тонико со своей сединой, бабник, каких мало, видно, тоже обнимал ее и обладал ею. Сколько раз он, Насиб, следил за Синьязиньей взглядом, полным вожделения и вместе с тем почтительным, когда она проходила мимо бара в церковь.
— Вот почему я не женюсь и не путаюсь с замужней женщиной.
— И я тоже… — сказал Тонико.
— Циник…
Насиб направился к выходу:
— Пойду поищу себе кухарку. Пришли беженцы из сертана, может, среди них есть женщина, которая мне подойдет.
Стоя под окном Глории, негритенок Туиска рассказывал ей новые подробности убийства, которые слышал в баре. Благодарная мулатка гладила жесткие и курчавые волосы мальчишки, трепала его по щеке. Капитан, выиграв партию, наблюдал за этой сценой.
— Ишь, повезло негритенку!
О печальном часе сумерек
В этот печальный час сумерек Насиб в широкополой шляпе и с револьвером за поясом шагал по направлению к железной дороге и вспоминал Синьязинью. Из домов доносился шум, смех, разговоры. Все обедали и, без сомнения, говорили о Синьязинье и Осмундо. С нежностью вспоминал о ней Насиб, желая в глубине души, чтобы этот Жезуино Мендонса, высокомерный и неприятный субъект, был осужден правосудием. Конечно, это было невозможно, но он вполне заслужил наказания. Жестокие нравы в Ильеусе…
Все хвастливые россказни Насиба, его страшные истории о Сирии, о женщине, которую кромсают ножом, о любовнике, которого кастрируют бритвой, были чистейшей выдумкой. Как он мог решить, что молодая, красивая женщина достойна смерти только потому, что обманула старого и грубого человека, конечно, незнающего, что такое ласка и нежное слово? Этот край, теперь уже его край, был еще далек от настоящей цивилизации. Много было разговоров о прогрессе, росли богатства, какао прокладывало дороги, воздвигало поселки, меняло облик города, но старые варварские обычаи сохранялись. У Насиба не хватало мужества сказать это во всеуслышание, — пожалуй, один Мундиньо Фалкан мог отважиться на такую дерзость.
В этот печальный час сгущавшихся сумерек Насиб шел, погруженный в печальное раздумье, он чувствовал усталость.
По этим и по другим причинам он и не женился: чтобы не оказаться обманутым, чтобы не пришлось убивать, проливать кровь, всаживать пули в грудь женщины. А он очень хотел жениться… Ему не хватало ласки, нежности, семейного уюта, дома, где чувствовалось бы присутствие женщины, которая ждала бы его поздней ночью после закрытия бара. Мысль о женитьбе овладевала им время от времени, как и сейчас, по дороге на невольничий рынок. Но он был не таков, чтобы ухаживать за невестой, у него не было на это времени, ведь он целый день в баре. Насиб заводил более или менее продолжительные интрижки с девушками, встреченными в кабаре, и женщинами, которые принадлежали всем, легкие приключения без любви.
Когда он был моложе, у него были две-три возлюбленные. Но тогда он не помышлял о женитьбе, поэтому дело не пошло дальше ни к чему не обязывающих разговоров, записочек, в которых назначались свидания в кино, и целомудренных поцелуев на утренниках.
Сейчас у него не оставалось времени даже для флирта, он проводил в баре весь день. Он стремился побольше заработать, чтобы получить возможность купить землю для плантации. Как все ильеусцы, Насиб мечтал о какао, о землях, где растут деревья с желтыми, как золото, плодами, за которые платят золотом.
Возможно, тогда он подумает о женитьбе. Теперь же он довольствовался тем, что заглядывался на красивых сеньор, проходивших по площади, на недоступную Глорию, сидевшую в окне своего особняка, и когда находил новеньких девочек вроде Ризолеты, то спал с ними.
Он улыбнулся, вспоминая вчерашнюю слегка косившую девчонку из Сержипе, ее изощренность в любви.
Сходить, что ли, к ней сегодня вечером? Она наверняка будет поджидать его в кабаре, но Насиб чувствовал себя усталым, на душе было невесело, он снова подумал о Синьязинье: много раз он стоял перед баром, наблюдая, как она пересекала площадь, как входила в церковь. В глазах его отражалось страстное желание завладеть собственностью фазендейро, запятнав его честь хотя бы мысленно, раз он не мог запятнать ее действиями и безумными поступками. Но он не знал слов, красивых, как стихи, у него не было волнистых кудрей и он не танцевал аргентинского танго в клубе «Прогресс». А если бы Насиб был таким, как Осмундо, то, возможно, именно он лежал бы сейчас в луже крови, с грудью, продырявленной пулями, рядом с обнаженной женщиной в черных чулках.
Насиб шел в сумерках, время от времени он отвечал на приветствия, но мысли его витали далеко. Грудь любовника, изрешеченная пулями, белая, насквозь простреленная грудь любовницы, — эта сцена стояла перед ним: два нагих трупа, лежащих рядом в луже крови, она в черных чулках с подвязками, а может быть, и без подвязок. Без подвязок ему казалось элегантнее, тонкие чулки, держащиеся на белых ногах без помощи чего бы то ни было. Красиво! Красиво и грустно. Насиб вздохнул, он уже не видел дантиста Осмундо рядом с Синьязиньей. Он видел себя: немного более худощавого и с меньшим, чем на самом деле, брюшком, он лежит мертвый рядом с женщиной! Красота! Его грудь прострелена. Он снова вздохнул. У Насиба было романтическое сердце, и страшные истории, которые он рассказывал, ничего не значили. Так же как и револьвер, который он носил за поясом, как любой житель Ильеуса в те времена. Этого требовали обычаи края… Он любил вкусно поесть, обожал хорошо наперченные блюда, любил выпить холодного пива, сыграть партию в гаман, до рассвета посидеть за покером, никогда, впрочем, не проигрывая помногу, так как деньги он сдавал в банк в надежде купить землю. Он менял наклейки у вин, чтобы заработать побольше, и осторожно приписывал несколько мильрейсов к счетам тех, кто платил помесячно. Ему нравилось ходить с друзьями в кабаре, заканчивать ночи в объятиях какой-нибудь Ризолеты и заводить мимолетные связи.
Все это, как и загорелые смуглянки, было ему по душе.
Любил он также поговорить, посмеяться.
Как Насиб нанял кухарку, или о сложных путях любви
Насиб оставил позади базар, где уже разбирали палатки и увозили товары, и прошел между железнодорожными постройками. У подножия холма Конкиста находился невольничий рынок. Так в свое время кто-то прозвал это место, где беженцы останавливались лагерем в ожидании, пока их наймут на какую-нибудь работу. Название пристало, и теперь никто не называл это место иначе. Здесь собирались бежавшие от засухи сертанежо, самые бедные из тех, что покинули свои дома и земли, откликнувшись на зов какао.
Фазендейро осматривали новое пополнение, похлопывая плеткой по сапогам. Сертанежо пользовались славой хороших работников.
Истощенные и изголодавшиеся мужчины и женщины ожидали. Вдалеке они видели базар, где продавали все что угодно, и надежда наполняла их сердца. Они сумели одолеть дороги, каатингу, справиться с голодом, со змеями, с эпидемиями и усталостью. Они достигли земли обетованной, им казалось, что нищете пришел конец. Прежде они слышали страшные истории об убийствах и насилиях, но знали и о том, что цены на Какао растут, что люди, прибывшие, как и они, из сертана истощенными до последней степени, теперь расхаживают в блестящих сапогах, держа в руках плетки с серебряными ручками, — хозяева какаовых плантаций.
Вдруг на базаре вспыхнула ссора, сбежался народ, в последних лучах солнца сверкнул нож, крики донеслись и до невольничьего рынка. Всякий раз базар кончался пьяной дракой. Оттуда, где стояли сертанежо, послышались мелодичные звуки гармоники, женский голос запел.
Полковник Мелк Таварес сделал знак игравшему на гармонике, тот перестал играть.
— Женат?
— Нет, сеньор.
— Хочешь с ними работать у меня? — Он указал на уже отобранных людей. Хороший музыкант никогда не помешает на фазенде. С ним праздники веселей… — Полковник самоуверенно засмеялся; про него говорили, что он, как никто, умеет выбирать работников. Его фазенды находились в Кашоэйре-до-Сул, и сейчас большие лодки уже дожидались его на реке у железнодорожного моста.
— А кто вам нужен? Агрегадо[51] или эмпрейтейро[52]?
— Все равно. У меня есть леса, которые нужно корчевать, так что нужны и эмпрейтейро.
Сертанежо предпочитали работать в качестве эмпрейтейро на разбивке новых какаовых плантаций, что давало им возможность зарабатывать деньги, которыми они могли свободно распоряжаться.
— Хорошо, сеньор.
Заметив Насиба, Мелк пошутил:
— Обзавелись плантацией, Насиб, пришли нанимать батраков?
— Куда мне, полковник… Я ищу кухарку, моя сегодня уехала…
— А что вы скажете о случившемся? — Все это так неожиданно…
— Я уже заходил к Амансио обнять Жезуино… Я ведь сегодня с этими людьми уезжаю на фазенду. — Он показал на отобранных людей, стоявших неподалеку от него. — Теперь, раз наступила солнечная погода, урожай будет богатейший. Сертанежо хорошие работники, не то что здешние. Грапиуна не любит браться за тяжелый труд, ему больше по душе слоняться по городу…
Еще какой-то фазендейро обходил группы беженцев. Мелк продолжал:
— Сертанежо не боится труда, он хочет заработать. В пять утра он уже на плантации, а бросает мотыгу лишь поздно вечером. Если у них есть фасоль и сушеное мясо, кофе и кашаса, они довольны. По мне, нет работника, который мог бы сравниться с сертанежо, — заключил он авторитетно, Насиб осмотрел людей, нанятых полковником, и одобрил его выбор. Фазендейро в сапогах, тоже нанимавший работников на плантацию, позавидовал Мелку.
Что касается Насиба, то он искал лишь женщину, не очень молодую, серьезную, которая могла бы убирать его маленький дом на Ладейре-де-Сан-Себастьян, стирать белье, готовить для него, а также закуски и сладости для бара. На уборку и готовку у нее, конечно, будет уходить целый день.
— Кухарку здесь найти нелегко… — сказал Мелк.
Инстинктивно Насиб искал среди сертанежо женщину, которая походила бы на Филомену, была бы приблизительно того же возраста и такая же ворчливая.
Полковник Мелк пожал Насибу руку, нагруженные лодки ожидали его.
— Жезуино поступил правильно. Он человек чести…
Насиб тоже сообщил новость:
— Оказывается, приезжает инженер для обследования бухты.
— Я уже слышал об этом. Но он только время потеряет, с этой мелью ничего нельзя сделать…
Насиб бродил среди сертанежо. Старые и молодые с надеждой бросали на него взгляды. Женщин было мало, и почти все с детьми, уцепившимися за их юбки.
В конце концов он заметил женщину лет пятидесяти, рослую и крепкую.
— Муж остался на дороге, сеньор…
— Готовить умеешь?
— Только простые кушанья.
Боже мой, где найти кухарку? Не может же он и дальше платить сестрам Рейс такие безумные деньги.
И ведь надо же, как нарочно, в баре много посетителей: сегодня убийство, завтра похороны… Мало того, ему теперь придется завтракать и обедать в гостинице Крэльо, есть его безвкусную стряпню. Надо будет, очевидно, выписать кухарку из Аракажу, оплатив ей проезд. Насиб остановился перед старухой, настолько древней, что вряд ли она смогла бы дойти до его дома — умерла бы по дороге. Она опиралась на посох; и как только ей удалось прошагать путь до Ильеуса?
Она дошла, хотя ничего, кроме беспокойства, она уже не может доставить людям, такая старая и высохшая, совсем развалина. Сколько горя в мире!..
В этот момент появилась другая женщина, одетая в жалкие лохмотья, покрытая грязью настолько, что невозможно было разглядеть черты ее лица и определить возраст; пропыленные волосы ее были растрепаны, ноги босы. Она принесла кружку с водой и отдала ее в дрожащие руки старухи, которая с жадностью стала пить.
— Да вознаградит тебя бог…
— Не за что, бабушка… — У нее был голос молодой девушки, возможно, тот самый голос, что распевал песню, когда пришел Насиб.
Полковник Мелк и его люди исчезли за вагонами железной дороги, только гармонист остановился на миг и помахал рукой на прощанье. Женщина подняла руку и тоже помахала в ответ. Затем снова повернулась к старухе и взяла у нее пустую кружку. Она хотела уйти, но Насиб, которого так поразила эта сгорбленная старуха, спросил: — Это твоя бабушка?
— Нет, сеньор. — Она остановилась и улыбнулась, и только тут Насиб убедился, что она действительно молода, — глаза ее заблестели, когда она рассмеялась. — Мы ее встретили по дороге, дня четыре назад.
— Кто это мы?
— А вон… — Она указала пальцем на группу беженцев и снова рассмеялась чистым, хрустальным смехом — Мы шли вместе, мы все из одних краев. Засуха убила там все живое, высушила всю влагу, деревья превратились в хворост. Потом мы встретили других людей. Они тоже спасались.
— У тебя есть родственники?
— Нет, сеньор. Я совсем одна на свете. Со мной шел дядя, да отдал богу душу, не дойдя до Жеремоабо. Чахотка… — И она опять засмеялась, будто в этом было что-то смешное.
— Это не ты недавно пела?
— Я, сеньор. Тут был парень с гармоникой, его наняли на плантацию, он говорит, что разбогатеет в этих краях… Когда поешь, забываешь о плохом…
Она держала кружку в руке, а руку уперла в бедро Насиб силился разглядеть ее сквозь слой пыли. Она казалась сильной и крепкой.
— Что ты умеешь делать?
— Все понемногу, сеньор.
— Стирать?
— Ну, кто этого не умеет? — удивилась она. — Была бы вода и мыло. — А готовить?
— Я служила кухаркой в богатом доме… — И снова засмеялась, словно вспомнив что-то веселое.
Возможно потому, что она смеялась, Насиб решил, что она ему не подходит. Изголодавшиеся люди из сертана способны наврать все что угодно, лишь бы получить работу. Что она могла приготовить? Зажарить солонину и сварить фасоль — вот и все. Ему была нужна женщина пожилая, серьезная, чистоплотная и работящая, такая, как старая Филомена. И прежде всего она должна быть хорошей кухаркой, знать толк в приправах, уметь готовить сладости. Девушка продолжала стоять, ожидая чего-то и глядя ему в лицо. Насиб махнул рукой, не найдясь, что сказать.
— Ну ладно… До свидания. Счастливо.
Он повернулся и уже было пошел, но в этот момент услышал позади себя неторопливый грудной голос:
— Какой красавчик!
Он остановился. Что-то он не помнил, чтобы кто-нибудь находил его красивым, за исключением старой Зорайи, его матери, да и то когда он был маленьким.
Насиб прямо опешил.
— Подожди.
Он снова принялся разглядывать ее. А почему бы не попробовать?
— Так ты действительно умеешь готовить?
— А вы возьмите меня с собой, сеньор, тогда увидите…
Если даже она не умеет готовить, будет по крайней мере убирать дом, стирать белье.
— Сколько ты хочешь?
— Ну, уж это, сеньор, ваше дело, сколько захотите, столько и заплатите…
— Сначала посмотрим, что ты умеешь делать. Потом договоримся о жалованье. Хорошо?
— Для меня, сеньор, как вы скажете, так и хорошо.
— Тогда забирай свой узел.
Она снова засмеялась, показав блестящие белые зубы. Насиб устал, ему начинало казаться, что он сделал глупость. Пожалел эту девушку из сертана и вот тащит себе в дом обузу. Но теперь уже поздно раскаиваться. Хоть бы стирать умела…
Она вернулась с небольшим узелком — в нем было то немногое, что она принесла с собой. Насиб медленно двинулся, она следовала в нескольких шагах за ним… Когда они миновали железную дорогу, он обернулся и спросил:
— Как же тебя зовут?
— Габриэла, к вашим услугам, сеньор.
Они продолжали идти, он впереди, снова размышляя о Синьязинье, о суматошном дне, о застрявшем на мели пароходе, об убийстве. А тут еще тайны капитана, доктора, Мундиньо Фалкана. Они что-то задумали, его, Насиба, не обманешь. Но скоро их секрет раскроется. По правде сказать, известие об убийстве заставило его забыть даже о таинственном виде этой троицы и раздражении полковника Рамиро Бастоса. Убийство всех захватило, все остальное отошло на задний план.
Симпатичный парень был этот бедняга дантист, и он дорого заплатил за желание обладать замужней женщиной. Слишком большой риск путаться с чужой женой, дело кончается смертельным выстрелом в грудь.
Тонико Бастосу нужно быть поосторожнее, а то в один прекрасный день с ним случится нечто подобное. Действительно ли он спал с Синьязиньей или просто хвастал, чтобы произвести на него, Насиба, впечатление?
Так или иначе, Тонико здорово рискует, когда-нибудь и его постигнет неудача. Впрочем, может быть, взгляд, вздох, поцелуй женщины стоят этого риска?
Габриэла со своим узелком шла позади Насиба, уже позабыв о Клементе, довольная, что выбралась из толпы беженцев, из этого грязного лагеря. Она шагала с улыбкой в глазах и на губах, босые ноги ее легко касались земли, ей хотелось петь песни сертанов, но она не пела потому, что красивому и грустному молодому сеньору это могло не понравиться.
О лодке в селве
— Говорят, полковник Жезуино убил свою жену и доктора, который с ней спал. Это правда, полковник? — спросил один из гребцов у Мелка Тавареса.
— Я тоже слышал об этом… — сказал другой.
— Да, это правда. Он застал жену в постели с дантистом и прикончил обоих.
— Женщина — грязное животное, нам от них одно горе.
Лодка плыла вверх по течению, селва вырастала на высоком берегу. Сертанежо глядели на необычный для них пейзаж, и в сердца их закрадывалось смутное чувство страха. Жуткий ночной мрак опускался на воду с деревьев. Лодка была очень большой — почти баржа; она спустилась вниз по реке, нагруженная мешками с какао, и возвращалась теперь полная продовольствия. Гребцы напрягали все силы, но лодка двигалась медленно. Один из них зажег фонарик на корме, и красный свет бросал на воду фантастические блики.
— В Сеаре тоже произошел подобный случай… — начал какой-то сертанежо.
— Женщины все обманщицы, никогда не догадаешься, что у них на уме… Я знал одну, она казалась святой, никто бы и не подумал, — пустился в воспоминания негр Фагундес.
Клементе хранил молчание. Мелк Таварес завел разговор с агрегадо, он хотел выяснить достоинства и недостатки новых работников, узнать их прошлое. Сертанежо рассказывали о себе — их истории были похожи одна на другую: та же бесплодная земля, выжженная засухой, погибшие посевы кукурузы, маниока и бесконечный поход. Агрегадо были немногословны.
Они кое-что слышали об Ильеусе — там плодородная земля и легкие заработки. Край будущего, вооруженных столкновений и убийств. Когда наступила засуха, они бросили все и подались на юг. Негр Фагундес был разговорчивее других, поэтому рассказал несколько историй о бандитах.
Сертанежо поинтересовались:
— Говорят, тут осталось много невырубленных лесов?
— Для вырубки по подряду есть. Но во владение больше не продается. Все земли уже имеют хозяев, — усмехнулся гребец.
— Но заработать можно, и немало, если работать как следует, — сказал Мелк Таварес.
— Да, те времена, когда человек приходил с пустыми руками, но с решимостью и отвагой и шел в лес, чтобы силой добыть себе плантацию, теперь кончились. Тогда было хорошо… Если у тебя была крепкая грудь, ты рубил лес и, пристрелив нескольких человек, которые вставали у тебя на пути, становился богачом…
— Мне рассказывали об этих временах… — сказал негр Фагундес. Поэтому я и пришел сюда…
— А мотыга тебе не по душе, чернявый? — спросил Мелк.
— Нет, я не против, сеньор. Но лучше я управляюсь с этой палкой… засмеялся он, поглаживая ружье.
— Тут еще остались большие леса. У гор Бафорэ, например. Нет лучше земли для какао…
— Только теперь приходится покупать каждую пядь леса. Все обмерено и зарегистрировано. У нашего хозяина есть там земли.
— Совсем немного, — признался Мелк. — Клочок. В будущем году, бог даст, начнем рубить.
— Нынче город уже не тот, что был раньше, и народ никудышный. Ильеус растет… — сказал с сожалением гребец.
— Потому и народ нехорош?
— Прежде тут человека ценили за мужество. Сегодня же богатеет только турок-торговец да испанец, владелец магазина. Не то что раньше…
— Те времена кончились, — сказал Мелк. — Теперь к нам пришел прогресс, и все стало иначе. Но кто работы не боится, всегда устроится, дело для него найдется.
— Теперь и стрелять на улице нельзя… Могут тут же забрать.
Лодка медленно плыла вверх по течению, ее окутал ночной мрак, из селвы доносились крики животных, на деревьях кричали попугаи. Только Клементе продолжал хранить молчание, все остальные принимали участие в разговоре, рассказывали различные истории, спорили об Ильеусе.
— Этот край будет еще богаче, когда какао начнут вывозить прямо из Ильеуса.
— Конечно.
Сертанежо не поняли. Мелк Таварес им объяснил: все какао для заграницы — для Англии, Германии, Франции, Соединенных Штатов, Скандинавии, Аргентины — вывозится через порт Баия. Огромные суммы налогов и таможенных пошлин остаются в столице штата, Ильеусу же не перепадает даже объедков. Проход в бухту Ильеуса узок и неглубок. Только с громадным трудом (а некоторые утверждают, что это вообще невозможно) удастся его приспособить для прохождения больших судов. И когда крупные грузовые суда придут за какао в порт Ильеус, тогда можно будет говорить о подлинном прогрессе…
— Сейчас, полковник, все только и толкуют о каком-то Мундиньо Фалкане. Ходят слухи, что он может добиться разрешения… что он очень способный человек.
— А ты все думаешь о девушке? — спросил Фагундес у Клементе.
— Она не попрощалась со мной… Даже не взглянула…
— Вскружила она тебе голову. Сам на себя стал не похож.
— Как будто мы и знакомы не были… Даже «до свидания» не сказала.
— Женщины все таковы. Не стоит из-за них переживать.
— Он, конечно, человек предприимчивый. Но разве по силам ему разрешить этот вопрос, если даже сам кум Рамиро ничего не добился? — Мелк говорил о Мундиньо Фалкане.
Клементе поглаживал гармонику, лежавшую на дне лодки, ему чудился голос поющей Габриэлы. Он огляделся, как бы отыскивая ее: селва, окаймлявшая реку, деревья и переплетенные лианы, устрашающий рык зверей и зловещий крик сов; обильная зелень, казавшаяся черной, — тут все было не так, как в серой и голой каатинге. Один из гребцов указал пальцем на чащу:
— Здесь была перестрелка между Онофре и жагунсо сеньора Амансио Леала… Погибло тогда человек десять.
В этом краю, чтобы заработать денег, надо не бояться работы. Да, он заработает денег и вернется в город на розыски Габриэлы. Он должен найти ее во что бы то ни стало.
— Да не думай ты о ней, выкинь ее из головы, — посоветовал Фагундес. Взгляд негра старался проникнуть в темную селву, голос его стал мягче, когда он заговорил о Габриэле. — Выкинь ее из головы. Она не для нас с тобой. Она не такая, как эти шлюхи…
— Нет, не могу я о ней не думать, даже если б и захотел. Не могу я ее забыть.
— Ты с ума сошел! Такая женщина не станет жить с тобой долго.
— Что ты болтаешь?
— Не знаю… Но, по-моему, это так. Ты можешь с ней спать и делать что угодно. Но владеть ею, стать ее хозяином, как ты стал бы хозяином другой женщины, тебе никогда не удастся, да и никому другому тоже.
— Почему?
— Черт его знает почему. Этого я не могу тебе объяснить.
Да, негр Фагундес прав. Ночью они спали вместе, а на другой день она будто и не помнила об этом, смотрела на него так же, как на других, и говорила с ним так же, как с другими. Будто это ничего не значило…
Мрак покрывает и окружает лодку, селва будто надвигается и смыкается над ними. Крик совы прорезает ночь. Ночь без Габриэлы… без ее смуглого тела, без ее беспричинного смеха, без ее алых, как плод питанги, губ… Даже не попрощалась. Странная девушка.
Страдание нарастает в душе Клементе. Внезапно его охватывает уверенность, что он никогда больше не увидит ее, не будет держать в своих объятиях, прижимать к груди, никогда не услышит больше ее любовных стонов.
В ночной тишине раздался громкий голос полковника Мелка Тавареса. Он обратился к Клементе:
— Сыграй-ка нам что-нибудь повеселей, парень, Чтоб время скоротать.
Клементе взялся за гармонику. Из-за деревьев над рекою поднималась луна. Он видел перед собою лицо Габриэлы. Поблескивали вдали огоньки фонарей. В музыке послышался плач отчаявшегося, навеки оставшегося одиноким Клементе. В селве, в лунном свете, смеялась Габриэла.
Заснувшая Габриэла
Насиб привел ее в свой дом на Ладейре-де-Сан-Себастьян. Не успел он вставить ключ в замочную скважину, как дрожащая дона Арминда показалась в окне.
— Подумать только, сеньор Насиб! Казалась такой приличной, порядочной особой, каждый день ходила в церковь. Вот почему я всегда говорю… — Тут она заметила Габриэлу и не закончила фразы.
— Вот нанял прислугу. Будет стирать и готовить.
Дона Арминда оглядела беженку с головы до ног, как бы снимая с нее мерку и оценивая. Потом предложила свою помощь:
— Если тебе, девочка, что-нибудь понадобится, кликни меня. Соседи ведь для того и существуют, чтобы помогать друг другу, не так ли? Только сегодня вечером меня не будет. Спиритический сеанс у кума Деодоро, покойный муж будет беседовать со мной… И, возможно, даже появится Синьязинья… — Ее глаза перебегали с Габриэлы на Насиба. — Девушка, а? Больше не хотите старух, вроде Филомены… — Она засмеялась с понимающим видом.
— Никого другого не удалось найти…
— Так вот, я начала говорить, что для меня это не было неожиданностью, я как-то встретила дантиста на улице. В этот день, по совпадению, был сеанс, как раз неделю тому назад. Я взглянула на доктора Осмундо и тут же услышала голос покойного мужа, он говорил: «Вот он, но не верь, он мертв». Я подумала, что покойник шутит. Только сегодня, когда я узнала об убийстве, я поняла, что муж меня предупреждал.
Дона Арминда повернулась к Габриэле. Насиб уже вошел в дом.
— Если что понадобится, зови меня обязательно. Завтра поговорим. Я всегда тебе помогу, ведь сеньор Насиб мне как родной. Он хозяин моего Шико…
Насиб показал Габриэле комнату во дворе, которую раньше занимала Филомена, и сказал, что она должна делать: убирать дом, стирать белье, стряпать для него.
Но он ничего не сказал о сладостях и закусках для бара, надо сначала посмотреть, как она вообще умеет готовить. Показал ей кладовку, где Разиня Шико оставлял провизию, купленную на базаре.
Он торопился — наступал вечер, бар скоро снова заполнится посетителями, а ему еще надо пообедать.
В гостиной Габриэла широко открытыми глазами смотрела из окна на вечернее море, она его видела впервые.
Насиб сказал ей на прощанье:
— И вымойся, тебе надо привести себя в порядок.
В гостинице Коэльо он встретил Мундиньо Фалкана, капитана и доктора, обедавших вместе. Насиб, конечно, подсел к их столу и тут же рассказал про кухарку. Те слушали его молча. Насиб понял, что прервал какую-то серьезную беседу. Они немного поговорили о сегодняшнем убийстве, и, едва Насиб приступил к еде, друзья, которые к тому времени, уже закончили обед, удалились. Он остался в раздумье. Безусловно, эти трое что-то затевают. Но что, черт возьми?
В баре в тот вечер Насибу пришлось побегать. Он метался как белка в колесе, все столики были заняты, все хотели поговорить о событиях дня. Часам к десяти появились капитан и доктор в сопровождении Кловиса Косты, директора «Диарио де Ильеус». Они пришли от Мундиньо Фалкапа и объявили, что экспортер придет в «Батаклан» на дебют Анабелы около полуночи.
Кловис и доктор говорили вполголоса. Насиб напряг слух.
За другим столиком Тонико Бастос рассказывал о роскошном, изысканном обеде у Амансио Леала, на который были приглашены друзья Жезуино Мендонсы, в том числе и Маурисио Каирес, взявший на себя защиту полковника. Это был настоящий банкете португальским вином и обильной, вкусной едой. Ньо Гало нашел, что это гнусно. Тело жены еще не остыло, и муж не имеет права… Ари Сантос рассказывал, как отпевали Синьязинью в доме ее родственников: это была грустная и бедная заупокойная служба, на которой присутствовало человек пять-шесть. С Осмундо поступили еще хуже. В течение нескольких часов у тела дантиста дежурила только служанка. Ари побывал там, ведь он, в конце концов, был знаком с покойным, они вместе посещали собрания общества Руя Барбозы.
— Попозже и я схожу к нему… — сказал капитан. — Он был хорошим парнем и, безусловно, талантливым. Писал превосходные стихи…
— Я тоже пойду, — поддержал его Ньо Гало.
Насиб из любопытства отправился вместе, с ними в дом Осмундо, пошел и еще кое-кто. Было около одиннадцати, и посетителей в баре становилось меньше.
Бедный Осмундо улыбался на смертном ложе, скрестив посиневшие руки. Насиб был взволнован.
— Ему попали прямо в грудь. В самое сердце.
Потом Насиб все же пошел в кабаре, чтобы посмотреть танцовщицу и чтобы забыть про мертвеца. Он уселся за один столик с Тонико Бастосом. Вокруг танцевали. В другом зале, через коридор, напротив, шла игра. Уже было довольно поздно, когда к ним подсел Эзекиел Прадо. Он ткнул указательным пальцем в грудь Насиба.
— Мне сказали, что у вас романчик с этой косенькой? — показал он на Ризолету, танцевавшую с коммивояжером.
— Романчик? Просто я вчера провел с нею ночь, вот и все.
— Ну и хорошо, а то я не люблю мешать интрижкам друзей. Но если… Она ведь классная девчонка, не так ли?
— А как же Марта, сеньор Эзекиел?
— Она совсем спятила, я даже ее побил. Сегодня не пойду к ней.
Он взял у Тонико стакан и опорожнил его залпом.
Ссоры адвоката и его любовницы, блондинки, которую он содержал уже несколько лет, были в городе дежурным блюдом, они повторялись каждые три дня. Чем больше он ее бил, когда напивался, тем сильнее она привязывалась к нему. Она была страстно влюблена в Эзекиела и разыскивала его по кабаре, по публичным домам и вытаскивала иногда из постели другой женщины. Семья адвоката жила в Баие, с женой он разошелся.
Эзекиел Прадо поднялся, покачиваясь пробрался среди танцующих и оттащил Ризолету от ее партнера.
Тонико Бастос объявил:
— Сейчас будет драка.
Но коммивояжеру была известна скандальная слава Эзекиела, он оставил Ризолету и поискал глазами другую женщину. Ризолета рванулась было к коммивояжеру, но Эзекиел сжал ей кисти рук и обнял ее.
— Ну, на сегодня лакомый кусочек для вас потерян… — засмеялся Тонико Бастос, обращаясь к Насибу.
— Он мне оказал большую услугу. Сегодня она мне не нужна, умираю от усталости. Как только танцовщица исполнит свой номер, ухожу. У меня был ужасный день.
— Ну, а как дела с кухаркой?
— Нашел наконец какую-то девушку из сертана.
— Молодую?
— А черт ее знает… Как будто. На ней столько грязи, что и не разглядишь. У этих сертанежо нет возраста, сеньор Тонико, даже девочки выглядят старухами,
— Хорошенькая?
— Откуда я знаю, если она в лохмотьях, вся в грязи, волосы от пыли стали как пакля?! Должно быть, ведьма, впрочем, мой дом не ваш, это у вас служанки — как девушки из общества.
— Что вы! Разве Олга наймет такую! Если у бедняжки смазливая мордочка, жена немедленно выгоняет ее на улицу да еще изругает на чем свет стоит.
— Дона Олга шутить не любит. И правильно делает. Вас действительно надо держать на короткой узде.
Тонико Бастос напустил на себя скромный вид.
— Ну, вы преувеличиваете, приятель. Откуда вы это взяли?
Пришел Мундиньо Фалкан с полковником Рибейриньо, они подсели к капитану.
— А доктор?
— Он же не ходит в кабаре. Его силой сюда не затащишь.
Ньо Гало подошел к Насибу.
— Уступили девушку Эзекиелу?
— Хочу сегодня отоспаться.
— А я пойду к Зилде. Говорят, там появилась девчонка из Пернамбуко, лакомый кусочек. — Он щелкнул языком. — Может быть, она придет сюда…
— Это такая с косами?
— Вот-вот. Толстозадая.
— Она в «Трианоне». Она там каждый вечер… — сказал Тонико.
— Ей покровительствует полковник Мелк, он привез ее из Баии. Втюрился по уши…
— Сегодня полковник отправился на фазенду. Я видел, как он уезжал, сообщил Насиб. — Нанимал работников на невольничьем рынке.
— Я пойду в «Трианон»…
— До выступления танцовщицы?
— Нет, как только она выступит.
«Батаклан» и «Трианон» были знаменитыми кабаре Ильеуса, которые посещали экспортеры, фазендейро, торговцы и приезжавшие в город по делам представители крупных фирм. Но на окраинных улицах были другие кабаре, куда ходили портовые рабочие, работники с плантаций, самые дешевые женщины. Там игра велась открыто, иначе кабаре не посещалось бы.
Маленький оркестр исполнял танцевальную музыку.
Тонико пошел приглашать даму. Ньо Гало посматривал на часы, наступило время выхода танцовщицы, и он проявлял нетерпение. Ему хотелось скорее отправиться в «Трианон» посмотреть эту девчонку с косами, содержанку полковника Мелка.
Был уже почти час ночи, когда оркестр умолк, свет погасили. Остались зажженными лишь маленькие синие лампочки, из игорного зала пришло много народу, большинство расселось за столиками, некоторые остались стоять у дверей. Анабела появилась из-за кулис с огромными веерами из перьев в обеих руках. Этими веерами она закрывалась, оставляя открытой то одну, то другую часть тела.
Принц в смокинге забарабанил на рояле. Анабела танцевала посреди зала, улыбаясь сидящим за столиками. Она имела успех. Полковник Рибейриньо кричал бис и аплодировал стоя. Огни зажглись, Анабела поблагодарила за аплодисменты; она была затянута в трико телесного цвета.
— Вот безобразие… Мы-то думали, что видим тело, а оказывается, это трико… — возмутился Ньо Гало.
Она удалилась под аплодисменты и вернулась через несколько минут для выступления во втором, еще более сенсационном номере. Анабела была закутана в разноцветные вуали, которые спадут одна за другой, как предсказывал Мундиньо. И когда очень скоро упало последнее покрывало и огни снова зажглись, все увидели ее почти обнаженное худощавое и стройное тело, на котором остался лишь крошечный треугольник да красная повязка, прикрывавшая ее небольшую грудь. Публика кричала хором, вызывая артистку на бис. Анабела удалилась, пробежав между столиками.
Полковник Рибейриньо заказал шампанское.
— Вот это настоящий номер… — воодушевился даже Ньо Гало.
Анабела и принц подсели к столику Мундиньо Фалкана. «Плачу я», — сказал Рибейриньо. Оркестр снова заиграл, Эзекиел Прадо потащил Ризолету танцевать, но, споткнувшись, повалился на стулья. Насиб решил уйти. Тонико Бастос, не спуская глаз с Анабелы, пересел за столик Мундиньо. Ньо Гало исчез. Танцовщица улыбнулась и подняла бокал с шампанским:
— За здоровье всех присутствующих. За процветание Ильеуса!
Ей зааплодировали. Сидевшие за соседними столиками поглядывали на них с завистью. Многие уже ушли в игорный зал. Насиб спустился по лестнице и вышел.
Он шел по затихшим улицам. В доме Маурисио Каиреса еще горел свет. Должно быть, изучает дело Жезуино, готовит материал для защиты, подумал Насиб, вспомнив возмущенные разглагольствования адвоката в баре. Но из-за закрытого окна послышался игривый женский смех и замер в тишине улицы. Ходили слухи, что вдовец по ночам приводит к себе негритяночек с холма. И все же Насиб не мог предположить, что в этот момент юрист, возможно из чисто профессионального интереса, требовал, чтобы девчонка с Уньана, шепелявая испуганная мулаточка, легла в постель в черных бумажных чулках.
— Чего только не бывает на свете… — хихикала девушка, обнажая при этом гнилые редкие зубы.
Насиб был утомлен после трудного дня. Ему наконец удалось узнать, почему Мундиньо так часто приходит и так быстро уходит, почему он шепчется с капитаном и доктором, тайно беседует с Кловисом. Их маневры связаны с бухтой. Насиб уловил это из обрывков разговора. Судя по тому, что они говорили, вскоре должны прибыть инженеры, а затем и землечерпалки и буксиры. Пусть это не всем придется по вкусу, но большие иностранные пароходы будут заходить в порт и забирать какао, экспорт будет производиться непосредственно из Ильеуса. А кому это могло не понравиться? И не означает ли это, что начинается открытая борьба против Бастосов, против полковника Рамиро?
Капитан всегда стремился заправлять местной политикой. Но он не был фазендейро, и у него не было денег на необходимые для этого затраты. Теперь его дружба с Мундиньо Фалканом становится понятной, назревают серьезные события. Полковник Рамиро, несмотря на свой возраст, не таков, чтобы сидеть сложа руки, он не сдастся без борьбы. Насиб не хотел впутываться в эту историю. Он дружил со всеми: и с Мундиньо, и с полковником, и с капитаном, и с Тонико Бастосом. Хозяину бара незачем вмешиваться в политику. Это сулит только убытки, это еще опаснее, чем связь с замужней женщиной.
Синьязинья и Осмундо уже не увидят буксиров и землечерпалок, углубляющих вход в бухту. Не увидят они и бурного прогресса, о котором говорил Мундиньо.
Таков этот мир, он соткан из радостей и горестей.
Насиб обогнул церковь и начал медленно подниматься по склону. Неужели Тонико Бастос спал с Синьязиньей? Или он просто сболтнул, чтобы похвастаться перед Насибом? Ньо Гало утверждает, что Тонико нагло врет. Обычно он не связывается с замужними женщинами. С содержанками — другое дело: тут он с хозяином не считается. Удачливый тип. Всегда элегантно одет, едва тронутые сединой волосы, вкрадчивый голос. Насибу хотелось быть таким, как Тонико, чтобы женщины глядели на пего с вожделением и бурно ревновали. Ему хотелось, чтобы его любили безумно, так как любит Тонико Лидия, любовница полковника Никодемоса. Она посылала Тонико записки, бегала по улицам, чтобы посмотреть на него, вздыхала по нему, а он не обращал на нее внимания, устав от женского поклонения. Ради него Лидия постоянно рисковала своим положением, ради одного его взгляда, одного его слова. Тонико пойдет на связь с любой содержанкой, кроме Глории, и все знают почему. Но с замужними женщинами, насколько Насибу было известно, он не путался.
Запыхавшись после подъема, Насиб вставил ключ в замочную скважину. В гостиной горел свет. Уж не воры ли? Или новая служанка забыла погасить свет?
Он вошел потихоньку и увидел, что она спит на стуле. Длинные волосы девушки были распущены по плечам. Вымытые и расчесанные, они оказались черными, пышными и вьющимися. Она была одета в более чистое, хотя и старое платье, очевидно, из ее узелка. Через прорванную юбку виднелось бедро цвета корицы, во сне ее грудь вздымалась и опускалась, губы улыбались.
— Боже мой! — Насиб остановился, не веря своим глазам.
Он разглядывал ее в безмерном изумлении — неужели эта красота скрывалась под дорожной пылью?
Заснувшая на стуле Габриэла, ее упавшая округлая рука, ее смуглое лицо, улыбавшееся во сне, просились на картину. Интересно, сколько ей лет? Тело — как у молодой женщины, лицо — как у девочки.
— Вот это да! — прошептал араб почти благоговейно.
При звуке его голоса она испуганно открыла глаза, но тут же улыбнулась, и комната будто тоже улыбнулась вместе с нею. Она встала и привела в порядок одежду, смиренная и ясная, как луч лунного света.
— Почему ты не легла? — Больше Насиб ничего не мог выговорить.
— Сеньор ничего мне не сказал…
— Какой сеньор?
— Вы… Я постирала белье, прибрала дом. Потом стала вас ждать и задремала, — проговорила она певуче, как все жители северо-востока.
От нее исходил запах гвоздики — может, от волос, а может, от затылка.
— Так ты действительно умеешь готовить?
Блики света лежали на ее волосах, глаза были опущены, правая нога Габриэлы скользила по полу, будто она собиралась танцевать.
— Умею, сеньор. Я работала в доме у богатых людей, они меня научили. Я люблю готовить… — Она улыбнулась, и все заулыбалось вместе с нею, даже араб, опустившийся на стул.
— Если ты и впрямь умеешь готовить, я положу тебе хорошее жалованье. Пятьдесят мильрейсов в месяц. У нас обычно платят двадцать, самое большее тридцать. Если тебе будет тяжело, возьмешь себе в помощь девочку. Старая Филомена упрямилась, никого не хотела. Говорила, что еще не помирает и никакие помощницы ей не нужны.
— Мне тоже.
— А жалованье? Тебе хватит?
— Сколько вы будете платить, столько мне и хватит…
— Завтра посмотрим, как ты готовишь. В час завтрака я пришлю к тебе мальчишку… Я ем в баре. А теперь…
Габриэла стояла, ожидая еще чего-то, с улыбкой на губах. Луч лунного света ласкал ее волосы, от нее исходил запах гвоздики.
— …теперь иди спать, уже поздно.
Слегка покачивая бедрами, она пошла к двери, он посмотрел на ее ноги, на видневшееся сквозь порванную юбку бедро цвета корицы. Она обернулась:
— Тогда спокойной ночи, сеньор…
Она исчезла в темноте коридора, Насибу показалось, что он услышал, как она тихо добавила: «Красавчик…» Он чуть не встал, чтобы позвать ее. Нет, она сказала это вечером на рынке. Если бы он ее позвал, она бы, наверно, испугалась, у нее такой простодушный вид, возможно, она еще невинная девушка… Ничего, впереди много времени. Насиб снял пиджак, развесил его на стуле, сорвал рубашку. В гостиной остался запах гвоздики. Завтра он купит ей в подарок ситцевое платье и домашние туфли.
Он уселся на кровать и стал расшнуровывать ботинки. Трудный выдался день. Сколько происшествий!
Насиб надел длинную ночную рубашку. Хороша смуглянка! А глаза какие… И кожа у нее загорелая, ему это нравится. Насиб улегся и погасил свет. Он погрузился в неспокойный, тревожный сон: увидел Синьязинью, ее обнаженное тело, ноги в черных чулках. Синьязинья была распростерта на палубе иностранного парохода, входящего в бухту. Оказывается, Осмундо бежал на автобусе и Жезуино стрелял в Тонико, а Мундиньо появился с доной Синьязиньей, она была живая, улыбалась Насибу и протягивала ему руки, но у нее было смуглое лицо его бывшей служанки. Только Насиб не мог догнать ее, танцуя, она скрылась в кабаре.
О похоронах и банкетах с поучительной историей, рассказанной в скобках
Отвоеванное вновь солнце было уже высоко, когда Насиб проснулся от криков доны Арминды:
— Пойдем поглядим на похороны, девочка! Будет очень интересно!
— Нет, сеньора, хозяин еще не встал.
Насиб вскочил с постели: разве можно пропустить похороны? Он выходил из ванной уже одетым, когда Габриэла поставила на стол дымящиеся кофейник и молочник. На столе, накрытом белой скатертью, стояли кускус из кукурузы с кокосовым молоком, жареные бананы, сладкая маниока. Она остановилась у двери в кухню и вопросительно посмотрела на него.
— Вы должны мне сказать, что любите.
Насиб жадно глотал кускус, в его глазах отразилось удовольствие, но любопытство заставляло его торопиться — как бы не опоздать на похороны!.. Замечательный кускус, и очень вкусны поджаренные ломтиками бананы… Насиб с трудом оторвался от еды. Габриэла стянула волосы лентой. Должно быть, приятно укусить ее смуглый затылок. Насиб выскочил из дому и чуть не бегом направился в бар. Его провожал голос Габриэлы, которая пела:
Не ходи туда, дружок: там откос, а ты не знаешь, поскользнешься, упадешь, ветку с розой обломаешь.Похоронная процессия с гробом Осмундо вышла с набережной на площадь.
— Некому даже гроб нести… — заметил кто-то.
— Да-а.
Пожалуй, еще никогда похоронная процессия не была такой малочисленной. Лишь самые близкие друзья Осмундо набрались мужества сопровождать его в этой последней прогулке по улицам Ильеуса. Тот, кто нес дантиста на кладбище, оскорблял тем самым полковника Жезуино и все ильеусское общество. Ари Сантос, капитан, Ньо Гало, редактор «Диарио де Ильеус» и еще кое-кто по очереди несли гроб.
У покойника не было семьи в Ильеусе, но за те месяцы, что он прожил здесь, он завел много знакомств — Осмундо был человек обходительный и любезный, непременный участник балов в клубе «Прогресс», собраний общества имени Руя Барбозы и семейных вечеринок, завсегдатай баров и кабаре. Тем не менее он отправлялся в последний путь как бедняк: никто не украсил его гроб цветами и никто не оплакивал его. Отец Осмундо дал телеграмму одному торговцу в Ильеусе, с которым у него были дела, и попросил его взять на себя хлопоты по похоронам, сообщив, что прибудет с первым пароходом. Торговец заказал гроб, позаботился о могиле, нанял в порту несколько рабочих, чтобы было кому нести гроб, если не явится никто из приятелей покойного, но не нашел нужным тратиться на венки и цветы.
Насиб не поддерживал тесных отношений с Ормундо. Изредка дантист заходил к нему в бар, но обычно посещал кафе «Шик». Почти всегда Осмундо выпивал в компании Ари Сантоса и учителя Жозуэ. Они декламировали сонеты, читали любимые места из прозаических произведений, вели литературные споры.
Иногда араб подсаживался к ним — слушал отрывки из романов, стихи, посвященные женщине. Он, как и все, считал дантиста хорошим парнем, об Осмундо отзывались как о знающем враче, пациентов у него становилось все больше. Наблюдая сейчас эти убогие похороны, эту жалкую горстку друзей, этот голый гроб без цветов, он почувствовал грусть. В конце концов, это несправедливо и недостойно такого города, как Ильеус. Где же люди, что превозносили его поэтический талант, где пациенты, что хвалили его легкую руку, когда он удалял коренные зубы, его коллеги по обществу имени Руя Барбозы, друзья по клубу «Прогресс», приятели по бару? Они боялись полковника Жезуино, боялись языков старых дев и общественного мнения, которое сочтет их солидарными с Осмундо.
Какой-то мальчишка врезался в похоронную процессию, раздавая рекламные листки кинотеатра, сообщавшие о дебюте «знаменитого индийского фокусника принца Сандры, величайшего иллюзиониста нашего столетия, факира и гипнотизера, которому рукоплескала вся Европа, а также его очаровательной помощницы мадам Анабелы, ясновидящей и представляющей собой чудо телепатии». Листок, унесенный ветром, летал над гробом. Осмундо не познакомится с Анабелой, не присоединится к свите ее поклонников, не примет участия в борьбе за обладание ею.
Похоронная процессия проходила мимо церкви, Насиб присоединился к горстке людей, идущих за гробом.
Он не пойдет на кладбище, ему нельзя надолго оставить бар, сегодня банкет автобусной компании. Но пройти за гробом по крайней мере два квартала он обязан.
Процессия вышла на улицу Параллелепипедов; чья это была идея? Более прямой и короткий путь лежал через улицу Полковника Адами, зачем же было проходить мимо дома, в котором находился гроб с телом Синьязиньи? Это, должно быть, придумал капитан.
Глория наблюдала шествие похоронной процессии из своего окна, сидя в капоте, накинутом поверх ночной рубашки. Гроб проплыл перед ее бюстом, едва прикрытым кружевами.
У дверей колледжа Эноха, где толпились любопытные ученики, учитель Жозуэ, сменив Ньо Гало, взялся за ручку гроба. Изо всех окон выглядывали люди, отовсюду слышались восклицания. У дома родственников Синьязиньи стояло несколько человек в черном. Гроб Осмундо медленно двигался, сопровождаемый жалкой свитой. Прохожие снимали шляпы. Из окна погруженного в траур дома кто-то крикнул:
— Не могли, что ли, пойти другой дорогой? Мало вам, что он погубил бедняжку?
Дойдя до центральной площади, Насиб вернулся.
Он недолго побыл на отпевании Синьязиньи. Ее гроб еще не был закрыт, в гостиной горели свечи, стояли цветы, у гроба лежало несколько венков. Женщины плакали. А несчастного Осмундо не оплакивал никто.
— Подождем немного. Пусть его похоронят, — сказал один из родственников Синьязиньи.
Хозяин дома, муж двоюродной сестры Синьязиньи, не скрывая своего недовольства, расхаживал по коридору. Смерть Синьязиньи явилась для него неожиданным осложнением; конечно, тело покойной нельзя было выносить из дома Жезуино и тем более из дома дантиста, это было бы неприлично. Его жена была единственной родственницей Синьязиньи, живущей в городе, остальные жили в Оливенсе: ну как он мог не позволить принести сюда тело и отпевать его здесь? И, как на грех, он друг полковника Жезуино и у него с ним дела.
— Вот уж некстати, — в отчаянии сетовал он.
Столько неприятных хлопот, не говоря уже о расходах. А кто будет платить?
Насиб подошел посмотреть на Синьязинью: глаза закрыты, лицо спокойное, гладкие волосы распущены, красивые стройные ноги. Он отвел взгляд, не время сейчас смотреть на ноги Синьязиньи. В гостиной появилась торжественная фигура доктора. На мгновение он задержался у гроба и сказал Насибу, но так, чтобы услышали все:
— В ее жилах текла кровь Авила. Эта кровь, кровь Офенизии, предопределила ее судьбу. — Он понизил голос. — Я считаю ее своей родственницей.
Зрители, теснившиеся в дверях и заглядывавшие в окна, были поражены, увидев Малвину, которая вошла с букетом цветов из собственного сада. Зачем пришла сюда, на похороны жены, убитой за измену, эта молодая девушка, еще школьница, дочь фазендейро? Ведь они не были близкими подругами. Ее провожали осуждающими взглядами, шептались по углам. Малвина улыбнулась доктору, положила цветы к ногам покойной, тихо помолилась и вышла, гордо выпрямившись, как и вошла. Насиб стоял, склонив голову.
— Эта дочка Мелка Тавареса — дерзкая особа.
— Она флиртует с Жозуэ.
Насиб тоже проводил Малвину взглядом, ему понравился ее поступок. Он не знал, что с ним происходит в этот день, но он проснулся в странном настроении, он чувствовал, что не может осуждать Осмундо и Синьязинью, потом его возмутило, что на похороны дантиста пришло так мало людей, раздражали жалобы хозяина дома, где стоял гроб покойной. Пришел отец Базилио, пожал всем руки, потолковал о сияющем солнце, об окончании дождей.
Наконец похоронная процессия вышла из дома. Она была многочисленней той, что шла за гробом Осмундо, но в общем тоже выглядела жалко. Отец Базилио прочел несколько молитв, семья Синьязиньи, прибывшая из Оливенсы, рыдала, хозяин дома облегченно вздохнул. Насиб вернулся в бар. Почему их не похоронили вместе, не вынесли оба гроба в один час из одного дома и не опустили в одну могилу? А ведь надо было сделать именно так. Подлая жизнь, бессердечный, лицемерный город, где уважают только деньги!
— Сеньор Насиб, служанка-то как хороша… Прямо красотка! — послышался вкрадчивый голос Шико.
— Иди к черту! — Насиб был грустен.
Он узнал потом, что гроб Синьязиньи внесли в ворота кладбища в тот самый момент, когда оттуда выходили немногие друзья Осмундо, пришедшие на его похороны. Почти в ту же минуту полковник Жезуино Мендонса, сопровождаемый Маурисио Каиресом, постучался в дверь дома судьи, чтобы предстать перед лицом закона. Потом адвокат появился в баре, но ничего, кроме минеральной воды, пить не стал.
— Вчера я перебрал у Амансио. Подавали первоклассное португальское вино…
Насиб отошел в сторону, ему не хотелось знать подробности устроенного накануне пира. Он решил сходить к сестрам Рейс узнать, как идут приготовления к обеду.
Сестры до сих пор никак не могли успокоиться.
— Еще вчера утром она была в церкви, бедняжка, — сказала, крестясь, Кинкина.
— Когда вы пришли к нам, мы только что расстались с ней после мессы, взволнованно добавила Флорзинья.
— Да, вот какие бывают дела… Поэтому я и не женюсь.
Сестры отвели Насиба на кухню, где орудовала Жукундина с дочками. «Пусть обед вас не беспокоит, все идет хорошо».
— А вы знаете, я все-таки нашел кухарку.
— Отлично. Хорошо стряпает?
— Кускус приготовила. А что она вообще умеет делать, узнаю немного позже, во время завтрака.
— Значит, наших закусок и сладостей вам больше не нужно?
— Если можно, поготовьте еще несколько дней.
— Я спрашиваю потому, что сейчас у нас очень много хлопот с презепио.
Когда посетителей в баре стало меньше, Насиб послал Шико завтракать.
— На обратном пути в бар захвати мой завтрак.
В час завтрака бар всегда пустел. Насиб в это время проверял кассу, подсчитывал выручку и расходы.
Первым после завтрака неизменно появлялся Тонико Бастос, он выпивал «для пищеварения» кашасу с «bitter»[53]. В этот день только и разговоров было, что о похоронах, потом Тонико рассказал о том, что произошло в кабаре после ухода Насиба. Полковник Рибейриньо так напился, что его пришлось тащить домой чуть не волоком. На лестнице его трижды вырвало, он перепачкал весь костюм.
— Рибейриньо втюрился в танцовщицу…
— А Мундиньо Фалкан?
— Он ушел рано. Заверил меня, что у него с ней ничего нет, путь свободен. Ну и я, конечно…
— Бросились в атаку…
— Точнее, вошел в игру. — А она?
— Как вам сказать? Кажется, проявляет интерес.
Но пока не подцепит Рибейриньо, очевидно, будет разыгрывать святую. Тут все заранее ясно.
— А муж?
— Целиком за полковника. Он уже все знает о Рибейриньо. А со мной не хочет иметь никаких дел. Пусть жена улыбается Рибейриньо, танцует с ним, прижимается к нему, пусть поддерживает ему голову, чтобы его лучше стошнило, каналья находит это замечательным. Но стоит мне подойти к ней, как он тут же оказывается между нами. Типичный профессиональный альфонс, — Он боится, что вы испортите ему все дело.
— Согласен на остатки. Пусть Рибейриньо платит, а я буду довольствоваться выходными днями… Я думаю, что и муж очень скоро угомонится. Сейчас ему уже должно быть известно, что я сын местного политического лидера. Поэтому ему лучше держаться со мной подобающим образом.
Пришел с завтраком Разиня Шико. Насиб вышел из-за прилавка и устроился за одним из столиков, повязав салфетку вокруг шеи.
— Ну-ка, посмотрим, что она за кухарка… — Новая? — полюбопытствовал Тонико.
— Никогда не видел такой красивой смуглянки! — лениво процедил Шико.
— А вы мне сказали, что она страшна, как ведьма, бесстыдный вы араб, Скрываете правду от друга?
Насиб разобрал судки, расставил на столе блюда.
— О! — воскликнул он, вдохнув аромат куриной кабиделы[54], жареной солонины, риса, фасоли и банана, нарезанного кружочками.
— Действительно хорошенькая? — расспрашивал Тонико Шико.
— Даже очень…
Тонико нагнулся над тарелками.
— И вы говорите, что она не умеет готовить? Вот лживый турок… Ведь слюнки текут…
Насиб пригласил его к столу:
— Тут на двоих хватит. Отведайте немножко.
Бико Фино открыл бутылку пива, поставил ее на стол.
— Что она сейчас делает? — спросил Насиб Шико.
— Завела длинный разговор с матерью. Рассуждают о спиритизме. То есть говорит мать, а она только слушает да смеется. А когда она смеется, сеньор Тонико, прямо обалдеть можно.
— О! — снова воскликнул Насиб, попробовав кушанье. — Это же манна небесная, сеньор Тонико. Теперь, благодарение богу, меня будут хорошо обслуживать.
— За столом и в постели? А, турок?..
Насиб наелся до отвала и после ухода Тонико растянулся, как обычно, в шезлонге, в тени деревьев позади бара. Он взял баиянскую газету почти недельной давности и закурил сигару, потом расправил усы Насиб был доволен жизнью, утренняя грусть рассеялась.
Позднее он сходит в лавку дяди, купит там дешевое платье и пару домашних туфель. Надо договориться с кухаркой о закусках и сладостях для бара. Вот уж не думал, что эта запыленная и оборванная беженка умеет так готовить… И что под слоем пыли скрывается такая очаровательная, такая соблазнительная женщина… Он мирно заснул. Ветерок с моря ласково шевелил его усы.
Еще не пробило пяти часов. В податном бюро и в других учреждениях было полно народу, когда взволнованный Ньо Гало с номером «Диарио де Ильеус» в руках ворвался в бар. Насиб подал ему вермут и приготовился рассказать о новой кухарке, но тот громко объявил своим гнусавым голосом:
— Началось!
— Что?
— Вот сегодняшняя газета. Только что вышла… Читайте…
На первой полосе была помещена длинная статья, набранная жирным шрифтом. Заголовок увенчивал четыре колонки:
«ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ К БУХТЕ».
Резкая критика была направлена главным образом в адрес префектуры и Алфреда Бастоса — «депутата палаты штата, избранного населением Ильеуса, чтобы отстаивать священные интересы какаового района», и забывшего об этом. Слабый голос этого депутата раздается лишь тогда, говорилось в статье, когда надо похвалить действия правительства; этот парламентарий умеет лишь выкрикивать «очень хорошо!» и «поддерживаю!». В статье критиковался и префект, один из кумовьев полковника Рамиро, «никчемная посредственность, способная лишь лебезить перед влиятельной персоной — местным касиком»[55], а также выдвигалось обвинение против политических деятелей, проявляющих пренебрежение к вопросу о бухте Ильеуса. Предлогом для статьи послужило вчерашнее происшествие: пароход «Ита» сел на мель. «Самая важная и самая неотложная проблема района представляет такую альтернативу: либо богатство и цивилизация, либо отсталость и нищета, — проблема бухты Ильеуса, или грандиозная проблема прямого экспорта какао», не существует для тех, кто «захватил при благоприятных обстоятельствах командные посты». Засим следовала едкая тирада, которая заканчивалась явным намеком на Мундиньо и напоминала, что «люди с высокоразвитым гражданским чувством намерены в связи с преступной халатностью муниципальных властей заняться этой проблемой и решить ее. Славные и неустрашимые жители Ильеуса, города древних традиций, сумеют осудить, наказать и вознаградить по заслугам!».
— Дело серьезное, мальчик…
— Похоже, доктор написал.
— Скорее Эзекиел.
— Нет, доктор. Я в этом уверен. Эзекиел напился вчера в кабаре. Статья вызовет шум…
— Шум?! Вы оптимист… Будет черт знает что!
— Если только не начнется сегодня же здесь, в баре.
— Почему здесь?
— А банкет автобусной компании, вы забыли? Придут все: префект, Мундиньо, полковник Амансио, Тонико, доктор, капитан, Мануэл Ягуар, даже полковник Рамиро Бастос обещал принять участие.
— Полковник Рамиро? Ведь он теперь не выходит по вечерам.
— И все же он сказал, что придет. Он человек слова и обязательно явится, вот увидите. Не исключено, что обед закончится ссорой…
Ньо Гало потирал руки.
— Вот будет весело… — Он отправился в податное бюро, оставив Насиба озабоченным. Насиб дружил со всеми, лучше ему держаться подальше от политической борьбы.
Пришли официанты, нанятые для банкета, они начали готовить зал, составляли столики. Почти в это же время судья с пачкой книг под мышкой устроился снаружи с Жоаном Фулженсио и Жозуэ. Они наблюдали за Глорией, сидящей у окна. Судья считал, что ее постоянное присутствие на площади скандализирует город. Жоан Фулженсио смеялся, не соглашаясь с ним:
— Глория — это социальная необходимость, сеньор, ее нужно рассматривать как общественно полезный институт, вроде обществ имени Руя Барбозы, имени Тринадцатого мая или дома призрения. Глория выполняет в обществе важную функцию. То, что она красуется в окне и время от времени появляется на улице, поднимает на более высокий уровень один из самых серьезных аспектов жизни города — сексуальную жизнь. Она воспитывает у юношей вкус к красоте и, позволяя мужьям некрасивых жен (а таких, к сожалению, в нашем городе большинство) мечтать о ней, воодушевляет их на выполнение супружеских обязанностей, которые иначе представляли бы для них невероятное затруднение.
Судья соблаговолил согласиться:
— Прекрасная защита, мой дорогой, достойная и защитника и подзащитной. Но, между нами говоря, это несправедливо: столько мяса для одного мужчины, да еще такого низенького и худенького. Если бы она хоть не целый день была на виду…
— А вы думаете, с ней никто не спит? Ошибаетесь, мой дорогой судья, ошибаетесь….
— Что вы говорите! Неужели кто-нибудь осмелился?
— Да большинство мужчин нашего города, достопочтенный. Когда они спят с женами, то думают о Глории, а значит, с ней они и спят.
— Конечно, сеньор, я сразу должен был догадаться, что вы шутите…
— Так или иначе, эта женщина в окне очень соблазнительна, — сказал Жозуэ. — Она так и впивается взглядом в мужчин…
К ним кто-то подошел, размахивая номером «Диарио де Ильеус»:
— Видели?
Жоан Фулженсио и Жозуэ уже были в курсе. Судья взял газету и водрузил на нос очки. За другими столиками статья уже обсуждалась.
— Ну, что скажете?
— Теперь политическая борьба разгорится… Сегодняшний обед будет весьма интересным.
Жозуэ продолжал рассуждать о Глории:
— Поистине удивительно, что никто не осмеливается связываться с ней. Это для меня загадка.
Учитель Жозуэ был новичком в этих краях, его привез Эпох, когда основывал колледж. И хотя Жозуэ сразу освоился, стал посещать «Папелариа Модело» и бар «Везувий», появляться в кабаре, произносить речи на празднествах, ужинать в публичных домах, он еще не знал многого из истории Ильеуса. И пока остальные обсуждали статью в «Диарно», Жоан Фулженсио рассказал ему, что произошло между полковником Кориолано и Тонико Бастосом незадолго до прибытия Жозуэ в Ильеус, когда полковник поселил Глорию в этом доме.
Предостережение в скобках
Полковник привез Глорию в город, — рассказал Жоан Фулженсио, этот кладезь всех событий и историй Ильеуса, — и поселил ее в лучшем из своих домов, где до переезда в столицу штата проживала его семья. Старые девы были очень, шокированы этим, а на мулатку стал заглядываться местный донжуан — нотариус Тонико Бастос, любимый сын полковника Рамиро, муж ревнивой жены и отец двоих прелестных детишек, мужчина очень элегантный, носивший по воскресеньям жилет.
Конечно, эта история совсем не напоминает идиллию Жуки Вианы и Шикиньи. Жозуэ уже слышал о них? Ему известны ее комические и печальные подробности. Причем печальных было, разумеется, больше, чем комических, ведь ильеусский юмор носит несколько мрачный характер. Глория и Тонико не гуляли по пляжу, не ходили, взявшись под руку, у причалов порта, и Тонико еще не рисковал постучаться ночью в дверь Глории. Он лишь позволял себе почаще заходить к девушке и подносить ей в подарок конфеты, купленные в баре Насиба, а также осведомиться о здоровье и спросить, не требуется ли ей чего-нибудь.
Грустные взгляды да комплименты — дальше этого Тонико не заходил.
Старинная дружба связывала полковника Кориолано с семьей Бастосов. Рамиро Бастос крестил сына полковника, они были политическими единомышленниками, часто встречались. Этим и пользовался Топико, когда объяснял жене, ужасно толстой и ревнивой доне Олге, что ему необходимо в силу дружеских связей и общности политических интересов с полковником посещать после обеда этот пустынный дом. Дона Олга вздымала свою монументальную грудь:
— Если нужно, Тонико, если полковник тебя просит, иди. Но смотри! Если только я что-нибудь узнаю, если только что-нибудь услышу…
— В таком случае, милая, чтобы у тебя не было подозрений, я лучше не пойду. Правда, я пообещал Кориолано…
Медоточивый язык у этого Тонико, говорил капитан. По мнению доны Олги вот бедняжка! — не было мужчины порядочнее его, не было мужчины, которого бы так преследовали женщины, незамужние и замужние, содержанки и все без исключения проститутки.
Тем не менее ее обуревали сомнения, и она держала мужа под контролем, чтобы он, чего доброго, не поддался искушению. Плохо же она его знала…
Так, терпением и конфетками Тонико «готовил себе ложе для отдохновения», как осторожно выражались в «Папелариа Модело» и в баре. Но раньше, чем случилось то, что неизбежно должно было случиться, полковник Кориолано узнал о посещениях Тонико, о его карамельках и страстных взглядах. Он неожиданно приехал в Ильеус в середине недели, явился в дом Тонико, где помещалась также и его нотариальная контора, в тот момент полная народу.
Тонико Бастос встретил приятеля шумными приветствиями и, обняв, похлопал его по спине — он был человеком исключительно сердечным и симпатичным. Кориолано поздоровался, взял у Тонико стул, уселся, ударил плеткой по своим грязным сапогам и сказал, не повышая голоса:
— Сеньор Тонико, до меня дошло, что вы разгуливаете возле дома моей приемной дочери. Я очень ценю вашу дружбу, сеньор Тонико. Я вас знал еще мальчиком. Поэтому я хочу, как старый друг, дать вам совет: не появляйтесь там больше. Я очень любил Жуку Виаку, сына покойного Вианы, моего партнера по покеру, и тоже знал его совсем маленьким. Вы помните, что с ним случилось? Нечто весьма печальное. Он, бедняга, спутался с женщиной, которая принадлежала другому.
В конторе стояла напряженная тишина. Тонико, заикаясь, произнес:
— Но, полковник…
Кориолано продолжал, не повышая голоса и по-прежнему играя плеткой:
— Вы молодой мужчина, красивый и видный, у вас много женщин, они вокруг вас так и вьются. Я же человек старый и уже немало переживший, моя супруга умерла, а у меня осталась только Глория. Мне нравится эта девушка, и я хочу, чтобы она была только моей. У меня никогда не было привычки оплачивать женщину, которая принадлежит другим. — Он улыбнулся. — Я вам друг, поэтому предупреждаю вас: не гуляйте больше в тех краях.
Нотариус побледнел, в конторе наступила гробовая тишина. Присутствующие переглядывались. Мануэл Ягуар, который зашел заверить подпись, утверждал впоследствии, что почувствовал в воздухе «запах покойника», а уж у него на это был хороший нюх, не одно убийство во времена вооруженной борьбы лежало на его совести. Тонико начал оправдываться: это, мол, клевета, подлая клевета его врагов и врагов Кориолано. Он заходил к Глории только затем, чтобы предложить свои услуги девушке, которой покровительствовал полковник и которую постоянно оскорбляли. Эта происки тех, кто нападает на Кориолано за то, что он поселил Глорию на площади Сан-Себастьян, в доме, где раньше жила его семья, тех, кто отворачивается от девушки, кто плюет ей вслед, когда она проходит мимо, — эти люди и плетут сейчас интригу против него, Тонико. Он лишь хотел публично выразить свое уважение к полковнику и солидарность с ним. У него ничего не было с девушкой, он и не помышлял ни о чем подобном. Медоточивый язык у этого Тонико, ничего не скажешь!
— Я знаю, что у вас с ней ничего не было. А если бы было, я бы не пришел сюда, и тогда у нас состоялся бы другой разговор. Но, возможно, у вас и было какое-то намерение, тут я не могу поручиться. Но намерения остаются намерениями, от них ни тепло, ни холодно… И все же вам лучше делать так, как делают другие: отворачиваться от нее. Это как раз то, что мне нужно. А теперь, раз вы предупреждены, не будем больше говорить об этом.
Он тут же завел разговор о делах, будто только за этим и приехал, потом прошел на жилую половину дома, поздоровался с доной Олгой, потрепал детишек по щекам.
Тонико Бастос перестал ходить по улице, где живет Глория, а она с тех пор еще больше томится от скуки и одиночества. Город посудачил всласть на эту тему:
«Ложе провалилось прежде, чем он на него улегся», — говорили одни. «И провалилось с треском», — добавляли другие безжалостно, как истинные ильеусцы. Предупреждение полковника Кориолано послужило на пользу не только Тонико: многие решили оставить свои намерения, которые скучными ночами рождали тревожные сны, навеянные созерцанием бюста Глории, а также ее улыбки, которая освещала глаза и уста, «влажные от желания», как очень удачно выразился Жозуэ в одном из своих стихотворений. Но выиграли от этого, как утверждал Жоан Фулженсио, заканчивая рассказ, прежде всего старые и некрасивые жены, ибо, как он уже говорил судье, Глория приносила общественную пользу, поднимая на более высокий уровень сексуальную жизнь Ильеуса, все еще феодального, несмотря на всесторонний и неоспоримый прогресс.
Скобки закрыты, начинается банкет
Вопреки ожиданиям и опасениям Насиба, обед в честь открытия автобусной линии прошел в мире и согласии. Еще не было семи часов и едва успели удалиться засидевшиеся любители аперитива, а русский Яков потирая руки и широко улыбаясь, уже вертелся около Насиба. Он тоже читал статью в газете и тоже опасался, что банкет будет испорчен. Горячие люди в этом Ильеусе… Его компаньон Моасир Эстрела ожидал в гараже прибытия автобуса с приглашенными из Итабуны — должно было приехать человек десять, в том числе префект и судья. И вдруг появилась эта злополучная статья, сеявшая раздор, недоверие и раскол среди приглашенных.
— Она еще наделает много шума.
Капитан, пришедший пораньше, чтобы сыграть, как обычно, партию в триктрак, конфиденциально сообщил Насибу, что статья эта лишь начало. Последует целая серия, и вообще дело не ограничится одними статьями, Ильеусу предстоит пережить знаменательные дни. Доктор, пальцы которого были перепачканы чернилами, а глаза блестели огнем тщеславия, мимоходом забежал в бар, объявив, что невероятно занят.
Что же касается Тонико Бастоса, то он не вернулся, так как его потребовал к себе полковник Рамиро.
Первыми прибыли приглашенные из Итабуны, они не могли нахвалиться поездкой — рейс автобус совершил за полтора часа, несмотря на то что дорога еще не совсем просохла. Приехавшие со снисходительным любопытством рассматривали ильеусские улицы, дома, церковь, бар «Везувий», винный склад, кинотеатр «Ильеус» и находили, что Итабуна намного лучше.
В Ильеусе нет таких церквей, нет такого кинотеатра, нет зданий, которые могли бы сравниться с новыми итабунскими домами, баров с таким богатым выбором вин, столь оживленных и многолюдных кабаре. Как раз в то время начало развиваться соперничество между двумя крупнейшими городами какаовой зоны. Итабунцы говорили о неслыханном прогрессе и изумительном росте их края, который несколько лет назад был всего лишь одним из районов Ильеуса — поселком, известным под названием Табокас. Они спорили с капитаном, обсуждали проблему бухты.
Семьи ильеусцев направлялись в кинотеатр, чтобы присутствовать на дебюте фокусника Сандры. Привлеченные оживлением в баре, они поглядывали на собравшихся там важных персон, на большой стол в форме, буквы «Т». Яков и Моасир встречали приглашенных. Мундиньо Фалкан пришел с Кловисом Костой, и это многим показалось любопытным. Экспортер обнялся с некоторыми итабунцами, среди них были его клиенты. Полковник Амансио Леал, беседовавший с Мануэлем Ягуаром, рассказал, что Жезуино с разрешения судьи отбыл на свою фазенду, где будет ожидать суда. Полковник Рибейриньо не спускал глаз с дверей кинотеатра в надежде увидеть Анабелу. Беседа становилась общей, говорили о вчерашнем убийстве, о похоронах, о делах, об окончании дождей, о видах на урожай, о принце Сандре и Анабеле, но тщательно избегали какого-либо упоминания о бухте и о статье в «Динарио де Ильеус», словно боялись начать враждебные действия; никто не желал взять на себя подобную ответственность.
Около восьми часов, когда уже стали было садиться за стол, кто-то у двери бара сказал:
— А вот и полковник Рамиро Бастос с Тонико.
Амансио Леал направился им навстречу. Насиб так и подскочил: атмосфера накалялась, смех звучал фальшиво, теперь араб заметил под пиджаками револьверы. Мундиньо Фалкан разговаривал с Жоаном Фулженсио, капитан подошел к ним. На другой стороне площади у ворот Малвины прохаживался учитель Жозуэ. Полковник Рамиро Бастос вошел в бар усталой походкой, опираясь на палку, и поздоровался со всеми по очереди. Остановившись рядом с Кловисом Костой, он пожал ему руку.
— Как газета, Кловис? Процветает?
— Да ничего, полковник, спасибо.
Потом задержался немного около группы, состоявшей из Мундиньо, Жоана Фулженсио и капитана, поинтересовался поездкой Мундиньо, упрекнул Жоана Фулженсио за то, что тот последнее время не заходит, перекинулся шуткой с капитаном. Насиб искренне восхищался стариком: его, должно быть, снедает злоба, но внешне он ничем себя не выдает. Полковник смотрел на своих противников, на людей, которые решили бороться против него, решили отнять у него власть, так, будто перед ним были неразумные дети, не представлявшие никакой опасности. Его посадили на почетное место, между двумя префектами, а Мундиньо неподалеку — между двумя судьями. Начали подавать блюда, приготовленные сестрами Рейс.
Поначалу все чувствовали себя не совсем свободно. Ели и пили, говорили и смеялись и все же ощущали какую-то тревогу, будто чего-то ждали. Полковник Рамиро Бастос не притрагивался к еде, он лишь пригубил вино из своего стакана. Его близорукие глаза останавливались то на одном, то на другом госте. Задержавшись на Кловисе Косте, капитане и Мундиньо, они потемнели. Неожиданно он спросил, почему нет доктора, и выразил сожаление, что он отсутствует. Понемногу обстановка становилась веселее и непринужденнее. Начали рассказывать анекдоты, вспоминали танцы Анабелы, хвалили блюда, приготовленные сестрами Рейс.
Наконец наступило время речей. Русский Яков и Моасир попросили Эзекиела Прадо выступить от имени автобусной компании, устроившей обед. Адвокат поднялся; он много выпил, и язык у него несколько заплетался, но все же чем больше он пил, тем лучше говорил. Амансио Леал что-то тихо сказал Маурисио Каиресу, несомненно предупредил его, чтобы тот слушал внимательнее. Если Эзекиел, лояльность которого по отношению к полковнику Рамиро пошатнулась со времени последних выборов, затронет вопрос о бухте, то ему, Маурисио, придется ответить на это неуместное выступление. Однако Эзекиел в этот волнующий день выбрал в качестве основной темы дружбу между Ильеусом и Итабуной, городами-братьями зоны какао, ныне связанными еще и новой автобусной линией. Эта линия — «грандиозное начинание» таких предприимчивых людей, как Яков, «приехавший из ледяных степей Сибири, чтобы стимулировать прогресс этого бразильского уголка», — при этом глаза Якова, в действительности родившегося в еврейском квартале Киева, увлажнились, — и Моасир, который благодаря собственным усилиям стал образцом трудолюбия. Моасир скромно опустил голову, в то время как вокруг раздавались одобрительные возгласы. Тут оратор разошелся, он говорил о цивилизации и прогрессе, предвещал большое будущее зоне какао, которая, без всякого сомнения, «быстро достигнет высочайших вершин культуры».
Префект Ильеуса в скучной и долгой речи приветствовал жителей Йтабуны, представленных здесь столь выдающимися лицами. Префект Йтабуны полковник Аристотелес Пирес, который задумчиво наблюдал за всем, что происходило на банкете, в ответной краткой речи поблагодарил его. Затем взял слово Маурисио Каирес, он решил на десерт угостить слушателей изречениями из Библии, а в заключение поднял тост за «безупречного ильеусца, которому мы стольким обязаны, за почтенного и достойного человека, неутомимого администратора, образцового отца семейства, нашего вождя и друга полковника Рамиро Бастоса». Все выпили, и Мундиньо тоже поднял рюмку за здоровье полковника. Едва Маурисио Каирес уселся, как с бокалом в руке встал капитан. Он сказал, что тоже хочет произнести тост, воспользовавшись этим праздником, который символизирует новый этап в прогрессе зоны какао. Тост за человека, прибывшего из большого южного города, чтобы в этом районе найти применение своим возможностям, своей исключительной энергии, своим данным государственного деятеля и своему патриотизму. За этого человека, которому Ильеус и Итабуна уже стольким обязаны, чье имя негласно связано с этой автобусной компаний, как и со всем, что в последние годы предприняло население Ильеуса, — за Раймундо Мендеса Фалкана поднимает он свой бокал. Теперь наступила очередь полковника поднять рюмку за здоровье экспортера. Как потом рассказывали, в течение всей речи капитан Амансио Леал держал руку на револьвере.
Но ничего не случилось. Только все поняли, что с этого дня Мундиньо возглавит оппозицию и начнется борьба. Однако не та, что велась раньше, во времена захвата земель. Теперь оружие и засады, поджог нотариальных контор и подделки документов не решали дела. Жоан Фулженсио сказал судье:
— Вместо выстрелов — речи… Так-то лучше.
Но судья усомнился:
— Все равно это кончится стрельбой, помяните мое слово.
Полковник Рамиро Бастос, сопровождаемый Тонико, вскоре удалился. Остальные расселись за столиками бара, продолжая пить. В отдельной комнате собралась компания игроков в покер, некоторые направились в кабаре. Насиб переходил от одной группы гостей к другой, подгонял официантов. Пили много.
В самый разгар банкета он получил записку от Ризолеты, которую доставил мальчишка. Ей непременно нужно видеть его этой ночью, она будет ждать его в «Батаклане». И подписалась — «твоя зверюшка Ризолета». Араб довольно улыбнулся. Около кассы лежал пакет для Габриэлы: ситцевое платье и пара туфель.
Кончился сеанс в кинотеатре, и бар наполнился посетителями. У Насиба не было ни минуты свободного времени. Теперь почти все посетители спорили по поводу статьи. Правда, некоторые еще обсуждали вчерашнее убийство, семейные люди, побывавшие в. кинотеатре, хвалили фокусника. Но все же основной темой разговоров почти за всеми столиками была статья в «Диарио де Ильеус». Оживление в баре продолжалось до позднего вечера. Было уже за полночь, когда Насиб запер кассу и направился в кабаре. Там за одним из столиков сидели Рибейриньо, Эзекиел и еще кто-то; Анабела упрашивала их написать в альбоме отзыв о ее танцах. Ньо Гало, романтик по натуре, начертал: «Ты, о танцовщица, ты — воплощенье настоящего искусства!» Эзекиел Прадо, который напился до чертиков, добавил неровным почерком: «Я хотел бы быть жиголо этого настоящего искусства!» Принц Сандра не выпускал изо рта длинный мундштук, имитированный под слоновую кость. Рибейриньо, державшийся с принцем весьма фамильярно, хлопал его по спине и рассказывал о богатстве своей фазенды.
Ризолета ожидала Насиба. Она отвела его в угол зала и поведала о своих горестях: она проснулась сегодня разбитой, снова дала себя знать старая болезнь, которая давно мучила ее; пришлось вызвать врача.
А она совсем без денег, нет даже на лекарство, и не у кого попросить, она почти никого не знает. Она решила обратиться к Насибу — он был таким милым прошлой ночью… Араб дал ей ассигнацию, что-то пробормотав при этом. Ризолета погладила его по голове:
— Я поправлюсь через два-три дня и пришлю тогда за тобой…
Насиб поспешил уйти. Действительно ли она больна или просто разыграла комедию, чтобы вытянуть у него деньги и поужинать с каким-нибудь студентом или приказчиком? Насиб почувствовал раздражение, он рассчитывал пойти к ней, забыть в ее объятиях этот трудный день — похороны, хлопоты и беспокойства из-за банкета, политические интриги. После такого дня особенно когда он кончается неудачей — человек как выжатый лимон. Насиб держал в руках пакет для Габриэлы. Огни погасли, появилась танцовщица в наряде из перьев. Полковник Рибейриньо подозвал официанта и заказал шампанского.
Ночь Габриэлы
Насиб вошел в гостиную и сбросил ботинки. Большую часть дня он провел на ногах, расхаживая от столика к столику. Какое удовольствие разуться, снять носки, пошевелить пальцами, немного походить босиком и сунуть ноги в старые домашние туфли. Насиб задумался. Анабела, должно быть, уже кончила свой номер и теперь сидит с Рибейриньо и попивает шампанское. Тонико Бастос что-то так и не появился.
А принц? Его зовут Эдуардо да Силва, и в документах он значится как артист. Он циник. Заискивает перед фазендейро, толкает жену в его объятия и торгует ее телом. Насиб пожал плечами. А может, он просто бедняк, для которого Анабела не очень много значит: мимолетная связь да работают вместе — вот и все.
А для принца это было лишним заработком, по лицу видно, что он немало голодал. Без сомнения, грязный заработок, ну, а где он, чистый? Стоит ли порицать и осуждать принца? Кто знает, не порядочнее ли он друзей Осмундо — его товарищей по бару, по литературным вечерам, по балам в клубе «Прогресс», с которыми он говорил о женщинах? Не порядочнее ли он этих честных граждан, не пожелавших отнести тело друга на кладбище?.. Вот капитан — порядочный человек. Он беден и лишен всяких средств, кроме жалованья федерального сборщика налогов, у него нет плантаций какао, но у него на все есть собственное мнение, и он не боится высказать его кому угодно.
Капитан не был близким другом Осмундо, но пришел на похороны и нес гроб. А его речь на обеде? Он открыто назвал имя Мундиньо в присутствии полковника Рамиро Бастоса.
Вспомнив банкет, Насиб вздрогнул. Ведь дело могло кончиться стрельбой; счастье, что все обошлось.
Впрочем, это было только начало, как сказал капитан.
У Мундиньо есть деньги, связи в Рио, друзья в федеральном правительстве, он не «какая-нибудь шушера», как нынешний лидер оппозиции пожилой сутулый доктор Онорато, целиком зависящий от Рамиро Бастоса, у которого он выпрашивал места для сыновей.
Мундиньо многих привлечет на свою сторону, добьется раскола среди фазендейро, решающих исход выборов, он еще доставит кое-кому хлопоты. Только бы ему удалось, как он обещал, добыть инженеров, а также землечерпалки для расчистки входа в бухту… Он мог бы взять управление Ильеусом в свои руки, а Бастосов подвергнуть остракизму. Старик уже совсем одряхлел, Алфредо сидит в палате штата только потому, что он его сын; но он лишь хороший детский врач, и только… Что касается Тонико, то он не рожден для политики, не рожден править и повелевать, создавать И разрушать созданное. Если только дело не касается женщин. Сегодня он не пришел в кабаре. Наверняка чтобы не вступать в дебаты о статье, ведь он не любитель споров. Насиб покачал головой. Он был другом тех и других, капитана и Тонико, Амансио Леала и доктора, он с ними выпивал, играл в карты и шашки, беседовал, посещал дома терпимости. От них зависел его заработок. И вот теперь они разделены, каждый либо на той, либо на другой стороне. Только в одном они были согласны: неверная жена заслуживает смерти; ни капитан, ни даже родственник, в доме которого отпевали Синьязинью, не стали защищать ее.
Какого черта явилась туда дочь Мелка Тавареса, эта девица, по которой так страстно вздыхает Жозуэ, молчаливая, с красивым личиком и беспокойными глазами, словно скрывающими какую-то тайну? Однажды, когда она с подругами покупала шоколад в баре, Жоан Фулженсио сказал:
— Эта девушка не похожа на других, она с характером.
Чем она не похожа на других и что хотел сказать столь просвещенный Жоан Фулженсио, когда упомянул о ее характере? И в самом деле она пришла на отпевание и принесла цветы, в то время как ее отец посетил Жезуино, «чтобы обнять его», как он сам сказал Насибу на невольничьем рынке. Какого же дьявола его дочь, девушка на выданье, является в дом, где стоит гроб Синьязиньи? Мир разделился: отец по одну сторону, дочь по другую. Как все сложно, нет, он не может этого понять, это выше его сил, он всего лишь хозяин бара, и ему не к чему думать обо всем атом. Ему надо зарабатывать деньги, чтобы когда-нибудь купить плантацию какао. Бог даст, он ее приобретет. Возможно, тогда он сможет взглянуть в лицо Малвине и попытаться разгадать ее тайну. Или, на худой конец, снять домик для любовницы вроде Глории.
Насиба мучила жажда, и он отправился на кухню напиться воды. Там он увидел принесенный им из лавки дяди пакет с платьем и домашними туфлями для Габриэлы и остановился в нерешительности. Лучше, пожалуй, отдать ей все это завтра или положить пакет у двери ее комнатки, чтобы она нашла его, когда проснется. Будто на рождество… Он улыбнулся и взял сверток. Жадно, большими глотками выпил воды; он много пил во время обеда, помогая подавать.
Высокая луна освещала дынные деревья и гуявы, росшие во дворе. Дверь в комнату служанки была открыта. Наверное, из-за жары. При Филомене она всегда бывала заперта на ключ, старуха боялась воров и охраняла свое богатство — изображения святых. Лунный свет проникал внутрь комнаты. Насиб вошел; пожалуй, он положит пакет в ногах Габриэлы, пусть утром она испугается. А будущей ночью, возможно…
Его глаза всматривались в темноту. Луч лунного света падал на кровать, освещая ногу Габриэлы. Чувствуя волнение, Насиб впился в нее взглядом. Он ожидал, что проведет эту ночь в объятиях Ризолеты, е-этой уверенностью он и пошел в кабаре, предвкушая искусные ласки проститутки большого города. Но его желание осталось неудовлетворенным. И вот он увидел смуглую кожу Габриэлы, ее йогу, свесившуюся с постели. Он угадывал ее тело под заплатанным одеялом. И этот запах гвоздики, от которого кружится голова…
Габриэла зашевелилась во сне, араб переступил порог. Он остался стоять с протянутой рукой посреди комнаты, не смея дотронуться до Габриэлы. К чему торопиться? Он останется без кухарки, а такой ему никогда не найти. Лучше всего оставить пакет на краю кровати. Завтра он подольше задержится дома и попытается завоевать ее доверие, рано или поздно она будет принадлежать ему.
Его рука дрогнула, когда он клал сверток. Габриэла вскочила, открыла глаза, хотела что-то сказать, но увидела перед собой Насиба, который пристально смотрел на нее. Инстинктивно она поискала рукой одеяло, но то ли она была смущена, то ли это была хитрость, но только оно соскользнуло с кровати. Она приподнялась и села, застенчиво улыбаясь. Она не старалась прикрыть грудь, которая теперь была отчетливо видна в лунном свете.
— Я принес тебе подарок, — запинаясь, произнес Насиб. — Хотел положить на постель. Я только что вошел…
Она улыбнулась: может, хотела показать, что не боится его, а может, старалась подбодрить своего хозяина. Все возможно. Она вела себя как ребенок, бедра и грудь ее были обнажены, будто она не видела в этом ничего плохого, будто ничего не знала об этих вещах и была совершенно невинной. Она взяла сверток у него из рук.
— Спасибо, сеньор, да хранит вас бог.
Она развязала пакет, взгляд Насиба скользил по ней. Улыбаясь, она приложила платье к груди и стала его разглаживать.
— Красивое…
Габриэла взглянула на туфли. Насиб задыхался от волнения.
— Сеньор так добр…
Желание поднималось в груди Насиба, сжимало ему горло. Его глаза потемнели, запах гвоздики кружил голову, она отстранила от себя платье, чтобы лучше его разглядеть, и ее наивная нагота опять предстала глазам Насиба.
— Красивое… Сначала я не спала, ждала, когда вы распорядитесь, что приготовить на завтра. Но вас все не было, и я легла…
— У меня было много работы. — Он с трудом выдавливал из себя слова.
— Бедненький… Вы устали?
Она сложила платье и поставила туфли на пол.
— Дай мне, я повешу его на гвоздь.
Он дотронулся до руки Габриэлы, она рассмеялась.
— Какая холодная рука…
Он не мог больше сдерживаться, схватил ее за руку, другая его рука потянулась к ее груди, отчетливо видной при свете луны. Габриэла привлекла его к себе.
— Красавчик…
Запах гвоздики наполнил комнату, жар исходил от тела Габриэлы, охватывал Насиба, жег ему кожу, лунный свет умирал на постели. Голос Габриэлы в перерывах между поцелуями шептал едва слышно;
— Красавчик…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Радости и печали дочери народа на улицах Ильеуса, на ее пути от кухни к алтарю (впрочем, алтаря не было из-за религиозных осложнений), когда у всех появилось много денег и жизнь города стала преображаться; о свадьбах и разводах, о любовных вздохах и сценах ревности, о политических предательствах и литературных вечерах, о покушениях, бегствах, кострах из газет, предвыборной борьбе и конце одиночества, о капоэиристах и шеф-поваре, о жаре и новогодних празднествах, о танцах пастушек и бродячем цирке, о ярмарках и водолазах, о женщинах, прибывающих с каждым новым параходом, о жагунсо, стреляющих в последний раз, о больших грузовых судах в порту, о нарушенном законе, о цветке и звезде, или Габриэла, гвоздика и корица
ГЛАВА ТРЕТЬЯ Секрет Малвины (родившейся для большой судьбы и запертой в своем саду)
Мораль поколеблена, нравы падают, авантюристы прибывают из чужих краев…
(Из речи адвоката Маурисио Каиреса)Колыбельная для Малвины
Спи, красавица моя, и во сне счастливой будь: сбудется мечта твоя, ты уедешь в дальний путь. Я томлюсь в саду своем, пленница в цепях цветочных. На помощь! Мне душно тут! На помощь! Меня убьют! Меня замуж отдадут, в доме навсегда запрут, чтобы в кухне колдовала, за уборкой тосковала, на рояле днем бренчала, в церкви по утрам скучала, отдадут кому-нибудь, чтоб наседкой стала я. Сбудется мечта твоя, ты уедешь в дальний путь. Будет мужу и сеньору жизнь моя во всем подвластна, и подвластны мои платья, и духи мои подвластны, и подвластно время сна, и желание подвластно, и подвластно мое тело, сердце и душа моя. Вправе он пронзить мне грудь, вправе только плакать я. Сбудется мечта твоя, ты уедешь в дальний путь. Увезите же меня поскорей куда-нибудь! Не хочу я мужа чтить, а хочу его любить! Нищ, богат, урод, красавец, хоть мулат — мне все равно! Не хочу я быть рабыней. Увезите же меня поскорей куда-нибудь! Сбудется мечта твоя, ты уедешь в дальний путь. Я уеду в дальний путь хоть вдвоем, хоть в одиночку, проклянут, благословят ли я уеду в дальний путь. Я уеду, чтоб влюбиться, в дальний путь уеду я, я уеду, чтоб трудиться, в дальний путь уеду я, за свободой в дальний путь навсегда уеду я. Спи, красавица моя, и во сне счастливой будь.Гаьпиэла с цветком
На клумбах площадей Ильеуса расцветали цветы: розы, хризантемы, георгины, маргаритки, ноготки. На зеленых лужайках, как красные брызги, пылали лепестки цветка «Одиннадцать часов». В лесной чаше, в зоне Мальядо, во влажных рощах Уньана и Конкисты цвели сказочные орхидеи. Но не аромат цветов и не свежий запах зеленых садов и лесов господствовал в городе. В Ильеусе пахло сухими зернами какао.
Этот запах, исходивший от складов, где производилась упаковка какао, от порта и от помещений экспортных фирм, был так силен, что у приезжих от него кружилась голова, однако жители города к нему привыкли и не замечали его вовсе. Запах какао плыл над городом, над рекою, над морем.
На плантациях созревали плоды какао, и в пейзаже начал преобладать желтый цвет всех тонов и оттенков, даже воздух стал золотистым. Приближался сбор урожая, невиданно богатого и обильного.
Габриэла приготовила огромный поднос со сладостями и другой — еще больше — с акараже, абара, пирожками с треской, запеканками. Негритенок Туиска, посасывая окурок, сообщил ей, о чем говорят в баре и о тех мелких событиях, которые особенно его заинтересовали: о том, что у Мундиньо Фалкана десять пар ботинок, о футбольных матчах на пляже, о краже в мануфактурной лавке и о скором прибытии «Большого балканского цирка» со слоном, жирафом, верблюдом, львами и тиграми. Габриэла слушала его с улыбкой, цирк тоже заинтересовал ее:
— Правда приезжает?
— Уже повсюду развешаны объявления.
— Как-то и к нам приезжал цирк. Мы с теткой ходили смотреть. Показывали человека, который глотал огонь.
У Туиски были свои планы: как только цирк приедет, он отправится сопровождать клоуна, когда тот будет разъезжать по городу верхом на верблюде. Всякий раз, когда бродячий цирк поднимал свой шатер на пустыре рыбного рынка, повторялось одно и то же.
Клоун спрашивал:
— Кто паяц? Ответ короток.
Ребята отвечали хором:
— Он гроза для всех красоток.
За различные услуги клоун мелом делал Туиске пометку на лбу, и его бесплатно пускали на вечернее представление. А если негритенок помогал униформистам в подготовке манежа, он становился в цирке своим человеком и на время забрасывал ящик с гуталином и щетками.
— Однажды меня хотели забрать с собой. Сам директор звал…
— Униформистом?
Туиска чуть не обиделся:
— Нет. Артистом.
— А что ты должен был делать?
Черное личико Туиски просияло:
— Помогать в номере с обезьянами. И еще танцевать… Я не пошел только из-за матери… — У негритянки Раймунды разыгрался ревматизм, и она не могла больше стирать чужое белье, поэтому на жизнь зарабатывали сыновья Фило, шофер автобуса, и Туиска, мастер на все руки.
— Разве ты умеешь танцевать?
— А ты не видела? Хочешь, покажу?
И Туиска принялся танцевать; он прямо создан был для танца: ноги сами выделывали на, тело легко и свободно двигалось, ладони отхлопывали ритм. Габриэла смотрела на Туиску, она тоже любила танцевать и не удержалась. Бросила подносы и кастрюли, закуски и сладости, подхватила рукой юбку и закружилась в танце. Теперь на освещенном солнцем дворе плясали двое негритенок и мулатка. Они забыли обо всем на свете. Вдруг Туиска остановился, продолжая барабанить по перевернутой пустой кастрюле. Габриэла кружилась, юбка ее развевалась, руки ритмично двигались, тело покачивалось, бедра вздрагивали, лицо сияло…
— Боже мой, а подносы…
Они быстро собрали все — и сладости и закуски, Туиска водрузил подносы на голову и вышел, насвистывая мелодию танца. Ноги Габриэлы продолжали притопывать, она так любила танцы, но на кухне что-то зашипело, и она бросилась туда.
Когда Габриэла услышала, что Разиня Шико пришел завтракать, у нее уже все было готово, она взяла судки, сунула ноги в туфли и направилась к выходу.
Габриэла пошла отнести Насибу еду и помочь в баре, пока Шико завтракал. Однако, дойдя до порога, она дернулась, сорвала с клумбы розу и воткнула ее в волосы над ухом, бархатные лепестки нежно коснулись щеки девушки.
Этой моде ее научил сапожник Фелипе, который отчаянно сквернословил, когда проклинал священников, и превращался в благородного испанского дворянина, когда беседовал с дамой. «Самая изящная мода на свете», заявил он.
— Все сеньориты в Севилье носят в волосах красную розу.
Он много лет прожил в Ильеусе, подбивая подметки, но все еще говорил с акцентом и мешал испанские слова с португальскими. Раньше он появлялся в баре Иасиба очень редко. Много работал — починял седла и уздечки, мастерил плетки, прибивал подметки к ботинкам и сапогам, а в свободное время читал брошюры в красных обложках и спорил в «Папелариа Модело». Только по воскресеньям он появлялся в баре, чтобы сыграть партию в триктрак и шашки, и слыл опасным противником. Теперь он до завтрака, в час аперитива, бывал у Насиба ежедневно. Когда приходила Габриэла, испанец встряхивал непокорной седой шевелюрой и смеялся, показывая свои ослепительные, как у юноши, зубы:
— Salve la gracia, ole![56]
И щелкал пальцами, как кастаньетами.
Впрочем, и другие, ранее случайные, посетители сделались теперь завсегдатаями бара. «Везувий» процветал, как никогда прежде. Сладости и закуски Габриэлы с первых же дней прославились среди любителей аперитивов, многие из них перекочевали к Насибу из портовых баров, чем очень обеспокоился Плинио Араса, хозяин «Золотой водки». Ньо Гало, Тонико Бастос и капитан, которые по очереди завтракали с Насибом, повсюду рассказывали чудеса об искусстве Габриэлы. Ее акараже, ее жаркое из рубленого мяса с крабами, залитое яйцами и завернутое в банановые листья, острые пирожки с мясом были воспеты в прозе и в стихах; учитель Жозуэ посвятил этим кушаньям четверостишие, в котором рифмовал колбасы с кашасой и повариху с франтихой. Мундиньо Фалкан попросил у Иасиба Габриэлу на один день, когда устроил у себя обед в связи с тем, что через Ильеус проезжал на «Ите» один его приятель, сенатор от штата Алагоас.
Посетители приходили выпить аперитив, сыграть в покер, полакомиться наперченными акараже и слоеными пирожками с треской, возбуждавшими аппетит. Их становилось все больше, многие приводили знакомых, которые уже наслушались рассказов о кулинарном искусстве Габриэлы. Однако кое-кто теперь задерживался несколько дольше обычного, не торопясь завтракать. Это началось с тех пор, как Габриэла стала сама приходить в бар с судками для Насиба.
Когда она входила, вокруг раздавались восхищенные возгласы: всех пленяла ее плавная походка, ее опущенные глаза; и улыбка, игравшая на губах Габриэлы, освещала лица присутствующих. Она входила, здоровалась с посетителями, сидевшими за столиками, шла прямо к стойке и ставила судки. Раньше в этот час людей в баре было совсем мало, да и те торопились закончить завтрак и уйти. Теперь же многие продлевали час аперитива, определяя время по приходу Габриэлы и выпивая последний глоток после ее появления в баре.
— Ну-ка, Бико Фино, рюмку «петушиного хвоста»[57].
— Два вермута…
— Сыграем еще одну? — Кости стучали в кожаном стакане и катились по столу. — Тройка королей по одной…
Габриэла помогала обслуживать посетителей, чтобы они скорее разошлись, а то еда в судках остынет и потеряет вкус. Ее туфельки скользили по цементному полу, пышные волосы были схвачены лентой, свежее лицо не накрашено. Своей танцующей походкой она расхаживала среди столиков, кто-то говорил ей любезности, кто-то глядел на нее молящими глазами. Доктор похлопывал Габриэлу по руке, называя своей девочкой. Она всем улыбалась и могла бы показаться ребенком, если бы не широкие бедра. Внезапное оживление каждый раз овладевало посетителями, будто присутствие Габриэлы делало бар более гостеприимным и уютным.
Со своего места за стойкой Насиб видел, как она появляется на площади с розой в черных волосах. Глаза араба жмурились: судки были полны вкусной едой, а он в этот час всегда был голоден и с трудом удерживался, чтобы не съесть приготовленные для посетителей пирожки с мясом и креветками и другие лакомые закуски. Насиб знал, что, когда появляется Габриэла, почти за всеми столиками заказывают новые порции аперитивов, выручка увеличивается, к тому же приятно было увидеть ее среди дня, вспомнить прошедшую ночь и представить будущую.
Он тайком щипал ее, прикасался к ее груди. Габриэла тихонько посмеивалась — ей было приятно.
Капитан подзывал девушку:
— Иди-ка, взгляни на игру, ведь ты моя ученица…
Напуская на себя отцовскую строгость, он называл Габриэлу ученицей с того дня, когда в почти пустом зале попытался обучить ее секретам игры в триктрак.
Габриэла смеялась, качая головой, — кроме игры «в осла», она не сумела научиться никакой другой. Но, когда подходила к концу затянувшаяся партия, капитан нарочно медлил, чтобы дождаться Габриэлы, и требовал ее присутствия при решающих бросках:
— Иди сюда, ты приносишь мне счастье…
Иногда она приносила счастье Ньо Гало, сапожнику Фелипе или доктору.
— Спасибо, моя девочка, бог даст, ты станешь еще краше, — говорил доктор, легко похлопывая ее по руке.
— Краше? Но это невозможно! — протестовал капитан, сразу отказываясь от отеческого тона.
Ньо Гало ничего не говорил, он только глядел на Габриэлу. Сапожник Фелипе расхваливал розу в ее волосах.
— Ah, mis vinte anos![58]
Он спрашивал Жозуэ — почему бы ему не написать сонет, посвященный этой розе, этому ушку, этим зеленым глазам? Жозуэ отвечал, что сонета тут мало, он напишет оду или балладу.
Они поднимались, когда часы били половину первого, и уходили, оставив щедрые чаевые, которые Бико Фино жадно подбирал своими грязными руками. Подстегнутые боем часов, посетители неохотно шли к выходу. Бар пустел, Насиб садился завтракать. Габриэла подавала ему, ходила вокруг столика, откупоривала и наливала пиво. Ее смуглое лицо сияло, когда Насиб, рыгнув («Это полезно для здоровья», — утверждал он), хвалил ее блюда. Она убирала судки, к этому времени возвращался Шико, теперь шел завтракать Бико Фино. Потом Габриэла ставила шезлонг на тенистом участке позади бара, выходившем на площадь, говорила «до свидания, Насиб» и уходила домой. Араб закуривал сигару «Сан-Феликс», брал баиянские газеты недельной давности и наблюдал за ней, пока она не исчезала за поворотом у церкви. Он любовался ее танцующей походкой, ее покачивающимися бедрами. Но розы в ее волосах уже не было. Насиб находил ее на шезлонге, — падала ли роза случайно, когда девушка нагибалась, или она вынимала ее из волос и оставляла нарочно? Красная роза с ароматом гвоздики — запахом Габриэлы.
О долгожданном, но нежелательном госте
Возбужденно-радостные, капитан и доктор пришли в бар «Везувий» рано и привели с собой мужчину спортивного вида лет тридцати с небольшим. У него было открытое лицо. Еще до того, как его представили, Насиб догадался, кто это. Наконец-то он объявился, этот столь долгожданный и вызвавший столько споров инженер…
— Ромуло Виейра, инженер министерства путей сообщения.
— Очень приятно, сеньор. К вашим услугам…
— Мне также очень приятно познакомиться с вами.
Вот он, с загорелым лицом, коротко остриженными волосами, с небольшим шрамом на лбу. Ромуло сильно пожал руку Насиба. Доктор улыбался со счастливым видом, будто представлял Насибу своего прославленного родственника или женщину редкой красоты. Капитан пошутил:
— Этот араб — неотъемлемая принадлежность нашего города. Он отравляет нас разбавленным вином, обжуливает в покер и знает все про любого из нас.
— Не говорите так, капитан. Что господин инженер может обо мне подумать?
— Впрочем, Насиб — наш хороший друг, — исправил свою характеристику капитан, — и уважаемый человек.
Инженер улыбался несколько принужденно, недоверчиво оглядывая площадь и улицы, бар, кино, соседние дома, в окнах которых появились лица любопытных. Инженер и его новые знакомые уселись за одним из столиков на улице. В своем окне показалась Глория, она была в утреннем неглиже и расчесывала мокрые после ванны волосы. Она сразу обнаружила нового мужчину, рассмотрела его и побежала привести себя в порядок.
— Хороша? — Капитан объяснил инженеру причину одиночества Глории.
Насиб пожелал сам обслужить гостей, он принес тарелку с кусочками льда — пиво было не очень холодным. Наконец-то инженер в городе! Накануне «Диарио де Ильеус» возвестила жирным шрифтом на первой странице о предстоящем прибытии инженера на пароходе «Баияна». «Итак, — едко заключила газета, — те недалекие и злобные люди, которые с глупым смехом предрекали провал этого предприятия и упрямо отрицали не только то, что инженер прибудет, но даже то, что он вообще существует в министерстве, вынуждены теперь натянуто улыбаться… Завтра им придется прикусить языки, их тщеславие будет наказано». Инженер прибыл через Баию и высадился в Ильеусе этим утром.
Статья была написана в резком тоне и полна оскорблений в адрес противника. Правда, инженер явился со значительным опозданием: прошло более трех месяцев с момента, когда было объявлено о его скором приезде. В один прекрасный день (Насиб очень хорошо его запомнил, ибо в тот день от него ушла старая Филомена и он нанял Габриэлу) Мундиньо Фалкан прибыл на «Ите» и, демонстрируя, сколь велик его авторитет в высших сферах, распространялся повсюду о скором исследовании и разрешении проблемы бухты.
Все зависело от приезда инженера из министерства.
Известие это вызвало в городе сенсацию никак не меньшую, чем преступление полковника Жезуино Мендонсы. Оно ознаменовало начало политической кампании по подготовке к выборам в будущем году. Муидиньо Фалкан согласился возглавить оппозицию и сумел увлечь за собой немало людей. «Диарио де Ильеус», в подзаголовке которой значилось «информационная независимая газета», стала шельмовать муниципальную администрацию, нападать на полковника Рамиро Бастоса и отпускать шпильки по адресу властей штата. Доктор написал серию ядовитых памфлетов, как мечом потрясая над головами Бастосов известием о приезде инженера.
В своем бюро — весь первый этаж дома был занят помещением, где упаковывали какао, — Мундиньо Фалкан беседовал с фазендейро, но они не обсуждали торговых дел и не вели переговоров о ценах на урожай или о сроках платежа, они толковали о политике; Мундиньо предлагал союзы, сообщал о своих планах, говорил о выборах так, словно уже победил. Полковника слушали, слова Мундиньо производили некоторое впечатление. Бастосы правили Ильеусом более двадцати лет, их власть поддерживали менявшиеся время от времени правительства штата. Мундиньо же нашел поддержку выше: ему покровительствовали в Рио, в, федеральном правительстве. Разве он не получил, несмотря на сопротивление правительства штата, инженера для исследования считавшейся доселе безнадежной проблемы бухты и не гарантировал разрешение этой проблемы в ближайшее время?
— Полковник Рибейриньо, который прежде никогда не интересовался голосами зависящих от него избирателей и отдавал их даром Рамиро Бастосу, примкнул теперь к группировке нового лидера, впервые занявшись политикой. Он с воодушевлением разъезжал по провинции, вел переговоры со своими кумовьями и оказывал влияние на мелких землевладельцев.
Поговаривали, что дружба Рибейриньо и Мундиньо родилась в постели Анабелы, танцовщицы, привезенной экспортером; она уже бросила своего партнера-иллюзиониста, чтобы танцевать исключительно для полковника. «Вернее, исключительно для полковника и Тонико!» — думал Насиб. Сохраняя образцовый политический нейтралитет, она спала с Тонико Бастосом, в то время как полковник объезжал города и поселки.
И им обоим она изменяла с Мундиньо Фалканом, стоило тому прислать ей записку. На него она в конечном счете и рассчитывала в случае каких-нибудь неприятностей в этом страшном краю, где такие грубые нравы.
Многие фазендейро, особенно молодые, обязательства которых по отношению к полковнику Рамиро Бастосу взяты были недавно и не обагрены пролитой в борьбе за землю кровью, были согласны с Мундиньо Фалканом в анализе и методах разрешения проблем Ильеуса: надо прокладывать дороги, использовать часть доходов на нужды провинциальных районов — Агуа-Преты, Пиранжи, Рио-до-Брасо, Кашоэйры-до-Сул, а также потребовать от англичан скорейшего окончания строительства железнодорожной ветки Ильеус — Итапира, которое бесконечно затягивалось.
— Хватит площадей и парков… Нам нужны дороги.
Их особенно воодушевляла перспектива прямого экспорта какао за границу, если фарватер в бухте будет углублен и выпрямлен, что позволит заходить в гавань крупным судам. Доход муниципалитета возрастет, Ильеус станет настоящей столицей. Еще несколько дней — и приедет инженер… Но время шло, проходила неделя за неделей, месяц за месяцем, а инженер не приезжал. Энтузиазм фазендейро начал гаснуть; только Рибейриньо держался твердо, он по-прежнему спорил в барах, что-то обещал, кому-то угрожал. «Жорнал до Сул», еженедельник Бастоса, спрашивал, «где же этот инженер-призрак, плод воображения честолюбивых и злонамеренных чужестранцев, которые пользуются авторитетом лишь среди завсегдатаев бара?».
Даже капитан, душа движения за прогресс Ильеуса, нервничал, хоть и старался это скрыть, раздражался во время игры в триктрак и проигрывал.
Полковник Рамиро Бастос поехал в Баию, хотя друзья и сыновья советовали ему отказаться от этого опасного в его возрасте путешествия. Он вернулся неделю спустя с победоносным видом и собрал у себя своих единомышленников.
Амансио Леал, как всегда вкрадчиво, рассказывал слушателям, что губернатор штата заверил полковника Рамиро, будто министерство вообще не назначало инженера для обследования бухты Ильеуса. Эту проблему разрешить нельзя, в управлении путей сообщения штата уже обстоятельно ее изучили. Выхода действительно нет, и пытаться найти его — только зря время терять. Единственное, что можно сделать, — это соорудить новый порт для Ильеуса в Мальядо, за пределами бухты. Но это грандиозное строительство потребовало бы долгих изысканий, миллионных средств и поддержки федерального правительства, властей штата и муниципалитета. Поскольку это строительство будет вестись в таких огромных масштабах, исследовательские работы продвигаются медленно, иначе и быть не может. Надо произвести много изысканий, длительных и трудоемких. Но они уже начаты. Население Ильеуса должно еще немного потерпеть…
«Жорнал до Сул» опубликовал статью о будущем порте, похвалив губернатора и полковника Рамиро.
«Что касается инженера, — писала газета, — то он, видимо, навсегда застрял на мели…» Префект, по подсказке Рамиро, распорядился озеленить еще одну площадь, рядом с новым зданием «Бразильского банка».
Амансио Леал всякий раз, как встречал капитана или доктора, не упускал случая спросить с насмешливой улыбкой:
— Ну, как инженер? Когда он прибывает?
Доктор резко отвечал:
— Хорошо смеется тот, кто смеется последний.
А капитан добавлял:
— Подождем, над нами не каплет.
— Да сколько ж можно ждать?
Их споры кончались тем, что они вместе отправлялись выпить. Амансио требовал, чтобы платили капитан и доктор.
— Когда инженер приедет, буду расплачиваться я.
Как-то он захотел подшутить над Рибейриньо, но тот вышел из себя и закричал на весь бар:
— Я не скаред. Хотите пари? Тогда ставьте деньги. Я ставлю десять конто за то, что инженер приедет.
— Десять конто? А я ставлю двадцать против ваших десяти и даю год сроку. Или хотите больше? — Голос Амансио звучал мягко, но в глазах была злоба.
Насиб и Жоан Фулженсио согласились быть свидетелями.
Капитан наседал на Мундиньо, требуя, чтобы тот съездил в Рио и нажал на министра. Экспортер отказывался. Начался сбор урожая, он не мог оставить в такое время контору. Кроме того, ехать совершенно излишне, так как инженер прибудет наверняка, очевидно, просто задерживается из-за бюрократических формальностей. Мундиньо никому не рассказывал о возникших осложнениях, о тревоге, которую он испытывал, когда узнал из письма друга, что министр отказался от своего обещания после протеста губернатора, штата Баия. Мундиньо тогда пустил в ход все свои обширные связи, только бы добиться положительного решения вопроса; он не обратился лишь к членам своей семьи. Экспортер разослал массу писем, отправил кучу телеграмм, он просил и обещал. Один из его друзей поговорил с президентом республики, причем решающим фактором в продвижении этого весьма затруднительного дела оказались (впрочем, этого Мундиньо никогда не узнал) имена Лоуривала и Эмилио. Узнав о родстве Мундиньо с влиятельными политическими деятелями Сан-Пауло, президент сказал министру:
— В конце концов, это справедливая просьба. Срок правления губернатора уже истекает, он со многими испортил отношения, и неизвестно, кто будет его преемником. Мы не должны постоянно склоняться перед волей правительства штата…
Несколько дней Мундиньо жил охваченный страхом, почти паническим. Если он проиграет, ему не останется ничего иного, как сложить чемоданы и уехать из Ильеуса. Ведь не сможет же он, потерпев крах, остаться тут, чтобы быть объектом насмешек и издевательств. Придется вернуться под крылышко братцев, понурив от стыда голову. Он почти перестал появляться в барах, в кабаре, где злословили по его адресу все больше.
Даже Тони ко Бастос, державшийся прежде очень скромно и избегавший, сколь возможно, затрагивать злополучный вопрос в присутствии сторонников Мундиньо, и тот перестал сдерживаться, радуясь плохому настроению противников. Однажды между ним и капитаном произошла перепалка. Жоану Фулженсио пришлось вмешаться, чтобы не допустить ссоры. Тонико предложил, когда они пили:
— Почему бы Мундиньо не привезти вместо инженера еще одну танцовщицу? Это требует меньше труда, и заодно он оказал бы друзьям услугу…
В тот же вечер капитан без предупреждения появился в доме экспортера. Мундиньо встретил его сухо:
— Вы меня извините, капитан, но я не один.
У меня девушка из Баии, она приехала с сегодняшним пароходом. Мне хотелось немного отвлечься от дел…
— Я У вас отниму ровно минуту. — Упоминание о девке, выписанной из Баии, окончательно разозлило капитана. — Знаете, что Тонико Бастос заявил сегодня в баре? Будто вы годны только на то, чтобы привозить в Ильеус женщин. Женщин, и только… Ведь инженера все нет.
— Что ж, это очень забавно. — Мундиньо рассмеялся. — Но вы не расстраивайтесь…
— Как же мне не расстраиваться? Время идет, а инженера все нет…
— Я уже заранее знаю все, что вы скажете, капитан. Вы думаете, что я дурак и сижу сложа руки?
— Почему вы не обратитесь к своим братьям? Они люди влиятельные…
— На это я никогда не пойду. Да это и не нужно. Сегодня я послал в столицу настоящий ультиматум. Успокойтесь и простите за такой прием.
— Ну что вы, это я пришел не вовремя… — Капитан услышал женские шаги в соседней комнате.
— И спросите у Тонико, кого он предпочитает — блондинок или шатенок…
Несколько дней спустя пришла телеграмма от министра, в которой сообщалось имя инженера и дата его выезда в Баию. Мундиньо созвал капитана, полковника Рибейриньо и доктора. «Назначен инженер Ромуло Виейра». Капитан взял телеграмму и встал.
— Я утру нос Тонико и Амансио…
— Мы шутя выиграли кучу денег…. — Рибейриньо поднял руку. Устроим по этому поводу грандиозную попойку в «Батаклане».
Мундиньо взял телеграмму из рук капитана. Больше того, он попросил друзей хранить секрет еще в течение некоторого времени, будет гораздо эффектнее, если они объявят об этом в газете, когда инженер ужо, приедет в Баию. В глубине души он опасался, что губернатор снова окажет давление на министра и тот снова отступит. И только неделю спустя, когда инженер, уже высадившись в Баие, сообщил о своем прибытии со следующим пароходом «Баияна», Мундиньо опять созвал своих сторонников и показал им письма и телеграммы — свидетельства его изнурительной и тяжелой битвы против правительства штата. Он не хотел тревожить друзей, поэтому не ввел их раньше в курс подробностей этого сражения. Но теперь, когда оно выиграно, им следует узнать, какой ценой была одержана эта великая победа.
Рибейриньо заказал в баре «Везувий» выпивку для всех. И капитан, который опять пришел в хорошее настроение, произнес тост за здоровье «инженера Ромуло Виейры, освободителя ильеусской бухты». Известие о его прибытии распространилось повсюду, снова появились сообщения в газете, и фазендейро воспряли духом. Рибейриньо, капитан и доктор цитировали некоторые места из писем Мундиньо. Правительство штата сделало все, чтобы помешать инженеру приехать. Оно использовало всю свою власть, всю свою силу. Даже губернатор ввязался в эту борьбу. И кто победил? Он, который держит весь штат в руках и является главой правительства, или Мундиньо Фалкан, который добился успеха, не покидая своей конторы в Ильеусе? Его личный авторитет одержал победу над авторитетом правительства штата. Против этого никто не станет спорить. Фазендейро, на которых это произвело сильное впечатление, кивали головами.
Встреча в порту была торжественной. Насиб, вставший поздно, что теперь случалось с ним нередко, не смог туда явиться. Но он узнал все от Ньо Гало, едва пришел в бар. В порту собрались Мундиньо Фалкан и его друзья, фазендейро, а также много любопытных.
Столько было разговоров об этом инженере, и теперь всем хотелось увидеть своими глазами, что собой представляет это почти мифическое существо. Появился даже фотограф, нанятый Кловисом Костой. Он собрал всех вместе, накрылся черной тряпкой, и прошло не менее получаса, прежде чем был запечатлен групповой портрет. К сожалению, этот исторический документ пропал: снимок не получился, старик умел фотографировать только в ателье.
— Когда вы думаете приступить?
— Сразу же. Начнем с предварительных изысканий. Но я должен дождаться своих помощников с необходимыми приборами, они плывут на пароходе компании «Ллойд» прямо из Рио.
— Много времени вам понадобится?
— Заранее трудно сказать. Месяца полтора — два, точно не знаю…
Инженер поинтересовался в свою очередь:
— Красивый пляж. Хорошее здесь купание?
— Очень.
— Но на берегу что-то никого не видно…
— В Ильеусе не принято купаться. Рискует только Мундиньо, да еще купался покойный Осмундо, дантист, которого убили… И то рано утром…
Инженер рассмеялся:
— Но ведь купаться не запрещается?
— Запрещается? Нет. Просто не принято.
Девушки из монастырской школы, которые, воспользовавшись церковным праздником, ходили по магазинам, делая покупки, зашли в бар за конфетами.
Среди них была красивая и серьезная Малвина. Капитан их представил:
— Наша учащаяся молодежь, будущие матери семейств — Ирасема, Элоиза, Зулейка, Малвина…
Инженер с улыбкой пожимал руки, говорил комплименты:
— Оказывается, здесь много хорошеньких девушек…
— А вы, сеньор, что-то очень задержались, — сказала Малвина, подняв на него свои исполненные тайны глаза. — Мы уже начали думать, что вы вообще не приедете.
— Если бы я знал, что меня ждут такие красивые сеньориты, я бы уже давно приехал, даже если б меня не отпускали… — Какие глаза у этой девушки. Красивыми были не только ее лицо и изящная фигура, в лей чувствовалась и внутренняя красота.
Веселая стайка девушек удалилась, Малвина дважды обернулась. Инженер объявил:
— Надо воспользоваться солнцем и искупаться.
— Возвращайтесь к аперитиву. Здесь его пьют в одиннадцать полдвенадцатого… В баре познакомитесь с половиной Ильеуса…
Инженер остановился в гостинице Коэльо. Немного погодя жители Ильеуса увидели, что в купальном халате он направился на пляж. Все смотрели, как атлетически сложенный инженер снимает халат, как, оставшись в одних трусах, бежит к морю, как рассекает волны сильными взмахами рук. Малвина уселась на одну из скамеек возле пляжа и принялась наблюдать за инженером.
О том, как у араба Насиба началось смятение чувств
Он прочел несколько строк в газете, затягиваясь ароматной сигарой «Сан-Феликс». Обычно он не успевал выкурить сигару и просмотреть баиянские газеты, как засыпал, убаюканный морским ветерком, разомлевший от аппетитных лакомых кушаний, от несравненных приправ Габриэлы. Из-под его густых усов вырывался спокойный мерный храп. Эти полчаса сна в тени деревьев были одним из наслаждений в ясной, спокойной жизни Насиба без тревог, без осложнений, без проблем. Никогда еще его дела не шли так хорошо. Число посетителей бара неуклонно росло, Насиб откладывал деньги в банк, его мечта об участке для плантации какао становилась все более реальной. Ему еще не доводилось совершать более выгодной сделки, чем наем Габриэлы на невольничьем рынке. Кто бы мог подумать, что она такая искусная кухарка, и кто бы сказал, что под грязными лохмотьями скрывается столько грации и красоты, что ее тело так пламенно, руки так ласковы и что от нее так одуряюще пахнет гвоздикой?..
В этот день посетители бара были охвачены любопытством, повсюду слышались приветствия, похвалы инженеру («Вы отличный пловец»), завтракать в И. льеусе все сели с опозданием. Насиб подсчитывал, сколько дней прошло с тех пор, как было объявлено о предстоящем прибытии инженера. Габриэла ушла домой, предварительно спросив:
— Можно мне пойти сегодня в кино? С доной Арминдой…
Он великодушно вытащил из кассы бумажку в пять мильрейсов.
— Заплати и за ее билет…
Наблюдая, как она, улыбаясь, торопливо уходит (он не переставал пощипывать и касаться ее даже во время еды), Насиб закончил свои подсчеты: три месяца и восемнадцать дней тревог, слухов, волнений, неуверенности и надежд для Мундиньо и его друзей, а также для полковника Рамиро Бастоса и его единомышленников. Взаимные выпады в газетах, секретные переговоры, пари, перепалки, глухие угрозы, — словом, атмосфера накалялась с каждым днем. Порой бар казался котлом, который готов взорваться… Капитан и Тонико почти не разговаривали друг с другом, полковник Амансио Леал и полковник Рибейриньо едва здоровались при встрече.
Подумать только, как все странно получается.
А для Насиба эти тревожные дни были днями тишины, полного спокойствия, безмятежной радости. Пожалуй, это были самые счастливые дни его жизни.
…Никогда он не спал так сладко во время сиесты, как в те дни Он с улыбкой просыпался при звуке голоса Тонико, которому обязательно нужно было выпить после завтрака рюмку горького аперитива для пищеварения и немножко побеседовать перед открытием конторы. Немного погодя к ним присоединялся Жоан Фулженсио, направляющийся в «Папелариа Модело».
Они обсуждали события, происшедшие в Ильеусе и во всем мире, книготорговец хорошо разбирался в международных делах, а Тонико знал все, что касалось женщин города…
На три месяца и восемнадцать дней задержалось прибытие инженера, и ровно столько же времени прошло с того момента, как он нанял Габриэлу. В тот день полковник Жезуино Мендонса убил дону Синьязинью и дантиста Осмундо, но лишь на другой день Насиб убедился, что Габриэла умеет готовить. Лежа в шезлонге с погасшей сигарой во рту, бросив газету на землю, Насиб вспоминал и улыбался… Три месяца и семнадцать дней ест он блюда, приготовленные Габриэлей, да, во всем Ильеусе нет кухарки, которая могла бы с ней сравниться. Три месяца и семнадцать дней он с ней спит, начиная со второй ночи, когда в луче лунного света увидел ее ногу и во мраке комнаты угадал ее грудь, проглядывавшую сквозь порванную рубашку…
Сегодня, возможно, из-за необычного оживления в баре, из-за шума, вызванного присутствием инженера, он не заснул, отдавшись мыслям. В первое время Насиб не оценил в полной мере ни качество пищи, ни горячее тело беженки. Довольный вкусом и разнообразием блюд, он отдал ей должное только тогда, когда число посетителей стало возрастать, когда понадобилось увеличить ассортимент закусок и сладостей, когда похвалы стали следовать одна за другой и Плинио Араса, методы которого в торговле были весьма спорны, попытался переманить Габриэлу. Что же касается ее тела, то Насиб, охваченный небывалым любовным пылом, так сильно к нему привязался, что без сна проводил с Габриэлой безумные ночи. Вначале он приходил к ней лишь изредка, когда, возвращаясь домой — по той причине, что Ризолета была занята или больна, — он не был утомлен и ему не хотелось спать. В таких случаях он решал ложиться с Габриэлой, так как больше ничего не оставалось делать. Но скоро этому пренебрежению пришел конец. Насиб так привык к пище, приготовленной новой кухаркой, что попав на день рождения к Ньо Гало и едва притронувшись к поданным блюдам, сразу почувствовал, насколько тоньше приправы Габриэлы. Сам того не замечая, он стал все чаще посещать заднюю комнатку, забыв искусную Ризолету; ему опротивели ее наигранная нежность, ее капризы, вечные жалобы, даже ее утонченная любовь, которой она пользовалась, чтобы вытягивать из его кармана деньги. Наконец он перестал к ней ходить вовсе, перестал отвечать на ее записки, и вот уже почти два месяца у него не было никого, кроме Габриэлы.
Теперь Насиб каждый вечер приходил к ней в комнату, стараясь уйти из бара как можно раньше.
Хорошо, когда жизнь радостна, плоть удовлетворена, пища вкусна и ее вдоволь, душа покойна, хорошо, когда любовь — счастливая… В перечень добродетелей Габриэлы, составленный Насибом в час сиесты, были включены трудолюбие и бережливость. Как хватало у нее времени и сил стирать белье, убирать дом, — в таком порядке он никогда еще не содержался! — готовить закуски для бара, завтрак и обед для Насиба? А ночью она была свежа, неутомима и полна желания, и не только отдаваясь, но и беря, никогда не бывала усталой, сонной или пресыщенной. Габриэла, казалось, угадывала мысли Насиба, предупреждала его желания и часто радовала его сюрпризами: то приготовит изысканное кушанье, которое он любил, — маниоковую кашу с крабами, ватапу[59] или «баранью вдову», — то поставит цветы рядом с его портретом на столике в гостиной, то сэкономит деньги, которые он выдавал ей на покупки, то придет помочь в баре.
Раньше Разиня Шико, возвращаясь с завтрака, приносил Насибу судки с едой, приготовленной Филоменой. Желудок неумолимо отмечал время, и араб, который оставался с Бико Фино обслуживать последних посетителей, приходивших выпить аперитив, ждал Шико с нетерпением. Но однажды, совершенно неожиданно, с судками появилась Габриэла, она пришла попросить разрешения пойти на спиритический сеанс, ее пригласила дона Арминда. Габриэла осталась помочь обслуживать посетителей и потом стала приходить каждый день. В ту ночь она ему сказала:
— Лучше я буду сама приносить тебе завтрак. Тогда ты сможешь есть пораньше, а я буду помогать тебе в баре. Не возражаешь?
Что ж тут возразить, если ее присутствие служит еще одной приманкой для посетителей? Насиб сразу заметил: они стали задерживаться дольше, заказывая еще по рюмке, случайные клиенты превращались в постоянных, начинали ходить каждый день, чтобы увидеть Габриэлу, перекинуться с ней словом, улыбнуться ей, коснуться ее руки. И, в конце концов, что ему за дело до этого, ведь она всего лишь его кухарка, с которой он спит, ничего не обещая. Она подавала ему завтрак, раскладывала парусиновый шезлонг, оставляла розу со своим запахом гвоздики. А Насиб, довольный жизнью, закуривал сигару, брал газеты, мирно засыпал, и морской ветерок ласкал его пышные усы.
Но в этот полуденный час ему не удавалось заснуть. Он мысленно подвел итог минувшим трем месяцам и восемнадцати дням, которые были такими бурными для города и такими спокойными для него, Насиба. Он с удовольствием подремал бы хоть десять минут, вместо того чтобы зря тратить время на воспоминания, не имевшие особого значения. Вдруг Насиб почувствовал, что ему чего-то не хватает, возможно, поэтому и не удавалось заснуть. Не было розы, которую он каждый день находил на спинке шезлонга. Насиб видел, как судья, позабыв о достоинстве, которого требовало его высокое звание, тайком вытащил цветок из волос Габриэлы и вдел его в свою бутоньерку… Пожилой пятидесятилетний судья воспользовался суматохой вокруг инженера, чтобы стянуть розу… Правда, он опасался, что Габриэла будет протестовать, но та сделала вид, что ничего не заметила. Да, судья, видно, влюбился всерьез. Раньше он никогда не приходил в бар в час аперитива, появляясь лишь изредка, ближе к вечеру, в компании с Жоаном Фулженсио или Маурисио Каиресом. Теперь он, позабыв обо всех условностях, являлся почти ежедневно в двенадцать часов в бар, пил портвейн и ухаживал за Габриэлой.
Ухаживал за Габриэлой… Насиб задумался. Да, конечно, ухаживал, внезапно понял он. И не только судья, но и многие другие… Иначе зачем они задерживаются после завтрака, рискуя вызвать недовольство жен? Разве не затем, чтобы увидеть Габриэлу, улыбнуться ей, перекинуться шуточкой, погладить ее руку, а может, и договориться кое о чем, кто знает? Однажды Габриэла уже получила предложение от Плинио Арасы, и Насиб знал об этом. Но Плинио обратился к ней как к кухарке. Многие завсегдатаи «Золотой водки» перекочевали в «Везувий», и Плинио предложил платить Габриэле больше, чем она получала у Насиба.
Однако он выбрал плохого посредника, поручив вступить в переговоры с Габриэлой негритенку Туиске, который был предан бару «Везувий» и хорошо относился к Насибу. В результате предложение Плинио передал Габриэле сам араб. Она улыбнулась:
— Я не хочу… Если только ты меня выгонишь…
Он обнял ее — это было ночью, — и его окутало тепло ее тела. Насиб прибавил к ее жалованью еще десять мильрейсов.
— Мне ничего не надо… — говорила она.
Иногда он покупал ей сережки или брошку, а иные дешевые украшения ему вообще ничего не стоили — он приносил их из лавки дяди. Насиб дарил ей эти безделушки ночью, и она всегда бывала растрогана, смиренно благодарила своего хозяина, целуя его ладонь, почти как восточная рабыня:
— Красавчик мой, Насиб…
Брошки за мильрейс, сережки за полтора — такова была его благодарность за ночи любви, вздохи, наслаждение, неугасимо пылающий огонь. Дважды он дарил Габриэле отрезы дешевой материи, потом пару туфель, но все это было ничтожно малой платой за ее внимание и чуткость, за блюда, которые она готовила по его вкусу, за фруктовые соки, за ослепительно белые, тщательно выглаженные рубашки, за розу, падавшую из ее волос на шезлонг. Иасиб был по отношению к ней несколько высокомерен, держал ее на расстоянии и обращался с ней так, будто щедро оплачивал ее труды и делал одолжение, ложась с ней спать.
В баре многие ухаживали за ней. Ухаживали, очевидно, и на Ладейре-де-Сан-Себастьян, посылали записки, делали соблазнительные предложения. Все это вполне возможно. Не все ведь станут использовать Туиску в качестве курьера. Как же ему, Насибу, узнать об этом? Зачем, например, ходит в бар судья, если не для того, чтобы соблазнить Габриэлу? Содержанка судьи, молодая метиска с плантации, заболела дурной болезнью, и он ее бросил.
Когда Габриэла начала приходить в бар, он, идиот, обрадовался этому, думая лишь о прибыли, которую принесут новые заказы на выпивку, и не думал об опасности искушения, которое ежедневно возобновлялось.
Он не может запретить ей приходить в бар-выручка сразу бы упала. Однако нужно проявлять к ней больше заботы, почаще оказывать ей внимание, покупать подарки получше и пообещать новую прибавку.
Хорошую кухарку в Ильеусе трудно найти, уж он-то это знает. Многие богатые семьи, хозяева баров и гостиниц, должно быть, хотят переманить Габриэлу, они, наверно, готовы даже положить ей невиданно высокое жалованье. А как пошли бы дела в его баре без сладостей и закусок Габриэлы, без ее улыбки, ее появлений в баре? И как бы стал он жить без завтраков и обедов Габриэлы, без ее ароматных блюд, наперченных соусов, кускуса по утрам?
Как стал бы он жить без нее, без ее робкой и ясной улыбки, без ее загорелого тела цвета корицы, без ее запаха гвоздики, ее страсти, самозабвенности, ее голоса, когда она шепчет «мой красавчик», без томления по ночам в ее объятиях, как стал бы он жить без нее?
Он понял, что значит для него Габриэла. Боже мой, что же это такое, откуда этот внезапный страх потерять ее и почему морской бриз стал холодным ветром, от которого он содрогнулся? Нет, нет, он не должен терять ее, он не может без нее жить.
Никогда ему не понравится пища, приготовленная и приправленная другими руками. Никого, ах, никого не сможет он так любить, так желать, ни в какой другой женщине не станет так остро и постоянно нуждаться, какой бы белой ни была ее кожа, как бы хорошо она ни была одета и выхолена и как бы богата она ни была. Что означали эта боязнь, этот страх потерять Габриэлу, эта внезапная злоба против посетителей бара, которые глазеют на нее, говорят ей сальности, берут ее за руку, что означала эта злоба против судьи, который, невзирая на свое положение, таскает цветы из ее волос? Насиб тревожно спрашивал себя: что, собственно, его так взволновало? Разве Габриэла не простая кухарка, хотя она и красива и тело ее цвета корицы, разве он спит с ней не от нечего делать? Или это не так? Нет, он не мог найти ответа.
Послышался голос Тонико («Наконец-то!» — облегченно вздохнул Насиб), оторвавший его от беспорядочных и беспокойных мыслей.
Но тот же Тонико заставил его вскоре снова погрузиться в эти мысли и стремительно закружиться в их водовороте. Едва они облокотились о стойку, к которой Тонико подошел выпить свой горький аперитив, как Насиб, чтобы прогнать невеселые думы, сказал:
— Итак, инженер наконец прибыл… Мундиньо своего добился.
Тонико угрюмо устремил на Насиба недобрый взгляд.
— Вы бы лучше, сеньор турок, заботились о себе. Говорят, кто предупреждает, тот истинный друг. Так вот, вместо того чтобы болтать глупости, вы бы приглядели за тем, что принадлежит вам.
Желал ли Тонико уклониться от разговора об инженере или он что-то знал?
— Что вы хотите сказать?
— Позаботьтесь о своем сокровище. Есть люди, которые намереваются его украсть.
— Какое сокровище?
— Габриэлу, глупый вы человек. Даже дом готовы ей снять.
— Судья?
— Как, и он тоже? Я-то слышал про Мануэла Ягуара.
Не уловка ли это со стороны Тонико? Полковник весьма близок к Мундиньо… Но верно и то, что теперь он появляется в Ильеусе постоянно и не вылезает из бара. Насиба пробрала дрожь, с моря, что ли, дует этот ледяной ветер? Он схватил из тайника под стойкой бутылку неразбавленного коньяку и налил себе солидную порцию. Насиб хотел было выспросить у Тонико, что ему еще известно, но тот обрушился на Ильеус:
— Паршивый, захудалый городишко, переполошился из-за появления какого-то инженера. Подумаешь, невидаль…
О разговорах и событиях с аутодафе
Наступал вечер, и тоска в груди Насиба росла, словно Габриэлы уже не было, словно ее уход был неизбежен. Он решил купить ей в подарок пару туфель, в которых она очень нуждалась. Дома она ходила босиком, а в бар являлась в домашних туфлях. Это нехорошо. Однажды Насиб, забавляясь с ней в постели и щекоча пятки Габриэлы, потребовал, чтобы она купила туфли. Жизнь на плантации, поход из сертана на юг, привычка ходить босиком не очень деформировали ее ноги — Габриэла носила 36-й размер, — они лишь немного раздались в ширину, и один из больших пальцев забавно оттопыривался. Каждая подробность, которую он вспоминал, наполняла его сердце нежностью и печалью, будто он уже потерял Габриэлу.
Насиб шел по улице со свертком, в котором были показавшиеся ему красивыми желтые туфли, когда заметил волнение в «Папелариа Модело». Он не мог удержаться и направился туда — ему действительно нужно было развлечься. Немногие стулья перед прилавком были заняты, поэтому некоторые из собравшихся стояли. Насиб почувствовал, как в нем снова загорается, пусть еще робкий, огонек любопытства.
Наверное, говорят об инженере и строят предположение относительно политической борьбы. Насиб ускорил шаг и увидел Эзекиела Прадо, который размахивал руками. Входя, он услышал его последние слова:
— …неуважение к обществу и народу…
Странно! Они говорили не об инженере. Они обсуждали неожиданное возвращение в город полковника Мендонсы, уехавшего на свою фазенду после убийства жены и дантиста. Только что его видели: он прошел мимо префектуры и направился к полковнику Рамиро Бастосу. По поводу возвращения Мендонсы, которое адвокат считал оскорбительным для ильеусцев, он и возмущался.
— Ну что вы, Эзекиел, — рассмеялся Жоан Фулженсио, — разве вы когда-нибудь видели, чтобы ильеусцы оскорблялись тем, что убийца свободно расхаживает по улицам города? Если бы всем полковникам, совершившим убийство, пришлось жить на фазендах, то улицы Ильеуса опустели, кабаре и бары закрылись, а присутствующий здесь наш общий друг Насиб разорился.
Адвокат не соглашался. Но, в конце концов, не соглашаться было его обязанностью. Ведь он был нанят отцом Осмундо для обвинения Жезуино, поскольку коммерсант не доверял прокурору. Обычно в уголовных делах, подобных этому, когда убийство совершалось из-за измены, обвинение бывало чисто формальным.
Отец Осмундо, состоятельный коммерсант с большими связями в Баие, взбудоражил Ильеус на целую неделю. Два дня спустя после похорон сына он сошел с парохода, одетый в глубокий траур. Он обожал своего старшего и устроил пышное празднество, когда сын получил диплом. Жена его после смерти сына была безутешна; коммерсант оставил ее на попечение врачей. Старик приехал в Ильеус, преисполненный решимости принять все меры к тому, чтобы убийца не остался безнаказанным. Обо все этом сразу же стало известно в городе, трагическая фигура коммерсанта в трауре многих растрогала. Получилось довольно странно: как известно, на похоронах Осмундо почти никого не было, еле набралось несколько человек, чтобы нести гроб. Одной из первых забот убитого горем отца было посетить могилу сына. Он заказал венки, выписал протестантского пастора из Итабуны и обошел с приглашениями всех, кто по той или иной причине поддерживал отношения с Осмундо. Он побывал даже у сестер Рейс. Коммерсант стоял перед ними с непокрытой головой, и страдание читалось в его сухих глазах. Однажды ночью Осмундо помог Кинкине, когда у нее была острая зубная боль.
Приглашенный в гостиную, коммерсант рассказал старым девам о детстве Осмундо, о его прилежании, упомянул о бедной, убитой горем матери, потерявшей всякий интерес к жизни и бродившей, словно безумная, по дому. Кончилось тем, что расплакались все трое, а с ними и старая служанка, подслушивавшая у двери в коридор. Сестры Рейс показали коммерсанту презепио и похвалили его покойного сына:
— Хороший был молодой человек, такой обходительный.
Приходится ли удивляться тому, что панихида на кладбище была многолюдной и явилась полной противоположностью похоронам? На кладбище пришли комфреант, общество имени Руя Барбозы в полном составе, директоры клуба «Прогресс», учитель Жозуэ и ряд других лиц. Сестры Рейс держались весьма церемонно, и каждая из них принесла букет. Они посоветовались с отцом Базилио: не будет ли грехом посещение могилы протестанта?
— Грех не молиться за умерших… — ответил куда-то торопившийся священник.
Правда, худой, с лицом фанатика отец Сесилио осудил их проступок, но отец Базилио, узнав об этом, сказал:
— Сесилио — педант, ему больше по вкусу кары ада, чем светлая радость неба. Не беспокойтесь, дочери мои, я отпущу вам грехи.
Рядом с безутешным, но деятельным отцом шли Эзекиел Прадо, капитан, Ньо Гало и даже сам Мундиньо Фалкан. Разве он не был соседом дантиста и его товарищем по морским купаньям? Могила утопала в венках, которых не было на похоронах, и цветах, которых не было в гробу. На мраморной плите было высечено имя Осмундо, дата его рождения и смерти и, для того чтобы преступление не было забыто, еще два слова: ПРЕДАТЕЛЬСКИ УБИТ. Эзекиел Прадо начал действовать. Он потребовал предварительного заключения фазендейро в тюрьму, судья отказал; тогда он подал жалобу в трибунал Баии, где ходатайство обещали вскоре рассмотреть. Многие утверждали, что отец Осмундо посулил адвокату пятьдесят конторейсов — целое состояние! — если тому удастся засадить полковника в тюрьму.
Но разговоры о Жезуино Мендонсе продолжались недолго. Сенсацией все же был приезд инженера, Эзекиел не сумел зажечь аудиторию своим хорошо оплаченным возмущением и закончил выступление, высказавшись по вопросу о бухте:
— Давно следовало проучить этого старого самодура.
— Не хотите ли вы сказать, что будете поддерживать Мундиньо Фалкана? спросил Жоан Фулженсио.
— И кто мне помешает сделать это? — ответил адвокат. — Я был сторонником Бастосов очень долгое время и часто вел их дела, а чем они меня отблагодарили? Протащили на пост муниципального советника? Я и с ними, и без них мог бы этого добиться. А в председатели они провели совершенно неграмотного Мелка Тавареса. А ведь мое имя уже было названо и мое избрание было почти решено.
— Вы правильно поступаете, — послышался гнусавый голос Ньо Гало. — У Мундиньо Фалкана совсем иной образ мыслей. В его правление Ильеус значительно изменится. Если бы я был влиятельной персоной, я бы тоже полез в этот котел…
Насиб заметил:
— Инженер — симпатичный человек. Сложен-то как атлет, верно? Похож на киноартиста… Он вскружит голову не одной девчонке…
— Он женат, — сообщил Жоан Фулженсио.
— Но с женой не живет… — уточнил Ньо Гало.
Откуда они успели узнать подробности интимной жизни инженера? Жоан Фулженсио объяснил, что тот сам рассказал им об этом после завтрака, когда капитан привел его в «Папелариа Модело». Его жена сошла с ума и находится на излечении в психиатрической клинике.
— Знаете, кто в этот момент беседует с Мундиньо? — вдруг спросил Кловис Коста, который до сих пор молчал и глядел на улицу, ожидая появления мальчишек, продающих «Диарио де Ильеус».
— Кто?
— Полковник Алтино Брандан… В этом году он продает Мундиньо свой урожай и, возможно, заодно свои голоса… Что за черт, почему газета до сих пор не вышла? — спросил он другим тоном.
Полковник Брандан из Рио-до-Брасо… Крупнейший фазендейро зоны после полковника Мисаэла. Он решал исход голосования в районе и был значительной фигурой в политической жизни.
Кловис Коста говорил правду. В конторе экспортера, утопая в мягком кожаном кресле, сидел полковник Брандан в сапогах со шпорами и тянул французский ликер, которым его угощал Мундиньо.
— Так вот, сеньор Мундиньо, в этом году урожай замечательный. Вы обязательно должны приехать ко мне на фазенду и провести там несколько дней. Живем мы небогато, но если вы окажете нам честь, то, даст бог, с голоду не умрете. Вы повидаете плантации, усыпанные золотыми плодами, сейчас деревья сгибаются под их тяжестью. Я уже начал сбор… Такое изобилие радует глаз.
Экспортер хлопнул фазендейро по колену!
— Ну что ж, принимаю ваше предложение. Приеду к вам в одно из ближайших воскресений…
— Приезжайте лучше в субботу, в воскресенье люди не работают. Вернетесь в понедельник. Если вы решитесь, знайте, мой дом — ваш дом…
— Договорились, в субботу буду у вас. Теперь я могу выезжать, не то что раньше, когда ждал инженера.
— Говорят, этот парень приехал, верно?
— Совершенно верно, полковник. Завтра он начнет ковыряться в бухте. Готовьтесь к тому, чтобы увидеть вскоре, как ваше какао отправляется из Ильеуса прямо в Европу и в Соединенные Штаты.
— Да, сеньор… Кто бы мог подумать… — Полковник налил еще рюмку ликеру и поглядел на Мундиньо умными глазами. — Первоклассная кашаса, и такой тонкий вкус. Не здешняя, конечно? — И, не ожидая ответа, продолжал: — Поговаривают, что вы будете кандидатом на выборах? Я слышал эту новость, но не поверил.
— А почему бы нет, полковник? — Мундиньо был доволен, что старик сам затронул этот вопрос. — Разве я не подхожу для этого? Или вы так плохо обо мне думаете?
— Я? Думаю плохо о вас? Господи, спаси и помилуй. Вы один из достойных кандидатов. Только… — Он поднял рюмку с ликером и посмотрел ее на свет. — Только вот вы, как и эта кашаса, не из наших мест… — Он снова посмотрел на Мундиньо.
Экспортер покачал головой — довод не новый, он к нему уже привык. И разбивать этот довод тоже стало для Мундиньо привычкой, своего рода умственным упражнением.
— А вы здесь родились, полковник?
— Я? Я из Сержипе, «конокрад», как зовут нас здешние мальчишки. Полковник любовался игрой хрусталя на солнце. — Но я более сорока лет назад приехал в Ильеус.
— Я тут всего четыре года, скоро будет пять. Но я такой же грапиуна, как и вы, сеньор. Отсюда я уже не Уеду…
И Мундиньо перешел к аргументации; он перечислил все, что связывает его с зоной какао; назвал различные предприятия, в которых участвовал или которым помогал, и, наконец, упомянул о проблеме бухты и о приезде инженера.
Фазендейро слушал, свертывая сигарету из нарезанного табачного жгута и высушенного листа кукурузы, живые глаза его время от времени впивались в лицо Муйдиньо, словно полковник хотел узнать, насколько тот искренен.
— Вы заслуживаете большого уважения… Многие из тех, кто приезжает сюда, помышляют лишь о том, чтобы заработать побольше денег. Вы же думаете о нуждах края. Жалко, что вы не женаты.
— Почему, полковник? — Мундиньо взял графин и налил Брандану еще одну рюмку.
— Вы меня извините… Тонкая штука этот ваш ликер. Но, откровенно говоря, я предпочитаю кашасу… А ликер обманчив: пахучий, сладкий, кажется дамским напитком. А пьянит, собака, так, что голову теряешь. Кашасу сразу чувствуешь, уж она не обманет.
Мундиньо вытащил из шкафа бутылку кашасы.
— Как вам угодно, полковник. Но почему я должен быть женат?
— Если вы позволите, я дам вам совет: женитесь на здешней девушке, на дочери какого-нибудь полковника. Не подумайте, что я вам предлагаю свою: у меня все трое замужем, и я, слава богу, неплохо их устроил. Но и здесь, и в Итабуне еще много девушек на выданье. Зато тогда все убедятся, что вы у нас не проездом и что приехали не ради наживы.
— Брак — дело серьезное, полковник. Сначала надо найти женщину, о которой мечтаешь, ведь брак родится из любви.
— Или из необходимости, не так ли? На плантациях работник женится хоть на пне, лишь бы на нем была юбка, ему нужна женщина в доме, с которой он мог бы спать и разговаривать. Вы себе и не представляете, что значит иметь жену. Это помогает даже в политике. Жена рожает нам детей, благодаря жене нас больше уважают. А для остального есть на свете содержанки…
Мундиньо рассмеялся.
— Вы, полковник, хотите заставить меня заплатить слишком дорогую цену за выборы. Если успех будет зависеть от моей женитьбы, то заранее предупреждаю, боюсь проиграть. Я не хочу, победы таким путем, полковник. Я хочу, чтобы победила моя программа.
И Мундиньо, как он это делал уже неоднократно, завел речь о проблемах района, наметил пути к их разрешению и с заразительным энтузиазмом нарисовал волнующие перспективы.
— Вы абсолютно правы. Все, что вы говорите, — святая истина, ваши слова можно занести на скрижали. Кто станет вам возражать? — Полковник уставился в землю. Сколько раз он чувствовал себя обиженным Бастосами, из-за которых был вынужден прозябать в провинции. — Если ильеусцы рассудят разумно, вы победите. Но не уверен, признает ли вас правительство, это уже другая сторона дела…
Мундиньо улыбнулся, решив, что убедил полковника.
— Впрочем, имеется еще одно обстоятельство: хотя ваше дело и правое, но у полковника Рамиро большие связи, много родственников и кумовьев, которые всегда голосуют за него. Вы меня простите, но почему бы вам не поладить с ним?
— Что значит поладить, полковник?
— А если вам объединиться? У вас есть голова на плечах и свой взгляд на вещи, а у него авторитет и избиратели. Кроме того, у него красивая внучка, вы с ней не знакомы? Вторая-то — еще совсем девочка… Дочки доктора Алфредо.
Мундиньо, стараясь не терять терпения, возразил:
— Речь не об этом, полковник. Я настроен определенным образом, вы знаете мои идеи. Полковник Рамиро думает иначе, для него управлять — это значит мостить улицы и озеленять город. Я не вижу возможностей к соглашению. Я уже изложил вам свою программу. Не для себя прошу я вашего голоса, а для Ильеуса, для прогресса района какао.
Фазендейро почесал взлохмаченную голову.
— Я приехал сюда продать какао, сеньор Мундиньо, я его выгодно продал и доволен. Доволен также беседою с вами, теперь я знаю ваш образ мыслей. — Он пристально смотрел на экспортера. — За Рамиро я голосую добрых двадцать лет, хотя во время борьбы за землю мне его помощь не понадобилась. Когда я приехал в Рио-до-Брасо, там еще никого не было, те, кто появились позднее, были просто мелкие мошенники, и я справился с ними без посторонней помощи. Но я привык голосовать за Рамиро, он мне никогда не причинял вреда. Один раз меня было тронули, так он встал на мою сторону.
Мундиньо хотел что-то сказать, но полковник жестом остановил его:
— Я вам ничего не обещаю, так как делаю это только тогда, когда твердо решил выполнить обещание. Но мы еще вернемся к этому разговору. За это я ручаюсь.
Полковник Брандан удалился, а раздраженный экспортер принялся горько сожалеть о напрасно потерянном времени. Капитану, который пришел несколько минут спустя после ухода безраздельного властителя Рио-до-Брасо, Мундиньо сказал:
— Старый дурак хочет женить меня на внучке Рамиро Бастоса. Я потерял время даром. «Ничего не обещаю, но мы еще вернемся к этому разговору», передразнил он певучий выговор фазендейро.
— Сказал, что вернетесь? Превосходный признак! — воодушевился капитан. — Вы, мой дорогой, еще не знаете наших полковников. И особенно плохо знаете Алтино Брандана. Он не такой человек, чтобы останавливаться на полпути. Он бы так и сказал вам без околичностей, что будет против вас, если бы ваши речи не произвели на него впечатления. А если он нас поддержит…
В «Папелариа Модело» разговор продолжался.
Кловис Коста беспокоился все больше: был уже пятый час, а газетчики с «Диарио де Ильеус» все еще не появлялись.
— Пойду в редакцию, узнаю, что там, черт возьми, стряслось.
Ученицы монастырской школы, в том числе и Малвина, прервали разговор мужчин. Они пришли посмотреть книжки «Розовой библиотеки». Жоан Фулженсио обслуживал их. Малвина кинула беглый взгляд на полку с книгами и принялась листать романы Эсы[60] и Алуизио Азеведо[61]. Ирасема подошла к ней и сказала с лукавой усмешкой:
— У нас дома есть «Преступление падре Амаро». Я хотела почитать, но брат отобрал и заявил, что такие книги не для девушки… — Брат Ирасемы был студентом медицинского факультета в Баие.
— А почему он может читать, а ты нет? — В глазах Малвины сверкнул мятежный огонек.
— Сеньор Жоан, есть у вас «Преступление падре Амаро»?
— Есть. Хотите взять? Интересный роман.
— Да, сеньор. Сколько стоит?
Ирасема удивилась смелости подруги:
— Ты покупаешь эту книгу? Подумай только, что будут говорить!
— Ну и пусть… Мне-то что? Одна из учениц — Дива — купила какой-то роман для девушек и обещала дать почитать остальным.
Ирасема попросила Малвину:
— А мне потом дашь? Но только никому не говори. Я у тебя буду читать.
— Ох, уж эти нынешние девушки… — заметил кто-то из присутствующих. Неприличные книги покупают, а потом и случается такое, как с Жезуино.
Жоан Фулженсио вмешался в разговор:
— Не говорите глупости, Манека, что вы в этом смыслите? Книга хорошая, ничего безнравственного в ней нет, а девушка эта неглупая.
— Kтo неглупая? — поинтересовался судья, усаживаясь на стул, с которого встал Кловис.
— Мы говорили об Эсе де Кейрош, известнейшем писателе, — ответил Жоан Фулженсио, пожимая руку судье.
— Весьма назидательный автор… — Судья всех авторов считал «весьма назидательными». Он покупал книги без разбора: и юридические, и научные, и беллетристику, и трактаты по спиритизму. Утверждали, что он покупал их лишь для украшения книжной полки и для репутации культурного человека, но не читал ни одной. Жоан Фулженсио обычно спрашивал его:
— Итак, достопочтеннейший, понравился вам Анатоль Франс?
— Весьма назидательный автор… — невозмутимо отвечал судья.
— А не нашли вы его немного нескромным?
— Нескромным? Да, пожалуй. Однако — весьма назидательный писатель…
С приходом судьи к Насибу вновь вернулись горькие мысли. Старый распутник… Что он сделал с розой Габриэлы, куда ее дел? Впрочем, хватит разговоров, пора в бар, скоро нахлынут посетители.
— Уже уходите, дорогой друг? — удивился судья. — Хорошую вы наняли служанку… Примите мой поздравления… Как ее зовут?
Насиб вышел. Старый распутник… И он еще спрашивает, как ее зовут! Старый циник, хотя бы вспомнил о своей должности. А еще говорят, что он кандидат в члены апелляционного суда.
Выйдя на площадь, Насиб увидел Малвину, она разговаривала на набережной с инженером. Девушка сидела на скамье, Ромуло стоял рядом. Девушка заливалась искренним и веселым смехом. Насиб еще никогда не слышал, чтобы Малвина так смеялась. Инженер женат, и жена его в сумасшедшем доме. Малвина об этом очень скоро узнает. Жозуэ, сидя в баре, тоже наблюдал с унылым видом за этой сценой, он слушал хрустальный смех девушки, раздававшийся в мягкой вечерней тишине. Насиб сел рядом с ним, он сочувствовал печали Жозуэ и разделял его чувства. Молодой учитель не пытался скрыть снедавшую его ревность.
Араб подумал о Габриэле: ее обхаживают судья, полковник Мануэл Ягуар, Плинио Араса и многие другие.
Да и Жозуэ не далеко от них ушел, он посвящает ей стихи. Невыразимый покой теплого ильеусского вечера окутал площадь. Глория смотрела из своего окна.
Потеряв голову от ревности, Жозуэ поднялся, повернулся к запретному окну с кружевной занавеской и соблазнительным бюстом. Он снял шляпу и вызывающим жестом приветствовал Глорию.
Малвина смеялась на набережной, был мягкий, тихий вечер.
Подбежал негритенок Туиска, этот вестник добрых и печальных событий, и остановился, задыхаясь, у столика:
— Сеньор Насиб! Сеньор Насиб!
— В чем дело, Туиска?
— Подожгли «Диарио де Ильеус».
— Что? Здание и машины?
— Нет, сеньор, газеты. Их сложили горой на улице, облили керосином, и костёр получился не хуже, чем в ночь на святого Иоанна.
О сожженных газетах и пылающих сердцах
Некоторым счастливцам удалось вытащить из мокрого пепла почти не тронутые огнем номера «Диарио де Ильеус», То, что не тронул огонь, сгубила вода, которую принесли в банках и ведрах типографские рабочие и служащие, а также добровольцы из числа прохожих. Пепел летел по улице, его вместе с запахом жженой бумаги нес вечерний ветерок с моря.
Забравшись на стол, вынесенный из редакции газеты, доктор, бледный от возмущения, сдавленным голосом произносил речь перед любопытными, толпившимися у погасшего костра:
— Последователи Торквемады, мелкотравчатые Нероны, кони Калигулы, вы хотите бороться с идеями и побеждать их, уничтожая свет печатного слова преступным огнем, разожженным мракобесами и невеждами!
Кое-кто зааплодировал, озорная толпа взбудораженных мальчишек кричала, хлопала в ладоши, свистела. Доктор, который никак не мог найти пенсне в карманах пиджака, дрожащий и взволнованный энтузиазмом слушателей, простирал руки.
— О народ Ильеуса, края цивилизации и свободы! Мы никогда не позволим — разве только через наши трупы, — чтобы в городе обосновалась черная инквизиция, которая станет уничтожать свободное печатное слово. Воздвигнем баррикады на улицах, трибуны на углах…
В расположенном по соседству баре «Золотая водка», сидя за столиком у двери, полковник Амансио Леал слушал пламенную речь доктора. Его единственный глаз блестел; он сказал, улыбаясь, полковнику Жезуино Мендонсе:
— Доктор сегодня в ударе…
Жезуино выразил удивление:
— Но он еще не говорил об Авила. А речь без Авила немногого стоит…
Из-за своего столика Амансио Леал и Жезуино Мендонса наблюдали за развитием событий: сначала прибыли вооруженные жагунсо, их привезли с фазенд и разместили поблизости от здания редакции в ожидании момента, когда мальчишки с пачками газет выйдут из типографии. Некоторые мальчишки даже успели крикнуть:
— «Диарио де Ильеус»! Покупайте «Диарио де Ильеус»… Приезд инженера, провал политики правительства штата…
Газеты были немедленно отобраны у перепуганных мальчишек. Несколько жагунсо отправились в редакцию и типографию и вынесли остальной тираж. Потом рассказывали, будто старый Ассендино, бедный преподаватель португальского языка, немного прирабатывавший корректурой статей Кловиса Косты, заметок и сообщений, перепачкался со страха и умолял, молитвенно сложив руки:
— Не убивайте, у меня семья…
Бидоны с керосином стояли в кузове грузовика, который затормозил у тротуара, все было предусмотрено. Огонь вспыхнул, поднялись ввысь языки пламени, его отблески зловеще осветили фасады домов, прохожие останавливались поглазеть на это зрелище, не понимая толком, что происходит. Жагунсо, чтобы не изменить традиции и обеспечить себе безопасное отступление, несколько раз выстрелили в воздух и разогнали толпу. Они забрались в кузов грузовика, шофер промчался по центральным улицам, громко гудя и едва не раздавив экспортера Стевесона. Не сбавляя скорости, грузовик выехал на шоссе.
Любопытные, толпившиеся на порогах магазинов и лавок, начали стекаться к зданию газеты. Амансио и Жезуино даже не поднялись с места — их столик занимал выгодную позицию. Какой-то человек, встав в дверях бара, загородил им вид на улицу. Амансио мягко попросил его:
— Будьте любезны, отойдите немного в сторону…
Но так как тот не услышал, Амансио дотронулся до его руки:
— Отойдите же, я вам говорю…
После того как грузовик уехал, Амансио, улыбнувшись, поднял бокал с пивом: — Операция по очистке города…
— Проведена отлично…
Друзья продолжали сидеть в баре, не обращая внимания на любопытные взгляды людей, останавливавшихся на противоположной стороне улицы. Многие из них узнали жагунсо Амансио, Жезуино и Мелка Тавареса. А руководил операцией и командовал наемниками некто Блондинчик, отъявленный хулиган, постоянно устраивавший драки в домах терпимости, ему покровительствовал Амансио.
Кловис Коста подоспел, когда пламя уже было сбито. Он вытащил револьвер и смело встал в дверях редакции. Сидя за столиком бара, Амансио заметил с презрением:
— Револьвер даже держать не умеет…
Начали собираться единомышленники Мундиньо, открылся митинг. Пока не стемнело, еще многие приходили предложить свои услуги.
Мундиньо появился с капитаном и обнял Кловиса Косту. Тот повторял:
— Такова наша профессия…
В тот вечер Туиска, командовавший возле редакции ватагой мальчишек, был слишком занят, чтобы остановиться под окнами Глории и рассказать ей о новостях, — его заменил учитель Жозуэ. Его лицо было бледнее, чем когда-либо, глаза подернуты грустью, а сердце одето в траур. Он забыл о всякой осторожности и приличиях… Малвина гуляла с Ромуло по набережной, они любовались морем, инженер, наверно, рассказывал о своей профессии. Девушка внимательно слушала и время от времени смеялась. Насиб увел Жозуэ к зданию газеты, но учитель пробыл там всего несколько минут; его больше волновало то, что происходило на пляже, а именно беседа Малвины с инженером. Старые девы уже трещали у церкви, собравшись вокруг отца Сесилио и обсуждая пожар. Громкий смех Малвины, которая осталась равнодушной к сожжению газеты, взбесил Жозуэ. В конце концов, разве не инженер — причина случившегося? А он даже не счел нужным поинтересоваться тревожными событиями в городе, он отнесся к ним безразлично, увлеченный разговором с Малвиной. Жозуэ пересек площадь, прошел мимо старых дев и подошел к окну Глории; пухлые губы мулатки приоткрылись в улыбке.
— Добрый вечер.
— Добрый вечер. Что там случилось?
— Сожгли весь сегодняшний тираж «Диарио». Люди Бастоса постарались. А все из-за этого идиота инженера, который сегодня приехал…
Глория взглянула на набережную.
— Это тот молодой человек, что разговаривает с вашей возлюбленной?
— Моей возлюбленной? Вы ошибаетесь. Мы просто знакомы. В Ильеусе есть только одна женщина, из-за которой я потерял покой.
— И кто же она, если не секрет?
— Можно сказать?
— Не стесняйтесь…
Старые девы у церкви вытаращили глаза, а Малвина, все еще гулявшая на набережной, даже головы не повернула.
Габриэла в центре внимания
Это был бродячий, почти дикий кот с холма. Его шерсть свалялась от грязи и торчала клочьями, а одно ухо было разорвано. Он гонялся за всеми кошками в округе, был победителем во всех боевых схватках и выглядел совершенным бандитом. Воровал во всех кухнях на холме, и его ненавидели все хозяйки и служанки, но, поскольку он был ловок и осторожен, поймать его никак не удавалось. Чем же Габриэла завоевала его доверие, как она добилась того, что он ходил за ней следом и укладывался спать в подоле ее юбки? Возможно, секрет был в том, что она не отгоняла его криками, не замахивалась на него щеткой, когда он крадучись появлялся в поисках объедков. Габриэла бросала ему куски жилистого мяса, рыбьи хвосты, куриные потроха. Кот привык к ней и проводил теперь большую часть дня во дворе дома, засыпая в тени гуяв. Он уже не выглядел таким тощим и грязным, хотя ночами обретал прежнюю свободу и бегал по всему холму и по крышам, как и раньше, распутный и неутомимый.
Когда Габриэла по возвращении из бара садилась за завтрак, кот приходил поласкаться и помурлыкать у ног. Он с благодарностью съедал куски, которые она ему бросала, и довольно мурлыкал, когда Габриэла поглаживала ему макушку или чесала брюхо.
Доне Арминде это; казалось настоящим чудом. Она никогда не думала, что можно приручить такого дикого кота, что он станет брать пищу из рук, позволит гладить себя и будет засыпать на коленях. Когда Габриэла прижимала кота к груди и терлась лицом о его лохматую морду, он, полузакрыв глаза, тихонько мяукал и слегка царапал ее. Для доны Арминды существовало только одно объяснение всего этого: Габриэла неразвившийся и даже еще не открытый медиум, источающий сильные флюиды, грубый алмаз, который нужно отшлифовать на сеансах, чтобы он стал орудием для сношений с потусторонним миром. Что же другое, как не флюиды Габриэлы, укротили столь непокорное животное?
Когда они усаживались вдвоем у порога — вдова штопать чулки, а Габриэла играть с котом, — дона Арминда пыталась убедить ее:
— Девочка, ты обязательно должна быть на следующем сеансе. В прошлый раз кум Деодоро спрашивал о тебе: «Почему она не пришла сегодня? У нее поразительные медиумные способности. Я это понял, когда сидел позади нее». Так он и сказал, слово в слово. Надо же, какое совпадение — ведь и я подумала то же самое. А уж кум Деодоро в этом разбирается, можешь не сомневаться, хотя по его виду никогда не скажешь, — он так молод. Но чувствуется, что он близок с духами, он ими распоряжается, как хочет. И ты можешь стать ясновидящей…
— Я не хочу… Не хочу, дона Арминда. Зачем мне это? Лучше мертвых не трогать, пусть себе покоятся. Мне это дело не по душе… — Габриэла почесала коту живот, и он замурлыкал громче.
— Ты поступаешь очень неразумно, дочь моя. Ведь твой дух не сможет дать тебе совета, и ты пойдешь по жизни вслепую. А между тем дух для нас —. это то же, что поводырь для слепого. Он указывает нам путь, помогает обходить препятствия…
— У меня их нет, дона Арминда.
— Так ведь не это главное, он и советы дает. На днях я принимала трудные роды — у доны Ампаро. Мальчик никак не хотел выходить. Я не знала, что делать, и сеньор Милтон уже хотел вызывать врача. Кто мне помог? Мой покойный муж, который за мной всюду следует и не покидает меня ни на минуту. Там наверху, — она показала на небо, — им все известно, вплоть до медицины. Он мне шепнул на ухо, и я его послушалась. Родился здоровенный бутуз!
— Как хорошо быть акушеркой… Помогать младенчикам рождаться.
— А кто тебе даст совет теперь, когда ты в нем нуждаешься?
— Я нуждаюсь в совете? Вот не знала, дона Арминда…
— Ты, дочь моя, глупа. Прости, что я тебе это говорю, но ты прямо дуреха. Не умеешь пользоваться тем, что дал тебе господь.
— Я не понимаю, что вы такое говорите, дона Арминда. Всем, что у меня есть, я пользуюсь. Даже туфлями, которые мне подарил сеньор Насиб. Я хожу в них в бар. Но они мне не нравятся, я предпочитаю шлепанцы. Ходить в туфлях очень неудобно.
— Да разве я о туфлях, дурочка? Ты что, не видишь, что сеньор Насиб влюблен в тебя, совсем раскис, ходит грустный, рано возвращается домой…
Габриэла засмеялась, прижимая кота к груди:
— Сеньор Насиб хороший человек, так чего мне бояться? Он и не думает меня прогонять, а я хочу только одного: чтобы он был доволен.
Столкнувшись с такой слепотой, дона Арминда даже уколола иголкой палец.
— Ой, я укололась… Ты еще глупее, чем я думала. Сеньор Насиб может дать тебе все… Он богат! Попросишь шелку — он купит, попросишь девчонку в помощь — он наймет двух, попросишь денег — он тебе даст, сколько захочешь.
— Да мне ничего не нужно… Зачем?
— Ты думаешь, всю жизнь будешь красивой? Не воспользуешься своей красотой сейчас — поздно будет. Я готова поклясться, что ты никогда ничего не просишь у сеньора Насиба. Правильно?
— Нет, иногда я прошу немножко денег, когда мы ходим с вами в кино. А что мне еще просить?
Дона Арминда вышла из себя, бросила чулок, надетый на деревянный гриб, кот испугался и посмотрел на нее своими хитрыми глазами.
— Все! Все, что ты захочешь, девочка, он тебе даст. — Она понизила голос до шепота. — Если ты сумеешь его обработать, он даже женится на тебе…
— Женится на мне? Зачем, дона Арминда? Зачем ему на мне жениться? Сеньор Насиб женится на приличной девушке, из хорошей семьи, с положением. Зачем же ему жениться на мне?
— А разве тебе не хочется стать сеньорой, распоряжаться в собственном доме, ходить под руку с мужем, хорошо одеваться, иметь положение в обществе?
— Вот тогда-то, уж наверно, мне целый день пришлось бы носить туфли… Это не по мне… Но вообще я была бы не прочь выйти замуж за сеньора Насиба. Я бы готовила для него, помогала ему во всем… — Габриэла улыбалась и играла с котом, касаясь его мокрого, холодного носа. — Впрочем, что говорить, у сеньора Насиба и без меня хватит забот. Да он и не захочет жениться на такой, как я, ведь он подобрал меня не девушкой… Я и думать об этом не хочу, дона Арминда. Даже если бы он свихнулся…
— А ты послушай меня, дочь моя, тебе стоит только захотеть. Поведи дело с умом, где надо — уступи, где надо — откажи, дразни, завлекай его. Он уже и так перепугался. Шико мне рассказывал, что судья хочет снять для тебя дом. Потом он слышал, как сеньор Ньо Гало говорил, будто сеньор Насиб ходит сам не свой.
— Я не хочу… — Улыбка исчезла с лица Габриэлы. — Мне этот судья не нравится. Противный старик.
— А вот еще один… — прошептала дона Арминда, По улице вразвалку шел полковник Мануэл Ягуар.
Он остановился перед женщинами, снял шляпу и вытер лоб цветным платком.
— Добрый вечер.
— Добрый вечер, полковник, — ответила вдова.
— Это дом Насиба, не так ли? Я догадался по этой девушке. — Он указал на Габриэлу. — А я вот хожу ищу служанку — думаю перевезти семью в Ильеус… Не знаете какой-нибудь подходящей женщины?
— Для чего, полковник?
— Хм… чтобы готовить…
— Такую тут трудно найти.
— Сколько тебе платит Насиб?
Габриэла подняла свои чистые глаза!
— Шестьдесят мильрейсов, сеньор…
— Неплохо, конечно.
Наступило длительное молчание, фазендейро смотрел в сторону, дона Арминда собрала свою работу, попрощалась и ушла подслушивать за дверью своего дома. Полковник довольно улыбнулся:
— Сказать по правде, кухарка мне не нужна. Когда семья переедет, я привезу какую-нибудь женщину с плантации. Но жалко, что такая смугляночка, как ты, пропадает на кухне.
— Почему, полковник?
— Руки портятся. Но все зависит от тебя. Если захочешь, у тебя будет все: приличный дом, служанка, я открою для тебя счет в магазине, а кастрюли ты бросишь. Ты мне нравишься, девочка.
Габриэла встала, продолжая улыбаться, лицо ее выражало что-то похожее на благодарность.
— Что скажешь?
— Извините, сеньор, но я не хочу. Не подумайте ничего плохого, просто мне здесь хорошо, и у меня ни в чем нет недостатка. Разрешите, я пойду, сеньор полковник…
Над низкой стеной в глубине двора появилась голова доны Арминды. Она окликнула Габриэлу:
— Видишь, какое совпадение? А что я тебе говорила? Он тоже хочет снять для тебя дом…
— Не нравится он мне… Даже если бы я с голоду умирала…
— И все же я права: стоит тебе захотеть…
— А я ничего не хочу…
Она была довольна всем, что у нее было, — ситцевыми платьями, домашними туфлями, серьгами, брошкой, браслетом; не нравились ей только выходные туфли — они ей жали. Она полюбила свой двор, кухню и плиту, комнатку, где спала, она с радостью ходила в бар, где встречалась с интересными молодыми людьми — учителем Жозуэ, сеньором Тонико, сеньором Ари — и вежливыми пожилыми мужчинами — сеньором Фелипе, доктором, капитаном; она привязалась к своему дружку негритенку Туиске и, наконец, к коту, которого она приручила.
Ей нравился сеньор Насиб. С ним так хорошо было спать, положив голову на его волосатую грудь и чувствуя на бедрах тяжесть ноги этого крупного полного мужчины, красивого и молодого. Усами он щекотал ей затылок, и у Габриэлы при этом по телу пробегала дрожь. Хорошо было спать с мужчиной, ноне со старым — за дом, еду, одежду, обувь, а с молодым, сильным и красивым, как сеньор Насиб, и только потому, что он молодой, сильный и красивый.
Эта дона Арминда совсем сошла с ума со своим епиритизом. Как ей такое могло прийти в голову! Надо же, сеньор Насиб женится на ней, Габриэле! Но как приятно помечтать об этом, как приятно… Пройтись с ним под руку по улице. Зайти в кино, сесть рядом, положить голову на его мягкое, как подушка, плечо. Пойти на праздник, потанцевать с Насибом!
А на руке обручальное кольцо…
Но к чему об этом думать? Не стоит… Сеньор Насиб женится на благородной девушке, увешанной драгоценностями, в красивых туфлях и шелковых чулках, надушенной тонкими духами, на невинной девушке! еще не знавшей мужчины. А Габриэла годилась на то, чтобы готовить, убирать, стирать и спать с мужчиной!
Но не со старым и уродливым, не ради денег, а ради удовольствия… Клементе в пути; Ньозиньо на плантации, Зедо Кармо тоже. В городе живет молодой студент Бебиньо, какой богатый у них был дом! Он приходил к ней тайком на цыпочках, он боялся матери.
Первым был ее дядя, она тогда была еще девочкой.
Она была девочкой, и он пришел к ней ночью, старый и больной.
О свете коптилки
Под палящим солнцем обнаженные по пояс работники срезали плоды какао серпами, прикрепленными к длинным шестам. С глухим стуком падали золотые плоды, женщины и дети собирали их и разрубали ударами большого ножа. Росли кучи зерен какао, белых от сока; зерна насыпали в большие корзины, которые на вьючных ослах отвозили к корытам для промывки.
Работа начиналась на заре и кончалась поздно вечером; пища — кусок жареной солонины с маниоковой Лукой да спелый плод хлебного дерева, съеденные наспех в полдень. Женщины пели унылые песни:
Доля у меня горька, кожа у меня черна. Я спрошу полковника, я спрошу хозяина: долго ль будет мне тоска без подружки суждена? Хор мужчин на плантации отвечал: Долго, долго мне придется собирать какао…Погонщики подгоняли ослов криками, как только караван с зернами какао выходил на дорогу: «Но, проклятый! Пошевеливайся, Брильянт!» Верхом на лошади, в сопровождении надсмотрщика, полковник Мелк Таварес объезжал плантации, проверяя, как идет работа.
Иногда он спешивался и бранил женщин и детей:
— Чего вы канителитесь? Поворачивайтесь быстрей, это вам не вшей ловить!
Учащаются удары, раскалывающие надвое плоды какао, которые лежат на ладони — острое лезвие большого ножа каждый раз угрожает рассечь пальцы.
Убыстряется ритм плывущей над плантацией песни, которая подгоняет сборщиков:
А в цветах роса сладка, а подружка так стройна. Я спрошу полковника, я спрошу хозяина: долго ли мне ждать, пока ляжет вновь со мной она?Стоя под деревьями на змеиных тропах, покрытых сухой листвой, мужчины все быстрее срезают плоды и голоса их звучат все громче:
Долго, долго мне придется собирать какао…Полковник осматривал деревья, надсмотрщик покрикивал на батраков, изнурительная работа продолжалась.
— Кто здесь работал?
Надсмотрщик повторил вопрос, работники вернулись, и негр Фагундес ответил:
— Я.
— Пойди сюда.
Полковник показал на какаовое дерево: среди густой листвы, на самых верхних ветвях виднелись несрезанные плоды.
— Ты что — покровитель обезьян? Думаешь, я для них сажаю какао? Лентяй. Тебе бы только на улицах драться…
— Виноват, сеньор. Не заметил…
— Не заметил, потому что плантация не твоя и не ты терпишь убытки. Впредь изволь быть внимательнее.
Полковник продолжал осмотр. Негр Фагундес поднял серп и своими мягкими, добрыми глазами поглядел вслед полковнику. Что он мог ответить? Мелк вырвал его из рук полиции, когда он, напившись во время вылазки в поселок, устроил дебош в публичном доме.
Вообще Фагундес был не из тех, кто молча сносит обиды, но полковнику не ответил. Разве не Мелк брал его недавно в Ильеус, чтобы поджечь газеты, и так щедро заплатил за это ерундовое дело? И разве не сказал он потом, что возвращаются времена вооруженных столкновений, хорошие времена для мужественных людей с метким глазом, для таких, как негр Фагундес? А пока он собирал какао, плясал на зернах в сушильных баркасах, потел в печи, и ноги его всегда были вымазаны клейким соком какао. Впрочем, эти добрые времена что-то не наступали, тот костер из газет был недостаточно ярким. Но даже то, что было, — неплохо, он все-таки повидал кое-что, проехался на грузовике, пострелял несколько раз в воздух, чтобы нагнать страху, и увидел Габриэлу, как только приехал; он проходил мимо какого-то бара и услышал женский смех.
Так смеяться могла только она. Фагундеса повели в дом, где они должны были оставаться до нужного момента. Парень по прозвищу Блондинчик, который их привез, ответил на вопрос негра:
— Это кухарка араба, лакомый кусочек.
Фагундес замедлил шаг и отстал, чтобы увидеть ее. Блондинчик сердито торопил:
— Пошли, негр. Не мозоль тут глаза, а то испортишь все дело. Пошли.
Вернувшись на фазенду ночью, когда небо было усыпано звездами и где-то плакала одинокая гармоника, Фагундес рассказал Клементе о встрече с Габриэлой. Красноватый свет коптилки падал трепещущими бликами во мрак, окутавший плантации: они видели лицо Габриэлы, ее ритмично двигавшееся тело, длинные ноги, так легко и неутомимо ступавшие по земле.
— Она очень похорошела.
— Значит, работает в баре?
— Нет, она готовит для бара, а работает у толстого турка с бычьей мордой. Хорошо одета, обута, чистенькая.
Клементе едва различает тусклый свет коптилки, он понуро слушает и молча думает.
— Она смеялась, когда я проходил мимо, и разговаривала с каким-то типом, наверно богачом. Ты знаешь, Клементе, у нее была роза в волосах, я никогда не видел такой красоты.
Образ Габриэлы с розой в волосах расплывается в свете коптилки. Клементе уходит в себя, как черепаха в панцирь.
— Я заглянул на кухню в доме полковника. Видел его жену, она бледная и худая, как святая на картине. Видел и дочку — очень красивая, но гордячка, ходит и никого вокруг не замечает. Слов нет, хороша, но, скажу тебе, Клементе, другой такой, как Габриэла, нет. Чем она берет? Как ты думаешь?
Чем она берет? Откуда ему знать! Он спал с ней, положив ей голову на грудь, в сертане, в зарослях кустарника, на зеленых лугах, но от этого не узнал о ней больше. Нет, не узнал и никогда не узнает. Но есть в ней что-то, чего забыть нельзя. Кожа цвета корицы? Запах гвоздики? Смех? Откуда ему знать. Она пышет жаром, пылающим, как огонь костра, этот жар охватывает и сжигает тебя всего.
— Костер из газет сгорел в одну минуту. Я решил сходить повидать Габриэлу, потолковать с ней, но не удалось, хотя мне очень хотелось.
— И больше ты ее не видел?
Свет коптилки лизал темноту, ползла ночь без Габриэлы. Собачий лай, крики сов, шелест змей. Клементе и Фагундеса охватила тоска. Тогда Фагундес взял коптилку и ушел спать. Во мраке ночи, огромной и печальной, мулат Клементе видел Габриэлу. Улыбающиеся губы; стройные ноги, смуглые бедра, высокая грудь, тонкая талия, запах гвоздики, цвет корицы… Он обнял ее и отнес на топчан из жердей. Он лег с нею рядом, и она склонилась к нему на грудь.
О бале и английской истории
Одним из наиболее важных событий этого года в Ильеусе было открытие нового здания Коммерческой ассоциации. Это новое здание было, в сущности, первым, так как Ассоциация, основанная несколько лет назад, помещалась раньше в конторе президента Атаулфо Пассоса, представителя некоторых южных фирм.
В последнее время Ассоциация начала играть существенную роль в жизни города, она превратилась в фактор прогресса, осуществляя различные операции и влияя на самые различные дела. Новое помещение — двухэтажный дом — было расположено недалеко от бара «Везувий», на улице, которая идет от площади Сан-Себастьян к порту. Выпивка, сладости и закуски для праздника по поводу переезда в новое здание были заказаны Насибу. На этот раз ему пришлось нанять в помощь Габриэле двух мулаток, поскольку заказ был очень солидный.
Перед праздником были проведены перевыборы правления Ассоциации. Прежде приходилось уговаривать коммерсантов, импортеров и экспортеров, чтобы они согласились войти в состав правления. Теперь же посты оспаривались, потому что они давали положение в обществе, кредит в банке и право участвовать в управлении городом. Были представлены два списка: один — сторонниками Бастоса, другой — друзьями Мундиньо Фалкана. За последнее время все к этому привыкли — на одной стороне Бастосы, на другой Мундиньо. В «Диарио де Ильеус» появился манифест, подписанный некоторыми экспортерами, коммерсантами и владельцами импортных контор во главе с Атаулфо Пассосом, который снова был выставлен кандидатом на пост президента. Кандидатом на пост вице-президента был назван Мундиньо, а капитан — кандидатом 8 официальные ораторы. Список дополняли несколько всем известных имен. Аналогичный манифест, также подписанный некоторыми влиятельными членами Ассоциации, опубликовала газета «Жорнал до Сул», но здесь список был иным. Кандидатом в президенты тоже был выставлен Атаулфо Пассос, его имя ни у кого не вызывало сомнений. Пассос был далек от политики, и именно ему Ассоциация была обязана своими успехами. На пост вице-президента был предложен сириец Малуф, владелец крупнейшего в Ильеусе магазина, близкий друг Рамиро Бастоса, на землях которого много лет назад он начал свою коммерческую деятельность, открыв продовольственную лавку. Кандидатом на должность официального оратора был выставлен Маурисио Каирес.
Кроме имени Атаулфо Пассоса, еще одно имя было в обоих списках — в качестве кандидата на скромный пост четвертого секретаря назывался араб Насиб А. Саад. Назревала ожесточенная схватка, силы были примерно равны. Но Атаулфо, человек ловкий и дальновидный, заявил, что согласится выставить свою кандидатуру только в том случае, если противники договорятся между собой и составят список, объединяющий представителей обеих групп. Убедить их было нелегко. Атаулфо, однако, пустился на дипломатическую хитрость: он посетил Мундиньо, похвалил его патриотические чувства по отношению к Ильеусу, его неизменный интерес к этому краю и к Ассоциации, сказал, что он был бы весьма польщен, если бы тот стал его заместителем. Но не считает ли сеньор Мундиньо, что Коммерческая ассоциация должна оставаться нейтральной территорией, где противоборствующие силы могли бы сотрудничать на благо родины и Ильеуса?
Он предложил объединить оба списка, учредив два вице-президентских поста, а должности секретарей, двух казначеев, оратора и библиотекаря поделить между представителями обеих партий. Ассоциация — предприятие прогрессивное, с большой программой, имеющей целью превращение Ильеуса в цветущий город, — должна быть выше политических разногласий, о которых приходится лишь сожалеть.
Мундиньо согласился, он даже выразил намерение отказаться от выдвижения своей кандидатуры на пост вице-президента, которое произошло без его ведома.
И все же, сказал он, ему надо посоветоваться с друзьями; в противоположность полковнику Рамиро, он не отдает никаких распоряжений и ничего не решает, не выслушав мнения своих единомышленников.
— Думаю, что они согласятся. Вы уже говорили с полковником?
— Сначала я хотел узнать ваше мнение. Я у него буду сегодня вечером.
С полковником Рамиро договориться оказалось труднее. Сначала старик оставался глух ко всем доводам Атаулфо Пассоса, он был разгневан:
— Чужак, перекати-поле! У него же нет ни одного какаового дерева…
— И у меня тоже, полковник.
— Вы — другое дело. Вы здесь уже больше пятнадцати лет. Вы человек благонамеренный, отец семейства, вы никого не сбиваете с толку, не привезли с собой женатого мужчину, чтобы он флиртовал с нашими дочками, вы не хотите изменить здесь все, не считаете, будто у нас так уж все плохо.
— Вы знаете, полковник, что я стараюсь держаться подальше от политики. Я даже не избиратель. Я хочу жить в мире со всеми, у меня дела и с теми и с другими. Но нельзя не признать, что в Ильеусе действительно многое нужно изменить, что сейчас уже минули прошлые времена. И кто же больше вас сделал для того, чтобы Ильеус изменился?
Гнев душил Рамиро, он готов был взорваться, однако последние слова оптовика смягчили его.
— Да, кто больше меня сделал для Ильеуса?.. — повторил он вслед за Атаулфо. — Здесь же был край света, глухая, заросшая плантация, — вы должны это помнить. А сегодня во всем штате нет такого города, как Ильеус. Пусть хоть дождутся моей смерти! Ведь я уже одной ногой в могиле. Чем я к концу жизни заслужил такую неблагодарность? Что плохого я сделал, чем обидел этого сеньора Мундиньо, которого почти не знаю?
Атаулфо Пассос смущенно молчал. Голос полковника дрожал, это был голос старика, жить которому осталось недолго:
— Не думайте, я не против того, чтобы кое-что изменить или что-то сделать заново. Но к чему же эта отчаянная спешка, будто мы живем последние дни? На все свое время. — Перед Пассосом снова был хозяин края, непобедимый Рамиро Бастос. — Я не жалуюсь. Я привык к борьбе и не боюсь ее. Сеньор Мундиньо, думает, что Ильеус начал существовать с того дня, когда он сюда приехал. Он хочет зачеркнуть вчерашний день, но этого никому не дано. Он потерпит страшное поражение и дорого заплатит за эту авантюру… Я его вобью на выборах, а потом выставлю из Ильеуед. И никто мне не помешает.
— В эти дела, полковник, я не вмешиваюсь. Единственное, чего я хочу, это разрешить вопрос выборов в Ассоциацию. Зачем же вовлекать ее в ваши споры? Ассоциация, безусловно, должна стоять выше политики, она занимается только коммерческими проблемами. Если она станет служить политическим интересам, ее понесет по течению. К чему сейчас тратить силы на эту ерунду?
— А что вы предлагаете?
Атаулфо Пассос объяснил. Полковник Рамиро Бастос слушал его, положив подбородок на палку, тонкое, морщинистое лицо было чисто выбрито, в глазах блистали огоньки гнева.
— Ну что ж, я не хочу, чтобы говорили, будто я погубил Ассоциацию. К тому же я очень ценю ваши заслуги. Не беспокойтесь, я сам все скажу куму Малуфу. Но права у обоих вице-президентов будут абсолютно равные? Не получится так, что один будет подчинен другому?
— Ни в коем случае. Спасибо, полковник.
— Вы уже говорили с этим сеньором Мундиньо?
— Пока нет. Сначала я хотел выслушать вас. — Он может не согласиться.
— Если вы, хозяин города, согласились, так почему же он откажется?
Полковник Рамиро Бастос улыбнулся, он по-прежнему был первым.
Так Насиб оказался четвертым секретарем Коммерческой ассоциации Ильеуса, а значит, товарищем Атаулфо, Мундиньо, Малуфа, ювелира Пимента и других влиятельных людей, в том числе и Маурисио Каиреса и капитана.
Немало потрудиться пришлось Атаулфо Пассосу и над решением вопроса о кандидатуре официального оратора. Нелегко было убедить капитана согласиться на пост библиотекаря, который стоял последним в списке. И разве капитан не был официальным оратором в кружке имени 13 мая? Тогда как Маурисио Кайрее не занимал этого поста ни в одном обществе. Но надо было иметь в виду значительные ассигнования; Отпущенные на библиотеку, поэтому именно капитан, обладавший достаточной эрудицией, как никто другой, смог бы выбирать и приобретать книги. Эта библиотека стала бы тогда публичной городской библиотекой, куда молодежь и старики приходили бы просвещаться, так как она будет открыта для всего населения Илъеуса.
— Но помилуйте! А Жоан Фулженсио, а доктор, они же весьма достойные люди…
— Но они не кандидаты. Доктор вообще не член Ассоциации, а наш дорогой Жоан Не соглашается ни на один пост… Нет, кроме вас нам некого назначить. Вы лучший оратор в городе.
Праздник в честь новоселья и избрания нового правления Ассоциации удался на славу. Во второй половине дня в большом зале, занимавшем весь первый этаж, где должна была разместиться библиотека, состоялись торжественные собрания (на втором этаже расположились различные отделы и секретариат).
Вступление на пост новых членов правления было отмечено речами и шампанским. Специально для этого случая Насиб сшил новый костюм. Яркий галстук, до блеска начищенные башмаки, брильянт на пальце — он ничем не отличался от полковников, владельцев фазенд.
Вечером состоялся бал с буфетом, который организовал Насиб (Плинио Араса распространял повсюду слухи, будто Насиб использовал свой пост, чтобы заработать побольше, но это была клевета). В буфете был богатый ассортимент закусок и любые напитки на выбор, кроме кашасы. На стульях вдоль стен сидели девушки; мило улыбаясь, они ожидали приглашения на танцы. В ярко освещенных комнатах второго этажа дамы и их кавалеры, оживленно беседуя, поглощали сладости и закуски Габриэлы; все решили, что даже в Баие никогда не бывало такого изысканного праздника.
Оркестр из «Батаклана» играл вальсы, танго, фокстроты, военные польки. В этот вечер в кабаре не танцевали, потому что все полковники, коммерсанты, экспортеры, молодые торговцы, врачи и адвокаты собрались в Ассоциации. Кабаре пустовало, лишь несколько сонных женщин напрасно поджидали клиентов.
В зале для танцев старухи и молодые женщины шепотом обсуждали наряды, драгоценности и украшения присутствующих, сплетничали о романах, предсказывали свадьбы. Прекрасное вечернее платье Малвины, выписанное из Баии, произвело скандальное впечатление и было всеми осуждено. Ни для кого в городе уже не было секретом, что инженер, приехавший исследовать бухту, женат, хотя с женой не живет. Знали и то, что она неизлечимо больна и заперта в психиатрической лечебнице. Но это ничего не значило, все равно он не имел права ухаживать за девушкой на выданье. Что он мог предложить ей, кроме бесчестья? В лучшем случае она стала бы объектом городских сплетен, поскольку ему никогда не удастся вступить в новый брак. Тем не менее Малвина и инженер не расставались, были самой неразлучной парой на балу и не пропускали ни одного танца. Ромуло танцевал аргентинское танго даже лучше, чем покойный Осмундо. Малвина, с порозовевшим лицом, на котором сияли прекрасные глаза, казалось, грезила наяву, она как пушинка порхала в сильных руках инженера. Шепот пробегал по рядам женщин, сидевших вдоль стен, поднимался по лестницам, полз по комнатам. Дона Фелисия, мать Ирасемы, темпераментной шатенки, любившей флиртовать у ворот дома, запретила дочери дружить с Малвиной. Учитель Жозуэ пил все вина подряд и говорил нарочито громко, изображая полное безразличие и бурное веселье. Звуки музыки замирали на площади, но все же проникали в окно Глории, лежавшей с полковником Кориолано, который приехал, чтобы присутствовать на дневном торжестве. На балы он не ходил; это, говорил он, для сопляков. Он предпочитал развлекаться в постели Глории.
Мундиньо Фалкан спустился в зал. Дона Фелисия подмигнула Ирасеме, тихонько шепнув ей:
— Сеньор Мундиньо поглядывает на тебя. Наверно, хочет пригласить.
Она едва не толкнула дочь в объятия экспортера.
Разве найдешь во всем Ильеусе лучшую партию? Экспортер какао, миллионер, политический лидер и к тому же холостяк. Да, холостяк.
— Вы мне окажете честь? — склонился в поклоне Мундиньо.
— С удовольствием…
Дона Фелисия приподнялась, приветствуя молодого человека.
Пышнотелая Ирасема, томная и кокетливая, прижалась к Мундиньо, тот, почувствовав прикосновение груди и бедра, осторожно сжал девушку в объятиях.
— Вы королева бала, — сказал он.
Ирасема прижалась еще сильнее и ответила:
— Бедняжка я… Никто на меня не смотрит.
Дона Фелисия улыбалась, сидя на своем стуле; в конце года Ирасема завершит обучение в монастырской школе, пора подумать о ее замужестве.
Полковник Рамиро Бастос поручил Тонико представлять их семью на дневном торжестве. Другой его сын, Алфредо, находился в Баие, он был занят в палате депутатов. Вечером на балу Тонико сопровождал дону Олгу, жирные телеса которой были затянуты в розовое девичье платье. С ними пришла старшая племянница, у нее были восхитительные голубые глаза и нежная перламутровая кожа. Солидный, полный достоинства Тонико не смотрел на женщин, всецело занятый горой мяса, которую бог и полковник Рамиро дали ему в жены и которую он должен был кружить по залу.
Насиб пил шампанское. Не для того, чтобы увеличить потребление дорогого вина и тем самым заработать побольше, как злобно рассуждал раздосадованный Плинио Араса. Он пил, чтобы забыть свои страдания, прогнать страх, который теперь не оставлял его, и опасения, преследовавшие его день и ночь. Вокруг Габриэлы крутилось все больше мужчин, кольцо сжималось.
Ей передавали приветы, делали предложения, слали любовные записки. Как превосходной кухарке, ей предлагали баснословное жалованье; как превосходной любовнице — собственный дом и роскошную обстановку.
Всего лишь несколько дней назад, когда Насиб немного отвлекся от своих грустных мыслей после его избрания на пост четвертого секретаря, произошел случай, который показал, до чего дошла наглость этих людей.
Жена мистера Гранта, директора железной дороги, не постеснялась явиться в дом к Насибу и сделать.
Габриэле гнусное предложение. Грант был пожилой, худощавый и молчаливый англичанин, живший в Ильеусе с 1910 года. Все его звали просто Мистером. Его жена, высокая и очень белокурая англичанка, со свободными, почти мужскими манерами, не выносила Ильеуса и уже много лет жила в Баие. В Ильеусе до сих пор помнили ее удивительно стройную фигуру, а также теннисный корт, который она велела соорудить на участке, принадлежавшем железной дороге (после ее отъезда он зарос травой). В Баие она устраивала пышные обеды у себя на Барра-Авениде, разъезжала в автомобиле, курила и, как было известно, принимала среди бела дня любовников. Мистер не покидал Ильеуса, обожал здешнюю кашасу, играл в покер, неизменно напивался по субботам в «Золотой водке», и каждое воскресенье выезжал на охоту. Он жил в красивом доме, окруженном садом с единственной прислугой-индеанкой, у которой был от него сын. Когда жена два-три раза в год появлялась в Ильеусе, она привозила подарки этой мрачной и молчаливой, как идол, женщине. Едва мальчику исполнилось шесть лет, англичанка взяла его с собою в Баию, будто он был ее собственным сыном. В праздничные дни на мачте в саду Мистера развевался английский флаг, так как Грант выполнял в Ильеусе обязанности вице-консула ее величества королевы Великобритании.
Англичанка приехала на пароходе недавно, откуда же она узнала про Габриэлу? Она как-то послала в бар купить закусок и сладостей, а в один прекрасный день поднялась на Ладейру-де-Сан-Себастьян и, постучавшись в дверь Насиба, внимательно осмотрела улыбавшуюся служанку.
— Very well!
Об этой безнравственной женщине рассказывали ужасные вещи: она пила наравне с мужчинами, если не больше, ходила на пляж полуголой, обожала совсем молоденьких юношей, поговаривали даже, что ей нравятся женщины. Она сказала Габриэле, что отвезет ее в Баию, положит ей жалованье, неслыханное в Ильеусе, элегантно оденет, причем по воскресеньям Габриэла будет свободна. Она не стала церемониться и явилась прямо к Насибу. На редкость наглая англичанка…
А Судья, разве не стал он теперь ежедневно прогуливаться на Ладейре после заседаний суда? И сколько их мечтает построить для Габриэлы дом, сделать ее своей содержанкой? Те, что поскромнее, лелеяли надежду провести с ней хотя бы одну ночь за скалами на пляже, куда обычно с наступлением темноты отправлялись на прогулку подозрительные парочки день ото дня поклонники ее все больше наглели; совсем потеряв голову, они нашептывали ей любезности в баре, а на тротуаре перед домом Насиба становилось все оживленнее. Тревожные вести доходили до стойки араба, достигали его слуха. Каждый вечер у Тонико была в запасе какая-нибудь новость, и он обязательно выкладывал ее Насибу, да и Ньо Гало уже не раз намекал на возрастающую опасность:
— Верность каждой женщины, какой бы преданной она ни была, имеет свои границы…
Даже дона Арминда, которая только и думает о духах и совпадениях, уже говорила арабу, что Габриэла — дура, если отказывается от таких соблазнительных предложений.
— А ведь вы не очень огорчитесь, если она уйдет, не так ли, сеньор Насиб?
Он не очень огорчится?! Да мысль об этом не идет у него из головы: он потерял покой, он ищет выхода не Спит по ночам и даже после обеда, он лишился аппетита и похудел. Все его поздравляли, желали успехов, похлопывали по спине, а он пытался утопить в шампанском свои страхи и неразрешимые вопросы терзавшие его душу. Чем была для него Габриэла и что он должен сделать, чтобы сохранить ее? Он искал печального общества Жозуэ: учитель тоже топил свое горе в вермуте и жаловался:
— Какого черта нет кашасы на этом паршивом празднике?
Куда девались его красивые слова, его звучные стихи?..
На балу случилось еще две сенсации. Во-первых, Мундиньо Фалкан, которому быстро надоела доступная Ирасема (он был не из тех, кто флиртует у ворот или ходит на утренние сеансы в кино, чтобы потихоньку обниматься и целоваться), обратил внимание на белокурую девушку с перламутровой кожей и небесно-голубыми глазами.
— Кто она? — спросил он.
— Внучка полковника Рамиро, Жеруза, дочь доктора Алфредо.
Мундиньо улыбнулся, это показалось ему забавным. Юная красавица была с дядей и доной Олгой.
Мундиньо подождал, пока оркестр заиграл танец, подошел и дотронулся до руки Тонико.
— Разрешите приветствовать вашу жену и вашу племянницу.
Тонико растерянно представил Мундиньо, но тут же овладел собой — он был светским человеком.
Последовал обычный в таких случаях обмен любезностями.
Мундиньо спросил девушку:
— Вы танцуете?
Жеруза ответила легким кивком головы и улыбнулась, они пошли танцевать. Это вызвало в зале такое смятение, что некоторые пары сбились с такта; все оборачивались на экспортера и внучку Бастоса. Дамы усиленно зашептались, а некоторые спустились с верхнего этажа, чтобы посмотреть на Жерузу и Мундиньо.
— Так вы и есть тот бука, которым пугают детей? Но вы не похожи на буку…
Мундиньо рассмеялся.
— Я заурядный экспортер какао.
Девушка тоже засмеялась, и разговор продолжался.
Второй сенсацией была Анабела. Пригласить ее предложил Жоан Фулженсио, который никогда не видел, как она танцует, потому что не посещал кабаре.
В полночь, когда праздник становился все более оживленным, погасли почти все огни и зал погрузился в полумрак, Атаулфо Пассос объявил:
— Танцовщица Анабела, известная артистка из Рио-де-Жанейро!
Она танцевала в перьях и покрывале перед девушками и дамами, которые горячо ей аплодировали. Рибейриньо, сидевший рядом с женой, торжествовал.
Присутствующие мужчины знали, что это худощавое, ловкое тело принадлежит ему, что для Рибейриньо Анабела танцует без трико, без перьев и без покрывала.
Доктор торжественно заявил:
— Ильеус гигантскими шагами движется вперед по пути цивилизации. Еще несколько месяцев назад искусство не допускалось в гостиные. Наша Терпсихора была сослана в кабаре, изгнана на задворки. Коммерческая ассоциация возвратила искусство в лоно лучших семей Ильеуса.
Загремели аплодисменты.
О старых методах
Мундиньо Фалкан выполнил наконец обещание, данное полковнику Алтино, и отправился на его фазенды. Но не в субботу, как они условились. Он выехал на месяц позже, и то по настоянию капитана. Последний, считая очень важным привлечение Алтино на их сторону, утверждал, что если они завоюют его, то к ним примкнут фазендейро, которые до сих пор колеблются, хотя обследование мели началось.
Без сомнения, прибытие инженера, свидетельствовавшее о поражении правительства штата, было пощечиной, которую Мундиньо Фалкан дал своим противникам. Резкая реакция Бастосов, сжегших тираж «Диарио де Ильеус», явилась достаточным тому доказательством. Позже некоторые полковники пришли в контору экспортной фирмы, чтобы выразить свою солидарность с Мундиньо и предложить ему свои голоса. Капитан подсчитывал их на бумаге. Зная местные нравы, он понимал, что частичная победа на выборах ничего не даст. Признания как со стороны депутатов федеральной палаты или палаты штата, так и со стороны префекта и муниципальных советников можно было ждать только в случае, если будет одержана полная и окончательная победа. Но даже и в этом случае признания будет добиться нелегко. Поэтому капитан очень рассчитывал на связи Мундиньо в столичных сферах и на влияние семейства Мендес Фалкан. Битву надо выиграть по всем направлениям, иначе борьба не Даст никаких результатов.
После недавних событий в Ильеус вернулось спокойствие, по крайней мере внешнее. Некоторые круги начинали симпатизировать Мундиньо, ибо многие были напуганы возрождением насилия, как в случае с сожженными газетами. Пока Бастосы управляют, говорили они, мы не избавимся от жагунео. Но капитан знал, что все эти коммерсанты, молодые служащие из лавок и магазинов, портовые рабочие не решат исхода выборов. Большинство голосов принадлежало полковникам, крупным фазендейро, хозяевам округов и их родственникам — словом, тем, кто пускал в ход избирательную машину. Именно за ними оставалось последнее слово.
Дом полковника Алтино Брандана в Рио-до-Брасо находился рядом со станцией. Он был опоясан верандами, по стенам поднимались вьющиеся растения, в саду дома росли цветы, во дворе — плодовые деревья.
Мундиньо удивился благоустроенности фазенды, подумав, что капитан, пожалуй, был прав, когда утверждал, что Алтано Брандан — редкий в Ильеусе тип фазендейро, у него совсем иной склад ума. В этой зоне не сохранилась традиция строить комфортабельные, изысканные и роскошные особняки. Дома полковников на плантациях и в поселках зачастую были лишены самых необходимых удобств. На фазендах их ставили на сваях, чтобы свиньи могли спать под домом. Или же свинарник, являвшийся защитой от бесчисленных ядовитых змей, строился рядом с домом.
Свиней защищал от змеиного яда толстый слой сала, и они убивали змей. Со времен вооруженной борьбы фазендейро привыкли жить скромно, и лишь с недавних пор в Ильеусе и Итабуне полковники сталей покупать и строить богатые особняки, бунгало и даже небольшие дворцы. Они отказывались от прежней суровой и неустроенной жизни под давлением сыновей — студентов высших учебных заведений в Баие.
— Вы оказали нам большую честь, — сказал полковник, представляя Мундиньо жене, которая встретила их в хорошо обставленной гостиной, где на стенах висели портреты супругов Брандан в молодости.
Затем полковник отвел Мундиньо в комнату для гостей. И здесь все было устроено с королевской роскошью: матрац, набитый обезьяньей шерстью, льняные простыни, вышитое покрывало, вся спальня была пропитана запахом лаванды.
— Если вы не возражаете, я Суй предложил выехать сразу же после завтрака, чтобы успеть посмотреть работы на плантациях. Ночевать будем в «Агуас-Кларас», утром выкупаемся в реке, совершим прогулку верхом и осмотрим фазенду. Позавтракаем дичью, а к обеду вернемся сюда.
— Отлично. У меня нет ни малейших возражений, Фазенда Брандана «Агуас-Кларас» представляла собой огромный земельный участок, границы которого проходили от поселка на расстоянии менее лиги. Впрочем, у полковника Алтино была и другая фазенда, подальше, частично еще покрытая лесом, который предстояло вырубать.
Перемены блюд за завтраком следовали одна за другой — пресноводная рыба, дичь, говядина, баранина, свинина. Это был обычный семейный завтрак, званый обед был назначен на воскресенье.
Вечером на фазенде, после того как Мундиньо посмотрел, как собирается урожай какао (работники трудились у корыт с зернами, плясали, мелко переступая ногами, в баркасах, перемешивая какао, которое сушилось на солнце), он беседовал с хозяином при свете керосиновых ламп. Алтино рассказывал истории о жагунсо, вспоминал старые времена, когда велась борьба за землю. Кое-кто из работников, сидевших на земле, принимал участие в беседе, уточняя те или иные подробности. Алтино указал на одного негра:
— Он у меня работает уже двадцать пять лет. Раньше был жагунео у Бандаро, и бежал от него сюда. Если бы он понес наказание за всех, кого прикончил, на это не хватило бы его жизни.
Негр улыбнулся, показав белые зубы. Он жевал табак; у него были мозолистые руки, а ноги были покрыты засохшим клейким соком какао.
— О, сеньор полковник! Что молодой человек может подумать обо мне?
Мундиньо хотел завести разговор о политике и склонить богатого фазендейро на свою сторону. Но Алтино избегал говорить на эту тему, он лишь упомянул во время завтрака в Рио-до-Брасо о костре из номеров «Диарио де Ильеус». Полковник осудил нападение на редакцию.
— Это никуда не годится. Отголосок старых времен, которые, слава богу, уже давно прошли. Амансио — порядочный человек, но нетерпимый и резкий, прямо не знаю, как он уцелел. Был три раза ранен в стычках, окривел на один глаз, рука не действует, а все не меняется. С Мелком Таваресом тоже шутки плохи, не говоря уж о бедняге Жезуино… Да, никто из нас не может поручиться, что ему не придется совершить такое же преступление: у Жезуино не было иного выхода. Но зачем они затеяли эту историю с поджогом газет? Никуда не годится… — Полковник вынимал кости из рыбы. — Но вы извините меня, если я скажу, что вы тоже поступили неправильно? Таково мое мнение.
— Почему? Вы считаете неверным резкое выступление газеты? Но политическая кампания не ведется путем восхваления противников.
— Ваша газета делается здорово, это верно. Любая статья в ней интересна… Мне говорили, что их пишет доктор, надо быть справедливым, у него одного в голове мозгов больше, чем во всем Ильеусе. Очень умный человек… Я люблю слушать его речи, он говорит, как ученый. Конечно, вы правы. Газета для того и существует, чтобы ругать и громить противника. Выступления вашей газеты справедливы, я даже подписался на нее. Но не об этом речь.
— А о чем же?
— Сеньор Мундиньо, я уже говорил, что те, кто подожгли тираж, поступили неправильно. Я этого не одобряю. Но уж раз это случилось, вы были поставлены в безвыходное положение. Как и Жезуино. Хотел он убить жену? Нет, не хотел. Но она наставила ему рога, и ему оставалось только прикончить ее, иначе он был бы опозорен и стал бы чем-то вроде борова или тяглового вола. А почему бы и вам было не сжечь их газету, и не только тираж, а и здание, да еще и машины сломать? Вы меня извините, но вы были обязаны это сделать, чтобы о вас не стали болтать, будто вы слишком осторожны и тому подобное. Ведь для того, чтобы управлять Ильеусом и Итабуной, нужно быть сильным и не склонять головы ни при каких обстоятельствах.
— Я не трус, полковник. Но, как вы сами сказали, это устаревшие методы. И именно для того, чтобы покончить с ними, чтобы сделать Ильеус цивилизованным краем, я включился в политическую борьбу. Да и где бы я взял жагунсо, у меня ведь их нет…
— Ну, это не причина… У вас есть друзья, люди решительные, вроде Рибейриньо. Я сам предупредил кое-кого. Как знать, а вдруг сеньор Мундиньо попросит меня, когда ему понадобится…
Вот и весь их разговор о политике. Мундиньо просто не знал, что думать. У пего было впечатление, будто полковник обращается с ним как с ребенком, подшучивает над ним. Вечером на плантации Мундиньо снова попробовал завести беседу на политические темы. Алтино не отвечал, говорил только о какао. Они вернулись в Рио-до-Брасо после чудесного завтрака: разнообразная дичь, мясо агути, бразильской свинки даки, оленина и еще что-то необыкновенно вкусное; как узнал впоследствии Мундиньо, это было мясо обезьяны жупара. На фазенде Алтино устроил роскошный обед, на котором присутствовали фазендейро, коммерсанты, врач, аптекарь, священник — все, кто занимал достаточно видное положение в местечке. Алтино велел позвать музыкантов, игравших на гармонике и на гитаре, певцов-импровизаторов, в частности одного слепца, слагавшего замечательные стихи. Аптекарь, улучив момент, спросил у Мундиньо, как разворачиваются политические события. Тот не успел ответить, потому что в разговор резко вмешался Алтино:
— Сеньор Мундиньо приехал сюда погостить, а не заниматься политикой, и тут же заговорил о другом.
В понедельник экспортер вернулся в Ильеус. Черт возьми, чего хочет этот Алтино Браыдан? Он ведь сам захотел продать свое какао — более двадцати тысяч арроб — Мундиньо, а не Стевесону. Для Мундиньо это была очень выгодная сделка. Полковник уже свободен от всяких обязательств по отношению к Бастосам и тем не менее о политике и слышать не хочет. Или он, Мундиньо, ничего не понял, или старик выжил из ума. Ведь он потребовал, чтобы Мундиньо поджигал дома, ломал машины, возможно, даже убивал людей.
Капитан утверждал, что Мундиньо не понимает полковников, их образа жизни и действий. Выслушав идею Алтино Брандана о мести газете «Жорнал до Сул» за идиотское сожжение тиража «Диарио де Ильеус», капитан сказал задумчиво:
— В известной степени он прав. Я тоже думал об этом. Действительно, стоило бы проучить людей Бастоса. Тем или иным способом доказать ильеусцам, что не Бастос уже хозяин края, как было когда-то. Я много размышлял об этом и даже поговорил с Рибеприньо.
— Осторожно, капитан! Не будем делать глупостей. На каждый акт насилия будем отвечать буксирами и землечерпалками для бухты.
— Но когда же в конце концов наш инженер закончит свои исследования и выпишет землечерпалки? В жизни не видел, чтобы так копались…
— Это нелегкое дело, тут в несколько суток не управишься. Он и так работает без отдыха, не теряет ни минуты. Быстрее некуда.
— Он работает день и ночь, — рассмеялся капитан. — Днем в бухте, ночью у подъезда Мелка Тавареса. Втюрился в его дочку, видать, роман у них завязался нешуточный…
— Надо же парню развлечься…
Примерно неделю спустя после посещения Рио-до-Брасо Мундиньо, выйдя с заседания правления клуба «Прогресс», увидел спину полковника Алтино, который шел к дому Рамиро Бастоса. В окне он заметил белокурую Жерузу и снял шляпу, она помахала ему рукой.
Это могло бы показаться смешным, поскольку накануне Рибейриньо выгнал из Гуараси, поселка, расположенного недалеко от его фазенды, уполномоченного Бастосов — чиновника префектуры. В тот же вечер чиновника избили палкой, и ему пришлось голым выбираться на ильеусское шоссе, там он добыл какую-то одежду, которая была ему страшно велика, и прошагал до города пешком.
О птичке софре
Насиб был уже не в силах совладать с собой, он утратил покой, хорошее настроение, жизнерадостность.
Перестал даже закручивать кончики усов, и теперь они уныло свисали по краям рта. Он разучился улыбаться.
Он все время думал. А ведь ничто так не изнуряет и не сушит человека, не лишает его сна и аппетита, ничто так не печалит, как неотвязные думы.
Тонико Бастос облокотился о стойку, налил себе рюмку горького аперитива и иронически оглядел унылую фигуру хозяина бара.
— Вы стали плохо выглядеть, араб. На себя не похожи.
Насиб мрачно кивнул. Его большие, навыкате глаза остановились на элегантном нотариусе. Уважение Насиба к Тонико за последнее время возросло. Они всегда были приятелями, но прежде их отношения ограничивались разговорами о женщинах легкого поведения, походами в кабаре и выпивками. Однако с тех пор, как появилась Габриэла, между ними установилась более тесная дружба. Из всех дневных посетителей, приходивших выпить аперитив, Тонико был единственным, кто держался скромно, когда она показывалась в полдень с цветком в волосах. Он вежливо раскланивался, осведомлялся о ее здоровье, хвалил ее необыкновенные кушанья. Ни томных взглядов, ни быстрого шепота, он даже не пытался дотронуться до нее. Тонико обращался с Габриэлой так, словно она была почтенной сеньорой, красивой и желанной, но недоступной. Когда Насиб нанял Габриэлу, он особенно опасался соперничества Тонико — разве не был нотариус неотразимым покорителем женских сердец?
Таков этот мир, удивительный и сложный. Тонико проявлял исключительную сдержанность и почтительность в присутствии Габриэлы, хотя все знали о любовной связи араба с красивой служанкой. Правда, она считалась лишь его кухаркой, никаких иных отношений между ними словно и не было. Спекулируя на этом, посетители даже при Насибе осыпали ее комплиментами, шептали ей нежные слова, совали в руку записочки. Сначала он их рассеянно читал, скатывал в шарик и выкидывал на помойку, теперь же — с озлоблением рвал. Их становилось все больше, причем многие носили весьма нескромный характер. Тонико вел себя не так. Он дал ему доказательство настоящей дружбы, отнесясь к Габриэле как к замужней женщине, супруге полковника. А разве это не было свидетельством дружбы и уважения? Хотя Насиб не угрожал ему, как полковник Кориолано, когда дело касалось Глории. Да, только Тонико вел себя достойно, и лишь ему он открывал свое сердце, болевшее, как незаживающая рана.
— Самое страшное, когда человек не знает, как ему поступить.
— У вас какие-нибудь затруднения?
— А разве вы не видите? Меня что-то гложет, я даже весь иссох. Хожу как обалделый. Достаточно сказать, что на днях я забыл оплатить один документ. Что же это со мной творится?..
— Страсть не шутка…
— Страсть?
— А разве нет? Любовь — это самое лучшее и самое худшее, что есть в мире.
Страсть… Любовь… Он боролся против этих слов в течение многих дней, размышляя о них в час сиесты.
Он боялся понять, насколько сильно его чувство, не желая встретиться с правдой лицом к лицу. Сначала он думал, что это просто увлечение, пусть более сильное, чем другие, более длительное. Но никогда прежде он так не страдал, никогда не испытывал такой ревности, такого страха потерять женщину. То не была досадная боязнь остаться без отличной кухарки, волшебным рукам которой бар в значительной степени был обязан своим нынешним процветанием. Больше он не думал об этом, эти мелочные заботы длились недолго. К тому же он потерял аппетит, ему совершенно не хотелось есть… Все дело было в том, что Насиб теперь не мог представить себе и одной ночи без Габриэлы, без ее горячего тела. Даже когда она была нездорова, он ложился к ней в постель, она клала голову ему на грудь, и он ощущал исходивший от нее запах гвоздики. Он плохо спал в такие ночи, мучаясь от сдерживаемого желания. Каждый месяц отныне был для Насиба медовым месяцем. Если это не любовь, не безнадежная страсть, то что же это тогда, бог мой?
А если это любовь, если жизнь его без Габриэлы невозможна, какой тогда он найдет выход? «Верность каждой женщины, какой бы преданной она ни была, имеет свои границы», — сказал Ньо Гало, умевший давать хорошие советы. Вот еще один друг Насиба. Ньо Гало не был так сдержан, как Тонико, он заглядывался на Габриэлу, бросал на нее умоляющие взгляды. Но дальше этого не шел и никаких предложений ей не делал.
— Должно быть, так оно и есть. Я вам признаюсь, Тонико, без этой женщины я не могу жить. Я с ума сойду, если она меня бросит…
— Что же вы намерены делать?
— Почем я знаю…
На Насиба было грустно смотреть. Его лицо утратило ту жизнерадостность, которая обычно написана на лицах полных людей. Казалось, оно удлинилось и стало печальным, почти мрачным.
— А почему бы вам не жениться на ней? — неожиданно выпалил Тонико, словно догадавшись, что происходит в душе друга.
— Вы смеетесь? Такими вещами не шутят…
Тонико поднялся, велел записать выпитые аперитивы в счет и бросил монету Разине Шико, который поймал ее на лету.
— На вашем месте я бы именно так и поступил…
Оставшись один в опустевшем баре, Насиб погрузился в раздумье. А что еще он мог сделать? Давно прошло то время, когда он приходил в ее комнату только ради забавы, только потому, что ему надоела Ризолета и другие женщины; то время, когда он как плату приносил ей брошки ценою в десять тостанов и дешевые кольца со стекляшками. Теперь он подносил ей подарки каждую неделю, а то и два раза на неделе.
Отрезы на платье, духи, шали, конфеты. Но что все это значит, если ей предлагают снять дом, обеспечить роскошную праздную жизнь, которой живет Глория, тратя деньги без счета и одеваясь лучше многих замужних сеньор, имеющих богатых мужей? Нужно было предложить ей что-то лучшее, что-то большее, что сразу бы сделало смешным предложения судьи, Мануэла Ягуара, а теперь и Рибейриньо, который внезапно остался без Анабелы. Танцовщица уехала, край какао внушал ей страх. Она решилась на этот шаг из-за шума, который поднялся вокруг Рибейриньо, после того как он избил чиновника префектуры, к тому же попутно выяснились и некоторые более серьезные факты.
Уложив потихоньку вещи, она, никому не сказав ни слова, купила билет на пароход компании «Баияна» и простилась только с Мундиньо. Анабела побывала у него дома накануне отъезда, и он дал ей тысячу рейсов. Рибейриньо находился на плантации и узнал новость лишь по возвращении оттуда. Она увезла брильянтовое кольцо, золотые подвески и другие драгоценности тысяч на двадцать. Тонико заявил в баре:
— Вот мы с Рибейриньо и остались вдовцами.
Пора бы Мундиньо раздобыть нам кого-нибудь еще…
Рибейриньо обратился к Габриэле, дом у него уже был готов, только бы она решилась. Он ей тоже подарит брильянтовое кольцо и золотые подвески. Обо всем этом Насиб узнал из рассказов доны Арминды, которая расхваливала Габриэлу:
— Никогда не видела такой порядочной девушки…
Ведь от подобных предложений у любой голова закружится. Нужно любить по-настоящему больше, чем самое себя, чтобы устоять. Всякая другая уже продалась бы и купалась в роскоши, как принцесса…
В чувствах Габриэлы Насиб не сомневался. Разве не отвергала она все предложения и подношения, словно они ее совсем не интересовали? Она смеялась в ответ и не сердилась, когда кто-либо из посетителей посмелее касался ее руки или брал за подбородок. Она не возвращала записок, не отвечала грубо, а лишь благодарила за любезность. Но никому не давала воли и никогда не жаловалась Насибу, никогда ничего у него не просила и, принимая подарки, радостно хлопала в ладоши. А разве каждую ночь не умирала она в его объятиях, пылкая и ненасытная, не шептала с никогда не угасавшей страстью: «Красавчик мой, любовь моя»?
«На вашем месте я бы именно так и поступил…»
Легко говорить, когда дело касается другого. Но как жениться на кухарке Габриэле, мулатке без роду и племени, у которой нет ни кола ни двора, на девушке, найденной на невольничьем рынке? Он должен жениться на воспитанной девушке из уважаемой семьи, на девушке с приданым, образованной, чистой и невинной. Что сказали бы дядя и ворчливая тетка, сестра и ее муж — инженер-агроном из хорошей семьи?
Что сказали бы Ашкары — богатые родственники, землевладельцы, занимающие видное положение в Итабуне? Что сказали бы его друзья по бару: Мундиньо Фалкан, Амансио Леал, Мелк Таварес, доктор, капитан, Маурисио Каирес, Эзекиел Прадо? Что сказал бы весь город? Нет, нельзя даже думать об этом, все это вздор. И все же он думал.
В бар зашел крестьянин — продавец птиц. В одной из клеток маленькая софре распевала грустную и нежную песню. Красивая, подвижная черно-желтая птичка ни минуты не сидела спокойно. Вот она запела громче, слушать ее было очень приятно. Разиня Шико и Бико Фино пришли в восторг от ее пения.
Одну вещь он должен сделать обязательно. Запретить Габриэле являться в бар! Убытки? Ну что ж…
Он потеряет выручку, но хуже будет, если он потеряет ее. Она была постоянным искушением для мужчин, ее присутствие действовало на них опьяняюще. Как не влюбиться, как не желать ее, не вздыхать, если видишь ее? Насиб ощущал Габриэлу всем своим существом — кончиками пальцев, своими обвисшими усами, кожей на бедрах, на подошвах ног. Софре пела, казалось, только для него, ибо ее пение было грустным.
Почему бы не отнести птичку Габриэле? Теперь, когда он запретит ей приходить в бар, ей понадобятся другие развлечения.
Насиб купил софре. Больше он не мог думать, не мог страдать.
Габриэла с птичкой в клетке
— О! Какая красота! — воскликнула Габриэла, увидев софре.
Насиб поставил клетку на стул, птичка билась о прутья.
— Это тебе… Чтоб ты не скучала.
Он уселся, Габриэла устроилась на полу у его ног.
Она взяла его большую волосатую руку, поцеловала ладонь, и это напомнило Насибу — он сам не мог понять почему — землю его родителей, горы Сирии. Потом Габриэла положила голову ему на колени, и он провел рукой по ее волосам. Птичка, успокоившись, зачирикала.
— Два подарка сразу… Какой ты у меня хороший!
— Два?
— Птичка и еще — то, что ты сам ее принес. Ведь каждый день ты возвращаешься так поздно…
Неужели ему предстояло потерять ее… «Верность каждой женщины, какой бы преданной она ни была, имеет QBOH границы». Ньо Гало, конечно, хотел сказать «свою цену». Горечь отразилась на лице Насиба, и Габриэла, подняв глаза, заметила это.
— Ты, Насиб, что-то грустен… Раньше ты таким не был. Всегда ходил веселый, всегда улыбался, а тетерь такой печальный. Почему, Насиб?
Что он мог ей сказать? Что не знает, как ее уберечь, как навсегда удержать при себе? Насиб воспользовался случаем, чтобы начать разговор.
— Мне нужно тебе кое-что сказать.
— Так говори, хозяин мой…
— Мне кое-что очень не нравится, очень меня беспокоит.
Габриэла встревожилась:
— Я плохо что-нибудь приготовила или плохо выстирала?
— Нет, нет, совсем другое.
— А что?
— То, что ты ходишь в бар. Это мне не по душе.
Габриэла широко открыла глаза:
— Так я же хожу, чтобы помогать тебе и чтобы твой завтрак не остывал. Только поэтому.
— Я знаю. Но ведь другие этого не знают…
— Понимаю. Я не подумала об этом… Нехорошо, что я в баре, да? Наверно, кое-кому не нравится, что кухарка входит в бар… Я не подумала…
Он согласился:
— Именно… Кое-кто не обращает на это внимания, но находятся такие, что протестуют.
Грустными стали глаза Габриэлы. Пение софре терзало душу, разрывало сердце. Какими грустными стали глаза Габриэлы!
— Что плохого я им сделала?
Зачем он заставляет ее страдать, почему не говорит ей правды, не говорит о своей ревности, не кричит о своей любви, не зовет ее нежно Биэ, как ему хочется и как он давно называет ее мысленно?
— С завтрашнего дня я буду приходить через черный ход и отдавать тебе завтрак. Я не стану входить в зал и появляться у столиков на улице.
Что ж, неплохо. Он по-прежнему будет видеть ее в полдень, она по-прежнему будет рядом с ним, и он сможет, как и раньше, касаться ее рук, ног, груди.
И не явится ли этот шаг своеобразным отрицательным ответом на соблазнительные предложения и на сладкие слова посетителей?
— А тебе нравится ходить в бар?
Она кивнула. Это был ее свободный час, она совершала прогулку до бара, и как ей все там нравилось!
Она идет с судками по городу, проходит между столиков, слышит шепот мужчин, чувствует на себе их взгляды, полные желания. Но ее не волнуют взгляды стариков. Предложения снять для нее дом, которые делали полковники, были ей не по душе. Просто ей было приятно, когда на нее заглядывались, когда ее приветствовали, ее желали. Эта насыщенная желанием атмосфера была как бы подготовкой к ночи, когда в объятиях Насиба Габриэла вспоминала красивых мужчин из бара: сеньора Тонико, сеньора Жозуэ, сеньора Ари, сеньора Эпаминондаса, кассира из магазина.
А может быть, кто-нибудь из них затеял эту историю.
Нет, нет. Конечно, это один из старых уродов, обозленный тем, что она не уделяла ему внимания.
— Хотя ладно, приходи по-прежнему. Но теперь ты не станешь больше обслуживать клиентов, будешь стоять за стойкой.
Значит, они все же смогут на нее смотреть, ей улыбаться и даже иногда подходить к стойке, чтобы поговорить с ней.
— Пойду в бар… — сказал Насиб.
— Так рано…
— Мне вообще нельзя было уходить…
Пальцы Габриэлы сжимали его ноги, они не давали ему уйти. Никогда еще он не обладал ею днем, всегда только ночью. Он хотел встать, но она, полная благодарности, молча удерживала его.
— Иди сюда… Иди скорей…
Он увлек ее за собой. Впервые он будет обладать ею в своей спальне, на своей кровати, будто она его жена, а не кухарка. Когда она взяла его голову и поцеловала его глаза, он спросил ее, и задал этот вопрос впервые:
— Скажи мне одно: ты очень любишь меня?
Она рассмеялась, и смех ее был подобен пению птиц, он звучал как трель:
— Красавчик мой… Люблю, даже больше, чем люблю…
Ее опечалила эта история с баром. Почему же он заставил ее страдать, почему не сказал ей правду?
— Никто не говорил, чтобы ты не приходила в бар. Это я был против. Потому я и грущу. Все с тобой заигрывают, говорят тебе всякую чушь, берут тебя за руку, не хватает только, чтобы они тебя схватили и тут же, в баре, повалили на пол…
Она рассмеялась, потому что это показалось ей смешным.
— Подумаешь… Я на них не обращаю никакого внимания…
— В самом деле?
Габриэла привлекла его к себе, тесно прижала к груди. Насиб прошептал:
— Биэ… — И на своем языке любви, на арабском, сказал: — Отныне я буду звать тебя Биэ, и эта постель будет твоею, здесь ты будешь спать. Для меня ты не кухарка, хотя ты и стряпаешь. Ты хозяйка этого дома, ты солнечный луч, ты лунный свет и пение птиц. Твое имя — Биэ…
— Биэ — это иностранное имя? Зови меня Биэ и чаще говори на своем языке… Я люблю его слушать…
Когда Насиб ушел, она уселась перед клеткой. Насиб хороший, думала она, он меня ревнует. Она засмеялась, просунув палец меж прутьев, птичка в испуге заметалась. Насиб ревнует; какой он смешной…
А вот она не испытывает ревности, если хочет — пусть идет к другой. Вначале так оно и было, она знает. Он спал с ней и с другими женщинами. Но ей было все равно. Он мог идти к другой. Но не насовсем, а только на ночь. Насиб ее ревнует, это забавно. Но что за беда, если Жозуэ взял ее за руку? Если сеньор Тонико — такой красавец и всегда такой серьезный — за спиной сеньора Насиба пытался поцеловать ее в затылок? Если сеньор Эпаминондас просил свидания, а сеньор Ари дарил ей конфеты и трепал по подбородку?
С ними со всеми она спала каждую ночь, когда Насиб обнимал ее, с ними, а также со всеми, кто был у нее раньше, со всеми, кроме дяди. То с одним, то с другим, но чаще всего с мальчиком Бебиньо и с сеньором Тонико. Это ведь так приятно, стоит только вообразить…
Как хорошо ходить в бар и расхаживать среди мужчин. Жизнь прекрасна, она довольна тем, что живет. Она любит греться на солнце, принимать холодную ванну, жевать гуяву, есть манго, грызть перец, она любит ходить по улицам, распевать песни, спать с одним молодым мужчиной, а мечтать о другом.
Биэ — ей понравилось это имя. Насиб, такой большой, кто мог бы подумать? Даже в такую минуту он говорил на чужом языке и ревновал… Какой смешной!
Она не хотела его обидеть, он хороший! Она будет теперь осторожнее, ей не хотелось его огорчать. Но не может же она не выходить из дому, не подходить к окну, не гулять по улицам. Не может всегда молчать и не улыбаться. Не слышать голоса мужчины, его прерывистого дыхания, не видеть блеска мужских глаз. «Даже не проси, Насиб, я не могу этого сделать».
Птичка билась о прутья. Сколько дней она в неволе? Наверное, немного, еще не успела привыкнуть. Да и кто же привыкнет жить взаперти? Габриэла любила животных, птиц, она с ними дружила — с кошками, собаками, даже с курами. На плантации у нее был попугай, он умел говорить. Но он умер с голоду, еще раньше дяди. И больше ей не хотелось держать птичку в клетке. Ей было жаль ее. Она не сказала этого Насибу, боялась его обидеть. Он ведь решил сделать ей подарок, чтобы она не чувствовала себя одинокой, и подарил ей софре-певунью. Но песня ее такая грустная, и Насиб тоже грустный. Она не хотела его обидеть, теперь она будет осторожна. Ей не хотелось огорчать его, она скажет, что птичка вырвалась из клетки и улетела.
Габриэла пошла во двор и открыла клетку. Кот спал. Софре взлетела, села на ветку гуявы и спела для Габриэлы. Какая звонкая, какая веселая песня! Габриэла улыбнулась, кот проснулся.
О стульях с высокой спинкой
Тяжелые австрийские стулья с высокой спинкой, черные, резные, обитые кожей с узорами, стояли здесь, казалось, только для того, чтобы ими любовались, но не для того, чтобы на них садились. Пожалуй, кое на кого они нагнали бы страху. Полковник Алтино Брандан еще раз осмотрел гостиную. На стене, как и у него дома, — цветные портреты полковника Рамиро и его покойной супруги — продукция процветающей санпауловской индустрии; между портретами — зеркало. В углу — ниша со статуями святых. Вместо свечей крошечные электрические лампочки: синие, зеленые, красные, — красота! На другой стене — японские бамбуковые циновки, к которым приколоты почтовые открытки, портреты родственников, гравюры.
В глубине комнаты рояль, покрытый черной тканью с узорами густо-красного цвета.
Едва войдя в дом, Алтино встретил Жерузу, поздоровался с ней и спросил, дома ли полковник Рамиро Бастос и сможет ли уделить ему пару минут; девушка провела его в коридор, разделяющий две передние гостиные. Оттуда он услышал, как в доме началась суета: гремели оконные задвижки, со стульев снимались чехлы, вступали в действие щетки и метелки. Парадную гостиную открывали лишь в торжественных случаях: в день рождения полковника, в день, когда вступал на пост новый префект, для приема крупных политических деятелей из Баии, а также когда наносил визит редкий и уважаемый гость. Жеруза появилась в дверях, приглашая Алтино войти:
— Заходите, полковник.
Полковник редко бывал в доме Рамиро, обычно только по праздникам, и сейчас он снова, как всегда, восхищался роскошной гостиной — этим неоспоримым свидетельством богатства и могущества Бастосов.
— Дедушка сейчас выйдет… — улыбнулась Жеруза и удалилась, потупившись. «Красивая девица, похожа на иностранку, уж очень белокурая, и кожа у нее такая белая, что даже кажется голубоватой. Этот Мундиньо Фалкан дурак. К чему ссориться, когда все можно так легко разрешить?»
Алтино услышал шаркающие шаги Рамиро и уселся.
— Вот это здорово! Просто превосходно! Чем я обязан удовольствию видеть вас?
Они пожали друг другу руки. Алтино поразил вид старика: как он сдал за те месяцы, что они не встречались! Раньше Бастос напоминал ствол крепкого дерева, на котором годы не оставляют следа, который безразличен к бурям и ветрам. Казалось, Рамиро будет править в Ильеусе вечно. Теперь от прежнего могущества полковника остался лишь повелительный взгляд.
Его руки слегка дрожали, плечи согнулись, походка стала нетвердой.
— С каждым днем вы выглядите бодрее, — солгал Алтино.
— Если слабость называть силой… Ну, давайте присядем.
Высокая спинка стула. Может быть, она и красива, но неудобна. Ему больше по вкусу обитые синей кожей мягкие кресла в конторе Мундиньо Фалкана — в них прямо тонешь, они такие удобные, что не хочется уходить.
— Извините меня за нескромный вопрос: сколько вам лет?
— Восемьдесят три.
— Хороший возраст. Дай вам господь еще много лет жизни.
— В нашей семье умирают поздно. Мой дед прожил до восьмидесяти девяти лет. Отец — до девяноста двух.
— Я его помню.
В гостиную, неся на подносе чашечки с кофе, вошла Жеруза.
— Внучки уже выросли…
— Я женился в зрелом возрасте, так же как и Алфредо и Тонико. А то у меня были бы правнуки, даже праправнуки.
— Правнук не заставит себя ждать. Когда внучка такая красавица…
— Возможно, возможно.
Жеруза вернулась, взяла чашки и сказала:
— Дедушка, пришел дядя Тонико, спрашивает, можно ли ему войти.
Рамиро взглянул на Алтино.
— Как вы скажете, полковник? У вас ко мне конфиденциальный разговор?
— От Тонико у меня секретов нет — ведь он ваш сын.
— Пусть войдет…
Тонико появился в жилете и гамашах. Алтино поднялся. Тонико сердечно и горячо обнял его. «Вот хитрец!» — подумал фазендейро.
— Очень, очень рад вас видеть в нашем доме, полковник. Вы так редко у нас появляетесь…
— Я деревенский житель, выезжаю из Рио-до-Брасо только в случае крайней необходимости, кроме «Агуас-Кларас», нигде не бываю…
— Неплохой урожай в этом году, полковник, как вы считаете? — прервал его Тонико.
— Слава богу. Никогда не видел столько какао… Вот я и приехал в Ильеус и решил: дай-ка навещу полковника Рамиро. Поговорю с ним, поделюсь своими мыслями. На плантациях мы по вечерам сидим и думаем… Знаете, как это бывает, — начинаешь думать, а потом и поговорить хочется.
— Я весь внимание, полковник.
— Вам известно, что в политику я никогда не вмешивался. Только один раз это сделал, да и то иного выхода не было. Вы, должно быть, помните, тогда сеньор Фирмо был префектом. Они хотели прибрать к рукам Рио-до-Брасо и назначить туда своего человека. Я приезжал тогда поговорить с вами…
Рамиро помнил этот случай. Комиссар полиции, его ставленник, уволил помощника полицейского комиссара в Рио-до-Брасо, которому покровительствовал Алтино, и назначил на его место капрала военной полиции. Алтино приехал в Ильеус и явился к Бастосу с жалобой. Это было лет двенадцать назад. Алтино потребовал, чтобы капрала отозвали и возвратили его протеже. Рамиро согласился. Смена власти была произведена без его ведома и согласия, в момент, когда он был на заседании сената в Баие.
— Я велю отозвать капрала, — обещал Бастос.
— Не надо. Он приехал тем же поездом, что и я; похоже, побоялся остаться. Не знаю толком, в чем дело, я плохо осведомлен, слышал только, что над ним немного подшутили. Думаю, ему не захочется возвращаться в Рио-до-Брасо. Нужно просто освободить его от этой должности и снова назначить моего кума. Власть без силы ничего не стоит…
Так и сделали. Рамиро вспомнил неприятный разговор. Алтино тогда угрожал разрывом, грозил поддержать оппозицию. А что ему нужно сейчас?
— Сегодня я снова приехал. Возможно, на этот раз я лезу туда, куда меня не просят… Проповеди мне никто не заказывал. Но я сижу на плантации и раздумываю над тем, что происходит в Ильеусе. Даже если мы сторонимся дел, они сами напоминают о себе. Ведь, в конце концов, все расходы на политику оплачивают фазендейро, которые живут на плантациях и собирают какао. Вот это меня и заботит…
— А как вы оцениваете нынешнее положение?
— Я нахожу его неважным. Вы всегда пользовались вполне заслуженным уважением в Ильеусе и уже много лет являетесь политическим лидером. Разве кто-нибудь станет отрицать это? Во всяком случае, не я, избави господи.
— Однако все же кое-кто отрицает. Правда, не здешние жители, а чужеземец, который явился в Ильеус неизвестно зачем. Его братья, люди порядочные, выставили его из своей фирмы, не хотят даже видеть этого отщепенца. Он приехал в Ильеус, чтобы расколоть то, что было единым, разобщить то, что было неделимым. Если капитан выступает против меня, это закономерно, я боролся против его отца и добился его отставки. Капитан по-своему прав, поэтому я всегда считался с ним и не переставал его уважать. Но этому сеньору следовало бы довольствоваться деньгами, которые он зарабатывает, и не вмешиваться не в свое дело.
Алтино закурил свернутую из кукурузного листа сигарету и опять поглядел на лампочки в нише, где стояли статуи святых.
— Замечательное освещение. У нас в доме тоже есть статуи святых. Хозяйка у меня набожная и изводит ужасно много свечей. Я велю и у нас провести электричество… Ильеус — край чужеземцев, сеньор полковник. А кто такие мы сами? Никто из нас здесь не родился. Но возьмем коренных жителей Ильеуса — что они собой представляют? За исключением доктора, человека образованного, все остальные — дрянь, ничего не стоят. Следовательно, можно сказать, что мы первые грапиуны. А наши дети ильеусцы. И когда мы прибыли в эти ужасные леса, разве старожилы не могли сказать, что мы чужеземцы?
— Я не хотел вас обидеть. Я знал, что вы продали ему свое какао, но не знал, что вы друзья, поэтому был откровенен. И все же я не беру своих слов обратно. Что сказано, то сказано. Не сравнивайте себя с ним, полковник, не сравнивайте и меня. Мы приехали сюда, когда тут ничего еще не было. Это совсем другое дело. Сколько раз мы рисковали жизнью, сколько раз чудом избегали смерти? Больше того! Сколько раз мы были вынуждены идти на убийство? А выходит, это ничего не стоит? Нет, не сравнивайте себя с ним, полковник, и не сравнивайте меня. — Голос старика благодаря напряжению воли перестал дрожать и вновь приобрел прежние, повелительные интонации. Разве он рисковал жизнью? Он приехал с деньгами, оборудовал контору, покупает и экспортирует какао.
Разве ему угрожала смерть? Так какое он имеет право распоряжаться в Ильеусе? Мы свое право завоевали.
— Все это верно, полковник. Все верно, но прежние времена миновали. Мы с головой ушли в свои дела и не отдаем себе отчета, что время идет и положение меняется. И когда в один прекрасный день мы вдруг открываем глаза, все вокруг оказывается иным, не похожим на прежнее.
Тонико слушал молча, однако лицо его выражало беспокойство. Он почти жалел о том, что пришел в эту гостиную. В коридоре Жеруза отдавала распоряжения служанкам.
— Почему? Я вас не понимаю…
— Сейчас объясню. В прежние времена управлять было просто. Достаточно было иметь силу — и власть оказывалась в твоих руках. Теперь все переменилось. Как вы уже сказали, мы завоевывали власть в кровавых боях, она была нужна нам для того, чтобы владеть землей. Она была необходима. И мы сделали то, что должны были сделать. Но города растут. Итабуна сейчас так же велика, как Ильеус. Пиранжи, Агуа-Прета, Макуко, Гуараси тоже становятся городами. Появилось много людей с высшим образованием агрономов, врачей, адвокатов. Все они требуют нововведений. А способны ли мы теперь управлять и можем ли с этим справиться?
— Почему же так получилось? Откуда взялось столько образованных, откуда такой прогресс? Кто его обеспечил? Вы да я. А вовсе не какой-то чужеземец. И теперь, когда дело сделано, по какому праву он восстает против тех, кто его сделал?
— Мы сажаем какао, ухаживаем за саженцами, чтобы они скорее росли, собираем плоды, разрубаем их, ссыпаем зерна в корыта, сушим в баркасах и печах, грузим какао на ослов, отправляем в Ильеус, продаем экспортерам. Какао высушено, оно ароматно, оно лучшее в мире, и делаем его мы. Но можем ли и умеем ли мы изготовлять шоколад? И что бы мы делали без сеньора Уго Кауфмана, который специально для этого приехал из Европы? И то он вырабатывает только порошок. Да, полковник, вы сделали много. Ильеус всем обязан вам. Боже избави, я этого не отрицаю, — наоборот, я первый признаю это. Но вы уже сделали все, что умели и что могли сделать.
— А разве Ильеус требует еще чего-нибудь? Что же ему нужно? Говоря по правде, я не вижу, в чем он нуждается. Пожалуйста, скажите прямо, чтобы я мог понять.
— Вы поймете. Ильеус прекрасен, как цветущий сад. Ну, а Пиранжи, Рио-до-Брасо, Агуа-Прета? Там народ недоволен. Мы проложили дороги с помощью работников и жагунсо. Теперь нужны шоссе, а жагунсо их сделать не могут. А хуже всего эта нашумевшая история с портом, эта пресловутая мель. Почему вы пошли против, полковник Рамиро Бастос? Потому что вмешался губернатор? Но ведь весь народ заинтересован в решении этой проблемы, от нее зависит благополучие края: какао будет вывозиться из Ильеуса во все страны мира. Мы перестанем оплачивать его перевозку в Баию. А кто ее оплачивает? Экспортеры и фазендейро.
— У каждого из нас есть обязательства, и мы их выполняем. Ибо тот, кто не выполняет обязательств, недостоин уважения. Я лично всегда их выполнял, вы это знаете. Губернатор объяснил мне положение дел. Наши дети когда-нибудь соорудят порт в Мальядо. Всему свое время.
— Время пришло, но вы не хотите этого понять. В наши времена не было кино и нравы были иные. Впрочем, нравы тоже меняются; сейчас всюду столько нового, что иной раз не знаешь, как действовать. Прежде, чтобы управлять, достаточно было распоряжаться и выполнять обязательства по отношению к правительству. Сегодня этого мало. Вы выполняете обязательства по отношению к губернатору, поскольку он ваш друг, но именно поэтому к вам не относятся с прежним уважением. Людям нет дела до ваших обязательств, они хотят, чтобы правительство удовлетворило их нужды. Подумайте, полковник, почему сеньор Мундиньо так популярен, почему многие пошли за ним?
— Почему? Да потому, что он действует подкупом, сулит своим сторонникам золотые горы. И находятся же такие бессовестные субъекты, которые забывают о своих обязательствах.
— Вы меня извините, полковник, дело не в этом. Разве он может предложить что-нибудь такое, чего не можете предложить вы? Место в избирательном списке, авторитет, важный пост? У вас гораздо большие возможности… Главное, что он обещает править в соответствии с духом времени и проводит это в жизнь.
— Править? А разве он победил на выборах?
— Ему не нужно побеждать. Он проложил улицу вдоль берега моря, открыл газету, помог приобрести автобусы, договорился о создании банковского агентства, добился присылки инженера для расчистки прохода в бухту. Это ли не значит управлять? Вам подчиняются префект, полицейский комиссар, власти в поселках. Но правит, и уже давно, Мундиньо Фалкан. Поэтому я и пришел к вам: в крае не может быть двоевластия. Я выбрался из своего угла, чтобы поговорить с вами. Если так будет продолжаться, дело кончится плохо. Ведь вы уже послали людей поджечь тираж «Диарио де Ильеус», а в Гуараси чуть не убили вашего человека. Это было хорошо для прежних времен, тогда ничего другого и быть не могло. Но теперь это не годится. Поэтому я и постучался в двери вашего дома.
— И что же вы хотите мне сказать?
— Что есть только один выход из положения. Один-единственный, другого я не вижу.
— И какой же? — Голос полковника звучал резко, теперь собеседники казались врагами, которые столкнулись лицом к лицу.
— Я ваш друг, полковник. Я голосую за вас уже двадцать лет. И никогда у вас ничего не просил, только один раз пожаловался, и то было на что… Я пришел к вам как друг.
— И я вам за это благодарен. Можете говорить.
— Есть только один выход: это соглашение.
— Соглашение? С этим чужаком? Да за кого вы меня принимаете, полковник? Я не шел на компромисс, даже когда был молод и рисковал жизнью. Но я честный человек, поэтому не склонюсь и теперь, когда близка моя смерть. Не говорите мне больше об этом.
И тут вмешался Тонико. Мысль о соглашении пришлась ему по вкусу. Несколько дней назад Мундиньо побывал на фазенде Алтино. Очевидно, это предложение исходит от экспортера.
— Дайте полковнику высказаться, отец. Он пришел как друг, и вы должны его выслушать. Согласитесь вы на его предложение или нет, это уже другое дело.
— Почему вы не займетесь расчисткой бухты? Почему не пригласите Мундиньо в свою партию, не объедините всех и не станете во главе Ильеуса? Здесь никто не хочет вам зла, даже капитан. Но если вы будете упорствовать, вы проиграете.
— У вас есть конкретное предложение, полковник? — спросил Тонико.
— Нет. С сеньором Мундиньо я не хотел говорить о политических делах. Я только сказал ему, что вижу единственный путь: соглашение между вами.
— Ну, а он что? — поинтересовался Тонико, слушавший разговор с любопытством.
— Ничего не ответил, да я и не просил ответа. Но если полковник Рамиро захочет, разве Мундиньо может не согласиться? Если полковник протянет ему руку, неужели он ее оттолкнет?
— Как знать, может быть, вы и правы… — Тонико пододвинул тяжелое кресло к Алтино.
Их диалог был прерван Рамиро Бастосом, который громко сказал:
— Полковник Алтино Брандан, если только это привело вас ко мне, то визит окончен…
— Отец! Но как же…
— А ты прикуси язык. Если не хочешь, чтобы я тебя проклял, выкинь из головы даже мысль о соглашении. Извините меня, полковник, я не хочу вас обидеть, ведь я всегда поддерживал с вами хорошие отношения. В моем доме вы можете чувствовать себя как в своем собственном. Поговорим о чем-нибудь другом, если желаете, но об этом я больше говорить не стану. Послушайте меня: пусть я останусь в одиночестве, пусть мои сыновья меня покинут и переметнутся к чужеземцу, пусть все друзья меня забудут, все, кроме кума Амансио, — а он меня никогда не оставит, в нем я уверен, пусть я окажусь совсем один, но на соглашение не пойду. Пока я жив, я никому не дам верховодить в Ильеусе. То, что было хорошо вчера, может пригодиться и сегодня, хотя бы мне и пришлось умереть с оружием в руках, хотя бы снова пришлось, да простит меня бог, посылать убийц. Я выиграю, полковник, даже если все будут против меня, даже если Ильеус вновь станет бандитским гнездом и разбойничьим краем. — Рамиро Бастос повысил дрожащий голос и встал. — Я выиграю!
Алтино также поднялся и взял шляпу.
— Я пришел к вам с добрыми намерениями, но вы не хотите меня слушать. А я не хочу уйти от вас врагом, я вас глубоко уважаю. Однако никаких обязательств у меня по отношению к вам нет, я вам ничего не должен и свободен голосовать за кого хочу. Прощайте, полковник Рамиро Бастос.
Старик наклонил голову, глаза его будто остекленели. Тонико проводил полковника до двери.
— Отец очень упрям. Но я постараюсь…
Алтино пожал Тонико руку и прервал его:
— Он действительно останется один. Может, только два-три преданных друга не покинут его. — Юн взглянул на элегантного Тонико. — Думаю, Мундиньо прав, Ильеусу нужны новые люди, только они смогут управлять городом. Отныне я буду с ним. Но вы обязаны оставаться с отцом и во всем слушаться его. Другие имеют право вступать в переговоры, требовать соглашения, даже милости, но не вы, ибо перед вами только один путь. Вы должны оставаться с отцом, хотя бы вам грозила смерть. Иного выхода у вас нет.
Алтино попрощался с белокурой Жерузой, которая с любопытством выглядывала из окна гостиной, и ушел.
О дьяволе, свободно бродящем по улицам
— Проклятье!.. Кажется, сам дьявол бродит по городу. Где это видано, чтобы молодая девушка кокетничала с женатым мужчиной? — возмущалась суровая Доротея, стоя на церковной паперти среди старых дев.
— Бедный учитель! Еще, чего доброго, с ума сойдет! Он ходит такой печальный, прямо жалко на него смотреть… — сетовала Кинкина.
— У него очень слабый организм, он и вправду может заболеть, поддержала ее Флорзинья. — Он такой хрупкий.
— Но он тоже хорош, нечего сказать. Так загрустил, что даже стал ухаживать за этой бесстыдницей…
Он не стесняется останавливаться под ее окнами и говорить с ней. Я уже сказала падре Базилио…
— Что?
— Что Ильеус становится краем грешников, настанет день, и господь их накажет. Он нашлет на плантации паразитов, и они уничтожат все саженцы какао… — А что ответил падре?
— Сказал, что я злословлю, и рассердился на меня. Сказал, будто я накликаю беду.
— Ты, конечно, напрасно обратилась к нему… Ведь и у него есть плантации. Нужно было поговорить с падре Сесилио. Он беден и чист душой.
— Я и с ним говорила. Он мне сказал: «Доротея, в Ильеусе дьявол бродит по улицам. Он один тут правит». И это правда.
Они отвернулись, чтобы не видеть Глории, лицо которой освещалось улыбкой, предназначенной для посетителей бара Насиба. Потому что смотреть на нее было все равно что смотреть на грех или на самого дьявола.
В баре капитан торжественно объявил сенсационную новость: полковник Алтино Брандан, хозяин Риодо-Брасо, в распоряжении которого была тысяча с лишним голосов, примкнул к Мундиньо. Полковник заходил в контору экспортера, чтобы сообщить ему об этом. Удивленный таким неожиданным оборотом дела, Мундиньо спросил:
— Что повлияло на ваше решение, полковник?
Он подумал, о доводах, которые не убедили Алтино, и о разговорах, которые не принесли результата.
— Стулья с высокой спинкой, — ответил Алтино.
Но в баре уже знали о неудавшейся беседе и о гневе полковника Рамиро. Как всегда, слухи были преувеличены: утверждали, что между Алтино и Бастосом произошла ссора и старый политический деятель выгнал Алтино из дома; что тот был послан самим Мундиньо, чтобы предложить Бастосу соглашение, просить перемирия и пощады. Распространилась и другая версия, автором которой был Тонико: с весьма возбужденным видом он заявлял на улицах, что Ильеус возвращается к прошлым временам перестрелок и убийств. Кроме того, согласно версиям доктора и Ньо Гало, которые повстречали полковника Алтино, Рамиро вышел из себя, когда фазендейро сказал, что считает его побежденным еще до выборов и предупредил, что будет голосовать за Мундиньо. После этого Тонико якобы предложил унизительное для Бастосов соглашение. Рамиро отказался. Иной раз версии видоизменялись в зависимости от политических симпатий рассказчиков, но одно было точно: после ухода Алтино Тонико бегал за врачом — доктором Демосфенесом, — чтобы оказать помощь полковнику Рамиро, который плохо себя почувствовал. В тот день долго обсуждались новости, велись бесконечные споры, все были возбуждены. Жоана Фулженсио, пришедшего на вечернюю беседу из «Папелариа Модело», попросили высказать свое мнение.
— Я думаю так же, как дона Доротея. Она пришла сказать мне, что по улицам Ильеуса бродит дьявол. Правда, она не знает точно, скрывается ли он в доме Глории или здесь, в баре. Куда вы спрятали нечистого, Насиб?
Он не только дьявола — он целый ад носил в своей груди. То, что он придумал для Габриэлы, ни к чему хорошему не привело. Она приходила и становилась у кассы. Но это был слишком хрупкий редут и слишком короткая дистанция для мужчин, объятых желанием. Теперь они собирались у стойки и пили стоя, а вокруг Габриэлы начинался чуть ли не митинг — одно неприличие. Судья настолько обнаглел, что заявил Насибу:
— Будьте готовы, мой дорогой, я у вас украду Габриэлу. Постарайтесь заранее найти другую кухарку.
— Она вам дала какую-нибудь надежду?
— Не дала, так даст… Все дело во времени и в умелом подходе.
Мануэл Ягуар, который раньше не выезжал с плантации, казалось, забыл о своих фазендах в самый разгар уборки урожая. Он даже решил подарить Габриэле участок земли. Старая дева была права. Дьявол вырвался на свободу, он завладел мужчинами. Кончится тем, что он завладеет и Габриэлой. Всего два дня назад дона Арминда сказала Насибу:
— Ведь вот какое совпадение: мне приснилось, что Габриэла ушла, а в тот же день полковник Мануэл прислал сказать, что если она захочет, он запишет на ее имя плантацию.
Женщина слаба, достаточно посмотреть на Малвину — сидит на набережной и болтает с инженером.
А не говорил ли Жоан Фулженсио, что она самая умная девушка в Ильеусе, обладающая сильным характером и многими другими достоинствами? И вот она потеряла голову и флиртует на виду у всех с женатым мужчиной.
Насиб прошел до конца широкого тротуара перед баром. Он задумался и испуганно вздрогнул, когда увидел полковника Мелка Тавареса, который вышел из своего дома и направился в сторону набережной.
— Смотрите! — воскликнул Насиб.
Некоторые его услышали и повернулись.
— Он пошел к ним…
— Ну, сейчас будет дело…
Девушка тоже заметила приближение отца и встала. Должно быть, он только что приехал с плантации, потому что даже не снял сапог. В баре все вскочили, всем хотелось увидеть, что произойдет.
Инженер побледнел, когда Малвина предупредила его:
— Отец идет сюда.
— Что будем делать? — Голос выдал его волнение.
Хмурый Мелк Таварес остановился около них, держа в руке плетку и устремив взгляд на дочь. Он будто не видел инженера, даже не смотрел в его сторону и голосом резким, как удар хлыста, сказал Малвине:
— Сейчас же домой! — Послышался сухой удар плетки о сапог.
Полковник остался на месте, глядя, как дочь медленно уходит. Инженер не пошевельнулся, его ноги налились свинцом, лоб и руки покрылись потом. Когда Малвина вошла в ворота дома и исчезла, Мелк поднял плетку и уперся обшитым кожей концом в грудь Ромуло:
— Мне известно, что вы закончили изыскания в бухте и телеграфировали, прося разрешения остаться руководить дальнейшими работами. На вашем месте я не стал бы этого делать. Я послал бы телеграмму с просьбой прислать замену и не дожидался бы приезда нового инженера. Послезавтра идет пароход. — Он поднял плетку, и при этом ее кончик скользнул по лицу Ромуло. — Это срок, который я вам даю.
Мелк повернулся спиной к инженеру и посмотрел на бар, как бы спрашивая, почему так много народу скопилось около него. Он пошел туда, и любопытные сразу расселись по своим местам и поспешно заговорили, искоса поглядывая на полковника. Мелк подошел к Насибу и хлопнул его по спине:
— Ну, как жизнь? Налей-ка мне коньяку.
Тут он увидел Жоана Фулженсио и сел рядом с ним:
— Добрый вечер, сеньор Жоан. Мне сказали, что вы продаете моей девочке безнравственные книги. Так я вас попрошу об одном одолжении: больше не продавайте ей вообще никаких книг. Только учебники, а другие книги ей не нужны, они забивают ей голову всякой ерундой.
Жоан Фулженсио возразил очень спокойно:
— Я торгую книгами, и если клиент хочет их купить, я не стану его отговаривать. А что вы имеете в виду, когда говорите о безнравственных книгах? Ваша дочь покупала только хорошие книги, произведения лучших авторов. И я пользуюсь случаем сказать, что она девушка умная, с большими способностями. Ее нужно понять, она требует особого подхода.
— Она моя дочь, и уж позвольте мне самому решать, как с ней обращаться. От некоторых болезней я знаю лекарства. Что же касается книг, хороших или плохих, — она их больше покупать не будет.
— Это ее дело.
— И мое тоже.
Жоан Фулженсио пожал плечами, словно говоря, что это его не касается. Подошел Бико Фино с коньяком, Мелк выпил коньяк залпом и хотел подняться, но Жоан Фулженсио удержал его за руку:
— Послушайте, полковник Мелк, поговорите с дочерью спокойно и постарайтесь ее понять, тогда она, возможно, послушается. А если вы примените силу, боюсь, что потом пожалеете об этом.
Мелк, казалось, едва сдерживался:
— Сеньор Жоан, если бы я не знал вас давно и если бы не был другом вашего отца, то не стал бы и слушать вас. За девочку отвечаю я и решений своих менять не привык. Но так или иначе, благодарю за добрые намерения.
Хлестнув плеткой по сапогу, он вышел из бара и пересек площадь. Жозуэ поглядел ему вслед, затем подошел и сел рядом с Жоаном Фулженсио на тот стул, с которого встал полковник.
— Что он собирается делать?
— Возможно, что-нибудь нелепое. — Жоан устремил свои добрые глаза на учителя. — Чего вы удивляетесь? Разве вы не делаете глупостей? С ней обращаются так, будто она дурочка, а у девушки есть характер…
Мелк вошел в ворота своего дома, построенного в современном стиле. В баре опять заговорили об Алтино Брандане, о полковнике Рамиро, о политических новостях. Инженер поднялся со скамьи на набережной. Только Жоан Фулженсио, Жозуэ и Насиб, которые стояли на улице, продолжали следить за фазендейро.
В гостиной, сжавшись от страха в комочек, Мелка ожидала жена. Негр Фагундес был прав: она действительно походила на бесплотную святую мученицу.
— Где она?
— Поднялась к себе.
— Вели ей спуститься.
Он остался в гостиной, ударяя плеткой по сапогу.
Малвина вошла, мать встала у двери в коридор. Глядя на отца прямо и решительно, с гордо поднятой головой, Малвина ожидала. Мать тоже ждала, в ее глазах притаился страх. Мелк ходил по гостиной:
— Что ты скажешь?
— О чем?
— Изволь относиться ко мне с уважением! — закричал полковник. — Опусти голову, я твой отец. Ты знаешь, о чем я говорю. Как ты объяснишь свой флирт с инженером? Ильеус только этим и занят, слухи дошли даже до плантации. Не вздумай мне рассказывать, будто ты не знала, что он женат, он этого не скрывал. Итак, что ты скажешь?
— А что толку говорить? Вы все равно не поймете.
Здесь меня никто не понимает. Я уже говорила, отец, и не раз: я не выйду замуж за того, кого мне выберут родители, я не похороню себя на кухне какого-нибудь фазёндейро и не стану служанкой какого-нибудь ильеусского сеньора. Я хочу жить по-своему. Когда я окончу школу, я буду работать, поступлю на службу куда-нибудь в контору.
— Мало ли что ты хочешь! Ты будешь делать то, что я тебе прикажу.
— Нет, я буду делать только то, что сочту нужным.
— Что-о-о?
— То, что я пожелаю…
— Замолчи, несчастная!
— Не кричите на меня, я ваша дочь, а не раба.
— Малвина! — воскликнула мать. — Не смей так отвечать отцу.
Мелк схватил дочь за руку и ударил ее по лицу.
Малвина закричала:
— Я уйду с ним, так и знайте!
— О боже!.. — Мать закрыла лицо ладонями.
— Сука! — Отец поднял плеть и стал бить Малвину, даже не глядя, куда падают удары.
Он стегал ее по ногам, по спине, по рукам, по лицу, по груди. Из рассеченной губы девушки потекла кровь. Малвина крикнула:
— Можете бить! Я все равно с ним уйду!
— Ни за что, тогда я тебя убью…
Он швырнул ее на диван. Малвина упала лицом вниз, и он снова поднял руку. Со свистом опускалась и поднималась плеть. Крики Малвины эхом отдавались на площади.
Мать плакала и умоляла робким голосом:
— Довольно, Мелк, довольно…
Потом вдруг оторвалась от стены и схватила егоза руку:
— Не смей убивать мою дочь!
Он остановился, едва переводя дыхание. Малвина всхлипывала на диване.
— Ступай к себе! И пока я не разрешу, ты не выйдешь оттуда!
Жозуэ, сидя за столиком, ломал руки и кусал губы.
На душе у Насиба было мрачно. Жоан Фулженсио покачивал головой. Остальные посетители бара замерли в молчании. Глория в своем окне печально улыбалась.
Кто-то сказал:
— Кончил бить.
О девственнице на скале
Черные скалы вырастали из моря, волны белой пеной разбивались об их каменные стены. Крабы со страшными клешнями вылезали из невидимых щелей.
Утром и вечером мальчишки ловко карабкались на эти утесы, играя в жагунсо и полковников. Ночью здесь слышался неумолчный шум воды, лижущей камень.
Иногда странный свет загорался на берегу, поднимался по скале, ненадолго исчезал в укромных уголках и снова появлялся уже на вершинах утесов. Негры утверждали, что это колдуют сирены, беспокойные хозяйки морских глубин, и дона Жанаина, превращающаяся в зеленый огонь. В ночном мраке слышались вздохи и любовные стоны. Нищие парочки — жулики, бездомные проститутки — устраивали себе ложе на песчаном пляже, укрытом среди скал. Перед ними ревело непокорное море, позади спал непокорный город.
В безлунную ночь чья-то стройная тень смело скользила по скалам. Это была Малвина, она шла босая, держа туфли в руке; ее взгляд выражал решимость.
В этот поздний час девушке полагалось, лежа в постели, спать или мечтать о книгах, о праздниках, о муже.
Малвина же, взбираясь на скалы, грезила наяву.
В одном из утесов бури и непогода выщербили углубление — своего рода кресло лицом к океану. Влюбленные обычно садились на него и свешивали ноги над пропастью. Волны разбивались внизу, умоляюще простирая белые пенные руки. Здесь и уселась Малвина, считая минуты в нетерпеливом ожидании…
Отец вошел в комнату, молчаливый и суровый. Он отобрал все книги и журналы, искал письма и оставил ей лишь баиянские газеты. Ныло ее избитое, покрытое кровоподтеками тело. Записку — «Ты жизнь, которую я снова обретаю, утраченная радость, умершая надежда, ты для меня все» — она хранила на груди. Мать тоже приходила к ней, приносила еду и давала советы, она говорила, что умрет, что не может жить, когда, как два кинжала, сталкиваются отец и дочь — две гордые и непреклонные натуры. Она молилась святым, пусть ниспошлют ей смерть, чтобы не видеть, как свершится жестокая судьба, как произойдет неотвратимое несчастье.
Она обняла дочь, Малвина ей сказала:
— Такой несчастной, как вы, мама, я не буду.
— Не говори глупостей.
Больше Малвина ничего не сказала, наступил решительный час. Она уедет с Ромуло и заживет свободной жизнью.
Твердая, как самый твердый камень, она могла сломаться, но не согнуться. Еще девочкой, на плантации, она слышала истории времен борьбы за землю; ночью на дорогах жагунсо, которыми командовал ее отец, открывали стрельбу. Потом она и сама увидела подобные столкновения. Из-за пустяка, из-за того, что убежавшая скотина поломала изгородь и потравила посевы, вспыхнула ссора с Алвесами, соседними землевладельцами. В запальчивой перебранке соседи оскорбили друг друга, и началась война. Снова засады, жагунсо, перестрелки, кровь. И вот дядя Малвины — Алуизио — стоит, прислонившись к стене дома, а его плечо в крови. Он был гораздо моложе своего брата, хрупкий, веселый и красивый. Он любил животных — лошадей и коров, держал собак, пел, таскал Малвииу на закорках, играл с ней — он любил жизнь. Это было в июне. Вместо праздничных костров, шутих и ракет — выстрелы на дороге и засады за деревьями. Малвина помнила, какое измученное лицо было всегда у матери.
Это потому, что она не спала по ночам, потому что не знала покоя, пока продолжались вооруженные столкновения, — Малвины тогда еще не было на свете, — потому что боялась мужа, его повелительных окриков, его жестокой воли. Мать перевязала дяде раненое плечо, а Мелк лишь спросил:
— Почему ты так быстро вернулся? А жагунсо?
— Возвратились со мной…
— А что я тебе велел?
Алуизио посмотрел на брата умоляющими глазами и ничего не ответил.
— Помнишь: что бы ни случилось, не уходить с лужайки. Почему ты удрал?
Рука матери дрожала, дядя был такой слабый, он не был создан для драк и ночных перестрелок. Он опустил голову.
— Ты вернешься туда. Вместе с жагунсо. И сейчас же.
— Но они снова нападут.
— А мне ничего другого и не надо. Когда они нападут, я брошусь на них с тыла и прикончу их. Если бы ты не убежал при первом же выстреле, все было бы уже сделано.
Дядя согласился. Малвина видела, как он сел на лошадь, взглянул на дом, на веранду, на спавший скотный двор, на лаявших собак. В последний раз он бросил этот взгляд. Он уехал с несколькими жагунсо, а другие остались ждать во дворе. Когда раздались выстрелы, отец приказал:
— Вперед!
Отец вернулся с победой, ему удалось покончить с Алвесами. А тело дяди привезли поперек седла жагунсо. Он был красивым веселым человеком.
От кого Малвина унаследовала любовь к жизни?
Почему она была такой жизнерадостной, почему ей так претила покорность и почему она не могла склонить головы и говорить тихо в присутствии отца? Возможно, потому, что помнила дядю. С юных лет возненавидела она родной дом и город, его законы и обычаи.
Жалкой была жизнь матери, которая дрожала перед мужем и соглашалась с ним во всем, хотя он не всегда с ней советовался. Он приходил и отдавал приказание: — Приготовься. Сегодня мы пойдем в нотариальную контору Тонико, надо подписать одну бумагу.
Она не спрашивала, что это за бумага, покупал ли он что-нибудь или продавал, она даже не пыталась узнавать. Утешение и радость она находила лишь в церкви. Права Мелка были безграничны, он все решал один. А мать вела хозяйство, и это было ее единственным правом. Отец проводил время в кабаре и публичных домах, тратил деньги на любовниц, играл в гостиницах и барах, выпивал с приятелями. Мать должна была томиться дома, слушать и повиноваться. Бледная и забитая, во всем покорная мужу, она потеряла волю и не имела влияния даже на дочь. Малвина поклялась, когда стала девушкой, что с нею так не будет. Она не смирится. Мелк, правда, выполнял ее капризы, ко иногда озабоченно приглядывался к ней. По некоторым приметам он узнавал в ней себя. Она так же любила Жизнь. Но он требовал от дочери послушания. Когда она сказала ему, что хочет учиться в гимназии, а потом в университете, он заявил:
— Я не хочу, чтобы у меня была ученая дочь. Ты поступишь в монастырскую школу, научишься шить, считать и читать и играть на рояле. А большего и не требуется. Если женщина лезет в ученые, значит, у нее нет стыда и она хочет себя погубить.
Малвина знала, какова жизнь замужних женщин — такая же, как у ее матери. Все они беспрекословно подчинялись главе семьи. А такая жизнь хуже, чем в монастыре. Малвина поклялась себе, что никогда ни за что не даст себя поработить. Подруги разговаривали в школьном дворе, молодые и веселые, дочери богатых родителей. Их братья учились в Баие в гимназиях и в университете. Девушки ежемесячно получали деньги от родителей, могли их тратить как угодно и делать что заблагорассудится. Только эти короткие дни юности они были свободны: праздники в клубе «Прогресс», легкий флирт, любовные записочки, невинные поцелуи, сорванные на утренних сеансах в кино, иногда более продолжительные у ворот дома. В один прекрасный день отец приходил с одним из своих друзей, флирт кончался, начиналось сватовство, за которым следовала помолвка. Если невеста противилась, отец принуждал ее дать согласие. Правда, иногда случалось, что девушка выходила замуж за того, кого любила, если парень приходился по вкусу родителям. Но это нисколько не меняло положения. Муж, которого избрали родители, или жених, посланный судьбой, — безразлично. После свадьбы это не играло никакой роли. Муж всегда хозяин, господин, его приказам надо повиноваться. У него права, у нее долг и почтение. Жены должны хранить честь семьи, доброе имя супруга, они отвечают за дом, за детей.
Близкой подругой Малвины стала Клара, которая была старше ее и училась классом выше. Они часто смеялись и оживленно перешептывались во дворе. Не было девушки веселее и жизнерадостнее Клары, такой красивой, такой цветущей, так любившей танцы и так мечтавшей о приключениях. Клара была влюбчива и романтична, непокорна и отважна. Она вышла замуж по любви, так по крайней мере ей казалось. Жених ее не был грубым и косным фазендейро. Это был человек образованный, он окончил факультет права, даже читал стихи. Но это ничего не изменило. Что произошло с Кларой, куда девались ее веселье, ее порывы, где похоронила она свои планы, свои бесчисленные мечты?
Она ходит в церковь, ведет хозяйство, рожает детей.
Она даже не подкрашивается, адвокат не позволяет.
Так было всегда, так оставалось и сейчас, будто ничего не изменилось, будто жизнь не стала иной и город не вырос. В школе девиц страшно трогала история Офенизии, девственницы из рода Авила, умершей от несчастной любви. Она не захотела выйти замуж за барона, отказала владельцу сахарного завода. Ее брат Луис Антонио не раз находил претендентов на ее руку.
Она же мечтала только об императоре.
Малвина ненавидела этот город, живший пересудами и сплетнями. Она возненавидела его уклад и обычаи и вступила в борьбу против них. Она начала читать. Жоан Фулженсио руководил ею, рекомендовал книги. Перед ней открылся другой мир, где жизнь была прекрасной, где жена не была рабой мужа. Там были большие города, где она могла бы работать, зарабатывать себе на жизнь и быть свободной. Она не глядела на ильеусских мужчин, и Ирасема звала ее «бронзовой девственницей» — по названию одного романа, потому что у Малвины не было возлюбленных. Приехавший из другого города Жозуэ попытался ухаживать за ней, он сочинял ей стихи и публиковал их в газетах. «Посвящается равнодушной М…». Ирасема читала сонеты Жозуэ вслух во дворе школы. Однажды — это было, когда обманутый Жезуино убил свою жену, — Малвина разговорилась с Жозуэ. Некоторое время она принимала его ухаживания. Как знать, может быть, он не похож на других? Но он оказался таким же. Он сразу же хотел запретить ей красить ресницы, пудриться и дружить с Ирасемой — «о ней ходят такие слухи, она вам не пара» — и не разрешил идти на праздник к полковнику Мисаэлу, куда его не пригласили. А знакомы они были всего-то месяц…
В Ильеусе Малвине нравился только их новый дом, который строился по столичному журналу, это был ее выбор. Отец исполнил каприз дочери, ему было все равно, что строить. Мундиньо Фалкан привез полоумного архитектора, сидевшего в Рио без работы; Малвина пришла в восхищение от дома, который он построил для Фалкана. Впрочем, она мечтала и о самом Мундиньо. Да, он повел бы себя иначе, он бы вырвал ее отсюда, увез в другие края, которые описаны во французских романах. Малвине не нужно было безумной любви, бурной страсти. Она полюбила бы того, кто предоставил бы ей право жить свободно, кто избавил бы ее от судьбы, уготованной женщинам Ильеуса. Уж лучше остаться старой девой и ходить в черном платье в церковь. Если только ей не захотелось бы разделить участь Синьязиньи.
Мундиньо отдалился от нее, как только почувствовал, что она слишком интересуется им. Малвина страдала, надежда была утрачена. А Жозуэ с каждым днем становился все более требовательным и деспотичным, она его едва переносила. И тут приехал Ромуло, прошел по площади в купальном халате и бросился в море, мощными взмахами рассекая волны. Да, Ромуло не походил на местных мужчин. Он был несчастлив — его жена была сумасшедшей. Он рассказывал Малвине о Рио. Что значит брак — пустая условность! Она могла бы работать, помогать ему, быть одновременно его возлюбленной и секретарем, учиться в университете — если, конечно, сумела бы — и стать независимой.
Только любовь соединяла бы их. Ах, какой полной жизнью жила она в эти месяцы!.. Она знала, что весь город судачит о ней, что и в школе только о ней говорят; кое-кто из подруг от нее отвернулся, и первой была Ирасема. Но разве все это трогало ее? Она встречалась с Ромуло на набережной, и они вели незабываемые беседы. На утренних сеансах они горячо целовались и он уверял, что возродился, познакомившись с ней. Если отец уезжал на плантации, Малвина иногда поздно вечером, когда дом засыпал, отправлялась в скалы, на свидание с Ромуло. Они садились в кресло, выдолбленное в камне, и руки инженера скользили по ее телу. Он упрашивал ее шепотом, задыхаясь от волнения. Почему не сейчас, не здесь, на этом пляже? Но Малвина хотела уехать из Ильеуса. Когда они уедут, она будет принадлежать ему, они строили планы бегства.
Запертая у себя в комнате, избитая, она прочла в баиянской газете: «В высшем обществе Италии разразился скандал. Принцесса Александра, дочь инфанты донны Беатрисы Испанской и принца Виторио, ушла из родительского дома и решила жить одна, поступив кассиршей в ателье мод. Дело в том, что отец хотел выдать ее замуж за богача герцога Умберто Висконти де Модроме из Милана, а она была влюблена в простого промышленника Франко Мартини». Казалось, это написано про нее. Огрызком карандаша Малвина нацарапала на клочке газеты записку Ромуло, в которой назначила ему свидание. Служанка отнесла записку в гостиницу и отдала Ромуло. Сегодня ночью, если он хочет, она будет ему принадлежать. Теперь она решила окончательно: она уедет отсюда, уедет и будет жить самостоятельно. Единственное, что ее удерживало, — и она только сегодня это поняла, — это нежелание причинить боль отцу. Как он будет страдать! Но теперь даже его страдания не остановят ее.
Усевшись на влажном камне и свесив ноги в пропасть, Малвина ждала. В песке пляжа, скрытого от ее взора, ворковали парочки. На вершинах скал блеснул огонек. Продумав весь план, взвесив все его подробности, Малвина ждала с нетерпением. Внизу разбивались волны, клубилась пена. Почему он не идет? Ведь он должен был прийти раньше ее, в записке Малвина точно указала время. Почему не идет?
А в гостинице Коэльо, заперев дверь, Ромуло Виейра, видный инженер министерства путей сообщения и общественных работ, дрожал от страха и не мог заснуть. Он всегда вел себя с женщинами как идиот. Попадал в затруднительные положения, наживал неприятности и все же был неисправим. Продолжал флиртовать с незамужними девушками, а в Рио едва ускользнул от гнева взбешенных братьев некой Антониэты, с которой встречался. Братьев было четверо, и они горели желанием проучить его, поэтому Ромуло и согласился поехать в Ильеус. Он поклялся себе никогда больше не смотреть на девушек. Эта командировка в Ильеус сулила хороший заработок, а он копил деньги. Кроме того, Мундиньо Фалкан пообещал ему вознаграждение, если он будет действовать быстро и докажет необходимость срочной присылки землечерпалок.
Он так и сделал и договорился с Мундиньо, что тот попросит в министерстве, чтобы ему было поручено руководство работами по выпрямлению и углублению фарватера. Экспортер обещал ему еще большее вознаграждение, когда первый иностранный пароход войдет в порт. И пообещал также похлопотать о повышении его в должности. Чего ему еще было надо? И все же он завел роман с этой девушкой, целовался с ней в кино, надавал ей невыполнимых обещаний. И вот результат: после неприятного разговора с Мундиньо пришлось телеграфировать, прося прислать замену. Ромуло обещал, что по прибытии в Рио не оставит министра в покое до тех пор, пока землечерпалки и буксиры не будут отправлены. Это все, что он мог сделать. Оставаться же в Ильеусе, чтобы его избили плетью на улице или застрелили глухой ночью, он не мог. Поэтому он заперся в номере, чтобы выйти только на пароход. Она с ума сошла — назначить свидание на скалах, он не верил, что Мелк вернулся на плантацию, где заканчивалась уборка урожая. Сумасшедшая, ему вообще везло на полоумных, он постоянно нарывался на них…
Малвина ожидала наверху, на скалах. Волны звали ее вниз. Днем он чуть не умер со страху; теперь она поняла — он не придет. Она смотрела, как взлетает пена, волны звали ее, на мгновение ей пришла в голову мысль броситься вниз. Так она покончила бы счеты с жизнью. Но ей хотелось жить, хотелось уехать из Ильеуса, работать, стать самостоятельной, найти себе место в этом мире. Что толку, если она умрет? Она бросила в волны свои тщательно разработанные планы, соблазны Ромуло, его клятвы, разорвала и кинула в воду записку, которую он написал ей через несколько дней после приезда в Ильеус. Малвина поняла, что совершила ошибку, ибо видела только один способ выбраться отсюда: опершись на руку мужчины — мужа или любовника. Почему? Не влияние ли это Ильеуса, который внушил ей неверие в собственные силы? Почему надо уезжать, обязательно держась за чью-то руку, связав себя обещанием, взвалив себе на плечи непосильную тяжесть долга? Почему не отправиться на завоевание мира одной? Да, она уйдет, но не через дверь смерти, ведь она так хочет жить, жить свободной, как безбрежное море. Она взяла туфли, спустилась со скалы и принялась обдумывать новый план. На душе стало легче. Пожалуй, лучше, что он не пришел: разве можно жить с трусом?
О вечной любви, или о Жозуэ, преодолевающем стены
В той серии сонетов, которые посвящались «равнодушной, неблагодарной, надменной и гордой М…» и печатались курсивом в отделе смеси «Диарио де Ильеус» рядом с извещениями о рождениях, крестинах, смертях и браках, Жозуэ неоднократно в вымученных рифмах утверждал, что его отвергнутая любовь вечна. Страсть учителя вообще была отмечена многими высокими качествами, каждое из них было замечательным само по себе, но больше всего места на страницах газеты он уделял ее вечному характеру. Эта «вечность» доставалась учителю в поте лица, ибо ему приходилось трудиться над александрийским и десятисложным стихом, подыскивая рифмы. В пылком многословии любовь Жозуэ еще больше разрослась и достигла пределов бессмертия, когда наконец гордость Малвины, потрясенная убийством Синьязиньи и Осмундо, оказалась сломленной и между ними начался флирт. То был период длинных поэм, прославлявших эту любовь, которую не убьет время и не разрушит даже смерть. «Вечная, как сама вечность, необъятная, как все известные и неизвестные миры, бессмертная, как бессмертные боги», — писал учитель и поэт.
По глубокому убеждению, а также из практических соображений (на длинные поэмы, если их рифмовать и высчитывать слоги, не хватит никакого времени) Жозуэ примкнул к пресловутой «Неделе современного искусства» в Сан-Пауло, революционное эхо которой докатилось до Ильеуса с трехлетним запозданием. Теперь он клялся в любви Малвине в традициях модернистской поэтики, освобожденной из плена рифм и размеров. Он провозглашал свое поэтическое кредо на литературных дискуссиях в «Папелариа Модело», где спорил с доктором, Жоаном Фулженсио и Ньо Гало, или в литературном обществе имени Руя Барбозы, где его оппонентом был Ари Сантос. Современная поэзия требовала меньшей затраты сил, так как не надо было считать слоги и подыскивать рифмы. К тому же разве не в стиле модерн выстроен дом Малвины? Они сходятся во всем, даже во вкусах, думал он.
Но поразительно было то, что эта вечность, не уступавшая самой вечности, это бессмертие, больше чем бессмертие всех богов вместе взятых, достигли новых высот в памфлетной прозе, когда девушка дала отставку Жозуэ и завела скандальное знакомство с Ромуло.
Жозуэ выплакался на широкой груди всепонимающего Насиба. Друзья Жозуэ из «Папелариа Модело», а также из литературного общества проявили к нему сочувствие и некоторое любопытство. Но в своих переживаниях Жозуэ почему-то стремился опереться на анархическое плечо испанца-сапожника Фелипе. Испанец был единственным философом в городе, у которого был определенный взгляд на общество, на жизнь, на женщин и священников. И взгляд исключительно отрицательный. Жозуэ начитался брошюр в красных обложках, забросил поэзию и вступил на стезю прозы.
Это была слащавая и претенциозная проза: Жозуэ примкнул к анархизму душою и телом, он возненавидел существующее общество, начал восхвалять спасительные бомбы и динамит и призывать к мести всему и всем. Доктор хвалил его возвышенный стиль. Но на самом деле мрачное вдохновение Жозуэ было направлено против Малвины. Он заявил, что навсегда разочаровался в женщинах, и особенно в прекрасных дочерях фазендейро, которые были завидными невестами. «Просто маленькие потаскушки…» — бросал он им вслед, когда они проходили мимо, такие юные и невинные в форме монастырской школы или такие соблазнительные в элегантных платьях. Но любовь к Малвине, — ах! — эта любовь оставалась вечной даже в его экзальтированной прозе; она никогда не умрет в груди Жозуэ, и он лишь потому не погиб от отчаяния, что решил при помощи пера изменить и общество, и сердца женщин.
Ненависть к девушкам из общества, внушенная туманными идеями брошюр, логически приблизила его к женщинам из народа. Когда он впервые повернулся к окну одинокой Глории — этот замечательный революционный жест, единственный боевой акт в молниеносной политической карьере Жозуэ, был, впрочем, задуман и осуществлен еще до того, как он примкнул к анархистам, — то это было сделано, чтобы показать Малвине, в какую бездну отчаяния его ввергла ее дерзкая беседа с инженером. Но поступок Жозуэ не произвел никакого впечатления на Малвину, она была настолько заворожена словами Ромуло, что даже не посмотрела в его сторону… Однако в обществе об этом заговорили. Вызывающее и неприличное поведение Жозуэ не оказалось в центре городских сплетен только благодаря таким событиям, как флирт Малвины и Ромуло, уничтожение тиража «Диарио де Ильеус» и избиение чиновника префектуры.
Фелипе поздравил Жозуэ со смелым поступком. Так началась их дружба. Жозуэ стал приносить брошюры в свою комнату, помещавшуюся над кинотеатром «Витория». Он презирал Малвину и все же сохранил к ней вечную и бессмертную любовь, хотя девушка вела себя недостойно. Он превозносил Глорию, жертву предрассудков. Честь этой женщины оказалась запятнанной, ведь она наверняка подверглась насилию, в результате чего ее изгнали из общества. Она святая. Свое негодование он изливал, — конечно, не называя имен, — в пылкой прозе, которой были полны его тетради. Итак как Жозуэ был совершенно искренен, ибо он действительно страдал, он считал, что своими статьями вызовет в Ильеусе невиданные скандалы. Ему хотелось кричать на улицах о своем сочувствии к Глории, о желании, которое в нем она будила (любил же он все еще Малвину), об уважении, которого она заслуживала. Он хотел беседовать с ней в те часы, когда она сидела у окна, гулять с ней под руку по улице, поселить ее в своей скромной комнатке, где он писал и отдыхал. Жить вместе с ней жизнью отверженных, которые порвали с обществом и которых изгнала семья. А потом бросить в лицо Малвине ужасное обвинение, воскликнув: «Видишь, до чего ты меня довела? Ты во всем виновата!»
Все это он говорил Насибу, когда бывал у него в баре. Араб таращил глаза, он наивно верил рассказам Жозуэ. А разве он сам не думал послать все к черту и жениться на Габриэле? Поэтому Насиб не стал давать Жозуэ никаких советов, но и не стал отговаривать его, а только предупредил:
— Это будет настоящая революция.
Жозуэ только того и добивался. Глория, однако, с улыбкой отошла от окна, когда он во второй раз приблизился к нему. Она послала ему со служанкой записку, написанную ужасным почерком и испещренную ошибками. Записка была надушена, и в конце ее говорилось: «Простите за кляксы». Клякс действительно было много, и они делали чтение затруднительным.
К ее окну он больше не должен подходить, кончится тем, что полковник узнает, а это опасно. Тем более теперь, когда он может приехать со дня на день. Сразу же после отъезда старика Глория даст Жозуэ знать, когда они смогут встретиться.
Для Жозуэ это было новым ударом. Отныне он с одинаковым презрением стал относиться к девушкам из общества и к женщинам из народа. Счастье, что Глория не читала «Диарио де Ильеус». Там он резко осудил осторожность Глории. «Я плюю на женщин богатых и бедных, патрицианок и плебеек, добродетельных и легкомысленных. Ими движет только эгоизм и низменные интересы».
В течение некоторого времени, пока он следил за флиртом Малвины, страдал, писал, бранился, играл романтическую роль отвергнутого любовника, он даже не взглянул на одинокое окно. Теперь Жозуэ обхаживал Габриэлу, писал ей стихи, временно вернувшись к рифмованной поэзии, даже предложил ей комнатку, где мало было удобств и комфорта, но зато в избытке любви и искусства. Габриэла улыбалась, ей нравилось слушать Жозуэ.
Но в тот вечер, когда Мелк наказал Малвину, Жозуэ увидел печальное лицо Глории, она грустила, потому что избили Малвину, потому что Малвина покинула Жозуэ и потому что она сама снова осталась в одиночестве. Он написал ей записку и передал ее, пройдя под окном Глории.
Через несколько дней, в час, когда площадь окутала ночная тишина и полуночники разбрелись по домам, он вошел в полуоткрытую тяжелую дверь. Ее губы впились в его рот, руки Глории обняли худые плечи Жозуэ и увлекли его в комнату. Он забыл Малвину, свою вечную, свою бессмертную любовь.
А когда взошла заря и с нею настал час расставания, — пока первые торговки еще не отправились на рыбный рынок, — когда она протянула ему жадные губы для последних поцелуев этой огненно-сладкой ночи, он рассказал ей о своих планах: он выйдет под руку с нею на улицу, бросив обществу вызов, они поселятся вдвоем в его комнатке над кинотеатром «Витория», да, их ожидает крайняя бедность, но зачем им миллионы, когда есть любовь… Такого дома, такой роскоши, служанок, духов и драгоценностей он предложить ей не может, он не фазендейро. Он скромный преподаватель, получающий грошовое жалованье. Но любовь…
Глория прервала его романтические мечты:
— Нет, друг мой. Мне это не подходит.
Она хотела и того и другого: и любви и комфорта, и Жозуэ и Кориолано. Она по опыту знала, что такое нищета, она изведала горький вкус бедности, так же как и непостоянство мужчин. Глория ничего не имела против Жозуэ, но полковник Кориолано не должен был и подозревать об их связи, она может быть только тайной. Пусть он приходит поздно ночью и уходит на рассвете. Пусть делает вид, что не замечает ее окна, и не здоровается с ней. Это даже лучше, это сделает их связь греховной и таинственной.
— Если старик узнает, я пропала. Нужно быть очень осторожными.
Да, она влюблена в него, разве можно сомневаться в этом после ночи такой безумной, такой пылкой любви? Однако она была расчетлива и осторожна и не хотела ненужного риска, желая сохранить все. Конечно, риск есть всегда, но надо, насколько это возможно, его избегать.
— Я заставлю моего мальчика забыть эту жестокую девушку.
— Я уже забыл…
— Придешь ночью? Я буду ждать…
Он не рассчитывал, что дело обернется таким образом. Зачем было говорить ей, что больше он не придет?
Но даже в тот момент, еще неприятно удивленный хладнокровием, с которым она расчетливо оценивала опасность и придумывала, как ее избежать, еще пораженный хитростью, с какой она вынуждала его довольствоваться объедками со стола полковника, Жозуэ чувствовал, что вернется обязательно. Он уже был привязан к этой постели, где познал изумительные, незабываемые мгновения совсем иной любви.
Пора было уходить. Надо выскользнуть потихоньку, чтобы поспать хоть несколько минут, прежде чем в восемь часов встретиться с учениками на уроке географии. Она отперла ящик и вынула оттуда бумажку вето мильрейсов:
— Я хотела подарить тебе что-нибудь такое, чтобы ты всегда помнил обо мне. Но я не могу ничего купить, не вызвав подозрений. Купи ты сам…
Он хотел высокомерно отказаться, но она укусила его за ухо.
— Купи ботинки. Когда будешь ходить, думай, что ступаешь по мне. Не отказывайся, я прошу тебя. — Глория заметила дыру на подметке его башмака.
— Но ботинки стоят не более тридцати мильрейсов…
— Купи и носки… — простонала она в его объятиях.
После обеда в «Папелариа Модело» Жозуэ, отчаянно борясь со сном, объявил о своем окончательном возвращении к поэзии, на этот раз чувственной, воспевающей земные наслаждения. Он добавил:
— Вечной любви не существует. И самой сильной страсти отпущен свой срок. Наступает день, когда она кончается и рождается новая любовь.
— Именно поэтому любовь бессмертна, — заключил Жоан Фулженсио. — Она постоянно возрождается. Страсть умирает, но любовь остается.
Из своего окна торжествующая Глория жеманно и снисходительно улыбалась старым девам. Теперь она никому не завидовала, ее одиночество кончилось.
Песнь Габриэлы
В бумазейном платье, в туфлях, чулках и во всем прочем Габриэла казалась дочерью богача, девушкой из состоятельной семьи. Дона Арминда захлопала в ладоши.
— Ни одна женщина в Ильеусе не сравнится с тобой. Ни замужняя сеньора, ни девушка, ни содержанка. Нет, я не знаю такой, которая могла бы с тобою поспорить.
Любуясь собой, Габриэла вертелась перед зеркалом. Хорошо быть красивой: мужчины сходят по тебе с ума, сдавленным шепотом делают разные соблазнительные предложения. Ей нравилось выслушивать эти предложения, особенно если они исходили от молодого мужчины.
— Представьте себе, сеньора, сеньор Жозуэ хочет, чтобы я жила с ним. А он такой красивый и молодой…
— Ему и помереть-то негде, этому паршивому учителишке. Не думай о нем, у тебя такой выбор.
— А я и не думаю. И вовсе не хочу с ним жить. Даже если…
— Тебя так любит полковник, да и судья тоже. А уж сеньор Насиб прямо убивается…
— Не знаю почему… — Габриэла улыбнулась. — Сеньор Насиб такой хороший. Без конца делает мне подарки. Даже слишком часто… Ведь он не старый и не урод… Зачем же столько подарков? Он и так очень… мне нравится…
— Не удивляйся, если он попросит тебя выйти за него замуж…
— В этом нет никакой необходимости. Зачем ему просить? Я и так…
Насиб заметил, что один зуб у Габриэлы испортился, и послал ее к врачу поставить золотую коронку. Он сам выбрал дантиста — тощего старика с портовой улицы, потому что вспомнил Осмундо и Синьязинью. Два раза в неделю, после того как Габриэла отправляла в бар подносы с закусками и приготовляла обед для Насиба, она ходила к дантисту, надев свое новое бумазейное платье. Зуб был уже запломбирован, и Габриэла даже жалела, что лечение подходит к концу. Покачивая бедрами, она шла по городу и рассматривала витрины; на улицах было много людей, и мужчины часто задевали ее, когда она проходила мимо. Многие заигрывали с ней, говорили любезности. Однажды она увидела сеньора Эпаминондаса, который отмерял ткани за прилавком. Иногда Габриэла останавливалась у бара, переполненного в час аперитива.
Насиб сердился:
— Зачем ты пришла?
— Чтобы повидаться…
— С кем?
— С сеньором Насибом…
Больше она могла ничего не говорить, Насиб таял.
Старые девы смотрели на Габриэлу, мужчины тоже, а отец Базилио, выходя из церкви, благословлял ее:
— Благослови тебя бог, моя иерихонская роза.
Габриэла не знала, что это за роза, но слова отца Базилио звучали красиво. Она любила дни, когда нужно было идти к дантисту. В его приемной она принималась размышлять. Сеньор полковник Мануэл Ягуар, — какое смешное прозвище, — суровый старик, прислал ей записку: если она захочет, он запишет уже засаженную какаовую плантацию на ее имя. Запишет черным по белому, в нотариальной конторе. Плантация… Не будь сеньор Насиб таким хорошим, а полковник таким старым, она согласилась бы. Не для себя, конечно, зачем ей плантация? Так для кого же? Ей она не нужна… Габриэла подарила бы плантацию Клементе, ведь он так хотел… А где он сейчас, Клементе? Все еще на плантации отца той красивой девушки, что гуляет с инженером? Нехорошо, что фазендейро избил бедняжку плетью. И что она сделала? Если бы у Габриэлы была плантация, она подарила бы ее Клементе. Как это было бы чудесно… Но сеньор Насиб, наверно, не понял бы… Нет, она не оставит его без кухарки. Если бы не это, она бы согласилась. Старик уродлив, но проводит почти все свое время на плантации, и Насиб мог бы часто приходить к ней, утешать ее и ласкать…
Как долго можно было размышлять над разными глупостями! Иногда это было приятно, иногда нет.
Думать об умерших, вообще о грустном ей не правилось. Но иногда она думала и об этом. О тех, кто умер в пути, и о дяде тоже. Бедный дядя, он ее бил, когда она была маленькой. Ложился с ней в постель, а она была еще девочкой. Тетка рвала на себе волосы, бранилась, он избивал ее, пинал ногами. Но он не был плохим, просто был слишком бедным, поэтому не мог быть хорошим. Думать о веселом — это другое дело, это она любила. Вспоминать танцы на плантациях, когда босые ноги отбивают по земле дробь. Вспоминать сверкающий огнями город, где она жила, когда умерла тетка, дом, в котором было столько высокомерных господ, Бебиньо. Это было приятно.
И почему иные говорят только о грустном? Что может быть глупее? Иногда дона Арминда вставала с левой ноги: тогда она вспоминала о разных печалях, горестях, болезнях и ни о чем другом не могла говорить.
Если же она просыпалась в хорошем настроении, то болтала с таким удовольствием, словно разговоры были для нее хлебом насущным, к тому же с маслом, и, по всей видимости, очень вкусным. Она болтала о всякой всячине, чаще всего о родах и новорожденных. Это было интересно.
Зуб вылечили — как жалко! — и поставили золотую коронку. Сеньор Насиб святой, он заплатил дантисту, хотя она не просила его об этом. Святым он был еще и потому, что дарил ей столько подарков. Но зачем?
Если он видел ее в баре, то бранился. Ревнует…
Вот смешной…
— Ты что тут делаешь? Сейчас же домой…
И она уходила. В своем бумазейном платье, в туфлях, чулках и во всем прочем. На площади, против церкви, дети пели, взявшись за руки. Дочки сеньора Тонико были такие беленькие, что их волосы казались льняными. В хороводе кружились сынишки прокурора, чей-то мальчик с больной рукой, здоровяки Жоана Фулженсио, приемные дети отца Базилио. А в середине круга танцевал и пел негритенок Туиска:
Роза очень захворала, мак пришел ее лечить, роза в обморок упала, лекарь начал слезы лить.Габриэла узнала песенку, которую пела в детстве, остановилась послушать и посмотреть на детей. Она пела эту песенку еще до смерти родителей, пока не поселилась в доме дяди и тетки. Как здорово отплясывают маленькие ножки детей! Ноги Габриэлы сами собой начали двигаться, они не могли стоять на месте. Габриэла была не в силах удержаться — ведь она обожала танцы. Габриэла сняла туфли, бросила их на тротуар и побежала к детям. С одной стороны Туиска, с другой — Розинья. Она закружилась по площади, танцуя и распевая:
Бей в ладоши: хлоп-хлоп. Топай громче: топ-топ. Хоровод, хоровод, краб не пляшет, а ползет.Пела, кружилась в танце, хлопала в ладоши девочка Габриэла.
О цветах и вазах
Политическая борьба отразилась и на выборах в братстве святого Георгия. Многие хотели, чтобы епископ примирил враждующих, повторив эксперимент Атаулфо Пассоса. Хорошо бы увидеть у алтаря святого воина как приверженцев Бастоса, так и единомышленников Мундиньо. Но сколь ни внушителен был епископ с красной митрой на голове, ему это не удалось.
Откровенно говоря, Мундиньо не принимал всерьез эту предвыборную возню в братстве. Он ежемесячно платил взносы, тем дело и кончалось. Мундиньо сказал епископу, что если он примет участие в выборах, то готов голосовать за кандидата, на которого епископ укажет. Но доктор, метивший на председательский пост, упорствовал, одновременно развернув бурную деятельность среди прихожан. Судя по всему, вновь будет переизбран Маурисио Каирес, человек верующий и верный. И этим он будет обязан главным образом инженеру.
Бурный конец его романа с Малвиной оживленно обсуждался в городе. Хотя диалога на набережной между Мелком и Ромуло никто не слышал, ходило по меньшей мере десять версий, одна другой унизительнее и неприятнее, — будто Мелк поставил инженера на колени тут же на набережной и Ромуло якобы молил о пощаде. Молва превратила его в безнравственное чудовище с невообразимыми пороками, в подлого соблазнителя, угрожавшего прочной ильеусской семье. «Жорнал до Сул» посвятил Ромуло одну из самых длинных и красноречивых своих статей, которая заняла всю первую полосу и часть второй. Упоминавшиеся в статье мораль, Библия, честь семьи, достоинство Бастосов, их примерная жизнь, распутство оппозиционеров, в том числе и их лидера, развратная Анабела и необходимость уберечь Ильеус от разложения, которое уже тронуло весь мир, превращали ее в антологию нравов, кстати, весьма объемистую.
— Прямо антология глупости, — возмущался капитан.
Пылали политические страсти. Статья эта многим в Ильеусе очень понравилась, в особенности старым девам. Маурисио Каирес широко цитировал ее в речи при своем переизбрании на пост председателя братства: «…авантюристы, прибывшие из центров, где господствует коррупция, будто бы для проведения непонятных и ненужных работ, хотят развратить чистую душу жителей Ильеуса…» Инженер стал символом распутства и безнравственности. Скорей всего потому, что, трясясь от страха, сбежал из номера гостиницы и тайком пробрался на пароход, даже не попрощавшись с друзьями.
Если бы Ромуло попытался защищаться, бороться, то наверняка нашел бы у некоторых поддержку. Вспыхнувшая к нему антипатия не коснулась, однако, Малвины. Конечно, подробно обсуждался их флирт, поцелуи в кино и у ворот, находились такие, что заключали пари, подвергая сомнению ее девственность. Но, очевидно, потому, что стало известно, как девушка, не дрогнув, встретила рассвирепевшего отца, как она дала ему отпор и не склонила головы, когда он исхлестал ее — плетью, город симпатизировал ей. Когда две недели спустя Мелк повез Малвину в Баию, чтобы запереть ее в монастырской школе, в порту собралось много провожающих, пришли даже некоторые подруги по школе. Жоан Фулженсио преподнес ей коробку конфет, пожал руку и сказал:
— Крепитесь!
Малвина улыбнулась, и сразу потеплел ее холодный и надменный взгляд, нарушилась неподвижность статуи. Никогда прежде она не была так красива. Жозуэ не пришел в порт, но признался Насибу у стойки бара:
— Я ее простил. — Жозуэ был возбужден и разговорчив, хотя щеки его еще больше ввалились, под глазами появились огромные черные круги.
Присутствовавший при этом разговоре Ньо Гало поглядывал на окно, в котором улыбалась Глория.
— Вы, Жозуэ, что-то скрываете. Вас совсем не видно в кабаре. Я знаю всех женщин в Ильеусе и знаю, кто и с кем крутит роман. Мне известно и то, что ни одна не связана с вами. Откуда же у вашей милости такие синяки под глазами?
— Много работаю…
— Ну да, изучаете анатомию… От такой работы и я не откажусь… — Его наглые глаза перебегали с Жозуэ на окно Глории.
У Насиба тоже зародилось подозрение. Жозуэ сейчас что-то слишком равнодушен к Габриэле, даже шутить перестал с ней. Тут что-то не то…
— Этот инженер изрядно навредил Мундиньо Фалкану…
— Ничего подобного. Все равно Мундиньо победит.
Я готов держать пари.
— А я совсем в этом не уверен. Впрочем, даже если он и одержит верх, правительство признает выборы недействительными, вот посмотрите…
Переход полковника Алтино на сторону Мундиньо, его разрыв с Бастосами послужили примером для многих других. В течение нескольких дней за ним последовали полковник Отавиано из Пиранжи, полковник Педро Феррейра из Мутунса, полковник Абдиае де Соуза из Агуа-Преты. Было похоже, что авторитет Бастосов если и не будет подорван окончательно, то, во всяком случае, серьезно пошатнется.
Однако день рождения полковника Рамиро, отпразднованный через несколько недель после инцидента с Ромуло, показал, что эти предположения беспочвенны. Еще никогда день рождения полковника не праздновался с таким шумом. Утром город разбудил треск шутих, потом раздались приветственные крики, а против дома Бастосов и префектуры был зажжен фейерверк. Мессу служил сам епископ; в битком набитой церкви собралось братство святого Георгия в полном составе; проповедь отца Сесилио, произнесенная проникновенным мягким голосом, отметила достоинства полковника. На праздник прибыли фазендейро со всего района, приехал даже Аристотелес Пирес, префект Итабуны. Это была подлинная демонстрация силы. Празднество длилось целый день. Рамиро Бастос одного за другим принимал визитеров, встречая гостей в комнате, где стояли стулья с высокими спинками. Полковник Амансио Леал велел за свой счет угощать народ пивом, предвещая победу на выборах, которая будет одержана любой ценой. Даже некоторые оппозиционеры пришли поздравить Рамиро Бастоса, в том числе и доктор. Полковник принял их стоя, желая продемонстрировать не только свою власть, но и свое железное здоровье. В действительности же за последнее время оно серьезно пошатнулось. Раньше Рамиро Бастос производил впечатление пожилого, но сильного и крепкого мужчины, теперь он превратился в старика, руки которого все время дрожали.
Мундиньо Фалкан не присутствовал на мессе и не пришел поздравить полковника. Однако он послал Жерузе большой букет цветов с визитной карточкой, на которой написал: «Прошу Вас, мой юный друг, передать от меня Вашему достойному дедушке пожелания счастья. Находясь в лагере его противников, я, тем не менее, остаюсь его поклонником». Записка Мундиньо произвела невообразимый эффект. Все девушки Ильеуса пребывали в крайнем возбуждении. Жест Мундиньо казался им восхитительным, ничего подобного никогда не случалось в этом крае, где расхождение в политических взглядах означало смертельную вражду.
К тому же какое великодушие, какая изысканность!
Даже полковник Рамиро Бастос, прочтя записку и взглянув на цветы, заметил:
— И хитер же этот сеньор Мундиньо! Не могу же я не принять поздравление, которое он мне посылает через внучку…
Некоторое время он даже думал о возможности соглашения. И Тонико, когда держал в руках визитную карточку Мундиньо, почувствовал, что в его душе зарождаются надежды. Но все осталось по-прежнему, и распри между Бастосами и Фалканом стали еще острее, Жеруза надеялась, что Мундиньо придет в парадный зал префектуры на бал, которым завершалось празднество. Она не решилась лично пригласить его, но дала понять доктору, что присутствие Мундиньо будет встречено благожелательно.
Экспортер не явился. Приехала еще одна женщина из Баии, и он устроил пирушку по этому поводу.
Все эти новости обсуждались в баре, и во всех разговорах принимал участие Насиб. Ему было поручено во время бала в префектуре снабжать буфет сладостями и закусками; Жеруза сама объяснила Габриэле, что надо приготовить, и, вернувшись от нее, сказала Насибу:
— Сеньор Насиб, ваша кухарка — прелесть, она такая симпатичная… — за это араб готов был ее боготворить.
Вина и другие напитки были заказаны Плинио Apace — старый Рамиро никого не хотел обидеть.
Насиб обсуждал волновавшие город проблемы, участвовал в разговорах, но оставался ко всему равнодушным. Ни одно событие, политическое или социальное, ни даже автобус, перевернувшийся на шоссе, причем пострадали четыре человека, один из которых умер, — ничто не могло отвлечь Насиба от мучивших его вопросов. Против воли Насиба мысль, поданная однажды Тонико, все больше овладевала им. Да, надо жениться на Габриэле, иного выхода он не видел. Он ее любил, это бесспорно. Любил безгранично, не мог без нее жить, как не мог жить без воды, без пищи, без сна.
И в баре тоже не обойтись без нее. Если Габриэла уйдет, все погибнет: бар станет давать меньшую прибыль, и он, Насиб, уже не сможет откладывать деньги в банк, а значит, придется отказаться от плантации, приобретение которой становится теперь таким реальным. Если же он на ней женится, всем опасениям и страхам настанет конец. Да разве может предложить ей кто-нибудь больше, чем он. К тому же, когда Габриэла станет хозяйкой бара и будет распоряжаться тремя-четырьмя кухарками, присматривая только за приготовлением соусов, Насиб сможет осуществить проект, который давно лелеял: открыть ресторан. Это то, чего не хватало городу; Мундиньо уже не раз повторял:
Ильеусу нужен хороший ресторан, пища в гостиницах плохая, холостякам приходится обедать в дешевых пансионах и завтракать всухомятку. Даже пассажирам пароходов, которые останавливались в Ильеусе, негде как следует перекусить. А где устроить званый обед или банкет, если гостей так много, что они не уместятся в столовой обычного дома? Сам Мундиньо был готов войти в пай с Насибом. Ходили слухи, что какая-то греческая чета тоже подумывает об открытии ресторана и даже подыскивает помещение. Если бы Насиб был уверен, что в кухне будет распоряжаться Габриэла, он открыл бы ресторан.
Но разве он мог быть уверен в этом? Насиб размышлял, лежа в шезлонге в час сиесты — час его самых страшных мук, зажав в углу рта, под обвисшими усами, погасшую горькую сигару. Еще недавно дона Арминда, эта Кассандра из Сеары, ужасно его встревожила. Кажется, впервые Габриэлу соблазнило предложение поклонника. Дона Арминда чуть не с садистским наслаждением подробно описала колебания девушки, вызванные обещаниями Мануэла Ягуара. Какаовая плантация в двести арроб, никак не меньше, — кто же тут не заколеблется? Ни Насиб, ни дона Арминда ничего не знали о Клементе; они вообще мало знали Габриэлу…
Несколько дней Насиб ходил как потерянный, не раз он готов был открыть рот и заговорить с ней о женитьбе. Но дона Арминда утверждала, что, судя, по всему, Габриэла ему откажет.
— Я никогда не видела такой девушки… Конечно, она заслуживает хорошего мужа, конечно, но…
Но не мало ли этого для нее? «Верность каждой женщины, какой бы преданной она ни была, имеет свои границы», — слышался ему гнусавый голос Ньо Гало.
Да, замужество не было пределом для Габриэлы, ее ценой, но все же это тоже немало, и может быть, она согласится? А вдруг полковник Мануэл Ягуар прибавит к какаовым деревьям дом на окраинной улице, записанный на ее имя? Ничто так не прельщает женщину, как собственный дом. Достаточно вспомнить сестер Рейс, ведь они отказались продать за крупную сумму и тот дом, в котором живут, и те дома, которые сдают в аренду. А Мануэл Ягуар достаточно богат, чтобы подарить дом Габриэле. Денег у него куры не клюют, а после обильного урожая этого года он разбогатеет еще больше. Он строит в Ильеусе для своей семьи настоящий дворец, с башней, откуда можно наблюдать весь город, пароходы в порту, железную дорогу. Этот старый павиан с ума сходит по Габриэле, в конце концов он заплатит ее цену, как бы высока она ни оказалась.
Дона Арминда пристает к Насибу дома, Тонико спрашивает в баре каждый день после обеда:
— Ну как со свадьбой, араб? Решили?
По существу, решение уже принято. Насиб лишь откладывал помолвку из страха перед разговорами.
Поймут ли его друзья? И дядя, и тетка, и сестра, и зять, и богатые родственники из Итабуны, эти гордецы Ашкары? Но, в конце концов, какое ему до них дело? Родственники мало связаны с ним, они заняты своим какао. Дяде он ничем не обязан, на зятя ему наплевать.
Что касается друзей — посетителей бара, партнеров по триктраку и покеру, то разве выказывали они ему расположение, за исключением одного Тонико? Разве не приставали они к Габриэле, не домогались ее у него на глазах? Так что может значить для него их мнение?
В тот день в баре перед завтраком оживленно обсуждались политические вопросы, в том числе и проблема расчистки фарватера. Сторонники Бастосов распространяли слухи, будто отчет инженера сдан в архив и дело реконструкции бухты снова похоронено.
Бесполезно якобы настаивать, вопрос зашел в тупик.
Многие верили. Уже не видно было инженера в лодке с инструментами, занятого исследованиями песчаной мели. Да и Мундиньо Фалкану ехал в Рио. Сторонники Бастосов сияли. Амансио Леал предложил Рибейриньо новое пари: двадцать конто за то, что буксиры и землечерпалки никогда не прибудут. Насиб опять был призван в свидетели.
Возможно, поэтому Тонико в час аперитива был в таком хорошем настроении. Он снова начал появляться в кабаре, влюбленный- теперь в черноокую сеаренку[62].
— Жизнь прекрасна…
— У вас есть причина быть довольным — новая женщина…
Тонико, чистя ногти, снисходительно процедил:
— Я действительно доволен… Работы в бухте ничего не дали, а сеаренка — девочка с темпераментом…
И все же не полковник Мануэл Ягуар вынудил Насиба наконец решиться. Принять окончательное решение заставил его судья.
— А вы, араб, все грустите?
— А что же мне еще делать?
— Сейчас загрустите еще больше. Плохая новость для вас.
— Что случилось? — спросил Насиб с тревогой.
— Судья, дорогой мой, снял домик в переулке Четырех Мотыльков.
— Когда?
— Вчера вечером…
— Для кого?
— А вы не догадываетесь?
Наступила такая тишина, что было слышно, как летит муха. Разиня Шико, вернувшись с завтрака, сообщил:
— Габриэла велела передать вам, что ненадолго уйдет из дому.
— Зачем?
— Не знаю, сеньор. Похоже, за покупками, ей что-то понадобилось.
Тонико слушал, не скрывая иронии. Насиб спросил его:
— Вы все толкуете мне про свадьбу, вы это серьезно? Вы в самом деле считаете, что я должен на ней жениться?
— Конечно. Я уже говорил вам: будь я на вашем месте…
— Я уже все продумал и решил… — Решили?
— Но имеются некоторые препятствия, и вы можете мне помочь…
— Дайте я вас обниму… Примите мои поздравления! Вот счастливый турок!
После того как они обнялись, Насиб, все еще смущенный, продолжал:
— У нее, как я выяснил, нет документов. Нет свидетельства о рождении, и она сама не знает, когда родилась, не знает, как звали отца. Родители ее умерли, когда она была девочкой, и она ничего не помнит. Фамилия ее дяди Силва, но он был братом ее матери.
Она не знает, сколько ей лет, вообще ничего о себе не знает. Как мне быть?
Тонико наклонился к Насибу:
— Я ваш друг, Насиб, и помогу вам. О бумагах не беспокойтесь. Я все устрою в моей нотариальной конторе: выпишу свидетельство о рождении, придумаю имена — для нее, для отца и для матери… Только одно условие: я хочу быть шафером на вашей свадьбе…
— Считайте, что вы уже приглашены… — Насиб сразу почувствовал облегчение, к нему вернулось веселье, он ощутил тепло солнца, ласковый морской ветерок.
Вошел пунктуальный Жоан Фулженсио, приближалось время открывать магазин «Папелариа Модело».
Тонико крикнул:
— Знаете новость?
— Я знаю много новостей… Какую вы имеете в виду?
— Насиб женится…
Всегда невозмутимый Жоан удивился:
— Это правда, Насиб? Ведь вы, насколько мне известно, не были ни с кем помолвлены. Кто же эта счастливица, можно узнать?
— А вы как думаете?.. — улыбнулся Тонико.
— Я женюсь на Габриэле, — сказал Насиб. — Я ее люблю и женюсь на ней. Мне неважно, что будут говорить.
— А сказать можно только одно: у вас благородное сердце и вы порядочный человек. Ничего другого никто не может сказать. Примите мои поздравления…
Жоан Фулженсио обнял Насиба, но взгляд его был озабоченным. Насиб настаивал:
— Так дайте мне совет: вы полагаете, что все уладится?
— В таких делах, Насиб, советов не дают. Разве кто-нибудь может знать наперед? Но я желаю, чтобы все уладилось, вы этого заслуживаете. Только…
— Что только?
— Есть цветы, — может быть, вы заметили, — которые красивы и ароматны, пока растут в саду. Но как только их ставят в вазу, пусть даже серебряную, они вянут и погибают.
— Почему же она должна погибнуть?
Тонико вмешался:
— Оставьте, сеньор Жоан! Бросьте вы эту поэзию… Это будет самая веселая свадьба в Ильеусе.
Жоан Фулженсио, улыбнувшись, сказал:
— Я шучу, Насиб. От души поздравляю вас. Ваш поступок очень благороден, это поступок культурного человека.
— Давайте выпьем по этому случаю, — предложил Тонико.
Веет морской ветерок, сияет солнце, Насиб слышит пение птиц.
О свадьбе и землечерпалках
Это была самая веселая свадьба в Ильеусе. Судья, явившийся с новой содержанкой, для которой, отчаявшись дождаться Габриэлы, и снял домик в переулке Четырех Мотыльков, в нескольких словах пожелал счастья новой чете, которую соединит истинная любовь, не боящаяся предрассудков, классовых различий и разницы в общественном положении.
Габриэла, с опущенными глазами, со смущенной улыбкой на устах, в тесных туфлях, одетая в небесно-голубое платье, выглядела очень соблазнительно. Она вошла в гостиную под руку с Тонико; нотариус был одет подчеркнуто элегантно, как в большие праздники.
Дом Насиба на Ладейре-де-сан-Себастьян был переполнен. Пришли все, званые и незваные, никому не хотелось пропустить такое зрелище. Как только Насиб сказал Габриэле о своем решении, он отослал ее к доне Арминде. Жениху и невесте не полагается спать под одной крышей.
— Почему? — спросила Габриэла. — Какое это имеет значение?
А как же. Теперь она стала невестой Насиба, а будет его женой, и она достойна самого высокого уважения. Когда он попросил ее руки, она задумалась:
— Зачем, сеньор Насиб? Не нужно…
— Ты что же, не согласна?
— Согласна-то я согласна. Но зачем? Я ведь люблю вас и без этого.
Он нанял пока двух служанок: одну — чтобы убирала, другую, девчонку, чтобы училась готовить. Потом надо будет подумать и о других — для ресторана. Он нанял маляров заново покрасить дом, купил новую мебель. Купил и приданое для невесты, тетка помогла выбрать платья, нижние юбки, туфли, чулки. Дядя и тетка, когда оправились от изумления, стали любезными.
Даже предложили, чтобы Габриэла на время переехала к ним. Он не согласился, разве он мог в эти дни обойтись без нее? Стена, отделявшая двор доны Арминды от двора Насиба, была низкой. Габриэла, подняв юбки, перепрыгивала ее, как горная козочка. Она приходила спать с ним. Сестра с зятем не хотели и слышать о ней и не пожелали примириться с решением Насиба. Ашкары из Итабуны прислали в подарок редкой красоты абажур из раковин.
Все пришли посмотреть на Насиба в темно-синем костюме, в ярко начищенных башмаках, с лихо закрученными усами и гвоздикой в петлице. Габриэла улыбалась, потупив взор. Судья объявил, что Насиб Ашкар Саад, тридцати трех лет, коммерсант, родившийся в Феррадасе, зарегистрированный в Итабуне, и Габриэла да Силва, двадцати одного года, занимающаяся домашним хозяйством, родившаяся в Ильеусе и там же зарегистрированная, вступили в брак.
Дом Насиба был набит гостями до отказа — много мужчин и мало женщин: жена Тонико, бывшая свидетельницей при бракосочетании, белокурая Жеруза, её племянница, супруга капитана, очень добрая и простая, сестры Рейс, которые все время улыбались, и жена Жоана Фулженсио, неунывающая мать шестерых детей.
Другие не пожелали прийти — как можно жениться на служанке? Столы были уставлены яствами и винами.
Гостей было так много, что некоторые не поместились в доме и заполнили тротуар перед домом. Это была самая шумная свадьба в Ильеусе. Даже Плинио Араса, позабыв о конкуренции, принес шампанского. Венчание, которое было бы еще пышнее, не состоялось. Только теперь все узнали, что Насиб магометанин, хотя в Ильеусе он потерял Аллаха и Магомета, не обретя, впрочем, ни Христа, ни Иеговы. Однако отец Базилио все же пришел благословить Габриэлу:
— Да расцветет в потомстве моя иерихонская роза.
Он погрозил Насибу:
— Уж вы как хотите, а детей ваших буду крестить я…
— Согласен, сеньор падре…
Праздник наверняка затянулся бы до ночи, если бы в сумерки не раздался крик с улицы:
— Глядите-ка, землечерпалки идут…
Все бросились на улицу. Возвратившийся из Рио Мундиньо Фалкан пришел на свадьбу и преподнес Габриэле букет красных роз, а Насибу серебряный портсигар. Потом он вышел на улицу и довольно улыбнулся: два буксира тянули к гавани четыре землечерпалки.
Прогремело «ура», еще и еще раз, началось прощание с новобрачными. Мундиньо с капитаном и доктором ушли первыми.
Праздник перенесся к портовым причалам. Лишь дамы, а также Жозуэ и сапожник Фелипе побыли с новобрачными еще некоторое время. Даже Глория покинула в этот день свое окно и вышла на улицу. Когда дона Арминда пожелала наконец новобрачным спокойной ночи и ушла, оставив их одних в опустевшем доме, где все было перевернуто вверх дном, среди пустых бутылок и тарелок, Насиб заговорил:
— Биэ…
— Сеньор Насиб…
— Почему «сеньор»? Я твой муж, а не хозяин…
Она улыбнулась, сбросила туфли и начала прибирать, расхаживая по комнате босиком. Он взял ее за руку и сказал с упреком:
— Так нельзя больше, Биэ…
— Что нельзя?
— Ходить босиком. Ты теперь сеньора.
Она испугалась:
— Нельзя ходить босиком?
— Нельзя…
— А почему?
— Ты — сеньора, достаточно богатая и с положением в обществе.
— Нет, сеньор Насиб, я просто Габриэла…
— Я буду тебя воспитывать. — Он взял её на руки и отнес в постель.
— Красавчик…
В порту толпа кричала и аплодировала. Взлетели в воздух и канули в ночь огни фейерверка. Пестрые шутихи поднимались в небо, ночь растаяла, фейерверк освещал путь землечерпалкам. Русский Яков был так возбужден, что заговорил на своем родном языке Буксиры загудели, они входили в порт.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Лунный свет Габриэлы (Может быть, ребенок, а может быть, дочь народа, кто знает?)
Преобразились не только город, порт, окрестности и поселки. Изменились также нравы, стали иными люди…
(Из обвинительной речи. Эзекиела Прадо на процессе полковника Жезуино Мендонсы)Песня друга Габриэлы
Ах, султан, что сделал ты с резвою моей подружкой? Я дворец ей подарил, трон в бесценных самоцветах, изумруды и рубины, золотые башмачки, платья в осыпи алмазной, аметистовые перстни, свиту преданных служанок, место под моим шатром и назвал ее супругой. Ах, султан, что сделал ты с резвою моей подружкой? Ведь она хотела только собирать цветы в полях, ведь она хотела только зеркальце — чтобы смотреться, ведь она хотела только солнышка — чтобы погреться, и еще хотела света лунного — чтоб сладко спать, и еще любви хотела, чтобы всю себя отдать. Ах, султан, что сделал ты с резвою моей подружкой? На придворный бал повел я резвую твою подружку, чтоб могла в уборе царском с визиршами толковать и с учеными мужами, танцевать заморский танец, дорогие вина пить, и вкушать плоды Европы, и в моих объятьях царских истинной царицей быть. Ах, султан, что сделал ты с резвою моей подружкой? Пусть по твоему веленью снова обретет она место у плиты на кухне, платье из цветного ситца, туфельки зеленой кожи, и танцующую поступь, и бесхитростные мысли, и чистосердечный смех, и утраченное детство, и счастливый вздох в постели, и желание любить ведь ее не изменить! Для Габриэлы песенка эта. Ты — из корицы, гвоздики и света.О вдохновенном поэте борющемся с презренными денежными заботами
— Доктор Аржилеу Палмейра, наш талантливый, выдающийся поэт, гордость баиянской литературы, — представил доктор не без гордости.
— Поэт, хм… — Полковник Рибейриньо поглядывал на Аржилеу с недоверием: эти поэты обычно были весьма ловкими вымогателями. — Очень приятно…
Вдохновенный поэт — огромного роста толстый пятидесятилетний мужчина, очень светлый мулат, изрядно потрепанный, с широкой улыбкой, обнажавшей золотые зубы, и с львиной шевелюрой, одетый в полосатые брюки и, несмотря на страшную жару, в пиджак и жилет черного цвета, — держался как отдыхающий от дел сенатор, явно привыкший к недоверию грубых провинциалов. Он вытащил визитную карточку из жилетного кармана, откашлялся, чтобы обратить на себя внимание всего бара, и произнес громовым голосом:
— Бакалавр юридических и социальных наук, то есть дипломированный адвокат, и бакалавр филологии. Прокурор округа Мундо-Ново. К вашим услугам, дорогой сеньор.
Доктор поклонился, протянул карточку изумленному Рибейриньо, фазендейро поискал очки и прочел:
Аржилеу Палмейра
Бакалавр юридических и социальных наук и бакалавр филологии
Прокурор
Поэт-лауреат
Автор шести книг, отмеченных критикой
Мундо-Ново Баия Парнас
Рибейриньо вконец смутился, поднялся со стула и произнес, запинаясь:
— Ну что ж, очень приятно, сеньор… К вашим услугам…
Через плечо фазендейро Насиб прочел текст визитной карточки, и на него тоже он произвел впечатление. Он покачал головой:
— Вот это да!
Поэт не любил терять времени даром, он выложил на стол большой кожаный портфель и принялся его открывать. Среди провинциальных городов Бразилии Ильеус был одним из крупнейших, и Аржилеу еще предстояло нанести много визитов. Он вытащил пачку билетов на свой литературный вечер.
Выдающийся обитатель Парнаса, к сожалению, зависел от материальных случайностей этого мелкого и гнусного мира, где желудок берет верх над душой.
Поэтому избранник муз приобрел довольно ярко выраженные практические наклонности, и когда выезжал в турне с чтением своих стихов, то из каждого города, где выступал, старался извлечь максимум выгоды!
Особенно когда прибывал в богатый город, вроде Йльеуса, где у жителей много денег. Здесь ему приходилось проявлять незаурядную изворотливость, чтобы создать некоторый запас и тем самым компенсировать скудные доходы в более отсталых городах, где пренебрежение к поэзии и отвращение к литературным вечерам выливалось в грубые выходки и хлопанье дверями. Но, обладая поразительной наглостью, поэт не сдавался и в таких исключительных обстоятельствах. Он настаивал и почти всегда добивался удачи: хоть один билет, но продавал.
Прокурорских доходов едва хватало на нужды многочисленной семьи и на ораву подрастающих детишек.
Семья была большая, — впрочем, не семья, а семьи, так как их было по меньшей мере три. Известный поэт с трудом подчинялся писаным законам, которые, возможно, хороши для простых смертных, но никак не устраивали выдающихся личностей вроде бакалавра Аржилеу Палмейры. Например, закон о браке и закон, карающий многоженцев. Как мог истинный поэт подчиняться таким ограничениям? Он вовсе не хотел жениться, хотя и жил уже около двадцати лет с некогда жизнерадостной, а сейчас постаревшей Аугустой в своем, так сказать, главном доме. Для нее он написал свои первые книги: «Изумруды» и «Брильянты» (все книги Аржилеу носили названия драгоценных или полудрагоценных камней), а она подарила ему пятерых крепких детишек.
Не может специалист по музам специализироваться на одной-единственной музе, он должен обновлять источники своего вдохновения. И он их обновлял. Женщина, повстречавшаяся на его пути, тут же в постели вдохновляла его на сонет. С двумя другими музами-вдохновительницами он создал новые семьи, новые книги. Для Раймунды, цветущей молоденькой мулатки-официантки, ставшей матерью трех его детей, он написал «Бирюзу» и «Рубины». «Сапфиры» и «Топазы» появились на свет благодаря Клементине, вдове, недовольной своим положением, которая родила Геркулеса И Афродиту. Конечно, во всех этих томах, посвященных главным музам, имелись строфы, предназначавшиеся другим музам, рангом пониже. Возможно также, что существовали и другие дети, помимо десяти усыновленных, зарегистрированных и нареченных именами греческих богов и героев, что крайне шокировало священников. Десятерых прожорливых крепышей Палмейры различного возраста, — вернее, двенадцать, так как двое остались у Клементины от покойного мужа, — прокормить было нелегко, ибо они унаследовали легендарный аппетит отца. Именно это, а также любовь к смене впечатлений и стремление повидать новые края привели его к литературным паломничествам во время судебных каникул. Он отправился в путь с запасом книг и парой докладов, уложенных в огромный черный чемодан, под тяжестью которого сгибались плечи самого сильного носильщика.
— Только один? Нет, нет… Обязательно возьмите с собой супругу. А сколько лет вашим детям? В пятнадцать они так чувствительны к поэзии и к идеям, содержащимся в моем докладе. К тому же эти идеи в высшей степени назидательны и полезны для формирования духовного мира молодежи.
— А в вашем докладе нет ничего неприличного? — спросил Рибейриньо, припомнив вечера Леонардо Мотты, который приезжал в Ильеус раз в год и, отнюдь не навязывая билетов, собирал на свои рассказы о сертане полный зал. — Вы не рассказываете непристойных анекдотов?
— За кого вы меня принимаете, мой дорогой? Мои доклады проникнуты самыми нравственными идеями, самыми благородными чувствами.
— Но я же не осуждаю, я даже люблю… По правде сказать, это единственные доклады, которые я посещаю… — Рибейриньо снова смутился, Вы не обижайтесь, но я хочу сказать, что они развлекают, не так ли? Я провинциал и не слишком образован, серьезные доклады нагоняют на меня сон… А спросил я из-за хозяйки и девочек… Могу я их взять или нет? Так сколько стоят четыре билета?
Насиб приобрел два билета, сапожник Фелипе — один. Вечер должен был состояться на следующий день в актовом зале префектуры; вступительное слово взялся произнести Эзекиел Прадо, коллега Аржилеу по университету.
Поэт перешел ко второй, более сложной стороне дела. От билетов почти никто не отказывался. Книги же брали неохотно, морщили нос при виде страниц, где выстроились набранные мелким шрифтом колонки стихов. Даже те, кто решался их купить из интереса или из любезности, окончательно терялись, когда на вопрос о цене автор отвечал:
— На ваше усмотрение… Ведь поэзия не продается. Если бы мне не нужно было оплачивать печать и бумагу, набор и брошюровку, я раздавал бы свои книги бесплатно, как завещал великий поэт. Но… кто может уйти от гнусного материализма жизни? Объемистая книга, содержащая мои последние и самые значительные стихотворения, посвященные жизни этого края и вызывавшие восторженные отзывы в Португалии, стоила мне очень больших денег. А я еще не расплатился за нее. В общем, на ваше усмотрение, мой дорогой друг…
Этот прием давал неплохой результат, если поэт обращался к экспортеру какао или к крупному фазендейро. Мундиньо Фалкан, например, дал за книгу сто мильрейсов и еще купил билет. Полковник Рамиро Бастос дал пятьдесят, но зато приобрел три билета и пригласил поэта отобедать через пару дней. Аржилеу всегда заранее справлялся об особенностях края, который собирался посетить. Таким образом он узнал о политической борьбе в Ильеусе и приехал снабженный рекомендательными письмами и к Мундиньо, и к Рамиро, и к другим влиятельным лицам обеих группировок.
Имея многолетний опыт распространения своих произведений и применяя этот опыт с терпением и настойчивостью, маститый поэт сразу понимал, способен ли покупатель сам заплатить большую сумму или же его нужно спровоцировать на это.
— Двадцать мильрейсов — и мой автограф в придачу.
Если покупатель все еще колебался, Аржилеу становился великодушным и предлагал крайнюю цену:
— Поскольку, как мне кажется, вы проявляете интерес к моей поэзии, вам я уступаю за десять, чтобы вы, сеньор, не остались без своей доли грез, иллюзий и красоты!
Рибейриньо, держа в руке книгу, почесывал затылок. Он взглядом спрашивал доктора, сколько заплатить. Это же просто вымогательство, бросаешь деньги на ветер… Рибейриньо сунул руку в карман и вынул еще двадцать мильрейсов. Он это сделал только для доктора. Насиб не купил книгу, ведь Габриэла едва умела читать, а сам он по горло сыт и теми стихами, которые декламируют в баре Жозуэ и Ари Сантос. Сапожник Фелипе тоже отказался, он был слегка навеселе:
— Простите меня, сеньор поэт, я читаю только проза, и определенный проза. — Он подчеркнул «определенный». — Новеллы, нет! Боевой проза, такой, что ворочает горы и преображает мир. Вы читали Кропоткина?
Маститый поэт заколебался. Он хотел было сказать, что читал, — имя было ему знакомо, — но нашел, что лучше выйти из затруднительного положения с помощью громкой фразы:
— Поэзия выше политики.
— А я плевать хотел на поэзию, дорогой мой! — Он поднял палец. Кропоткин самый большой поэт всех времен! — Фелипе всегда мешал португальский язык с испанским и, только когда был сильно возбужден или очень пьян, говорил на чистом испанском. — Сильнее Кропоткина только динамит. Да здравствует анархия!
Фелипе пришел в бар навеселе и в баре продолжал пить. Это с ним случалось только раз в год, и лишь немногие знали, что так он отмечает память брата, расстрелянного в Барселоне много лет назад. Брат был истинным воинствующим анархистом, с горячей, буйной головой и бесстрашным сердцем. Фелипе унаследовал его брошюры и книги, но не поднял его разорванного знамени. Он предпочел уехать из Испании, чтобы избежать осложнений, которые могли возникнуть из-за этого опасного родства. Однако и поныне, двадцать с лишним лет спустя, Фелипе в день годовщины расстрела закрывал свою мастерскую и напивался. При этом он клялся, что вернется в Испанию, будет бросать бомбы и отомстит за смерть брата.
Бико Фино и Насиб отвели испанца, поминавшего убитого брата, в комнату для игры в покер, где он мог пить вволю, никому не мешая. Фелипе с упреком говорил Насибу:
— Что ты сделал, неверный сарацин, с моим алым цветком, с моей грациозной Габриэлой? У нее были веселые глаза, она сама была как песня, как радость, как праздник. Зачем же ты украл ее? Ты один хочешь ею наслаждаться и поэтому засадил ее в тюрьму? Подлый буржуа…
Бико Фино принес бутылку кашасы и поставил ее перед сапожником.
Доктор объяснил поэту причину возбужденного состояния испанца и извинился за него: Фелипе человек воспитанный, уважаемый гражданин, и только раз в году…
— Я отлично понимаю. Изредка немного выпить — это любят даже люди из высшего общества. Я тоже не трезвенник и никогда не откажусь от глотка кашасы…
В чем, в чем, а в выпивке Рибейриньо знал толк. Он сел на своего конька и начал лекцию о различных сортах кашасы. В Ильеусе изготовляли замечательный сорт — «Кана де Ильеус»; эту кашасу почти всю продавали в Швейцарию, где ее пьют как виски. Мистер — «англичанин, директор железной дороги», — объяснил Рибейриньо Аржилеу, — ничего другого в рот не берет.
А уж в этом деле он разбирается…
Речь полковника несколько раз прерывалась. Наступил час аперитива, приходили новые посетители, их представляли поэту. Ари Сантос крепко обнял Аржилеу и прижал его к груди. Многие знали поэта понаслышке, и лишь некоторые читали его стихи, но приезд его в Ильеус, утверждали все, войдет в анналы культурной жизни города. Поэт был в восторге и благодарил за горячий прием. Жоан Фулженсио, изучив визитную карточку Аржилеу, бережно убрал ее в карман.
Собрав мзду за проданные билеты и всучив одну книгу с посвящением Ари, другую — полковнику Мануэлу Ягуару, Аржилеу уселся за столик вместе с доктором, Жоаном Фулженсио, Рибейриньо и Ари, чтобы попробовать хваленую «Кану де Ильеус».
Потягивая кашасу в компании только что обретенных друзей и отбросив свою важность, поэт развеселил всю компанию. Громовым голосом он рассказал несколько забавных анекдотов. Громко смеясь, спрашивал об ильеусских делах, будто жил здесь давно, а не явился только этим утром. Лишь когда ему представляя и нового посетителя, он замолкал, чтобы вытащить из портфеля билеты и книги. В конце концов, по предложению Ньо Гало, изобрели своего рода код для облегчения трудов поэта. Когда жертва могла приобрести и билеты и книги, ее представлял доктор, когда приходилось рассчитывать лишь на продажу билетов, но не книги, знакомил Ари. Холостяка или человека, стесненного в средствах, представлял Ньо Гало. Таким образом экономилось время. Давая согласие, поэт немного поупрямился.
— Вид часто бывает обманчив… Уж я-то знаю. Иногда тот, на кого и не подумаешь, возьмет книжку… И потом, цена ведь не твердая…
В веселом кругу, к которому присоединились Жозуэ, капитан и Тонико Бастос, Аржилеу чувствовал себя свободно. Ньо Гало его заверил:
— В своем городе, мой дорогой, мы не можем ошибиться. Мы знаем и возможности, и вкусы, и уровень каждого…
Вошел мальчишка и раздал посетителям рекламные листки цирка, представления которого начинались на следующий день. Поэт возмутился:
— Нет, этого я не могу допустить! Завтра мой вечер. Я нарочно выбрал этот день, потому что в обоих кинотеатрах идут фильмы для молодежи, а взрослые редко на них ходят. И вот, пожалуйста, откуда ни возьмись этот цирк…
— Но, сеньор, разве билеты на вечер не продаются заранее? Разве они не оплачены наличными? Так что никакой опасности нет, — успокоил его Рибейриньо.
— Вы думаете, я стану говорить в пустом зале? Декламировать свои стихи для полдюжины слушателей? У меня есть имя, дорогой сеньор, о котором я должен заботиться, оно завоевало некоторую популярность и пользуется определенной известностью и в Бразилии, и в Португалии…
— Не беспокойтесь… — сказал Насиб, стоявший рядом со столиком, где сидел знаменитый гость. — Это паршивый бродячий цирк, приехавший из Итабуны. В нем нет животных, нет даже приличных артистов. На представление придут только дети.
Поэт был приглашен на завтрак Кловисом Костой — тотчас же по приезде он нанес визит в редакцию «Диарио де Ильеус». Аржилеу спросил доктора, сможет ли тот немного погодя проводить его к Кловису.
— Конечно, я с величайшим удовольствием провожу нашего уважаемого гостя.
— И позавтракаете вместе с нами.
— Я не приглашен…
— Но зато я приглашен и приглашаю вас. Такие завтраки, мой милый, нельзя упускать. Они лучше домашних, уж не говоря о завтраках в гостиницах — те всегда невкусные и такие скудные, чрезвычайно скудные!
Когда они вышли, Рибейриньо заметил:
— А этот толстяк не теряется… И билеты продал, и книги, и на завтрак отправился. А жрет, должно быть, не меньше жибойи[63].
— Он один из самых выдающихся поэтов, — заверил Ари. Жоан Фулженсио вытащил из кармана визитную карточку Аржилеу:
— Во всяком случае, его визитная карточка говорит об этом. Никогда не видел ничего подобного. «Бакалавр»… Представляете? Живет на Парнасе… Простите, Ари, но даже не читая его стихов, я заранее скажу, что они не по мне. Не может быть, чтобы они были стоящими…
Жозуэ перелистывал экземпляр «Топазов», купленный полковником Рибейриньо, вполголоса читая некоторые стихи.
— В них нет жизни, это мертвые строки. И к тому же старомодные, будто поэзия не развивалась. А ведь настал век футуризма.
— Не говорите так… Это кощунство, — заволновался Ари. — Послушайте, Жоан, этот сонет. Божественно, — Ари продекламировал заглавие: — «Громкий рокот водопада».
Но больше ему ничего прочитать не удалось, так как в зале появился испанец Фелипе; едва держась на ногах и опрокидывая столики, он выкрикивал заплетавшимся языком по-испански:
— Сарацин, буржуа, мошенник, где Габриэла? Что ты сделал с моим алым цветком, с моей грациозной…
Судки с завтраком для Насиба теперь приносила молоденькая служанка-мулатка, ученица Габриэлы.
Фелипе, спотыкаясь о стулья, дознавался, где Насиб похоронил грацию и веселье Габриэлы. Бико Фино попытался отвести его обратно в комнату для игры в покер. Насиб неопределенно развел руками, как бы прося извинения не то за поведение Фелипе, не то за отсутствие грациозной, веселой и цветущей Габриэлы.
Остальные наблюдали эту сцену молча. Куда девалось былое оживление, которое воцарялось в баре, когда она приходила в полдень с неизменной розой в волосах?
Все почувствовали отсутствие Габриэлы, словно без нее бар потерял прежнее тепло и уют. Тонико прервал молчание:
— Знаете, как будет называться доклад поэта?
— Как?
— «Тоска и слезы».
— Вот увидите, умрем от скуки, — предсказал Рибейриньо.
Об ошибках сеньоры Саад
Это был худший из цирков. Негритенок Туиска качал головой, остановившись перед колеблющейся мачтой, почти такой же маленькой, как мачта рыбачьей лодки. Меньший и более убогий цирк трудно было себе представить. Брезентовый шатер был дырявым и напоминал небо в звездную ночь или платье сумасшедшей Марии. Он был чуть больше крошечного рыбного рынка и едва накрыл его площадь. Если бы не исключительная преданность цирку, которой отличался негритенок Туиска, он, вероятно, проявил бы полное пренебрежение к «Цирку Трех Америк». Какое убожество!
Разве можно его сравнить с «Большим балканским цирком», у которого такой монументальный шатер, клетки со зверями, четыре клоуна, карлик и великан, дрессированные лошади, бесстрашные воздушные акробаты! Для Ильеуса его приезд был праздником, и Туиска не пропускал ни одного представления. А тут он лишь качал головой.
Его маленькое горячее сердце было полно любви и преданности и к негритянке Раймунде, его матери, стиравшей и гладившей чужое белье, — ей теперь, к счастью, немного полегчало, уже не так мучил ее ревматизм, — и к дочке Тонико Бастоса, маленькой златокудрой Розинье, его тайной страсти; и к доне Габриэле, и. к сеньору Насибу, и к добрым сестрам Рейс, и к брату Фило, герою дорог, королю руля, величественно водившему грузовики и автобусы. И, наконец, к циркам.
С тех пор как Туиска себя помнит, ни один цирковой шатер не воздвигался в Ильеусе без его активной помощи и плодотворного сотрудничества; он ходил вместе с клоуном по улицам, помогал униформистам, вдохновенно руководил мальчишеской клакой, выполнял различные поручения, был неутомим и незаменим. Он любил цирк не только как отличное развлечение, волшебное зрелище и серию увлекательных приключений.
Он приходил туда как в место, уготованное ему судьбой. И если Туиска до сих пор не удрал с одним из цирков, то, пожалуй, только из-за болезни Раймунды. Его помощь была нужна семье. Он добывал свои гроши самыми разнообразными способами, выполняя обязанности и прилежного чистильщика, и случайного официанта, и продавца пользующихся широким спросом сладостей сестер Рейс, и скромного посланца, передающего любовные записки, и превосходного помощника араба Насиба в приготовлении напитков для бара. Итак, Туиска вздохнул, увидев, как беден вновь прибывший цирк.
Едва не скончавшись в пути, «Цирк Трех Америк» добрался наконец до Ильеуса. Последний хищник — старый беззубый лев был подарен префектуре в Конкисте в благодарность за железнодорожные билеты, поскольку содержать его дальше было все равно невозможно. «Бойтесь данайцев…»[64] пошутил префект. В каждом городе, где останавливался цирк, непременно кто-нибудь из артистов убегал, даже не требуя неуплаченного жалованья. Было продано все, что можно продать, вплоть до ковров с манежа. В списке труппы теперь числилась только семья директора: жена, две замужние дочери и одна незамужняя, два зятя и один дальний родственник, который выполнял обязанности билетера и распоряжался униформистами. Семь членов труппы чередовались на манеже в самых различных номерах: эквилибристике, сальто-мортале, глотании шпаг и огня, хождении по проволоке, карточных фокусах, упражнениях на шестах, выкрашенных в черный цвет, и акробатике. Старый директор был клоуном, фокусником и играл на пиле, под музыку которой танцевали три его дочери. Вся семья объединялась во второй части программы для представления «Дочери клоуна» — смеси клоунады и мелодрамы, «веселой и трогательной трагикомедии, которая заставляет почтенную публику хохотать и рыдать». Как они добрались до Ильеуса, одному богу известно. Здесь они надеялись заработать хотя бы на пароходные билеты до Баии, где они могли бы присоединиться к какому-нибудь более преуспевающему цирку. В Итабуне семья почти нищенствовала. Деньги на проезд добыли три дочери две замужние и незамужняя, еще несовершеннолетняя, — они танцевали в кабаре.
Туиска был послан циркачам божественным провидением: он отвел несчастного директора к полицейскому комиссару, чтобы получить освобождение от налога, взимаемого полицией; к Жоану Фулженсио, чтобы напечатать программу в кредит; к сеньору Кортесу, хозяину кинотеатра «Витория», чтобы взять в бесплатное пользование старые стулья, ненужные после реконструкции кинотеатра, и в заслуживший недобрую славу кабак «Дешевая кашаса» на улице Сапо, чтобы нанять, по его совету, униформистов среди тамошнего жулья.
За все это Туиска получил роль слуги в пьесе «Дочь клоуна» (артист, исполнявший ранее эту роль, оставил цирк в Итабуне, не получив причитавшегося ему жалованья, и сменил арену на прилавок магазина).
— Директор прямо обалдел, когда по его просьбе я повторил свою реплику, я все сказал правильно. А ведь он еще не видел, как я танцую…
Габриэла радостно хлопала в ладоши, слушая рассказ Туиски о перипетиях минувшего дня и новости из волшебного мира цирка.
— Ты станешь настоящим артистом, Туиска. Завтра я буду сидеть в первом ряду. Я приглашу дону Арминду, — говорила она, — и попрошу сеньора Насиба, чтобы он тоже пошел. Он, конечно, сможет пойти, ненадолго оставив бар, чтобы посмотреть на тебя… Я буду хлопать так, что отобью себе руки.
— Мать тоже пойдет. Я ее проведу без билета. Может быть, после того, как она увидит меня на арене, она позволит мне уйти с ними. Только это очень бедный цирк… У них так плохо с деньгами. Они готовят себе еду прямо в цирке, чтобы не тратиться на гостиницу.
Но у Габриэлы было вполне определенное мнение о цирках:
— Все цирки хорошие. Возможно, этот рассыплется на части, но все равно он хороший. Больше всего на свете я люблю цирковые представления. Они мне страшно нравятся. Завтра я обязательно приду и буду хлопать изо всех сил. Я приведу с собой сеньора Насиба. Можешь не сомневаться.
В ту ночь Насиб вернулся очень поздно. Посетители сидели в баре до рассвета. После окончания сеансов в кино вокруг поэта Аржилеу Палмейры собралось много народу. Поэт пообедал у капитана, нанес кое-кому визиты, продал еще несколько экземпляров «Топазов» и был совершенно очарован Ильеусом. Нищенский цирк, который он увидел в порту, разумеется, не мог составить ему конкуренции. Беседа в баре затянулась до глубокой ночи, поэт доказал, что пить он умеет.
Он называл кашасу «нектаром богов» и «абсентом метисов». Потом Ари Сантос прочитал свои стихи и получил похвалу именитого гостя:
— Какое глубокое вдохновение и безупречная форма!
После настойчивых просьб прочел свои стихи и Жозуэ. Он читал модернистские поэмы, чтобы шокировать маститого поэта. Но тот не был шокирован:
— Великолепно. Я не разделяю взглядов футуристов, но аплодирую таланту, в каком бы лагере он ни находился. Какая сила, какие образы!
Жозуэ сдался: в конце концов имя Аржилеу всем известно, у него немало изданных книг, он даже делает дарственные надписи. Жозуэ поблагодарил поэта за лестный отзыв и попросил разрешения прочитать еще одно из последних своих произведений. В течение вечера Глория не раз нетерпеливо выглядывала из окна, наблюдая за баром. И вот она увидела и услышала, как Жозуэ стоя декламирует стихи, где в изобилии упоминаются груди, ягодицы, голые животы, грешные поцелуи и объятия и воспеваются невероятные вакхические оргии. Аплодировал даже Насиб. Доктор упомянул имя Теодоро де Кастро. Аржилеу поднял рюмку:
— Теодоро де Кастро, великий Теодоро! Я склоняюсь перед певцом Офенизии и пью за его светлую память.
Все выпили. Поэт принялся вспоминать отрывки из поэм Теодоро, то и дело искажая текст:
Средь ночи при серебряной луне томится Офенизия в окне.— Рыдает… — поправил доктор.
За историей Офенизии, которую вспомнили среди тостов, последовали и другие, всплыли имена Синьязиньи и Осмундо, потом пошли анекдоты. Насиб так смеялся… Капитан обратился к своему неистощимому репертуару. Знаменитый поэт тоже неплохо рассказывал. Его громкий голос прерывался раскатистым хохотом, который разносился по площади и, отдаваясь эхом, замирал в скалах. Оживленно и шумно было и — в комнате для игры в покер: Амансио Леал играл с Эзекиелом, сирийцем Малуфом, Рибейриньо и Мануэлем Ягуаром.
Насиб пришел домой усталый, до смерти хотелось спать. Он растянулся на кровати, Габриэла проснулась, как и каждый раз, когда он возвращался из бара:
— Насиб… Как поздно… Ты слышал новость?
Насиб зевнул, он смотрел на ее тело, темневшее на простынях, в этом теле каждую ночь для него возрождалась тайна; легкое пламя желания затеплилось между усталостью и сном.
— Я ужасно хочу спать. Какая еще новость?
Он растянулся на кровати, положил ногу на бедро Габриэлы.
— Туиска теперь артист.
— Артист?
— Ну да, в цирке. Он будет участвовать в представлении…
Рука араба устало поднималась вверх по ее ногам.
— Представлять? В цирке? Не понимаю, о чем ты говоришь.
— А чего ж тут понимать? — Габриэла села, в кровати — разве можно молчать о таких сенсационных событиях? — Он забегал к нам после обеда и рассказал… — Она пощекотала заснувшего Насиба, чтобы разбудить его, и это ей удалось.
— Хочешь? — Насиб довольно рассмеялся. — Ну что ж…
Но она рассказывала о Туиске и о цирке: — Ты бы мог пойти завтра со мной и с допой Арминдой посмотреть Туиску? Оставь бар ненадолго, ничего не случится.
— Завтра не выйдет. Завтра мы с тобой идем на литературный вечер.
— Куда?
— На литературный вечер, Биэ. Приехал один образованный человек, поэт. Он сочиняет стихи ив них пишет все, что чувствует. Он очень знающий, достаточно сказать, что он дважды бакалавр… Необыкновенно ученый… Сегодня все посетители вертелись вокруг него. Он мастер поспорить и здорово читает стихи… Просто поразительно! Завтра он будет делать доклад в префектуре. Я купил два билета для нас с тобой.
— А что такое — доклад?.
Насиб покрутил усы:
— Это тонкая штука, Биэ.
— Лучше, чем кино?
— Более сложная…
— Лучше, чем цирк?
— Даже сравнивать нельзя. Цирк — это для ребят. Правда, если в программе есть хорошие номера, можно посмотреть. Но такие вечера, как завтра, бывают не часто.
— А что там будет? Музыка, танцы?
— Музыка, танцы… — Насиб рассмеялся. — Тебе еще многое надо узнать, Биэ. Ничего этого там не будет.
— А что же там будет, если это лучше кино, лучше цирка?
— Я тебе сейчас объясню. Послушай. На таких вечерах кто-нибудь выступает — поэт или бакалавр, который читает о чем-нибудь.
— О чем?
— Ну так, о чем-нибудь. Этот будет говорить о тоске и слезах. Он говорит, а мы слушаем.
Габриэла испуганно открыла глаза:
— Он говорит, а мы слушаем? А потом? — Потом он кончает, а мы хлопаем.
— Только и всего? И ничего больше?
— И ничего больше, но все дело в том, что он говорит.
— А что он говорит?
— Красивые слова. Иногда говорят непонятно, толком и не разберешь. Но если оратор получше…
— Он говорит, а мы слушаем… И ты сравниваешь это с кино или с цирком, подумать только! А еще такой образованный! Ведь лучше цирка ничего не может быть.
— Послушай, Биэ, я уже тебе говорил, теперь ты не какая-нибудь служанка. Теперь ты сеньора. Сеньора Саад. Ты должна понять это. Будет литературный вечер, там выступит выдающийся поэт. Соберется весь цвет Ильеуса. Мы тоже должны пойти. Нельзя пренебречь таким важным делом ради того, чтобы отправиться в цирк, в этот паршивый балаган.
— Неужели нельзя? Но почему?
Ее огорченный голос растрогал Насиба. Он приласкал Габриэлу:
— Потому что нельзя, Биэ. Что скажут люди? Что скажет общество? Этот идиот Насиб — невежа, он не пошел на выступление поэта, а отправился смотреть какой-то бродячий цирк. А потом? В баре все будут обсуждать выступление поэта, а я стану рассказывать глупости о цирке?
— Теперь я поняла… Ты не можешь… Жаль… Бедный Туиска. Ему так хотелось, чтобы сеньор Насиб пришел. И я обещала. Но тебе нельзя, ты прав. Я скажу Туиске. И буду хлопать за себя и за сеньора Насиба. — Габриэла засмеялась, прижавшись к Насибу.
— Послушай, Биэ, тебе надо многому учиться, ты сеньора. Тебе нужно жить и вести себя как подобает супруге коммерсанта, а не простой женщине. Тебе надо бывать всюду, где бывает цвет общества, чтобы наблюдать и учиться, а ты ведь сеньора.
— Значит, я не могу?
— Что?
— Пойти завтра в цирк. С доной Арминдой.
Он отнял руку, которой гладил ее:
— Я уже сказал тебе, что купил билеты для нас обоих.
— Он говорит, а мы слушаем… Мне это не нравится. Я не люблю этот твой цвет общества. Все разодетые, а от женщин меня прямо тошнит, не нравятся они мне. А в цирке так хорошо! Позволь мне сходить в цирк, Насиб. Слушать поэта я пойду в другой раз.
— Нельзя, Биэ. — Он снова погладил ее. — Поэт выступает не каждый день…
— И цирк тоже…
— Ты не можешь не пойти на вечер. И так меня уже спрашивают, почему ты никуда не ходишь. Все говорят, что это нехорошо.
— Но я же хочу ходить в бар, в цирк, гулять по улице.
— Ты хочешь бывать только там, где тебе нельзя бывать. Когда ты наконец поймешь, что ты моя жена, что мы с тобой поженились и что ты супруга солидного, обеспеченного коммерсанта? Что ты уже не…
— Ты рассердился, Насиб? Почему? Я же ничем не провинилась.
— Я хочу, чтобы ты была достойной сеньорой, принятой в высшем обществе. Хочу, чтобы все тебя уважали и относились к тебе как полагается. Пусть они забудут, что ты была кухаркой, что ходила босиком, пришла в Ильеус с беженцами, и что в баре к тебе относились непочтительно. Понятно?
— Я не привыкла ко всему этому. Это общество такую тоску на меня нагоняет. Что ж я могу поделать?
Кто родился медяком, золотым не станет.
— Будешь учиться. А ты думаешь, кто эти намазанные сеньоры? Работницы с плантаций. Просто они кое-чему научились.
Наступила тишина, сон снова начал овладевать Насибом, рука его покоилась на теле Габриэлы.
— Позволь мне пойти в цирк, Насиб. Только завтра…
— Не пойдешь, я уже сказал. Будешь со мной на вечере, и хватит разговоров.
Он повернулся спиною к Габриэле и натянул на себя простыню. Ему не хватало ее тепла, он привык спать, положив ногу ей на бедро. Но он должен был показать ей, что рассержен ее упрямством. До каких пор Габриэла будет уклоняться от участия в жизни общества? Когда она начнет вести себя как подобает порядочной женщине, его жене? В конце концов, он не какой-нибудь бедняк, он сеньор Насиб А. Саад, с которым считаются на бирже, хозяин лучшего в городе бара, секретарь Коммерческой ассоциации, у него счет в банке, все влиятельные люди Ильеуса — его друзья.
Последнее время поговаривали даже об его избрании в правление клуба «Прогресс». А Габриэла сидит дома, но если и выходит, то лишь в кино с доной Арминдой или на воскресную прогулку с ним, словно ничего не изменилось в ее жизни, словно она все та же Габриэла без роду и племени, которую он нашел на невольничьем рынке, словно она не стала сеньорой Саад.
После долгой борьбы Насибу все же удалось убедить ее не являться с судками в бар, — она даже плакала. Но еще труднее было заставить Габриэлу носить обувь.
Насиб просил ее не говорить громко в кинотеатре, не афишировать свою дружбу со служанками, не пересмеиваться, как прежде, с посетителями бара, не вкалывать розу в волосы, когда они выходят погулять! А теперь она не хочет идти на литературный вечер из-за какого-то поганого цирка…
Габриэла сжалась в комочек. Почему Насиб вспылил? Он рассердился, повернулся к ней спиной и даже не коснулся ее. Габриэле не хватало привычной тяжести его ноги на бедре. И привычных ласк, и привычной светлой радости. А может, он рассердился на Туиску за то, что тот нанялся артистом, не посоветовавшись с ним? Туиска был неотъемлемой частью бара, там у него стоял ящик со щетками и гуталином, он помогал Насибу в дни большого наплыва посетителей. Нет, Насиб рассердился не на Туиску, а на нее. Он не хотел, чтобы она пошла в цирк, но почему? Он хочет повести ее в большой зал префектуры слушать поэта. А это не по ней! В цирк она могла бы пойти в старых туфлях, в которых так свободно ее растопыренным пальцам.
А в префектуру нужно надевать шелковое платье, надевать новые, тесные туфли. Там соберется вся знать Ильеуса, все эти женщины, которые смотрят на нее свысока и смеются над ней. Нет, она не хочет идти туда. И почему Насиб так настаивает? Он не пожелал, чтобы она ходила в бар, а ей так там нравилось… Он ее ревновал, но это же смешно… Она перестала туда ходить, исполнила его каприз и, боясь его обидеть, держалась скромно. Но зачем заставлять ее делать то, к чему у нее не лежит душа, то, что ей противно? Этого она не могла понять. Насиб хороший, кто же в этом сомневается? Кто это отрицает? Но почему он рассердился и отвернулся от нее, когда она попросилась пойти в цирк? Он сказал, что она теперь сеньора, сеньора Саад. Но она не сеньора, она Габриэла. И высшее общество ей не нравится. Вот молодые люди из высшего общества — другое дело… Но и они ей не нравились, когда собирались по какому-нибудь важному делу. Тогда они были такие серьезные, не шутили с ней, не улыбались. Ей нравится цирк — в мире нет ничего лучше цирка. А тем более если в представлении участвует Туиска… Она просто умрет с горя, если не увидит его на манеже… Прямо хоть убежать тайком.
Беспокойно ворочаясь во сне, Насиб положил ногу на бедро Габриэлы и сразу успокоился. Она почувствовала привычную тяжесть и не захотела его обидеть.
На следующий день, уходя в бар, Насиб предупредил Габриэлу:
— После аперитива я приду домой пообедать и приготовиться к вечеру. Я хочу, чтобы ты пошла туда нарядная, в красивом платье, чтобы все женщины тебе завидовали.
Да, поэтому он и покупал ей без конца шелковые платья, туфли, шляпы, даже перчатки. Он дарил ей кольца, ожерелья из настоящих драгоценных камней, браслеты. Он не жалел денег, он хотел, чтобы она была одета как самые богатые сеньоры, будто это сотрет ее прошлое, скроет ожоги, полученные у кухонной плиты, и манеры простой служанки. Платья Габриэлы висели в шкафу, а она расхаживала По дому в ситцевом халатике, в шлепанцах или босая, готовила, убирала или сидела с котом. Что толку, что он нанял двух служанок? Горничную Габриэла прогнала, на что ей горничная? Правда, она согласилась отдавать белье в стирку Раймунде, матери Туиски, но и то лишь ради того, чтобы дать ей заработать. Да и девочке на кухне нечего было делать.
Габриэла не хотела обидеть Насиба. Вечер в префектуре был назначен на восемь часов, и начало представления в цирке тоже в восемь. Дома Арминда сказала, что такие вечера длятся обычно не больше часа, а Туиска выступал во второй половине программы.
Жалко, конечно, было пропустить первую — клоуна, номер на трапеции, девушку на проволоке. Но она не хотела обижать мужа, не хотела его сердить.
Под руку с Насибом, нарядная, как принцесса, в голубом свадебном платье, в тесных туфлях, она прошла по улицам Ильеуса и неловко поднялась по лестнице префектуры. Араб остановился поздороваться с друзьями и знакомыми, дамы оглядывали Габриэлу с ног до головы, перешептывались и улыбались. Она чувствовала себя неловко, была смущена и напугана.
В актовом зале было много мужчин, они стояли, а в глубине помещения сидели дамы. Насиб отвел Габриэлу во второй ряд, усадил ее и отошел в сторону, где стоя беседовали Тонико, Ньо Гало и Ари. Габриэла сидела, не зная что делать. Рядом с ней находилась жена доктора Демосфенеса, чванная особа с лорнетом и в мехах, — в такую-то жару! — она бросила на Габриэлу быстрый взгляд, отвернулась и завязала разговор с женой прокурора. Габриэла принялась рассматривать зал, он был очень красивый, даже глаза заболели. Потом она повернулась к жене врача и спросила:
— А когда это кончится?
Кругом засмеялись. Габриэла почувствовала себя совсем неловко. Зачем Насиб заставил ее прийти? Все ей так не нравится.
— Еще и не начиналось.
Наконец какой-то грузный мужчина в сорочке с накрахмаленной грудью поднялся вместе с Эзекиелом Прадо на эстраду, где стояли два стула и столик с графином и стаканом. Все захлопали, Насиб уселся рядом с Габриэлой. Сеньор Эзекиел поднялся, откашлялся и налил воды в стакан.
— Уважаемые дамы и господа! Сегодняшний день — незабываемая дата в календаре интеллектуальной жизни Ильеуса. Наш культурный город с гордостью и волнением принимает выдающегося поэта Аржилеу Палмейру, вдохновенное выступление которого, посвященное…
И пошел, и пошел… Он говорил, сидевшие в зале слушали. Слушала и Габриэла. Время от времени в зале хлопали, она тоже. Она думала о цирке должно быть, представление уже началось. К счастью, там всегда опаздывали, по крайней мере на полчаса. До замужества она дважды побывала с доной Арминдой в «Большом балканском цирке». Назначенное на восемь представление обычно начиналось лишь в половине девятого, а то и позже. Габриэла посмотрела на громадные, как шкаф, часы в глубине зала. Они громко тикали, и это ее развлекало. Сеньор Эзекиел говорил красиво, правда, слов она не разбирала. Голос адвоката журчал, переливался, убаюкивал, навевая сон. Но заснуть мешало тиканье часов, стрелки которых медленно двигались. Громкие аплодисменты нарушили дремоту Габриэлы, встрепенувшись, она спросила Насиба:
— Уже кончилось?
— Вступительное слово. Сейчас будет выступать поэт.
Толстяк в накрахмаленной сорочке поднялся, ему зааплодировали. Он вытащил из кармана огромный лист бумаги, разгладил его, откашлялся, как сеньор Эзекиел, только погромче, и отхлебнул из стакана. По залу пронесся его громовой голос:
— Любезные сеньориты — букеты цветущего сада, каковым является ваш Ильеус! Добродетельные сеньоры, покинувшие священное убежище семейного очага, чтобы послушать меня и поаплодировать мне! Достопочтенные сеньоры, создавшие на берегу Атлантики ильеусскую цивилизацию!..
Толстяк сыпал словами, иногда останавливаясь, чтобы выпить воды, откашляться, вытереть платком пот. Казалось, он никогда не кончит. Его речь была полна поэзии. Несколько громовых фраз, потом голос оратора смягчался, следовала трагическая тирада:
— Слезы матери над трупом маленького сына, которого всемогущий на небо призвал, — это священные слезы. Услышал я: «Слеза материнская, слеза…»
Теперь задремать почти не удавалось. Габриэла закрывала глаза, как только начиналось чтение стихов, отводила взгляд от часов и старалась не думать о цирке. Вдруг стихи кончились, но голос поэта тут же загремел с новой силой. Габриэла вздрогнула и спросила Насиба:
— Уже кончает?
— Тс! — зашипел Насиб.
Но и ему хотелось спать, Габриэла это видела. Несмотря на то что он делал вид, будто слушает внимательно, вперив взгляд в поэта, несмотря на усилия, которые он прилагал, чтобы не задремать, когда тот читал особенно длинные стихотворения, он моргал, и глаза его слипались. Насиб просыпался, когда начинали аплодировать, тоже хлопал в ладоши и говорил, обращаясь к сидевшей рядом супруге доктора Демосфенеса:
— Какой талант!
Габриэла смотрела на стрелки часов — девять часов, десять минут десятого, четверть десятого. Первая половина циркового представления, должно быть, уже подходит к концу. Даже если оно и началось в половине девятого, то кончится все равно не позже половины десятого. Правда, будет антракт, возможно, она и успела бы увидеть второе отделение, где будет выступать Туиска. Только этот поэт, видно, никогда не кончит.
Русский Яков спал, сидя на стуле. Мистер, который поместился около двери, давно исчез. Тут антракта не было. Никогда ей не приходилось присутствовать на таком скучном вечере. Толстяк выпил воды, ей тоже захотелось пить.
— Я хочу пить…
— Тс…
— Когда это кончится?
Поэт переворачивает листы один за другим и подолгу читает каждый из них. Если Насибу тоже не правится, если он дремлет, то зачем же он пришел?
Очень странно, ведь он заплатил за билеты, оставил без присмотра бар, не пошел в цирк. Габриэла не понимала… И еще рассердился, повернулся к ней спиной, когда она попросилась в цирк. Очень странно!
Громкие, несмолкающие аплодисменты, задвигались стулья, все направились к эстраде. Насиб повел туда Габриэлу. Поэту жали руку, говорили комплименты:
— Замечательно! Восхитительно! Какое вдохновение! Какой талант!
Насиб тоже заявил:
— Мне очень понравилось…
Ничего ему не понравилось, он говорил неправду, она знала, когда ему нравится. Он даже задремал, зачем же он врет? Они стали прощаться со знакомыми.
Доктор, сеньор Жозуэ, сеньор Ари, капитан не отпускали поэта. Тонико подошел с доной Олгой, снял шляпу.
— Добрый вечер, Насиб. Как поживаете, Габриэла?
Дона Олга улыбалась. Сеньор Тонико держался чрезвычайно корректно.
Этот сеньор Тонико, редкий красавчик, самый красивый мужчина в Ильеусе, был очень ловким парнем.
В присутствии доны Олги он превращался в святого.
Но когда ее не было, он становился сладкоречивым влюбленным, прижимался к Габриэле, называл ее «красоткой», посылал ей воздушные поцелуи. Он поднимался на Ладейру и останавливался у ее окна, если она была дома. После свадьбы он стал называть Габриэлу «доченькой». Именно он, по его словам, убедил Насиба жениться на Габриэле. Тонико приносил ей конфеты, не сводил с нее глаз, брал за руку. Интересный молодой человек и на редкость красивый.
По улице гулял народ. Насиб торопился — в баре сейчас много посетителей. Габриэла же спешила в цирк. Насиб не стал провожать ее домой, простился на пустынном склоне. Едва он завернул за угол, как она чуть не бегом повернула назад. Нужно было пройти так, чтобы ее не увидели из бара, поэтому Габриэла не хотела идти по дороге через Уньан. Она пошла по набережной; сеньор Мундиньо в это время входил в дверь своего дома и остановился взглянуть на Габриэлу. Она обогнула бар и поспешила к порту. Там Габриэла увидела убогий, плохо освещенный цирк. Деньги у нее были зажаты в кулаке, но никто не продавал билетов.
Габриэла раздвинула брезент и вошла. Второе отделение уже началось, но она не видела Туиски. Она села на галерке и стала внимательно смотреть. Как интересно! И вот появился Туиска, такой смешной в одежке невольника. Габриэла захлопала в ладоши и, не удержавшись, крикнула:
— Туиска!
Негритенок не услышал. Представление было грустное: несчастного клоуна бросила неверная жена. Но были и веселые места, когда все смеялись; смеялась и Габриэла, аплодируя Туиеке. Вдруг она ощутила на затылке дыхание мужчины и услышала голос:
— Что вы тут делаете, милочка?
Рядом с ней стоял сеньор Тонико.
— Я пришла посмотреть Туиску.
— А если Насиб узнает…
— Он не узнает… Я не хочу, чтобы он узнал. Он такой хороший.
— Не беспокойтесь, я не скажу.
Как быстро все кончилось, а ведь было так интересно!
— Я провожу вас…
У выхода он сказал (ох и ловкач этот сеньор Тонико!):
— Пойдем через Уньан, проберемся по холму, чтобы не идти мимо бара.
Они быстро зашагали. Потом не стало фонарей, а сеньор Тонико все говорил, и голос у него был такой вкрадчивый. Он самый; красивый мужчина в Ильеусе.
О кандидатах и водолазах
В течение нескольких месяцев зрелище повторялось почти ежедневно, и все же жителям Ильеуса не надоедало любоваться водолазами. В скафандрах из металла и стекла они казались существами с другой планеты, высадившимися в бухте. Они погружались в воду там, где море соединялось с рекой. Вначале весь город выходил к причалам у холма Уньан, чтобы увидеть их поближе. Действия водолазов, их спуск под воду, работа насосов, водовороты, пузыри воздуха, идущие Из глубины, — все сопровождалось восклицаниями. Приказчики уходили от прилавков, грузчики бросали мешки с какао, кухарки — кастрюли, швеи — шитье, Насиб — свой бар. Некоторые нанимали лодки и целый день крутились вокруг буксиров. Главный инженер, краснолицый холостяк (Мундиньо попросил министра прислать на этот раз неженатого, чтобы избежать неприятностей), громким голосом отдавал приказания.
Дона Арминда поражалась при виде чудовищ в скафандрах:
— Чего только не придумают! Ведь если я расскажу об этом покойному супругу во время сеанса, он назовет меня лгуньей. Не дожил, бедняга, а то бы сам посмотрел.
— И я бы никогда не поверила, если бы не увидела это собственными глазами. Надо же — опуститься на дно морское… Ни за что не поверила бы, — признавалась Габриэла.
Люди теснились на причале Уньан, на самом солнцепеке, а солнце с каждым днем жгло все сильнее.
Сбор урожая подходил к концу, какао сохло в баркасах и в печах, наполняло склады экспортных фирм и трюмы пароходов компаний «Баияна», «Костейра» и «Ллойд». Когда один из этих пароходов входил в порт или покидал его, буксиры и землечерпалки отходили в сторону, освобождая проход, но тут же снова возвращались на место — работы велись ускоренными темпами. Водолазы были крупнейшей сенсацией этого сезона.
Габриэла рассказывала доне Арминде и негритенку Туиске:
— Говорят, на дне моря красивее, чем на земле. Там все есть: и холм больше Конкисты, и разноцветные рыбы, и подымные луга, где они пасутся, и сад с цветами… красивее, чем сад префектуры. Там даже есть деревья и другие растения, и даже город. И затонувший пароход.
Негритенок Туиска усомнился:
— По-моему, там один песок да затонувшие деревья барауна.
— Дурачок. Я же говорю о глубоких местах, которые далеко от берега. Мне это рассказывал один молодой человек, студент, он читал много книг и знал все на свете. Я была служанкой в их доме. Он мне многое рассказывал… Габриэла улыбнулась.
— Какое совпадение! — воскликнула дона Арминда. — Я недавно видела во сне молодого человека, который стучался в дверь дома сеньора Насиба. В руках у него был веер, и он все время закрывал им лицо, а спрашивал тебя.
— Типун вам на язык, дона Арминда! Неужели это вещий сон?
Весь Ильеус интересовался ходом работ в порту.
Восхищение и изумление вызывали не только водолазы, но и землечерпалки. Они выгребали песок, углубляли дно бухты, прорывали и расширяли проходы.
Шум, который они производили, был похож на грохот землетрясения, будто эти машины переворачивали самую жизнь города, навсегда преображая ее.
Прибытие землечерпалок изменило соотношение политических сил в Ильеусе. Авторитет полковника Рамиро Бастоса, и без того значительно поколебленный, грозил рухнуть от мощного удара, нанесенного ему землечерпалками и буксирами, экскаваторами и инженерами, водолазами и техниками. Каждый ковш песку, поднятого со дна, по словам капитана, лишал полковника Рамиро еще десятка голосов. Политическая борьба стала острее и ожесточеннее с того вечера, когда прибыли буксиры (в тот день состоялась свадьба Насиба и Габриэлы). Да и сам вечер был тревожным: соратники Мундиньо торжествовали победу, сторонники Рамиро Бастоса бормотали угрозы. В кабаре произошла драка. Дону Тыкву ранили в бедро, когда, стреляя по лампам, ворвались Блондинчик и жагунсо. Если они, — а это по всему было видно, — замышляли избить старшего инженера, чтобы он убрался из Ильеуса, то их план провалился. В суматохе капитану и Рибейриньо удалось вывести краснолицего инженера, который, впрочем, дрался не так уж плохо бутылкой виски он разбил своему противнику голову Как потом рассказывал сам Блондинчик, план был разработан плохо и к тому же в спешке.
На другой день «Диарио де Ильеус» взывала к небесам: «Старые хозяева края, заранее чувствуя себя побежденными, снова прибегли к тем способам, которые применялись двадцать — тридцать лет назад!
Сбросив маски, они оказались, как и прежде, главарями жагунсо, и только! Но они ошибаются, думая, что напугают квалифицированных инженеров и техников, которым правительство поручило углубление фарватера бухты, благодаря усилиям достойного вдохновителя прогресса Раймундо Мендеса Фалкана и вопреки антипатриотическим воплям захвативших власть разбойников. Нет, никого они не испугают! Сторонники развития какаового района отвергают подобные методы борьбы. Но если они все же будут втянуты в сражение своими гнусными противниками, то сумеют дать им надлежащий отпор. Ни одного инженера не удастся больше выжить из Ильеуса. На этот раз не помогут никакие обстоятельства, никакие угрозы». Статья в «Диарио де Ильеус» вызвала сенсацию.
С фазенд Алтино Брандана и Рибейриньо прибыли наемники-жагунсо. Инженеры в течение некоторого времени ходили по улицам в сопровождении этих странных телохранителей. Прославившийся своими бандитскими повадками косоглазый Блондинчик распоряжался людьми Амансио Леала и Мелка Тавареса, среди которых был негр по имени Фагундес. Но, если не считать нескольких потасовок в публичных домах и темных переулках, ничего серьезного не произошло.
Работы продолжались, рабочими с буксиров и землечерпалок по-прежнему восхищался весь город.
Все больше фазендейро присоединялось к Мундиньо Фалкану. Сбылось предсказание полковника Алтино: у Рамиро Бастоса оставалось все меньше и меньше сторонников. Его сыновья и друзья правильно оценивали создавшееся положение. Теперь они надеялись только на связи Рамиро в правительственных кругах и на то, что там не признают победы оппозиции, если она будет одержана. Об этом говорили оба сына полковника Бастоса (доктор Алфредо тоже находился сейчас в Ильеусе) и два его самых преданных друга — Амансио и Мелк, которое должны были подготовить выборы по старому способу: обеспечив контроль над избирательными пунктами, участками и списками. Испытанный способ, требовавший наименьших затрат. Таким образом, победа в провинции будет обеспечена. К сожалению, в Ильеусе и в Итабуие — наиболее крупных городах — теперь подобные методы применять рискованно. Алфредо рассчитывал на категорические заверения губернатора, что Мундиньо и его люди никогда не добьются признания, даже если получат на выборах подавляющее большинство голосов. Нет, губернатор не согласится отдать какаовую зону, самую богатую и многообещающую зону штата, в руки честолюбивых оппозиционеров, сторонников Мундиньо. Нелепо даже думать об этом.
Старый полковник слушал, положив подбородок на золотой набалдашник палки. Его погасшие глаза сузились. Такая победа хуже поражения. Раньше он не нуждался в помощи губернатора. Он всегда сам выигрывал сражение, за него голосовали все. И еще ни разу ему не приходилось лишать противников полномочий после выборов. А теперь Алфредо и Тонико, Амансио и Мелк говорили об этом спокойно и не понимали, какому тяжелому унижению они его подвергают.
— Нет, до этого дело не дойдет. Мы победим при голосовании!
То, что Мундиньо Фалкан выставил свою кандидатуру в федеральную палату, воодушевило его противников. Несомненно, для них было бы гораздо опаснее, если бы он стал баллотироваться на пост префекта.
Ведь он приобрел популярность в Ильеусе, стал влиятельным лицом. Значительная часть городских избирателей, если не абсолютное большинство, голосовала бы за него, и он был бы избран почти наверняка.
— Обеспечить результаты выборов прежним способом теперь очень трудно, заметил Мелк Таварес.
Однако избрание Мундиньо в федеральную палату зависит от результатов голосования по всему седьмому избирательному округу, в который входит не только Ильеус, но и Белмонте, и Итабуна, и Канавиейрас, и Уна — какаовые муниципалитеты, выставляющие двух Депутатов. За одного из них голосуют Итабуна, Ильеус и Уна. Уну, собственно, считать нечего, голосов там совсем немного. Но Итабуна значила теперь почти столько же, сколько Ильеус, а там единовластно правил полковник Аристотелес Пирес, целиком обязанный своей политической карьерой Рамиро Бастосу. Разве не Рамиро сделал его помощником комиссара в прежнем районе Табокас?
— Аристотелес, — сказал Рамиро, — будет голосовать за того, на кого я укажу.
Федеральные депутаты не зависели от муниципальной политики, и еще меньше — депутаты от столиц штатов. Их кандидатуры рождались в переговорах губернатора и федерального правительства. Нынешний депутат от Ильеуса и Итабуны (второй был избран от Белмонте и Канавиейраса) со времени последних выборов появился в зоне лишь один раз. Это был врач, проживавший в Рио, и ему покровительствовал федеральный сенатор. Занять этот пост у Мундиньо шансов не было никаких. Даже если бы он прошел в Ильеусе, то в Итабуне, Уне и сельских местностях результаты выборов всегда можно подтасовать.
— Это все равно что охотиться без собаки… — заключил Амансио.
— Он должен провалиться! Наша задача разгромить его, и начнем мы с Ильеуса. Он должен быть разгромлен наголову, — требовал Рамиро.
Противники Бастоса, видимо, выставят на пост префекта капитана, а в палату штата — Эзекиела Прадо.
К кандидатуре адвоката Рамиро не относился всерьез.
Безусловно, будет избран Алфредо. Эзекиелу по плечу лишь судебные дела, разные темные махинации да еще речи на праздниках. К. тому же он слишком прославился своими похождениями, попойками и скандалами с женщинами. А ведь ему, как и Мундиньо, нужно собрать голоса по всему избирательному округу.
— Он не представляет опасности, — утверждал Амансио.
— Это послужит ему уроком за то, что переметнулся к противнику…
Избрание же капитана целиком зависело от голосования в муниципалитете Ильеуса. Он был опасным противником, и сам Рамиро признавал это. Капитана нужно победить в провинции, поскольку в городе он может пройти. Его отца, Казузинью, смещенного Бастосами, в Ильеусе помнили как порядочного человека и образцового администратора. Это он впервые замостил улицу брусчаткой — она и поныне носит название улицы Параллелепипедов. Разбил первую площадь, посадил первый сад. Он был честен до фанатизма и остался верен Бадаро, истратив все, что имел, на безнадежную борьбу с Бастосами. Его имя до сих пор было символом благородства и самоотверженности.
Впрочем, авторитет капитана объяснялся не только доброй славой его отца — он и сам пользовался у населения Ильеуса большой симпатией. Местный уроженец, он долго жил в больших городах, и это наложило на его облик печать цивилизации, был признанным оратором и влиятельным в Ильеусе лицом. От отца капитан унаследовал пристрастие к пафосу и героическим жестам.
— Опасная кандидатура… — не мог не признать Тонико.
— У него много друзей, и он очень популярен, — согласился Мелк.
— Все зависит от того, кто будет нашим кандидатом.
Рамиро Бастос назвал Мелка — ведь он уже был председателем муниципального совета. Кум Амансио еще раньше отказался занять какой-либо политический пост, поэтому баллотироваться ему не предлагали. Но Мелк тоже отказался:
— Благодарствую, но это мне ни к чему. По-моему, на таком посту вообще должен быть не фазендейро…
— Почему же?
— Потому что люди хотят видеть у власти более образованных деятелей, говорят, что фазендейро некогда заниматься управлением города, да к тому же мы, как правило, мало смыслим в этом. Откровенно говоря, они не так уж неправы. Времени у нас действительно не хватает…
— Правильно, — сказал Тонико. — Люди требуют более деятельного префекта, он должен быть горожанином.
— Так кто же?
— Тонико! Почему бы не он? — предложил Амансио.
— Я?! Избави боже! Я не создан для власти. Если я и занимаюсь немного политикой, то только из-за отца. Нет, нет, я не могу быть префектом. Меня вполне Устраивает моя контора.
Рамиро пожал плечами — не стоило и обсуждать подобное предложение. Тонико в префектуре… Разве только для того, чтобы здание муниципалитета наводнили проститутки.
— Я вижу только две подходящие кандидатуры, — сказал он. — Либо Маурисио, либо доктор Демосфенес. Больше мы никого не можем выставить.
— Доктор Демосфенес живет в Ильеусе только четыре года. Он приехал позднее Мундиньо. Он не тот человек, которого можно было бы противопоставить капитану, — возразил Амансио.
— А я считаю, что он лучше Маурисио. По крайней мере, он довольно известный врач, хлопочет о постройке больницы. У Маурисио же много врагов.
Они взвесили шансы обоих кандидатов, обсудили достоинства и недостатки того и другого. Предпочтение было отдано адвокату, хотя его скупость и жадность, его переходящий все границы лицемерный пуританизм, его ханжество, его симпатии к священникам делали его в этом краю атеистов непопулярным. Впрочем, и доктор Демосфенес не пользовался особой популярностью. Да, он неплохой врач, но нет в городе более самонадеянного, более кичливого человека, пет более яростного сторонника косных предрассудков.
— Он очень хороший врач, но его хвастовство проглотить труднее, чем слабительное, — выразил Амансио общее мнение. — У Маурисио, правда, немало врагов, но пойдут за ним многие. Он хорошо говорит.
— Он верный человек. — За последнее время Рамиро особенно научился ценить верность.
— И все же он может проиграть.
— А нужно выиграть. И выиграть здесь, в Ильеусе. Я не хочу прибегать потом к помощи губернатора, чтобы обезглавить кого бы то ни было. Я хочу выиграть! — Полковник напоминал сейчас упрямого ребенка, требующего игрушку. — Я брошу все, если мне придется удержаться у власти ценой чужого авторитета.
— Вы правы, кум, — сказал Амансио. — Но для этого народ нужно малость попугать. Пустить в город нескольких наемников.
— Делайте что хотите, но выборы мы должны выиграть!
Они обсудили и кандидатуры в муниципальный совет. От оппозиции обычно избирался один советник.
По традиции это был старый Онорато, оппозиционер только по названию, обязанный Рамиро за какие-то услуги. Со временем он стал большим приверженцем правительства, чем его коллеги по муниципалитету.
— На этот раз они не включили его в список.
— Будет избран доктор. В этом можно не сомневаться.
— Ну что ж. Он дельный человек. Но он один, это еще не оппозиция.
У полковника Рамиро была слабость к доктору. Он восхищался его ученостью, знанием истории Ильеуса, любил слушать его рассказы о прошлом и запутанные предания семейства Авила. Доктор придал бы блеск муниципальному совету и, в конце концов, наверное, стал бы голосовать со всеми, как старый Онорато. Даже теперь, когда прогнозы предстоявшей кампании были не очень утешительными, когда вдали маячила тень поражения, Рамиро все еще оставался первым лицом в городе; он был великолепен как вельможа, когда великодушно отдавал одно место оппозиции и желал видеть, что его занял самый благородный из его противников.
Амансио предрекал победу.
— Положитесь на меня, кум Рамиро. Пока я, слава богу, жив, никто на улицах Ильеуса не будет насмехаться над моим кумом. Они не узнают радости победы на выборах. Положитесь на нас — на меня и Мелка.
Но в эту жаркую весну и друзья Мундиньо стали действовать активнее. Рибейриньо почти не сидел на месте, он ездил из округа в округ и намеревался объездить весь район. Капитан тоже побывал в Итабуне, Пиранжи, Агуа-Прете. По возвращении он посоветовал Мундиньо немедленно отправиться в Итабуну.
— В Итабуне даже дурак не станет голосовать за нас.
— Почему?
— Вы когда-нибудь слышали о правительстве Бразилии, которое пользовалось бы поддержкой населения? Так вот, представьте, оно существует: это правительство полковника Аристотелеса в Итабуне. Он держит в своих руках всех — от полковников до нищих.
Муидиньо удостоверился в правильности этих слов, хотя в Итабуне его приняли очень хорошо. Мундиньо прибыл в своем новом черном автомобиле, вызвавшем сенсацию. Все окна домов на улицах, по которым он проезжал, были заполнены любопытными. Итабунские клиенты давали в честь Мундиньо завтраки и обеды, возили его на прогулки, в кабаре, в клуб «Грапиуна», даже водили по церквам. Но о политике они не говорили. Когда Мундиньо излагал свою программу, они обычно заявляли:
— Если бы я не был связан обещанием, данным Аристотелесу, я, конечно, голосовал бы за вас.
И, к несчастью, с Аристотелесом были связаны все.
На второй день пребывания Мундиньо в Итабуне полковник Аристотелес нанес ему визит. Мундиньо в гостинице он не застал и оставил любезное приглашение зайти в префектуру на чашку кофе. Мундиньо решил принять приглашение.
Полковник Аристотелес Пирес был огромный, смахивающий на метиса мужчина, с лицом, изрытым оспой, смешливый и общительный. Он считался фазендейро средней руки — собирал всего полторы тысячи арроб какао, но влияние его в Итабуне, бесспорно, было велико. Полковник был создан для того, чтобы управлять; казалось, он был рожден для политики. Ни разу с тех пор, как его назначили помощником комиссара, никто, даже крупные фазендейро муниципалитета, не осмеливались оспаривать у него власть.
Аристотелес начал свою деятельность как сторонник семьи Бадаро, но раньше, чем кто-либо другой, увидел приближающийся закат старого хозяина, потерпевшего поражение в борьбе за леса Секейро-Гранде. Он отошел от клана Бадаро, когда покинуть его еще было удобно. И все же его пытались убить, он был на волосок от смерти. Но пуля попала в сопровождавшего его жагунсо. В благодарность за переход на их сторону Бастосы сделали Аристотелеса помощником комиссара тогдашнего Табокаса — поселка, находившегося неподалеку от его собственных плантаций.
И очень скоро нищее местечко стало превращаться в город.
Несколько лет спустя он начал борьбу за отделение Табокаса от Ильеуса и превращение его в муниципалитет Итабуна. Все население Табокаса объединилось под этим знаменем. Полковник Рамиро Бастос пришел в ярость. Между ним и Аристотелесом едва не произошел разрыв. Кто он такой, этот Пирес, кричал Рамиро, чтобы отторгать у Ильеуса эту огромную территорию? Аристотелес, держась еще более покорно и преданно, чем обычно, попытался убедить Рамиро. Тогдашний губернатор, приняв Пиреса в Баие, сказал, что утвердит декрет об отделении Табокаса, если Аристотелес получит согласие Рамиро. Это оказалось нелегко, пришлось вести долгие переговоры, но все же Аристотелес добился своего. Что вы теряете? спрашивал он Рамиро. Образование нового муниципалитета так или иначе неизбежно. Бастос мог отсрочить это, но помешать был не в силах. Почему бы Рамиро, вместо того чтобы бороться против этого движения, не возглавить его? Он, Аристотелес, на посту ли помощника комиссара или на посту префекта, окажет Рамиро всестороннюю поддержку. А ведь речь идет о том, чтобы ему возглавлять не один муниципалитет, а два, только и всего. Рамиро, в конце концов, дал себя убедить и даже приехал на праздник в честь основания новой префектуры. Аристотелес сдержал свое слово: он продолжал поддерживать Рамиро, хоть и затаил в душе горечь унижений, которым его подверг полковник.
К тому же Рамиро продолжал обращаться с ним так, будто Аристотелес все еще был молодым помощником комиссара.
Аристотелес, человек мыслящий и предприимчивый, целиком посвятил себя процветанию Итабуны. Он очистил город от жагунсо, замостил центральные улицы, но при этом не уделял большого внимания площадям и садам. Внешний блеск его не интересовал. Зато он осветил Итабуну, провел водопровод, проложил дороги, соединившие город с поселками, выписал специалистов для ухода за плантациями, основал кооператив производителей какао, предоставил коммерсантам льготы в целях развития торговли, заботился об окрестных районах и за короткое время превратил молодой город в центр обширной территории, простиравшейся вплоть до сертана.
Мундиньо отправился в префектуру и застал Пиреса за изучением планов нового моста через реку, который должен был связать обе части города. Полковник, словно ожидал экспортера, велел тотчас же подать кофе.
— Я пришел, полковник, чтобы высказать восхищение вашим городом. Ваша деятельность заслуживает самой высокой похвалы. Кроме того, мне хотелось бы потолковать о политике. Я не люблю быть навязчивым, и, если этот разговор вас почему-либо не интересует, скажите сразу. И еще раз примите мои поздравления.
— Почему не интересует, сеньор Мундиньо? Политика для меня то, что для других — вино. Подумайте сами: если бы не политика, я бы уже давно был богатым человеком. Политика же меня только разоряет. Но я не жалуюсь, мне это нравится. Политика — моя слабость. Детей у меня нет, я не играю, не пью… Женщины… ну, иной раз случается, согрешишь ненароком. — Он засмеялся своим приятным смехом. — Для меня политика значит власть. Другие ею занимаются, чтобы обделывать свои дела, чтобы приобрести влияние. Другие, но не я, можете мне поверить.
— Конечно, верю, Итабуна — лучшее тому доказательство.
— Наибольшее удовлетворение я получаю, когда вижу, как растет Итабуна. В один прекрасный день мы обгоним Ильеус, сеньор Мундиньо. Я не имею в виду город, ведь Ильеус — порт. Но муниципалитет обгоним. В Ильеусе хорошо жить, в Итабуне — хорошо работать.
— Здесь все хорошо отзываются о вас, почитают и уважают. Оппозиции в Итабуне, видимо, не существует.
— Это не совсем так. С полдюжины оппозиционеров наберется… и если как следует поискать, то можно найти и тех, кому я не нравлюсь. Только они не скажут вам почему. Они вас разыскивали. К вам еще не.
обращались?
— Обращались. Знаете, что я им сказал? Кто хочет голосовать за меня, пусть голосует, но точкой опоры в борьбе против полковника Аристотелеса я быть не желаю. В Итабуне замечательный правитель.
— Мне это сразу же стало известно… И я вам благодарен. — Он снова улыбнулся Мундиньо, его широкое лицо излучало тепло. — Я тоже следил за вашей деятельностью, сеньор. И восхищался. Когда закончатся работы в бухте?
— Через несколько месяцев мы будем экспортировать какао прямо из Ильеуса. Работы ведутся самыми стремительными темпами. Но многое еще предстоит сделать.
— История с бухтой дала обильную пищу для разговоров, но эта же история может обеспечить вам победу на выборах. Я изучил этот вопрос, и вот что я вам скажу: нужно ориентироваться на порт в Мальядо, а не на работы по углублению и расширению входа в гавань. Вы можете сколько угодно выгребать песок, а он будет появляться вновь; выход только в строительстве нового порта в Мальядо.
Если Аристотелес ждал, что Мундиньо будет спорить, то он обманулся.
— Я знаю, что окончательное решение проблемы — это порт в Мальядо. Но уверены ли вы, сеньор, что правительство намерено его построить? И сколько лет, по-вашему, понадобится, чтобы дождаться его открытия? Порт в Мальядо потребует тяжелой борьбы, полковник. И неужели все это время какао должно вывозиться через Баию? Кто платит за перевозку? Мы, экспортеры, и вы, фазендейро. Не думайте, что расчистку прохода в бухту я считаю идеальным решением вопроса. Те, кто борется против меня и высказывается за постройку порта, не знают, что мы с ними — единомышленники. Только я полагаю, что лучше, пока нет порта, иметь хотя бы бухту, которой можно пользоваться, чтобы начать прямой экспорт. Но как только закончатся работы в бухте, я начну бороться за сооружение порта. И вот еще что: одна землечерпалка останется в Ильеусе, чтобы поддерживать фарватер в нормальном состоянии.
— Понимаю… — Аристотелес перестал улыбаться.
— Хочу, чтобы вы знали: я занимаюсь политикой по той же причине, что и вы.
— Это большая удача для Ильеуса. Жалко, что вы не распространяете свою деятельность на Итабуну. Если не считать автобусной линии.
— Поле моей деятельности — Ильеус. Но, изберут меня или нет, я намерен значительно расширить свои операции, и в первую очередь в Итабуне. Одна из задач, которые привели меня сюда, состоит в изучении возможности открыть тут филиал экспортной фирмы, и я это сделаю.
Они выпили кофе. Аристотелес с одобрением отнесся к планам Мундиньо.
— Отлично. Итабуне нужны предприимчивые люди.
— Итак, мы обо всем переговорили. Во всяком случае, я, полковник, сказал вам все, что хотел. Я не пришел просить у вас голосов, поскольку мне известно, что вы душой и телом преданы полковнику Рамиро Бастосу. Я был счастлив познакомиться с вами.
— Почему вы так торопитесь? Посидите еще немного… Кстати, кто вам сказал, что я душой и телом предан старому Рамиро?
— Но ведь это все знают… В Ильеусе считают, что ваши голоса решат исход выборов федерального депутата и депутата в палату штата. То есть сеньора Витора Мело и сеньора Алфредо Бастоса.
Аристотелес рассмеялся так, будто услышал что-то очень забавное.
— Вы можете уделить мне еще несколько минут? Я кое-что расскажу вам. Не пожалеете.
Полковник позвал слугу и велел подать еще кофе.
— Этот сеньор Витор, федеральный депутат, страшно важная птица. Правительство навязало его нам, полковник Бастос согласился, ну а что я мог сделать? Не было кандидата, за которого я мог бы голосовать, даже если бы захотел. После смерти сеньора Казузы оппозиция в Ильеусе и Итабуне прекратила свое существование. Так вот, когда сеньора Мело избрали, он заехал к нам ненадолго и, увидев Итабуну, сморщил нос: все тут ему было не по вкусу. Он спросил, что я, черт возьми, делаю, если город не озеленен, если не хватает того-то и того-то. Я ответил, что я не садовник, а префект. Ему это не понравилось. По правде сказать, ему вообще у нас не понравилось. Он не захотел осматривать дороги, водопровод — словом, ничего. У него не было времени. Я пытался просить ассигнований на различные мероприятия. Послал ему десятки писем. Вы думаете, этот господин стал добиваться этих ассигнований? Ничего подобного! Вы думаете, он ответил на мои письма? Ничего подобного! Как великую милость он прислал мне в конце года поздравительную открытку. Говорят, он снова будет выдвинут кандидатом. Но в Итабуне он голосов не получит.
Мундиньо хотел было что-то сказать, но Аристотелес рассмеялся и продолжал:
— Полковник Рамиро по-своему порядочный человек. Это он более двадцати лет назад сделал меня помощником комиссара. Он всюду говорит, что только благодаря ему я стал тем, кем сейчас являюсь. Но хотите знать правду? Он справился с Бадаро только потому, что я пошел за ним. Ходят слухи, что я покинул Бадаро потому, что они проиграли. Но ведь я оставил их, когда они еще были у власти. Они проиграли, это верно, но лишь потому, что уже не могли и не умели управлять. Для них политика была средством к расширению своих земельных владений. И в те времена полковник Рамиро был для них тем, кем сегодня являетесь вы для Бастосов.
— Вы хотите сказать…
— Подождите, я скоро кончу. Полковник Рамиро согласился на отделение Итабуны. Если бы он не согласился или попытался тянуть, правительство начало бы ставить мне палки в колеса. Поэтому я и поддерживал его. Но он думает, что я это сделал из чувства признательности. Когда вы стали вмешиваться в некоторые ильеусские дела, я стал к вам приглядываться. Вчера, когда вы приехали в Итабуну, я сказал себе: ну, теперь к нему пристанет эта шайка разбойников. Посмотрим, что он будет делать, пожалуй, это лучшее испытание. — Аристотелес добродушно засмеялся. — Сеньор Мундиньо Фалкан, если вам нужны мои голоса — они ваши… Взамен я у вас ничего не прошу, это не сделка. Я ставлю только одно условие: позаботьтесь и об Итабуне, ведь в зону какао входит и она. Не забудьте этот заброшенный край.
Мундиньо был так удивлен, что едва смог проговорить:
— Вместе, полковник, мы свернем горы.
— Но пока молчите о том, что я вам сказал. Поближе к выборам я позабочусь, чтобы объявить об этом.
Однако хранить тайну так долго, как подсказывали ему мудрость и осторожность, не удалось. Несколько дней спустя полковник Рамиро пригласил Аристотелеса в Ильеус, чтобы сообщить список кандидатов от правящей партии. Аристотелес переговорил со своими наиболее влиятельными друзьями и отправился на автобусе в Ильеус.
Полковник Рамиро, не пригласив его в гостиную, где стояли стулья с высокими спинками, вручил Пиресу список:
«В федеральные депутаты — сеньор Витор Мело».
Далее следовали другие имена. Аристотелес прочел бумагу медленно, словно по слогам, и вернул ее Бастосу.
— За этого сеньора Витора, полковник, я больше голосовать не буду. Ни за что на свете. Сеньор Витор никуда не годится. Я неоднократно обращался к нему, но он ничего не сделал.
Строгим тоном, будто распекая непослушного ребенка, Рамиро спросил:
— Почему вы не сообщили свои требования мне? Если бы вы действовали через меня, он бы не отказал. Сами виноваты. Что же касается голосования, то он выдвигается от правительства, и мы будем выбирать его. Сам губернатор обещал…
— Но не я же…
— Что вы хотите этим сказать?
— То, что сказал, полковник. За этого субъекта я не голосую.
— А за кого же вы будете голосовать?
Аристотелес окинул комнату взглядом, потом посмотрел в глаза Рамиро:
— За Мундиньо Фалкана.
Старик побледнел и, опираясь на палку, встал на ноги.
— Вы это серьезно?
— Вполне.
— Тогда убирайтесь из моего дома. — Он указал пальцем на дверь. — И поскорее!
Аристотелес вышел как ни в чем не бывало и отправился прямо в редакцию «Диарио де Ильеус». Там он сказал Кловису Косте:
— Можете сообщить, что я присоединился к сеньору Мундиньо.
Вошедшая Жеруза увидела, что Рамиро полулежит в кресле.
— Дедушка! Что с вами? — На ее крик прибежала мать и послала служанок за врачом.
Но старик пришел в себя и попросил:
— Врача не зовите. Не надо. Пошлите за кумом Амансио, да побыстрей.
Врачи заставили его лечь в постель. Доктор Демосфенес объяснял Алфредо и Тонико:
— Он переволновался. Впредь этого следует избегать. Еще один такой приступ — и сердце не выдержит.
Появился Амансио Леал. Посланец старого полковника застал его за обедом, он перепугал всю семью.
Амансио вошел в кабинет Рамиро.
В тот самый час, когда на улицах появился вечерний выпуск «Диарио де Ильеус» с заголовком на всю первую полосу «Итабуна поддерживает программу Мундиньо Фалкана», Аристотелес, осмотрев вместе с экспортером землечерпалки и буксиры в бухте, возвращался на лодке в город. Он видел, как спускаются на дно морское водолазы, как экскаваторы, словно сказочные чудовища, пожирают песок. Он весело рассмеялся. «Мы вместе выстроим порт в Мальядо», — сказал он Мундиньо.
Пуля попала ему в грудь, когда они с Фалканом, миновав пустыри Уньана, подходили к бару Насиба, чтобы выпить.
— Спиртное я не употребляю, — сказал он, и в тот же миг прогремел выстрел. Аристотелес упал.
Какой-то негр бросился бежать по направлению к холму, двое прохожих, очевидцев происшествия, пустились вдогонку. Фалкан подхватил префекта Итабуны, теплая кровь выпачкала ему рубашку. Сбежались люди, толпа росла с каждой минутой.
Издали доносились крики:
— Держи его! Держи убийцу! Не дайте ему удрать!
О большой охоте
В тот вечер царило еще большее оживление, чем в день убийства Синьязиньи и Осмундо. Пожалуй, со времен вооруженных столкновений, которые окончились двадцать лет назад, ни одно событие так не будоражило и не волновало город, соседние муниципалитеты, всю провинцию. В Итабуне началось светопреставление. Всего через несколько часов после покушения в Ильеуе начали прибывать автомобили из соседнего города, вечерний автобус пришел переполненный, приехали два грузовика с жагунсо. Все это было похоже на начало войны.
— Какаовая война… Продлится не меньше тридцати лет, — предсказал Ньо Гало.
Полковника Аристотелеса Пиреса отвезли в еще не достроенную лечебницу доктора Демосфенеса, где функционировали лишь несколько палат и операционный зал.
Вокруг раненого собрались местные медицинские светила. Доктор Демосфенес, политический сторонник и друг полковника Рамиро, не хотел брать на себя ответственность за операцию. Состояние Аристотелеса было тяжелым, если он, не дай бог, умрет на операционном столе, пойдут толки. Пиреса оперировал с помощью двух ассистентов доктор Лопес, пользовавшийся в городе большой известностью, он был черен, как ночь, и отличался добрейшим характером. Когда из Итабуны прибыли врачи, срочно посланные родственниками и друзьями Аристотелеса, операция уже была кончена и доктор Лопес мыл руки спиртом.
— Теперь все зависит от того, насколько он вынослив.
Бары были переполнены; на улицах теснился народ, все были охвачены нервным возбуждением. Выпуск «Диарио де Ильеус» с сенсационным интервью Аристотелеса был раскуплен за несколько минут, и скоро номер газеты продавали за десять тостанов. Негр, который стрелял в Пиреса, скрылся в рощах холма Уньан, и пока его не нашли. Один из очевидцев покушения, каменщик, утверждал, что видел его однажды вместе с Блондинчиком на окраинных уличках и в дешевом кабаре «Бате-Фундо». Второй, побежавший преследовать убийцу и едва за это не поплатившийся, никогда раньше не видел негра, но заметил, что тот был в холщовых брюках и клетчатой рубашке. Однако всем было ясно, кто подослал убийцу, их имена произносились шепотом.
Мундиньо, пока шла операция, не уходил из больницы. Он послал свой автомобиль в Итабуну за женой Аристотелеса, отправил несколько телеграмм в Баию и Рио. Наемники Алтино Брандана и Рибейриньо, находившиеся в городе с момента прибытия буксирных судов, прочесывали рощи холма Уньан, получив приказ доставить негра живым или мертвым. Подоспела местная полиция, комиссар послал двух солдат обыскать окрестности. Капитан, явившийся в больницу, обвинял Рамиро, Амансио и Мелка в организации покушения, но комиссар отказался запротоколировать его показания, поскольку капитан не был свидетелем происшествия. Он спросил Мундиньо, разделяет ли тот точку зрения капитана.
— А зачем вам это знать? — сказал экспортер. — Я не ребенок и понимаю, что вы, господин лейтенант (комиссар был лейтенантом военной полиции), все равно не примете никаких мер. Сейчас важно найти этого жагунсо, а уж он нам скажет, кто ему дал оружие. И поймаем мы его сами.
— Вы меня оскорбляете.
— А зачем мне вас оскорблять? Я просто удалю вас из Ильеуса. Можете собирать вещи. — Мундиньо говорил точь-в-точь как полковники прежних времен.
В баре Насиб метался от столика к столику, слушая разговоры посетителей. Жоан Фулженсио провозгласил:
— Никакая перемена в жизни общества не обходилась без кровопролития. Но это покушение не принесет Рамиро ничего хорошего. Если бы ему удалось убить Аристотелеса, то, возможно, он сумел бы завоевать часть голосов в Итабуне. Теперь же влияние Аристотелеса только возрастет. Это конец империи Рамиро Первого Садовника, но мы не станем подданными Тонико Любимого. На престол взойдет Муидиньо Веселый.
Шепотом сообщали о болезни полковника Рамиро, хотя семья и старалась сохранить ее в тайне. Тонико и Алфредо не отходили от отца. Поговаривали, что старик при смерти. Однако это известие поздно вечером было опровергнуто доктором и Жозуэ.
Любопытный случай произошел с доктором. Видный представитель сторонников Мундиньо, он в день покушения запросто обедал в семье Рамиро. Еще накануне он вместе с Ари и Жозуэ был приглашен в дом своего противника на обед, который давался в честь поэта Аржилеу. Доктор принял приглашение: политическая борьба не испортила его хороших отношений с Бастосами, даже несмотря на резкие статьи в «Диарио де Ильеус», автором которых он являлся. В тот день он, Аржилеу и Жозуэ посетили одно местечко за Понталом, чтобы под тенью кокосовых пальм позавтракать таде восхитительной мокекой. Они запивали завтрак кашасой, которой их угостил адвокат и ветрогон Элвесио Маркес. Они немного засиделись и чуть не бегом направились в гостиницу, где поэт нацепил галстук, после чего они пошли прямо к Рамиро. Хотя Жозуэ и обратил внимание своих спутников на необычное оживление на улицах, но те не придали этому особого значения. Между тем Ари Сантос, сидевший в баре, решил, что приглашение, очевидно, отменено, и не пошел к Бастосам.
Нельзя сказать, чтобы обед прошел весело, все были чем-то озабочены, разговор не клеился. Хозяева оправдывались тем, что утром полковнику было плохо.
Сыновья не хотели, чтобы он вышел к столу, но Рамиро настоял, хотя и не стал ничего есть. Тонико был необычно молчалив, и Алфредо не удавалось поддерживать разговор, он был очень рассеян. У его жены, которая отдавала приказания прислуге, словно от слез, покраснели глаза. Гостей занимала Жеруза, она же подталкивала отца, когда к нему обращались. Жеруза беседовала с поэтом и доктором, а Рамиро невозмутимо расспрашивал Жозуэ об учениках колледжа Эноха.
Время от времени разговор замирал, тогда Рамиро и Жеруза снова его оживляли. В один из таких моментов между девушкой и поэтом завязался диалог, о котором потом рассказывали в барах.
— Вы женаты, сеньор Аржилеу? — любезно спросила Жеруза.
— Нет, сеньорита, — ответил поэт своим громовым голосом.
— Вдовец? Бедный… Грустно, наверно, быть одному.
— Нет, сеньорита. Я не вдовец…
— Так вы еще холостой? Вам пора жениться, доктор Аржилеу.
— Я и не холостой, сеньорита.
Недоумевавшая Жеруза наивно настаивала:
— Но кто же вы тогда, сеньор Аржилеу?
— Сожитель, сеньорита, — ответил он, склонив голову.
Это было так неожиданно, что Тонико, молчаливый и грустный в этот вечер, разразился хохотом. Рамиро строго взглянул на него. Жеруза уставилась в тарелку, а поэт продолжал есть. Жозуэ едва удерживался от смеха. Спас положение доктор, рассказав поэту историю семьи Авила.
К концу обеда пришел Амансио Леал. И только тут доктор почувствовал, что произошло что-то очень важное. Амансио явно удивился, увидев его тут, и выжидательно умолк. Бастосы тоже молчали. Наконец Рамиро задал вопрос:
— Ну, как результат операции?
— Похоже, что ему удастся спастись. Во всяком случае, так говорят.
— Кому? — поинтересовался доктор. — Так вы ничего не знаете?
— Мы пришли к вам прямо от Элвесио.
— Стреляли в полковника Аристотелеса.
— В Итабуне?
— Здесь, в Ильеусе.
— Почему?
— А кто его знает…
— Кто стрелял?
— Неизвестно. Кажется, какой-то жагунсо. Он убежал.
Доктор, который не читал в тот день газет и ни о чем не знал, выразил сожаление:
— Печальная история… Он ведь был вашим другом, полковник, не так ли?
Рамиро опустил голову. Обед закончился уныло, после того как поэт продекламировал Жерузе несколько стихотворений. Молчание было настолько тягостным, что Жозуэ и доктор решили уйти. Хорошо пообедавший поэт хотел еще посидеть, попивая коньяк, но друзья уговорили его. Когда они вышли, Аржилеу пожаловался:
— К чему такая спешка? Воспитанные люди, превосходный коньяк…
— Бастосы хотели остаться одни, — А что, черт возьми, случилось?
Это они узнали только в баре. Доктор поспешил в больницу, а знаменитый поэт возмущался:
— Какого дьявола они послали убийцу именно сегодня, когда меня пригласили на обед? Как будто не могли выбрать другой день.
— Дело не терпело отлагательства, — объяснил ему Жоан Фулженсио.
Посетители входили и выходили. Кто-то рассказал, что холм Уньан оцеплен, что всюду производятся обыски, что началась большая охота на негра, которого добудут живым или мертвым. Люди, приехавшие из Итабуны, и жагунсо, высадившиеся с грузовиков, обещали, что не вернутся без головы бандита и покажут ее всему городу. Приходили и те, кто побывал в больнице.
Аристотелес спит, а доктор Лопес сказал, что какие-либо прогнозы делать еще рано. Пуля задела легкое.
Насиб тоже ходил к подножию склона посмотреть, как окружают холм. Он рассказал новости Габриэле и доне Арминде, которые еще не знали причины переполоха.
— Хотели убить префекта Итабуны, полковника Аристотелеса, но только ранили. Он сейчас в больнице, почти при смерти. Говорят, что действовали люди полковника Рамиро Бастоса, или Амансио, или Мелка, впрочем, это одно и то же. Жагунсо скрылся на холме. Но он не убежит — за ним охотятся человек тридцать. И если его поймают…
— Что тогда? Его арестуют? — поинтересовалась Габриэла.
— Арестуют? Судя по разговорам, его голову отвезут в Итабуну. Даже полицейского комиссара прогнали.
Комиссар в сопровождении солдата появился со стороны порта, откуда стрелял негр. Вооруженные люди охраняли подъем на холм. Комиссар хотел подняться, но ему не позволили.
— Здесь прохода нет.
Комиссар был в форме, с лейтенантскими погонами.
Ему преградил дорогу самоуверенный молодой человек с револьвером в руке. Лейтенант спросил:
— Кто вы, сеньор?
— Я секретарь итабунской префектуры, Америке Матос, если вам угодно знать мое имя.
— А я комиссар ильеусской полиции. Я должен арестовать преступника.
Рядом с юношей стояли пять вооруженных жагунсо.
— Арестовать? Не смешите! Если вы хотите кого-то арестовать, вам незачем забираться на холм. Арестуйте полковника Рамиро и этих сволочей Амансио Леала и Мелка Тавареса или Блондинчика. Тут вам делать нечего, у вас и без того достаточно дел в городе.
По его знаку жагунсо подняли ружья. Молодой человек добавил:
— Господин комиссар, уходите, если вам дорога жизнь.
Лейтенант быстро оглянулся, солдат уже исчез.
— Ну, вы еще обо мне услышите. — Лейтенант повернул назад.
Все подъемы на холм охранялись. Их было три: два со стороны порта и один со стороны моря, где находился дом Насиба. Более трех десятков вооруженных жагунсо из Итабуны и Ильеуса рыскали по холму, прочесывали реденькие рощи и частые заросли кустарника, заходили в дома бедняков и переворачивали там все вверх дном. Слухи становились все более тревожными.
В «Везувии» каждую минуту появлялся кто-нибудь с очередной новостью. Рассказывали, что полиция взяла под охрану дом полковника Рамиро, где заперлись сам полковник, его сыновья и его самые преданные друзья, в том числе Амансио и Мелк. Но это оказалось выдумкой, ибо Амансио пришел в бар несколько минут спустя, а Мелк вообще не уезжал с плантации. Два раза распространялся слух о смерти Аристотелеса. Говорили, будто Мундиньо запросил подкрепление у полковника Алтино Брандана и отправил свой автомобиль за Рибейриньо. Слухи, один абсурднее другого, распространялись в течение нескольких минут, увеличивали беспокойство и тут же сменялись новыми.
Приход Амансио встретили с удивлением. Своим неизменно мягким голосом он произнес: «Добрый вечер, сеньоры!», подошел к стойке, спросил коньяку и поинтересовался, нет ли партнеров для покера. Партнеров не нашлось. Амансио прошелся между столиками, перекинулся несколькими словами с посетителями, и все почувствовали, что полковник бросает вызов тем, кто обвиняет его в покушении на Пиреса. В его присутствии никто не осмелился заговорить о происшествии. Амансио раскланялся и, выйдя из бара, направился по улице Полковника Адами к дому Рамиро.
На холме уже были обшарены все норы, осмотрена пещера, прочесана роща. И не раз преследователи оказывались совсем рядом с негром Фагундесом.
Он взбежал на холм, все еще держа револьвер в руке. После того как Аристотелес вышел из лодки, Фагундес все время выбирал удобный момент для выстрела. Когда полковник вступил на пустынный в тот час Уньан, он наконец решился и прицелился ему прямо в сердце. Фагундес увидел, как полковник падает, — это был он, тот самый человек, которого ему показал в порту Блондинчик; выстрелив, Фагундес убежал. Какой-то рабочий стал преследовать его, но выстрелом Фагундес обратил его в бегство. Негр укрылся среди деревьев, рассчитывая досидеть до темноты, и принялся жевать табак. Теперь он заработает большие деньги.
Наконец-то настало время драки. Клементе уже узнавал, какие участки продаются, — ведь у него не шла из головы мысль приобрести землю; впрочем, оба они мечтали обзавестись небольшой плантацией. Если драка разгорится, то такой человек, как негр Фагуидес, храбрый и умеющий метко стрелять, очень скоро многого добьется. Блондинчик сказал, что вечером они должны встретиться в «Бате-Фундо» — еще до того, как там соберется много народу. В «Бате-Фундо» надо быть к восьми часам. Фагундес был спокоен. Он немного отдохнул, потом стал подниматься на вершину холма, намереваясь спуститься с другой стороны, когда стемнеет, выйти на набережную и отправиться на встречу с Блондинчиком. Фагундес спокойно прошел мимо группы домишек и даже пожелал доброго вечера какой-то кружевнице. Потом зашел в рощу, отыскал укромное местечко и улегся там в ожидании темноты.
Отсюда он различал набережную. Сумерки еще не наступили. Фагундес, немного приподняв голову, мог видеть, как солнце на краю моря раскрывает кроваво-красный веер. Он думал об участке земли, о бедняге Клементе, который все еще мечтает о Габриэле и никак не может ее забыть. Клементе не знал, что она вышла замуж и стала теперь богатой сеньорой, — Фагундесу рассказали об этом в городе. Медленно опускались сумерки. Вокруг все было тихо.
Когда Фагундес направился к спуску, он чуть не натолкнулся на людей и отступил к роще. Оттуда он наблюдал, как, разделившись на группы, они заходили в дома. Их было очень много, и они были вооружены.
До негра долетали обрывки разговоров. Они хотели захватить его и доставить в Итабуну живым или мертвым. Фагундес почесал в затылке. Неужели человек, в которого он стрелял, такая важная птица? Сейчас его, наверное, убирают цветами. А Фагундес жив, и ему не хочется умирать. У него на примете есть участок земли, они с Клементе купят его. Бои только начались, и еще можно заработать немало денег. Группы по четыре-пять человек рыскали по рощам холма.
Негр Фагундес забрался в самую гущу деревьев.
Колючки рвали его брюки и рубашку. Револьвер негр все еще держал в руке. Несколько минут он просидел в кустах на корточках. Вскоре раздались голоса:
— Кто-то здесь прошел. Кустарник примят, Фагундес в тревоге ждал. Голоса удалились, и он стал пробираться дальше. Нога, расцарапанная острой колючкой, кровоточила. Какой-то зверек, завидев его, метнулся прочь, тут он обнаружил глубокую яму, прикрытую кустарником, и забрался в нее. И вовремя, так как голоса снова приблизились:
— Здесь кто-то был. Смотрите…
— Проклятые колючки…
Они его искали до тех пор, пока не наступила темнота. Иногда их голоса раздавались совсем рядом, и Фагундес уже ожидал, что сейчас увидит человека, который преодолеет слабую защиту кустарника и прыгнет к нему в яму. Потом он заметил среди веток летающего светлячка. Страха он не испытывал, но его начинало охватывать нетерпение. Так он может опоздать на встречу с Блондинчиком. Негр слышал, о чем они говорят: о том, что прирежут его, и о том, кто его послал. Он не трусил, но умирать ему не хотелось. Особенно теперь, когда началась драка, когда нашелся наконец участок земли, который они купят вместе с Клементе.
Затем на время наступила тишина, стало быстро смеркаться, как будто ночи надоело ждать. Да и он тоже устал от ожидания. Фагундес выбрался из ямы и, нагнувшись, так как кусты были низкие, осторожно огляделся. Поблизости никого. Неужели они отказались от намерения его поймать? А может, ушли потому, что стемнело? Он поднялся и осмотрелся, но не увидел ничего, кроме ближних деревьев, все остальное тонуло во мраке. Ориентироваться было нетрудно.
Впереди море, сзади порт. Ему надо идти вперед, выйти на берег моря, обойти скалы и разыскать Блондинчика. Вероятно, он уже ушел из «Бате-Фундо». Теперь Фагундес сможет получить честно заработанные деньги, он даже заслужил прибавку, ведь его преследовали. Справа виднелся фонарь, стоявший на самой вершине холма, другой фонарь стоял на середине подъема. Дальше рассыпались тусклые и редкие огоньки домов. Фагундес пустился в путь. Едва он сделал два шага, пробираясь сквозь кустарник, как увидел свет факела, поднимавшийся по дороге. Ветер донес до негра шум голосов. Они вернулись с зажженными факелами, они не отступили, как он думал.
Те, что шли первыми, достигли того места на вершине, где стояли дома, и остановились, поджидая отставших. Они спрашивали жителей, не появлялся ли тут негр.
— Мы должны взять его живым, чтобы пытать.
— Отнесем его голову в Итабуну.
Чтобы пытать… Фагундес знал, что это значит.
Перед тем как умереть, двоих по крайней мере он убьет. Он снова достал револьвер. Да, покойник, должно быть, в самом деле был важная птица. Если Фагундес останется жив, то потребует от полковника солидной прибавки.
Внезапно свет электрического фонаря, прорезав темноту, скользнул по лицу негра. Раздался крик:
— Вот он!
Люди побежали к нему. Фагундес быстро пригнулся и бросился в кустарник. Выбираясь из ямы, он раздвинул ветки, и теперь уже в ней нельзя было спрятаться. Преследователи приближались. Негр кинулся вперед, как уходящий от погони зверь, ломая колючий кустарник, в кровь раздиравший его плечи. Спуск был крутой, поросший на редкость густым кустарником, который вскоре стал перемежаться деревьями. Фагундес начал спотыкаться. Судя по шуму, за ним гналось много людей. На этот раз преследователи не разделились, бежали все вместе. Они были уже близко. Они его настигали. Негр с трудом пробирался сквозь чащу, падал, все его тело было изранено колючками, лицо окровавлено. Он слышал удары мачете, рубившего кустарник.
— Не уйдет. Впереди обрыв. Будем окружать, — закричал предводитель и разделил бегущих на две группы.
Спуск становился все круче. Фагундес сползал на четвереньках. Вот теперь ему было страшно. Ему не спастись. К тому же отсюда неудобно стрелять, и вряд ли он сможет, как собирался, убить двоих-троих, чтобы его тоже сразу прикончили, не заставляя страдать от ран. Это была бы смерть, которую он заслужил.
Заглушая удары мачете по ветвям кустарника, послышалось предупреждение:
— Готовься, убийца, мы тебя отделаем кинжалами!!
Фагундес хотел умереть от пули мгновенно, ничего не почувствовав. Но если его схватят живым, его будут пытать… Он задрожал, продолжая с трудом ползти вперед. Смерти он не боялся. Человек и рождается для того, чтобы умереть, когда наступит время. Но если его схватят живым, то станут мучить, медленно и постепенно убивать, выпытывая имя того, кто его послал.
Однажды сам Фагундес вместе с другими жагунсо прикончил таким образом работника с плантации, дознаваясь, где спрятался один беглец. Работника кололи ножом и острым кинжалом. Отрезали ему уши, выкололи глаза. Так Фагундес не хотел умереть. Теперь ему была нужна только лужайка, на которой бы он мог их дождаться с револьвером в руке, убить двух или трех и умереть самому, чтобы не подвергнуться пыткам, как тот несчастный.
И вот он достиг обрыва. Он не упал только потому, что над пропастью росло дерево, за которое он ухватился. Фагундес поглядел вниз, но рассмотреть что-либо было трудно. Тогда он подался влево и обнаружил почти отвесный откос. Кустарник здесь был реже, кое-где виднелись деревья. Звуки погони удалялись.
Преследователи теперь пробирались через густые кусты у самой пропасти. Негр подполз к обрыву и начал спускаться, собрав в отчаянном порыве последние силы. Он не чувствовал, как колючки раздирают его кожу, но зато ясно представлял, как острия кинжалов вонзятся ему в грудь, в глаза, в уши. Откос отделяла от равнины расщелина метра в два. Фагундес ухватился за ветви кустарника и спрыгнул. Наверху еще слышались удары мачете. Он почти бесшумно упал на высокий куст и ушиб руку, сжимавшую револьвер.
Поднялся на ноги. Перед ним была низкая стена какого-то двора. Он перескочил ее. Кот испугался, увидев негра, и помчался на холм. Фагундес подождал немного, прижавшись к стене. В задних комнатах дома не было света. Он опустил револьвер и пересек двор. Фагундес увидел освещенную кухню и Габриэлу, мывшую посуду. Он улыбнулся, ведь в мире не было девушки красивее.
О том, как сеньора Саад вмешалась в политику, нарушив традиционный нейтралитет своего мужа, и о дерзких и опасных шагах, которые были предприняты в ту тревожную ночь этой сеньорой, принадлежащей к избранному обществу
Негр Фагундес рассмеялся. Его лицо распухло от уколов ядовитых шипов, рубашка была в крови, брюки порваны.
— Они всю ночь проохотятся за негром. А негр преспокойно сидит здесь и точит лясы с Габриэлой.
Рассмеялась и Габриэла и налила ему еще кашасы:
— Что же ты будешь делать?
— Есть тут один парень по имени Блондинчик. Ты его знаешь?
— Блондинчик? Я недавно слышала это имя в баре.
— Так ты его разыщи. Пусть назначит место встречи. — А где я его найду?
— Он должен был прийти в «Бате-Фундо», это такое местечко для танцев на улице Сапо. Но, наверно, его там уже нет. Мы договорились встретиться в восемь. Сколько сейчас?
Габриэла пошла взглянуть на часы в гостиную — она с негром сидела в кухне.
— Десятый час. А если его не окажется в «Бате-Фундо»?
— Если не окажется? — Он почесал курчавый затылок. — Полковник на плантации, а его жена ничего не понимает, с ней говорить бесполезно.
— Какой полковник?
— Сеньор Мелк. Ты знаешь полковника Амансио?
Кривого?
— Конечно знаю. Он часто бывает в баре.
— Так вот, если не найдешь Блондинчика, разыщи полковника, он поможет.
К счастью, девчонка не ночевала в доме Насиба.
Она уходила домой после обеда. Габриэла отвела Фагундеса в заднюю комнатку, где жила до недавних пор.
— Дай мне еще хлебнуть, — попросил он.
Она принесла бутылку кашасы:
— Слишком много не пей.
— Иди, иди, не бойся. Один глоток, чтоб прийти в себя. Я не имею ничего против того, чтобы умереть от нули. В драке мы умираем с улыбкой. Но я не хочу, чтобы меня кололи кинжалом. Это злая смерть, невеселая и плохая. На моих глазах один человек умер такой смертью. Страшно было смотреть.
Габриэла спросила:
— Почему ты стрелял? Зачем тебе это понадобилось? Разве он сделал тебе что-нибудь плохое?
— Мне он ничего плохого не сделал. Но так велел полковник. Блондинчик послал меня. И я не мог не пойти. У каждого своя работа, у меня — такая. К тому же нам с Клементе нужно купить участок земли. Мы уже с ним договорились.
— Но тот, в кого ты стрелял, выжил. Так что ничего ты не заработаешь.
— Как он мог выжит, не понимаю. Видно, не настал еще его час.
Габриэла велела ему не шуметь, не зажигать огня и не выходить из комнаты. Охота на холме продолжалась. Кота, который стремительно выскочил из кустарника, жагунсо приняли за убийцу. Они пядь за пядью прочесали все рощи.
Габриэла надела старые желтые туфли. Часы показывали половину десятого. В Ильеусе так поздно замужние женщины не ходят по улицам. Только проститутки. Габриэла не подумала об этом. Не подумала она и о том, что скажет Насиб, если узнает, что она выходила, и что скажут те, кто увидит ее на улице. Негр Фагундес хорошо относился к ней, когда они шли с другими беженцами из сертана. Он нес на спине ее дядю, пока тот не умер, и, когда Клементе в ярости ударил Габриэлу, он встал на ее защиту. Она не оставит его на произвол судьбы, ведь он может попасть в руки жагунсо. Убивать это плохо, ей не нравятся люди, которые убивают. Но негр Фагундес ничего другого не умеет. Он никогда ничему не учился и умеет только убивать.
Габриэла вышла на улицу, заперла наружную дверь, а ключ взяла с собой. На улице Сапо, которая шла по обеим сторонам железной дороги, она никогда не бывала. Она спустилась на набережную. В баре было очень много народу, почти все столики были заняты, и многие посетители стояли. Насиб расхаживал между столиками, иногда подсаживался к кому-нибудь. На площади Руя Барбозы она свернула в сторону и пошла к площади Сеабра. Еще попадались прохожие, некоторые посматривали на Габриэлу с любопытством, некоторые здоровались. Это были знакомые Насиба — посетители бара. Но они были так захвачены событиями дня, что эта странная встреча их не удивляла. Габриэла добралась до железнодорожных путей и вышла к убогим домишкам окраинных уличек. Мимо нее шли проститутки самого низкого пошиба, некоторые удивленно оборачивались. Одна схватила ее за руку:
— Э, да ты, кажется, новенькая, я тебя никогда раньше не видела… Откуда ты взялась?
— Из сертана, — ответила Габриэла машинально. — Где тут улица Сапо?
— Немного дальше. А зачем тебе туда? Ты к Мэ?
— Нет. В «Бате-Фундо».
— Так, значит, вот куда ты идешь? Ты храбрая девка. Я, например, туда не хожу. А сегодня там особенно опасно, там черт знает что творится. Возьми вправо — и выйдешь прямо к «Бате-Фундо».
Габриэла свернула за угол. Ее остановил какой-то негр:
— Куда топаешь, красотка? — Он заглянул ей в лицо, и она ему понравилась, он сильно ущипнул Габриэлу за щеку. — Где ты живешь?
— Далеко.
— Это неважно. Пойдем позабавимся.
— Сейчас не могу. Я тороплюсь.
— Боишься, что я тебя надую? Смотри… — Он сунул руку в карман и вытащил несколько мелких кредиток.
— Я не боюсь, я тороплюсь.
— Мне тоже не терпится, потому я и вышел на улицу.
— Но я тороплюсь по другому делу. Пусти меня. Я скоро вернусь.
— Вернешься?
— Честное слово.
— Я тебя буду ждать.
— Хорошо, жди здесь.
Габриэла быстро ушла. Совсем рядом с «Бате-Фундо», откуда доносились грохот бубнов и звон гитары, какой-то пьяный, качнувшись, попытался ее обнять.
Габриэла оттолкнула его локтем, он потерял равновесие и схватился за фонарь. Из двери «Батё-Фундо», находившегося на плохо освещенной улице, слышался гул голосов, громкие раскаты смеха и крики. Габриэла вошла. Кто-то сейчас же окликнул ее:
— Эй, смуглянка, иди сюда, выпей с нами глоточек.
Старик играл на гитаре, девчонка била в бубен.
Здесь было много увядших женщин, грубо накрашенных и пьяных. Но встречались и совсем молоденькие.
Одной из них, с распущенными волосами и худым лицом, не было, должно быть, и пятнадцати лет. Какой-то мужчина пристал к Габриэле, чтобы она подсела к нему. Женщины, старухи и девчонки подозрительно поглядывали на нее. Откуда взялась эта красивая и привлекательная соперница? Потом Габриэлу подозвал другой мужчина. Хозяин бара, одноногий мулат, стуча по полу деревянной ногой, подошел к ней. Какой-то матрос, очевидно с одного из пароходов компании «Баияна», обнял Габриэлу за талию и шепнул:
— Ты свободна, моя крошка? Я пойду с тобой…
— Нет, я занята…
Она улыбнулась ему, это был симпатичный парень, и от него пахло морем. Матрос сказал «жалко!», прижал Габриэлу к груди и направился в глубину зала искать другую. Одноногий мулат остановился перед Габриэлей.
— Где я тебя видел? Наверняка мы где-то встречались. Но где?
Пока он вспоминал, Габриэла спросила?
— Здесь есть парень по прозвищу Блондинчик? Мне нужно с ним поговорить. У меня к нему срочное дело.
Одна из женщин услышала вопрос Габриэлы и крикнула:
— Эдит! Мадаме нужен Блондинчик!
В зале раздался дружный хохот. Пятнадцатилетняя девчонка в платье выше колен вскочила:
— Что нужно этой корове от моего Блондинчика? — Она пошла на Габриэлу, подбоченившись с вызывающим видом.
— Сегодня ты его не найдешь, — засмеялся какой-то мужчина.
Девчонка стала против Габриэлы:
— Так зачем тебе, навозная куча, понадобился мой парень?
— Мне надо с ним поговорить…
— Поговорить… — Девчонка сплюнула. — Знаю я вас, грязных шлюх. Просто ты в него втюрилась. Все бабы к нему лезут. Все коровы.
Ей было не больше пятнадцати, и Габриэла, сама не зная почему, вспомнила дядю. Какая-то пожилая женщина вмешалась в разговор:
— Брось, Эдит. Он все равно на тебя не обращает внимания.
— Пусти! Я проучу эту корову…
Она протянула свои детские руки к лицу Габриэлы, но та была настороже, схватила девчонку за худые запястья и опустила ее руки. «Корова!» закричала Эдит и рванулась вперед. Все, кто был в зале, вскочили — не было зрелища интереснее, чем драка между женщинами. Но тут вмешался одноногий и разнял их, оттолкнув девчонку в сторону:
— Убирайся отсюда, не то я набью тебе морду! — Он взял Габриэлу за руку и вышел с ней за дверь. — Послушай, ты не жена сеньора Насиба из бара?
Габриэла кивнула.
— Так что же ты, черт возьми, тут делаешь? Крутишь любовь с Блондинчиком?
— Я его не знаю. Но мне нужно с ним поговорить. Очень важное дело.
Одноногий подумал, внимательно посмотрел в глаза Габриэле:
— Какое-то поручение? Насчет сегодняшнего?
— Да.
— Пойдем со мной. Только молчи, говорить буду я…
— Хорошо. Пошли скорее, нельзя терять ни минуты.
Они миновали одну улицу, потом другую и вошли в темный переулок. Одноногий, шагавший впереди, остановился, поджидая Габриэлу у какого-то дома. Он постучал в полуоткрытую дверь, как бы предупреждая о своем приходе.
— Иди за мной…
Появилась растрепанная девица в одной рубашке:
— Кто это с тобой, Деревянная Нога? Новенькая?
— Где Теодора?
— У себя в комнате, не хочет никого видеть.
— Скажи ей, что мне нужно с ней поговорить.
Девица смерила Габриэлу взглядом с головы до ног и вышла, сказав:
— Они уже сюда приходили.
— Полиция?
— Наемники. Искали сам знаешь кого.
Через несколько минут, пошептавшись с кем-то за дверью одной из комнат, она вернулась в сопровождении какой-то женщины, у которой волосы были обесцвечены перекисью водорода.
— Что тебе нужно? — спросила женщина.
Девица смотрела на Габриэлу и внимательно прислушивалась к разговору. Но одноногий подошел к Теодоре, прижал ее к стене и зашептал ей что-то на ухо; при этом оба косились на Габриэлу.
— Я не знаю, где он. Забегал сюда, попросил денег и тут же выскочил, и как раз вовремя. Только-только он ушел, ворвалось несколько наемников. Они охотятся за ним. Если бы они его нашли, то убили бы…
— А куда он пошел, ты не знаешь?
— Ей-богу не знаю.
Габриэла и мулат вышли на улицу. На пороге он сказал:
— Раз его здесь нет, то ни у кого не узнаешь, где он. Скорее всего он уже добрался до леса. На лодке или верхом.
— А нельзя ли как-нибудь все же узнать? Это очень важно.
— Ума не приложу.
— Где живет полковник Амансио? — Амансио Леал?
— Да.
— Недалеко от школы. Знаешь, где она?
— Знаю, в конце набережной. Большое спасибо, — Я тебя немного провожу.
— Зачем?
— Тебе надо выбраться из этих переулков, а то можешь и не дойти до Амансио.
Он проводил Габриэлу до площади Сеабра. Несколько любопытных, стоя на углу рядом с клубом «Прогресс», смотрели на дом полковника Рамиро, в котором еще горели огни. Пока они шли, одноногий то и дело задавал вопросы. Габриэла отвечала уклончиво и немногословно. Пройдя по пустынным улицам, она добралась до школы и по описанию владельца «Бате-Фундо» отыскала дом Амансио — особняк с синими воротами. Вокруг все было тихо, нигде ни огонька.
В небе поднималась поздняя луна, которая освещала широкий берег моря и кокосовые пальмы на дороге в Мальядо. Габриэла хлопнула в ладоши. Никакого результата. Она снова похлопала. Где-то рядом залаяли собаки, им вдалеке откликнулись другие. Габриэла крикнула: «Эй, есть кто в доме?» Опять похлопала изо всех сил, даже руки заболели. Наконец в доме зашевелились. Зажегся свет.
— Кто там?
— Свои.
Появился по пояс голый мулат с револьвером в руке.
— Сеньор полковник Амансио дома?
— А что тебе от него нужно? — спросил он подозрительно.
— У меня к нему важное и очень срочное дело.
— Его нет.
— Где же он?
— А тебе зачем? Чего ты от него хочешь?
— Я уже сказала…
— Ничего ты не сказала… Подумаешь: важное и срочное дело…
Что ей было делать? Пришлось рискнуть:
— У меня к нему поручение.
— От кого?
— От Фагундеса…
Мулат сначала отступил назад, потом подался вперед и пристально посмотрел ей в глаза.
— Правду говоришь?
— Чистую правду…
— Смотри: если только ты солгала…
— Пожалуйста, побыстрее.
— Подожди здесь.
Он вошел в дом и пробыл там несколько минут; вернулся уже в рубашке и погасил свет.
— Пойдем. — Мулат сунул револьвер за пояс.
Они пошли. Он задал ей только один вопрос:
— Ему удалось удрать?
Она кивнула. Они пришли на улицу, где жил полковник Рамиро, и остановились против так хорошо знакомого ей дома. Недалеко от префектуры стояли двое полицейских, они посмотрели на них и сделали несколько шагов в их сторону. Мулат постучал в дверь.
Из открытых окон слышался глухой рокот голосов.
В окне появилась Жеруза и взглянула на Габриэлу с таким испугом, что та даже улыбнулась. Почему-то все пугались ее в этот вечер… А больше всех негр Фагундес.
— Вы не можете позвать полковника Амансио? Скажите, что его спрашивает Алтамиро.
Полковник тут же появился на пороге:
— Что-нибудь случилось?
Полицейские уже подходили к двери дома. Алтамиро посмотрел на них и ничего не ответил на вопрос хозяина. Один из полицейских обратился к Аманеио:
— Какая-нибудь новость, полковник?
— Нет, ничего, не беспокойтесь. Оставайтесь на своих местах.
После того как полицейские ушли, мулат сказал: — Она хочет поговорить с вами, сеньор. От Фагундеса.
Только тогда Амансио заметил Габриэлу и сразу ее узнал:
— Габриэла?! Хочешь поговорить со мной? Входи, пожалуйста.
Мулат тоже вошел. Из коридора Габриэла увидела столовую, в которой сидели и курили Тонико, Алфредо И еще какие-то люди. Амансио ждал. Габриэла указала на мулата:
— Я должна передать поручение лично вам, сеньор.
— Отойди, Алтамиро. Я слушаю, дочь моя, — сказал он своим мягким голосом.
— Фагундес у нас. Он послал меня предупредить вас об этом. Он спрашивает, что ему делать. Это нужно решить немедленно, потому что сеньор Насиб скоро вернется домой.
— Он у вас? Как же он к вам попал?
— Он бежал с холма, а наш двор как раз под откосом.
— А ведь верно, я и не подумал. А почему ты его спрятала?
— Я знаю его давно. Мы вместе уходили из сертана…
Амансио улыбнулся. В коридоре показался Тонико, которого мучило любопытство.
— Большое спасибо, я вам очень признателен. Идите за мной.
Тонико вернулся в столовую. Габриэла с Амансио вошла следом за ним и увидела всю семью Бастосов в сборе. Старый Рамиро был бледен, как мертвец, но глаза его блестели, как у юноши. Он сидел в качалке.
На столе стояли блюда с едой, кофейные чашки и бутылки с пивом. В углу комнаты сидели Алфредо с женой и Жеруза. Тонико с озадаченным видом стоял рядом с ними и искоса поглядывал на Габриэлу. Доктор Демосфенес, Маурисио и три полковника сидели за столом. В кухне и во дворе дома расположились вооруженные наемники, их было не менее пятнадцати человек. Служанки раздавали им жестяные миски с едой.
Амансио сказал:
— Вы все ее знаете, не так ли? Габ… Дона Габриэла, супруга Насиба, владельца бара. Она пришла оказать нам услугу. — И он пригласил ее как хозяин дома: — Садитесь, пожалуйста.
Тогда все поклонились Габриэле, а Тонико пододвинул ей стул. Амансио подошел к Рамиро и о чем-то тихо поговорил с ним. Лицо Рамиро просветлело, он улыбнулся Габриэле:
— Браво, девочка. Отныне я ваш должник. Если вам что-нибудь понадобится, приходите ко мне. Или к кому-нибудь из моей семьи… — И он показал на собравшихся в углу столовой, трое из них сидели, один стоял, словно на групповом портрете, не хватало только доны Олги и младшей внучки. — Теперь так и знайте, — обратился Рамиро к сыновьям, невестке и внучке, — если дона Габриэла когда-нибудь обратится к вам, имейте в виду, что она не просит, а приказывает. Пошли, кум.
Рамиро поднялся и удалился с Амансио в соседнюю комнату. Мулат с револьвером попрощался и ушел. Габриэла не знала, что ей делать, что говорить, куда девать руки. Жеруза улыбнулась ей:
— А мы однажды уже говорили с вами, сеньора, помните? Когда готовились к дедушкиному дню рождения… — начала она, но тут же замолчала: пожалуй, неделикатно напоминать Габриэле о том времени, когда она была кухаркой араба.
— Помню. Я тогда наготовила ужас сколько сладостей, Они вам понравились?
Тонико оживился:
— Габриэла — наш старый друг. Нам с доной Олгой она почти дочь. Мы были посажеными отцом и матерью на ее свадьбе.
Супруга Алфредо удостоила Габриэлу улыбкой.
Жеруза спросила:
— Не хотите ли пирожного? А может, ликеру выпьете?
— Спасибо. Не беспокойтесь.
Габриэла согласилась выпить чашечку кофе. Из соседней комнаты Амансио позвал Алфредо. Депутат вскоре вернулся и обратился к Габриэле:
— Пойдемте со мной, пожалуйста.
Когда Габриэла вошла в соседнюю комнату, Рамиро сказал:
— Дочь моя, вы нам оказали большую услугу. Но я хотел бы еще больше быть вам обязанным. Смею ли я попросить вас еще об одной услуге?
— Если я смогу…
— Негра нужно вывести от вас так, чтобы никто не видел. А это удастся только на рассвете. Поэтому до утра вы должны его прятать, чтобы никто не узнал о том, что он у вас. Извините, что я вам это говорю, но даже Насиб не должен ничего знать.
— Он придет домой после закрытия бара.
— Не говорите ему ничего. Пусть ложится спать.
Часа в три, нет, ровно в три встаньте и посмотрите в окно, есть ли кто-нибудь на улице. Я к этому времени пошлю туда кума Амансио с людьми. Если они будут там, откройте дверь и выпустите Фагундеса. Мы позаботимся о нем.
— А его не схватят? Не сделают ему ничего худого?
— Можете не беспокоиться. Мы не дадим его убить.
— Хорошо. Тогда я пойду, с вашего разрешения.
Уже поздно.
— Одна не ходите. Я дам вам провожатого. Алфредо, отведи дону Габриэлу домой.
Габриэла улыбнулась.
— Удобно ли это, сеньор?.. Ночью ходить по улицам с сеньором Алфредо… Я пойду берегом, чтобы меня не заметили из бара… А если нас кто-нибудь увидит, что тогда подумают, что скажут? Насиб завтра же все узнает.
— Вы правы, дочь моя. Я не подумал об этом. — Рамиро обернулся к сыну: — Скажи своей жене и Жерузе, чтобы они приготовились. Поведете девушку втроем.
Быстро!
Алфредо хотел что-то сказать и открыл было рот, но Рамиро повторил:
— Быстро!
Вот как получилось, что в ту ночь Габриэла вернулась домой в сопровождении депутата, его жены и дочери. Жена Алфредо шла молча, возмущаясь про себя.
Но Жеруза взяла Габриэлу за руку и без умолку болтала. К счастью, двери дома доны Арминды оказались запертыми. В тот вечер был спиритический сеанс, и акушерка еще не вернулась. Редко попадались на улицах прохожие, охота за негром продолжалась.
Насиб пришел в первом часу. Некоторое время он постоял у окна, наблюдая, как наемники возвращаются с холма. Но со спусков охраны не сняли. Многие считали, что негр упал в пропасть. Наконец Насиб и Габриэла легли. Уже давно Габриэла не была такой нежной и пылкой, такой страстной, требовательной и неутомимой, как в ту ночь. Последнее время Насиб с разочарованием заметил, что она стала холоднее и безразличнее к нему, будто постоянно чувствовала себя утомленной. Правда, она не отказывала ему, но уже не теребила его, как прежде, не щекотала, требуя ласк и близости, когда он приходил усталый и лениво растягивался на постели. Теперь она только смеялась, и он засыпал, положив ногу на ее бедро. Если Насиб проявлял инициативу, она отдавалась ему с улыбкой и шептала «красавчик». Но куда девалась ее прежняя любовная страсть? Как будто то, что раньше было безумием, рождением и смертью, тайной, которая ежедневно раскрывается и обновляется и всякий раз остается такой же, как и в первый миг — изумительный миг ее открытия, — и кажется последней, когда наступает отчаяние конца, стало теперь приятной забавой.
Насиб даже пожаловался Тонико, которому издавна поверял свои секреты. Нотариус объяснил, что это обычно случается в браках: страсть любовницы гаснет, становится тихой супружеской любовью, скромной и привычной, а не бурным чувством, требовательным и ненасытным. Может быть, это и было верно, но не удовлетворяло Насиба. Он начал подумывать о том, чтобы поговорить с Габриэлой.
Но в ту ночь Габриэла стала прежней. Ее страсть опаляла его, неугасимым пламенем пылал костер ее чувств, вздымался огонь без пепла, полыхал пожар стонов и вздохов. Кожа Габриэлы жгла кожу Наоиба.
Габриэла была для него женой не только в постели.
Она навсегда проникла в его душу, слилась с его телом, он ощущал ее всем своим существом, и не раз ему приходила мысль, что в ее объятиях он согласился бы умереть. Счастливый, Насиб уснул, положив ногу на бедро утомленной Габриэлы.
В три часа сквозь чуть приоткрытые жалюзи Габриэла различила Амансио, который курил у фонаря.
Поодаль стояли наемники. Габриэла пошла за Фагундесом. Проходя мимо спальни, она увидела, что Насиб беспокойно ворочается во сне и никак не может найти ее бедро. Габриэла подложила ему под ногу подушку.
Насиб улыбнулся. Он такой хороший!
— Да вознаградит тебя господь! — сказал ей на прощание Фагундес.
— Купите себе с Клементе плантацию.
Амансио поторопил их:
— Пора. Пошли скорее! — И, обращаясь к Габриэле, добавил: — Еще раз спасибо.
Пройдя несколько шагов, Фагундес обернулся, он увидел, что Габриэла все еще стоит у двери. Нет в целом мире женщины, равной ей. Кто с ней сравнится?
О приятностях и неприятностях брака
Незабываемая ночь, когда в их постели снова вспыхнула не знающая никаких границ страсть, когда Габриэлу пожирал огонь, а Насиб рождался и умирал в этом страстном и сладостном пламени, имела печальные последствия.
Счастливый Насиб вообразил, что после долгого и спокойного течения неторопливых вод вернулись бурные ночи прошлого, что настал конец глупым размолвкам по пустякам. Тонико, с которым Насиб советовался, не скрывая даже самых интимных подробностей, приписывал перемену в их отношениях тому, что они стали супругами, и объяснял охлаждение Габриэлы теми тонкими и сложными различиями, которые существуют между любовью жены и любовью любовницы.
Может быть, это и так, но Насиб не был в этом уверен. Почему же тогда охлаждение не произошло сразу же после брака? Ведь продолжались же еще какое-то время прежние безумные ночи; он поздно просыпался и приходил в бар с опозданием. Перемену Насиб заметил тогда, когда между ними начались недоразумения.
Габриэла, должно быть, сердилась гораздо больше, чем это показывала. Возможно, он требовал от нее слишком многого; забывая о ее характере и о том, как она жила прежде, он хотел сразу сделать из Габриэлы светскую даму, принадлежащую к сливкам ильеусского общества, почти силой вырвав из нее глубоко укоренившиеся привычки. Насиб был нетерпелив и не желал воспитывать ее постепенно. Она хотела идти в цирк, а он тащил ее на скучный литературный вечер. Не позволял, как она любила, смеяться по любому поводу и без всякого повода, читал ей нотации из-за каждого пустяка, стремясь сделать Габриэлу такой же, как жены врачей и адвокатов, полковников и коммерсантов. «Не говори громко, это неприлично», — шептал он ей в кино.
«Сиди прямо, не вытягивай ноги, сдвинь колени».
«В этих туфлях не ходи! Надень новые, зачем я тебе их покупал?» «Надень приличное платье. Мы сегодня пойдем навестить мою тетку. Обрати внимание, как она себя ведет». «Мы обязательно должны пойти на заседание общества имени Руя Барбозы» (где декламируют поэты и читают что-то совсем непонятное — тоска страшная). «Сегодня сеньор Маурисио будет выступать в Коммерческой ассоциации, нам нужно пойти» (слушать всю нудную библию!). «Пойдем навестим дону Олгу. Скучно с ней или нет, но она наша посаженая мать». «Почему ты не носишь драгоценности, и зачем только я тебе их покупаю!»
Конечно, Габриэла стала, в конце концов, обижаться на него, хотя и не проявляла этого в их повседневных отношениях. Правда, иногда она спорила, не повышая голоса и желая лишь узнать, почему он требует от нее того или иного, иногда огорчалась и просила, чтобы он ее не принуждал. Но всегда кончалось тем, что Габриэла уступала его капризу, подчинялась его распоряжениям и выполняла его указания. Но потом она перестала спорить, только стала иначе вести себя в постели, будто недоразумения между ними они еще не превратились в ссоры — и требования Насиба охладили ее пыл, умерили чувственность, сковали душу. Если он искал ее близости, она открывалась ему навстречу, как венчик цветка. Но она уже не казалась жадной и ненасытной, как прежде. Только в ту ночь, когда он вернулся такой усталый — тогда покушались на полковника Аристотелеса, — Габриэла стала прежней, а быть может, еще более страстной. Потом опять вернулось спокойствие, тихие улыбки, она охотно и вместе с тем пассивно отдавалась ему, если он проявлял инициативу. Как-то Насиб три ночи подряд намеренно не искал ее близости. Габриэла просыпалась, услышав, что он пришел, целовала его в губы, подставляла бедро и засыпала с улыбкой. На четвертый день он не выдержал и вспылил:
— Ты не обращаешь внимания…
— На что, Насиб?
— На меня. Я прихожу, а ты ведешь себя так, будто, меня нет.
— Тебе хочется есть? Может, выпьешь мангового напитка?
— Какой там напиток! Ты перестала ласкаться ко мне, а ведь раньше я загорался от твоих ласк.
— Ты приходишь усталый, и я не знаю, хочешь ли ты меня. Ну как мне себя держать? Ты отворачиваешься и засыпаешь, а я не хочу навязываться.
Габриэла потупилась и комкала край простыни. Такой грустной Насиб ее никогда не видел, она его растрогала. Значит, она ведет себя так, потому что боится докучать ему, боится, что он не отдохнет после дневных тягот. Милая Биэ…
— За кого ты меня принимаешь? Пускай я прихожу усталый, но тебя я хочу, я не старик и не…
— Но если Насиб поманит меня пальцем, разве я не тут как тут? Когда я вижу, что ты хочешь…
— Но ведь это еще не все… Прежде ты была как пылающий факел, как ураган. А теперь как легкий ветерок.
— Тебе уже не нравится моя любовь? Тебе надоела твоя Биэ?
Габриэла говорила все это, не поднимая на Насиба глаз.
— Я люблю тебя с каждым днем больше, Биэ. Без тебя я не могу. Похоже, не ты мне, а я тебе надоел. В тебе нет прежней страсти.
— Не обращай внимания. Я тебя тоже очень люблю. Можешь поверить, Насиб. Но если и я бываю иногда усталой, так это потому, что…
— А кто в этом виноват? Я нанял служанку, чтобы она убирала в доме, а ты ее прогнала. Нанял девчонку на кухню, чтобы ты готовила только соусы, но ты продолжаешь готовить все блюда. Почему ты все хочешь делать сама, будто ты служанка?
— Ты, Насиб, такой хороший, ты мне больше чем муж.
— Я не всегда такой. Иногда я браню тебя. Я думал, что поэтому ты так изменилась. Но ведь я желаю тебе добра. Мне хочется, чтобы ты заняла видное место в обществе.
— Я готова выполнять все твои желания, Насиб. Но есть вещи, которые я не умею делать. Как я ни стараюсь, у меня к ним не лежит душа. Будь снисходительнее к своей Биэ. Ты должен ей кое-что прощать…
Насиб обнял Габриэлу. Она прижалась головой к его груди и расплакалась.
— Что я тебе сделал, Биэ, почему ты плачешь? Я больше не буду говорить об этом, раз я огорчил тебя, хотя и не желал того.
Габриэла, все еще не поднимая глаз от простыни, вытерла слезы тыльной стороной руки и снова прижалась к груди Насиба.
— Ничего ты не сделал… Это я плохая, а Насиб такой хороший…
И с тех пор она снова стала ждать его возвращения, полная прежней страсти и готовая не сомкнуть глаз до рассвета. Поначалу Насиба захватила эта вспышка.
Габриэла оказалась лучше, чем он думал. Достаточно было поговорить с ней, и она по-прежнему не давала ему заснуть и устать. Однако собственную усталость ей все хуже удавалось скрывать, она возрастала. Однажды ночью Насиб сказал Габриэле:
— Биэ, с этим надо кончать.
— С чем, Насиб?
— Этой работой ты себя убиваешь. — Да нет же, Насиб.
— Ты не выдерживаешь ночью… — Он улыбнулся. — Не так ли?
— Ты, Насиб, очень сильный…
— Так слушай: я уже снял этаж над баром Для ресторана. Теперь только нужно подождать, пока выедут жильцы, потом вычистить, выкрасить и хорошенько оборудовать помещение. Думаю, что в начале года ресторан можно будет открыть. Сеньор Мундиньо хочет войти в долю. Он собирается выписать из Рио холодильник, какую-то особенную плиту и небьющуюся посуду. Я согласился.
Габриэла от радости захлопала в ладоши.
— Я выпишу откуда-нибудь двух кухарок. Хотя бы из Сержипе. Ты будешь лишь руководить ими, показывать, как приготовлять блюда, которые сама выберешь Готовить будешь только для меня. И завтра же найму служанку для уборки, на тебе останется только кухня, пока наша мулатка не подучится. Я хочу, чтобы завтра же у нас была горничная.
— Зачем, Насиб? Не нужно. Я устала потому, что ходила помочь доне Арминде.
— Этого еще не хватало!
— Она заболела, ты же знаешь. Я не могла оставить бедняжку одну. Но ей уже лучше, так что никакой служанки нам не нужно. Я не хочу, Насиб.
Насиб не стал ни спорить, ни настаивать. Его мысли были заняты рестораном. Ему удалось снять верхний этаж в доме, где помещался бар «Везувий». До того как Диоженес построил свой «Ильеус», там был кинотеатр. Потом зал разделили на отдельные комнаты, в которых жили молодые приказчики. В двух комнатах побольше функционировала лотерея. Но хозяин дома араб Малуф задумал теперь сдать весь этаж одному арендатору, и лучше всего Насибу, который уже арендовал низ. Малуф дал жильцам месяц для переезда У Насиба состоялся длинный разговор с Мундиньо Фалканом. Экспортер горячо высказывался за открытие ресторана, и они обсудили возможность объединения. Мундиньо вытащил из ящика стола журнал, чтобы показать Насибу различные типы холодильников и потрясающие нововведения в иностранных ресторанах.
Конечно, для Ильеуса это слишком. Но все же они оборудуют хороший ресторан, лучше любого ресторана в Баие. В те дни, когда обсуждалось столько различных проектов, Насиб позабыл о пассивности Габриэлы в часы любви.
Тонико, неизменно появлявшийся в баре после сиесты, около двух часов, чтобы выпить для пищеварения горький аперитив (больше он не записывал выпитое в кредит: теперь он пил бесплатно на правах посаженого отца хозяина бара), как-то тихо спросил Насиба:
— Ну, как у вас дела?
— Лучше. Только Габриэла очень устает. И все равно не хочет нанять служанку, все делает сама. Да еще ходит помогать соседке. К вечеру она выбивается из сил и засыпает на ходу.
— Не стоит насиловать ее натуру. Если вы против ее желания наймете служанку, она опять будет недовольна. А с другой стороны, араб, вы как будто не понимаете, что жена не проститутка. Любовь жены должна быть скромной, ведь вы же сами хотите, чтобы Габриэла стала настоящей дамой? Так начните с постели, мой дорогой. А чтобы погулять, женщин в Ильеусе хватит… Их даже слишком много, и некоторые восхитительны. А вы стали монахом, не появляетесь больше в кабаре…
— Мне не нужно других женщин…
— Ну да, а потом жалуетесь, что Габриэла устала…
— Нужно нанять служанку. Моя жена не должна убирать дом.
Тонико хлопнул Насиба по плечу, последнее время он задерживался в баре недолго и не поджидал больше Жоана Фулженсио.
— Пока ничего не предпринимайте, я на днях зайду поговорить с ней. Посоветую ей все же нанять горничную. А до тех пор оставьте все как есть.
— Ну что ж, согласен. Она вас слушает. Вас и дону Олгу.
— Знаете, кому очень понравилась Габриэла? Жерузе, моей племяннице. Она постоянно говорит о ней. По ее мнению, Габриэла — самая красивая женщина в Ильеусе.
— Так оно и есть… — вздохнул Насиб,
Когда Тонико собрался уходить, Насиб пошутил:
— Вы теперь у нас не засиживаетесь… Наверно, неспроста… Новая женщина, конечно? Что за секреты от старого Насиба?
— Как-нибудь расскажу…
Тонико вышел и направился в сторону порта. Насиб стал думать о ресторане. Как его назвать? Мундиньо предложил — «Серебряная вилка». Не очень изящно и к тому же непонятно, что это значит. Насибу больше нравится «Коммерческий ресторан», это гораздо изысканнее.
Вздохи Габриэлы
И зачем только он на ней женился? Напрасно, напрасно… Раньше ей было лучше. И все этот сеньор Тонико, который сам имел на нее виды, да еще дона Арминда, которая подлила масла в огонь, потому что обожала устраивать свадьбы. Насиб решился на женитьбу из боязни потерять ее, из опасения, что она от него уйдет. Это было глупо с его стороны. Зачем ей уходить, если она довольна так, что дальше некуда? Он боялся, что она сменит его кухню, его постель и его объятия на особнячок в одном из пустынных переулков и на счета в магазинах, которые откроет ей какой-нибудь фазендейро, безобразный старик в сапогах, с револьвером за поясом и с деньгами в кармане.
Все же хорошо ей тогда жилось… Она готовила, стирала, убирала дом. Ходила в бар с судками, роза в волосах, на губах — улыбка. Она шутила с мужчинами и ощущала их желание, которое носилось в воздухе. Ей подмигивали, с ней заигрывали, касались ее руки, иногда груди. Насиб ее ревновал, и это было забавно.
Он приходил поздно ночью. Она ждала его и в мыслях уже отдавалась ему и всем молодым мужчинам, ведь стоило только подумать, только захотеть… Насиб приносил ей подарки: безделушки с базара, а из дядиного магазина брошки, браслеты, кольца со стекляшками. Принес птичку, которую она выпустила. Тесные туфли, которые ей не нравились… Она ходила в домашних туфлях, небрежно одетая, повязав волосы лентой. Ей нравилось все: двор с гуявой, дынным деревом и питангой. Нравилось греться на солнце вместе с хитрым котом, разговаривать с Туиской, нравилось, когда он танцевал и когда она танцевала для него. Ей нравился золотой зуб, который Насиб велел ей вставить. Нравилось петь по утрам, хлопоча в кухне. Гулять по улицам, ходить в кино с доной Арминдой, в цирк, который давал представления на Уньане.
Хорошее было время, когда она была не сеньорой Саад, а просто Габриэлой, Просто-напросто Габриэлой.
Зачем он на ней женился? Плохо быть замужем, не нравится это ей… Шкаф полон красивых платьев.
Три пары тесных туфель. Даже драгоценности у нее есть. Одно кольцо стоило очень дорого, дона Арминда узнала: за него Насиб заплатил почти две тысячи рейсов. А что ей делать со всем этим? Ведь что она любит, того нельзя… Водить хоровод на площади с Розиньей и Туиской — нельзя. Ходить в бар с судками — нельзя. Смеяться с сеньором Тонико, Жозуэ, сеньором Ари, сеньором Эпаминондасом — нельзя. Ходить босиком по тротуару у дома нельзя. Бегать по пляжу с развевающимися по ветру волосами и шлепать по воде — нельзя. Смеяться, когда хочется и где хочется, при посторонних, нельзя. Говорить то, что думаешь, — нельзя. Словом, ничего из того, что она лю0ила, ей делать нельзя. Она — сеньора Саад, и ей ничего нельзя. Плохо быть замужем…
Она никогда не хотела обидеть его или огорчить.
Насиб хороший, лучше его нет никого в мире. Она любит его, это настоящая любовь. Это безумие. Он такой солидный, хозяин бара, в банке у него текущей счет — и сходит с ума по ней… Смешно! Другие стремились к ней не потому, что любили ее, а просто хотели спать с нею, сжимать ее в своих объятиях, целовать ее губы, вздыхать на ее груди. Все, все, без исключения: и старые и молодые, и красивые и уродливые, и богатые и бедные. Так было раньше, так было и теперь. Но все ли? Да, все, кроме Клементе. И, пожалуй, еще Бебиньо, но тот был мальчиком, что он знал о любви?
А Насиб знает, что такое любовь. Она тоже чувствовала к нему что-то иное, отличное от того, что чувствовала прежде к другим мужчинам. Они все без исключения — все, все, даже Клементе, даже Бебиньо, — были ей нужны только для того, чтобы спать с ними. Когда она думала о молодом мужчине, с которым заигрывала, будь то Тонико или Жозуэ, Эпаминондас или Ари, она думала только о том, чтобы лежать с ним в постели.
К Насибу она тоже испытывала безудержное влечение, но не только: она любила его, ей нравилось быть с ним вместе, слушать его голос, готовить его любимые блюда, чувствовать ночью его тяжелую ногу на своем бедре. В постели она его любила за то, что там делают вместо того, чтобы спать. Но любила она его не только в постели и не только за это. Она любила его за другое, за это другое только его она и любила. Для нее Насиб был всем: мужем и хозяином, семьей, которой у нее никогда не было, отцом и матерью, братом, который умер, едва родившись. Насиб — все, что у нее есть. Плохо быть замужем. Глупо, что они поженились.
Раньше было гораздо лучше. Обручальное кольцо на пальце ничуть не изменило ее чувств к Насибу. Но теперь она вынуждена ссориться с ним, обижать и огорчать его. А ей неприятно обижать его. Но как этого избежать, — увы, все, что любила Габриэла, запрещалось сеньоре Саад. И, увы, всего того, что полагалось делать сеньоре Саад. Габриэла не переносила, И все же кончалось тем, что она уступала Насибу, лишь бы не огорчать его, ведь он такой хороший. А кое-что она делала тайком, чтобы он не знал и чтобы его не обижать.
Раньше было намного лучше, все можно было; он ревновал, но это была ревность любовника, которая быстро проходила в постели. Тогда она могла делать что угодно, не боясь его обидеть. Прежде каждая минута несла ей радость, она то и дело напевала, ее ноги сами шли в пляс. А теперь она за радость платит печалью. Разве ей не приходится наносить визиты ильеусским семьям? Одетая в шелка, обутая в тесные туфли, сидя на жестком стуле, она чувствует себя скованно. Она даже рта не открывает — боится сказать что-нибудь невпопад. Она больше не смеется, сидит как чучело. Не нравится ей все это. Зачем столько платьев, столько туфель, драгоценностей, золотых колец, ожерелий и серег, если она не может быть просто Габриэлой? Нет, не нравится ей быть сеньорой Саад.
Но теперь выхода нет… Зачем она тогда согласилась? Чтобы не обидеть его? А может, из страха, что когда-нибудь потеряет Насиба? Зря она согласилась; теперь вот грустит и делает то, что ей не по вкусу. А хуже всего, что для того, чтобы быть Габриэлой, ходить куда хочется и делать что вздумается, ей приходится хитрить, обижая и огорчая Насиба. Ее друг Туиска больше не приходит поболтать с ней. Он обожал Насиба, и вполне понятно почему. Когда Раймунда заболела, Насиб посылал ей деньги, чтобы она могла что-нибудь купить. Сеньор Насиб добрый. Туиска тоже полагал, что она должна быть сеньорой Саад, а не Габриэлой. Поэтому он и не приходил, так как считал, что Габриэла обижает и огорчает Насиба. Даже друг Туиска не понимал ее.
Никто ее не понимает. Дона Арминда все время изумляется, говорит, что это злые силы потустороннего мира виноваты в том, что Габриэла не хочет развиваться и воспитываться. Где это видано? У Габриэлы есть все, что нужно, и тем не менее она никак не хочет выбросить из головы разные глупости. Даже Туиска не мог ее понять, а тем более дона Арминда.
Вот и теперь — что ей делать? Скоро Новый год.
Бумба-меу-бой, терно волхвов, пастушки, презепио…
Ах, как она все это любит! На плантации она всегда изображала пастушку. Терно там было совсем бедное, не было даже фонарей, но зато как все было хорошо!
Совсем недалеко отсюда, в доме портнихи Доры (последний дом на их улице, куда Габриэла ходила примерять платья), начались репетиции терно волхвов. С пастушками, фонарями и всем, что положено. Дора заявила:
— Нести знамя может только дона Габриэла.
Три помощницы Доры согласились с нею. Лицо Габриэлы осветилось радостью, она захлопала в ладоши. Однако Габриэла все же не осмеливалась поговорить с Насибом. Украдкой ходила по вечерам репетировать рейзадо. Каждый день собиралась поговорить с Насибом и все откладывала. Дора шила ей расшитое бисером атласное платье с блестящей мишурой. Габриэла пастушка, танцует на улицах, несет штандарт, распевает и увлекает за собой самое красивое терно в Ильеусе. Это ей по вкусу, для этого она и создана! Но сеньора Саад не может быть пастушкой в терно. И она репетировала тайком, мечтал появиться в костюме пастушки и танцевать на улицах. Да, ей приходится обижать и огорчать Насиба. Но что она могла поделать?
Ах, как же ей быть?
О празднествах в конце года
Близился конец года — праздничные месяцы: рождество, Новый год, крещение, школьные и церковные празднества, ярмарки; на площади перед баром «Везувий» воздвигались балаганы. Город наполнился бойкими и веселыми студентами, приехавшими на каникулы из колледжей и университета Баии. Танцевали в семейных домах и в домах бедняков на холмах и на Острове Змей. В городе царило праздничное веселье, в кабаре и кабаках на окраинных улочках начались попойки и драки. В центре бары и кабаре также были переполнены. Ильеусцы выезжали на прогулки по Понталу, на пикники в Мальядо и на холм Пернамбуко, откуда можно было наблюдать за работой землечерпалок. Завязывались романы, уславливались о помолвках, новоиспеченные бакалавры, с которых не сводили растроганных взглядов родители, принимали поздравительные визиты. Появились первые ильеусцы, сыновья полковников, с кольцами — свидетельством о высшем образовании, первые адвокаты, врачи, инженеры, агрономы и учительницы, получившие образование в ильеусской монастырской школе. Жизнерадостный отец Базилио крестил шестого приемного сына, появившегося на свет по милости бога из чрева Оталии, его кумы. Старые девы получили обильную пищу для пересудов.
Никогда еще конец года не был столь оживленным.
Урожай оказался намного выше ожидаемого. Деньги тратились легко, в кабаре рекой лилось шампанское, с каждым пароходом прибывала новая партия женщин, студенты соперничали с приказчиками и коммивояжерами в ухаживании за девушками. Полковники сорили деньгами направо и налево, рвали кредитки по пятьсот мильрейсов. Было пышно отпраздновано новоселье в похожем на дворец особняке полковника Мануэла Ягуара. Было выстроено много новых домов и проложено много новых улиц, набережная, идущая вдоль побережья, была продлена в сторону кокосовых рощ Мальядо. Прибывали набитые заказами богатых ильеусцев пароходы из Баии, Ресифе и Рио, домашний быт горожан улучшался. Открывались все новые магазины с заманчивыми витринами. Город рос и менялся.
В колледже Эноха в присутствии федерального инспектора состоялись первые экзамены. Из Рио прибыл инспектор — журналист, сотрудничавший в правительственном органе. Он был известным литератором, поэтому в Ильеусе выступил с докладом, а билеты распространяли ученики колледжа. Собралось много народа, поскольку журналист слыл талантом. Представленный учителем Жозуэ, он рассказал о новых течениях в современной литературе — от Маринетти[65] до Грасы Араньи[66]. Доклад был страшно нудный, и его смогли понять лишь несколько человек: Жоан Фулженсио, Жозуэ, отчасти Ньо Гало и капитан. Ари тоже понял, но был несогласен с докладчиком. Многие вспомнили «дважды бакалавра», незабвенного Аржилеу Палмейру и его громовой голос. Вот это был докладчик! Разве можно их сравнить! Да к тому же этот молодой человек из Рио пить совсем не умеет. Пара глотков хорошей кашасы — и он валится с ног. Что же касается Аржилеу Палмейры, то тот мог потягаться с самыми знаменитыми плантаторами Ильеуса; он был не дурак выпить, а в ораторском искусстве — прямо Руй Барбоза. Вот он — действительно талант!
Впрочем, литературный вечер, вызвавший шумные споры, имел одну примечательную и живописную особенность. Надушенная крепкими духами, запах которых наполнил весь зал, разодетая шикарнее любой сеньоры (в кружевном платье, выписанном из Баии), обмахиваясь веером, настоящая матрона — не по возрасту, так как была совсем молодой, но по манере держать себя, по позам, по скромности взглядов, по исключительному достоинству благородной дамы, — в зале неожиданно появилась Глория, прежде в одиночестве томившаяся у окна, а теперь позабывшая о тоске, поскольку ее пышная плоть наконец обрела желанное утешение. Дамы зашушукались. Супруга доктора Демосфенеса, опустив лорнет, воскликнула с возмущением:
— Какое бесстыдство!
Жена депутата Алфредо (правда, всего лишь депутата палаты штата, но все же достаточно важной персоны), когда рядом с нею в парадном зале, спросив разрешения, уселась торжествующая Глория, в негодовании встала. Оскорбленная сеньора, увлекши за собой Жерузу, устроилась ближе к сцене. Поправляя складки юбки, Глория улыбалась. Отец Базилио, движимый чувством христианского милосердия, подсел к ней. Под бдительным наблюдением жен мужчины с опаской косились на нее. «Счастливец этот Жозуэ!» — завидовали они, набравшись духа и бросив тайком взгляд на Глорию. Несмотря на самые тщательные предосторожности, весь Ильеус знал о безумной страсти учителя колледжа к содержанке полковника. Узнать об этом оставалось только самому Кориолано.
Бледный и худой Жозуэ встал, шелковым платком, подарком Глории, вытер со лба несуществующий пот (кстати, Глория одела его с головы до ног, даже брильянтин и гуталин он покупал на ее деньги), и произнес пышную речь, назвав журналиста из Рио «блистательным талантом нового поколения, поколения антропофагов и футуристов». Жозуэ превознес докладчика и попутно обрушился на лицемерие, которое господствует в устаревшей литературе и в обществе Ильеуса. Литература существует для того, чтобы воспевать радости и наслаждения жизни, прекрасное женское тело. В ней нет места ханжеству. Он воспользовался случаем и прочел поэму, на которую его вдохновила Глория, — это был верх безнравственности… Глория аплодировала ему, сияя от гордости. Супруга Алфредо хотела уйти, однако не сделала этого, и потому только, что Жозуэ уже кончил свою речь, а ей хотелось еще послушать приехавшего литератора. Его, правда, никто не понял, но зато он не говорил непристойностей.
Впрочем, вольности Жозуэ уже мало кого шокировали — настолько изменился Ильеус, «потерявший умеренность, простоту и чистоту прежних времен, рай для женщин легкого поведения и дурных нравов», как выражался в своих речах доктор Маурисио, кандидат в префекты, намеревавшийся возродить строгую мораль.
Стоило ли возмущаться появлением Глории на литературном вечере, если в это же самое время распространилось и подтвердилось скандальное известие о бегстве Малвины? На пароходах из Баии прибывали студенты. Не приехала только Малвина, воспитанница школы монашеского ордена Мерее. Сначала думали, что Мелк Таварес решил усугубить наказание и лишил ее каникул.
Правда открылась, лишь когда Мелк вдруг отправился в Баию и вернулся, как и уезжал, один, мрачный и постаревший лет на десять. Малвина исчезла бесследно, воспользовавшись суматохой, царившей в школе перед каникулами. Мелк обратился в полицию, но в Баие Малвины не оказалось. Он связался с Рио, там ее тоже не нашли. Все сошлись на том, что она сбежала к Ромуло Виейре, инженеру, обследовавшему бухту. Ничем другим нельзя было объяснить ее бегства, давшего болтливым старым девам такую пищу для пересудов. Даже Жоан Фулженсио думал так и обрадовался, узнав, что инженер, вызванный в полицию Рио, доказал, что ничего не знает о Малвине, что не имел никаких вестей от девушки после своего возвращения из Ильеуса. Он ничего о ней не знал и не хотел знать. Тайна Малвины стала совершенно непроницаемой, никто не понимал, в чем дело, впрочем, предсказывали, что беглянка скоро раскается и вернется.
Но Жоан Фулженсио не верил ни в возвращение девушки, ни в то, что она попросит прощения у отца.
— Малвина не вернется, я в этом уверен. Она далеко пойдет. Знает, что делает.
Много месяцев спустя, уже на следующий год, в самый разгар уборки урожая, пришло известие, что она работает в Сан-Пауло, в какой-то конторе, учится по вечерам и живет одна. Мать, не выходившая из дому после бегства дочери, ожила. Мелк ничего не хотел о ней слышать:
— У меня нет больше дочери!
Но судьба Малвины стала известна много времени спустя. А в конце того года ее имя приобрело скандальную известность, ее всюду приводили как пример безнравственности, она вдохновляла адвоката Маурисио на гневные речи во время подготовки к выборам.
Выборы должны были состояться в мае, но уже сейчас адвокат пользовался каждым удобным случаем, чтобы призвать ильеусцев возродить былое благочестие. Однако немногие, казалось, были склонны к этому, так как новые нравы проникали всюду, даже в приличные семьи, к тому же этому способствовал приезд студентов на каникулы. Все студенты были сторонниками капитана. Они даже устроили обед в честь «будущего префекта (как его приветствовал студент третьего курса юридического факультета Эстеван Рибейро, сын полковника Кориолано, хотя сам полковник принадлежал к сторонникам Рамиро Бастоса), префекта, который избавит Ильеус от невежества, отсталости и косных провинциальных нравов и который будет проводником прогресса, освещающего столицу какао ярким лучом культуры». Еще решительнее оказался сын Амансио Леала, он постоянно вступал в бесконечные споры с отцом:
— Другого выхода нет, отец, вы должны это понять. Крестный Рамиро — это прошлое, Мундиньо Фалкан — будущее. — Он изучал в Сан-Пауло инженерное дело и говорил только о дорогах, машинах и прогрессе. — Вы правы, что остаетесь с ним. Вас связывает дружба, и хотя это сентиментально, я вас уважаю. Но следовать за вами не могу. Вы также должны понять меня.
Он завязал знакомство с инженерами и техниками, работавшими в бухте, и в скафандре опускался на дно канала.
Амансио слушал, приводил свои доводы, но всегда оказывался побежденным. Он гордился сыном, очень способным студентом, получавшим на экзаменах отличные отметки.
— Как знать, может быть, ты и прав, времена теперь другие. Да ведь мы начинали с кумом Рамиро. Тебя тогда еще на свете не было. Я был в то время юнцом, а он — уже крупным землевладельцем. Мы вместе узнали опасность, вместе проливали кровь, вместе богатели. Я не оставлю его теперь, когда ему так туго приходится. Он одной ногой уже стоит в могиле.
— Вы правы. Но прав и я. Я люблю крестного, но, если мне придется голосовать, за него я свой голос не отдам.
Амансио любил эти ранние утренние часы, когда он собирался идти на рыбный рынок, а его Берто возвращался с ночной пирушки и они заводили беседу.
Амансио был очень привязан к своему старшему сыну, такому прилежному, и всегда пользовался случаем, чтобы предупредить его или дать совет:
— Ты спутался с женой Флоренсио (это был пожилой полковник, женившийся в Баие на пылкой молодой девушке с огромными мечтательными глазами, происходившей из сирийской семьи) и по ночам пробираешься к ней через черный ход. Но ведь в Ильеусе все кабаре полны женщин. Неужели тебе их мало? Зачем ты связываешься с замужней? Флоренсио не из тех, кому можно безнаказанно наставлять рога, и если он узнает… А мне бы не хотелось посылать с тобой наемника. Кончи эту историю, Берто. Ты заставляешь меня волноваться. — Амансио усмехнулся про себя: ловкач все-таки его сын, наставляет рога бедному Флоренсио.
— Я не виноват, отец. Она так заигрывала со мной, а я не каменный. Но не беспокойтесь, на праздники она уедет в Баию. И вообще, когда наконец исчезнет этот обычай убивать неверную жену? Нигде ничего подобного я не видел! Стоит человеку выйти из дому в четыре утра, как тут же открываются все окна и за ним начинают подглядывать.
Амансио Леал смотрел на сына своим единственным глазом, в котором светилась нежность:
— Эх ты, оппозиционер…
Неизменно каждый день Амансио посещал Рамиро.
Старик организовывал предвыборную кампанию, опираясь на него, на Мелка, Кориолано и на некоторых других. Алфредо, воспользовавшись каникулами в палате, ездил по провинции и встречался с избирателями. От Тонико не было никакого толку, он думал лишь о женщинах. Амансио слушал, что говорит Рамиро, старался сообщать ему приятные новости, а иной раз даже шел на обман. Он знал, что выборы уже проиграны. Чтобы удержаться у власти, Рамиро пришлось бы обратиться к помощи правительства и добиться, чтобы полномочия победивших противников не были признаны. Но он и слышать не хотел об этом. Он считал свой авторитет непоколебимым и утверждал, что народ будет голосовать за него. В доказательство он приводил поступок жены Насиба, которая явилась к нему поздно вечером, бросив вызов всему городу, чтобы спасти его и Мелка. Благодаря ей они не оказались замешанными в дело покушения на Аристотелеса, что наверняка случилось бы, если бы наемники схватили негра. Это было бы особенно неприятно, поскольку трибунал вынес возмутительное решение, назначив для ведения процесса специального прокурора.
— Так вот, кум, я считаю, что этот негр скорее умер бы, чем открыл рот. Он верный человек, жалко, что промахнулся.
Но оправившийся после ранения Аристотелес приобрел еще больший авторитет. Он заявил, что Итабуна будет единодушно голосовать за Мундиньо Фалкана.
Из больницы Аристотелес вышел пополневшим, съездил в Баию, дал интервью журналистам некоторых газет, и губернатор не смог воспрепятствовать передаче дела в суд. Мундиньо связался с многими влиятельными людьми в Рио, где это покушение вызвало оживленные отклики. Один из депутатов оппозиции произнес в федеральной палате речь, возмущаясь возрождением бандитизма в какаовой зоне. Было много шума, но результат оказался невелик. Дело было очень запутанным, и преступника обнаружить не удалось. Поговаривали, что стрелял в Аристотелеса наемник по имени Фагундес, который рубил лес вместе с неким Клементе на плантациях Мелка Тавареса. Но как это доказать? И как доказать участие в преступлении Рамиро, Амансио, Мелка? Дело, которое вел специально назначенный прокурор, видимо, в конце концов попадет в архив.
— Мошенники… — возмущался Рамиро судьями апелляционного трибунала.
Они хотели сместить полицейского комиссара. Для того чтобы оставить его на посту, Алфредо пришлось съездить в Баию. Комиссар этот не очень-то устраивал Бастосов, он был вял, ленив, дрожал от страха перед наемниками, часто прибегал к помощи секретаря префектуры Итабуны — словом, был трусливым мальчишкой. Но если бы его сменили, то престижу Рамиро Бастоса был бы нанесен удар.
Рамиро иногда беседовал с Амансио, с Тонико, с Мелком, и в эти часы в нем вновь вспыхивала жизнь и прежняя энергия. Ибо теперь часть дня он проводил в постели; от полковника остались кожа да кости, да еще глаза, загоравшиеся, как и прежде, когда заходила речь о политике. Доктор Демосфенес посещал Рамиро ежедневно, выслушивал его, считал пульс.
Впрочем, несмотря на запрещение врача, Рамиро вышел однажды вечером на улицу, чтобы побывать на открытии презепио сестер Рейс. Он не мог не пойти туда, потому что к сестрам являлся весь город. Их дом был набит битком.
Габриэла помогала Кинкине и Флорзинье в последних приготовлениях. Она вырезала фигуры, наклеивала их на картон, делала цветы. В доме дяди Насиба Габриэла нашла несколько сирийских журналов, поэтому в демократическом презепио появились магометане, восточные пажи и султаны. Жоан Фулженсио, Ньо Гало и сапожник Фелипе очень потешались над этим. Жоаким смастерил из картона гидропланы и подвесил их над хлевом, это было новинкой в презепио сестер Рейс.
Чтобы сохранить нейтралитет (ибо только зал с презепио, бар Насиба и Коммерческая ассоциация в разгар предвыборной борьбы сохраняли нейтралитет), Кинкина попросила выступить доктора, а Флорзинья уговорила произнести речь Маурисио Каиреса.
Тот и другой не поскупились на красивые фразы, которыми пытались вскружить убеленные сединами головы старых дев. Капитан, когда просил их отдать свои голоса оппозиции, сказал по секрету, что, если его изберут, им будет предоставлена официальная помощь.
Чтобы увидеть грандиозный презепио, многие приехали издалека: из Итабуны, Пиранжи, Агуа-Преты, даже из Итапиры. Приезжали целыми семьями. Из Итапиры прибыли дона Вера и дона Анжела, они восторженно восклицали, всплескивая руками: — Какая красота!
До далекой Итапиры дошла не только слава о презепио сестер Рейс, но также и слава о таланте Габриэлы. Несмотря на страшную суматоху, дона Вера не успокоилась, пока не увлекла Габриэлу в угол и не попросила у нее рецепты соусов и способы приготовления некоторых блюд. Из Агуа-Преты приехала сестра Насиба с мужем. Габриэла узнала об этом от доны Арминды, так как к Насибу они не зашли. На открытии презепио сестра Насиба злобно наблюдала за скромно сидевшей на стуле Габриэлой, которая не знала, как себя держать. Габриэла смущенно улыбнулась, но сеньора Саад де Кастро высокомерно отвела от нее взор. Габриэла расстроилась, но не потому, что золовка выказала ей пренебрежение. За это немного погодя ей отомстила дона Вера, к которой та старалась подластиться, расточая улыбки и любезности. Представив дону Анжелу, дона Вера сказала:
— Ваша родственница очаровательна. Она такая хорошенькая и скромная… Вашему брату повезло, он нашел хорошую жену.
Габриэла была окончательно отомщена, когда в зал своей старческой нетвердой походкой вошел Рамиро.
Перед ним все расступились, освободив проход и место в передней части презепио. Он поговорил с сестрами Рейс, похвалил Жоакима. Потом к нему стали подходить знакомые, чтобы поздороваться. Но он, заметив Габриэлу, оставил всех, направился к ней и очень любезно протянул руку:
— Как поживаете, дона Габриэла? Я что-то давно вас не видел. Почему вы не заходите к нам? Я хочу, чтобы вы с Насибом как-нибудь позавтракали у нас.
Жеруза, стоя рядом с дедом, улыбалась Габриэле и тоже поговорила с ней. Сестра Насиба прямо задрожала от злости, ее снедала зависть. И, наконец, Насиб тоже отомстил за жену, когда подошел, чтобы увезти ее домой. Насиб хороший. Он сделал это нарочно.
Они направлялись к выходу под руку и прошли совсем близко от четы Саад де Кастро. Насиб сказал громко, чтобы они услышали:
— Биэ, ты, моя женка, самая красивая из всех.
Габриэла опустила глаза, ей стало грустно. Не из-за презрения золовки, но потому, что, пока она в городе, Насиб ни за что не позволит Габриэле выступить в терно в наряде пастушки, со штандартом в руке.
Габриэла решила отложить разговор об этом на некоторое время и поговорить с Насибом ближе к концу года. Габриэла с удовольствием ходила на репетиции, пела, танцевала. Руководил репетициями тот пропахший морем парень, которого она встретила в «Бате-Фундо» в вечер, когда охотились за Фагундесом. Он раньше был моряком, а теперь работал в доках Ильеуса, его звали Нило. Это был очень живой парень и отличный режиссер. Он обучал Габриэлу танцам, показывал, как нести штандарт. Иногда участники терно оставались танцевать после репетиций, и по субботам веселье продолжалось до рассвета. Но Габриэла приходила домой рано, чтобы Насиб, чего доброго, не вернулся до нее… Да, она поговорит с ним попозже, совсем накануне праздника, так что, если он не даст согласия, она хотя бы походит на репетиции. Дора волновалась:
— Уже поговорили, дона Габриэла? А то давайте я?
Теперь все пропало. Пока надменная и высокомерная сестра будет в Ильеусе, Насиб ни за что не позволит Габриэле участвовать в терно и нести штандарт с изображением младенца Иисуса. И он прав… Хуже всего то, что он прав: раз сестра в Ильеусе, это невозможно. А обижать или огорчать Насиба она не могла.
Пастушка Габриэла, или сеньора Саад, в новогоднюю ночь
«Сама посуди, что скажет моя сестра и этот дурак зять?» Нет, Габриэла, Насиб не согласится. Это совершенно невозможно. Габриэла должна была признать, что Насиб прав, опасаясь взрыва негодования со стороны сестры.
А что скажут люди, что скажут друзья Насиба, завсегдатаи его бара, дамы из общества, полковник Рамиро, который относится к ней с таким уважением?
Нет, Габриэла, об этом нельзя даже думать и ничего более невероятного нельзя вообразить. Биэ должна убедить себя в том, что она уже не бедная служанка, без роду и племени, без всякого общественного положения. Разве можно представить себе сеньору Саад, которая возглавляет терно, с золотой картонной короной на голове, завернутая в синий и красный атлас, со штандартом в руке, сеньору Саад, которая извивается всем телом и переступает мелкими шажками в танце двадцати двух пастушек с фонарями. Разве можно представить себе сеньору Саад в обличье пастушки Габриэлы, которая идет впереди терно и на которую все смотрят? Конечно, нельзя, Биэ, это безумная затея…
Разумеется, Насиб любил смотреть терно, он даже аплодировал и приказывал угощать всех танцоров пивом. Да и кто не любит терно? Кто станет отрицать, что это красиво? Но видела ли она когда-нибудь, чтобы замужняя уважаемая сеньора вышла на улицу танцевать в терно? Не стоит здесь вспоминать Дору, из-за подобных вещей ее и бросил муж, и она осталась со своей швейной машиной, на которой шьет платья не себе, а другим. И, уж конечно, сейчас, когда в городе находятся сестра Насиба, этот мешок, набитый тщеславием, и ее муженек, дурак дураком, хоть и носит кольцо бакалавра, это невозможно. Невозможно, Габриэла, не стоит об этом и думать.
Габриэла склонила голову, соглашаясь. Он прав, она не может нанести ему обиду, когда его сестра и зять-бакалавр в Ильеусе. Насиб обнял Габриэлу.
— Не грусти, Биэ. Улыбнись.
Она улыбнулась, хотя ей больше хотелось плакать.
Она оплакивала в тот вечер атласное платье, такое красивое, синее с красным! Какое чудесное сочетание! Золотую корону со звездой. Штандарт тоже сине-красный, а на нем младенец Иисус и агнец. Не утешил ее и подарок, который Насиб принес ей ночью, когда вернулся домой, — дорогой расшитый шарф с кистями.
— Ты его наденешь на новогодний бал, — сказал он. — Я хочу, чтобы Биэ была самой красивой в этот вечер.
В Ильеусе только и разговоров было, что об этом новогоднем бале в клубе «Прогресс», который организовывали девушки и юноши-студенты. Портнихи не помнили, чтобы у них когда-либо еще было столько заказов. Некоторые женщины выписывали платья из Баии; портные примеряли белые мужские костюмы из самых лучших материалов; все столики в клубе были заранее заняты. На бал собирались даже Мистер с женой, которая приехала, как обычно, к мужу встретить Новый год. Вместо традиционных вечеров в частных домах ильеусское общество собиралось в залах «Прогресса» на бал, равного которому еще не было.
В тот же новогодний вечер состоится терно с фонарями, песнями и штандартом. Габриэла же в кружевной мантилье, в шелках и тесных туфлях будет молча, опустив глаза, сидеть на балу, не зная, как себя держать. А кто понесет штандарт? Дора расстроилась.
И сеньор Нило, молодой человек, пропахший морем, не скрывал своего разочарования. Только Микелина была довольна, надеясь, что теперь нести штандарт поручат ей.
Габриэла немного забылась и перестала плакать, лишь когда на пустыре Уньан оборудовали луна-парк.
Китайский луна-парк с гигантской каруселью, с лошадками, аттракционами и «сумасшедшим домом». Там все сверкало металлом и было залито светом. Луна-парк вызвал столько разговоров, что даже негритенок Туиска, который последнее время отдалился от Габриэлы, не удержался и забежал поделиться новостями.
Насиб сказал ей:
— Под Новый год я не буду работать. Только загляну в бар на минутку. Вечером пойдем в луна-парк, а к ночи — на площадь.
Как чудесно было в луна-парке! Они с Насибом все обошли. Два раза прокатились на гигантской карусели. «Русские горы» тоже доставили ей удовольствие, у нее даже похолодело внизу живота.
Из «сумасшедшего дома» она вышла совершенно одурев. Негритенок Туиска, принаряженный и даже обутый — и он тоже! — прошел в парк бесплатно, так как помогал расклеивать афиши на улицах города.
Вечером на площади против церкви святого Себастьяна открылись балаганы. Среди них разгуливал Тонико с сеньорой Олгой. Насиб оставил Габриэлу с супругами, он решил забежать на минутку в бар — взглянуть, как идут там дела. В палатках, где продавались подарки, за прилавками стояли девушки-студентки и ученицы колледжей. На площади был устроен также аукцион в пользу церкви. Ари Сантос, весь потный, выкрикивал:
— Блюдо со сладостями, дар очаровательной сеньориты Ирасемы! Сладости приготовлены ее милыми ручками! Сколько дадите за блюдо?
— Пять мильрейсов, — предложил какой-то студент-медик.
— Восемь, — повысил цену приказчик.
— Десять, — выкрикнул студент-юрист.
У Ирасемы было много поклонников, оспаривавших место у ворот ее дома, а поэтому и блюдо с ее сладостями. К открытию аукциона пришли посетители бара, чтобы поразвлечься и принять участие в торгах. Площадь заполнилась народом, влюбленные обменивались взглядами, помолвленные с улыбкой расхаживали, взявшись под руку.
— Чайный сервиз, подарок юной Жерузы Бастос. Шесть чашек, шесть блюдец, шесть десертных тарелочек и так далее. Сколько дадите?
Ари Сантос поднял маленькую чашечку.
Девушки переглядывались, когда мужчины назначали цену. Каждой хотелось, чтобы ее дар святому Себастьяну был продан подороже. Влюбленные и женихи тратили деньги на подношения своих милых, чтобы заслужить улыбку. Иногда какой-нибудь подарок начинали оспаривать полковники. Ажиотаж нарастал, цены повышались, доходя до ста — двухсот мильрейсов. В тот вечер, соперничая с Рибейриньо, Амансио Леал заплатил пятьсот мильрейсов за полдюжины салфеток. Это уже было мотовство, швыряние денег на ветер. Но денег было так много, что они рекой лились по улицам Ильеуса. Девушки на выданье воодушевляли взглядами возлюбленных и женихов; стоило посмотреть на их лица, когда с торгов шел их дар. Преподношение Ирасемы побило рекорд: блюдо сладостей было куплено за восемьсот мильрейсов. Эту цену дал Эпаминондас, самый молодой компаньон мануфактурного магазина «Соарес и братья». У бедной Жерузы не было возлюбленного. Впрочем, шептались о поклоннике в Баие, студенте пятого курса медицинского факультета. Если семья Жерузы — дядя Тонико или дона Олга — или кто-нибудь из друзей деда не назначит первой цены, ее чайный сервиз вообще не будет продан. Ирасема торжествующе улыбалась.
— Сколько за чайный сервиз?
— Десять мильрейсов, — крикнул Тонико.
Пятнадцать предложила Габриэла, рядом с ней уже стоял вернувшийся из бара Насиб. Полковника Амансио, который мог повысить ставку, уже не было, он ушел в кабаре. На трибуне лоснящийся от пота Ари Сантос выкрикивал:
— Пятнадцать крузейро… Кто больше?
— Тысяча рейсов.
— Сколько?! Кто назвал эту сумму? Просьба не шутить.
— Тысяча рейсов, — повторил Мундиньо Фалкан.
— А! Сеньор Мундиньо… Разумеется. Сеньорита Жеруза, не будете ли вы любезны передать ваш дар сеньору? Тысяча рейсов, сеньоры, тысяча рейсов! Святой Себастьян будет вечно благодарен сеньору Мундиньо. Как известно, эти деньги предназначаются на постройку новой церкви. Это будет огромная церковь! Сеньор Мундиньо заплатил сполна… Большое спасибо.
Жеруза взяла ящик с чашками и передала его экспортеру. Сраженные девицы обсуждали безумный поступок Мундиньо. Что он означал? Этот Мундиньо, необыкновенно богатый, элегантный молодой человек, боролся не на жизнь, а на смерть с семьею Бастосов.
В этой борьбе сжигали газеты, избивали людей, готовили покушения. Мундиньо выступил против старого Рамиро, оспаривая у него власть, и довел его до сердечных припадков. И в то же время отдал тысячу рейсов, две яркие бумажки по пятьсот рейсов, за полдюжины чашек из дешевого фарфора — дар внучки своего врага. Он прямо сумасшедший, ну кто же так поступает? Все они, и Ирасема и Дива, вздыхали по Мундиньо, богатом, элегантном, любящем путешествия холостяке, который часто ездил в Баию и у которого был дом в Рио… Девушкам были известны все его романы с Анабелой и другими женщинами, выписанными из Баии или с юга… Видели, как эти женщины, изящные и независимые, иногда гуляли по набережной. Однако флирта с незамужней девушкой он никогда не заводил.
Он вообще на них не смотрел, в том числе и на Жерузу. Ах, сеньор Мундиньо Фалкан, как он богат, как элегантен!
— Сервиз не стоит таких денег, — сказала Жеруза.
— Я грешник. А с вашей помощью мне удастся поладить со святыми и выхлопотать себе место на небесах.
Жеруза не смогла сдержать улыбки и спросила:
— Вы пойдете на новогодний бал?
— Еще не знаю. Я обещал встречать Новый год в Итабуне.
— Там, вероятно, будет весело. Впрочем, здесь тоже.
— Желаю вам хорошо развлечься и счастья в Новом году.
— И вам того же, если мы не встретимся до Нового года.
Тонико Бастос наблюдал за этим разговором и не понимал Мундиньо. Тонико все еще мечтал о примирении в последнюю минуту, надеялся спасти авторитет Бастосов. Он с улыбкой поклонился Мундиньо. Экспортер ответил и направился домой.
В канун Нового года Мундиньо приехал в Итабуну, позавтракал с Аристотелесом и присутствовал на открытии ярмарки скота, которая была важным нововведением, перенесшим торговлю быками в муниципалитет Итабуны. Он произнес речь, сопровождавшуюся аплодисментами, после чего сел в машину и вернулся в Ильеус. И не потому, что вспомнил о Жерузе, а потому, что хотел встретить Новый год с друзьями в клубе «Прогресс». Он не пожалел об этом: праздник получился на редкость удачный, говорили, что такой бал можно увидеть только в Рио.
Аляповатая роскошь, платья из крепдешина, тафты и бархата, обилие драгоценностей — все это возмещало недостаток изысканности и сглаживало провинциальный облик некоторых сеньор, подобно тому как кредитки в пятьсот мильрейсов, пачками лежавшие в карманах полковников, искупали их грубые манеры и простонародный выговор. Но хозяевами праздника были молодые. Некоторые юноши, несмотря на жару, пришли в смокингах. В залах девушки, кокетливо обмахиваясь веерами, смеялись и пили прохладительные напитки. Шампанское и самые дорогие вина лились рекой. Залы были затейливо украшены серпантином и искусственными цветами. Праздник обещал быть таким пышным и о нем ходило столько разговоров, что появился даже Жоан Фулженсио, противник балов.
И доктор тоже.
Жеруза улыбнулась, когда заметила Мундиньо Фалкана, разговаривавшего с арабом Насибом и Габриэлой, которая едва стояла на ногах — проклятая туфля жала ей кончик пальца. Да, ее ноги не были созданы для этой тесной обуви. Но она была так хороша, что самые высокомерные дамы — даже жена доктора Демосфенеса, самоуверенная уродина, — не могли отрицать того, что мулатка была самой красивой женщиной на балу.
— Простушка, но очень красива, — признавали они.
Дочь народа растерялась от шума разговоров, которых она не понимала, от роскоши, которая ее не привлекала, от зависти, тщеславия и сплетен, которые ее не соблазняли. Немного позже на улицы выйдет терно волхвов с веселыми пастушками, с расшитым штандартом. Процессия будет останавливаться перед домами, барами, распевать песни и танцевать, прося разрешения войти. Двери распахнутся, танцы и песни перенесутся в комнаты, хозяева станут угощать ликером и сладостями. В ту новогоднюю ночь, как и в две предыдущие, более десяти терно и процессий бумба-меу-бой вышли с Уньана, Конкисты, Острова Змей и Понтала, чтобы веселиться на улицах Ильеуса.
Габриэла танцевала с Насибом, с Тонико, с Ари, с капитаном. Она кружилась грациозно, но эти танцы не любила. Что это такое — вертеться в объятиях партнера! Она любила «коко мешидо», круговую самбу, матчиш. Либо польку под гармонику. Аргентинское танго, вальс, фокстрот ей не нравились. Тем более когда туфля просто впивается в ее оттопыренный палец.
Праздник был веселым. Не веселился только Жозуэ. Со стаканом в руке он стоял, прислонившись к косяку окна, и смотрел на улицу. Из своего окна Глория тоже глядела на толпу, заполнившую и тротуар, и мостовую. Рядом с ней, усталый и сонный, стоял Кориолано. Его веселье, как он сам говорил, было в постели Глории. Но Глории не хотелось ложиться; нарядно одетая, она смотрела на худое лицо Жозуэ в окне клуба.
Слышно было, как хлопают пробки бутылок с шампанским. Мундиньо Фалкан пользовался у девушек большим успехом, он танцевал с Жерузой, Дивой, Ирасемой, пригласил и Габриэлу.
Насиб переходил от одной группы мужчин к другой.
Танцевать он не любил, за весь вечер лишь два-три раза потоптался с Габриэлой. Потом оставил ее за столом вместе с добродушной супругой Жоана Фулженсио. Габриэла сняла под столом туфлю и стала гладить затекшую ногу. Она с трудом удерживалась от зевоты. Подходили дамы, присаживались к ним, затевали беседу и оживленно смеялись, перекидываясь репликами с женой Жоана Фулженсио. Весьма снисходительно они здоровались с Габриэлой, осведомлялись, как она поживает. Она сидела молча, не поднимая глаз. Тонико, как священнослужитель, исполняющий сложный обряд, вел дону Олгу в аргентинском танго.
Молодежь смеялась, шутила, танцуя главным образом в заднем зале, куда вход старикам был воспрещен.
Сестра Насиба и ее муж танцевали с чопорным видом.
Они притворялись, что не замечают Габриэлы.
Около одиннадцати часов, когда на улице осталось совсем мало людей давно уже удалилась и Глория, а с нею полковник Кориолано, — послышались музыка кавакиньо[67] и гитар, флейт и барабанчиков и голоса, певшие кантиги[68], которыми сопровождаются танцы рейзадо. Габриэла подняла голову. Ошибиться она не могла. Это терно Доры.
Процессия остановилась против клуба «Прогресс», оркестр смолк, все побежали к окнам и дверям. Габриэла сунула ногу в туфлю и одной из первых очутилась на тротуаре. Насиб присоединился к Габриэле, его сестра с мужем были поблизости, но по-прежнему делали вид, что не замечают их.
Пастушки несли фонари, а Микелина шла со штандартом. Нило, бывший моряк, со свистком во рту, дирижировал пением и танцами. На площади Сеабра одновременно с процессией появились персонажи терно — бык, пастух, кайпора[69] и бумба-меу-бой. Начались танцы. Пастушки пели:
Я пригожая пастушка, путь держу я в Вифлеем: помолюсь младенцу в яслях, поклонюсь волхвам я всем.Они не просились войти, так как не осмеливались прервать праздник богачей. Но Плинио Араса привел Официантов с пивом и угостил участников терно.
Бык немного отдохнул и выпил пива. Кайпора также.
Они снова принялись танцевать и петь. Микелина, в центре процессии, со штандартом в руке, поводила худыми бедрами, сеньор Нило свистел. Улица заполнилась людьми, которые вышли из клуба, чтобы посмотреть терно. Юноши и девушки со смехом хлопали в ладоши.
Я пригожая пастушка, ясной звездочки светлей. Укачаю Иисуса колыбельною своей.Габриэла уже никого не видела, одних лишь пастушек с фонарями, Нило со свистком и Микелину со штандартом. Она не видела Насиба, не видела Тонико — никого вокруг. Даже золовку с надменно задранным носом. Сеньор Нило свистнул, пастушки стали на свои места, бумба-меу-бой пошел вперед. Нило еще раз свистнул, пастушки затанцевали в ночной темноте, Микелина размахивала штандартом.
Мы пойдем, пойдем, пастушки, под другие окна петь…Они отправились петь и танцевать на другие улицы.
Вдруг Габриэла скинула туфли, ринулась вперед и выхватила штандарт из рук Микелины. Она закружилась, качая бедрами, заплясали освобожденные от тесной обуви ноги. Терно двинулось вперед, а золовка воскликнула: «О!»
Жеруза увидела, что Насиб чуть не плачет, его застывшее лицо выражало стыд и печаль. Тогда она тоже выбежала на мостовую, взяла фонарь из рук одной пастушки и принялась танцевать. Следом за Жерузой вышел юноша в смокинге, за ним другой, Ирасема взяла фонарь у Доры. Мундиньо Фалкан вытащил свисток изо рта Нило. В пляс пошли даже Мистер с женой. Жена Жоана Фулженсио, сама доброта, неунывающая мать шестерых детей, тоже вошла в круг. А потом и другие дамы, и капитан, и Жозуэ. Все участники бала оказались на улице, всем хотелось позабавиться. Замыкали терно сестра Насиба и ее муж-бакалавр. Впереди шла Габриэла со штандартом в руке.
От дворянки Офенизии до плебейки Габриэлы, с различными происшествиями и мошенничествами
Начало года ознаменовалось в Ильеусе различными событиями и происшествиями, новостями и скандалами. Студенты решили превратить открытие библиотеки Коммерческой ассоциации в веселое празднество.
— У них одни танцы на уме… — пожаловался президент Ассоциации Атаулфо.
Однако капитан, которому Жоан Фулженсио оказал неоценимую помощь в организации библиотеки, усмотрел в идее студентов прекрасную возможность для пропаганды своей кандидатуры на пост префекта.
Кстати сказать, он был прав, утверждая в споре с Атаулфо, что молодые люди хотят не только развлечься.
Эта библиотека была первой в Ильеусе, ибо в библиотеке общества имени Руя Барбозы имелась всего одна полка с книгами, причем почти исключительно стихи, поэтому открытие новой библиотеки представляло собой значительное событие. Это подчеркнул в своей выспренней речи Силвио Рибейро, сын Рибейриньо, второкурсник медицинского факультета. Прежде подобные праздники в Ильеусе не устраивались. Был организован литературный вечер, в котором приняли участие многие студенты и такие выдающиеся личности, как доктор, Ари Сантос, Жозуэ. Выступили также капитан и Маурисио: первый как библиотекарь Ассоциации, второй — как официальный оратор, и оба — как кандидаты в префекты. Но самым неожиданным было то, что ученицы монастырской школы и девушки из высшего ильеусского общества публично читали стихи. Некоторые смущенно, другие свободно и уверенно. Дива, у которой был чистый и приятный голос, спела романс.
Жеруза исполнила на рояле произведения Шопена. Были прочитаны стихи Билака, Раймундо Коррейи[70], Кастро Алвеса и Теодоро де Кастро, — последний воспевал Офенизию. Затем Ари и Жозуэ прочли свои стихи. Инспектору колледжа, который только что вернулся из длительной поездки по поселкам и фазендам Итабуны, где собирал материал для заметок в одну из газет Рио-де-Жанейро, это собрание казалось нелепым. Но ильеусцы находили его очаровательным.
— Прелестно! — заявила Кинкина.
— Приятно было побывать там, — согласилась Флорзинья.
После концерта, конечно, начались танцы. На пост заведующего библиотекой общество выписало из Белмонте поэта Сосиженеса Косту, которому надлежало оказать значительное влияние на развитие культурной жизни города.
Но, говоря о культуре, о книгах и о стихах Теодоро, посвященных Офенизии, разве можно не упомянуть о небольшой брошюре, которая была набрана и отпечатана Жоакимом в типографии Жоана Фулженсио и в которую вошли отдельные главы из памятной книги доктора «История семейства Авила и города Ильеуса»?
Брошюра была издана под другим названием, ибо содержала лишь главы, касающиеся Офенизии и ее запутанных отношений с императором Педро II. Доктор озаглавил брошюру скромно: «Историческая любовь», дальше следовал подзаголовок в скобках: «Эхо старой полемики». В брошюре было восемьдесят страниц, набранных корпусом 7, полных научных рассуждений и гипотез и написанных тяжеловесной киньентистской[71] прозой в стиле Камоэнса[72]. Романтическая история была изложена во всех подробностях, причем обильно цитировались различные авторы и стихи Теодоро. Этот труд увенчал лаврами светлую голову знаменитого ильеусца. Правда, в Баие некий критик, несомненно из зависти, заявил, что тощая книжка нечитабельна, и назвал ее «глупостью, переходящей все допустимые границы». Но это был злонамеренный субъект, голодная редакционная крыса, автор едких эпиграмм на баиянских писателей, пользующихся наибольшей популярностью. Зато из Мундо-Ново, где Аржилеу Палмейра создавал четвертую семью, этот известный поэт написал в другую, тоже баиянскую, газету шесть хвалебных страниц, где воспевал страсть Офенизии, «предтечу свободной любви в Бразилии». Другое наблюдение, весьма любопытное, несмотря на свой малолитературный характер, сделал Ньо Гало, беседуя в «Палелариа Модело» с Жоаном Фулженсио:
— Вы заметили, Жоан, что в брошюре доктора наша бабушка Офенизия несколько изменила свой облик? Раньше, я это хорошо помню, она была тощей и плоской, как кусок сушеного мяса. А теперь она потолстела — посмотрите четырнадцатую страницу. Знаете, на кого она стала похожа? На Габриэлу…
Жоан Фулженсио рассмеялся своим добродушным и умным смехом:
— Кто же в Ильеусе не влюблен в Габриэлу? Если бы она была кандидатом в префекты, она победила бы и капитана, и Маурисио, и даже их обоих, вместе взятых. Все бы голосовали за нее.
— Только не женщины…
— Женщины не имеют права голоса, кум. Но и некоторые женщины тоже голосовали бы за нее. В ней есть то, чего нет ни в ком. Вы не видели ее на новогоднем балу? Кто увлек всех на улицу танцевать рейзадо? Я думаю, что Габриэла наделена той силой, которая свершает революции и делает великие открытия. Для меня нет ничего приятнее, чем видеть Габриэлу среди нас, в обществе. Знаете, о чем я тогда думаю? О прелестном душистом цветке, живом цветке в букете бумажных…
Однако в те дни, когда книга доктора увидела свет, Офенизия затмила Габриэлу. На новой волне популярности всплыла благородная задумчивая Авила, влюбленная в императорскую бороду. Об Офенизии говорили за столом в клубе «Прогресс», где теперь очень часто возникали импровизированные танцы и устраивались танцевальные вечеринки, говорили юноши и девушки на ставших теперь обычными вечерних прогулках по набережной, говорили в автобусах, в поездах, в барах, упоминали в речах, стихах, газетах, даже в кабаре. Одна молоденькая испанка, горбоносая и черноглазая, страстно влюбилась в Мундиньо Фалкана. Но экспортер был занят певицей — исполнительницей народных песен, которую он привез из Рио, куда ездил после Нового года. Какой-то остряк, заметив страданья испанки, ее вздохи и страстные взгляды, прозвал ее Офенизией. И это имя к ней пристало, она увезла его с собой, когда уехала из Ильеуса на алмазные копи Минас Жераис.
Эта история произошла в новом кабаре «Эльдорадо», которое открылось в январе и стало серьезным конкурентом «Батаклана» и «Трианона», так как в «Эльдорадо» эстрадные артисты и женщины доставлялись прямо из Рио. Новое кабаре принадлежало Плинио Apace, хозяину «Золотой водки», и было расположено в порту. Открылась также лечебница доктора Демосфенеса, освященная епископом и речью Маурисио Каиреса. В операционном зале, куда был отнесен Аристотелес, по совпадению, ускользнувшему от доны Арминды, первым пациентом после официального открытия лечебницы был пресловутый Блондинчик, доставленный из «Бате-Фундо» с простреленным плечом. Было открыто также вице-консульство Швеции и в одном помещении с ним агентство пароходной компании с длинным и сложным названием. Иногда в баре Насиба можно было видеть долговязого иностранца, который беседовал с Мундиньо Фалканом и пил «Кану де Ильеус». Это и был агент шведской компании и вице-консул. В порту строилось огромное пятиэтажное здание новой гостиницы. На страницах «Диарио де Ильеус» студенты обратились к избирателям с призывом отдать свои голоса за того кандидата, который твердо пообещает, заняв пост префекта, построить муниципальную гимназию, стадион, приют для престарелых и нищих и проложить шоссе в Пиранжи. На другой день капитан на страницах той же газеты обязался выполнить все это и еще многое другое.
Кроме того, бывший еженедельник «Жорнал до Сул» начал выходить ежедневно. Правда, это продолжалось недолго, так как спустя несколько месяцев он снова стал выходить раз в неделю. «Жорнал до Сул» занимался исключительно политическими вопросами и в каждом номере поносил Мундиньо Фалкана, Аристотелеса и капитана. «Диарио де Ильеус» также не оставалась в долгу.
Было объявлено о том, что в ближайшее время откроется ресторан Насиба. Большинство жильцов уже выехало из комнат верхнего этажа. Только лотерея «жого до бишо» да два приказчика оставались на месте, поскольку еще не подыскали себе ничего подходящего. Насиб торопился. Через Мундиньо, своего компаньона, он уже сделал в Рио несколько заказов.
Сумасшедший архитектор сделал эскизы залов ресторана. Насиб снова повеселел. Но это была уже не та безграничная радость первых дней его жизни с Габриэлой, когда Насиб не боялся, что она от него уйдет. Это не заботило Насиба и сейчас, но, пока Габриэла не станет держать себя, как полагается даме из общества, он не мог быть до конца счастливым. Он уже не жаловался на ее холодность в постели. Насиб сейчас сам изрядно уставал: на праздниках в баре было очень много работы. Насиб уже привык к тому, что Габриэла любит его теперь как жена — не так бурно, более спокойно и нежно. Его печалило только то, что она никак не желала приобщаться к избранному обществу Ильеуса, несмотря на успех, который она имела в новогоднюю ночь после этой истории с терно. Тогда Насиб думал, что все пропало, но произошло чудо — в пляс на улице пустились все и под конец даже он сам. А разве потом, желая познакомиться с Габриэлой, не пришли к ним с визитом сестра и ее муж? Почему же тогда она по-прежнему расхаживает по дому одетая в какие-то тряпки, в домашних туфлях, по-прежнему возится с котом, готовит, убирает, распевает свои песенки и громко смеется при посторонних?
Насиб надеялся, что открытие ресторана поможет ему закончить воспитание Габриэлы. Тонико придерживался того же мнения. Для ресторана он наймет двух-трех помощниц, с тем чтобы Габриэла появлялась там как госпожа и хозяйка, давая указания и присматривая за приготовлением приправ. В ресторане она будет общаться только с приличными людьми.; Больше всего Насиба угнетало то, что Габриэла не хочет нанять горничную. Дом был маленький, но все же доставлял ей немало хлопот. К тому же она продолжала готовить для мужа и для бара. Служанка жаловалась, что дона Габриэла ничего не дает ей делать.
Девчонка лишь мыла посуду, помешивала кушанья и резала мясо. Но готовила, по существу, Габриэла — она не отходила от плиты.
Несчастье разразилось в тихий послеобеденный час, когда Насиб наслаждался полным покоем и радовался только что полученному известию о выезде конторы «жого до бишо» в одно из помещений торгового центра. Теперь остается лишь ускорить отъезд приказчиков.
Скоро на пароходе компаний «Костейра» или «Ллойд» должны прибыть заказы из Рио. Насиб уже нанял каменщика и маляра для ремонта и перестройки верхнего этажа, разделенного перегородками. Он хотел превратить это грязное помещение в светлый уютный зал с первоклассно оборудованной кухней, но Габриэла и слышать не желала о железной плите. Она требовала, чтобы плита была большая, кирпичная и топилась дровами. Насиб только что обо всем договорился с каменщиком и маляром и вдруг на месте преступления накрыл Бико Фино, который тащил деньги из кассы.
Это не было для Насиба сюрпризом, он уже давно не доверял ему, и все же араб вышел из себя и дал мальчишке пару оплеух:
— Вор! Мошенник!
Однако любопытно, что Насибу и в голову не пришло уволить мальчишку. Он просто решил проучить его для острастки. Но Бико Фино, отброшенный за прилавок, принялся выкрикивать оскорбления:
— Ты сам вор! Грязный турок! Разбавляешь вина! Приписываешь к счетам!
Насибу пришлось ударить Бико несколько раз, но все же он еще не думал увольнять своего помощника.
Он ухватил Бико за рубашку, поднял его с силой и ударил по лицу:
— Это тебе наука, чтобы не воровал больше!
Когда Насиб отпустил Бико, тот выскочил из-за прилавка и, плача, продолжал браниться:
— Мать свою бей! Или жену!
— Заткнись, или я действительно тебя поколочу.
— Попробуй!.. — Бико побежал к двери. — Турок, козел, шлюхин сын! Ты бы лучше смотрел за женой! Рога-то твои не болят?
Насиб изловчился и схватил мальчишку:
— Ты что болтаешь?
Выражение лица араба напугало Бико Фино:
— Ничего, сеньор Насиб. Отпустите меня…
— Ты знаешь что-нибудь? Отвечай, или я на тебе живого места не оставлю.
— Мне говорил Разиня Шико…
— Что?
— Что она путается с сеньором Тонико…
— С Тонико? Рассказывай все, и побыстрей. — Насиб сжал Бико с такой силой, что у того рубашка треснула.
— Каждый день, выйдя из бара, сеньор Тонико отправляется к вам.
— Врешь, подлец.
— Это все знают и смеются над вами. Отпустите, сеньор Насиб…
Насиб разжал пальцы, Бико Фино вскочил и убежал. Насиб остался стоять на месте, ничего не видя и не слыша, не способный ни что-либо предпринять, ни думать. В таком состоянии и нашел его Разиня Шико, когда вернулся с фабрики льда.
— Сеньор Насиб, что с вами? Сеньор Насиб…
Сеньор Насиб плакал.
Уведя Разиню Шико в комнату для игры в покер, он заставил его все рассказать и слушал, закрыв лицо руками. Шико назвал имена и перечислил подробности, начав с того времени, когда Насиб нанял Габриэлу на невольничьем рынке. Тонико был последним, уже после их женитьбы. Вопреки всему, Насиб не верил, ему хотелось, чтобы это оказалось ложью, хотелось доказательств, он не поверит, пока не увидит собственными глазами.
Страшнее всего была ночь в одной постели с Габриэлой. Он не мог заснуть. Когда Насиб пришел, Габриэла проснулась и, улыбнувшись, поцеловала его в губы. Из раненой груди вырвалось:
— Я очень устал.
Насиб отвернулся, погасил свет. Улегся на краю постели и отодвинулся от ее жаркого тела. Габриэла положила его ногу на свое бедро. Насиб не спал всю ночь, едва удерживаясь от желания допросить ее, узнать правду из ее уст и убить ее, как это надлежало сделать каждому порядочному ильеусцу. Но разве, после того как он убьет Габриэлу, ему станет легче?
Насиб глубоко страдал, ощущая внутри страшную пустоту. Будто у него сердце вырвали.
На другой день Насиб рано пришел в бар. Бико Фино еще не появлялся. Шико не глядел на хозяина и жался по углам. Около двух часов явился выпить свой аперитив Тонико. Он заметил, что Насиб в дурном настроении.
— Неприятности дома?
— Нет, все в порядке.
Ровно через пятнадцать минут после ухода Тонико он вытащил из ящика револьвер, сунул его за пояс и направился домой. Немного погодя обеспокоенный Шико сказал Жоану Фулженсио:
— Сеньор Жоан! Сеньор Насиб пошел убивать дону Габриэлу и сеньора Тонико Бастоса.
— Что такое?!
Шико в нескольких словах рассказал о случившемся, и Жоан Фулженсио выбежал из бара. Едва он обогнул церковь, как услышал крики доны Арминды. Тонико мчался к набережной, босой, в одних брюках, с пиджаком и рубашкой в руке.
О том, как араб Насиб нарушил старинный закон и вышел с честью из достойного братства святого Корнелия, или как сеньора Саад стала снова Габриэлой
Обнаженная, улыбающаяся Габриэла, распростертая на супружеском ложе. Обнаженный, с потемневшими от желания глазами Тонико, сидящий на краю кровати. Почему не убил их Насиб? Разве не было закона, древнего, сурового и неумолимого? Закона, который надлежало исполнять всякий раз, когда представлялся случай или возникала необходимость? Оскорбление, нанесенное обманутому мужу, смывается только кровью виновных. Не прошло и года с тех пор, как полковник Жезуино Мендонса свершил справедливое возмездие… Почему же Насиб не убил их? Разве не решил он поступить так, когда ночью лежал в постели, когда чувствовал, как горячее бедро Габриэлы обжигает ему ногу? Разве не поклялся он тогда это сделать? Почему нее он не убил? Разве не взял он револьвер из ящика и не заткнул за пояс? Неужели он не хотел встречать своих друзей с высоко поднятой головой? И все же он не исполнил закон.
Ошибаются те, кто думает, что он струсил. Он не был трусом и не раз это доказывал. Ошибаются те, кто думает, что он не успел. Тонико стремглав выскочил во двор, перепрыгнул через невысокий забор, натянул на голое тело брюки в коридоре шокированной доны Арминды. Но все же он смог пролепетать, заикаясь:
— Не убивайте меня, Насиб! Я просто давал ей кое-какие советы…
Оскорбленный Насиб и не вспомнил о револьвере.
Он размахнулся своей тяжелой рукой, и Тонико скатился с кровати, но тут же вскочил, схватил свои вещи со стула и скрылся. У Насиба было более чем достаточно времени на то, чтобы выстрелить, и не было никакой возможности промахнуться. Почему же он не убил? Почему, вместо того чтобы убить Габриэлу, он стал избивать ее, не говоря ни единого слова, стал молча истязать ее, оставляя темно-красные, почти лиловые пятна на ее теле цвета корицы? Она тоже ничего не говорила, не испустила ни одного крика, у нее не вырвалось ни одного рыдания, она плакала молча и безответно сносила удары. Он еще бил ее, когда прибежал Жоан Фулженсио. Габриэла накрылась простыней. Да, времени у Насиба было более чем достаточно, чтобы их убить.
Ошибаются и те, кто думает, что он не убил ее потому, что слишком любил. В тот момент Насиб не любил Габриэлу. Но он ее и не ненавидел. Он бил ее, ни о чем не думая, словно желая успокоиться и отомстить за то, что пережил днем и накануне вечером и сегодня утром. Душа его была пуста, как кувшин, из которого вынули цветы. Сердце его болело, будто кто-то медленно вонзал в него кинжал. Насиб не чувствовал ни ненависти, ни любви. Одну только боль.
Он не убил ее потому, что не мог. Все эти страшные истории, которые он рассказывал про Сирию, были выдумкой. Избить ее до полусмерти — на это он был способен. И он бил ее без сострадания, как бы получая по старому счету долг. Но убить не мог.
Насиб молча подчинился, когда пришел Жоан Фулженсио, схватил его за руку и сказал:
— Довольно, Насиб. Пойдемте со мной.
На пороге Насиб остановился и тихо проговорил, не оборачиваясь:
— Я вернусь ночью. Чтобы к этому времени тебя здесь не было.
Жоан Фулженсио увел его к себе. Войдя, он сделал жене знак, чтобы она оставила их одних. Они уселись в комнате, заставленной книгами, араб сжал голову руками и долгое время молчал, а потом спросил:
— Что мне делать, Жоан?
— А что вы можете сделать?
— Уехать из Ильеуса. Больше я не могу здесь жить.
— Почему? Не понимаю.
— Мне наставили рога. Я не могу здесь оставаться.
— Вы действительно хотите ее бросить?
— А разве вы не слышали, что я сказал? Зачем же вы меня спрашиваете? Если я ее не убил, так вы думаете, что я смогу с ней жить дальше? Знаете, почему я не убил? Я никогда не умел убивать… Даже курицу… Даже теленка. Я не мог убить даже хищника.
— Я нахожу, что вы поступили правильно, убивать из ревности — это варварство. Только в Ильеусе так поступают, да еще дикари. Вы совершенно правы, — я уеду из Ильеуса…
Жена Жоана Фулженсио появилась на пороге гостиной и сказала:
— Жоан, тебя там спрашивают. Сеньор Насиб, разрешите, я вам принесу чашку кофе.
Жоан Фулженсио немного задержался, но Насиб и не притронулся к кофе. Он был опустошен, не испытывал ни голода, ни жажды, одно только страдание.
Жоан вошел, поискал книгу на полке и сказал;
— Я вернусь через минутку.
Он застал Насиба в той же позе, с отсутствующим взглядом. Жоан уселся рядом с ним и положил ему на колено руку:
— По-моему, вы сделаете большую глупость, если уедете из Ильеуса.
— Но разве я могу иначе? Ведь надо мной станут смеяться.
— Никто не станет смеяться над вами…
— Вы не будете, потому что вы добрый человек. Но другие…
— Скажите мне, Насиб: будь она не вашей женой, а просто содержанкой, придали бы вы этому случаю такое значение, уехали бы из Ильеуса?
Насиб задумался.
— Она была для меня всем. Поэтому я и женился на ней. Помните?
— Помню. Я даже предупреждал вас.
— Меня?
— Вспомните. Я вам сказал: есть цветы, которые вянут, если их сорвать и поставить в вазу.
Да, но он никогда прежде не вспоминал об этом и тогда не обратил внимания на предупреждение Жоана. Теперь он понял. Габриэла не создана для вазы, для замужества и для мужа.
— А будь она вашей любовницей, — настаивал Жоан, — уехали бы вы из Ильеуса? Я не говорю о страдании, ведь мы страдаем потому, что любим, а не потому, что женаты. Но именно потому, что мы женаты, мы убиваем или уходим куда глаза глядят.
— Но если бы она была моей содержанкой, никто бы не стал смеяться надо мной. Просто я бы ее побил. И вам это известно так же хорошо, как и мне.
— Поверьте, у вас нет никакого основания уезжать. Перед законом Габриэла всегда была только вашей любовницей.
— Я женился на ней и по всем правилам оформил брак у судьи. Вы же сами присутствовали.
Жоан Фулженсио открыл книгу, которую держал в руке.
— Это гражданский кодекс. Послушайте, что гласит статья двести девятнадцатая, параграф первый, глава шестая, книга первая. Семейное право, раздел о браке. Я вам прочту то, что относится к расторжению брака. Взгляните: здесь сказано, что брак расторгается, когда один из супругов ввел другого в заблуждение. Ваш брак недействителен, Насиб, и может быть расторгнут. Стоит вам захотеть — и вы не только окажетесь свободным, но получится даже, будто вы никогда и не вступали в брак, будто это была обычная связь.
— Как же так? Объясните, пожалуйста, — заинтересовался араб.
— Вот послушайте. — Жоан стал читать. — «Существенной считается такая ошибка, которая выявляется в отношении тождества личности этого супруга, его чести и добропорядочности, причем ошибка эта, став впоследствии известной, делает невозможной совместную жизнь для введенного в заблуждение супруга». Я припоминаю, что когда вы сообщили мне о предстоящей женитьбе, то сказали, будто она не знает ни фамилии, ни даты рождения…
— Да. Ничего она этого не знала…
— И Тонико предложил свои услуги, чтобы устроить ей необходимые документы.
— Он сфабриковал все документы в своей нотариальной конторе.
— Ну так вот… Ваш брак недействителен, поскольку произошла существенная ошибка в личности. Я подумал об этом, когда мы пришли ко мне. Потом зашел Эзекиел, у него было ко мне одно дело. Я воспользовался этим и посоветовался с ним. Оказалось, я прав. Вам только надо доказать, что документы фальшивые, тогда вы свободны, будто никогда и не были женаты, а ваши отношения являлись обычной связью.
— А как я это докажу?
— Нужно поговорить с Тонико и с судьей.
— Я никогда больше не буду разговаривать с этим типом.
— Хотите, я возьму это на себя? То есть, я хотел сказать, переговоры. Эзекиел может заняться юридической стороной, если вы захотите, Он предложил свои услуги.
— Так он уже знает?
— Пусть это вас не волнует. Значит, вы не возражаете, чтобы я занялся этим делом?
— Я не знаю, как вас благодарить.
— Тогда — до скорого свидания. Оставайтесь пока у меня, почитайте что-нибудь. — Жоан хлопнул араба по плечу. — Или поплачьте, если хочется. В этом нет ничего зазорного.
— Я пойду с вами.
— Вот уж нет. Куда вам идти? Оставайтесь здесь и ждите. Я скоро вернусь.
Но дело оказалось не таким легким, как предсказывал Жоан Фулженсио. Прежде всего надо было договориться с Эзекиелом, который отказался беседовать с Тонико и улаживать дело по-дружески.
— Я хочу засадить этого типа в тюрьму и добьюсь, чтобы его уволили за подлог. Он, его брат и отец говорят про меня всякие гадости, так что ему придется убраться из Ильеуса; уж я подниму скандал…
Жоан Фулженсио в конце концов убедил Эзекиела.
Они вместе пошли в нотариальную контору. Тонико был еще бледен, смотрел беспокойно, улыбался натянуто и плоско шутил:
— Если бы я не поторопился убраться, турок проколол бы меня рогами… Он, проклятый, нагнал на меня такого страху…
— Насиб — мой доверитель, и я прошу относиться к нему с уважением, потребовал Эзекиел с очень серьезным видом.
Они обсудили дело. Вначале Тонико ни за что не хотел согласиться с их предложениями. Это не повод для расторжения брака, заявил он. Документы, хотя и подложные, были сочтены настоящими. Насиб был женат пять месяцев и жалоб не подавал. И как он, Тонико, сознается публично, что сфабриковал подложные бумаги? Прошли времена старого Сегисмундо, который продавал свидетельства о рождении и акты регистрации земельных участков. Эзекиел пожал плечами и воскликнул, обращаясь к Жоану Фулженсио!
— Ну, что я вам говорил?
— Это можно уладить, Тонико, — заговорил Жоан Фулженсио. — Мы поговорим с судьей. Найдется путь, чтобы выйти из положения и в то же время чтобы подлог не получил огласку. По крайней мере сделаем так, чтобы вы не фигурировали в качестве обвиняемого. Можно будет сказать, что вы действовали без злого умысла и были обмануты Габриэлой. Придумайте какую-нибудь историю. В конце концов все, что именуется ильеусской цивилизацией, было создано на основе фальшивых документов.
Но Тонико продолжал сопротивляться. Он не хотел быть замешанным в эту историю.
— Вы уже замешаны, мой дорогой, — сказал Эзекиел. — Увязли по уши. Одно из двух: либо вы соглашаетесь и идете с нами к судье, чтобы уладить дело быстро и по-дружески, либо сегодня же я от имени Насиба возбуждаю дело о расторжении брака из-за существенной ошибки в отношении личности Габриэлы, которая произошла вследствие представления ею документов, сфабрикованных вами с целью выдать замуж свою любовницу, милостями которой вы продолжали пользоваться и впоследствии. Вы решили выдать ее за честного, простодушного человека, другом которого вы считались. Вы входите в дело сразу через две двери: через дверь подлога и через дверь адюльтера. И в обоих случаях вы действовали с заранее обдуманным намерением. Красивое дельце!
Тонико почти потерял дар речи.
— Послушайте, Эзекиел, вы что же, хотите меня погубить?
Вмешался Жоан Фулженсио:
— Что скажет дона Олга? И ваш отец, полковник Рамиро? Вы подумали об этом? Он не перенесет позора, умрет со стыда, и вы будете виновны в его смерти. Я вас предупреждаю потому, что не хочу, чтобы это случилось.
— Зачем я впутался в это дело, боже мой?! Я лишь хотел помочь и оформил ей документы. Тогда у меня ничего с ней не было…
— Идемте с нами к судье, это самое разумное. В противном случае — я честно вас предупреждаю — вся эта история появится завтра на страницах «Диарио де Ильеус». И учтите, что вы там будете представлены в весьма жалком виде. Статью напишем мы с Жоаном Фулженсио.
— Но, Жоан, мы всегда были друзьями…
— Это так. Но вы обманули Насиба. Если бы Габриэла была женой другого, мне было бы наплевать. Но я его друг, а также друг Габриэлы. Вы обманули обоих. Так вот, или вы соглашаетесь, или я вас опозорю, поставлю в глупое и смешное положение. При нынешней политической ситуации вам будет невозможно оставаться дальше в Ильеусе.
Все высокомерие Тонико исчезло. Угроза скандала привела его в ужас. Его угнетал страх, что доне Олге и отцу все станет известно. Конечно, лучше проглотить пилюлю — сходить к судье и рассказать о подделке документов.
— Я сделаю то, что вы требуете. Но ради бога, давайте уладим все это как можно тише. Ведь мы же в конце концов друзья.
Судье история показалась очень забавной.
— Значит, вы, сеньор Тонико, были другом араба и за его спиной наставляли ему рога? Я тоже заинтересовался Габриэлой, но, после того как она вышла замуж, я перестал о ней думать. Замужних женщин я уважаю.
Несколько неохотно, как и Эзекиел, судья согласился оформить расторжение брака без шума, не возбуждая иска против Тонико, который предстанет как честный и порядочный нотариус, обманутый Габриэлой, в результате чего он будет фигурировать в деле как жертва ее хитрости. Судья не симпатизировал Тонико, подозревая, что галантный нотариус вместе с Пруденсией, которая почти два года была любовницей почтенного юриста, украсил рогами и его голову, Насиб же ему нравился, и судья хотел ему помочь. Когда они выходили, он спросил:
— А как Габриэла? Что она будет делать? Теперь она свободна и не связана никакими обязательствами. Если бы я не устроился так хорошо… Кстати, она должна прийти поговорить со мной. Сейчас все зависит от нее. Если она не согласится…
Жоан Фулженсио, прежде чем вернуться домой, отправился повидать Габриэлу. Ее приютила дона Арминда. Габриэла была на все согласна, ничего не требовала, не жаловалась на побои и даже хвалила Насиба:
— Сеньор Насиб такой хороший… Я не хотела обидеть сеньора Насиба.
Таким образом, в результате бракоразводного процесса, который от первоначального иска до постановления судьи проводился самыми ускоренными темпами, араб Насиб снова оказался холостым. Он был женат, не будучи на самом деле женатым; он попал в члены братства святого Корнелия, не став в действительности рогоносцем; и достойное общество мужей, примирившихся с изменами жен, осталось в дураках. А сеньора Саад снова стала Габриэлой.
Любовь Габриэлы
В «Папелариа Модело» обсуждали случившееся.
Ньо Гало заявил:
— Это гениальное решение проблемы. Но кто бы мог подумать, что Насиб гений? Он мне и раньше нравился, а теперь стал нравиться еще больше. Наконец-то в Ильеусе появился цивилизованный человек.
Капитан спросил:
— Как вы, Жоан Фулженсио, объясните поведение Габриэлы? Судя по тому, что вы рассказываете, она действительно любила Насиба. Любила и продолжает любить. Вы говорите, что разрыв она переживает гораздо тяжелее, чем он, и тот факт, что она наставила ему рога, ничего не значит. Но как же так? Если она его любила, то почему обманывала? Как вы это можете объяснить?
Жоан Фулженсио взглянул на оживленную улицу, увидел сестер Рейс, завернувшихся в мантильи, и улыбнулся:
— Зачем? Я ничего не хочу объяснять. Ни объяснять, ни определять. Невозможно определить поступки Габриэлы и объяснить движение ее души.
— Красивое тело, а душа — как у птички. Да и есть ли у нее душа? произнес Жозуэ, думая о Глории.
— Возможно, у нее душа ребенка, — доискивался истины капитан.
— Как у ребенка? Может быть. Но не как у птички, Жозуэ. Это ерунда. Габриэла — добрая, великодушная, порывистая, чистая. Можно перечислить ее достоинства и недостатки, объяснить же их нельзя. Она делает то, что ей нравится, и отвергает то, что ей не по душе. Я не хочу объяснять ее поступки. Для меня достаточно видеть ее, знать, что она существует.
В доме доны Арминды, согнувшись над шитьем, вся в синяках от побоев Насиба, размышляла Габриэла.
Утром, до прихода служанки, она перепрыгнула через забор, вошла в дом Насиба, подмела и убрала комнаты. Какой он хороший! Он побил ее, он очень разозлился, но она сама виновата — зачем согласилась выйти за него замуж? Чтобы гулять под руку с ним по улицам, с обручальным кольцом на пальце. А быть может, из опасения потерять его, из страха, что настанет день, когда он женится на другой и прогонит ее, Габриэлу. Да, наверняка из-за этого. Она поступила плохо, ей не надо было соглашаться. Ведь раньше ей было так весело.
В припадке ярости Насиб побил ее, а мог даже убить. Замужняя женщина, обманывающая мужа, заслуживает только смерти. Все говорили это, и дона Арминда говорила, и судья подтвердил, что это так. Она заслужила смерть. Но Насиб был хорошим, он только побил ее и выгнал из дому. Потом судья спросил, не будет ли она против расторжения брака, если получится так, будто она и не была замужем. Он предупредил, что тогда она не сможет претендовать ни на бар, ни на деньги в банке, ни на дом на склоне холма. Все зависит от нее. Если она не согласится, то дело будет долго разбираться в суде и неизвестно, чем кончится.
Если же она согласится… Но ведь она ничего иного и не хотела. Судья еще раз объяснил: будет так, словно она никогда и не была замужем. А лучше ничего не может быть. Потому что тогда не будет причины для страданий и обид Насиба. — На побои ей наплевать…
Даже если бы он убил ее, она умерла бы спокойно, ведь он был бы прав. Но Габриэлу огорчало то, что он выгнал ее из дому, что она не может его видеть, улыбаться ему, слушать его, ощущать его тяжелую ногу на своем бедре, чувствовать, как его усы щекочут ей шею, как его руки касаются ее тела. Грудь Насиба — как подушка. Она любила засыпать, уткнувшись лицом в его широкую волосатую грудь. Она любила готовить для него, слушать, как он хвалит ее вкусные блюда. Вот только туфли ей не нравились, и еще не нравилось ходить с визитами в семейные дома Ильеуса, не по вкусу ей были скучные праздники, дорогие платья, настоящие драгоценности, которые стоят больших денег. Все это ей не нравилось. Но она любила Насиба, дом на склоне холма, двор с гуявой, кухню и гостиную, кровать в спальне.
Судья ей сказал: еще несколько дней — и она не будет больше замужем, словно никогда и не была. Никогда не была замужем. Как забавно! Это был тот же судья, что венчал их, тот, который так хотел снять для нее дом. Теперь он не говорит об этом… Но это ей и ни к чему: ведь он такой безобразный и старый. Но добрый. Если она снова будет не замужем, словно никогда прежде и не была, то почему бы ей не вернуться в дом Насиба, в заднюю комнатку, чтобы взять на себя заботы о еде, стирке, уборке дома?
Дона Арминда говорит, что никогда больше сеньор Насиб не взглянет на нее, не поздоровается, не заговорит с нею. Но почему? Ведь они уже не будут женаты, и вообще получится так, будто они никогда и не состояли в законном браке. Еще несколько дней, сказал судья. Она задумалась: теперь она, пожалуй, сможет вернуться к сеньору Насибу. Она не хотела обидеть его, не хотела огорчить. Но она его обидела потому, что была замужем, и огорчила потому, что она, замужняя женщина, улеглась с другим в его постели. Однажды она заметила, что он ревнует. Такой большой — и ревнует! Смешно! С тех пор она стала вести себя осторожнее, потому что не хотела причинять ему страдание.
Как глупо и совершенно непонятно: почему мужчины так страдают, когда женщина, с которой они спят, ложится с другим? Она не понимала. Если сеньору Насибу угодно, пожалуйста, пусть ложится с другой и засыпает в ее объятиях. Габриэла знала, что Тонико спал с другими, дона Арминда рассказывала, что у него очень много женщин. Но если ей, Габриэле, хорошо лежать с ним и забавляться, то разве станет она требовать, чтобы у него не было больше женщин? Она этого не понимала. Ей нравилось спать в объятиях мужчин. Но не любого. Красивого, как Клементе, Тонико, Нило, как Бебиньо и, ах, как Насиб. Если молодой человек испытывает желание, если он смотрит на нее молящими глазами, если он улыбается ей и подмигивает, то почему она должна отказывать, почему должна говорить нет? Если оба они — и он и она хотят одного и того же? Она не знала почему. Она понимала, что сеньор Насиб, ее муж, злился и был взбешен. Есть закон, который не разрешает женщине изменять. Мужчина имеет право на измену, а женщина нет. Знать-то она это знала, но разве можно было устоять? В ней пробуждалось желание, и она иногда уступала, даже не задумываясь о том, что это не дозволено. Она старалась не обидеть Насиба, не сделать ему больно, но никогда не думала, что это его так обидит и огорчит. Через несколько дней брак будет расторгнут, она не будет его женой, да она и не была ею. Зачем же Насибу на нее сердиться?
Кое-что ей нравилось, и даже очень. Она любила утреннее солнце, когда еще не очень жарко. Холодную воду, белый пляж, песок и море. Цирк, луна-парк.
И кино. Гуяву и питангу. Цветы, животных. Любила готовить, есть, ходить по улицам, смеяться и разговаривать. Высокомерных сеньор она не любила. А больше всего ей нравились красивые молодые люди и нравилось спать в их объятиях. Это она любила. Любила она и Насиба, но иной любовью. Не только потому, что в постели она целовала его, вздыхала, умирала и рождалась вновь, а также потому, что спала, положив голову ему на грудь, и видела во сне солнце, капризного кота, песок на пляже, луну на небе, еду, которую надо готовить, и чувствовала на своем бедре тяжелую ногу Насиба. Она его очень любила и очень страдала оттого, что его сейчас нет с ней, она украдкой наблюдала из-за двери, чтобы увидеть, как он возвращается ночью домой. Он приходил очень поздно, иногда навеселе. Ей так хотелось снова быть с ним, положить ему на грудь свою красивую головку, услышать от него нежные слова, услышать его голос, шепчущий на чужом языке: «Биэ!»
Ведь все это случилось только потому, что он застал ее в тот момент, когда она, лежа на постели, улыбалась Тонико. Неужели это так много для него значило? Ну стоит ли так страдать из-за того, что она лежала с молодым человеком? Ее от этого не убыло, она не стала другой и по-прежнему любила его больше всего на свете. Да, больше всего на свете! Наверное, нет в мире женщины, будь то сестра, дочь, мать, любовница или жена, которая любила бы сеньора Насиба так, как она. И надо же поднять такой шум только из-за того, что у нее было свидание с другим! Но ведь она не стала поэтому любить его меньше, желать его меньше и меньше страдать от разлуки. Дона Арминда клялась, что сеньор Насиб никогда не вернется и Габриэла никогда его не обнимет. Ах, она была бы рада хотя бы стряпать для него. Где он будет есть? И кто теперь станет готовить закуски и сладости для бара? А ресторан, который должен скоро открыться? Да, она была бы рада хотя бы стряпать для него.
И как ей хотелось увидеть улыбку на его добром и красивом лице. Чтобы он улыбнулся ей, обнял, назвал Биэ, пощекотал усами ее душистый затылок. Нет в мире женщины, которая бы так любила, которая бы так вздыхала по своему возлюбленному, как вздыхает по Насибу Габриэла, умирая от любви.
В магазине канцелярских принадлежностей продолжался спор.
— Верность — лучшее доказательство любви, — сказал Ньо Гало.
— Это единственная мера, которой можно измерить ее силу, — поддержал капитан.
— Любовь не доказывается и не измеряется. Она, как Габриэла, существует — и все… — сказал Жоан Фулженсио. — Если какое-либо явление нельзя понять или объяснить, это еще не значит, что его не существует. Я ничего не знаю о звездах, но я их вижу на небе, они краса ночи.
Об удивительной жизни
В ту первую ночь без Габриэлы Насиб мучительно ощущал ее отсутствие и страдал от воспоминаний. Не было ее улыбки, но были изматывающее унижение и твердая уверенность, что это не кошмар, что действительно произошло то невероятное, чего он никогда не мог себе представить. Габриэла ушла, но зато нахлынули воспоминания и страдания. Насиб снова и снова видел Тонико, сидевшего на краю кровати. Ярость, печаль, сознание, что все кончилось, что ее нет, что она принадлежит другому и никогда больше не будет принадлежать ему, овладели Насибом. Опустошающая, утомительная ночь, будто земля всей своей тяжестью легла ему на плечи, ночь, конец которой так же далек, как конец света. Этому никогда не будет конца. Этой глубокой боли, этой пустоте, нежеланию что-то делать, жить, работать. Глаза без слез, грудь, пронзенная кинжалом. Насиб, не в силах заснуть, уселся на краю кровати. Он не заснет этой только что начавшейся ночью, и ночь эта продлится всю жизнь. От Габриэлы остался запах гвоздики, пропитавший простыни и матрац. Этот запах у него в ноздрях. Он не мог смотреть на кровать, так как видел на ней обнаженную Габриэлу — ее высокую грудь, округлые, бархатистые бедра, гладкий живот. На ее теле цвета корицы — на плечах, на груди — губы Насиба оставляли лиловые пятна. День кончился навсегда, а эта ночь в его душе продлится всю жизнь, его усы навсегда опустились, горькая складка залегла у губ, которые никогда больше не улыбнутся!
Но несколько дней спустя он все же улыбался, слушая, как в баре «Везувий» Ньо Гало поносит священников. Трудными были первые недели, бесконечно пустые, заполненные лишь ее отсутствием. Все вещи, все люди напоминали ему о ней. Он смотрел на стойку бара — она стояла там с цветком в волосах. Он смотрел на церковь и видел, как она входит туда в домашних туфлях. Он смотрел на Туиску и видел, как Габриэла танцует и поет. Приходил доктор, говорил об Офенизии, а Насибу казалось, что он рассказывает о Габриэле. Играли в шашки капитан и Фелипе, а в баре звенел ее хрустальный смех. Дома было еще хуже — Насиб видел ее повсюду: вот она хозяйничает у плиты, вот уселась на солнце у порога, надкусывает плод гуявы, прижимает к лицу морду кота, показывает в улыбке золотой зуб, ожидает его в задней комнатке, залитой лунным светом. Он еще не осознал одной особенности этих воспоминаний, неделями преследовавших его в баре, на улице, дома: он никогда не вспоминал этого во время их супружеской жизни (или связи: ведь он объяснял всем, что между ними была обычная связь).
Теперь он вспоминал только прежнюю Габриэлу, Габриэлу-кухарку, и воспоминания эти заставляли его страдать, но все же они были приятны. Но когда он представлял ее в объятиях другого, они уязвляли его душу, его мужское самолюбие, задеть его супружескую честь они не могли, поскольку супругом ее он не был.
Трудными и пустыми были эти первые недели, внутри у него все умерло. Из дому в бар, из бара домой. Иногда он заходил потолковать с Жоаном Фулженсио, послушать новости.
В один прекрасный день друзья чуть не силой затащили его в новое кабаре. Насиб много выпил, даже слишком много. Но он был нечеловечески вынослив и остался совершенно трезвым. На другой день он снова пошел в кабаре. Познакомился с Розалиндой, блондинкой из Рио, которая была полной противоположностью Габриэле. Он начал оживать и постепенно забывал свою любовь. Самым трудным оказалось спать с другой женщиной. Он видел только Габриэлу: она улыбается, протягивает к нему руки, подсовывает бедро под его ногу, кладет голову ему на грудь. Ни у одной не было ее вкуса, ее запаха, ее тепла, страсти, которая убивала и от которой она сама умирала. Но и это стало понемногу проходить. Розалинда напоминала ему искусную в любви Ризолету. Теперь он приходил к ней каждый вечер, за исключением тех дней, когда она спала с полковником Мануэлем Ягуаром, который платил за ее комнату и стол в заведении Марии Машадан.
Как-то вечером не хватило партнера в компании, собравшейся играть в покер. Насиб сел играть и проиграл допоздна. Потом он подсаживался к столикам, беседовал с приятелями, играл в шашки и триктрак, обсуждал новости, спорил о политике, смеялся над анекдотами и сам их рассказывал. Говорил, что в стране его отца бывало и похуже того, что происходит в Ильеусе, бывало и пострашнее. Габриэла уже не мерещилась ему повсюду, он уже мог спокойно спать в постели, которая еще хранила запах гвоздики. Никогда прежде его не приглашали так часто на завтраки, обеды, ужины к Машадан, на вечеринки с женщинами в кокосовых рощах Понтала. Казалось, его полюбили еще больше и больше стали уважать.
Он никогда не думал, что будет так. Ведь он нарушил закон. Вместо того чтобы убить ее, он дал ей уйти. Вместо того чтобы выстрелить в Тонико, он удовлетворился пощечиной. Когда это случилось, он решил, что отныне его жизнь превратится в ад. Разве не постигла эта участь доктора Фелисмино? Разве не перестали с ним здороваться? Не прозвали его мерином?
Не вынудили уехать из Ильеуса? Потому что он не убил жену и любовника и не выполнил закона ильеусцев. Правда, он, Насиб, расторг брак с Габриэлой, зачеркнул настоящее и прошлое. Но он никогда не думал, что его пойдут, с ним согласятся. Ему уже мерещился пустой, без единого посетителя бар, он представлял себе, как друзья перестанут подавать ему руку, видел, как все будут насмешливо улыбаться, поздравлять Тонико, похлопывать его по спине и издеваться над ним, Насибом.
Этого не произошло. Напротив, с ним никто не заговаривал о случившемся, а если вдруг и касались этой темы, то хвалили его хитрость, ловкость, находчивость, с которой он вышел из затруднительного положения. Да, все смеялись и издевались, но не над Насибом, а над Тонико, высмеивали нотариуса и отдавали должное мудрости араба. Тонико перебрался в «Золотую водку» и там пил теперь свой горький аперитив.
Поэтому даже Плинио Араса получил возможность подтрунивать над тем, как его обставил Насиб. А уж пощечина была прокомментирована и в прозе и в стихах. Жозуэ посвятил ей эпиграмму. Но о Габриэле никто не говорил. Ни хорошо, ни плохо — будто о ней не стоило говорить, будто ее вообще не существовало. Голоса против нее никто не поднял, а некоторые даже были на ее стороне. В конце концов девушка на содержании имеет право немного развлечься. Ведь фактически она была не замужем, поэтому вина ее невелика.
Габриэла продолжала оставаться в доме доны Арминды. Насиб больше не видел ее. От акушерки он узнал, что Габриэла шьет для преуспевающего ателье Доры. А от других — что ее засыпали подарками, записками, письмами, визитными карточками. Плинио Араса велел передать Габриэле, что назначит ей хорошее жалованье. Мануэл Ягуар и Рибейриньо снова взялись за старое. Судья собирался порвать со своей содержанкой и снять дом для Габриэлы. Стало известно, что даже араб Малуф, такой серьезный на вид, оказался в числе претендентов. Но странное дело — ни одно предложение не соблазнило Габриэлу. Ни дом, ни счет в магазине, ни плантации, ни деньги. Она шила для ателье Доры.
Разрыв с Габриэлой нанес бару серьезный ущерб.
Служанка готовила плохо. Закуски и сладости снова пришлось покупать у сестер Рейс, а это обходилось очень дорого. К тому же сестры не скрывали, что делают Насибу большое одолжение. Он не нашел кухарки и для ресторана, выписал повариху из Сержипе, но она еще не прибыла. Насиб нанял нового официанта, мальчишку по имени Валтер, который еще нигде не работал и не умел обслуживать посетителей. Дела Насиба шли неважно.
Что же касается ресторана, то Насиб чуть не послал его к черту. Некоторое время он вообще не заботился ни о баре, ни о ресторане. Приказчики освободили верхний этаж, когда Насиб еще находился в первой стадии отчаяния, когда воспоминания о Габриэле были единственной реальностью, наполнявшей его пустые дни. Но когда прошел месяц после того, как выехали приказчики, Малуф прислал Насибу квитанцию на арендную плату. Насиб заплатил, и волей-неволей ему пришлось подумать о ресторане. Тем не менее он продолжал откладывать его открытие. Однажды Мундиньо прислал Насибу записку с приглашением зайти к нему в контору. Экспортер, который уже давно не появлялся в баре и разъезжал по провинции, готовясь к выборам, принял араба дружелюбно. Как-то Насиб встретился с ним в кабаре, но они едва перекинулись несколькими словами, поскольку Мундиньо танцевал.
— Как жизнь, Насиб? По-прежнему процветаем?
— Живем понемножку. — И, чтобы предотвратить неприятные вопросы, добавил: — Вам, должно быть, известно, что со мной произошло. Я ведь теперь снова холостой.
— Да, мне говорили. Вы поступили замечательно, как настоящий европеец лондонец или парижанин. — Мундиньо смотрел на Насиба с симпатией. — Но скажите, это, конечно, останется между нами: душа-то ноет немножко?
Насиб насторожился. Почему он спрашивает об этом?
— Я знаю, как это бывает, — продолжал Мундиньо. — Со мной ведь произошел не скажу подобный, но до известной степени сходный случай. Из-за него я и приехал в Ильеус. Постепенно шрам зарубцовывается. Но время от времени дает себя знать. Перед дождем, да?
Успокоенный Насиб согласился. Конечно, история, приключившаяся с Мундиньо Фалканом, напоминает его историю. Любимая женщина изменила ему. Но разве они тоже разводились? У Насиба чуть не вырвался этот вопрос, он почувствовал себя в подходящей компании.
— Так вот, мой дорогой, я хочу поговорить с вами о ресторане. Пора бы нам его открыть. Правда, оборудование, заказанное в Рио, еще не прибыло. Но оно уже в пути, его отгрузили на пароход «Ита». Я не хотел вас беспокоить по этому поводу раньше — вы были в расстроенных чувствах, но ведь прошло около двух месяцев, с тех пор как последние жильцы выехали со второго этажа. Настало время подумать о деле. Может быть, вы отказались от нашей идеи?
— Нет, сеньор. Почему вы так решили? Вначале я действительно ни о чем не мог думать. Но теперь все прошло.
— Ну что ж, очень хорошо, тогда можем действовать дальше: начать отделку зала, получить оборудование из Рио. Надо подумать, не сумеем ли мы открыть ресторан в начале апреля.
— Будьте спокойны, откроем.
Вернувшись в бар, Насиб послал за каменщиком, маляром и электромонтером. Он обсудил с ними планы переоборудования и снова воодушевился, когда подумал о деньгах, которые заработает. Если все пойдет хорошо, самое большее через год он сможет приобрести плантацию какао, о которой давно мечтает.
Во всей этой истории только сестра Насиба и ее муж вели себя недостойно. Едва пронюхав о случившемся, они явились в Ильеус. Сестра заявила с издевкой: «Ну что, не говорила я тебе?» А у ее мужа-бакалавра было такое кислое лицо, словно у него болел живот. Они всячески поносили Габриэлу и жалели Насиба. Насиб молчал, испытывая сильное желание выгнать их из дому.
Сестра перерыла шкафы, пересмотрела все платья, туфли, белье, нижние юбки, шали. Некоторые платья Габриэла так и не успела надеть. Сестра восклицала:
— Оно совсем новое и как на меня шито!
Насиб ворчал:
— Оставь. Не трогай эти вещи.
— Как, опять?! — обиделась сеньора Саад де Кастро. — Что, ее вещи священные, что ли?
Потом они уехали в Агуа-Прету. Жадность сестры напомнила Насибу о том, что на платья, туфли и драгоценности он истратил немало денег. Драгоценности можно было отнести туда, где он их покупал, и вернуть с небольшим убытком, а платья и две пары новых, ни разу не надеванных туфель продать в магазине дяди. Вот что он должен сделать. Впрочем, на некоторое время Насиб забыл про это и даже не подходил к шкафам.
Однако на следующий день после разговора с Мундиньо он положил драгоценности в карман пиджака, запаковал в два свертка платья и обувь и отправился к ювелиру, а затем в магазин дяди.
О стеклянной змее
Вечером, в нескончаемых сумерках, тени в лесах и какаовых рощах становились мрачными и таинственными, ночь спускалась медленно, словно желая продлить тяжелый трудовой день. Фагундес и Клементе закончили посадку.
— Погребли в земле четыре тысячи какаовых саженцев, чтобы полковник разбогател еще больше, — рассмеялся негр.
— И чтобы мы года через три могли купить здесь участок, — ответил мулат Клементе, губы которого разучились улыбаться.
После неудачи с Аристотелесом Мелк обрушился на Фагундеса («Я думал, ты действительно умеешь стрелять. А ты, оказывается, никуда не годишься»). Тот выслушал это молча (что он мог ответить? Промазал черт знает почему!). Вознаграждение Фагундес получил скудное («Я тебя нанимал прикончить человека, а ты промазал. Я вообще мог бы тебе не платить») и согласился взяться за этот подряд вместе с Клементе. А свой промах он объяснил следующим образом:
— Видно, не пришел еще день его смерти. У каждого есть свой день, который назначили там, наверху. — Фагундес указал на небо.
Они должны были вырубить десять тареф[73] леса, выжечь и расчистить их, посадить по четыреста какаовых саженцев на каждой тарефе и следить в течение трех лет за их ростом. Между какаовыми деревьями они посадили для себя маниоку, кукурузу, сладкий картофель. Этот крошечный огород будет кормить их в течение трех лет. А потом за каждое принявшееся дерево полковник заплатит им по пятнадцать мильрейсов. На эти деньги Клементе мечтал купить участок земли, чтобы они вдвоем могли посадить свою собственную маленькую плантацию. Но какой участок удастся им купить на эти деньги? Совсем пустячный — клочок плохой земли. Негр Фагундес считал, что, если вооруженные стычки не возобновятся, им будет трудно, очень трудно приобрести даже такой участок. На маниоке, кукурузе, сладком картофеле, айпиме[74] долго они не протянут. Этого едва хватает на еду, но не на то, чтобы отправиться в поселок, переспать с самой дешевой девкой, устроить попойку и пострелять в воздух.
Приходилось брать у плантатора вперед. К концу третьего года эмпрейтейро получали окончательный расчет, который иногда не достигал и половины платы за работу. Почему прекратились эти вооруженные стычки, которые так хорошо начались? Снова наступило спокойствие, о столкновениях даже не говорят. Наемники полковника Мелка вернулись на рассвете в лодке вместе с Фагундесом. Полковник стал мрачным, он тоже разучился смеяться. Фагундес знал почему.
И на плантации знали, они услышали об этом в Кашоэйре-до-Сул. Дочь Мелка, эта гордячка, которую Фагундес видел не раз, влюбилась в женатого человека и убежала из школы. Женщина — паршивая тварь, только жизнь изгаживает. Не жена — так дочь, не дочь — так сестра. Разве Клементе не ходил теперь понурившись, не надрывался на работе, не сидел по ночам на камне у порога глинобитной хижины, уставившись в небо? Таким он стал с тех пор, как узнал от Фагундеса, что Габриэла замужем за хозяином бара, что она превратилась в настоящую сеньору, носит на пальце кольцо, вставила себе золотой зуб и распоряжается служанками.
Негр рассказал, как ему удалось бежать, об охоте на холме, о том, как он перепрыгнул через стену, как встретился с Габриэлой и как та спасла ему жизнь.
Они выжигали лес: от огня убегали вспугнутые животные. Кабаны, кайтиту[75], паки, тейу[76] и жаку[77], и различные ядовитые змеи — гремучие, жарарака и сурукуку.
Расчищать лес им приходилось с осторожностью, так как в зарослях скрывались змеи, предательски притаившиеся и готовые укусить. А их укус нес смерть.
Когда они начали сажать хрупкие саженцы какаовых деревьев, полковник вызвал негра к себе. Стоя на веранде, он похлопывал плеткой по голенищу. Этой плеткой он избил дочь, после чего она и уехала. Полковник окинул Фагундеса взглядом, который, с тех пор как сбежала Малвина, стал задумчивым и грустным, и раздраженно сказал:
— Готовься, негр! На днях я опять повезу тебя в Ильеус. Мне понадобится там парень с метким глазом.
Не для того ли, чтобы убить мужчину, который увез его дочь? А как знать, может, и саму девушку? Она была гордая, ни дать ни взять — святая. Но Фагундес не убивает женщин. А может, снова начнутся вооруженные столкновения? Фагундес спросил:
— Опять драка? — и засмеялся. — На этот раз я не промахнусь.
— Ты мне понадобишься на время выборов. Они уже приближаются, и мы должны победить хотя бы силой оружия.
Хорошая новость после столь длительного спокойствия. Фагундес принялся за работу с еще большим пылом. Неумолимое солнце жгло спину, как удары хлыста. Наконец работа была закончена, четыре тысячи саженцев какао посажены в землю, где до этого рос девственный лес, таинственный и пугающий.
Возвращаясь домой с мотыгами на плече, Клементе и Фагундес разговаривали. Быстро темнело, по плантациям полз ночной мрак, а с ним всякая нечисть, оборотни, души убитых во времена борьбы за землю. Жуткие тени скользили среди какаовых деревьев, совы открывали глаза, готовились к ночной охоте.
— На днях я снова еду в Ильеус. Это неплохо, В «Бате-Фундо» столько женщин, одна лучше другой. Вот погуляю. — Фагундес хлопнул себя по животу.
— Ты поедешь?
— Я же говорил тебе недавно, что полковник предупредил меня. Будут выборы, и нам найдется работа. Придется пострелять. Он мне велел быть наготове, скоро отдадут приказ отправляться.
Клементе шел медленно, как бы обдумывая что-то.
Фагундес сказал:
— На этот раз вернусь с деньгами. Нет выгодней дела, чем обеспечивать успех на выборах. Там и еды вволю, и выпивка. А потом устраивают праздник в честь победы, и деньги текут к нам в карманы. Можешь быть уверен: на этот раз я привезу мильрейсы, и мы купим клочок земли.
Клементе остановился на не освещенном луной месте, его лицо было в тени. Он попросил:
— А ты не можешь попросить полковника, чтобы он и меня взял?
— Зачем? Это дело не по тебе… Ты только и умеешь, что обрабатывать землю, сажать и собирать какао. Зачем тебе ехать в Ильеус?
Клементе, не проронив ни слова, зашагал дальше.
Фагундес повторил свой вопрос:
— Зачем? — И тут догадался: — Чтобы повидать Габриэлу?
Молчание Клементе было ответом. Тени росли, еще немного — и мул без головы, выпущенный из ада в лес, начнет носиться, стуча копытами по камням, а из его перерезанной шеи вылетит огонь.
— Ну увидишь ты ее? А дальше что? Она замужняя женщина и сейчас очень похорошела. Правда, несмотря ни на что, характера своего не изменила, говорит с нами, как раньше. И все же зачем тебе ее видеть? Все равно это ни к чему не приведет.
— Я просто хочу посмотреть на нее. Один-единственный раз взглянуть ей в лицо, почувствовать ее запах. Полюбоваться ее улыбкой, услышать ее смех.
— Она не идет у тебя из головы. Ты только о ней и думаешь. Я даже заметил, что об участке ты теперь говоришь как-то равнодушно. И это с тех пор, как ты узнал о ее замужестве. Зачем тебе надо ее видеть?
Стеклянная змея показалась из зарослей и поползла по дороге. В неверном свете луны ее длинное тело блестело, она была красива, это ночное чудо плантации.
Клементе шагнул вперед, опустил мотыгу и мощными ударами разрубил стеклянную змею на три части.
Потом размозжил ей голову.
— Зачем ты это сделал? Она же не ядовитая… И никому не причиняет зла.
— Она слишком красива и уже этим причиняет зло.
Некоторое время они шли молча. Фагундес сказал:
— Мужчина не должен убивать женщину, даже если она делает его несчастным.
— А кто говорит, что должен?
Никогда бы Клементе не пошел на убийство, у него не хватало на это мужества и сил. Но он был готов отдать десять лет жизни и надежду на приобретение клочка земли, лишь бы увидеть ее еще раз, один только раз, услышать ее смех. Она была стеклянной змеей, у нее не было яда, но она приносила горе, она проходила мимо мужчин как тайна, как чудо. Из глубины леса доносился крик сов, они словно звали Габриэлу.
О колоколах, звонящих по усопшим
Наемникам не пришлось выезжать с плантаций — ни тем, кто служил Мелку, Жезуино, Кориолано, Амансио Леалу, ни сторонникам Алтино, Аристотелеса, Рибейриньо. Это оказалось совершенно излишним.
Избирательная кампания приняла новые формы, неведомые ранее ни в Ильеусе, ни в Итабуне, ни в Пиранжи, ни в Агуа-Прете — словом, во всей какаовой зоне. Прежде кандидаты, уверенные в своей победе, даже не показывались избирателям. Они посещали лишь самых влиятельных полковников, владельцев крупных земельных угодий и громадных какаовых плантаций.
На этот раз все было по-иному. Ни у одного из кандидатов не было уверенности, что он будет избран, поэтому голоса приходилось завоевывать. Раньше полковники решали, за кого голосовать, руководствуясь указаниями Рамиро Бастоса. Теперь все перевернулось: если Рамиро еще и командовал в Ильеусе, то в Итабуне распоряжался Аристотелес, его враг. Тот и другой поддерживали правительство штата. А кого поддержит правительство после выборов? Мундиньо не допустит, чтобы Аристотелес порвал с губернатором.
В спорах, которые происходили в барах, в магазине Фулженсио, на рыбном рынке, мнения разделялись.
Одни утверждали, что правительство будет по-прежнему поддерживать Рамиро Бастоса, признает только его кандидатов, даже если они потерпят поражение. Разве старый полковник не был опорой правительства штата, разве не приходил ему на помощь в трудные минуты? Другие считали, что правительство встанет на сторону тех, кто победит на выборах. Срок правления прежнего губернатора истекал, а новому, чтобы управлять штатом, потребуется поддержка. Если Мундиньо победит, говорили они, новый губернатор его признает, ибо тогда правительство штата сможет рассчитывать на Ильеус и Итабуну. Бастосы уже ничего не стоят, пора им на свалку. Третьи полагали, что правительство постарается угодить и тем, и другим. Оно, мол, не признает Мундиньо, предоставив Алфредо Бастосу возможность по-прежнему доить федеральную казну. В палате штата оно по-прежнему будет его поддерживать.
Но капитана, в победе которого никто не сомневался, правительство признает. Префектом Итабуны, чтобы сохранить власть в руках полковника, будет избран, конечно, сторонник Аристотелеса — один из его кумовьев. А пост сенатора от штата, который освободится, когда умрет Рамиро, предсказывали они, правительство, вероятно, предложит Мундиньо. Ведь старику уже стукнуло восемьдесят три года.
— Ну, он доживет и до ста…
— Вполне возможно. Тогда Мундиньо придется подождать сенаторской вакансии.
Таким образом правительство может сохранить хорошие отношения с обеими партиями и усилить свои позиции на юге штата.
— Кончится тем, что оно испортит отношения и с теми, и с другими…
Пока граждане высказывали предположения и спорили, кандидаты обеих группировок развивали активную деятельность. Они наносили визиты, совершали поездки, крестили новорожденных, подносили подарки, устраивали митинги, произносили речи. В. Ильеусе, Итабуне и поселках каждое воскресенье созывались собрания. Капитан произнес более пятидесяти речей.
Он потерял голос и отчаянно хрипел, повторяя свои пышные тирады. Чего только он не обещал: и осуществить важнейшие реформы, и провести дороги одним словом, достойно завершить дело, начатое его отцом, незабвенным Казузой де Оливейра. Маурисио Каирес не отставал от капитана. В тот момент, когда один выступал на площади Сеабра, второй цитировал Библию на площади Руя Барбозы. Жоан Фулженсио утверждал:
— Мне столько раз доводилось слушать речи Маурисио, что я уже выучил Ветхий завет наизусть. Если он победит, то заставит нас хором читать Библию на городской площади под руководством отца Сесилио. Ибо отец Базилио из всей Библии усвоил только одно: «Плодитесь и размножайтесь».
Но если капитан и Маурисио Каирес не выезжали за пределы муниципалитета Ильеус, то Мундиньо, Алфредо и Эзекиел старались поспеть и в Итабуну, и в Феррадас, и в Макуко, путешествуя по всей зоне какао, ибо их судьба зависела от голосования по району. Даже доктор Витор Мело, напуганный дошедшим до Рио известием о том, что его переизбрание под угрозой, выехал на «Ите» в Ильеус, проклиная строптивых жителей края какао. Он покинул элегантный медицинский кабинет, где лечил нервы пресыщенных дам, он обрек на разлуку француженок из кабаре «Ассирио» и хористок мюзик-холла, предварительно пожаловавшись Эмилио Мендесу Фалкану, своему коллеге по республиканской партии, депутату от Сан-Пауло:
— Кто он, этот ваш родственник, который решил оспаривать у меня депутатское кресло? Какой-то Мундиньо, вы его знаете?
— Это мой младший брат. Мне уже известно о его затее.
Депутат от какаовой зоны встревожился. Если Мундиньо — брат Эмилио и Лоуривала, то его, Мело, переизбранию, а тем более признанию его полномочий правительством угрожает серьезная опасность. Эмилио продолжал:
— Он сумасшедший. Все вдруг бросил и отправился на край света. А потом выясняется, что он кандидат в депутаты. Обещал прибыть в палату только затем, чтобы опровергать мои речи… — Эмилио рассмеялся и спросил: Почему бы вам не сменить избирательный округ? Мундиньо способен на все, он вполне может вас победить.
Но разве мог Мело сменить округ? Ему покровительствовал один сенатор, дядя со стороны матери, благодаря ему Мело и захватил свободное место в седьмом избирательном округе Баии. Остальные места уже были заняты. Кто же захочет теперь обменяться с ним и вступить в схватку с братом Лоривала Мендеса Фалкана, крупнейшего кофейного плантатора, имеющего влияние на президента республики? Доктор Мело срочно выехал в Ильеус.
Жоан Фулженсио согласился с Ньо Гало: самое лучшее, что мог предпринять в поддержку своей кандидатуры депутат Витор Мело, — это не появляться в Ильеусе. Ибо он был на редкость несимпатичной личностью.
— Меня тошнит от одного его вида… — сказал Ньо Гало.
Речи депутата Мело были малопонятны, поскольку изобиловали медицинскими терминами («От его выступлений воняет карболкой», — утверждал Жоан Фулженсио). Голос у него был отвратительный — высокий, почти женский, пиджаки он носил странного покроя, с поясом, и, наверно, прослыл бы гомосексуалистом, если бы не был таким бабником.
— Этот Мело — Тонико в кубе, — определил Ньо Гало.
Тонико решил съездить с женой в Баию. Он рассчитывал, что в Ильеусе тем временем окончательно забудут его печально окончившееся похождение. Боясь, что противники воспользуются этой историей, Тонико не пожелал принять участие в избирательной кампании. Разве не прибили на стену его дома рисунок, сделанный цветным карандашом, на котором было изображено, как он удирает в одних кальсонах — клевета, он выскочил в брюках! — и кричит «караул»? А внизу были нацарапаны грязные, неуклюжие стишки:
Наш Тонико Пика, донжуан для шлюх, просвистался в пух: — Ты его супруга? — Я его подруга. Вот какой лопух наш Тонико Пика!У депутата Витора Мело тоже были шансы получить пощечину, а может быть, и пулю. Этот высокомерный щеголь, опытный соблазнитель столичных дам, нервных пациенток, которых он излечивал на диване своего кабинета, едва завидев хорошенькую женщину, делал ей гнусное предложение. Его нисколько не интересовало, кто ее муж. На вечере в клубе «Прогресс» депутата спасло лишь своевременное вмешательство Алфредо Бастоса в момент, когда вспыльчивый Моасир Эстрела, совладелец автобусной компании, собирался набить благородную парламентскую физиономию Витора. Витор пошел танцевать с миловидной и скромной женой Моасира, которая с некоторых пор посещала клуб «Прогресс», поскольку предприятие мужа начало процветать. Сеньора посреди зала вдруг освободилась из объятий своего кавалера и громко воскликнула:
— Нахал!
Она рассказала подругам, что депутат все время пытался просунуть ногу между ее ногами и прижимал ее к груди так, будто хотел не танцевать, а заниматься чем-то другим. «Диарио де Ильеус» рассказала об этом инциденте в статье, написанной пламенным и неподкупным пером доктора и называвшейся «Хулиган, изгнанный с бала за недостойное поведение». Впрочем, изгнания, собственно, не было. Алфредо Бастос увел депутата с собой, оставив всех присутствовавших в волнении. Сам полковник Рамиро Бастос, узнав об этой и других выходках Витора Мело, признался друзьям:
— Аристотелес был прав. Если бы я знал об этом раньше, то не стал бы с ним ссориться и терять Итабуну.
В баре Насиба депутат тоже затеял ссору. Во время спора он в запальчивости выкрикнул, что в Ильеусе живут грубые, неотесанные люди, не имеющие никакого понятия о культуре. На этот раз Витора Мело спас Жоан Фулженсио, поскольку Жозуэ и Ари Сантос, сочтя себя оскорбленными, намеревались его побить. Чтобы не допустить драки, Жоану Фулженсио пришлось использовать весь свой авторитет. Бар Насиба стал теперь редутом Мундиньо Фалкана. Компаньон экспортера и враг Тонико, араб (гражданин Бразилии по рождению и избиратель) принял активное участие в предвыборной кампании. И как ни удивительно, в эти бурные дни на одном из самых многолюдных митингов, где Эзекиел побил все свои рекорды как по количеству выпитой кашасы, так и по вдохновению, Насиб тоже произнес речь. Его вдруг осенило, после того как он услышал речь Эзекиела. Насиб не выдержал и попросил слова. Его выступление имело невиданный успех в особенности потому, что, начав говорить по-португальски, но ощутив недостаток в пышных эпитетах, которые он с трудом подыскивал, Насиб закончил на арабском языке, и тут слова посыпались одно за другим с поразительной быстротой. Аплодисментам не было конца.
— Самая искренняя и самая вдохновенная речь за всю кампанию, определил Жоан Фулженсио.
И вот в одно ясное голубое утро, когда сады Ильеуса источали аромат и птицы пели, прославляя красоту города и неба, все эти волнения кончились. Полковник Рамиро вставал очень рано. Самая старая служанка, жившая в доме Бастосов сорок лет, обычно подавала ему чашку кофе. Старик садился в качалку, размышляя о ходе избирательной кампании, и производил подсчеты. Последнее время он утвердился в мысли, что удержится у власти, поскольку губернатор обещал признать его кандидатов и отвергнуть кандидатуры противников. В то утро служанка, как всегда, дожидалась Рамиро с чашкой кофе. Он не показывался. Тогда встревоженная служанка разбудила Жерузу. Женщины нашли полковника мертвым, он лежал с открытыми глазами, его правая рука сжимала простыню. Жеруза отчаянно зарыдала, служанка крикнула: «Умер мой крестный!»
Номера «Диарио де Ильеус», обведенные траурной каймой, восхваляли полковника: «В этот час печали и скорби настает конец всем разногласиям. Полковник Рамиро Бастос был выдающимся гражданином Ильеуса. Город, муниципалитет и весь район обязаны ему многим. Без Рамиро Бастоса не было бы прогресса, которым мы сегодня гордимся и за который боремся». На той же странице среди множества траурных извещений — от семьи, префектуры, Коммерческой ассоциации, братства святого Георгия, семейства Амансио Леала, правления железной дороги Ильеус — Конкиста — было помещено и извещение демократической партии Баии (ильеусское отделение), приглашавшее всех членов этой партии присутствовать на похоронах «выдающегося общественного деятеля, лояльного противника и образцового гражданина». Подписали извещение Раймундо Мендес Фалкан, Кловис Коста, Мигел Батиста де Оливейра Пелопидас де Ассунсан д'Авила и полковник Артур Рибейро.
В гостиной, где стояли стулья с высокими спинками и где был выставлен гроб с телом усопшего, Алфредо Бастос и Амансио Леал принимали соболезнования горожан, которые проходили перед гробом все утро. Тонико известили телеграммой. В полдень с огромным венком явился Мундиньо Фалкан, он обнял Алфредо, взволнованно пожал руку Амансио. Жеруза стояла у гроба, ее перламутровое лицо заливали слезы. Мундиньо подошел к девушке, она подняла глаза, разрыдалась и выбежала из гостиной.
В три часа дня в доме никого не осталось. Всю улицу, от дома Бастосов до клуба «Прогресс» и префектуры, заполнил народ. Собрался весь Ильеус, из Итабуны прибыли специальный поезд и три автобуса.
Приехавший из Рио-до-Брасо Алтино Брандан сказал Амансио:
— Вы не находите, что это к лучшему? Он скончался непобежденным; умер у кормила, как ему хотелось.
Рамиро был человеком твердых убеждений, старого закала, теперь таких людей больше нет.
Появился епископ в сопровождении священников.
На улице в ожидании похоронной процессии выстроились монахини и ученицы монастырской школы во главе с настоятельницей, Энох с преподавателями и учащимися своей гимназии, учителя и ученики начальной школы, ученики колледжа доны Гильермины и других частных колледжей, братство святого Георгия, Маурисио, облаченный в красную тогу, Мистер, весь в черном, долговязый швед из пароходной компании, чета греков, экспортеры, фазендейро, коммерсанты (торговые заведения были закрыты в знак траура) и простой люд, спустившийся с холмов и пришедший из Понтала и с Острова Змей.
Габриэла и дона Арминда с трудом пробрались в переполненную гостиную, заваленную венками. Габриэле удалось подойти к гробу, она приподняла шелковый платок, покрывавший покойного, и посмотрела ему в лицо, потом, склонившись над восковой рукой Рамиро, поцеловала ее. В день, когда открылось презепио сестер Рейс, полковник любезно беседовал с ней на виду у золовки и ее мужа-бакалавра. Габриэла обняла Жерузу, и девушка, плача, опустила голову ей на плечо. Заплакала и Габриэла, в зале многие всхлипывали. Колокола всех церквей звонили по усопшему.
В пять часов траурное шествие вышло из дому. Толпа, не уместившись на улице, вылилась на площадь.
У могилы уже говорили речи: Маурисио, Жувенал — адвокат из Итабуны, доктор — от оппозиции, несколько слов сказал епископ, — а хвост процессии еще поднимался по склону Витории к кладбищу. Вечером кинотеатры были закрыты, в кабаре не горели огни, бары пустовали, притихший город, казалось, вымер.
О конце (официальном) одиночества
Нелегальное существование опасно и сложно. Оно требует терпения, ловкости, энергии и постоянной настороженности. Нелегко выполнять все то, что требует такое существование. Трудно уберечься от небрежности, естественно появляющейся с течением времени, и от спокойствия, которое незаметно пускает корни. Поначалу осторожность соблюдают где надо и где не надо, но мало-помалу о ней забывают. Нелегальный характер утрачивается, сбрасывается покров таинственности, и внезапно то, о чем никто не знал, становится предметом всеобщего обсуждения. Так получилось с Глорией и Жозуэ.
Об их интрижке, их увлечении, их страсти, их любви — классификация зависела от степени образованности и сочувствия того, кто говорил, — так или иначе стало известно всему Ильеусу. О связи учителя и мулатки судачили не только в городе, но даже на далеких фазендах у гор Бафоре. В первые дни их любви самые крайние предосторожности казались недостаточными Жозуэ и Глории — особенно Глории. Она объяснила возлюбленному, по каким основным и важным причинам она хочет, чтобы жители Ильеуса вообще и полковник Кориолано Рибейро в частности ничего не знали о ее красоте, воспетой в прозе и стихах Жозуэ, о святой радости, озаряющей лицо Глории. Во-первых, из-за славного прошлого фазендейро, который приобрел известность своими дикими расправами. Чрезмерно ревнивый, он никогда не прощал наложнице измены. Оплачивая королевскую роскошь содержанки, он требовал исключительных прав на ее благосклонность.
Глория не желала рисковать, не хотела быть избитой и обритой, как Шикинья. Не хотела она подвергать риску и хрупкие кости Жозуэ, ибо его проучили бы так же, как и соблазнителя Жуку Виану. Его тоже обрили бы. Глории не хотелось потерять вместе с волосами и честью комфорт роскошного дома, счета в магазинах, служанку, духи, деньги, запертые в ящике. Следовательно, Жозуэ должен был приходить к ней лишь после того, как улицы совершенно пустели, и уходить до того, как появлялись те, кто встает с зарей. Никогда, — помимо тех часов, когда, лежа на скрипящей кровати, они с неутолимым пылом мстили за все ограничения, — не должен был он обнаруживать, что они знакомы.
Такую строгую конспирацию можно соблюдать неделю или две. Потом совершаются неосторожные шаги, теряется бдительность, притупляется внимание. Немножко раньше вчера, немножко позже сегодня — и дело кончилось тем, что Жозуэ стал входить в проклинаемый святошами дом, когда бар «Везувий» бывал еще полон или когда кончался сеанс в кинотеатре «Ильеус», а то и раньше. Пять лишних минут сна сегодня, пять лишних минут завтра — и Жозуэ прямо из комнаты Глории стал отправляться на занятия в колледж.
Вчера он признался Ари Сантосу («Мне бы никогда не добиться успеха…»), сегодня Ньо Гало («Какая женщина!»), вчера по секрету шепнул Насибу («Только, ради бога, никому не рассказывайте!»), сегодня Жоану Фулженсио («Она божественна, сеньор Жоан!») — и связь учителя и содержанки полковника очень скоро стала известна всему городу.
И не один Жозуэ был нескромным, — разве можно запереть в сердце любовь, которая бушует в его груди? — не один он оказался неосторожным — разве можно ждать полуночи, чтобы проникнуть в запретный рай? Не на одного Жозуэ легла вина. Разве сама Глория не стала гулять по площади, покинув грустное окно, чтобы видеть поближе своего возлюбленного и улыбаться ему, когда он сидит в баре? Разве не покупала она в магазинах галстуки, носки, мужские рубашки и даже кальсоны? Разве не снесла она портному Петронию, самому лучшему и дорогому в городе, потертый и заштопанный костюм учителя, чтобы мастер ко дню, рождения Жозуэ сшил ему другой, из синего кашемира? Разве не аплодировала она ему в парадном зале префектуры, когда он представлял аудитории докладчика? Разве не посещала она, единственная женщина среди полудюжины завсегдатаев, воскресные заседания литературного общества имени Руя Барбозы, вызывающе проходя мимо старых дев, возвращавшихся с десятичасовой мессы? Увлечение Глории литературой осуждали вместе с отцом Сесилио Кинкина и Флорзинья, суровая Доротея и злая Кремилдес.
— Лучше бы она исповедалась в своих грехах…
— Скоро, чего доброго, начнет писать в газетах…
Возмущение достигло предела, когда в воскресенье вечером все гулявшие по шумной площади увидели через неосторожно открытое венецианское окно дома Глории, как Жозуэ в одних трусах расхаживает по комнате. Старые девы вознегодовали: это уж слишком, выходит, приличному человеку нельзя пройтись по площади.
Тем не менее из-за этого «распутства» (как выражалась Доротея) скандала не случилось, поскольку в Ильеусе и без того было много новостей и событий. Все были заняты спорами и обсуждением более серьезных и важных дел. Например, после похорон полковника Рамиро Бастоса гадали, кто займет освободившийся пост. Некоторые находили естественным и справедливым, чтобы место перешло к его сыну Алфредо Бастосу, бывшему префекту, а ныне депутату штата. Взвешивались его недостатки и достоинства. Алфредо ничем не выделялся, был малоэнергичен — словом, не был создан для того, чтобы управлять. Он был ревностным и честным префектом, здравомыслящим администратором и посредственным депутатом. Хорош Алфредо был лишь как детский врач, первый в Ильеусе.
Женат он был на скучной, педантичной женщине, кичившейся своим происхождением. Многие выражали неверие в будущее правительственной партии и прогресс зоны, если управление городом перейдет в столь слабые руки.
Впрочем, таких, которые видели в Алфредо преемника Рамиро, было немного. Большинство же дружно называло полковника Амансио Леала — это имя внушало беспокойство. Вот настоящий политический наследник Рамиро. Сыновьям Рамиро Бастоса остались богатство, легенда о покойном полковнике и множество историй, чтобы рассказывать внукам. Но руководство партией могло перейти только к Амансио. Амансио был вторым после Рамиро — к почестям и постам он был безразличен, однако участвовал в принятии всех важных решений: покойный хозяин края прислушивался только к его мнению. Ходили слухи о том, что Рамиро и Амансио хотели объединить семейства Бастосов и Леалов, выдав Жерузу за Берто, как только парень окончит учение. Старая служанка Рамиро рассказывала, будто она слышала, как старик говорил об этом за несколько дней до смерти. Известно было также, что губернатор рекомендовал предложить Амансио место, освободившееся в сенате штата после смерти его кума.
Куда бы направили судьбу какаовой зоны и политические устремления местного правительства грубые руки Амансио? Трудно сказать, поскольку Амансио был вспыльчивым, неуравновешенным и упрямым человеком, поступки которого невозможно было предугадать. Его друзья превозносили его за два качества — за мужество и честность. Но многие порицали его за упорство и нетерпимость. Однако все были убеждены, что развернувшаяся избирательная кампания миром не кончится. Амансио перейдет к насильственным действиям.
Так неужели история Глории и Жозуэ, продолжавшаяся уже несколько месяцев без всяких осложнений, могла заинтересовать ильеусцев, стоявших на пороге грандиозных событий? Только старые девы, которые мучились от зависти, глядя на лицо Глории, теперь постоянно озаренное радостью, еще проезжались на ее счет. Необходимо было какое-нибудь драматическое или невероятное событие, которое нарушило бы сладостную монотонность счастья любовников, чтобы ильеусцы снова заговорили о них. Вот если Кориолано узнает об их связи и выкинет один из своих трюков, тогда, пожалуй, ими стоит заняться. Ильеусцы больше не возмущались, не ругали Жозуэ альфонсом, как это было вначале, не обсуждали больше его поэм, в которых он со скабрезными подробностями описывал ночи в постели Глории. К Жозуэ и Глории они вернутся, лишь когда Кориолано узнает об измене наложницы. Это будет забавно.
Однако ничего забавного не произошло. Это случилось вечером, сравнительно рано, около десяти часов, когда кончились сеансы в кинотеатрах и бар «Везувий» был переполнен. Насиб ходил от столика к столику и оповещал посетителей о скором открытии «Коммерческого ресторана». Жозуэ вошел к Глории уже более часа назад. Он махнул рукой на все предосторожности и не обращал внимания на осуждение семейных горожан, а также некоторых отдельных лиц, как, например, Маурисио Каиреса. Впрочем, казалось, до их связи теперь никому не было дела.
В баре уже загремели отодвигаемые стулья, когда Кориолано, в крестьянской одежде, появился на площади и направился к дому, где раньше обитала его семья и где теперь его любовница наслаждалась с молодым учителем. Посыпались вопросы: вооружен ли он, будет ли бить Глорию плетью, устроит ли скандал, поднимет ли стрельбу. Кориолано сунул ключ в замочную скважину. В баре заволновались еще больше. Насиб вышел на край широкого тротуара. Все затаили дыхание, ожидая криков и, может быть, выстрелов. Но ничего не случилось. В доме Глории было тихо.
Прошло несколько томительных минут, посетители бара переглядывались. Ньо Гало в волнении схватил Насиба за руку, капитан предложил пойти к дому Глории, чтобы предотвратить несчастье. Жоан Фулженсио высказался против этой нескромной инициативы:
— Не нужно. Держу пари, ничего не произойдет.
И действительно, ничего не произошло, если не считать, что из дому вышли под руку Глория и Жозуэ и направились по набережной, чтобы миновать оживленный «Везувий». Немного погодя служанка выставила на тротуар узлы, чемоданы, гитару и ночной горшок — единственную пикантную деталь во всей этой истории, затем уселась на самый большой чемодан и стала ждать. Дверь была заперта изнутри. Через некоторое время пришел носильщик и забрал чемоданы. Это было уже после одиннадцати, когда в баре осталось мало народа.
Зато несколько дней спустя нашумело известие о визите Амансио Леала к Мундиньо. После похорон Рамиро фазендейро уехал к себе на плантации. Там он пробыл несколько недель, не подавая никаких признаков жизни. Избирательная кампания была внезапно прервана в связи со смертью старого главаря. Создавалось впечатление, будто оппозиционерам уже не с кем бороться, а стоявшие у власти словно не знали, как действовать без шефа, который руководил ими столько лет. В конце концов Мундиньо и его друзья снова зашевелились. Но пока еще осторожно, без прежнего энтузиазма и оживления, которыми отличалось начало кампании.
Амансио Леал сошел с поезда и направился прямо в контору экспортера. Было начало пятого, торговый центр бурлил. Известие о приезде Амансио облетело весь город еще до того, как беседа с Мундиньо закончилась. На тротуаре против дома экспортера собрались любопытные, они стояли, подняв головы и наблюдая за окнами конторы Мундиньо.
Полковник пожал противнику руку, уселся в удобное кресло, но отказался от ликера, кашасы и сигары.
— Сеньор Мундиньо, все это время я боролся против вас. Это я велел поджечь газеты. — Мягкий голос Амансио, его единственный глаз и отчетливо произносимые слова выражали решимость, которая является результатом долгого размышления. — Я велел убить Аристотелеса.
Полковник закурил сигарету и продолжал: — И снова был готов вывернуть Ильеус наизнанку. Ведь когда я был молодым, мы с кумом Рамиро уже сделали это однажды. — Он остановился, как бы вспоминая! — И теперь жагунсо — мои и моих друзей — были наготове, чтобы отправиться в город и решить исход выборов. — Амансио взглянул своим единственным глазом на экспортера и улыбнулся. — Один жагунсо, на редкость меткий стрелок, мой старый знакомый, предназначался для вас.
Мундиньо слушал очень серьезно. Амансио курил сигарету.
— Скажите спасибо куму, что остались живы, сеньор Мундиньо. Если бы он не умер, на кладбище лежали бы вы. Но господь не пожелал и призвал его первым.
Полковник замолчал, возможно, вспоминая об умершем друге. Мундиньо ждал, слегка побледнев.
— Теперь все кончилось. Я был против вас потому, что кум для меня был больше чем брат — он был мне отцом. Я никогда не заботился о том, чтобы выяснить, кто прав. Зачем? Вы были против кума, и я был против вас. И если бы он был жив, я с ним пошел бы против самого дьявола. — Амансио помолчал. — На каникулах мой старший сын побывал тут…
— Я с ним познакомился. Мы с ним не раз говорили.
— Я знаю. Он со мной спорил: доказывал, что вы правы. Я, конечно, не изменил своих убеждений, но и навязывать их ему тоже не стал. Я хочу, чтобы он был самостоятельным и думал своей головой. Ради этого я тружусь и зарабатываю деньги — ради того, чтобы мои сыновья ни от кого не зависели, чтобы они могли иметь собственное мнение.
Амансио снова замолчал, покуривая. Мундиньо не шелохнулся.
— Потом кум скончался. Я уехал на плантацию, стал размышлять. Кто займет место кума? Алфредо? — Он пренебрежительно махнул рукой. — Он хороший парень, лечит детей, но в остальном — копия своей матери, она не от мира сего. А уж Тонико не знаю, в кого и уродился. Говорят, отец кума был бабником, но подлецом не был никогда. Я долго раздумывал и пришел к убеждению, что в Ильеусе есть только один человек, который достоин заменить кума. Этот человек — вы. Я пришел вам это сказать. Для меня все кончено, больше я не борюсь против вас.
Мундиньо помолчал еще несколько мгновений. Он думал о братьях, о матери, о жене Лоуривала. Когда служащий сообщил ему о приходе полковника Амансио, он вытащил из ящика стола револьвер и положил его в карман. Он опасался за свою жизнь и ожидал чего угодно, только не дружески протянутой руки полковника. Теперь он, Мундиньо, станет управлять краем какао. Однако он не почувствовал особой радости или гордости. Ему не с кем бороться. По крайней мере до тех пор, пока не появится тот, кто выступит против него; а это произойдет, когда снова наступят перемены и он уже будет негоден для управления. Именно так случилось с Рамиро Бастосом.
— Благодарю вас, полковник. Я тоже боролся против вас и полковника Рамиро. И не поличным мотивам. Я всегда восхищался полковником, но мы по-разному представляли себе будущее Ильеуса.
— Я знаю об этом.
— Мы также держали жагунсо наготове. И не знаю, кто бы смог расхлебать кашу, которую мы заварили. И у меня был человек, предназначенный для вас, сеньор. Он тоже был старым знакомым, но не моим, а одного моего друга. Теперь все кончилось и для меня. Послушайте, полковник, это ничтожество Витор Мелоне будет депутатом от Ильеуса. Ибо Ильеус должен быть представлен кем-нибудь из здешних жителей, заинтересованных в его прогрессе. Кого посоветуете, того и выдвинем. Назовите имя, и я сниму свою кандидатуру, а выставлю того, кого вы укажете, и рекомендую его своим друзьям. Доктор Алфредо? Вы сами, сеньор? На мой взгляд, вам больше подходит место в сенате, чем покойному полковнику Рамиро.
— Нет, сеньор Мундиньо, благодарю вас. Мне ничего не надо. Если я и буду голосовать, то за вас; за этого негодяя Витора Мело я бы голосовал только ради кума. Но теперь я покончил с политикой. Буду жить тихо. Я приехал лишь сказать, что не буду больше бороться против вас. О политике у меня в доме заговорят только после того, как сын закончит университет, и то если он пожелает ею заняться. Но я хочу попросить вас об одном: не преследуйте сыновей кума, его друзей. Сыновья стоят немногого, я это знаю. Но Алфредо человек порядочный. А Тонико просто богом обижен. Наши друзья хорошие люди, они не оставили кума в трудное время. Только об этом я хотел вас просить. А мне ничего не надо.
— Я не собираюсь никого преследовать, это не в моих правилах. Наоборот, я хочу обсудить с вами, как нам получше поступить с доктором Алфредо.
— Ему лучше всего вернуться в Ильеус и продолжать лечить детей. Это ему по вкусу. Теперь, после смерти кума, Алфредо стал очень богатым человеком. Политика же ему не нужна. А Тонико оставьте в нотариальной конторе.
— А полковник Мелк? А другие?.
— Это уже мало меня касается. Мелк сам не свой после истории с дочерью. Очень возможно, что он поступит так же, как я, — не будет больше вмешиваться в политику. Ну, мне пора, сеньор Мундиньо, я и так отнял у вас слишком много времени. Отныне считайте меня своим другом, но не в политике. После выборов милости прошу на мою маленькую плантацию. Поохотимся на преа[78]…
Мундиньо проводил полковника до лестницы. Немного погодя вышел и он и молча зашагал по улице, едва кивая в ответ на многочисленные очень сердечные приветствия.
О расходах и доходах, связанных с шеф-поваром
Жоан Фулженсио пожевал пирожок и выплюнул:
— Невкусно, Насиб. Вам бы надо знать, что кулинария — это искусство. Она требует не только знаний, но прежде всего призвания. А у вашей кухарки его нет. Она просто шарлатанка.
Все вокруг рассмеялись, но Насиб по-прежнему был озабочен. Ньо Гало потребовал ответа на вопрос, который он уже задавал: «Почему Кориолано просто-напросто выставил Глорию и Жозуэ за дверь, молча расстался со своей любовницей? Именно он, человек, известный своими жестокими расправами, палач Шикиньи и Жуки Вианы, угрожавший еще два года назад Тонико Бастосу. Почему он так поступил?»
— Почему?.. Очевидно, сыграли свою роль библиотека Коммерческой ассоциации, балы в клубе «Прогресс», автобусная линия, работы в бухте… Сын кончает университет, смерть Рамиро Бастоса.
Ньо Гало замолчал на мгновение, Насиб обслуживал другой столик.
— А также Малвина и Насиб…
Закрытые окна дома, где раньше жила Глория, были грустным штрихом в пейзаже площади, и доктор заметил:
— Должен признаться, что мне не хватает ее личика в рамке окна. Мы уже к нему привыкли.
Ари Сантос вздохнул, вспомнив высокую грудь, которую Глория как бы предлагала прохожим, постоянную улыбку на ее устах, кокетливый взгляд. Где она будет жить, когда вернется из Итабуны (она поехала туда с Жозуэ на несколько дней), из какого окна она будет выглядывать, кому будет демонстрировать свою грудь, кому улыбнутся ее пухлые губы и глаза с поволокой?
— Насиб! — окликнул араба Жоан Фулженсио. — Вам необходимо принять срочные меры, мой дорогой. Смените кухарку и добейтесь, чтобы Глория снова оказалась в доме Кориолано. В противном случае, о славный потомок Магомета, ваш бар пойдет ко дну…
Ньо Гало предложил объявить подписку среди посетителей бара, оплатить аренду дома, чтобы пышные прелести Глории вновь показались в окне.
— А кто заплатит за элегантность Жозуэ? — воскликнул Ари.
— Наверно, Рибейриньо… — сказал доктор.
Насиб смеялся, но был озабочен. Когда он подводил итог своим делам и думал о том, что нужно предпринять в связи со скорым открытием ресторана, то хватался за голову, — может быть, желая убедиться в том, что она еще держится у него на плечах, — столько раз он ее терял за последнее время. Естественно, что в первые недели, после того как Насиб застал голого Тонико у себя в спальне, он мало занимался баром и забросил проекты, связанные с рестораном. Тогда, опустошенный отсутствием Габриэлы, он чуть не выл от боли и ни о чем не мог думать. Впрочем, он и потом делал немало глупостей.
Внешне все вошло в колею. Посетители бывали в баре, играли в шашки и триктрак, разговаривали, смеялись, пили пиво, смаковали аперитивы перед завтраком и обедом. Насиб, казалось, пришел в себя, шрам на его сердце зарубцевался, он уже не искал дону Арминду, чтобы узнать у нее о Габриэле и услышать о том, сколько предложений она получила и отвергла. Однако посетители пили теперь меньше, чем в те времена, когда в бар приходила Габриэла. Кухарка, выписанная из Сержипе (проезд был оплачен Насибом), оказалась никуда не годной. Она умела готовить только самые обычные блюда, тяжелые приправы, жирную пищу, засахаренные сладости и отвратительные закуски для бара. И вместе с тем она настаивала, чтобы ей дали помощниц, жаловалась, что слишком много работы… Прямо чума какая-то! К тому же она была страшна, как пугало: вся в бородавках, на подбородке — волосы… Она явно не подходила ни для бара, ни для того, чтобы распоряжаться в кухне ресторана.
Под закуски и сладости пьется лучше, они привлекают посетителей, заставляют их повторить заказ. Посетителей, правда, не стало меньше, очевидно, из симпатии к Насибу они продолжали ходить в бар, их было по-прежнему много. Но заказы на спиртное сократились, а значит, уменьшилась и выручка. Теперь, когда не было Габриэлы, многие выпивали только по одной рюмке, а некоторые стали ходить не каждый день.
Пышный расцвет «Везувия» приостановился, доходы, пожалуй, даже уменьшились. И это теперь, когда в городе столько денег, когда ими сорят в магазинах и кабаре! Нужно было принять решительные меры: уволить кухарку и во что бы то ни стало раздобыть другую. В Ильеусе это было невозможно, Насиб уже убедился в этом на собственном опыте. Он поговорил с доной Арминдой, и акушерка, набравшись смелости, посоветовала ему:
— Какое совпадение, сеньор Насиб! Я как раз подумала, что подходящей для вас кухаркой может быть только Габриэла. Другой я не знаю.
Насиб с трудом сдержался, чтобы не ответить ей грубостью. Эта дона Арминда совсем сошла с ума. Она по-прежнему не пропускает ни одного спиритического сеанса и беседует с духами. Рассказала, будто старый Рамиро явился на сеансе в лавке Деодоро и произнес волнующую речь, якобы простив всех своих врагов, в том числе и Мундиньо Фалкана. Чертова старуха…
Теперь дня не проходит, чтобы она не спросила, почему бы ему не взять Габриэлу в кухарки. Будто сама не понимает, что это совершенно невозможно…
Правда, он уже настолько оправился, что мог спокойно выслушивать, как дона Арминда расточает похвалы скромности и трудолюбию Габриэлы. Мулатка гнула спину с утра до вечера, подшивая подкладку, обметывая петли, готовя блузки для примерки, — такая работа была ей не по душе, по ее собственным словам, она была создана не для иголки, а для плиты. И все же Габриэла решила, что не будет готовить никому, кроме Насиба, хотя отовсюду сыпались заманчивые Предложения: снова пойти в кухарки и стать любовницей. Насиб выслушивал: дону Арминду почти равнодушно, лишь слегка польщенный этой запоздалой верностью Габриэлы, пожимал плечами и уходил.
Насиб излечился, сумел ее забыть — не как кухарку, а как женщину. Когда в его памяти воскресали ночи, проведенные с Габриэлой, его охватывала такая же тихая грусть, как и при воспоминаниях об искушенности Ризолеты, о длинных ногах Режины, одной из его прежних любовниц, о поцелуях, сорванных у двоюродной сестры Муниры во время поездки в Итабуну на праздники. Тихая грусть без острой боли в груди, без ненависти, без любви. Теперь он чаще вспоминал о ней как о несравненной кухарке, о ее мокеках, щиншинах[79], жареном мясе, филе, кабиделах. Насиб оправился от удара, нанесенного Габриэлой, но обошлось это ему недешево. В течение нескольких недель он каждый вечер посещал кабаре, играл в рулетку и бакара, платил за шампанское для Розалинды. Эта расчетливая блондинка вытягивала у Насиба пятисотенные одну за другой, будто он был какаовым полковником, который оплачивает содержанку, а не хозяином бара, который завел интрижку с молодой наложницей Мануэла Ягуара. У Насиба еще никогда не было такой нелепой связи, он вел себя как осел. Сделав некоторые расчеты, он получил ясное представление о том, сколько же истрачено на эту девку… Непростительное мотовство! Кончилось тем, что он бросил Розалинду, соблазнившись Марой, маленькой индеанкой с Амазонки. Это была менее блистательная победа — девчонка удовлетворялась пивом и недорогими подарками. Но так как у Мары не было постоянного покровителя, ей приходилось принимать клиентов в публичном доме Машадан, и она оставалась свободной далеко не каждый вечер. Поэтому, чтобы забыть о своих неприятностях, Насиб стал ужинать и развлекаться в кабаре и домах терпимости, без счета соря деньгами, и довольно скоро промотал крупную сумму.
При таком образе жизни Насиб, естественно, перестал делать вклады на свой текущий счет. Он выполнял обязательства по отношению к поставщикам, но эта беспутная, дорогостоящая жизнь пожирала все его доходы. Прежде он ходил в кабаре один-два раза в неделю и спал с влюбленной в него женщиной, почти ничего не тратя. Даже после женитьбы, когда Насиб делал Габриэле столько подарков, он мог откладывать каждый месяц несколько мильрейсов на какаовую плантацию. Наконец Насиб покончил с преступной расточительностью, и это далось ему без труда, поскольку ни отсутствие Габриэлы, ни боязнь, одиночества больше не мучили его. Во сне он уже не искал ногой ее округлое бедро, однако все настоятельнее ощущал отсутствие кухарки.
К счастью, баланс все же оставался положительным.
Зал для игры в покер давал хороший доход, поскольку денег в том году у всех было много. После того как Амансио Леал и Мелк помирились с Рибейриньо и Эзекиелом, игра шла ежедневно, с вечера до утра.
Ставки делались большие, и отчисления в пользу хозяина бара возрастали.
Готовился к открытию ресторан, в который Мундиньо вложил деньги, а Насиб — свой труд и опыт.
Доходы, которые им предстояло делить, были верными из-за полного отсутствия конкуренции — в гостиницах кормили отвратительно. Кроме того, в зале ресторана по вечерам предполагался покер и другие карточные игры «семь с половиной», «биску», «двадцать одно».
Полковники очень пристрастились к картам, предпочтя их даже рулетке и бакара. Теперь они смогут скромно развлекаться в ресторане Насиба.
Но кухарки все не было. Уже покрасили помещение, оборудовали зал, буфет и кухню, привезли столы и стулья, установили плиту и раковины для мытья посуды, соорудили уборные для посетителей. Все было лучшего качества. Из Рио была выписана машина для приготовления мороженого и холодильник для мяса и рыбы, вырабатывающий лед. Таких роскошных вещей никогда прежде не видели в Ильеусе, посетители бара, глядя на них, замирали в восторге. Вскоре все будет готово, а кухарки по-прежнему нет. В тот день, когда высокоавторитетный в вопросах кулинарии Жоан Фулженсио подверг суровой критике закуски Насиба, тот решил потолковать с Мундиньо.
Экспортер уделял ресторану много внимания. Он любил хорошо поесть и, постоянно жалуясь на то, как плохо кормят в гостиницах, переходил из одной в другую. Мундиньо тоже — Насиб это знал — соблазнял Габриэлу королевским жалованьем. Выслушав араба, он предложил выписать хорошего ресторанного повара из Рио. Иного выхода не было. Они дадут ему в помощь двух-трех метисок. Насиб поморщился: эти повара из Рио не умеют готовить баиянские кушанья, а деньги дерут бешеные. Мундиньо, однако, увлекся своей идеей: у них тоже будет шеф-повар, как в ресторанах Рио, весь в белом, а на голове — колпак. Он будет выходить к посетителям и рекомендовать им блюда.
Мундиньо дал срочную телеграмму одному своему приятелю.
Насиб, поглощенный последними сложными приготовлениями, вернулся к прежней жизни: редко ходил в кабаре и спал с Марой, когда выдавалось свободное время. Как только приедет повар из Рио, будет окончательно определена дата торжественного открытия «Коммерческого ресторана». В час аперитива многие посетители поднимались на второй этаж, чтобы полюбоваться украшенным зеркалами залом, кухней с огромной плитой, холодильником и прочими чудесами.
Повар прибыл через Баию на том же пароходе, что и Мундиньо Фалкан. Экспортер ездил в столицу штата по приглашению губернатора, чтобы обсудить создавшееся положение и разрешить вопросы, связанные с предстоящими выборами. Аристотелес сопровождал Мундиньо. Была одержана полная победа, губернатор уступил во всем: Витор Мело и Маурисио Каирес были предоставлены самим себе. Что же касается Алфредо, то он снял свою кандидатуру на пост депутата штата, и претендентом на это место оказался некий Жувенал из Итабуны, у которого не было никаких шансов.
В сущности, избирательная кампания завершилась, оппозиция уверенно шла к власти.
Повар поразил Насиба. Странное существо! Коренастый толстяк с нафабренными остроконечными усиками и женственными манерами, он держался с подозрительным жеманством. Необычайно важный и надменный, как вельможа, тоном избалованной красавицы повар потребовал невероятно высокое жалованье.
Жоан Фулженсио сказал:
— Это не повар, а президент республики.
Повар, португалец по происхождению, говорил с заметным акцентом, пренебрежительно и важно роняя французские слова. Насиб оказался в глупом положении, так как не понимал этого языка. Повар называл себя на французский лад Фернаном. Его визитная карточка, которую Жоан Фулженсио бережно хранил вместе с карточкой бакалавра Аржилеу Палмейра — гласила: Фернан — шеф-повар.
Сопровождаемый несколькими любопытными из числа посетителей бара, Фернан вместе с Насибом поднялся осмотреть ресторан. При виде плиты он покачал головой.
— Tres mauvais[80].
— Что? — переспросил сраженный Насиб.
— Плохо, никуда не годится… — перевел Жоан Фулженсио.
Шеф-повар потребовал железную плиту, которая топилась бы углем. Поставить ее нужно было не больше чем за месяц, иначе он уедет. Насиб умолял повара согласиться подождать два месяца, так как плиту придется выписывать из Баии или из Рио. Его превосходительство согласилось, величественно кивнув и тут же потребовав множество кухонной утвари. Повар раскритиковал баиянские кушанья, недостойные, по его словам, деликатных желудков, и сразу же внушил всем глубокую антипатию. Доктор выступил в защиту ватапы, каруру[81], эфо[82].
— Этот тип — просто осел, — пробормотал он.
Насиб был унижен и напуган. Стоило ему открыть рот, надменный шеф-повар бросал на него осуждающий холодный взгляд. Если бы Фернана не выписали из Рио, если бы он не стоил таких денег и не придумай все это Мундиньо Фалкан, Насиб послал бы его к черту со всеми его кушаньями, которые так сложно назывались, и с его французскими словами.
Чтобы испробовать шеф-повара, Наеиб попросил его приготовить закуски и сладости для бара и обед для себя. И снова Насибу пришлось схватиться за голову. Блюда получились страшно дорогие, закуски тоже. Шеф-повар обожал консервы: маслины, рыбу, ветчину. Себестоимость каждого пирожка почти равнялась его продажной цене, к тому же пирожки были тяжелые — много теста и мало начинки. Боже мой, какая разница между пирожками Фернана и Габриэлы!
Тесто Фернана застревало в зубах и прилипало к небу. А пирожки Габриэлы были острые, но вместе с тем нежные, они таяли во рту и вызывали желание выпить. Насиб качал головой.
Он пригласил Жоана Фулженсио, Ньо Гало, доктора, Жозуэ и капитана на завтрак, приготовленный благородным шефом. Майонезы, зеленый суп, курица по-милански, филе с яйцом. Нельзя сказать, чтобы это было невкусно… Но разве можно сравнить эту кухню с местными блюдами, остро приправленными, пахучими, вкусными? Как сравнить ее с кушаньями, приготовленными Габриэлой? Жозуэ предался воспоминаниям: кушанья Габриэлы из креветок и пальмового масла, рыбы и кокосового сока, мяса и перца были настоящей поэмой. У Насиба голова шла кругом. Примут ли посетители эти незнакомые блюда, эти бельке соусы? Они ели, но не знали, что едят: мясо, рыбу или курицу. Капитан одной фразой подвел итог:
— Очень хорошо, но нам не подходит.
Что касается Насиба, то для этого родившегося в Сирии бразильца любое не байянское блюдо, за исключением кибе[83], было невкусным. Он признавал исключительно местную кухню. Но что делать? Этот надутый, спесивый наглец, тараторящий по-французски, уже был здесь, и Насиб платил ему чудовищное жалованье. Повар бросал томные взгляды на Разиню Шико, который грозился надавать ему тумаков. Хотя Насиб и опасался за судьбу ресторана, публика проявляла большой интерес к повару, о шефе говорили как о важной персоне, рассказывали, что он готовил в знаменитых ресторанах, придумывали всякие истории, в особенности по поводу уроков кулинарии, которые он давал нанятым ему в помощь девушкам. Бедняжки ничего не понимали, а кухарка из Сержипе, которую обуяла зависть, прозвала его каплуном.
В конце концов все было готово, и открытие назначили на воскресенье. Владельцы «Коммерческого ресторана» устроили завтрак для почетных граждан Ильеуса. Насиб пригласил всех местных знаменитостей и всех старейших посетителей бара. За исключением Тонико Бастоса, конечно. На завтрак шеф-повар собирался приготовить самые затейливые яства. А Насиб все чаще задумывался над намеками доны Арминды.
Да, нет кухарки лучше Габриэлы…
К несчастью, это невозможно, даже думать нечего.
А жаль!
О боевом товарище
Когда луна, разрывая ночную тьму, появлялась из-за скалы Рапа, совершалось волшебство: портнихи становились пастушками, Дора превращалась в сказочную королеву, а ее дом — в белоснежный парусник.
Трубка сеньора Нило вспыхивала яркой звездой, правой рукой он держал королевский скипетр, левой щедро сеял веселье. Входя, Нило метко бросал на старый манекен свою бескозырку, в которой прятались ветры и бури. И начиналось колдовство. Манекен оживал, становился женщиной на одной ноге, одетой в еще не законченное платье и с бескозыркой на несуществующей голове. Она обнимала сеньора Нило за талию, и они танцевали. Одноногий манекен танцевал очень смешно. Смеялись пастушки, Микелина хохотала, как безумная. Дора улыбалась, как королева. Да она и была королевой.
С холма спускались другие пастушки, приходила и Габриэла. Они уже не были простыми пастушками, они были дочерьми святого, весталками Иансан[84]. Каждый вечер сеньор Нило наполнял комнату весельем. В убогой кухоньке Габриэла готовила свои богатства: медные акараже, серебряные абары и золотую тайну ватапы. Праздник начинался.
Дора принадлежит Нило, Нило — Доре; но кого из пастушек обходил своими милостями сеньор Нило, божок террейро[85]? Они были ночными кобылками, верховыми лошадками для святых, а сеньор Нило преображался и олицетворял всех святых — Огуна и Шанго, Ошосси и Омолу, для Доры же он был бог Ошала. Он звал Габриэлу Иеманжой, богиней вод, матерью реки Кашоэйры и моря Ильеус и всех родников, которые бьют среди камней. Озаренный лучами лунного света дом-парусник плыл по воздуху, поднимался на холм, отправлялся на праздник. Песни — это ветер, танцы — весла, Дора наяда на носу корабля. Капитан — сеньор Нило, он командует матросами.
Матросы приходили из порта; негр Теренсио, замечательно игравший на барабане, мулат Траира, прославленный гитарист, юноша Батиста, исполнитель народных песенок, и Марио Краво, полусумасшедший сантейро[86], ярмарочный фокусник. Сеньор Нило свистел, и комната исчезала, она становилась террейро, священным местом для кандомбле и макумбы, залом для танцев, брачным ложем, баркой без руля на холме Уньан, плывущей под парусами в свете луны. Сеньор Нило приносил веселье каждый вечер. Он всегда был готов танцевать и петь.
Сете Волтас, его приятель, был огненной шпагой, потерянным лучом, страхом в ночи, звоном бубенцов.
Когда Сете Волтас, шагая вразвалку, с ножом за поясом, которым он так гордился и который так очаровывал девушек, появлялся с сеньором Нило в доме Доры, дом превращался в шумный хоровод. Пастушки склонялись перед волхвом, одним из богов террейро, святым наездником.
Лошадь Иеманжи — Габриэла — мчалась по лугам и горам, через долины и моря, через глубокие океаны.
Танцуя и напевая, скакала резвая лошадка. Костяной гребень, флакон духов бросала Габриэла со скалы богине моря, прося у нее немногого: плиту Насиба, его кухню, заднюю комнатку в его доме, его волосатую грудь, усы, которые щекотали ей шею, его тяжелую ногу на своем крупе, украшенном сбруей.
Когда гитара замолкала, наступал час кафунэ, час, когда рассказывались нескончаемые истории.
Сеньор Нило дважды тонул, смотрел смерти в глаза, морской смерти с зелеными волосами и со свирелью в руках. Но сеньор Нило был чист, как родниковая вода, а Сете Волтас был как колодец без дна, как тайна смерти, на его ноже осталась память об убитых. Полицейские в мундирах и в штатском повсюду разыскивали его. В Баие, в Сержипе, в Алагоасе, в хороводах капоэйры, на священных террейро, на базарах и ярмарках, в тайниках пристани, в портовых барах. Даже сам сеньор Нило относился к Сете Волтасу с почтением, ведь он никому не покорялся. Татуировка на его груди напоминала об; одиночной камере. Кто он? Посланец насильственной смерти. Он завернул к ним по пути и сейчас торопился. В порту Бани его ожидают игроки в ронду, мастера из Анголы — вожаки террейро и четыре женщины… Нужно переждать некоторое время, чтобы полиция забыла о нем. Пользуйтесь, девочки!
В воскресные вечера за домом на чистом дворе раздавались звуки беримбау[87]. Приходили повеселиться мулаты и негры. Сете Волтас играл и пел:
Мой товарищ боевой, мы пойдем бродить с тобой, мы пойдем бродить по свету. Эй, товарищ…Потом он передавал инструмент сеньору Нило и входил в круг. Теренсио взлетал вверх, подобно бумажному змею. Он прыгал легко, выше мулата Траиры. Юноша Батиста падал на пол, Сете Волтас зубами поднимал платок с земли. На поле сражения оставался в конце концов он один, с голой татуированной грудью.
На пляже возле скал Сете Волтас трепал сбрую Габриэлы, погружался в волны ее пенного и бурного моря. Габриэла была нежностью мира, ясностью дня и тайной ночи. Но грусть оставалась, грусть бродила по песку? бежала к морю, звучала в скалах.
— Почему ты грустишь, женщина?
— Не знаю. Я одинока.
— Я не могу, чтобы со мной грустили. Мой святой — веселый, да я и сам весельчак. Я убиваю грусть своим ножом.
— Не надо убивать.
— Почему?
Она хотела, чтобы у нее снова была плита, двор с дынным деревом и питангой, задняя комнатка и, наконец, тот добрый молодой человек.
— Неужели тебе мало меня? Женщины готовы убить и умереть из-за меня, ты должна благодарить свою судьбу.
— Мало. Никто мне не по душе. Все для меня нехороши.
— И ты никак не можешь его забыть?
— Не могу.
— Ну и что?
— Как что? Это плохо.
— Это значит — ничего тебе не хочется.
— Это плохо.
— Это значит, ничто тебя не радует.
— Плохо.
Однажды вечером он увел Габриэлу. Накануне он был с Микелиной, в субботу — с Паулой, у которой грудь как у горлицы, теперь наступила долгожданная очередь Габриэлы. В доме Доры сеньор Нило лежит в гамаке, а на груди у него королева. Парусник пришел в свою гавань.
Габриэла плакала на песчаном берегу моря. Лупа залила ее золотым светом, ветер уносил запах гвоздики.
— Ты плачешь, женщина?
Он тронул ее лицо цвета корицы рукой, которая привыкла держать нож.
— Почему? Со мной женщины никогда не плачут, они смеются от радости.
— Конец, теперь конец…
— Чему конец?
— Мечте, что в один прекрасный день…
— Что?
Что она вернется к плите, во двор, в свою заднюю комнату, в бар. Разве не открывает Насиб ресторан?
Разве не понадобится ему хорошая кухарка? А кто готовит лучше Габриэлы? Дона Арминда говорит, чтобы она не теряла надежды. Только она, Габриэла, могла бы наготовить столько кушаний и отлично со всем справиться. И вот теперь вместо нее наняли какое-то чучело, которое приехало из Рио и умеет болтать по-иностранному. Через три дня состоится большое празднество в честь открытия ресторана. Теперь не осталось никакой, надежды. Она хотела бы уйти из Ильеуса. Хоть на дно морское.
Сете Волтас — это свобода, обретаемая каждый день на заре. Он жертвует собой и полон решимости. Он горд и щедр. Он поражает, как молния, и питает, как дождь, он — боевой товарищ.
— Ты говоришь, он португалец?
Боевой товарищ поднялся. Ветер стихал, когда касался его, лунный свет бледнел на его руках, волны набегали, чтобы лизнуть его ноги, в танце отбивавшие ритм.
— Не плачь, женщина. С Сете Волтасом женщины не плачут. Они смеются от радости.
— Что я могу поделать? — Габриэла впервые почувствовала себя бедной, печальной и несчастной, и жить ей не хотелось.
Даже солнце, лунный свет, прохладная вода, капризный кот, тело мужчины, жар бога террейро — ничто не могло развеселить ее, пробудить жажду жизни в ее опустошенном сердце, потому что не было там Насиба, такого хорошего и такого красивого.
— Сама ты ничего не сделаешь, но тебе поможет Сете Волтас, он сделает все.
— Что все? Я не вижу, чем ты мне можешь помочь.
— Если португалец исчезнет, кто тогда будет готовить? А если он исчезнет накануне открытия ресторана, придется позвать тебя, иного выхода не будет. Значит, он исчезнет.
Иногда Сете Волтас был мрачен, как ночь без луны, и тверд, как скала, смело встречающая бурное море. Габриэла вздрогнула:
— Что ты собираешься сделать? Ты убьешь его? Я не хочу этого.
Когда Сете Волтас смеялся, он был, как восходящая заря, как святой Георгий на луне, как земля, которую увидел тонущий, когда уже не осталось надежды на спасение, как якорь корабля.
— Убить португальца? Он мне ничего плохого не сделал. Просто я заставлю его убраться отсюда побыстрей. И лишь слегка проучу его, если он заупрямится.
— Правда?!
— Со мной женщина должна смеяться, а не плакать.
Габриэла улыбнулась. Боевой товарищ прикрыл веками свои жгучие глаза. Он подумал, что так, пожалуй, даже лучше. Он уйдет, продолжит свой путь, сохранит волю в груди и свободу в сердце. Пусть по другому тоскует она, эта единственная в мире женщина, которая способна удержать его, привязать к этому маленькому какаовому порту, согнуть и покорить. В ту ночь он хотел сказать ей все и сдаться в плен любви.
Так лучше, пусть вздыхает и плачет о другом, умирает из-за любви к другому, Сете Волтас может уйти. Он, боевой товарищ, уйдет бродить по свету.
Габриэла потянула его за руку и благодарно раскрыла объятия. Лодка шла по спокойному морю, приплыла в бухту острова, засаженного сахарным тростником и перцем. Стоял в этой лодке с высоким носом боевой товарищ. Ах, товарищ, пылает твоя грудь, ты страдаешь оттого, что теряешь Габриэлу. Но ты один из богов террейро, в правой руке у тебя гордость, свобода — в левой.
Об уважаемом гражданине
В субботу, накануне торжественного открытия «Коммерческого ресторана», можно было видеть, как его владелец араб Насиб в одной рубашке без пиджака, как сумасшедший, несется по улице. Объемистый живот Насиба колыхался над поясом, глаза были вытаращены, он мчался по направлению к экспортной конторе Мундиньо Фалкана.
У двери федерального податного бюро капитану удалось сдержать неистовый бег араба, схватив его за руку:
— Что такое, дружище, куда вы так торопитесь? — Всегда вежливый и приветливый, капитан держался особенно любезно с тех пор, как был выдвинут кандидатом в префекты. — Что-нибудь случилось? Я не могу вам чем-нибудь помочь?
— Он исчез! Исчез! — задыхался Насиб.
— Кто?
— Повар, Фернан.
Вскоре весь город узнал о таинственном происшествии: выписанный из Рио кулинар, вызвавший такую сенсацию, шеф-повар мсье Фернан (он любил, когда его так называли) со вчерашнего вечера исчез из Ильеуса. Накануне он договорился с двумя официантами, нанятыми Дли обслуживания ресторана, и с помощницами по кухне встретиться утром, чтобы закончить последние приготовления к завтрашнему дню. Но повар не появился, и никто его не видел.
Мундиньо Фалкан вызвал полицейского комиссара, рассказал ему, что случилось, и посоветовал произвести тщательное расследование. Это был тот самый лейтенант, которого секретарь префектуры И табуны вынудил когда-то покинуть город. Теперь он в присутствии Мундиньо держался приниженно и раболепно.
В «Папелариа Модело» Жоан Фулженсио и Ньо Гало высказывали различные предположения. Повар; судя по его манерам и взглядам, которые он то и дело бросал, был, конечно, гомосексуалистом. Может, имеет место гнусное преступление? Вспомнили, что мсье Фернан охаживал Разиню Шико. Инспектор допросил молодого официанта, но тот разозлился:
— Мне нравятся женщины… Я ничего не знаю об этом выродке. Как-то раз я его чуть не избил, и он прикинулся, будто не понял почему.
Как знать, может быть, повар стал жертвой преступных элементов, в Ильеусе сейчас собралось немало мошенников, жуликов, карманных воришек и всяких темных личностей, бежавших из Баии и других местностей. Инспектор и полицейские обшарили порт, Уньан, Конкисту, Остров Змей, Понтал. Насиб призвал на помощь своих друзей — Ньо Гало, сапожника Фелипе, Жозуэ, официантов, некоторых посетителей бара. Перевернули вверх дном весь Ильеус, но все было тщетно.
Жоан Фулженсио пришел к заключению, что повар сбежал.
— Я придерживаюсь той версии, что ваш уважаемый шеф уложил чемоданы и удрал, не дожидаясь подъемных. Ильеус — неподходящее место для изысканных задов, тут ввиду малого спроса хватает Машадиньо и Мисс Пиранжи, поэтому он огорчился и убрался восвояси. Впрочем, он поступил хорошо, вовремя освободил нас от своего мерзкого присутствия.
— Но на чем он мог уехать? Ведь вчера не было ни одного парохода. Только сегодня отправляется «Канавиейрас»… — усомнился Ньо Гало.
— На автобусе, на поезде…
Нет, он не уехал ни поездом, ни автобусом, ни верхом и не ушел пешком. Инспектор был уверен, что повар не покидал города. Около четырех часов дня прибежал взволнованный негритенок Туиска, который напал на след. Из всех объявившихся в этот день Шерлоков Холмсов он один сообщил что-то конкретное. Толстого, элегантного мужчину — это вполне мог быть повар, так как у него тоже были остроконечные усики и он тоже покачивал бедрами, видела поздно ночью одна из самых дешевых проституток. Она выходила из «Бате-Фундо» и заметила в стороне портовых складов трех подозрительных типов, которые вели толстяка.
Все это она рассказала Туиске, но в полиции ее показания стали сбивчивыми и неопределенными. Ей только показалось, что она видела, но она не уверена, так как была навеселе. Она не знает, кто были эти люди, она лишь слышала какие-то разговоры. На самом же деле женщина, без всякого сомнения, узнала сеньора Нило, негра Теренсио и их главаря, — как его зовут, она не знала, но по нему вздыхали все девки в «Бате-Фундо».
Он превосходно танцевал, этот пришелец из Баии, но пользовался дурной славой. Проститутка подозревала, что повар лежит сейчас на дне морском, и внутренне содрогалась. Но ничего такого она не говорила в полиции, уже раскаявшись в том, что проболталась Туиске.
Никому не пришло в голову искать Ферма на в доме Доры, где он сначала разревелся, а потом стал помогать ей шить, так как мастерицы в тот день были отпущены. Он совершенно примирился с мыслью, что, переряженный матросом, уплывет вечером в третьем классе на пароходе «Баияна», на котором отправлялся и Сете Волтас. Дора обещала выслать ему багаж прямо в Рио.
Таким образом, когда Жоан Фулженсио к вечеру зашел в бар, где царила суматоха, он нашел Насиба в величайшем горе. Открытие ресторана должно состояться на следующий день. Все готово, продукты закуплены, наняты и обучены Фернаном мулатки, есть два официанта, разосланы приглашения на торжественный завтрак. Гости, и в их числе полковник Аристотелес, приедут из Итабуны, из Агуа-Преты, из Пиранжи, из Рио-до-Брасо. Приедет Алтино Брандаш Где же найти кухарку, которая заменит исчезнувшего повара? Ибо даже на кухарку из Сержипе уже нельзя было рассчитывать. Она ушла, поругавшись с Фернаном и оставив ужасную грязь в задней комнатке. Положиться на помощниц-мулаток? В этом случае Насибу на следующий же день придется закрыть ресторан. Готовить они не умели, могли только разделать мясо, зарезать и выпотрошить курицу, поддерживать огонь в плите. Где найти кухарку за оставшееся время? Все эти печали Насиб выплакал на груди друга-книготорговца в зале для игры в покер и стал заливать горе неразбавленным коньяком. Посетители бара и приятели Насиба пришли в застольных беседах к выводу, что никогда раньше не видели его в подобном состоянии. Даже в те дни, когда он порвал с Габриэлой. Возможно, тогда отчаяние Насиба было более глубоким и безысходным, но он молчал и ходил угрюмый и мрачный, а теперь взывал к небесам, кричал, что разорен и что все пропало. Увидев Жоана Фулженсио, Насиб увлек его в зал для игры в покер:
— Я погиб, Жоан. Что делать? — После того как книготорговец помог ему расторгнуть брак с Габриэлой, Насиб проникся к нему необыкновенным доверием.
— Спокойно, Насиб, найдем какой-нибудь выход. — Какой? Где я добуду кухарку? Сестры Рейс не принимают заказов накануне. А если бы даже и приняли, то кто приготовит закуски для бара на понедельник?
— Я мог бы уступить вам Марокас на несколько дней. Но у нее получается что-то только тогда, когда моя жена стоит рядом и наблюдает за ней.
— Если на несколько дней, это для меня не выход.
Насиб отхлебнул коньяку, ему хотелось плакать.
— Никто не подскажет мне, что делать. Какие бы советы мне ни давали, все не то. Эта сумасшедшая дона Арминда предложила мне снова нанять Габриэлу. Представляете?!
Жоан Фулженсио вскочил и радостно воскликнул:
— Эврика, Насиб! Знаете, что сделала дона Арминда? Она, как Колумб, поставила яйцо и открыла Америку. Она разрешила проблему! Подумайте только: она дала нам прекрасное, справедливое, отличное решение, которого мы не видели. Вопрос решен, Насиб!
Насиб осторожно и недоверчиво спросил:
— Габриэла? А вы не шутите?
— Какие шутки! Разве она не была у вас кухаркой? Так почему она не может снова стать ею? Кем Же ей быть?
— Она была моей женой…
— Это была обычная связь, не так ли? Брак признан недействительным, вы же сами знаете… И если вы снова наймете ее кухаркой, вы окончательно подтвердите это даже еще убедительнее, чем официальным расторжением брака. Вы не согласны со мной?
«Это ей будет хорошим уроком… — подумал Насиб. — Она снова станет кухаркой, после того как была хозяйкой…»
— Ну так как же? Вы сделали одну-единственную ошибку — женились на ней. Это было плохо для вас и еще хуже для нее. Если хотите, я поговорю с ней.
— Думаете, она согласится?
— Уверен. Я сейчас же схожу к ней.
— Окажите, что я беру ее на время…
— Почему на время? Она кухарка, и вы будете ее держать, пока она будет хорошо работать. Я скоро вернусь с ответом.
Вот как получилось, что в тот же вечер, сама не своя от радости, Габриэла убрала комнатку в глубине двора и снова водворилась в ней, предварительно поблагодарив Сете Волтаса. Из окна дома Насиба она помахала платком пароходу «Канавиейрас», который в шесть часов вечера пересек бухту и взял курс на Баию.
На другой день на званом завтраке гости — их было более пятидесяти снова наслаждались ни с чем не сравнимыми блюдами Габриэлы, ее необыкновенными, божественными кушаньями.
Завтрак в честь открытия ресторана прошел отлично. К аперитивам были поданы прежние закуски и сладости. Чудесной вереницей блюда следовали одно за другим. Насиб, сидевший между Мундиньо и судьей, слушал взволнованные речи капитана и доктора.
«Выдающийся сын Ильеуса, преданный делу прогресса нашего края», сказал про него капитан. «Достойный гражданин Насиб Саад дал Ильеусу ресторан, который не уступит столичным», — превозносил его доктор. Жозуэ поблагодарил их от имени Насиба и тоже принялся хвалить его. Дифирамбы завершились выступлением Мундиньо, который, как он выразился, «тоже хотел бы присоединиться к рукоплесканиям». Он настаивал на том, чтобы выписать повара из Рио, а Насиб был против и оказался прав. Нет в мире кухни, которая могла бы сравниться с баиянской.
И тогда все пожелали увидеть творца этих кушаний, волшебные руки которого создали столь вкусные блюда. Жоан Фулженсио поднялся и пошел на кухню за Габриэлой. Она появилась с улыбкой, в домашних туфлях, в синем бумазейном платье и белом переднике, с красной розой в волосах. Судья закричал:
— Габриэла!
Насиб громко объявил:
— Я снова нанял ее в кухарки…
Жозуэ захлопал в ладоши. Ньо Гало тоже, некоторые встали и подошли поздороваться с ней. Она продолжала улыбаться, опустив глаза; ее волосы были схвачены лентой.
Мундиньо Фалкан прошептал сидевшему рядом с ним Аристотелесу:
— Умеет этот турок жить…
Плантация Габриэлы
Несколько раз прерывавшиеся, работы в бухте были наконец завершены. Был прорыт новый канал, глубокий и прямой. По нему могли ходить, не подвергаясь опасности сесть на мель, пароходы компаний «Ллойд», «Ита», «Баияна», а главное — могли входить в порт и грузить какао большие торговые суда.
Как объяснил главный инженер, работы несколько затянулись из-за многочисленных трудностей и препятствий. Конечно, он не имел в виду беспорядки, связанные с прибытием буксиров и специалистов, или ту ночь, когда раздавались выстрелы и в кабаре дрались бутылками, или угрозы убить инженера, которые слышались вначале. Он имел в виду зыбкие пески бухты: под влиянием приливов и отливов, ветров и бурь они передвигались, изменяя глубину фарватера, заносили его и за несколько часов сводили на нет труд многих недель. Приходилось терпеливо начинать все сначала, менять по двадцать раз план канала, отыскивая более защищенные места. В конце концов инженеры на какой-то момент даже усомнились в успехе, их охватило уныние, а наиболее пессимистично настроенные горожане повторяли доводы консерваторов в. избирательной кампании: бухта Ильеуса — неразрешимая проблема.
Ушли буксиры и землечерпалки, уехали инженеры и техники. Впрочем, одна землечерпалка осталась в порту для постоянного дежурства, чтобы, если потребуется, быстро справляться с движущимися песками и поддерживать новый канал в состоянии, пригодном для прохождения пароходов с глубокой осадкой.
Подвиг инженеров, их упорство, их профессиональное мастерство были отмечены большим прощальным праздником с обильной выпивкой. Он начался в «Коммерческом ресторане» и закончился в «Эльдорадо».
Доктор произнес речь, еще раз подтвердившую его славу оратора. Он сравнил главного инженера с Наполеоном, но «Наполеоном, который ведет сражение за мир и прогресс, который победил, казалось бы, непобедимое море, предательскую реку, пески и злые ветры, враждебные цивилизации. Теперь инженер может с гордостью созерцать с вершины маяка на острове Пернамбуко порт Ильеус, бухту, освобожденную им от рабства, открытую для всех флагов и всех судов благодаря интеллекту и самоотверженности благородных инженеров и умелых техников».
Благородные инженеры и умелые техники с грустью покидали город и любовниц. В порту рыдали женщины, обнимая матросов, уплывавших из Ильеуса. Одной из них — беременной — матрос клялся, что вернется.
Главный инженер увозил с собой драгоценный груз превосходной кашасы «Кана де Ильеус» и обезьянку жупара, чтобы вспоминать в Рио этот край легких заработков, подвигов и тяжелого труда.
Они уехали, а потом пошли дожди, начавшиеся в этом году вовремя, намного раньше праздника святого Георгия. Какаовые плантации цвели, тысячи молодых деревцев принесли первые плоды; предсказывали, что новый урожай будет богаче прошлогоднего, что цены взлетят еще выше, что денег в городе ив поселках станет еще больше — да, в стране нет культуры, которую можно было бы сравнить с какао.
С тротуара перед баром «Везувий» Насиб видел буксиры, похожие на маленьких бойцовых петухов, — они резали морские волны и тянули землечерпалки на юг. Давно ли они приехали, и вот уезжают, и сколько событий произошло в Ильеусе за это время… Старому полковнику Рамиро Бастосу так и не довелось увидеть большие пароходы, входящие в порт. Теперь он являлся на спиритических сеансах, став пророком, после того как его дух освободился от бренной оболочки. Рамиро давал советы людям зоны какао, проповедовал доброту, всепрощение и терпение. Так по крайней мере утверждала дона Арминда, сведущая в этих спорных и таинственных вопросах. Ильеус очень изменился за эти немногие месяцы, столь богатые событиями.
Каждый день приносил что-нибудь новое: открывались новые отделения банка, новые представительства южных фирм и даже иностранных компаний, магазины, строились новые дома. Совсем недавно на Уньане, в старом двухэтажном доме, обосновался Союз ремесленников и рабочих, при этом Союзе была организована школа, в которой юноши из бедных семей осваивали профессии плотника, каменщика, сапожника. Там же была открыта начальная школа для взрослых, где обучались портовые грузчики, упаковщики какао, рабочие шоколадной фабрики. На открытии школы, на, котором присутствовали самые знаменитые граждане Ильеуса, сапожник Фелипе выступил с речью. Мешая португальские слова с испанскими, он провозгласил, что наступила эра рабочих, что судьбы мира теперь в их руках. Это утверждение казалось столь поразительным, что зааплодировали, толком не разобравшись, все присутствующие, — даже Маурисио Каирес, даже полковники, владельцы огромных земельных угодий и хозяева людей, гнущих на этой земле спину от зари до зари.
И Насиб в эти месяцы жил бурной и полнокровной жизнью: он женился и разошелся, его дела процветали, а потом он оказался под угрозой разорения, он познал страсть и радость, которым на смену пришли пустота, отчаяние и страдание. Сначала он был счастлив сверх всякой меры, потом несчастен так же беспредельно, теперь же все стало тихо и спокойно. В баре жизнь вошла в прежнюю колею; как и раньше, когда Габриэла только появилась, посетители задерживались, выпивая лишнюю рюмку аперитива, а некоторые поднимались завтракать в ресторан. «Везувий» процветал, Габриэла, с розой в волосах, спускалась в полдень из кухни на втором этаже и проходила, улыбаясь, между столиками. Ей говорили сальности, бросали на нее взгляды, светившиеся вожделением, брали за руку, те, кто поразвязнее, хлопали по заду. Доктор называл Габриэлу «моя девочка». Все хвалили мудрость Насиба, который, соблюдя достоинство и выгоду, вышел из сложного и запутанного положения. Араб расхаживал среди столиков, иногда задерживался, чтобы послушать, что говорят, и самому поболтать. Он подсаживался к Жоану Фулженсио и капитану, к Ньо Гало и Жозуэ, к Рибейриньо и Амансио Леалу. Казалось, святой Георгий сотворил чудо и время отступило назад, не было совершено никаких ошибок, не случилось ничего печального. Пожалуй, только открытие ресторана и отсутствие Тонико Бастоса, этого покорителя женских сердец, окончательно обосновавшегося в «Золотой водке», где он пил свой горький аперитив, напоминали о том, что произошло.
Оказалось, что, открыв ресторан, Мундиньо и Насиб всего лишь разумно вложили капитал, приносящий верную, но довольно скромную прибыль. Ресторан был не таким выгодным делом, как они предполагали. За исключением тех дней, когда в порту останавливались транзитные пароходы, посетителей в ресторане было мало, поэтому зачастую готовили только завтрак. Местные жители обычно ели дома. Только иногда, соблазненные блюдами Габриэлы, они — либо только мужчины, либо всей семьей — приходили завтракать, желая поразнообразить свой обычный стол. Постоянных посетителей можно было пересчитать по пальцам: Мундиньо, почти всегда с приглашенными, Жозуэ, вдовец Пессоа. Зато по вечерам, когда в зале ресторана шла игра, посетителей значительно прибавлялось. На пяти-шести столах играли в покер, в «семь с половиной», в «биску». Габриэла готовила к вечеру закуски и сладости, вина лились рекой. Насиб получал доход с каждого кона. И довольно часто его мучил вопрос: должен ли он делиться с Мундиньо и этими доходами? Видимо, нет, потому что экспортер вложил капитал в ресторан, но не в игорный зал. А возможно, и да, продолжал недовольно размышлять Насиб, если принять во внимание, что арендная плата за зал вносится ими совместно и что столы, стулья, посуда и бокалы их общая собственность. Вечером доходы были немалые, они компенсировали малочисленность и непостоянство дневной клиентуры. Насиб хотел бы оставлять себе всю прибыль от игры, но опасался недовольства экспортера, поэтому решил с ним переговорить.
Мундиньо чувствовал к арабу особую симпатию.
После того как семейные осложнения его компаньона разрешились, Мундиньо утверждал, что Насиб самый цивилизованный человек в Ильеусе. С очень заинтересованным видом Мундиньо внимательно выслушал Насиба, который хотел выяснить, претендует ли тот на прибыль с игорного зала или нет.
— А как вы сами считаете, местре Насиб?
— Видите ли, сеньор Мундиньо… — Араб задумчиво подкручивал кончики усов. — Если я буду рассуждать как порядочный человек, то должен буду признать вас компаньоном и отдать вам половину выручки, как я поступаю с выручкой от ресторана. Если я буду рассуждать как грапиуна, то скажу, что мы не подписывали никакой бумаги, что вы человек богатый и не нуждаетесь в этой половине, что мы никогда не договаривались об открытии игорного зала, а я человек бедный, коплю деньжата на покупку небольшой плантации, и этот доход мне очень кстати. Но, как говорил полковник Рамиро, обязательство остается обязательством, даже если оно не записано на бумаге. Я принес счета, чтобы вы могли их посмотреть…
Насиб стал раскладывать бумаги перед Мундиньо, но экспортер отстранил его руку и хлопнул араба по плечу:
— Уберите свои счета и свои деньги, местре Насиб.
В этом деле я вам не компаньон. А для очистки совести платите мне небольшую арендную плату за использование зала по вечерам. Сотню мильрейсов, не больше. Или лучше жертвуйте каждый месяц по сто мильрейсов на строительство дома для престарелых. Где это видано, чтобы федеральный депутат содержал игорный дом? Или вы сомневаетесь, что я буду избран?..
— Я ни в чем на свете так не уверен. Спасибо, сеньор Мундиньо. Теперь я ваш должник.
Насиб собрался уходить, но Мундиньо спросил:
— И еще скажите… — Он понизил голос и дотронулся пальцем до груди араба. — Все еще побаливает?
Насиб широко и весело улыбнулся.
— Нет, сеньор. Нисколько…
Мундиньо опустил голову, пробормотав:
— Я вам завидую. Мое никак не успокоится.
Мундиньо хотел спросить Насиба, спит ли он снова с Габриэлой, но решил, что это будет бестактно. Насиб ушел страшно довольный и сейчас же отправился в банк положить деньги на текущий счет.
Он и в самом деле перестал мучиться, не осталось даже следа от былой боли и страданий. Нанимая Габриэлу вновь, Насиб опасался, что ее присутствие будет напоминать ему о прошлом, боялся увидеть во сне голого Тонико Бастоса на своей постели. Но этого не случилось. Ему уже казалось, что долгий и мучительный кошмар остался позади. Между ними опять установились отношения хозяина и кухарки, совсем как в первые дни. Проворная и веселая Габриэла убирала дом, — распевала, ходила в ресторан готовить завтрак, спускалась в бар в час аперитива объявить меню, расхаживала от столика к столику, заполучая клиентов для верхнего этажа. Когда бар пустел, примерно в половине второго, Насиб садился завтракать и Габриэла подавала ему. Как прежде… Она суетилась вокруг его стола, приносила еду, открывала бутылки с пивом. Она завтракала позднее, вместе с единственным официантом (Насиб уволил второго: он оказался лишним, поскольку посетителей было мало) и с Разиней Шико, а Валтер, заменивший Бико Фино, приглядывал за баром. Насиб брал старую баиянскую газету, закуривал сигару «Сан-Феликс» и находил на качалке розу, выпавшую из волос Габриэлы. В первые дни он ее выбрасывал, потом стал прятать в карман. Газета падала на землю, сигара гасла, Насиб засыпал в тени на сквознячке. Он просыпался, заслышав голос Жоана Фулженсио, который шел в писчебумажный магазин. Габриэла готовила закуски и сладости на вечер, затем отправлялась домой, и Насиб видел, как она в домашних туфлях идет по площади и исчезает за церковью.
Чего же не хватало ему, чтобы быть счастливым до конца? Он ел несравненные кушанья Габриэлы, зарабатывал деньги, относил их в банк и уже собирался вскоре подыскивать себе участок для плантации. Ему рассказали, что за горной цепью Бафоре недавно вырубили новую полосу- лучшей земли для посадки какао не найти. Рибейриньо, фазенды которого были расположены поблизости, вызвался проводить Насиба. Он ежедневно встречался с приятелями в баре и иногда в ресторане. Играл в шашки и триктрак. Вел дружеские беседы с Жоаном Фулженсио, Ньо Гало, Амансио, Ари, Жозуэ, Рибейриньо. Двое последних, после того как фазендейро снял для Глории дом недалеко от станции, были неразлучны. Иногда они втроем — Рибейриньо, Жозуэ и Глория — завтракали в ресторане, видно, они неплохо уживались.
Чего же не хватало ему, чтобы быть счастливым до конца? Ни ревность, ни страх потерять кухарку не мучили его; разве найдет где-нибудь Габриэла такое жалованье и такое надежное место? К тому же она равнодушно отказывалась от предложений снять для нее дом и открыть счет в магазине, от шелковых платьев, туфель, от роскоши, которой обычно окружают содержанок. Почему — Насиб не знал; конечно, какая-то глупая причина у нее была, но он отнюдь не желал дознаваться, в чем тут дело. Каждый по-своему с ума сходит… Возможно, прав был Жоан Фулженсио, когда говорил о полевом цветке, который вянет, если его поставить в вазу. Но и это трогало Насиба так же мало, как и красноречивый шепот посетителей, когда она приходила в бар, их улыбки, взгляды; то, как они похлопывали ее по спине, старались прикоснуться к ее руке, плечу или груди, тоже больше не раздражало Насиба. Ведь это привлекало посетителей лишняя рюмка, лишний глоток!
Судья как-то попытался вытащить розу из волос Габриэлы, но она убежала. Насиб равнодушно наблюдал эту сцену. Чего же не хватало ему, чтобы быть счастливым до конца? Индеанка с Амазонки, эта девчонка из заведения Марии Машадан, когда они встречались ночью, спрашивала, обнажая в улыбке хищные зубы дикарки:
— Тебе нравится твоя Мара? Тебе хорошо со мной?
Ему было с ней хорошо. Маленькая и полненькая, с широким и круглым лицом, она, когда сидела на кровати, поджав под себя ноги, походила на бронзовую статуэтку. Они виделись не реже раза в неделю, и Насиб спал с ней. Это была связь без осложнений, без загадок, без неожиданностей, без бурных восторгов, без смерти и воскресения. Насиб бывал и у других женщин, так как у Мары было много почитателей. Полковникам нравился этот зеленый плод Амазонки, у девушки оставалось мало свободных вечеров. Иногда Насиб пленял красоток в кабаре и домах терпимости. А однажды он спал с новой содержанкой Кориолано, жившей в доме на площади. Это была молоденькая мулатка, привезенная с плантации. Кориолано теперь даже не пытался дознаваться, обманут он или нет… Так Насибу перепадало кое-что то тут, то там, — словом, он вернулся к своей прежней жизни. Однако постоянные отношения он поддерживал лишь с маленькой индеанкой. С ней он танцевал в кабаре, ходил пить пиво, есть запеканки. Если у нее выдавалось свободное время, она писала своим детским почерком записку Насибу, и он, закрыв бар, отправлялся на свидание. Было приятно, спрятав записку в карман, предвкушать ночь в постели Мары.
Чего же не хватало ему, чтобы быть счастливым до конца? Однажды Мара прислала записку: она ждет его вечером, «чтобы поиграть со своим котиком». Насиб довольно улыбнулся и после закрытия бара отправился в заведение Марии Машадан. Всем известная хозяйка публичного дома, без которой трудно было представить Ильеус, обняв Насиба, сказала по-матерински фамильярно:
— Зря прошелся, турчонок: Мара сейчас с полковником Алтино Бранданом. Он специально приехал из Рио-до-Брасо, что же ей было делать?
Насиб разозлился. Не на Мару — он не мог вмешиваться в ее жизнь, мешать ей зарабатывать на хлеб.
Но он злился, потому что пропал вечер, и его грызло желание. Шагая под дождем, он мечтал о женском теле. Пришел домой, разделся. В глубине дома в кухне или буфетной — раздался звон разбившейся посуды. Он пошел взглянуть, что случилось. Кот выскочил во двор. Дверь в заднюю комнату была открыта, Насиб заглянул туда. Нога Габриэлы свешивалась с кровати, мулатка улыбалась во сне, ее высокая грудь плавно дышала. От запаха гвоздики кружилась голова. Насиб подошел ближе. Она открыла глаза и сказала:
— Сеньор Насиб…
Ослепленный, он взглянул на нее и увидел землю, смоченную дождем, взрыхленную мотыгой, со всходами саженцев какао, в этой земле зарождались деревья, на ней росла трава. На ней еще были долины и горы и глубокие пещеры; на этой земле он и насадит плантацию. Габриэла протянула руки и привлекла его к себе.
Когда Насиб лег рядом с Габриэлой и ощутил ее жар, в нем вдруг ожили унижение, злость, ненависть, боль разлуки, страдание мертвых ночей, оскорбленное самолюбие и радость прикосновения к пылающему телу Габриэлы. Он крепко сжал ее, оставив синяки на коже цвета корицы:
— Шлюха!
Губы ее, созданные для жарких поцелуев, улыбнулись ему и прошептали:
— Ну и что ж… — И Габриэла приникла головой к его волосатой груди: Красавчик…
О шведском судне с сиреной любви
Да, теперь он был счастлив до конца. Время идет, в. следующее воскресенье состоятся выборы. Никто не сомневался в их результатах, даже доктор Витор Мело, который, совсем пав духом, засел у себя в кабинете в Рио-де-Жанейро. Алтино Брандан и Рибейриньо за неделю заказали пышный обед в «Коммерческом ресторане» с шампанским и фейерверком. Заранее были назначены большие празднества. По подписному листу, который открыл Мундиньо Фалкан, был объявлен сбор средств на покупку дома, где родился капитан и где жил светлой памяти Казузинья Оливейра. Этот дом предполагали подарить капитану. Будущий префект тоже сделал благородный жест: он пожертвовал на диспансер для бедных детей, открытый доктором Алфредо Бастосом на холме Конкиста. После выборов Насиб намеревался вместе с Рибейриньо съездить посмотреть земли за горами Бафоре, о которых столько; слышал, а затем приобрести участок и заключить контракт на разбивку какаовой плантации.
Он играл каждый день в триктрак, беседовал с приятелями, рассказывал разные истории о сирийцах: «На родине моего отца бывает и похуже!..» Наевшись, за. — сыпал во время сиесты, мирно похрапывая. Ходил в кабаре с Ньо Гало, спал с Марой, да и с другими женщинами тоже. А с Габриэлой каждый раз, когда у него не было женщины и он не устал и не хотел спать. Пожалуй, с ней чаще, чем с остальными. Потому что ни одна женщина не могла сравниться с: нею, такой пламенной и нежной, такой безумной в постели, такой сладостной в любви, для которой она была создана. На этой земле он насаждал плантацию. Насиб засыпал, положив тяжелую ногу на ее округлое бедро. Совсем как прежде. Впрочем, теперь он не ревновал ее к другим, не боялся потерять и не боялся, что она от него уйдет. В час сиесты, перед тем как заснуть, Насиб думал: теперь она только для постели, он чувствовал к ней то же, что и ко всем другим — к Маре, Ракели, рыжей Наташе, это было чувство без волнения, без прежней нежности. Так было лучше. Она ходила к Доре, танцевала и пела — шла подготовка к праздникам в месяц святой Марии. Насиб знал об этом, пожимал плечами, но посмотреть собирался. Габриэла была его кухаркой, с которой он спал, когда хотел. И какой кухаркой! Лучше не найдешь! Да и в постели она хороша, даже больше чем хороша — огонь, а не женщина!
В доме Доры Габриэла смеялась, веселилась, пела и танцевала. Она понесет штандарт в терно волхвов.
А в ночь на святого Иоанна будет прыгать через костер. Габриэла радовалась: жить хорошо. Было одиннадцать часов, и она возвращалась домой поджидать сеньора Насиба. Может быть, этой ночью он придет к ней, пощекочет усами ее затылок, положит свою тяжелую ногу на ее бедро, она приникнет к его мягкой, как подушка, груди. Габриэла прижимала кота к лицу, Он тихонько мяукал. Она слушала рассказы доны Арминды о духах и новорожденных. Грелась по утрам на солнышке, когда была хорошая погода, лакомилась гуявой, красными плодами питанги. Часами беседовала со своим другом Туиской, который теперь учился на плотника. Бегала босиком по пляжу, шлепала по холодной воде. После обеда водила на площади хоровод с ребятами. Смотрела на луну, ожидая Насиба. Жить хорошо!
Осталось четыре дня до воскресенья, на которое были назначены выборы. И вот около трех часов дня раздался гудок шведского сухогруза. Негритенок Туиска помчался на центральные улицы бесплатно распространять эту новость. Население Ильеуса высыпало на: набережную.
Даже прибытие епископа не вызвало в свое время такой сенсации. Разрываясь в небе, взлетели ракеты.
В порту гудели два парохода компании «Баияна», баржи и катера тоже приветствовали шведское судно.
Рыбачьи лодки и легкие суденышки вышли из бухты в открытое море, чтобы встретить и сопровождать его.
Шведское судно с развевавшейся между мачтами гирляндой флагов расцвечивания медленно пересекало бухту. Народ бежал по улицам по направлению к порту. На причалах собралась толпа. Оркестр общества 13 мая играл военный марш. Жоаким бил в барабан.
Магазины и лавки закрылись. Были отпущены с уроков ученики частных колледжей, начальной школы и гимназии Эноха. Радостно хлопали в ладоши ребята, собравшиеся в порту, кокетничали девушки из монастырской школы. Пронзительно гудели автомобили, грузовики, автобусы. Глория стояла между Жозуэ и Рибейриньо и громко смеялась, словно дразня дам из общества. Тонико Бастос, сама степенность, шествовал под руку с доной Олгой. Жеруза, в глубоком трауре, раскланялась с Мундиньо. Нило, не выпуская свистка изо рта, командовал Теренсио, Траирой, юным Батистой.
Отец Базилио пришел в порт со своими приемными детьми. Одноногий владелец «Бате-Фундо» с завистью поглядывал на Насиба и Плинио Арасу. Старые девы крестились, суетливые сестры Рейс улыбались. В их следующем презепио обязательно появится фотография шведского судна. Собрались все: и дамы из высшего общества, и девушки на выданье, и проститутки, и Мария Машадан, хозяйка окраинных уличек и кабаре. Доктор откашливался, готовясь к речи, подбирая слова помудренее. Как бы упомянуть об Офенизии в речи, посвященной шведскому пароходу? Негритенок Туиска взобрался на мачту парусника. Пастушки Доры пришли со штандартом терно, его, пританцовывая, несла Габриэла. Полковники, владельцы какаовых плантаций, вытащили револьверы и стреляли в воздух.
Весь Ильеус пришел в порт.
По оригинальному замыслу Жоана Фулженсио, состоялась символическая церемония: экспортеры Мундиньо Фалкан, Стевесон, фазендейро Амансио Леал и Рибейриньо принесли мешок какао на край причала, к которому пристал пароход. Первый мешок какао, который будет отправлен за границу прямо из Ильеуса.
На захватывающую речь доктора ответил вице-консул Швеции, долговязый агент судоходной компании.
Вечером, когда моряки сошли на берег, оживление в городе возросло. Ильеусцы угощали матросов в барах, капитана и офицеров повели в кабаре, причем капитана ликующие граждане едва не понесли на руках.
Хоть он и был привычен к крепким напиткам, хоть ему и приходилось пить водку в портах семи морей, но из «Батаклана» на борт его подняли пьяным до бесчувствия.
На следующий день после завтрака матросы были снова отпущены на берег и разбрелись по улицам города. «Как им понравилась ильеусская водка!» — с гордостью говорили грапиуны. Моряки продавали заграничные сигареты, ткани, духи, позолоченные безделушки. Деньги они тратили на кашасу и на проституток, а потом валялись пьяные прямо на улицах.
Это случилось после сиесты, до наступления часа вечернего аперитива — в эти пустые часы от трех до половины пятого. Насиб всегда пользовался затишьем, чтобы подсчитать кассу, спрятать деньги и подытожить выручку. Это случилось, когда Габриэла ушла домой, закончив работу. Шведский матрос, белокурый гигант ростом почти в два метра, вошел в бар, тяжело дохнул алкоголем в лицо Насибу и ткнул пальцем в бутылки с «Кана де Ильеус». Он умоляюще смотрел на араба и что-то бормотал на своем невероятном языке. Насиб уже выполнил гражданский долг, угощая накануне моряков кашасой. Он жестом потребовал денег. Белокурый швед пошарил в карманах, у него не оказалось ни гроша. Зато он нашел забавную брошку с позолоченной сиреной. Он выложил на прилавок мать северных морей, стокгольмскую Иеманжу. Насиб взглядом следил за Габриэлой, которая в это время заворачивала за церковь. Потом он перевел глаза на сирену, на ее рыбий хвост. Бедра Габриэлы были такими же. Во всем мире нет другой такой женщины, такой пылкой, такой жаркой, такой нежной, ни одна женщина не умеет так вздыхать и так замирать в неге. Чем больше он с ней спал, тем больше он ее хотел. Она была соткана из песен и танцев, из солнца и луны, она была сделана из гвоздики и корицы. Теперь он ей ничего не дарил, Даже дешевых базарных безделушек. Насиб взял бутылку кашасы, налил граненый стакан. Матрос поднял стакан, взглянул на Насиба, двумя глотками выпил кашасу залпом и сплюнул. Насиб, улыбнувшись, положил в карман позолоченную сирену. Габриэла будет довольна, она рассмеется, вздохнет и скажет: «Ну зачем это, красавчик?»
Здесь и кончается история Насиба и Габриэлы. Из уголька, тлевшего в пепле, возрождается пламя любви.
Постскриптум
Некоторое время спустя полковник Жезуино Мендонса был отдан под суд по обвинению в убийстве из ревности своей жены доны Синьязиньи Гедес Мендонш и хирурга-дантиста Осмундо Пиментела. Двадцать восемь часов длились оживлённые дебаты, временами принимавшие ядовитый и резкий характер. Происходил бурный обмен репликами, адвокат Маурисио Каирес цитировал Библию, напоминал о неприличных черных чулках, говорил о морали и падении нравов.
Его речь была патетической. Эзекиел Прадо тоже выступал взволнованно: сейчас Ильеус уже не край бандитов и не рай для убийц. Рыдая, драматическим жестом указывал Эзекиел на плачущих родителей Осмундо, облаченных в траур. Его речь была посвящена цивилизации и прогрессу. Впервые в истории Ильеуса владелец какаовых плантаций был приговорен к тюремному заключению за то, что убил неверную жену и ее любовника.
Примечания
1
Стихи в романе «Габриэла…» даются в переводе А. Косе.
2
Фазендейро — крупный помещик. (Здесь и далее прим. пер.).
3
Полковниками в Бразилии и некоторых других странах Латинской Америки называли крупных помещиков, которым формально присваивалось звание полковников национальной гвардии.
4
Капитанши — первые административные деления Бразилии, из которых образовывались провинции и нынешние штаты.
5
Лига — мера длины в Бразилии, равная 6000 метрам.
6
Пау-бразил — красный сандал.
7
Селва — тропические леса.
8
Энженьо — сахарная плантация с сахароварней.
9
Баиянка — уроженка или жительница штата Баия.
10
Доктор — в Бразилии человек, получивший высшее образование.
11
Жагунсо — наемник, бандит.
12
Мингау — сладкая каша из пшеничной или маниоковой муки.
13
Кускус — блюдо из кукурузной или рисовой муки, сваренной на пару.
14
По окончании университета дипломированные адвокаты, инженеры, врачи получали кольцо с эмблемой, служившее своеобразным свидетельством о высшем образовании.
15
Арроба — мера веса, равная 15 килограммам.
16
Национальные праздники: 7 сентября — годовщина провозглашения независимости Бразилии; 15 ноября — годовщина провозглашения Республики; 13 мая — годовщина отмены рабства в Бразилии.
17
Резайдо — бразильский народный обрядовый танец, который исполняется во время религиозного праздника — Дня волхвов.
18
Бумба-меу-бой (Бомба мой бык) — излюбленное жителями сертана развлечение. Уличный фарс, в котором участвует много народу; один человек наряжается быком, другие персонажи — морской конь, апостол Матфей, лекарь и другие.
19
Кашасе — бразильская водка.
20
Кастро Алвес (1847–1871) — бразильский поэт, боровшийся за отмену рабства.
21
Мокека — блюдо, приготовленное из тушеной рыбы, рачков и креветок с оливковым маслом и перцем.
22
Сири — ракообразное, водится в Бразилии.
23
Бейжу — сладкие пирожки, приготовленные из теста, замешанного на муке тапиоки или маниоки.
24
Грапиуны — прозвище, которое жители сертана (засушливых областей) в штате Баня дают городским обитателям.
25
Акараже — блюдо из вареной фасоли, поджаренной в пальмовом масле.
26
Абара — блюдо из вареной фасоли, приправленной перцем и пальмовым маслом.
27
Пуба — размоченная в воде маниока.
28
Женипапо — плод, дающий темный сок. Из женипапо на севере Бразилии приготовляют вино.
29
Маракужа — бразильский плод, имеет тринадцать разновидностей.
30
Пасториньо — народное представление на севере Бразилии.
31
Жозе Жоакин Сеабра (1855–1942) — видный бразильский политический деятель.
32
Люсьен Гитри (1860 1925) — знаменитый французский актер.
33
Дон Педро II (1825–1891) — император Бразилии.
34
Эмилио де Менезес — испанский промышленник, открывший способ выплавки серебра, носящий его имя.
35
Жозе Мария да Силва Параньос до Рио Бранно (1844–1912) — бразильский политический деятель и дипломат.
36
Жило — плод бразильского растения жилоейро.
37
Киабо — плод бразильского растения киабейро.
38
Сарапател — блюдо, приготовленное из свиной и бараньей крови, печенки, почек, легкого, сердца.
39
Фейжоада — блюдо из фасоли с салом, сушеным мясом, свиной колбасой.
40
Жака — плод хлебного дерева жакейры.
41
Тостан — старинная бразильская монета.
42
Крузадо — старинная бразильская монета стоимостью в четыре тостана.
43
Конто — тысяча мильрейсов.
44
Каатинга — пустынная зона с редкими низкорослыми деревьями и колючими кустарниками.
45
Сертанежо — житель сертана.
46
Гуява — весьма распространенный в Бразилии фрукт.
47
Пьер Абеляр (1079–1142) — французский философ, схоласт и богослов. Элоиза и Абеляр приобрели известность трагической историей своей любви.
48
Дирсеу — аркадский псевдоним известного бразильского поэта Томаса Антонио Гонзаги, воспевавшего свою любовь к Марии Доротее де Сейшас (Марилии) в книге «Марилия Дирсеу».
49
Олаво Браз Мартине дос Гимараэнс Билак (1865 1918) — известный бразильский поэт, прозаик и оратор.
50
Сокращенная форма от vade retro, satana — изыди сатана (лат.).
51
Агрегадо — работник, поселяющийся на помещичьей земле на определенных условиях.
52
Эмпрейтейро — работник, берущий подряд и получающий оплату аккордно, а не поденно.
53
Стакан горького пива (англ.).
54
Кабидела — тушенка из птичьих потрохов с кровью.
55
Касик — вождь индейского племени в Латинской Америке; здесь — вожак, главарь.
56
До чего ж хороша! (исп.).
57
«Петушиный хвост» — бразильский аперитив — смесь кашасы и вермута.
58
Ах, где мои двадцать лет! (искаж. исп.).
59
Ватапа — пюре из машюковой муки с кусочками мяса, рыбы или раков.
60
Жозе Мария Эса де Кейрош (1848–1900) — известный португальский писатель.
61
Алуизио Гонсалвес де Азеведо (1848–1913) — бразильский романист, один из основателей Бразильской академии словесности.
62
Сеаренка — уроженка или жительница штата Сеара.
63
Жибойя — большая бразильская змея.
64
Бойтесь данайцев, дары приносящих — (Вергилий, «Энеида», 2).
65
Филиппе Томмазо Маринетти (1878–1944) — итальянский поэт, основоположник футуризма, прославлявший милитаризм и империалистическую агрессию.
66
Жозе Перейра да Граса Аранья (1868–1931) видный представитель бразильского модернизма, один из основателей Бразильской академии словесности.
67
Кавакиньо — маленькая четырехструнная гитара.
68
Кантига — протяжная песня.
69
Кайпора — легендарный персонаж бразильского фольклора, предвещающий несчастье.
70
Раймундо да Моржа Азеведо Коррейя (1860–1911) — поэт, один из основателей Бразильской Академии словесности.
71
Киньентистское течение португальская литературная школа, относящаяся к XVI столетию. На образцах Возрождения она стремилась Привить вкус к греческой и латинской классике.
72
Луис Вас де Камоэнс (1524–1580) — великий португальский поэт, создатель португальского национального эпоса — поэмы «Лузиады».
73
Тарефа — бразильская (неофициальная) сельскохозяйственная мера площади, различная в разных штатах.
74
Айпима — сладкая маниока.
75
Кайтиту — американская разновидность лесного кабана.
76
Тейу — большая ящерица.
77
Жаку — птица из семейства куриных, употребляется в пищу.
78
Преа — вид млекопитающего грызуна.
79
Щиншин — бразильское блюдо из курицы с протертыми овощами, обильно приправленное луком и чесноком.
80
Очень плохо (фр).
81
Каруру — бразильское острое блюдо из растения каруру с креветками и рыбой.
82
Эфо — бразильское блюдо из креветок и трав, приправленное маслом пальмы денде и перцем.
83
Кибе — острое сирийское кушанье, приготовленное из мяса, пшеницы, мяты.
84
Иансан — богиня афро-бразильского культа.
85
Террейро — место, где проводятся церемонии афробразильского языческого культа — макумбы.
86
Сантейро — мастер, делающий изображения святых.
87
Беримбау — маленький музыкальный инструмент из железа.


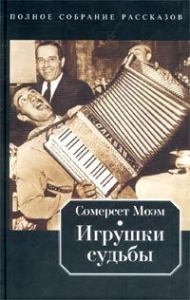
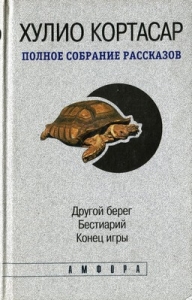
Комментарии к книге «Габриэла, корица и гвоздика», Жоржи Амаду
Всего 0 комментариев