Хосе Эустасио Ривера ПУЧИНА
ПРЕДИСЛОВИЕ
За последние годы в нашей стране опубликовано много книг латиноамериканских писателей, а также исследований советских ученых, посвященных Латинской Америке. Это свидетельствует о том, что тяжелая жизнь и мужественная борьба народов Латинской Америки все больше и больше привлекают внимание советских людей.
Жизни людей труда в Латинской Америке и посвящена книга крупнейшего писателя Колумбии Хосе Эустасио Риверы (1889—1929) «Пучина». Вышедшая более тридцати лет назад, она выдержала десятки изданий, переведена на многие языки.
Хосе Эустасио Ривера, выходец из мелкобуржуазной семьи, занимал видное положение среди колумбийской интеллигенции. Много лет он провел на дипломатической службе, являясь в 1912 году первым секретарем колумбийского посольства в Лиме (Перу), а позднее участвуя в работах смешанной пограничной комиссии по урегулированию спора между Колумбией и Венесуэлой. Работая в этой комиссии, Ривера объехал район добычи каучука, так ярко описанный в его книге.
В 1923 году Ривера был депутатом национального конгресса Колумбии и одно время — вице-председателем палаты депутатов. Затем он оставил государственную службу и занялся адвокатской практикой. Начало литературной деятельности Риверы относится к двадцатым годам. В 1921 году Ривера опубликовал книгу стихов под названием «Обетованная земля», в которой воспевал человека и природу. Четыре года спустя появилась «Пучина», принесшая Ривере широкую известность.
«Пучина» — реалистическое произведение, правдивая картина тяжелой жизни рабочих каучуковых плантаций. События, развертывающиеся в книге, происходят на территории четырех латиноамериканских государств (Колумбии, Бразилии, Венесуэлы и Перу). Устами главного героя Артуро Ковы автор так характеризует свою книгу: «Это — наша история, трагическая история всех каучеро!» (добыватели каучука в Латинской Америке, называемые также гомеро и сирингеро).
Артуро Кова, от лица которого ведется повествование, молодой поэт и мечтатель, ветрогон, пользующийся успехом у женщин, соблазняет девушку Алисию, родители которой хотят выдать ее за старого помещика. Дело кончается тем, что Алисию выгоняют из родительского дома и она с Артуро Ковой бежит из столицы Колумбии — Боготы в степь. Автор разоблачает темные стороны характера своего героя — эгоиста и маловера, все время думающего о себе. Огромное неоспоримое достоинство книги именно в том и состоит, что Ривера правдиво и убедительно показывает, как Артуро Кова, соприкасаясь с ужасной действительностью, с подневольной жизнью задавленного нуждой народа, постепенно превращается из ограниченного интеллигента, живущего мелкими интригами и поисками славы ради тщеславия, в борца против социальной несправедливости, против рабства, в гневного обличителя «равнодушных магнатов, бессердечных, как эти деревья, которые безразлично смотрят на нас, изнемогающих от лихорадки и голода в царстве пиявок и муравьев».
И когда в третьей части книги Кова, обращаясь к перенесшему нечеловеческие страдания каучеро Клементе Сильве, восклицает:
«Мира и справедливости можно добиться, лишь одержав победу... Кротость открывает путь тирании, и покорность эксплуатируемых поощряет эксплуататоров!» — и заявляет, что он «друг слабых и обездоленных», то веришь, что эти слова идут из глубины сердца. И хотя Кова остается одиночкой, хотя он не становится сознательным революционером, а погибает в неравной борьбе с угнетателями и с дикой природой, все равно у читателя остается чувство уверенности в том, что на смену Кове придут новые люди, которые посвятят свою жизнь борьбе за народ Америки. Таким образом, одна линия романа — это личная жизнь Артуро Ковы, полная сложных перипетий. Эта линия романа имеет для нас особый интерес, поскольку она в известной степени автобиографична. Однако это все-таки не главная тема.
Ривера последовательно и жизненно правдиво описывает, как простой человек попадает в рабскую кабалу и уже не может из нее выбраться. Авантюрист Баррера, уполномоченный всесильных монополий, при помощи беззастенчивого обмана и лжи спаивает людей, обещая им золотые горы, и под пьяную руку вербует их на разработки каучука. Вот как описывает Ривера переезд завербованных людей на каучуковые разработки: «Пользуясь нашим опьянением, Голубь переписал нас и связал по двое. С этого дня мы стали рабами и нас нигде не выпускали на берег. В сосудах из выдолбленной тыквы нам давали маниок. Руки у нас были связаны, и мы, стоя на коленях, ели его, как собаки, уткнувшись лицом в плошки».
Эта картина — сама жизнь; потому она и оставляет неизгладимое впечатление. Но вот путь окончен. Оказавшись на, плантации, каучеро уже больше не принадлежит себе.
На разработках царит произвол надсмотрщиков, Любой каучеро ежеминутно может быть убит, и о нем будет сказано, что такой-то сбежал или умер от лихорадки. Побои здесь — обычное, нормальное явление. Надсмотрщики плетьми загоняют партии рабочих в бараки. История Клементе Сильвы, прошедшего через все ужасы подневольного труда на каучуковых плантациях, — страшная повесть о рабской жизни каучеро. Шестнадцать лет проработал Сильва на добыче каучука и не скопил ни сентаво.
На каучуковых плантациях пеоны сдают каучук за гроши и платят втридорога за одежду; работают по нескольку лет и остаются должниками за первый месяц работы; дети наследуют огромные долги, оставшиеся от убитого отца, от замученной матери, и им не покрыть этого долга за всю свою многострадальную жизнь.
В книге есть места, которые волнуют до глубины души, которые нельзя забыть. Такова история Клементе Сильвы. В поисках справедливости Сильва, вырвавшись с разработок, в первом же городке обращается за помощью к колумбийскому консулу, стремясь разоблачить преступления плантаторов.
Писатель Ривера, много лет находившийся на дипломатической службе, хорошо знаком с нравами дипломатов и консулов и порядками в этом ведомстве. Потому так правдиво изображена сцена встречи раба Сильвы с колумбийским консулом, который не только не собирается помочь ему, но даже отказывается выслушать каучеро. Более того, человек, искавший правосудия и справедливости, после беседы с консулом убеждается в том, что он сам может стать жертвой «правосудия», и поэтому вынужден опять возвратиться в леса на разработки.
На каучуковые плантации приехал французский исследователь и натуралист. Его повергли в ужас рабские условия жизни на разработках, преступления, позорящие человеческий род. Ученый послал сообщения в Лондон, Париж, пожаловался хозяевам плантаций. Но все кончилось тем, что «несчастный ученый так и сгинул в сельве». Когда однажды на разработки попала газета, разоблачавшая преступления предпринимателей, то «тому, кто читал, зашили веки волокнами пальмы кумаре, а остальным залили уши расплавленным воском».
Перед читателем проходит целый ряд авантюристов и проходимцев — претендентов в местные диктаторы. Это — полковник Фунес, агенты которого грабят каучук и охотятся на индейцев, это — бывший каторжник по прозвищу Кайенец, это — пьяница «генерал» Вакарес и другие. Ривера разоблачает официальные власти, действующие по указке монополий. Тут и губернаторы, беспошлинно торгующие каучуком, тут и инспекторы, делающие вид, что они не замечают бесчинств и произвола на плантациях. Венцом беззаконий является ночь «длинных ножей», устроенная полковником Фунесом. В его лице автор воссоздает обобщающий образ рабовладельца, кандидата в латиноамериканские диктаторы: «Фунес — это система, нравственное уродство, жажда золота, отвратительная зависть. Таких фунесов много, хотя это роковое имя носит один только человек».
В романе с большим художественным мастерством изображаются картины природы, обычаев и быта народов Латинской Америки. В книге много индейских легенд, например, поучительная и любопытная легенда об индианке Мапирипане — жрице тишины, хранительнице родников и лагун. Оставляет исключительное впечатление описание урагана в степи. Навсегда запоминается картина того, как молодой ловкий юноша мулат Корреа объезжает дикого скакуна, или описание ловли быков.
Писатель скупо, но образно и метко говорит о бесправном положении женщины в Латинской Америке. Вот судьба белой женщины Клариты: «В эти края завез меня венесуэльский полковник Инфанте... Меня разыграли в карты, как вещь, и я досталась некоему Пуэнтесу...» А вот судьба молодых индианок — детей рабочих на плантациях: «Не достигнув десяти лет, они прикованы к постели, как к ложу пыток, и, искалеченные хозяевами-насильниками растут болезненными, молчаливыми, пока не почувствуют с ужасом, что стали матерями, не понимая, что такое материнство».
Но терпению народов приходит конец. Миллионы тружеников Латинской Америки поднимаются на борьбу за демократические права, за свою национальную независимость. В первых рядах борцов за мир, за свободу идут прогрессивные писатели Латинской Америки — Пабло Неруда, Жоржи Амаду, Бальдомеро Санин Кано, Николае Гильен, Альфредо Варела и многие, многие другие. И среди произведений латиноамериканской литературы, изобличающих преступления эксплуататоров, почетное место занимает «Пучина» Хосе Эустасио Риверы, зовущая к борьбе против рабства и социального гнета.
С. ГОНИОНСКИЙ
ПУЧИНА
ПРОЛОГ
Господин министр!
По Вашему желанию я подготовил к печати рукопись Артуро Ковы, пересланную в Ваше ведомство Колумбийским консулом в Манаос.
Я сохранил стиль и даже неправильности языка автора, отметив лишь самые характерные провинциализмы.
Не знаю, каково будет Ваше мнение, но я считаю, что эту книгу не следовало бы выпускать в свет прежде, чем будут получены дальнейшие сведения о судьбе колумбийских каучеро на Рио-Негро (Гуайниа); если Вы решите иначе, прошу Вас взять на себя труд своевременно сообщить мне все данные, которые Вы получите, чтобы я мог приложить их в качестве эпилога.
Ваш покорный слуга
Хосе Эустасио Ривера.Те, кто думал одно время, что мой талант засияет с необычайной силой, как ореол моей молодости, те, кто забыл обо мне, лишь только судьба повернулась ко мне спиной, те, кто, вспоминая обо мне иногда, думает о моей неудаче и задает себе вопрос, почему я не стал тем, чем мог стать, — знайте, что неумолимый рок вырвал меня из недолговечного благополучия и забросил в пампу, чтобы я скитался там бродягой, подобно ветру, и, как ветер, бесследно исчез, не оставив после себя ничего, кроме шума и опустошения.
(Отрывок из письма Артуро Ковы.)ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Прежде чем во мне заговорила страсть к женщине, я поставил свое сердце на карту, и оно досталось Жестокости. Я не ведал ни упоительных наслаждений, ни сентиментальных признаний, ни тревоги робких взглядов. Мне чужды были любовные вздохи, — в любви я был всегда властелином, и губы мои не знали пощады. Но все же я стремился обладать божественным даром идеальной любви, которая бы духовно зажгла меня так, что душа моя осветила бы тело, как огонь освещает питающий его костер.
Когда глаза Алисии принесли мне несчастье, я уже отказался от надежды изведать чистую любовь. Напрасно руки мои, уставшие от свободы, тянулись ко многим женщинам, вымаливая для себя цепь. Никто не угадывал моей страстной мечты. Сердце мое продолжало молчать.
Победа была легкой: Алисия сдалась без колебаний, в надежде на любовь, которую во мне искала. Даже в те дни, когда ее родители, с благословения священника, замышляли выдать ее замуж и рассчитывали принудить меня силой отказаться от нее, она не думала о браке со мной. Она выдала мне их коварные планы. «Я умру одна, — говорила она, — мое несчастье станет помехой на твоем жизненном пути».
Затем, когда Алисию выгнали из родительского дома и судья объявил моему адвокату, что сгноит меня в тюрьме, я со всей решимостью сказал ей однажды ночью в ее тайном пристанище: «Разве я могу бросить тебя? Бежим! Раздели мою судьбу, но дай мне любовь!»
И мы бежали...
Этой ночью, первой ночью в Касанаре,[1] я поверил свои мысли бессоннице.
Сквозь сетку от москитов я видел, как мерцают звезды на беспредельном небе. Листья пальм, давшие нам убежище, шелестели все тише и тише. Бесконечная тишина колыхалась вокруг, окрашивая синевой прозрачный воздух. Рядом с моим гамаком на узкой походной кровати спала Алисия, неровно дыша.
Обуреваемый печалью, я предался самым черным мыслям. Что сделал ты со своей судьбой? Что сделал ты с этой девушкой, которую принес в жертву твоей страсти? С мечтами о славе, стремлением к успеху, с первыми проблесками известности? Безумец! Петля, привязывающая тебя к женщинам, душит тебя. Из ребяческой гордости ты сознательно обманул себя, приписав этой девочке то, чего никогда не находил в других, зная заранее, что идеал недостижим: его носят в себе. Какая цена после того, как удовлетворена прихоть, телу, которое так дорого тебе досталось? Душа Алисии никогда тебе не принадлежала, и, хотя сейчас ты ощущаешь ее тепло, чувствуешь ее дыхание у своего плеча, духовно ты так же далек от нее, как от этого безмолвного созвездия, скрывающегося за горизонтом.
В эту минуту я ощутил малодушный страх. Не потому, что я боялся ответственности за свои поступки, — нет, меня уже начинала охватывать скука совместной жизни. Мне легко досталось обладание Алисией, но все же я совершил безумство. А что будет после безумства и обладания?..
Касанаре со своими наводящими ужас легендами не пугал меня. Инстинктивная жажда приключений толкала меня бросить вызов вольным степям, и я был уверен, что выйду победителем, что позднее, в незнакомых мне городах, я не раз затоскую о пережитых опасностях. Но Алисия связывала меня, как цепь. Если бы она по крайней мере была смелее, проворнее, выносливее! Бедняжка покинула Боготу в подавленном состоянии, она не умела ездить верхом, солнечные лучи обжигали ее, и, если временами она предпочитала идти пешком, мне приходилось безропотно следовать ее примеру и вести лошадей под уздцы.
Никогда не проявлял я подобной кротости. Мы были беглецами, но двигались медленно, были неспособны свернуть с дороги, чтобы избежать встречи с прохожими, в большинстве своем крестьянами, которые останавливали нас и участливо спрашивали: «Хозяин, почему плачет нинья?»[2]
Поселок Какеса надо было во что бы то ни стало проехать ночью: там нас могли задержать власти. Я несколько раз намеревался перекинуть через телеграфные провода аркан и оборвать их; но меня удержало тайное желание быть пойманным, чтобы освободиться от Алисии и возвратить себе свободу духа, которую человек никогда не теряет, даже в тюрьме. Когда стемнело, мы пересекли окраину поселка и, свернув затем к долине реки, где пришлось пробраться сквозь шуршащие стебли тростника, которые наши кони обкусывали на ходу, решили попросить ночлега в трапиче.[3] До нас доносился шум давильного жернова; тени волов, вращавших жернов, и тень мальчика-погонщика то и дело удлинялись и падали на огонь печи, в которой варилась патока... Женщины собрали нам поужинать и дали Алисии настой целебных трав от лихорадки. Мы пробыли здесь неделю.
Пеон, посланный мной в Боготу, вернулся с тревожными вестями. Разгорался скандал, раздуваемый сплетнями моих недоброжелателей; наше бегство служило пищей для кривотолков, и газеты спекулировали на любовной драме. Письмо товарища, к которому я обратился с просьбой выступить в мою защиту, заканчивалось припиской: «Вас обоих арестуют! Тебе остается одно убежище — Касанаре. Кому придет в голову, что такой человек, как ты, способен бежать в пустыню?»
Тем же вечером Алисия предупредила меня, что мы слывем за подозрительных постояльцев. Хозяйка дома выспрашивала ее, кто мы: брат с сестрой, законные супруги или просто знакомые, и вкрадчивым голосом уговаривала ее показать монеты, которые мы делаем, если этим занимаемся, в чем нет ничего дурного, когда нужда заставляет. На следующий день мы еще до рассвета пустились в путь.
— Тебе не кажется, Алисия, что мы бежим от призрака, могущество которого создано нашим воображением? Не лучше ли возвратиться?
— Чем больше ты говоришь мне об этом, тем больше я убеждаюсь, что надоела тебе. Зачем ты взял меня с собой? Ведь это была твоя мысль! Уходи, оставь меня! Бог с вами, с тобой и с твоим Касанаре!
И она разрыдалась.
Я знал историю ее несчастной жизни, и мысль, что Алисия чувствует себя одинокой, опечалила меня. В те дни, когда мы с ней познакомились, ее хотели выдать за старика помещика. Она еще подростком влюбилась в своего двоюродного брата, бледного и хилого юнца, и тайно с ним обручилась; потом появился я, и старик, опасаясь, что я отобью у него добычу, засыпал девушку подарками и сжал кольцо осады при энергичной поддержке родственников Алисии. Тогда Алисия в поисках спасения бросилась в мои объятия.
Но опасность и теперь не миновала: старик, несмотря ни на что, не отказывался от мысли о женитьбе.
— Оставь меня, — повторяла Алисия, соскочив с лошади. — Мне ничего от тебя не надо. Я пойду пешком — по дороге найдется добрая душа. Мне ничего не надо от тебя, негодяй!
Я достаточно прожил на свете, чтобы знать, как неразумно отвечать рассерженной женщине, и продолжал молчать, враждебно молчать. Алисия, сев на землю, судорожно выдергивала пучки травы.
— Алисия, я убеждаюсь, что ты меня никогда не любила.
— Никогда!
И она отвернулась в сторону.
Потом она принялась жаловаться, что я бесстыдно обманываю ее:
— Думаешь, я не заметила твоих ухаживаний за девчонкой в трапиче? И сколько притворства, чтобы ее соблазнить? А еще говорил мне, что мы задерживаемся из-за твоего нездоровья. Если теперь ты позволяешь себе это, то что же будет дальше? Оставь меня! Я ни за что на свете не поеду в Касанаре, а с тобой никуда, даже в рай.
Упрек в неверности заставил меня покраснеть. Я не знал, что ей ответить. Мне хотелось обнять девушку, поблагодарить ее за ревность прощальным поцелуем. Разве я виноват, если она сама хочет, чтобы я ее бросил?
Когда я слез с лошади, намереваясь поговорить с Алисией по душам, мы вдруг увидели, что по склону холма спускается всадник и галопом скачет к нам. Алисия в испуге крепко схватила меня за руку.
Незнакомец, спешившись неподалеку от нас, подошел и снял шляпу.
— Позвольте вас спросить, кабальеро?..
— Меня? — резко перебил его я.
— Да, ваша милость. — И, откинув плащ, он протянул мне свернутую бумажку. — Вот вам повестка от моего крестного.
— А кто он такой?
— Здешний алькальд.[4]
— Это не мне, — сказал я и возвратил бумажку, не читая ее.
— Значит, это не вы были в трапиче?
— Конечно, нет. Я еду интендантом[5] в Вильявисенсио, а эта сеньора — моя жена.
Получив такой ответ, незнакомец растерялся и не знал, как ему поступить.
— А я-то думал, — пробормотал он, — что вы те самые фальшивомонетчики, что останавливались в трапиче. Оттуда послали в село нарочного, чтобы начальство арестовало их, но крестный был в поле. Он открывает алькальдию только в рыночные дни. Кроме того, на его имя пришло несколько телеграмм. А ведь я теперь полицейский комиссар...
Не дав «комиссару» времени продолжить объяснения, я приказал ему подвести лошадь сеньоре. Алисия, чтобы скрыть свою бледность, опустила на лицо вуаль. Мы тут же двинулись в путь. Появившийся так некстати незнакомец проводил нас молча глазами, но потом внезапно вскочил в седло и, догнав нас, с улыбкой обратился ко мне:
— Ваша милость, распишитесь на этой бумажке, пусть крестный удостоверится, что я выполнил его поручение. Подпишитесь, как интендант.
— А есть у вас чем писать?
— Нет, но по дороге найдем. Я должен привезти расписку, иначе алькальд посадит меня.
— За что? — спросил я, не останавливаясь.
— Если верно, что вы назначены чиновником, помогите мне. Вышел такой случай... Кто-то украл телку, а подумали на меня. Меня арестовали, но крестный взял с меня подписку о невыезде, а потом, за отсутствием комиссара, определил меня на эту должность. Зовут меня Пепе Морильо Ньето, а прозвали Пипой...[6]
Болтливый плут продолжал ехать справа от меня, рассказывая о своих злоключениях. Он взял у меня узел с одеждой, положил его к себе на седло и заботливо следил за тем, чтобы он не упал.
— Мне не на что купить приличный плащ, и нужда заставляет меня ходить босиком. Извольте видеть, ваша милость, этой шляпе больше двух лет, и я привез ее из Касанаре.
При этих словах Алисия испуганно взглянула на Пипу.
— Вы жили в Касанаре?
— Да, сеньора, я знаю льяносы[7] и каучуковые леса Амазонки. Немало ягуаров и змей убил я там с божьей помощью.
В эту минуту нам встретились гуртовщики, гнавшие скот. Пипа стал упрашивать их:
— Сделайте одолжение, дайте карандашик расписаться.
— Таких вещей не держим.
— Не говорите при ней о Касанаре, — шепнул я Пипе. — Едемте со мной, и при первом удобном случае вы дадите мне сведения, которые могут быть полезны мне как интенданту.
Докучливый Пипа тараторил без умолку, рассыпаясь в любезностях. Он заночевал с нами близ Вильявисенсио, превратившись в пажа Алисии и развлекая ее своей болтовней. И в ту же ночь он сбежал, украв мою оседланную лошадь.
Все эти мрачные воспоминания теснились в моей голове, как вдруг мое внимание привлекла яркая вспышка недремлющего пламени костра, разложенного в нескольких метрах от наших гамаков, чтобы предохранить нас от нападения ягуара и других ночных опасностей. Дон Рафо раздувал огонь, стоя перед ним на коленях, как перед божеством.
А между тем унылая пустыня продолжала молчать, и душу мою наполнило ощущение бесконечности, излучаемой мерцающими созвездиями.
И я опять вернулся к воспоминаниям. Вместе с угасшим днем навсегда ушла половина моего «я», и мне предстояло начать новую жизнь, отличную от прежней, рискуя погубить остаток молодости и самый смысл моих мечтаний, ибо, если бы они и расцвели вновь, их или некому было бы посвятить, или алтарь, для которого они предназначались, был бы занят неведомыми прежде богами. Алисия, наверное, думала о том же, и, усиливая во мне угрызения совести, она в то же время смягчала мою тоску, деля ее со мной, потому что и она сама летела, как семя, уносимое ветром, не зная куда и страшась земли, которая ее ожидает.
Алисия несомненно обладала страстным характером: в минуты отчаяния решимость торжествовала в ней над робостью. Порою она жалела, что не отравилась.
— Пусть я не любила тебя такой любовью, какой ты ищешь, — говорила она, — но как ты решился воспользоваться моей неопытностью и обречь меня на несчастья? Разве я когда-нибудь забуду, какую роль сыграл ты в моей жизни? Чем ты оплатишь мне свой долг? Уж не тем ли, что будешь обольщать крестьянок на постоялых дворах и увлекать меня за собой, чтобы потом бросить. Если у тебя такие замыслы, то лучше не удаляйся от Боготы, — ты меня знаешь. Ты поплатишься за это!
— Тебе хорошо известно, что я до смешного беден.
— Мне все уши прожужжали этим, когда ты бывал у меня. Но ведь я прошу от тебя не денег, а места в твоем сердце.
— Зачем ты молишь меня о том, что я сам уже отдал тебе добровольно? Я все оставил ради тебя и самого себя отдал на произвол судьбы, не задумываясь о последствиях. Хватит ли у тебя мужества, чтобы страдать и верить?
— Разве я не всем для тебя пожертвовала?
— Ты боишься Касанаре?
— Я боюсь за тебя.
— Судьба одна, а нас двое.
Такой разговор вели мы вечером в одной из хижин Вильявисенсио, дожидаясь жандармского офицера. Наконец, перед нами предстал приземистый человек в форме цвета хаки, с седеющей шевелюрой, щетинистыми усами и несомненно пьяница.
— Здравствуйте, сеньор, — пренебрежительно сказал я ему, когда он остановился на пороге и оперся на саблю.
— О поэт! Эта девушка — достойная сестра девяти муз! Надо быть поласковее со старыми друзьями!
И он обдал меня спиртным перегаром.
Сев на скамейку рядом с Алисией и прижимаясь к ней, он прохрипел, хватая ее за руки:
— Какой бутончик! Ты уже забыла меня? Я — Гамес-и-Рока, генерал Гамес-и-Рока! Когда ты была маленькой, я сажал тебя на колени.
И он попробовал повторить это теперь.
Алисия вскрикнула, изменившись в лице:
— Нахал! Нахал! — И она оттолкнула его.
— Что вам угодно? — с негодованием закричал я и плюнул ему в лицо.
— Что с вами, поэт? Того ли заслуживает благородный человек, который хочет избавить вас от тюрьмы? Оставьте мне ее, я друг ее родителей, а в Касанаре она у вас погибнет. Я сохраню молчание. А вещественное доказательство — мне, мне... Оставьте ее мне!
Не дав ему кончить, я в порыве гнева сорвал с Алисии туфлю и, отшвырнув жандарма к стене, принялся бить его туфлей по лицу и по голове. Генерал, невнятно бормоча, рухнул на мешки с рисом в углу комнаты. Там он и заснул с громким храпом, а мы с Алисией и доном Рафо, полчаса спустя, уже ехали по бескрайним степям.
— Кофе готов, — произнес дон Рафо, подойдя к гамакам, затянутым сеткой от москитов. — Просыпайтесь, дети, мы в Касанаре.
Алисия приветствовала нас весело и ласково.
— Уже восходит солнце? — спросила она.
— Еще рано, Звездный воз только склоняется к горам. — И, указав на цепь Кордильер, дон Рафо добавил: — Простимся с ней, мы ее больше не увидим. Теперь будут только льяносы, льяносы и льяносы.
Мы принялись за кофе. Из степи до нас доносилось дыхание утра, запах свежих трав, сырой земли и недавно срубленных веток. Тихо перешептывались пальмы под прозрачным звездным небом, благоговейно склоняя к востоку свои веерообразные кроны. Неожиданное веселье кипело в жилах, и души наши возносились ввысь вместе с воздухом пампы, радуясь жизни и свету.
— Как прекрасен Касанаре! — повторяла Алисия. — Не знаю почему, но, как только я попала в степь, у меня исчезла боязнь перед нею.
— Эти края, — объяснил дон Рафо, — влекут к себе и своими радостями и своими страданиями. Здесь, даже умирая, человеку хочется целовать землю, в которой ему суждено истлеть. В этой бескрайней степи никто не чувствует одиночества: солнце, ветер и бури — наши братья. Никто не боится и не проклинает их.
И, произнеся эти слова, дон Рафо спросил меня, такой ли я хороший наездник, как мой отец, и так ли смело встречаю опасность.
— Каково семя, таково и племя, — хвастливо ответил я, а Алисия, освещенная пламенем костра, доверчиво улыбнулась.
Дону Рафо было за шестьдесят. Он держал себя с достоинством человека, знавшего лучшую жизнь. Седеющая борода, спокойные глаза, средний рост и даже блестящая лысина — все в его внешности было приятным, и он невольно вызывал в людях симпатию и расположение к себе.
Когда мы с Алисией прибыли в Вильявисенсио, он, услыхав мое имя и узнав о грозящем мне аресте, пришел к нам с доброй вестью — генерал Гамес-и-Рока клятвенно обещал оказать мне поддержку. В Вильявисенсио дон Рафо сделал для нас все покупки по заказу Алисии и вызвался быть нашим проводником в Касанаре и обратно. На время своей поездки в Арауку он предложил поселить нас в ранчо одного из своих клиентов, где мы могли бы спокойно прожить несколько месяцев.
В Вильявисенсио дон Рафо попал случайно, по дороге в Касанаре. Разорившись и овдовев, он свыкся с льяносами и каждый год ездил туда, торгуя скотом и мелочным товаром, который закупал на средства зятя. Он никогда не приобретал больше пятидесяти голов скота зараз, а теперь гнал на скотоводческие фермы в низовья реки Меты несколько лошадей и двух мулов, навьюченных дешевым товаром.
— Значит, вы утверждаете, что избавились от происков генерала?
— Вне всякого сомнения.
— Как меня напугал этот негодяй! — прибавила Алисия. — Я дрожала, как лист. Явился в полночь! Сказал, что знает меня!.. Но он получил по заслугам.
Дон Рафо похвалил мою смелость: «Таким людям, — сказал он, — только и жить в Касанаре!»
Не переставая разговаривать, он распутал лошадей и надел на них уздечки. Я помогал ему, и вскоре мы были готовы к дальнейшему пути. Алисия, светившая нам фонарем, упрашивала дождаться восхода солнца.
— Значит, этот Пипа — степная лисица? — спросил я дона Рафо.
— Хитрейший вор и грабитель. Его несколько раз сажали в тюрьму, а он, как вылечится там от лихорадки, убежит и опять с еще большей дерзостью продолжает разбойничать. Он был главарем диких индейцев, знает наречия многих племен, был гребцом и вакеро.[8]
— А какой он льстивый, лицемерный и лукавый! — прибавила Алисия.
— Вам повезло: он украл у вас только одну лошадь. Попадись он мне...
Алисия беспокойно поглядывала на меня, но забавные рассказы дона Рафо рассеяли ее тревогу.
И вот перед нами загорелась заря. Мы не смогли уловить того мгновенья, когда над степями заколыхался розовый пар, струившийся в воздухе, как прозрачная кисея. Звезды угасали, и в опаловой дали, на краю горизонта, появилось зарево пожара, резкий мазок кисти, рубиновый сгусток. При свете зари поднялись в воздух крякающие утки, неповоротливые, как плывущая кудель, цапли, изумрудные попугаи различных оттенков, пестрые какаду. И повсюду над степями и заливными лугами, над кронами пальм весело струилось дыхание жизни, в котором чувствовались радость, трепет и ласка. А тем временем на алом фоне зари, развернувшейся громадной палитрой, сверкнул первый солнечный луч, и красный диск, огромный, как купол, пробуждая стада и хищных зверей, медленно поднялся над степями в синеву неба.
Алисия со слезами на глазах обнимала меня и, вне себя от восторга, повторяла, как молитву: «Боже мой, боже мой! Солнце, солнце!..»
Мы тронулись в путь и исчезли в бескрайности льяносов.
Мало-помалу наше радостное возбуждение сменилось усталостью. Мы успели задать множество вопросов, и дон Рафо отвечал на них с осведомленностью настоящего степняка. Мы уже знали, что такое мата, каньо, сураль,[9] и Алисия впервые в жизни увидала ланей. Они паслись на заливном лугу и, заметив нас, настороженно повернули к нам свои чуткие уши.
— Не расходуйте револьверных патронов, — сказал дон Рафо. — Вам кажется, что лани близко, а они дальше пятисот метров. Обманчивое атмосферное явление.
Разговор затруднялся тем, что дон Рафо шел впереди, ведя под уздцы свою лошадь, следом за которой трусили по выгоревшей траве остальные. Раскаленный воздух сверкал, как отполированная поверхность металла, и среди миражей за унылой степью вырисовывался вдали черный массив леса. Временами, казалось, слышно было, как дрожит воздух.
Мне часто приходилось слезать с седла, чтобы потереть Алисии виски лимоном. Вместо зонта она повязалась поверх шляпы белым шарфом и концами его вытирала слезы каждый раз, когда с грустью вспоминала о доме. Я делал вид, что не замечаю ее слез, хотя меня беспокоил лихорадочный румянец ее воспаленных щек: я боялся солнечного удара. Но укрыться от безжалостного солнца было негде: ни пещеры, ни рощи, ни единого дерева.
— Хочешь отдохнуть? — озабоченно предлагал я Алисии.
Она отвечала с улыбкой:
— Когда достигнем тени. Закрой себе лицо, ты обгоришь на солнце.
К вечеру нам стало казаться, что на горизонте возникают фантастические города. Свет, отражаясь от темной чащи леса, создавал миражи, и на небе вырисовывались султаны пальм над куполами сейб и копэев,[10] багряные цветы которых напоминали черепицу крыш.
Наши лошади, которых мы пустили в степь, ускакали далеко вперед. «Почуяли воду, — заметил дон Рафо. — До леса еще полчаса пути; там разогреем еду».
Лес окружали зловонные болота, покрытые плавучей тиной; по зеленой поверхности с громким писком, балансируя хвостами, прыгали водяные птицы. Обогнув широким полукругом трясину, мы проникли в чащу леса, достигнув того места, где лошади нашли себе водопой; я стреножил их в тени. Дон Рафо своим мачете[11] обрубил кустарники вокруг огромного дерева, увитого гирляндами желтоватых лиан, и с дерева, к ужасу Алисии, посыпались безобидные гусеницы изумрудного цвета.
Повесив гамак, мы закрыли его широкой сеткой, чтобы защитить Алисию от пчел, которые забивались ей в волосы в поисках капелек пота. Задымил спасительный костер, и к нам возвратилось спокойствие. Я подкладывал в огонь приносимые доном Рафо ветки. Алисия предлагала мне свою помощь:
— Давай я послежу за костром, это, не мужское дело.
— Не выводи меня из терпения. Тебе велено отдыхать и изволь слушаться.
Обидевшись на мой тон, Алисия принялась качаться на гамаке, отталкиваясь ногой от земли. Но когда мы с доном Рафо отправились за водой, она попросила не оставлять ее одну.
— Пойдем с нами, если хочешь, — ответил я. Алисия пошла следом за нами по заросшей тропинке. Заводь с желтоватой водой была затянута листьями болотных растений. Между ними, высовывая красноватые головы, плавали черепахи галапаго; тут и там кайманы качирре пялили из тины лишенные век глаза. Задумчивые цапли, стоя на одной ноге, ударами клюва баламутили унылую топь; зловонные испарения колыхались меж деревьями, как траурный флер. Я срубил ветку и нагнулся, чтобы отстранить ею водоросли, но меня внезапно остановили рука дона Рафо и крик Алисии. Разевая пасть, вынырнула змея гуио, огромная, как бревно; я выстрелил из револьвера, и она, всколыхнув болото, нырнула обратно и через секунду показалась уже у другого берега.
Мы возвратились с пустыми котелками. Алисия в паническом страхе забралась на гамак. Ее тошнило, но от глотка пива ей сразу полегчало. С не меньшим ужасом я угадал причину ее тошноты и, обняв будущую мать, сам себя не помня, выплакал все свои горести.
Когда она уснула, я уединился с доном Рафо и, примостившись у дерева, с благодарностью выслушал его советы.
Лучше пока скрыть от Алисии ее состояние, но нужно окружить ее самой внимательной заботой. Мы будем делать короткие переходы и не позднее чем через три месяца вернемся в Боготу. К тому времени обстоятельства переменятся.
Разве дети — законные и незаконные — не равного происхождения и не одинаково любимы? Все зависит от среды. В Касанаре, например, с такими предрассудками не считаются.
Дон Рафо сам когда-то мечтал о блестящем браке, но судьба указала ему иной путь, — девушка, с которой он жил в те дни, стала в его глазах выше любой невесты: признавая себя недостойной его, она полагала, что лучшим украшением ей будет скромность, и всегда считала себя в долгу перед ним за проявленную к ней доброту. И он оказался счастливей в семейной жизни, чем его брат, жена которого, аристократка по происхождению, рабыня социальных предрассудков, внушила мужу такой ужас к знатным семьям, что он развелся и вернулся к былой жизни.
В жизни нельзя отступать ни перед каким препятствием, ибо, только столкнувшись с ним, можно найти способ его избегнуть. Правда, мои родственники могут ополчиться на меня, если я возьму на себя крест и буду продолжать жить с Алисией или поведу ее к алтарю. Но к чему смотреть так далеко? У страха глаза велики. Никто не скажет, что я рожден для брака, а если и так, — кто даст мне иную жену, чем та, которую указала судьба? Чем Алисия хуже других? Она скромна, развита, хорошо воспитана, из порядочной семьи. В каком кодексе, в каком учебнике, в какой книге я вычитал, что предрассудки выше действительности? Что ставит меня выше других, кроме моих произведений? Талант, подобно смерти, не признает сословных различий. Почему другие девушки казались мне лучше? Уж не потому ли, что безрассудное мнение света заразило меня своей глупостью, уж не ослепил ли меня блеск золота? Разве богатство, происхождение которого всегда темно, — не относительная вещь? Не кажутся ли жалкими наши богачи по сравнению с заморскими миллионерами? Разве я не достигну золотой середины, относительного благополучия? Какое мне тогда дело до остальных, они сами будут курить мне фимиам. Передо мной стоит одна задача, заслоняя все остальное: накопить деньги и вести скромную, но безбедную жизнь. Остальное приложится.
Я молчал, мысленно перебирая доводы дона Рафо и отделяя истину от преувеличений. «Дон Рафо, — сказал я ему, — я смотрю на вещи с другой стороны. Ваши выводы вполне основательны, но не они занимают меня в эту минуту. Эти вопросы встанут передо мной, но до них еще далеко. Главное в моих отношениях с Алисией — это я сам. Не будучи влюблен в нее, я притворяюсь влюбленным, честность заменяет мне недостающую нежность, и я внутренне убежден, что благородство моего характера толкнет меня даже на самопожертвование ради чуждой мне дамы сердца, ради любви, которой я не испытываю.
Привычка к притворству помогла мне приобрести среди женщин репутацию пылкого любовника, но я всегда чувствовал себя одиноким. Я старался рассеять тоску, искренне желал обновить свою жизнь, бежать от разврата, но, куда бы я ни устремлял с надеждой свой взор, я всюду находил жалкую пустоту, прикрашенную фантазией и сулящую разочарование. Обманывая себя мною же самим выдуманными истинами, я изведал все страсти, пресытился и бесцельно иду, сам не зная куда, искажая свой идеал, чтобы уверить себя в близости искупления. Химера, за которой я гонюсь, имеет человеческий облик, и я знаю, что от нее ведут дороги к успеху, любви и счастью. Но дни идут, молодость проходит, а моя мечта не видит верного пути; среди простых женщин я не встречаю простоты, среди любящих — любви, среди верящих — веры. Сердце мое — как камень, поросший мхом; в нем никогда не иссякают слезы. Вы видели: сегодня я плакал, не от душевной слабости — я слишком ожесточен против жизни, я оплакивал обманутые надежды, утраченные мечты, то, чем я никогда не был, то, чем я никогда не буду...»
Я постепенно повышал голос и вдруг заметил, что Алисия не спит. Я осторожно подошел и увидел, что она подслушивает наш разговор.
— Ты что? — спросил я.
Ее молчание смутило меня.
Дон Рафо решил продолжать путь до ближайшего моричаля.[12] Оставаться в лесу было крайне опасно: на много лиг[13] вокруг не было воды, и сюда сходились на водопой животные, а к ночи появлялись и хищные звери. Шаг за шагом, при первых вечерних шорохах, мы выбрались оттуда. Заря уже угасала, когда мы начали готовиться к ночлегу. Пока дон Рафо разжигал костер, я вывел лошадей на луг и стреножил их. Потянуло вечерней свежестью, и внезапно, с неровными интервалами, до моего слуха донеслись звуки, похожие на плач. Я инстинктивно подумал об Алисии, а она приблизилась ко мне и спросила:
— Что с тобой? Что с тобой?
Долго еще, собравшись вместе, мы прислушивались к этим стонам, повернувшись в ту сторону, откуда они исходили, но не могли разгадать их причину. Это пальма маканилья, тонкая, как кисть художника, плакала в сумерках, покорная ветру.
Неделю спустя мы заметили вдали ранчо Мапорита. Заводь близ корралей[14] золотилась на солнце. Огромные псы выбежали нам навстречу с громким лаем и разогнали наших лошадей. У передних ворот, где сушился на солнце красный байетон,[15] дон Рафо, поднявшись на стременах, крикнул:
— Хвала господу!
— ...и его пресвятой матери! — ответил женский голос.
— Велите кому-нибудь отогнать собак!
— Сейчас.
— А где нинья Грисельда?
— На реке.
Мы с удовольствием оглядывали чистенький двор, усаженный бальзамином, бессмертниками, табаком, маками и другими цветами. В саду манили в тень бананы, шурша резными листьями из-за бамбукового палисадника, окружавшего дом, на коньке которого распустил свой яркий хвост павлин.
Наконец, в дверях кухни, вытирая руки о подол нижней юбки, показалась старая мулатка.
— Киш вы! — крикнула она, швыряя скорлупой в копошившихся на грядках кур. — Проходите, нинья Грисельда ушла купаться. Собак не бойтесь, они не кусаются.
И она занялась своими делами.
Мы расположились в служившей залой комнате, обстановку которой составляли два гамака, раскладной столик, две скамейки, три сундука и швейная машина «Зингер». Алисия, тяжело дыша, присела отдохнуть на гамак. Вошла Грисельда, босая, с купальным костюмом на плече, с гребенкой в волосах и мылом в тазике из выдолбленной тыквы.
— Простите, пожалуйста, — сказали мы ей.
— Ранчо и его хозяйка всегда к вашим услугам. А! И дон Рафаэль здесь! Зачем пожаловали?
И, выйдя во двор, она фамильярно пожурила его:
— Беспамятный, опять забыли журнал? Я на вас зла, как ягуар. Не перечьте мне, а то поссоримся.
Это была смуглая крепкая женщина среднего роста, с круглым лицом и приятными глазами. Она смеялась, показывая широкие белые зубы, и ловким движением руки выжимала воду из волос на расстегнутый корсаж платья. Вернувшись к нам, она спросила:
— Вам еще не подали кофе?
— Пожалуйста, не хлопочите...
— Тьяна, Бастьяна, что же ты?..
И, сев на гамак рядом с Алисией, Грисельда принялась расспрашивать, настоящие ли бриллианты в ее серьгах и нет ли у нее других для продажи.
— Если они вам нравятся, сеньора...
— Я за них дам эту машину.
— Вечная любительница меняться, — любезно произнес дон Рафо.
— Нет! Просто мы все распродаем потому, что уезжаем отсюда.
И с жаром Грисельда принялась рассказывать, что приехал некий Баррера и вербует людей на каучуковые разработки на реке Вичаде.
— Вот случай поправить наши дела: там дают еду и пять песо[16] в день. Я так и сказала Франко.
— А кто такой этот Баррера? — спросил дон Рафо.
— Нарсисо Баррера, вербовщик, он привез товары и моррокоты,[17] чтобы раздавать их и угощать.
— И вы верите в эту аферу?
— Молчали бы уж, дон Рафо! И не вздумайте отговаривать Фиделя. Ему предлагают верные деньги, а он не решается бросить усадьбу. Он больше любит коров, чем жену! А кроме того, мы обвенчаемся в Порэ, потому что до сих пор жили по-граждански.
Алисия бросила на меня косой взгляд и улыбнулась.
— Этот переезд может принести убытки, нинья Грисельда.
— Дон Рафо, кто не рискует, тот всегда в проигрыше. Скажите сами, разве не стоит завербоваться, когда все у нас об этом только и говорят? В Ато Гранде, усадьбе Субьеты, почти никого не осталось. Старик Субьета еле упросил вакеро помочь ему загнать стада. Люди не хотят ничего делать. А по ночам пляшут хоропо!..[18] Нет, вы подумайте: среди них Кларита... Я запретила Фиделю оставаться там, а он не слушается. С понедельника уехал. Завтра ждем его.
— Вы говорите, Баррера привез много товаров? И дешево продает?
— Да, дон Рафо. Вам не стоит даже развязывать тюки. Все уже накупили всякой всячины. А почему вы не привезли мне модных журналов? Они мне так нужны. Я хочу одеваться по последней моде.
— Вот, привез один.
— Ну, спасибо!
Старая Себастьяна, седая, со сморщенным, точно винная ягода, лицом, дрожащими руками протянула нам несколько чашек горького кофе, которого не могли заставить себя выпить ни Алисия, ни я; дон Рафо пил его с блюдечка. Грисельда поспешила принести темную патоку в кувшине и предложила нам подсластить кофе.
— Спасибо, сеньора.
— А эта красавица — ваша жена? Вы — зять дона Рафо?
— Не зять, а ближе зятя.
— А вы тоже из Толимы?
— Я из департамента Толима; Алисия — из Боготы.
— Она словно на танцы вырядилась! Какая модница! Что за ботинки! А платье какое хорошенькое! Вы его сами скроили?
— Нет, сеньора. Но я кое-что понимаю в шитье. Я три года училась этому в школе.
— Вы научите меня? Правда, научите? Я для этого и купила машину. Посмотрите, какие у меня шикарные отрезы. Мне их подарил Баррера, когда приезжал к нам. Тьяне он тоже подарил материю. Где она у тебя, Тьяна?
— Убрала к себе. Сейчас принесу.
И старуха вышла.
Грисельда, в восторге оттого, что Алисия согласилась обучить ее шитью, сняла с пояса ключи и, открыв сундук, показала нам яркие ткани.
— Да это же обыкновенный сатин!
— Что вы, дон Рафо, — это чистый шелк. Баррера щедрый. А вот, смотрите, виды фабрик на Вичаде, куда он нас собирается взять. Скажите по совести, разве это не великолепные здания, разве это не шикарные фотографии? Баррера их повсюду раздавал. Смотрите, сколько я их наклеила в сундуке.
Это были цветные открытки с изображением двухэтажных зданий, расположенных на высоком берегу реки; на верандах домов стояли люди; в небольшой гавани дымили паровые катера.
— Там живет больше тысячи человек народу, и все зарабатывают по фунту в день. Я буду вести хозяйство в бараках. Подумайте, какие деньги я сразу загребу! Да сколько еще Фидель заработает! Смотрите — вот это каучуковые леса. Баррера правильно говорит: больше такого случая не представится.
— Жалко, я стара стала, а то бы и я поехала с сынком, — сказала старуха, снова появляясь на пороге. — Вот материя, — прибавила она, развертывая красную бумажную ткань.
— Ты в ней будешь похожа на горящую головешку.
— Подумаешь, — ответила старуха, — хуже, когда человек ни на что не похож.
— Поди, — приказала ей Грисельда, — достань дону Рафо спелых бананов для лошадей. Но сначала скажи Мигелю, чтобы перестал валяться в гамаке, потому что лихорадка у него все равно от этого не пройдет. Пусть вычерпает воду из лодки и осмотрит крючки, не объели ли карибе[19] наживу. Может, попался багре.[20] И дай нам чего-нибудь закусить, гости приехали издалека. Пойдемте сюда, нинья Алисия, переоденьтесь с дороги. В этой комнате мы будем жить вдвоем.
И, остановившись передо мной, она прибавила с плутовским вызовом:
— Я увожу ее. Вы уже спите врозь?
Мне было очень жаль дона Рафаэля, потерпевшего неудачу в торговле. Грисельда была права: все уже запаслись товарами.
Но все же два дня спустя из усадьбы Ато Гранде приехали несколько бледных, тощих людей на взмокших конях, провалившиеся бока которых были прикрыты байетонами. Люди кричали с другого берега, чтобы мы подали лодку, и, решив, что их не слышат, дали залп из винчестеров. Никто не отозвался. Тогда, не спешиваясь, они пустили коней вплавь и переплыли реку, держа на голове свернутые байетоны.
Всадники подъехали к воротам ранчо. На них были холщовые штаны, рубашки навыпуск и широкополые коричневые шляпы. Большими пальцами босых ног они упирались в стремена.
— Добрый день... — устало произнесли они. Лай собак заглушал их голоса.
— Вы чуть нас не убили, такую подняли стрельбу! — вскричала Грисельда.
— Нам лодку...
— Еще лодку вам! Здесь не перевоз!..
— Мы приехали посмотреть товар...
— Проходите, только оставьте своих кляч здесь. Приезжие спешились и теми же веревками, которые служили уздечками, привязали лошадей к саману[21] у ворот и вошли во двор с плащами через плечо. С небрежным видом они присели вокруг кожи; на которой дон Рафо разложил товары.
— Посмотрите диагональ экстра; вот патентованные ножи; обратите внимание на кожаный пояс с кобурой для револьвера — все высшего качества.
— Хина есть?
— Самая лучшая, и порошки от жара.
— Почем нитки?
— Десять сентаво[22] за моток.
— По пять сентаво отдадите?
— Берите за девять.
Они все потрогали, пощупали, прикинули, не произнося почти ни слова. Чтобы узнать, не линяет ли материя, они смачивали пальцы слюной и мяли ткань. Дон Рафаэль с метром в руках все им показывал, без умолку расхваливая каждую вещь. Но им ничего не нравилось.
— Отдадите за двадцать реалов эту наваху?
— Берите.
— Я за пуговицы не дам дороже, чем сказал.
— Держите.
— Только чур, впридачу иглу, чтоб было чем пришивать.
— Получайте.
Так они купили разных пустяков на два-три песо. Человек с карабином, развязав уголок платка, достал золотую монету:
— Плачу за всех! Вот вам двадцать долларов. И он звякнул моррокотой о ствол винчестера.
— Сдача найдется?
— Почему не берете остальное?
— При такой цене пришлось бы отдать и винчестер в придачу. Приезжайте к Субьете, увидите, сколько вещей нам подарили.
— Тогда отправляйтесь с богом!
Вакеро вскочили на лошадей.
— Эй, хозяин! — крикнул, возвращаясь, самый подозрительный из них. — Баррера послал нас отнять у тебя товары, и лучше тебе убраться отсюда подобру-поздорову. Тебя предупредили: подальше со своим барахлом! Сейчас мы ничего не взяли потому, что товаров мало и цена дорога!
— А за что же отнять? — спросил дон Рафо.
— За конкуренцию!
— Ты думаешь, несчастный, что за этого старика некому заступиться? — воскликнул я, хватаясь за нож.
Женщины громко закричали.
— Смотри, — показал всадник на свою голову. — Выше шляпы надо мной никого нет. Как земля ни велика, она всегда останется у меня под ногами. Я с вами не связываюсь. А если угодно — и на вас управа найдется.
Пришпорив жеребца, он бросил мне в лицо купленные вещи и ускакал с товарищами в степь.
Этим вечером, около десяти часов, вернулся домой Франко. Лодка бесшумно скользила по глубокой реке, но псы почуяли ее, и в доме поднялась суматоха.
— Это Фидель, это Фидель, — говорила Грисельда, натыкаясь на наши гамаки. Она вышла во двор в одной рубашке, закутавшись с головой в темную шаль; дон Рафаэль следовал за ней.
Алисия тревожно окликнула меня в потемках из соседней комнаты:
— Артуро, слышишь? Кто-то приехал!
— Да, но ты не беспокойся, лежи. Это хозяин.
Во фланелевой рубашке и с непокрытой головой я вышел во двор. Под бананами с зажженным факелом прошла группа людей. Послышался звон цепи причалившей лодки, из которой выскочили два вооруженных человека.
— Что здесь случилось? — сказал один из них, обнимая Грисельду.
— Ничего, ничего! Почему ты вернулся в такое время?
— Кто остановился у нас?
— Дон Рафаэль и его знакомые: мужчина и женщина.
Франко и дон Рафо дружески обнялись и вместе с другими вошли в кухню.
— Я очень беспокоился: сегодня вечером я вернулся в Ато Гранде со стадом и узнал, что Баррера посылал сюда людей. Мне не дали уехать на лошади, но, как только началась попойка, я взял лодку и — был таков. Зачем приезжали эти разбойники?
— Отнять у меня галантерею, — скромно ответил дои Рафо.
— И чем кончилось дело, Грисельда?
— Ничем, но могла завязаться драка, потому что приезжий полез на них с ножом. Ужас! Мы так кричали!.. Проходи в дом, — прибавила хозяйка, бледная, дрожащая, — и пока согреют кофе, вынеси свой гамак на террасу: в комнате со мной спит сеньора.
— Ничего не придумывайте, мы с Алисией уйдем под навес, — произнес я, выходя на террасу.
— Вы здесь не хозяин, — ответила Грисельда, — Познакомьтесь, это мой муж.
— Ваш покорный слуга, — отвечал тот, обнимая меня. — Можете на меня положиться. Для меня достаточно, что вы друг дона Рафаэля.
— А если бы ты видел, с какой он женщиной приехал! Румяная, как мерей![23] А руки — только шелк кроить. Она научит меня всем модам.
— Можете распоряжаться вашими новыми слугами, — повторил Франко.
Он был худ и бледен, среднего роста, немного выше меня. Его фамилия соответствовала его характеру;[24] лицо и слова его были, впрочем, не так красноречивы, как сердце. Благородные черты лица, правильное произношение и манера подавать руку указывали на хорошее воспитание и обличали в нем человека, не выросшего в пампе, а пришедшего в нее.
— Вы уроженец Антиокии?
— Да, сеньор. Я некоторое время учился в Боготе, поступил потом в армию; меня назначили в гарнизон Арауки, но я дезертировал после ссоры с капитаном. Оттуда я и приехал с Грисельдой, расчистил усадьбу и теперь не оставлю это ранчо ни за что на свете. — И он повторил: — Ни за что на свете!
Грисельда сделала кислую гримасу, но промолчала. Под предлогом, что ей нужно одеться, — она выбежала встречать мужа полураздетой, — она ушла к себе, загораживая ладонью колеблющийся огонек свечи.
Больше она не возвращалась.
А тем временем старая Тьяна разожгла сложенный из трех камней очаг, над которым висел на проволоке котел. В теплом мерцании света мы сели в кружок на корни бамбука и черепа кайманов, служившие сиденьями. Приехавший с Франко мулат дружелюбно оглядывал меня, положив на голые колени двустволку. Одежда на нем промокла, он засучил штаны и выжимал из них воду на мускулистые икры. Звали его Антонио Корреа. Это был сын Себастьяны; спина мулата была так широка и так крепка была его грудь, что он походил на туземного идола.
— Мама, — сказал он, почесывая голову, — какой это смутьян распустил в поместье у Субьеты слух насчет товаров дона Рафо?
— В этом ничего нет худого. Без рекламы — плохая торговля.
— Да, но зачем он ездил туда ночью, когда приехали гости?
— Я почем знаю! Наверно, нинья Грисельда посылала.
На этот раз Франко сделал гримасу. После короткого молчания он спросил:
— А сколько раз сюда приезжал Баррера, мулатка?
— Я не считала. Мое дело — кухня.
Выпив кофе и осведомившись у дона Рафо о наших дорожных приключениях, Франко спросил Себастьяну, возвращаясь к своим обычным домашним заботам:
— А что делают Мигель и Хесус? Свиней в хлев загнали? Ворота у корралей починили? Сколько коров дают молоко?
— Только две с большими телятами. Остальных нинья Грисельда распорядилась выпустить: уже появились москиты и насмерть заедают телят.
— А где же эти лодыри?
— У Мигеля жар. Не знаю, чем и лечить его: я сорвала пять верхних листьев боррахи,[25] — если снизу срывать, от них тошнит. Сварила настой, а Мигель не пьет. Он собирается уехать на каучуковые разработки. Все играет в карты с Хесусом, а этот тоже только и думает, как бы уйти!
— Так пусть убираются сию же минуту в лодке Субьеты и больше не возвращаются. Я не потерплю у себя на ранчо ни сплетников, ни соглядатаев. Пойди в каней[26] и скажи, что я их рассчитал и что ни они мне ничего не должны, ни я им.
Когда Себастьяна вышла, дон Рафаэль осведомился о положении дел в поместье Субьеты:
— Правда, что у него дела совсем плохи?
— Да, Баррера все перевернул вверх дном, — ни тени того, что было прежде. Жить там стало немыслимо. Лучше б уж сразу сожгли усадьбу.
Потом Фидель рассказал, что все работы в Ато Гранде прекратились: вакеро, собираясь группами в назначенном месте в степи, покупают тайком спирт у агентов Барреры и пьянствуют. Напившись, одни сами лезут на рога быкам, и те убивают их, другие, пытаясь повалить быка, запутываются в аркане и получают смертельные раны, остальные продолжают бражничать с Кларитой или загоняют верховых лошадей, устраивая скачки и делая ставки на наездников. И нет никого, кто бы навел порядок и вернул все в прежний вид. В расчете на близкий отъезд на каучуковые разработки, никто не желает ничего делать и уже считает себя богачом. Вместо объезженных лошадей остались одни неуки, вместо вакеро — гуляки, а хозяин поместья, старик Субьета, пьяница и подагрик, знать ничего не хочет и валяется в гамаке. Баррера обыгрывает его в кости, Кларита спаивает его, а пеоны вербовщика режут по пяти голов скота в день, бракуя тех, которые при свежевании оказываются слишком тощими.
И в довершение всего индейцы с берегов Гуанапало, истребляющие сотни голов скота своими стрелами, захватили ранчо Атико, увели женщин и перебили мужчин. Хорошо еще, что степной пожар преградила река, но зарево на другом берегу полыхало еще много ночей.
— А что вы думаете делать со своим ранчо? — спросил я Фиделя.
— Оборонять его! Десять порядочных всадников с ружьями, и в живых не останется ни одного индейца.
В этот момент вернулась Себастьяна.
— Они уезжают.
— Как бы они не прихватили мою гитару, мама!
— А передать ничего не надо?
— Пусть передадут старому Субьете, чтобы не ждал меня; я буду пасти его скот, если он даст мне хороших вакеро.
Мы вышли во двор следом за мулаткой. Ночь была темная; начало накрапывать. Франко провел нас в залу и растянулся на гамаке. Отчалившие от берега Мигель и Хесус запели дуэтом:
Сердце, неуком не будь; Научись быть кротким с милой, Если любит — полюби, А не любит — не насилуй.Удары весел по воде и шум внезапно усилившегося дождя заглушили звуки песни.
Спалось мне плохо. Заснуть я смог лишь после первых петухов. Мне снилось, что Алисия идет одна унылой степью, направляясь в зловещее место, где ее ждет какой-то человек, возможно Баррера. Прячась в траве, я крадусь за ней с двустволкой наперевес, но каждый раз, когда я навожу ружье на обольстителя, оно превращается в моих руках в застывшую, холодную змею. Дон Рафо машет шляпой из-за ограды корраля и кричит: «Вернись! Все равно дела не поправишь!»
Видел я затем, как Грисельда, одетая в золото, сидит в неведомой стране на вершине скалы, у подножья которой вытекает белый ручеек каучукового сока. Толпы людей, припав к земле, пьют этот сок. Франко, стоя на помосте из скрещенных ружей, обращается к жаждущим со словами: «Несчастные, за этой сельвой начинается потустороннее!» У каждого дерева умирает человек, и я подбираю черепа, чтобы увезти их на барке по безмолвной темной реке.
И опять я видел Алисию, растрепанную и обнаженную, убегающую от меня сквозь заросли темного леса, освещенного гигантскими светляками. Я нес в руках топорик, у пояса был привешен металлический сосуд. Я остановился перед араукарией с темными цветами, похожей на каучуковое дерево, и надрубил ее кору, чтобы собрать сок. «Зачем ты губишь меня? — зашептало растение слабеющим голосом. — Я твоя Алисия, меня превратили в лиану».
Дрожа, весь в поту, я проснулся около девяти часов утра. Небо после дождя сверкало синевой, как вымытое. Легкий ветерок смягчал зной.
— Идите завтракать, — пробормотала мулатка. — Дон Рафо с мужчинами уехал, а женщины купаются.
Пока я завтракал, она села на пол и принялась поправлять зубами цепочку от ладанки, висевшей у нее на шее.
— Я ношу эту ладанку, потому что она чудотворная. Не знаю, возьмет меня Антонио или нет. Но если он бросит меня одну, я положу ему в кофе сердце тукана. Он может уйти далеко, в другие земли, но, где бы он ни услышал эту птицу, он загрустит и захочет вернуться, потому что мое заклятие заставит его тосковать по родине, по ранчо и по близким людям, и если он не вернется, то умрет с горя. А может, отдам эту ладанку сыну, она пригодится ему в дороге.
— Разве Антонио тоже собирается на Вичаду?
— Кто знает! Франко не хочет расстаться с насиженным местом, а жена его только и думает о переезде. Антонио сделает, как захочет хозяин.
— А почему ушли работники?
— Хозяин прогнал их. Он догадлив, В день вашего приезда Хесус ночью отправился в поместье Субьеты к Баррере — предупредить его, что в Мапорите чужие. Вот и все. Но хозяин догадался, в чем дело, и рассчитал Хесуса.
— А Баррера часто бывает здесь?
— Не знаю. Может быть, встречается с Грисельдой на реке; она иногда выезжает на лодке, будто для рыбной ловли. Баррера — получше мужа; он много чего сулит. Но муж — человек вспыльчивый, и она боится его после того, что произошло в Арауке. Ему наговорили, что капитан волочился за Грисельдой, он застал его с ней и убил двумя ударами ножа...
В этот момент, прерывая наш разговор, подошли, оживленно беседуя, Алисия, Грисельда и элегантный мужчина в высоких сапогах, белом костюме и серой фетровой шляпе.
— Это сеньор Баррера. Познакомьтесь.
— Кабальеро, — произнес тот, раскланиваясь, — я вдвойне счастлив: неожиданный случай привел меня к ногам супруга, достойного такой прекрасной жены. И, не дожидаясь другого повода, он поцеловал руку Алисии. Затем, здороваясь со мной, льстиво прибавил:
— Хвала руке, написавшей такие прекрасные стихи! Я наслаждался ими в Бразилии, и они вызывали у меня тоску по отчизне, потому что поэты обладают даром крепко привязывать к родине ее детей, рассеянных жизнью по чужим странам. Судьба балует меня, но я даже не смел мечтать лично выразить вам свое искреннее преклонение.
Хоть я заранее был настроен против этого человека, признаюсь, что лесть оказала свое действие и ослабила недовольство, вызванное его ухаживанием за Алисией.
Он просил извинения, что входит в залу в простых сапогах, и, справившись о здоровье хозяина дома, пригласил меня выпить стаканчик виски. Я уже заметил, что Грисельда держит в руках бутылку.
Когда Себастьяна расставила на грубо сколоченном столике стаканчики и Баррера наклонился наполнить их, я заметил, что на поясе у него висит никелированный револьвер и что бутылка уже почата.
Алисия, поглядывая на меня, не решалась пить.
— Еще рюмочку, сеньора, вы уже убедились, что это — сладкий ликер.
— Как! — вскричал я, нахмурясь. — Ты тоже пила?
— Сеньор Баррера так настаивал... И он подарил мне флакон духов, — пролепетала она, доставая из корзинки спрятанные там духи.
— Этот скромный подарок... Извините, пожалуйста, я нарочно захватил его...
— Не для моей жены. Это, верно, для Грисельды! Или вы все трое уже знакомы?
— Ничего подобного, синьор Кова. Судьба не была настолько благосклонна ко мне.
Алисия и Грисельда покраснели.
— Я узнал о вашем присутствии здесь, — продолжал Баррера, — от тех двух парней, которые вчера вечером приехали в Ато Гранде. Я был несказанно огорчен, что шестеро всадников — без сомнения грабители — хотели отнять товары, якобы по моему приказу, и, как только рассвело, я отправился сюда выразить мое негодование по поводу гнусного покушения. Это вино, эти духи — скромные подарки человека, которому нечего предложить, кроме своего сердца, должны были подтвердить мою искреннюю привязанность к хозяевам дома.
— Алисия, сейчас же отдай духи Грисельде.
— А разве вы наравне с нами не хозяева этого ранчо? — обиженно процедила Грисельда.
— Я тоже так считаю, ведь где бы вы ни находились, ваше обаяние делает вас хозяевами всего окружающего, — поддакивал ей Баррера.
Его не смутило враждебное выражение моего лица, но он переменил тему разговора.
В Касанаре, сказал он, происходят такие вещи, что страшно подумать, во что превратился этот благословенный край, колыбель гостеприимства, честности и трудолюбия. Здесь невозможно стало жить: беженцы из Венесуэлы все разорили, как саранча. Сам он натерпелся горя с добровольцами, которые упрашивали взять их на Вичаду. Многие из них выдавали себя за политических эмигрантов, а оказались просто уголовными преступниками, беглыми каторжниками. И нельзя было наотрез отказать им — они могли отомстить. К этому разряду безусловно принадлежат и те, кто пытался ограбить дона Рафаэля. Никакими деньгами администрация каучуковых разработок на Вичаде не сможет возместить причиненных ему неприятностей! Правда, его, Барреру, очень ценят и уважают, и было бы черной неблагодарностью с его стороны жаловаться на компанию. Недавно он ездил с большим грузом каучука в Бразилию, где проживают главные акционеры компании, и те упрашивали его взять на себя управление разработками. Но он отказался, ссылаясь на недостаток способностей. Ах, если бы он мог предугадать тогда, что в эту пустыню попаду я. Вот если бы я рекомендовал ему подходящего человека, он с гордостью предложил бы его кандидатуру компании, и если бы этот кандидат согласился поехать с ним, то мог бы рассчитывать на назначение...
— Сеньор Баррера, — прервал я его, — я никогда не предполагал, что на Вичаде существуют такие крупные предприятия, как ваше.
— Не мое оно, не мое! Я скромный служащий, которому платят две тысячи фунтов в год, не считая представительских расходов.
Он нагло впился в меня льстивыми глазами, затем вытер лицо шелковым платком, погладил узел галстука и распрощался, несколько раз попросив передать отсутствующим мужчинам привет и его возмущение налетом грабителей; Он рассчитывал, по его словам, скоро приехать опять, чтобы извиниться лично.
Грисельда проводила его до речки и задержалась там дольше, чем требует простое прощанье.
— Откуда появился этот тип? — напустился я на Алисию, когда мы остались одни.
— Он приехал на лошади тем берегом, и Грисельда перевезла его в лодке.
— Ты была раньше знакома с ним?
— Нет.
— Он нравится тебе?
— Нет.
— Ты принимаешь от него эти духи?
— Нет.
— Отлично! Отлично!
И, выхватив флакон из кармана ее передника, я с яростью бросил его о камни прямо к ногам возвращавшейся Грисельды.
— Вы с ума сошли! Вы с ума сошли!
Алисия, обиженная и недоумевающая, открыла машину и принялась шить. Временами слышались только жужжанье колеса и болтовня попугая на жердочке.
Грисельда, понимая, что не следует оставлять нас одних, сказала, лукаво улыбаясь:
— Этот Баррера, если ему что взбредет в голову, обязательно добьется своего. Теперь ему загорелось раздобыть изумруды, и он глаз не сводит с моих серег. Он готов вырвать их у меня из ушей!
— Как бы он не унес их вместе с хозяйкой, — добавил я, громко рассмеявшись. И я ушел в корраль, не слушая взволнованно кричавшую мне вслед Грисельду:
— Очень хорошо, что уходите. Все равно вы не правы.
Забравшись на изгородь, я дал волю своей злобе. Солнце палило нестерпимо. Вдруг вдали, над пальмовой рощей, я заметил густую колеблющуюся тучу пыли и вскоре на фоне леса разглядел силуэт всадника, который скакал во весь опор по степи, изгибаясь в седле и размахивая арканом. Пампа гудела от конского топота. Через некоторое время на равнину выехали другие всадники, а затем я разглядел табун, от которого то и дело отбегали молодые кобылицы, игриво брыкаясь и становясь на дыбы. Я уже явственно различал голоса всадников, просивших открыть ворота, и не успел я снять засов, как табун с громким фырканьем и ржаньем устремился в корраль.
Франко, дон Рафаэль и мулат Корреа соскочили с храпящих взмыленных коней, которые остановились у изгороди и принялись тереться об нее головами.
— Что же вы не взяли меня с собой?
— Кто встает с зарей, причащается дважды. Еще успеете научиться бросать аркан.
Пока мужчины запирали ворота загонов, закладывая их толстыми жердями, прибежали Алисия и Грисельда. Они принялись разглядывать через просветы частокола шумный табун, сбившийся у ограды корраля. Алисия, держа в руках шитье, вслух выражала свой восторг лошадьми, их лоснящимися боками, развевающимися по ветру гривами и звонким цокотом копыт. «Это моя! Нет, эта — всех красивей! Смотрите, как она встает на дыбы!» Кони дико ржали, порывисто дыша и вздымая пыль. Казалось, самый воздух был насыщен радостью жизни и ощущением грубой силы.
Корреа был счастлив.
— Поймали голубчика! Вон этого черного, гривастого с белыми бабками. И на него нашлась управа; лучше бы ему не родиться. Все мулаты боятся его, как огня, а вот посмотрите, сбросит он сына моей матери?
— Что ты собираешься делать, проклятый? — проворчала старуха. — Это тебе не мать, а лошадь.
Воодушевленный нашим вниманием, мулат заявил, обращаясь к Алисии:
— Эту затею я посвящаю вам. Как позавтракаете, так я и двинусь.
Почувствовав запах пролитых на землю духов, он сказал, раздувая ноздри:
— А... Женщиной пахнет, женщиной пахнет!
Сам мулат отказался от завтрака. Он сунул в рот горсть печеных бананов, оторвал кусок мяса и промочил глотку крепким кофе. Затем под ворчанье Себастьяны он вышел во двор с седлом на плече.
Мы тоже поспешили с завтраком: новизна предстоящего зрелища волновала нас. Алисия мысленно молилась за Антонио.
— Хозяева, — плакала старуха, — не дайте этому зверю убить моего курчавого.
Мы достали сыромятные ремни и короткие путы из крепкого сизалевого каната.
Жеребец увертывался от аркана, прячась среди метавшегося по карралю табуна. Франко приказал открыть ворота соседнего загона и отделить кобыл. Когда конь остался один, он бросился к изгороди, но мулат накинул на него аркан. Жеребец делал отчаянные прыжки, стараясь сбросить с опозоренной шеи петлю. Он задыхался, гневно храпел, всхлипывал, пока в изнеможении не рухнул на землю вверх копытами.
Франко сел на повергнутого коня и, схватив за уши, оттянул его гордую голову назад, а мулат надел путы и подвязал к репице хвоста веревку. Так они усмиряли его и, вместо того чтобы вести под уздцы, тянули за хвост, пока несчастный конь, упиравшийся в землю, не оказался за пределами корраля. Там на него надели шоры, и седло впервые сжало бока непокорного скакуна.
Из корраля тем временем выпустили беспокойный косяк кобылиц, и они с громким ржаньем разбежались по степи; жеребец, обернувшись к равнине, пугливо и злобно дрожал.
Когда с коня снимали путы, всадник крикнул:
— Мама, дай ладанку!
Франко и дон Рафаэль велели оседлать лошадей и для себя, но мулат попросил пока не мешать ему.
— Поезжайте следом, и если конь вздумает упасть на спину, накиньте на него аркан, чтобы он не придавил меня.
Себастьяна завопила. Антонио надел ладанку на шею, перекрестился и быстрым движением сорвал с коня шоры.
Ни дикий мул, в ужасе старающийся сбросить с себя впившегося ему в затылок ягуара, ни яростно ревущий бык, кружащийся по арене с воткнутыми в хребет бандерильями, ни морская корова, почувствовавшая гарпун, не проявили бы той ярости, с какой жеребец ощутил первый удар хлыста. Он рванулся с диким ржанием, сотрясая землю ударами своих копыт; мы с замиранием сердца, следили за Корреа, а Фидель и дон Рафо не отставали от него, размахивая плащами. Конь, с приросшим к седлу всадником, то отчаянно брыкаясь, то поднимаясь на дыбы, описывал большие круги, а потом, подобно кентавру, вихрем унесся в степь, и мы едва могли различить вдалеке белую рубаху мулата.
Всадники вернулись к вечеру. Пальмы приветствовали их, качая кронами.
Жеребец пришел разбитым, взмыленным, покорным, не чувствуя ни хлыста, ни шпор. Не пользуясь шорами, его расседлали, стреножили, и он неподвижно замер у раскрытых ворот корраля.
Мы радостно обнимали Корреа.
— Что вы скажете о моем увальне? — гордо повторяла Себастьяна.
— Я ему всем обязан, — произнес Франко, обращаясь ко мне. — Это его выдумка — устроить для нас лучшее развлечение в Касанаре. Мы как раз в эти дни загоняли лошадей Субьеты и поймали этого жеребца. Он был мой, а теперь он ваш. Как его объезжали, вы видели сами.
Ночью, при свете полной луны, король пампы, опозоренный и обессиленный, жалобным ржаньем простился со своим могуществом.
Признаюсь, к стыду своему, что на этой неделе я поступил дурно. Я начал ухаживать за Грисельдой и имел скандальный успех.
В те дни, когда Алисию трясла лихорадка, я был как нельзя более нежен и внимателен к ней, но теперь, спрашивая свою совесть, я понимаю, что мне доставляло не меньшее удовольствие встречаться с хозяйкой, ухаживая за больной, чем заботиться об Алисии.
Раз Грисельда проходила мимо моего гамака, и я, заигрывая, схватил ее за передник. Она замахнулась на меня, словно собираясь дать мне пощечину, но, убедившись, что Алисия спит, принялась щекотать меня:
— Бесстыдник, я знала, что нравлюсь тебе.
Грисельда наклонилась к моей груди. Серьги, свесившись вперед, ударились о ее щеки.
— Это те самые изумруды, которых добивается Баррера?
— Да, но я отдам их тебе.
— А как мне их снять?
— Вот так, — ответила она, укусив меня за ухо, и убежала, давясь от смеха. Но через несколько минут вернулась, приложив палец к губам.
— Только, чтобы муж не знал. И твоя жена тоже.
Однако честность охладила мою кровь, и я с рыцарской стойкостью прогнал искушение. Как мог я, бежавший от всех соблазнов, обесчестить друга, соблазнив его жену, которая была для меня всего лишь женщиной, самой обыкновенной женщиной? Но в первую очередь мое решение было продиктовано сознанием, что Алисия обходилась со мной теперь уже не просто с безразличием, а с плохо скрываемой пренебрежительностью. С тех пор я вновь почувствовал себя влюбленным в нее и начал ее идеализировать.
Мне казалось теперь, что раньше я был близорук и видел свою подругу совсем не такой, как она есть. Верно, она не красавица, но, когда она проходит мимо мужчин, они улыбаются ей. Меня пленяло в ней больше всего очарование ее грустного, почти презрительного взгляда и приобретенная, ценою несчастья, печальная задумчивость. В ее застенчивых устах голос приобретал воркующую мягкость, красноречивую выразительность, а длинные ресницы резко оттеняли ее похожие на темный миндаль глаза. Солнце окрасило ее лицо легким загаром, и родинки на щеках стали менее заметны. Слегка пополневшая, она все же казалась мне выше ростом.
Когда я познакомился с Алисией, она производила на меня впечатление увлекающейся, легкомысленной девушки. Теперь ее украшал ореол собственного достоинства и строгости, сознания близкого материнства. Однажды я навел ее на разговор об этом, но она ответила с досадой:
— И тебе не стыдно?
Одетая в светлое простое со скромным вырезом платье, небрежно причесанная, она выглядела еще милее. В ее волосах шелковая голубая лента напоминала большую живую бабочку. Когда Алисия садилась шить, я растягивался на соседнем гамаке и, притворяясь, будто занят своими мыслями, украдкой следил за ней. Холодность ее обращения настолько выводила меня из себя, что я раздраженно спрашивал подчас:
— Разве ты не слышишь, что я к тебе обращаюсь?
Стремясь разгадать причину ее замкнутости, я пришел к мысли, что она ревнует, и слегка намекнул ей на Грисельду, с которой она почти не разлучалась, даже плакала вместе с ней.
— Что тебе обо мне говорит хозяйка?
— Что ты хуже Барреры.
— Как? В каком смысле?
— Не знаю.
Эти слова окончательно спасли честь Франко: с этой минуты я возненавидел Грисельду.
— Хуже, потому что я не ухаживаю за ней?
— Не знаю.
— А если бы ухаживал?
— Спроси свое сердце.
— Алисия, ты что-нибудь заметила?
— Какой наивный! Так все в тебя и влюбляются?
Во мне заговорила уязвленная гордость, я засучил рукав и крикнул Алисии в лицо:
— Глупая, спроси, чьи это укусы?
На пороге появился дон Рафо.
Он приехал из Ато Гранде, куда отправился утром продавать лошадей. Сопровождавшие его Франко и Грисельда остались у Субьеты и должны были вернуться к вечеру. Воспользовавшись лодкой, дон Рафо уехал оттуда раньше, чтобы посоветоваться со мной о крупной сделке и получить мое согласие на нее. Старик Субьета давал нам взаимообразно тысячу или больше быков по низкой цене, при условии, что мы сами поймаем их, но требовал гарантии, и Франко, пойдя на риск, предложил в качестве залога свое ранчо. Нам представлялся выгодный случай объединить наши капиталы: прибыль получалась огромная. Я радостно ответил дону Рафо:
— Я на все согласен. — И, сжимая Алисию в объятиях, воскликнул: — Эти деньги будут твоими!
— В счет своей доли, — сказал дон Рафо, — я дам лошадей и помчусь в Арауку требовать уплаты долга. Собрать я смогу около тысячи песо, и этой суммы хватит на покрытие части расходов по поимке быков. Франко в качестве залога дает Мапориту, и старик согласится на сделку с ним, потому что без Фиделя он как без рук, особенно теперь, когда вакеро безобразничают и все его хозяйство разваливается.
— У меня тридцать фунтов в кармане. Вот они! Вот они! Я только немного оставлю на расходы Алисии и на оплату нашей жизни в этом доме.
— Отлично! Я уеду через три дня и вернусь к вам в середине будущего месяца, до больших дождей — ведь скоро зима. В конце нюня мы с гуртом скота будем в Вильявисенсио. А потом — в Боготу, в Боготу!
Когда Алисия и дон Рафаэль вышли во двор, моя фантазия расправила крылья.
Я снова видел себя среди университетских товарищей: я рассказываю им наши похождения в Касанаре, преувеличивая свое неожиданное богатство, товарищи поздравляют меня, удивляются и завидуют. Я приглашаю их к себе на обед — тогда у меня уже будет собственный дом, и мой рабочий кабинет будет выходить окнами в сад. Там я собираю друзей и читаю им свои новые стихи. Алисия часто выходит из комнаты, чтобы укачивать плачущего сына, которого мы назовем Рафаэлем в честь нашего постоянного спутника дона Рафо.
Семья моя осуществит заветную мечту и переедет в столицу; хотя строгость семейных нравов и заставит родителей отречься от меня, я все же буду присылать к ним по праздникам кормилицу с ребенком. Сначала они откажутся принимать его, но потом любопытные сестры возьмут племянника на руки и воскликнут: «Смотрите, это — вылитый Артуро!» Мать, обливаясь слезами, будет радостно нянчиться с ним, приглашая отца посмотреть на внука; но непреклонный старик, дрожа от волнения, запрется в своем кабинете.
Мало-помалу литературные успехи завоюют мне прощение. Мать будет твердить, что надо пожалеть меня. Я получу университетский диплом — и все забудется. Даже знакомые девушки, заинтригованные моими приключениями, снисходительно отнесутся к моему прошлому: «Ах, уж этот Артуро!..»
— Идите сюда, мечтатель, — позвал меня дон Рафо, — разопьем последнюю бутылку бренди из моего багажа. Выпьем втроем за удачу и любовь.
Слепцы! Мы должны были пить за горе и смерть!
Мысль о богатстве превратилась в эти дни в навязчивую идею и так сильно овладела мной, что я уже считал себя крупным богачом, приехавшим в льяносы, чтобы развернуть там широкую финансовую деятельность. Даже в тоне Алисии я чувствовал беззаботность человека, уверенного в обеспеченном будущем. Правда, она продолжала быть такой же замкнутой, скрытной, но я тешил себя мыслью, что это капризы богатой женщины.
Когда Фидель сообщил мне, что в сделку с Субьетой внесены выгодные для нас изменения, я нисколько этому не удивился. Мне казалось, что управляющий докладывает об успешном выполнении моих приказов.
— Это верное дело, Франко. Ну, а если оно прогорит, у меня найдется, чем возместить вам убытки.
Тут Фидель впервые поинтересовался, с какой целью я приехал в пампу. Предполагая, что дон Рафо успел проговориться, я уклончиво сказал:
— Разве вам не говорил об этом дон Рафаэль? — и после отрицательного ответа добавил: — Простая прихоть! Мне хочется побывать в Арауке, спуститься по Ориноко, а затем отправиться в Европу. Но Алисия так плохо себя чувствует, что я не знаю, как быть. К тому же эта затея мне по душе. Надо чем-нибудь заняться.
— Мне неприятно, что эта невежда Грисельда превращает вашу супругу в портниху.
— Не беспокойтесь. Алисия находит развлечение в том, что применяет полученные в школе знания. Дома она занимается рисованием, музыкой, вышивает, вяжет...
— Разрешите мои сомнения: это вы дали лошадей дону Рафо?
— Вы сами знаете, как я его уважаю! У меня украли лучшую из них, с седлом и всем багажом.
— Да, дон Рафо мне рассказывал... Но у вас осталось несколько хороших коней.
— Неплохие... Мы оставили их себе.
— Они, конечно, понравятся старику Субьете. Нам просто чудом удалось сторговаться с таким недоверчивым человеком, как он! Субьета предложил нам эту сделку, вероятно, чтобы натянуть нос Баррере. Старик никогда еще не продавал столько скота. Он обычно отвечал покупателям: «Мне нечего продавать! У меня всего остался с десяток голов!» Стараясь разжечь алчность Субьеты, они вручали ему, будто на хранение, деньги, предназначенные для уплаты за скот, рассчитывая, что он не даст ускользнуть золоту из своих рук. Однажды подобную тактику применил гуртовщик из Согамосо, человек бывалый и опытный торговец. Чтобы завоевать расположение старика, он пьянствовал с ним несколько дней. Когда они начали отбирать быков, Субьета расстелил за корралем плащ, развязал кошелек покупателя и сказал: «За каждого бычка, который выйдет из загона, клади сюда монету, я не умею считать». Кошелек вскоре опустел, и гуртовщик взмолился: «Мне не хватает денег! Поверьте мне остаток быков в долг!» Субьета ухмыльнулся:
«Не вам не хватает денег, приятель, а у меня слишком много скота!» И, подобрав с земли плащ, с непреклонным видом отправился домой.
Я выслушал эту историю и самодовольно похлопал Франко по плечу.
— Фидель, — сказал я ему, — не удивляйся, старик знает, что делает! Он слышал обо мне и...
— Почему ты так переменился, ветреник?
— Вы со мною уже на ты, нинья Грисельда?
— Смотрите, как он заважничал после сделки с Субьетой! Хочешь золота — поезжай на Вичаду да возьми меня с собой. Я тоже хочу поехать туда.
Грисельда обняла меня, но я отстранил ее локтем. Она удивленно отшатнулась:
— Я знаю, в чем дело: ты боишься моего мужа.
— Вы мне противны!
— Неблагодарный! Нинья Алисия ничего не знает. Она только говорит, чтобы я не верила тебе.
— Что? Что вы сказали?
— Что степняк — простак, а горец — врать мастак!
Побледнев от гнева, я вбежал в залу.
— Алисия, мне не нравится твоя близкая дружба с Грисельдой! Ее вульгарность может передаться тебе. Не смей больше спать в ее комнате.
— Хочешь, чтобы я оставила тебя наедине с ней? Ты не стыдишься даже хозяина дома?
— Истеричка! Опять твоя глупая ревность?
Алисия расплакалась, а я ушел в каней. Старая Тьяна латала рубашку мулата, а тот, дожидаясь, растянулся нагой по пояс на бычьей шкуре.
— Отдохни на гамаке, белый. Жара смертная.
Напрасно старался я уснуть. Мне мешало клохтанье курицы, копошившейся у плетня, в то время как ее товарки, разинув клювы, отдыхали в тени, равнодушные к ухаживаньям петуха, вертевшегося вокруг них с распушенными крыльями.
— Не дают вам спать, проклятые!
— Где твоя родина, мулатка? — спросил я.
— Где я сама, там и родина.
— Ты уроженка Колумбии?
— Я из льяносов, с Манаре. Говорят, я из Краво, а я не из Краво; говорят, я из Пауто, а я и не из Пауто. Моя родина — все эти степи! Зачем мне другая родина, когда степь так красива и так широка! Знаешь поговорку: «Где твой бог? — Где солнце всходит».
— А кто твой отец? — спросил я Антонио.
— Про то мать знает.
— Не все ли равно, раз ты родился, сынок!
Невольно улыбнувшись, я спросил:
— Ты собираешься на Вичаду, мулат?
— Я было собирался, да хозяин узнал, и мне влетело. А потом, говорят, там одни леса, верхом не проехать. На что мне леса! Я, как быки, люблю только степи да свободу.
— В лесах одним индейцам жить, — прибавила старуха.
— Этим голышам саванны тоже по нраву; сколько вреда они причиняют христианам! Быка арканом им не поймать! Для этого нужен хороший и резвый конь. Так эти дьяволы догоняют быков на бегу в голой степи и одному за другим подрезают поджилки, раз — и готово! Сорок быков в день зарежут, а съедят одного; остальные достаются коршунам и стервятникам. И людей не милуют: к покойному Хаспе они подкрались в лесу, окружили его в одну минуту вместе с лошадью и зарезали. Мы кричали на них, но это не помогло. Как на грех, мы были безоружны, а их было человек двадцать, и они засыпали нас стрелами.
Старуха, завязав потуже платок на голове, вмешалась в разговор:
— Хаспе сам был виноват, он преследовал индейцев со своими вакеро и собаками. После облавы он разводил костер и делал вид, будто поджаривает и ест индейцев, чтобы это видели те, кто не попался к нему в руки, да дозорные на верхушках пальм.
— Так ведь, мама, индейцы убили всю его семью, а властей здесь нет, и каждому приходится выкручиваться самому. В Атико они всех христиан перерезали, до сих пор там головешки тлеют. Надо собраться как-нибудь, белый, и устроить на них облаву.
— Что ты? Охоту, как на диких зверей? Это бесчеловечно!
— Тогда, если вы их не зарежете, они вас зарежут.
— Не перечь ему, мулат, тоже мне мудрец выискался! Белый поученей тебя. Спроси лучше, жует ли он табак, и угости его.
— Нет, табак я не жую. Спасибо.
— Ну вот, и починила твои лохмотья, — сказала старуха, встряхнув рубашку, — рви их теперь на здоровье в лесу. А венгавенгу достал? Сколько раз тебя просили!
— Угости кофе, достану.
— Что это за венгавенга?
— Хозяйка просила. Это кора одного дерева, из нее делают приворотное зелье.
Мне случалось переживать тяжелые нервные кризисы, когда казалось, что разум пытается существовать отдельно от мозга. И хотя физически я был совершенно здоров, мой хронический недуг — привычка все время мыслить — постепенно ослаблял меня: даже во сне я не мог избавиться от видений. Внешние впечатления достигают подчас максимума влияния на мое обостренное воображение, но впечатление через несколько минут после его восприятия превращается в свою противоположность. Я, как в музыке, пробегаю гамму восторга, чтобы затем предаться беспросветной меланхолии, от гнева перехожу к сентиментальной уступчивости, от благоразумия — к вспышкам слепого бешенства. Моя душа — как море: за приливом неизменно следует отлив.
Мой организм отвергает наркотическое возбуждение, хотя оно и разгоняет тоску. В тех редких случаях, когда я бывал пьян, я делал это скуки ради или из любопытства, пытаясь заглушить тоску или познать власть, превращающую человека в животное.
В день отъезда дона Рафо я испытал смутную тревогу, вестницу близких бед, предчувствие, что разлука может оказаться вечной. Провожая дона Рафо, я разделял уверенность в успехе предприятия, начало которому он должен был положить. Но как туман поднимается к горным вершинам, так в душе моей поднималась тоска, увлажняя глаза, и я с жадностью выпил на прощанье несколько рюмок.
Ко мне вернулось на миг искусственное оживление, но в душе неотвязно звучали отголоски рыданий Алисии, которая, судорожно обняв дона Рафо, с отчаянием в голосе сказала: «С этого дня я остаюсь в пустыне».
Я понял, что, говоря о пустыне, она намекала на мое сердце.
Помню, что Фидель и Корреа должны были проводить дона Рафо до Таме, охраняя его от возможного нападения сообщников Барреры. Там они предполагали нанять верховых вакеро для ловли быков Субьеты и не позднее чем через неделю возвратиться в Мапориту.
«Дом оставляю на вас», — сказал Франко, и я неохотно принял это поручение. Почему они не берут меня с собой? Или они думают, что я не такой же мужчина, как они? Возможно, они превосходят меня в ловкости, но во всяком случае не в отваге и пылкости.
В этот день я почувствовал себя оскорбленным и, обезумев от вина, чуть было не крикнул: «Кто заботится о двух женщинах, живет с обеими!»
Когда они уехали, я вошел в спальню, чтобы утешить Алисию. Закрыв лицо руками, она лежала ничком на гамаке и громко всхлипывала. Я наклонился, чтобы приласкать ее, но она резким движением одернула платье и оттолкнула меня:
— Оставь! Не хватало только видеть тебя пьяным!
Тогда у нее на глазах я обнял хозяйку.
— Ты любишь меня, правда? Я ведь выпил всего две рюмки, не так ли?
— А выпьешь с хиной, и лихорадка пройдет.
— Да, любовь моя! Для тебя все что угодно! Все что угодно!
Несомненно, тогда-то Грисельда, выйдя с бутылкой на кухню, и всыпала в вино венгавенгу. Но я крепко заснул у ног Алисии.
В этот вечер я больше не пил.
Я проснулся с тяжелым чувством, хмурый и раздраженный. Из Ато Гранде на взмыленном, закусившем удила жеребце прискакал Мигель. Он разговаривал с Себастьяной в канее:
— Я приехал за своим петухом и хочу попросить у Антонио гитару.
— Здесь теперь распоряжается приезжий. Насчет петуха спроси у него. Гитары не дам — я ей не хозяйка.
Мигель спешился и робко подошел ко мне:
— Этот петух — мой, я хочу привязать его на веревку, скоро петушиные бои. Если разрешите взять его, я подожду сумерек, чтобы поймать его на насесте.
Поведение Мигеля показалось мне подозрительным.
— Баррера ничего не просил передать?
— Вам — ничего.
— А кому же?
— Никому.
— Кто тебе продал это седло? — сказал я, узнав седло, украденное у меня Пипой.
— Сеньор Баррера купил его у человека, который приехал из Вильявисенсио недели две назад и сказал, что продает седло, потому что лошадь у него издохла от змеиного укуса.
— А как зовут этого человека?
— Я не видел его. Слышал только, как он рассказывал.
— А ты всегда пользуешься седлами Барреры? — вскричал я, схватив его за шиворот. — Если не признаешься, где он, куда спрятался, я изобью тебя до полусмерти! А если честно ответишь на мой вопрос, я дам тебе петуха, гитару и два фунта.
— Пустите меня, я все открою вам по секрету.
Я отвел Мигеля к изгороди.
— Баррера остался ждать по ту сторону леса. Он не увидел условного сигнала — плаща, повешенного на заборе, красной подкладкой наружу. Поэтому он и послал меня, чтобы я, если путь безопасен, расседлал коня и ждал его. Он приедет вечером, а я, чтобы дать ему знак, должен сыграть на гитаре; но я еще не успел переговорить с хозяйкой.
— Ни слова ей!
И я заставил его расседлать лошадь.
Уже стемнело, и только на горизонте солнце оставило за собой кровавый след. Старая Тьяна вышла из кухни с зажженной керосиновой лампой. Другие женщины заунывно шептали молитвы. Я оставил Мигеля дожидаться Грисельды, а сам пошел за гитарой в каморку Антонио. Там было темно. Я снял с жерди гитару и прихватил с собой двустволку.
Когда женщины окончили молитву, я, уже с пустыми руками, подошел к Грисельде:
— Какой-то мужчина спрашивает вас во дворе.
— Это, наверно, Мигелито! Насчет гитары?
— Да, пусть берет. Отнесите ему гитару. Она здесь, в углу, — сказал я.
Когда Грисельда ушла, я тщетно старался прочесть в глазах Алисии следы сообщничества, но она, сославшись на усталость, отправилась отдыхать.
— Пошли бы поглядеть на восход луны, — предложила мне Себастьяна.
— Что-то не хочется, — ответил я. — Когда будет нужно, я позову тебя.
И я незаметно сунул под плащ бутылку вина. Спокойно, ничем не выдавая своих намерений, я сказал Грисельде, как только она возвратилась:
— Себастьяна может лечь здесь, в зале. Я устрою свой гамак на террасе канея. Хочется подышать свежим воздухом.
— Хорошо придумано. В такую жару не уснешь, — заметила мулатка.
— Если хотите, — предложила хозяйка, — отворите дверь настежь.
При этих словах я почувствовал коварное удовлетворение.
Я пожелал Грисельде спокойной ночи и подчеркнуто добавил:
— Мигель предлагает спеть корридо.[27] Я скоро лягу.
Через несколько минут в ранчо погасили свет.
Я прежде всего проверил, дома ли собаки: вполголоса окликнул их и тщательно осмотрел все закоулки. Пусто! На мое счастье, псов взяли с собой Франко и дон Рафаэль.
Я вошел в каней, направляясь на огонек папиросы Мигеля.
— Мигель, хочешь глоток?
Он возвратил мне бутылку, сплюнув:
— Какой горький ром!
— Скажи, с кем у Барреры свидание?
— Не знаю, с которой из двух.
— С обеими?
— Похоже, что так.
Сердце бешено застучало у меня в груди, в горле пересохло, и я еле выговорил:
— Баррера — порядочный человек?
— Мошенник. Обещает завербованным пеонам любой товар, заставляет расписываться в книге, а потом в счет этого дает разную мелочь и говорит: «Остальное получите у меня на Вичаде». Я уж теперь ни на что не надеюсь.
— А сколько денег ты от него получил?
— Пять песо, а расписку он взял за десять. Посулил мне новый костюм и ничего не дал. И так со всеми. Он уже послал людей в Сан-Педро-де-Аримена, чтобы они приготовили на Муко лодки. Ато Гранде совсем опустел. Даже Хесуса нет, — его старый Субьета послал с запиской к начальству.
— Ну ладно, бери гитару и пой.
— Еще рано.
Мы прождали почти час. Мысль о неверности Алисии приводила меня в ярость, и я, чтобы не разрыдаться, кусал себе руки.
— Вы хотите убить его?
— Нет, нет! Я только хочу узнать, к кому он ездит.
— А если он путается с вашей женой?
— Все равно.
— Но ведь вам это, наверно, неприятно?
— По-твоему, я должен убить его?
— Дело ваше. От меня бы ему не поздоровилось. Спрячьтесь за изгородь, я сейчас стану петь.
Я выполнил совет Мигеля. Минуту спустя он сказал мне:
— Не пейте больше и цельтесь вернее.
Вскоре на листве банановых деревьев появился неверный отблеск лунного света, постепенно разлившийся по всему небу.
Раздались меланхолические аккорды гитары:
Коршун бедную голубку Подстерег и закогтил; Только кровь ее осталась Там, где он ее схватил.Напрягая зрение, я целился то в сторону реки, то в сторону корралей, а то еще куда-то. Резкий крик павлина, сидевшего на коньке крыши, пронизал ночную тьму.
Где-то на степной тропе завыли собаки.
Только кровь ее осталась Там, где он ее схватил.Женщины в комнате зажгли свет. Старая Тьяна показалась на пороге, как привиденье.
— Хватит, Мигель, нинья Грисельда не может уснуть.
Певец умолк и подошел ко мне.
— Я забыл сказать вам, что я обещал подать ему лодку. Когда мы поедем обратно, стреляйте в сидящего впереди. Если не промахнетесь, я брошу его кайманам, и кончены счеты.
Я видел, как он отчалил и поплыл по сумрачной реке, пересеченной неподвижными тенями деревьев. Но вот он вступил в черную полосу заводи, и видно было лишь поблескиванье весла, сверкавшего, как широкий ятаган.
Я ждал до рассвета. Никто не вернулся.
Бог знает, что происходило в это время.
Под утро я оседлал лошадь Мигеля и повесил двустволку на плетень. Грисельда, поливавшая из кувшина цветы, с беспокойством наблюдала за мной.
— Что ты делаешь?
— Поджидаю Барреру, который здесь ночевал.
— Что ты говоришь! Что ты говоришь!
— Слушайте, Грисельда. Сколько мы вам должны?
— Я не понимаю тебя!
— Отлично понимаете. Ваш дом — не для порядочных людей. А вам не пристало валяться на траве в степи, когда дома есть кровать!
— Придержи язык! Ты пьян!
— Только не от вина, которое вам привез Баррера.
— А разве он привез его мне?
— Вы хотите сказать — Алисии?
— Ты не можешь заставить ее ни любить тебя, ни следовать за тобой. Любовь — как ветер: куда захочет, туда и дует.
При этих словах я торопливо сделал несколько глотков из бутылки и схватился за ружье. Грисельда убежала. Я распахнул дверь.
Полуодетая Алисия сидела на кровати.
— Ты понимаешь, что здесь из-за тебя происходит? Одевайся! Едем отсюда! Скорей! Скорей!
— Артуро, перестань, ради бога!
— Я убью Барреру у тебя на глазах!
— Неужели ты способен на такое преступление?
— Не смей плакать! Ты уже и мертвого его жалеешь?
— Боже мой... Помогите!
— Я убью его! Я убью его! А потом тебя, себя и всех остальных! Я в своем уме! Не смей говорить, что я пьян! С ума сошел? Нет! Неправда! Я в своем уме! Остуди жар, который палит мне мозг! Где ты? Пощупай мне голову! Где ты?
Себастьяна и Грисельда старались удержать меня.
— Успокойся, успокойся, ради всего святого! Это я. Ты не узнаешь меня?
Они повалили меня на гамак и хотели связать его края, но я ударами ног разорвал сетку и, схватив Грисельду за волосы, вытащил во двор.
— Сводница, сводница!
И ударил ее кулаком: по лицу Грисельды потекла кровь.
Потом, впав в бредовое состояние, я принялся хохотать. Меня забавляло жужжанье дома, который быстро вертелся, обдавая меня свежим ветром. «Так, так! Пусть он не останавливается, я сошел с ума!» Мне казалось, что я — орел; я размахивал руками и чувствовал, как лечу по воздуху над пальмами и степями. Я хотел опуститься, чтобы схватить Алисию и в своих когтях унести ее в облака, подальше от Барреры и всего дурного. И я поднимался высоко-высоко, в самое небо, солнце жгло мне голову, и я дышал его пламенным светом.
Когда конвульсии прекратились, я попытался встать, но почувствовал, что земля ускользает у меня из-под ног. Держась за стены, я прошел в комнату, которая была пуста. Они сбежали! Мне хотелось пить, и я отхлебнул еще глоток виски. Потом я поднял с пола ружье и приложил холодный ствол к моему разгоряченному лбу. Потрясенный тем, что Алисия покидает меня, я заплакал и, выйдя на крыльцо, воскликнул:
— Ладно, можешь уходить от меня! Я теперь богатый человек. Мне не надо ни тебя, ни твоего ребенка, никого! Пусть этот выродок появится на свет мертвым! Он не мой сын! Уходи с кем угодно! Таких, как ты, кругом полно!
Я разрядил в воздух оба ствола ружья.
— Где Франко, почему он не защищает свою жену? Подходи! Я отомщу за смерть капитана. Убью каждого, кто сунется сюда! Только не Барреру, Барреру — нет, пусть Алисия уходит с ним! Я меняю ее на виски, всего за одну бутылку виски!
И, подобрав недопитую бутылку, я вскочил на коня, вскинул ружье за спину и умчался прочь, оглашая спокойную, равнодушную степь хриплым дьявольским кличем:
— Баррера! Баррера! Вина, вина!
Полчаса спустя пеоны из Ато Гранде заметили мое приближение. Они кричали мне и делали знаки с другой стороны реки. Нахлестывая жеребца, я переправился через указанный мне брод и въехал под крик и шум во двор, расталкивая собравшихся там пеонов.
— Эй! Кто здесь хозяин? Где прячется Баррера? Пусть выходит!
Привязав двустволку к седлу, я соскочил с коня безоружным. Люди недоумевающе смотрели на меня. Некоторые, улыбаясь, переглядывались.
— Эй ты, приятель! Тебе чего надо?
С этими словами обратилась ко мне, подбоченясь, женщина в пестром платье. У нее было грубо намазанной лицо, крашеные волосы, хищный профиль и до странности худые руки.
— Я хочу играть в кости! Играть — и больше ничего! Вот они, фунты, у меня в кармане!
Я бросил несколько монет в воздух, и они покатились по земле.
Из дома послышался скрипучий голос старого Субьеты:
— Кларита, проведи сюда кабальеро.
Скотовод с огромным животом, рыжий и веснушчатый, валялся в гамаке. На нем не было ничего, кроме исподнего белья. Щурясь на нас своими рысьими глазками, он протянул мне пухлую, скользкую руку и со смешком буркнул себе в усы:
— Извините, кабальеро, что я не могу встать.
— Я — партнер Франко, купивший у вас тысячу быков, и, если угодно, могу заплатить за них наличными.
— Все это так, все это так! Но вы должны сами поймать их, потому что мои люди не умеют ездить верхом и ни на что не годны.
— Я достану вакеро с хорошими лошадьми и не дам никому переманить их на Вичаду.
— Вы мне нравитесь. Хорошо сказано!
Я вышел расседлать жеребца и увидел, что Кларита шушукается с моим врагом, подавая ему умыться из кувшина. Заметив меня, они скрылись за домом.
— Какой вор подобрал мое золото?
— Попробуй отними, — ответил один из людей Барреры, в котором я узнал человека с винчестером, пытавшегося ограбить дона Рафаэля. — Теперь можно расквитаться за прежнее. Только тронь меня, собака!
Он угрожающе выступил вперед, оглядываясь в ту сторону, где скрылся его хозяин, точно ожидая приказа. Не дав ему опомниться, я свалил его с ног ударом кулака.
Подбежал Баррера.
— Что случилось, сеньор Кова? Идите сюда! Не обращайте внимания на пеонов! Такой кабальеро, как вы...
Побитый пеон сел на пороге, не спуская с меня глаз и утирая кровь, которая сильно текла у него из носа.
Баррера грубо набросился на него:
— Невежа, нахал! Сеньор Кова хорошо сделал, что проучил тебя!
Но, пока Баррера приглашал меня пройти на террасу, обещая, что золото будет мне полностью возвращено, пеон расседлал мою лошадь, спрятал двустволку, — и я совсем забыл о ней. Челядь в кухне обсуждала происшедшее.
Когда мы входили к старику, Кларита, вероятно, рассказывала ему о том, что произошло. Увидев меня, они замолчали.
— Вы сегодня же возвращаетесь обратно?
— Нет, милейший Субьета. С какой стати! Я приехал пить и играть, плясать и петь!
— Мы не заслужили такой чести, — вставил Баррера. — Сеньор Кова — гордость нашей страны.
— Почему гордость? — спросил старик. — Умеет он ездить верхом? Умеет бросать аркан? Умеет валить быков?
— Да, да! — вскричал я. — Все что вам угодно!
— Вот это мне нравится, вот это мне нравится! — И Субьета потянулся к лежавшей под гамаком шкуре ягуара. — Кларита, подай нам бренди, — произнес он, указывая на графин.
Баррера, чтобы не пить, вышел на террасу и вскоре вернулся, протягивая мне пригоршню золота:
— Это — ваши деньги.
— Нет, не мои! Теперь они принадлежат Кларите.
Женщина взяла деньги и поблагодарила меня:
— Берите с него пример! Приятно встретить настоящего кабальеро!
Субьета задумался. Потом он велел придвинуть стол и, когда мы выпили несколько стаканчиков, указал на мешочек, свешивавшийся с прибитого к противоположной стене рога:
— Кларита, дай-ка нам зубки святой Полонии.
Кларита высыпала кости на стол.
Несомненно, моя новая подруга помогла мне этой ночью в плебейской, до сих пор неведомой мне игре. Я небрежно бросал кости, и они иногда падали под гамак. Тогда старик, хохоча и кашляя от табачного дыма, спрашивал:
— Кто выиграл? Я выиграл?
А Кларита, освещая пол фонарем, отвечала:
— Выпали две шестерки. Ему везет.
Баррера, притворяясь, что верит женщине, подтверждал ее слова, но то и дело подливал нам бренди. Пьяная Кларита украдкой жала мне руку; захмелевший старик мурлыкал себе под нос непристойную песню; мой соперник иронически улыбался мне сквозь дрожащий свет фонаря; я полусознательно повторял цифры ставок. В комнате было душно. Пеоны, столпившись в дверях, с интересом следили за игрой.
Когда я оказался хозяином почти всей кучки бобов, условно заменявших деньги, Баррера предложил мне сыграть на все и высыпал золото из жилетного кармана.
— Иду на половину — сто быков! — крикнул старик, ударяя кулаком по столу.
Тут я заметил, как мой враг жмет ногу Клариты, и почуял, что готовится мошенничество.
Счастливо пришедшая мне в голову фраза склонила женщину на мою сторону:
— Если выиграю — половина твоя.
Кларита жадно протянула руки над горкой бобов. Рубин на ее кольце загорелся кровью.
Субьета проклял судьбу, когда я обыграл его.
— Теперь с вами, — обратился я к Баррере, стуча костями.
Баррера со спокойным видом взял кости и, пока встряхивал их, подменяя другими, пытался отвлечь наше внимание низкопробными остротами. Но как только он высыпал кости на стол, я тут же схватил их:
— Негодяй, ты подменил кости!
Вспыхнула ссора, и лампа покатилась на пол. Крики, угрозы, ругательства... Старик вывалился из гамака, взывая о помощи. Впотьмах я наносил удары кулаком направо, и налево, туда, где мне слышался человеческий голос. Кто-то выстрелил, залаяли собаки, под напором убегающих людей дверь с шумом открылась, и я захлопнул ее пинком, не зная, кто остался в комнате.
Баррера кричал во дворе:
— Этот бандит приехал сюда, чтобы убить меня и ограбить сеньора Субьету! Он еще вчера подстерегал меня! Спасибо Мигелю, что предотвратил преступление и сообщил мне о засаде! Хватайте негодяя! Убийца! Убийца!
Я из-за двери осыпал его бранью, а Кларита, удерживая меня, умоляла:
— Не выходи, не выходи, тебя изрешетят пулями!
Старик в ужасе вопил:
— Зажгите свет, я харкаю кровью!
Когда кто-то помог мне задвинуть засов, я почувствовал, что моя левая рука в крови. Меня ранили ножом.
В запертой комнате с нами оставался еще какой-то человек, он вложил мне в руки винчестер. Почувствовав прикосновение чьей-то руки, я хотел схватить этого человека, но он прошептал:
— Не трогайте меня! Я кривой Мауко, общий друг!
Снаружи ломились в дверь, а я, перебегая с места на место, просверливал доски пулями, освещая комнату вспышками выстрелов. Наконец, штурм прекратился. Мы остались в зловещей тишине, и я стал напряженно прислушиваться к каждому шороху. Затем осторожно припал глазом к пробитому пулей отверстию. Светила луна, двор был пуст, но временами, неизвестно откуда, доносились голоса и смех.
Боль от раны и опьянение свалили меня с ног. Я истекал кровью, сам не знаю сколько времени, а Субьета и Мауко, забившись в угол, тревожно переговаривались:
— Он при смерти, наверно.
— Воды, воды! Меня ранили! Умираю от жажды, — стонал я.
Под утро они отперли дверь и оставили меня одного. Совсем ослабевший, я проснулся от крика Субьеты, ругавшего нерадивых пеонов, которые не пожелали прийти на помощь хозяину в ночной свалке.
— Спасибо приезжему, — повторял он, — а то бы мне не пришлось об этом рассказывать. Мошенник Баррера подменил кости и обыграл меня. Одна кость упала под стол. Вот, можете убедиться. Она налита ртутью.
— Мы боялись нос высунуть, кругом стреляли.
— А кто ранил Кову?
— Кто его знает!
— Подите скажите Баррере, чтобы духу его здесь не было. У него есть свои палатки — пусть там и живет. Если он не знает дороги, приезжий покажет ее своим ружьем.
Кларита и кривой Мауко явились с котелком горячей воды помочь мне. Они разрезали рукав рубашки, чтобы снять ее с меня, не беспокоя вспухшую руку, а потом, намочив присохшую ткань, обнажили рану, маленькую, но глубокую, задевшую мускулы предплечья. Они промыли рану водой, и, прежде чем приложить припарку, кривой с ритуальной торжественностью объявил:
— Тише, сейчас я буду молиться.
Я не без любопытства наблюдал за этим человеком с землистым лицом, дряблыми щеками и посиневшими губами. Он аккуратно положил на пол свой посох, а на него — засаленную шляпу с обтрепанными полями, вместо ленты перевязанную веревкой из питы. Сквозь лохмотья виднелось отекшее тело, живот вываливался из штанов. Он обернулся к дверям, моргая своим единственным глазом, и заворчал на столпившихся ротозеев:
— Это вам не шутка! Если не верите в заговор, убирайтесь, иначе он потеряет силу!
Зеваки набожно застыли на месте, точно в церкви, после чего старый Мауко, проделывая в воздухе магические жесты, прошамкал надо мной «молитву праведного судьи».
Выполнив обряд, он подобрал шляпу и палку и сказал мне, наклоняясь над бычьей шкурой, на которой я лежал:
— Не давайте болезни сломить себя. Я вас мигом вылечу. Осталась еще одна молитва.
Я вопросительно посмотрел на Клариту, словно спрашивая ее взглядом, действительно ли заговор Мауко обладает чудотворной силой. Кларита слепо верила в заговор и фанатически почитала Мауко. Чтобы рассеять мои сомнения, она убеждала меня:
— Что ты, что ты! Мауко знает медицину. Он заговаривает гнойные раны и выводит червей. Он лечит людей и скот.
— Не только это, — прибавил урод. — Я знаю много молитв на каждый случай жизни: чтобы найти пропавший скот или клад, чтобы сделаться невидимым для врага. Когда меня хотели забрать в рекруты и послать на большую войну, я превратился в банановое дерево. Однажды меня схватили прежде, чем я успел дочитать молитву, и заперли в комнате на два поворота ключа, но я превратился в муравья и вылез в щель. Если бы не я, кто знает, чем кончилась бы вчерашняя потасовка. Я тут же превратился в пар и затуманил людям глаза. Как только я узнал, что вы ранены, я прочел молитву об исцелении, и кровь остановилась,
Мной постепенно овладевали оцепенение и сонливость. Голоса удалялись от меня, глаза застилала тень. Мне казалось, что я проваливаюсь в глубокий колодец и никак не могу достигнуть его дна.
Чувство злопамятства заставляло меня гнать мысли об Алисии, виновнице всего происшедшего. Если во всех этих злоключениях я и был виноват, то тем, что я не был строг с Алисией, не сумел любой ценой подчинить ее своей власти и своей любви. Такими безрассудными размышлениями я отравлял свою душу и бередил сердце.
Действительно ли она была мне неверна? До какой степени Баррера сумел вскружить ей голову? Действительно ли он соблазнил ее? Как смог он подчинить ее своему влиянию? Когда она виделась с ним? Не были ли намеки Грисельды простой хитростью, рассчитанной на то, чтобы клеветой на Алисию склонить меня на свою сторону? Возможно, я был груб и несправедлив, но Алисия должна была простить меня — хоть я и не просил у нее прощения, — потому что я принадлежал ей целиком со всеми своими достоинствами и недостатками. Оправдывало меня и то, что безумие мое было вызвано венгавенгой. Разве, будучи в здравом рассудке, я давал Алисии повод жаловаться на что-нибудь? Почему же она не едет сюда?
Мне чудилось временами, что она подходит ко мне в шляпе с длинными перьями и, рыдая, протягивает руки:
«Какой злодей ранил тебя? Почему ты лежишь на полу? Почему тебе не дадут кровати?» И, обливая мое лицо слезами, она опускалась на пол рядом со мной, клала мою голову на свои дрожащие колени, откидывала со лба мои волосы нежной, любящей рукой.
Галлюцинируя, я тянулся к Кларите, но, приходя в себя и узнавая ее, отстранялся.
— Почему ты не хочешь положить голову ко мне на колени? Хочешь еще лимонада? Сменить тебе повязку?
Временами с террасы доносился нетерпеливый кашель Субьеты:
— Кларита, уйди оттуда, больному и без тебя жарко. Он тебе не муж.
Кларита пожимала плечами.
Почему эта доступная каждому женщина, продажная тварь, голодная и бездомная волчица, заботилась обо мне? Какое чудо очищало ее душу, когда она со стыдливой нежностью сдавалась на мои ласки, как любая порядочная женщина, как Алисия, как все, кто меня любил.
Как-то раз она спросила, сколько у меня осталось денег. Их было немного, и я отдал ей все. Она спрятала их на груди. Когда кругом никого не было, она шепнула мне на ухо:
— Субьета должен тебе двести пятьдесят быков, Баррера — сто фунтов, и я спрятала двадцать восемь.
— Кларита, ты мне сказала, что я выиграл в кости честно. Все это — твое за то, что ты так добра ко мне.
— Что ты говоришь, милый! Ты думаешь, я ухаживаю за тобой ради денег? Я просто хочу вернуться на родину, попросить прощения у родителей, состариться и умереть возле них. Баррера обещал оплатить мне дорогу до Венесуэлы и теперь помыкает мной, как рабыней. Субьета говорит, что хочет на мне жениться и уехать со мной в Сьюдад Боливар к моим старикам. Я поверила этому обещанию и пьянствовала с ним почти два месяца, потому что он заладил одно: «Что должна делать моя жена? Пить со мной!»
В эти края завез меня венесуэльский полковник Инфанте, командир повстанческого отряда, захватившего Кайкару. Меня разыграли в карты, как вещь, и я досталась некоему Пуэнтесу, но Инфанте выкупил меня при расчете. Когда его разгромили и ему пришлось бежать, он завез меня в Колумбию, а потом бросил.
Третьего дня, когда ты примчался верхом с ружьем у седла, сдвинув шапку на затылок, и начал расталкивать толпу, я подумала: «Вот это настоящий мужчина!» А затем узнала, что ты поэт, и полюбила тебя.
Мауко приходил заговаривать рану, и я благоразумно притворялся, что верю в его молитвы. Он садился возле меня, жевал табак, отгрызая его от пачки, похожей на кусок сухого мяса, и звучно сплевывал на пол. Потом он докладывал мне о Баррере:
— Баррера лежит в палатке, его трясет малярия. Он спрашивал меня, до каких пор вы останетесь здесь. Бог вас знает, чем вы ему досадили.
— Почему Субьета не возвращается на свой гамак?
— Субьета человек осторожный, он опасается новой драки и поэтому спит, запершись на кухне.
— А Баррера не ездил в Мапориту?
— У него жар, он не встает.
Эти слова успокоили меня, — я ревновал Алисию и даже Грисельду. Но что с ними? Как отнеслись они к моему поступку? Когда они приедут за мной?
В первый же день, когда я настолько окреп, чтобы встать, я подвязал руку платком и вышел на террасу. Кларита тасовала карты около гамака, на котором отдыхал старик. В доме, крытом соломой, недостроенном и невероятно грязном, жить можно было только в той комнате, где я лежал. Вход в кухню с почерневшими от сажи стенами преграждала лужа, образовавшаяся от помоев, усердно выливаемых кухарками, одетыми в грязное тряпье. Во дворе, немощеном и неубранном, сушились на солнце облепленные жужжащими мухами шкуры освежеванных коров, и ворон отрывал от них кровавые клочья. В бараке для пеонов сидели на жердочках привязанные бойцовые петухи, а на полу возились собаки и поросята.
Никем не замеченный, я подошел к воротам. В корралях, за крепким частоколом, изнывали от жажды быки. За домом, на расстеленном прямо в грязи плаще спали несколько пеонов. Неподалеку, на берегу реки, виднелись палатки моего соперника, а на горизонте, там, за Мапоритой, терялась вдали темная полоска леса... Алисия, наверно, думала обо мне!
Кларита, увидев меня, подбежала ко мне с белым муаровым зонтиком.
— Солнце может повредить твоей ране. Уходи в тень. И больше не делай таких глупостей.
Она улыбалась, сверкая золотыми зубами. Кларита намеренно говорила громко, и старик, услышав ее голос, приподнялся на гамаке:
— Вот это мне нравится! Молодым людям не следует долго валяться в постели!
Я подошел к нему, сел на прясло и задал ему давно обдуманный мною вопрос:
— Почем вы думаете продать нам скот?
— Какой?
— Который мы покупаем с Франко.
— С Франко я, собственно говоря, ни о чем не договаривался. Ранчо, которое он предлагает в залог, ничего не стоит; но если вы платите наличными, сначала поймайте быков, коли у вас есть лошади, а потом уж определим цену.
Кларита перебила старика:
— А когда ты отдашь сеньору Кове проигранные двести пятьдесят голов скота?
— Что? Какие двести пятьдесят голов?
Субьета приподнялся в гамаке:
— А чем бы вы заплатили в случае проигрыша? Покажите мне, сколько у вас с собой фунтиков.
— Это еще что? — перебила женщина. — Будто ты — один богач на свете? Проиграл — плати!
Старик вцепился руками в петли гамака. Вдруг он предложил:
— Завтра воскресенье, дайте мне отыграться на петушиных боях.
— Идет!
«Досточтимый сеньор Кова!
Какой ужасной силой обладает вино, лишая человека рассудка и толкая его на бесчинства и преступления! Как мог я, обладая столь кротким характером, завязать ссору и, потеряв власть над языком, оскорблять грубыми словами ваше достоинство, тогда как ваши заслуги побуждают меня быть вашим покорным слугой и гордиться этим?
Если бы я мог публично броситься к вашим ногам, умоляя вас растоптать меня, прежде чем вы простите мне позорящее меня самого оскорбление, то, поверьте, я немедленно вымолил бы у вас эту милость, но, поскольку я не имею права предложить вам даже такое удовлетворение, то, лежа здесь, обессиленный и больной, я проклинаю свой поступок, который, к счастью, не мог ничем запятнать вашу заслуженную славу.
Меня настолько унизило мое безрассудство, что вас не очень удивит, если я, не дожидаясь, пока вы удостоите меня своим благорасположением, осмелюсь обратиться к вам как самый обыкновенный торгаш к парящему в облаках поэту с предложением вульгарной коммерческой сделки. Дело в том, простите меня за смелость, что наш общий друг, сеньор Субьета, задолжал мне значительную сумму и оплатил этот долг скотом, находящимся в одном из его корралей, на что я дал свое согласие, исходя из предположения, что скот этот может понадобиться вам. Осмотрите его и, если вы соблаговолите дать за него какую-либо цену, будьте уверены, что я предпочту всякой выгоде возможность быть вам полезным.
Раболепно целует ваши ноги,
ваш недостойный почитатель,
Баррера».Это письмо было вручено мне в присутствии Клариты. Мальчишка, принесший его, заметив, как я побелел от гнева, осторожно попятился назад, не дожидаясь ответа.
— Скажи этому мерзавцу, что, когда я встречусь с ним один на один, я отблагодарю его за такую лесть.
Кларита между тем перечитывала бумажку.
— Он ничего не говорит ни о том, сколько он тебе должен, ни о ране кинжалом, ни о выстреле, — а ведь это он тебя ранил. В тот день, как только он увидел тебя, он приготовил револьвер и смазал стилет. За Мильяном, тем самым, которого ты ударил во дворе, гляди в оба: Баррера поручил ему убить тебя. А знаешь ли ты, что Субьета ничего не должен вербовщику? Баррера дал ему на хранение золото, уверенный в том, что я его украду, но старик зарыл деньги, а после, как тебе известно, Баррера обыграл его в кости. Баррера каждое утро спрашивает меня: «Откопала желтенькие? Я дам тебе из них на дорогу. Ты, должно быть, раздумала возвращаться на свою распрекрасную родину». У этого человека ужасные планы. Если бы тебя здесь не было...
— Дай мне письмо, я хочу показать его старику.
— Не говори Субьете ни слова, он хитрый. Он боится Барреры и, чтобы умилостивить вербовщика, уступил ему быков, загнанных в корраль, но, чтобы Баррера не мог увести их, велел спрятать лошадей. Старик еле-еле согласился дать Баррере напрокат несколько самых заезженных кляч и во все стороны разослал нарочных объявить, что в этом году он никому скота не продает. Баррера узнал об этом. Тогда Субьета притворился, будто заключает сделку с Фиделем Франко, но не предупредил Фиделя, что это простая уловка с целью одурачить Барреру.
— Значит, он не продаст нам ни одной головы скота?
— Похоже, что к тебе он расположен.
— А как мне заставить его продать скот?
— Очень просто. Выпустить стадо Барреры. Его только напугать — и оно разнесет коррали.
— Ты мне поможешь сегодня ночью в этом деле?
— Конечно. Стоит мне в этом белом платье показаться у ворот, и быки взбесятся. Но надо сделать так, чтобы они не затоптали насмерть пеонов, которые сторожат корраль. На наше счастье, ребята рано уходят спать.
— А нас не заметят?
— Ни в коем случае. Люди, еще не завербованные Баррерой, уходят в его лагерь играть в карты, как только старик запрется в кухне. Я тоже пойду к Баррере для отвода глаз, а ты в условленное время жди меня на террасе с ягуаровой шкурой, что лежит у Субьеты в зале под гамаком. Мы проберемся к корралю, спрячемся за бананами и будем махать шкурой над изгородью. А если нас кто-нибудь увидит потом, то подумает, что мы прибежали на шум.
Затаив в душе жажду мщения, я испытывал чувство человека, спрятавшего на груди скорпиона: каждую минуту скорпион пробуждался и вонзал в меня жало.
Когда тень уже пала на луга, возвратились вакеро со стадом. Они выгоняли его на вечернее пастбище, в густые заросли пырея, где быки, утоляя жажду в неподвижных озерках, сгоняли с поверхности воды отражение первых звезд. Впереди ехал вакеро-вожак, напевая в такт ходу своей кобылы нехитрую мелодию, заставляющую одичалый скот повиноваться человеку. За ним шли группами быки с огромными рогами на могучих головах, величественные даже в неволе; минутами в их сонных глазах внезапным огнем загоралась ярость. Сзади и по бокам громадного, точно во сне шагавшего стада под монотонное посвистывание ехали двумя вереницами пеоны.
Вакеро с привычной сноровкой загнали быков в корраль, не дав им разбрестись. Еле слышен был унылый напев вожака, действующий на скот сильнее, чем звуки рожка на горных пастбищах моих родных мест. Пеоны заложили ворота слегами, привязав их к столбам сыромятными ремнями. А когда стемнело, вокруг корраля, чтобы успокоить животных, зажгли костры из кизяка; быки как завороженные смотрели на огонь и дым, мирно пережевывая жвачку под звездным шатром.
Я тем временем обдумывал наш ночной план, борясь со страхом, от которого холодело в висках и морщинился лоб. Уверенность в успехе мести, в возможности причинить зло врагу мрачным огнем зажигала мои глаза, будила мысль и подогревала решимость.
В восемь часов вечера кривой Мауко потребовал потушить костры — у него не засыпали бойцовые петухи. Никто не захотел погасить огонь, и кривой принес петухов в мою комнату.
— Разрешите оставить их у вас на ночь. Это хорошие петухи, но если они не выспятся, они никуда не будут годны!
Вскоре усадьба погрузилась в тишину. Лампы, горевшие в палатках, отбрасывали в степь полосы света.
Кларита возвратилась навеселе.
— Смелее за мной!
Мы пробрались к ограде корраля сквозь банановые заросли. Огромное стадо мирно дремало. Снаружи фыркали лошади сторожей. Кларита, взобравшись на изгородь, взмахнула шкурой ягуара, оранжевой с черными пятнами.
Стадо мгновенно всколыхнулось, как стремительно набежавшая волна прилива. Сталкиваясь в испуге рогами, быки теснились к забору. Несколько животных разбились грудью о ворота и были затоптаны копытами. Сторожа запели, седлая лошадей, и стадо на минуту замерло, но затем опять заколыхалось бурными волнами. Ворота затрещали, раздался рев, топот, стук рогов. И как лавина с головокружительной быстротой обрушивается с гор, выворачивая с корнем деревья, так разъяренное стадо повалило изгородь своей тюрьмы с грохотом землетрясения, с ревом бушующего моря и рассеялась по степи, приводя в трепет ночную тьму.
Сбежавшиеся женщины и пеоны с фонарями звали на помощь. Из дома доносились крики Субьеты, который, не понимая, что происходит, боялся отпереть дверь. Собаки умчались вслед за стадом; в страхе клохтали куры; коршуны, взлетев над сейбой, рассекали воздух неровными кругами.
В воротах корраля остались десять раздавленных быков, а поодаль — четыре лошади. Кларита вернулась и рассказала мне все эти подробности, умоляя молчать о нашем сообщничестве.
Когда я положил шкуру ягуара на прежнее место, вся степь еще продолжала гудеть.
На следующий день меня разбудили разговоры о ночном происшествии и вопли старика, прикрывавшего руганью свое злорадство:
— Проклятая жизнь! Я не виноват, что стадо взбесилось. Скажите Баррере, пусть ловит его, если найдет вакеро и лошадей. Но прежде пусть он заплатит мне за погибших коней! Проклятая жизнь!
— Сеньор Баррера собирается переговорить с вами насчет вчерашнего.
— Пусть и носа сюда не показывает, приезжий не расстается с оружием, и я не хочу больше неприятностей в моем имении.
— Мне сдается, — заметил кто-то, — что это душа покойного Хулиана Уртадо явилась в корраль и напугала стадо. Один из сторожей видел над частоколом белую фигуру с той стороны, где, как говорят, был зарыт Уртадо.
— Все возможно.
— Да, он как-то ночью явился к нам с фонариком в руке, там, где начинается степь; он шел, не касаясь ногами земли.
— А почему вы не спросили у него божьим именем, чего ему надобно?
— Потому что он погасил свет, а мы чуть с ума не спятили от страха!
— Бандиты! — проворчал Субьета. — Так, значит, это вы рылись под рожковым деревом? Жалко, я не влепил вам тогда пулю в спину. Несчастные бродяги!
Когда я вышел во двор, там толпилось много народу, но Барреры не было. Притворяясь ничего не знающим, я прошел в корраль, где несколько человек свежевали раздавленных быков.
— Не помогло даже то, — говорил один, — что я пустил коня во весь опор, обогнал стадо и запел, чтобы успокоить быков. Я ускакал очень далеко, и если б не мой конь, меня бы раздавили.
Несколько минут спустя, возвращаясь в дом Субьеты, я увидел, что возле канея Кларита продает собравшимся ром, разливая его из выдолбленной скорлупы кокосового ореха. Здесь было несколько неизвестных мне людей; из-под плащей у них кричали петухи. Хозяева петухов спорили, заключая пари, точили бойцам шпоры или, набрав в рот водки, опрыскивали им бока, приподняв крыло. Ярко оперенные птицы вызывающе поглядывали друг на друга и, злобно нахохлившись, скребли когтями землю. Субьета вошел под навес, взял уголь и начертил на полу неровный круг. Он сел на свое обычное место, прислонившись к столбу, глотнул из бутылки и предложил, с жестким смешком:
— Ставлю сто быков за красного против желтого.
Кларита, высунувшись из-за группы людей, кивала мне головой, давая понять, что пари заключать не надо. Но я с высокомерной небрежностью выступил вперед.
— Я выбираю петуха и ставлю двести пятьдесят голов скота, которые выиграл у вас в кости!
Старик сделал вид, что не слышит.
Тогда кто-то крикнул, показывая сжатый кулак:
— Идет! Десять быков против золота, которое у меня в руке, или против того, что у меня зашито в поясе?
Субьета отказался. Вакеро упрямо настаивал:
— Смотрите, хозяин, — это «орлы» и «королевы», вы зароете их в банановой роще!
— Чепуху плетешь! Но, если золото чистой пробы, я обменяю тебе его на бумажки.
— Нет, так дело не пойдет.
— Дай-ка мне монету, я проверю, не фальшивая ли она.
Старик осмотрел монету со всех сторон жадными глазами, пощупал, звякнул ею и, попробовав на зуб, воскликнул;
— Идет! Ставлю против желтого!
— Но с условием, чтобы кривой Мауко ушел отсюда, иначе он может заговорить петуха.
— Как это я могу заговорить? — протестовал кривой.
Но Мауко заставили выйти из круга, и, как он ни ворчал, его заперли в кухне.
Владельцы петухов взяли их в руки, обсосали им когти и к всеобщему удовольствию натерли шпоры лимоном. Затем по команде судьи поставили птиц на арену.
Хозяин красного петуха, присев на корточки, закричал:
— Ура, петушишка! Глаз красный, клюв опасный, шпоры — шилья, крепкие крылья, грудь колесом, гребень торчком, дерись до смерти, пока не взяли черти!
Петухи гневно оглядывали друг друга, нахохлившись и клюя пол; яркое оперенье на их шеях играло всеми цветами радуги. Они одновременно взлетели, сверкнув в голубом полусвете, и набросились один на другого, старательно увертываясь от удара в голову шпорой или крылом. Под крики зрителей, повышавших ставки, они сшибались в воздухе, сцеплялись в клубок, яростно хрипели, и туда, куда впивался клюв, вонзались в бешеном порыве шпоры; летели перья; капала горячая кровь; звенели монеты, падая на арену; люди восторженно хлопали в ладоши, и желтый петух упал с пробитым черепом, вздрагивая под лапой красного, а тот выпрямился над телом умирающего противника, триумфальным кукареканьем возвестив победу.
В этот момент я услышал конский топот, оглянулся и побледнел: в ворота въезжало несколько всадников во главе с Фиделем.
Появление всадников взволновало не только меня, но и Субьету. Ковыляя им навстречу, он спросил:
— Куда держите путь, ребята?
— Не дальше, чем сюда, — ответил, спешиваясь, Франко.
И он порывисто обнял меня.
— Какие новости в моем ранчо? Что у тебя с рукой?
— Так, пустяки! Разве ты не из Мапориты?
— Мы прямо с Таме, но я еще вчера велел мулату Корреа заехать домой, вызвать тебя сюда и пригнать лошадей. Дон Рафаэль передает тебе привет. У него, слава богу, все в порядке. Где нам расседлать коней?
— Здесь, под навесом, — неохотно ответил Субьета. И он крикнул игрокам: — Убирайтесь отсюда с вашим барахлом, мне нужно помещение.
Хозяева забрали своих петухов и в сопровождении зрителей, бренчавших на гитарах и мараках,[28] направились к палаткам Барреры. Вакеро расседлали лошадей.
— Правда, что вчера взбесился скот?
— А ты откуда знаешь?
— Мы с утра встречали разбежавшихся далеко по степи быков. И подумали: либо взбесились, либо напали индейцы! Но когда мы проезжали мимо корралей...
— Да! Баррера упустил свое стадо. Не знаю, что он будет делать без лошадей...
— Мы взялись бы поймать столько голов, сколько ему угодно, если он заплатит, — ответил Франко.
— Я не позволю больше гонять скот по моим лугам. Я не виноват, что быки бесятся, — возразил Субьета.
— А я только хотел сказать, что мы с завтрашнего дня начинаем ловить купленных быков...
— Я не подписывал контракта и не помню никаких сделок!
И Субьета топнул ногой.
Когда старик опять забрался на гамак, пришел хозяин желтого петуха.
— Извините, что помешал вам...
— Выкладывай-ка сюда проигрыш.
— Я об этом и хотел поговорить: моего петуха свели с ума, его обкормили хиной; кривой Мауко еще вчера купил у Барреры порошков, а вы сами начинили ими кукурузные зерна. Сеньор Баррера велел мне играть против вас, несмотря ни на что; он хотел доказать, что и вы играете нечестно и не имеете права позорить его перед сеньором Ковой.
— Это вы после уладите, — вмешался Франко, дергая за рукав обозлившегося старикашку. — Для меня важно сейчас, чтобы вы сказали толком о нашей сделке. Вы ошибаетесь, если думаете, что со мной можно шутить!
— Ты хочешь убить меня, Франкито?
— Я приехал забрать проданный мне скот и для этого нанял вакеро. Я угоню его любой ценой, а если нет, — пусть черт заберет нас обоих!
Вакеро, падкие на скандал, обступили гамак. Субьета, заметив их, закричал:
— Сеньоры, будьте свидетелями, что меня шантажируют.
Он заморгал слезящимися глазами и помертвел от страха, увидев в руках Франко револьвер.
— Заступитесь, сеньор Кова! Я заплачу вам за проигранных быков. Не говори со мной так, Франкито! Мне страшно!
Хозяин петуха сентенциозно заметил:
— Справедливость — так уж для всех! Заплатите сеньору Баррере, и дело с концом. Он собирается на Вичаду, и на вас падает ответственность за убытки и задержку отъезда.
Услышав это, Субьета снова разозлился и закричал, спрятавшись за нашими спинами:
— Мерзавец, шулер! Или ты забыл, с кем говоришь? Хочешь, чтобы тебя выгнали взашей? Нечего равнять себя с этими кабальеро: они мои клиенты и дорогие друзья! Скажи своему Баррере, что я плюю на него, мои друзья не дадут меня в обиду!
Когда Франко увидел мою рану и я рассказал ему о происшедшем, он схватил винчестер и бросился искать Барреру. Кларита остановила его во дворе.
— Что ты хочешь делать? Мы уже отомстили.
И она рассказала Фиделю, почему взбесился скот. Видя решимость, с какой этот преданный мне человек рисковал ради меня жизнью, я, охваченный угрызениями совести, почел за долг признаться ему в том, что случилось в Мапорите.
— Франко, — сказал я ему, — я недостоин твоей дружбы. Я избил Грисельду.
Он растерянно произнес:
— Она чем-нибудь вас обидела? Твою жену? Тебя?
— Нет, нет! Я напился и оскорбил их обеих без всякого повода. Вот уже неделя, как я оставил их одних. Застрели меня!
Кинув винчестер на землю, Фидель бросился в мои объятия:
— У тебя были на это основания, а если нет, то все равно.
И мы расстались, не произнеся больше ни слова.
Кларита схватила меня за руку:
— Почему ты не сказал мне, что у тебя есть жена?..
— Потому что нам с тобой не пристало говорить о ней.
Кларита на минуту задумалась. Опустив глаза, она теребила шнурок от ключа.
— Возьми свое золото!
— Я подарил тебе его, а если ты не принимаешь подарка, оставь себе эти деньги как плату за твои заботы обо мне во время болезни.
— Лучше бы тебе умереть тогда!
Кларита убежала в кухню, где музыканты пили гуарапо.[29] Оттуда она крикнула намеренно громко, так, чтобы я слышал:
— Передайте Баррере, что я еду с ним!
И, скрывая свою досаду, принялась под шутки и аплодисменты пеонов так лихо отбивать чечетку, что подол ее юбки взлетал выше колен.
Сердце мое, освобожденное от муки беспокойства, забилось вольнее. Меня огорчало лишь то, что я обидел Алисию; но какой сладкой была мысль о примирении, сладкой, как аромат трав, как первый проблеск зари! От всего нашего прошлого останутся в памяти только невзгоды, потому что душа человека, подобно ветвям дерева, не сохраняет следа былых цветений; сохраняются лишь раны, рассекшие кору. Нам суждено достигнуть предела и в счастье и в несчастье, а потом, если судьба и разделит наши пути, нас сблизят воспоминания при виде терниев, похожих на те, какие ранили нас когда-то, далей, подобных тем, какие открывались нашим взорам, пока нам грезилось, что мы любим друг друга, что наша любовь бессмертна.
Мне даже хотелось остаться навсегда в этих влекущих к себе саваннах, жить с Алисией в уютном домике, который я построю собственными руками на берегу темноводной реки, на одном из зеленых холмов, увенчанных пальмами, или у прозрачного пруда. Вечерами к дому будут собираться стада, а я, покуривая на пороге, словно первобытный патриарх, с душой, смягченной грустной прелестью пейзажа, буду смотреть, как исчезает солнце за далеким горизонтом, где рождается ночь, и, свободный от тщетных стремления, от обмана эфемерных успехов, ограничу пределы своих желаний тем, что видят мои глаза, буду наслаждаться крестьянским трудом, моей созвучностью с природой.
К чему города? Быть может, источник моего поэтического вдохновения — в тайне нетронутых лесов, в ласке свежего ветерка, в неведомом языке вещей, в том, что говорит скале, прощаясь, убегающая волна, в том, что говорит румяная заря озерам, в том, что говорит звезда хранящим торжественное молчание небесам. И мне хотелось остаться вместе с Алисией здесь, в этих льяносах, состариться, любуясь на юность детей, следить за уходящими днями, чувствовать душевное успокоение среди полных буйного сока столетних деревьев, пока мне не придется заплакать над ее трупом или ей над моим.
Франко решил, что мне нельзя выезжать в степь — я растравлю себе рану, и может начаться гангрена. Да и лошадей мало, лучше предоставить их опытным вакеро. Последний довод горько обидел меня.
Пятнадцать всадников выехали из Ато Гранде в два часа утра, выпив обычную порцию черного кофе. К седлам, с правой стороны, были привязаны свернутые арканы, одним концом прикрепленные к хвосту скакуна. Ноги вакеро были прикрыты байетонами, служившими защитой в частых стычках с быками, а на поясах висели зубчатые ножи для спиливания рогов. Франко оставил мне револьвер, но привязал к луке седла свой винчестер.
Я вскоре опять уснул. Если бы я знал, что мне готовит судьба!
Вскоре, после восхода солнца, вернулся мулат Корреа, ведя за собой лошадей дона Рафаэля. Я вышел ему навстречу, по направлению к палаткам Барреры, и разглядел издали, что Баррера бреется. Кларита, сидя на чемодане, держала перед ним зеркало. Не отвечая на их приветствие, я вскочил на круп коня мулата, и мы вместе въехали в корраль.
— Видел Алисию? Что она просила передать?
— Я не мог ее видеть, она плакала, запершись в своей комнате. Грисельда прислала вам узел со сменой белья. Она каждую минуту выходит посмотреть, не едете ли вы. Собрала вещи и говорит, что сегодня они обе будут здесь.
Эта весть наполнила мою душу радостью. Наконец-то Алисия вспомнила обо мне!
— Они приедут в лодке?
— Нет, хозяйка велела оставить трех лошадей.
— А обо мне спрашивали?
— Мама говорит, что вы лишнего наговорили о них хозяину.
— А знают они о моей ране?
— Разве что-нибудь случилось? Вас ранил бык?
— Так, царапина. Уже все прошло.
— А где моя двустволка?
— Твоя двустволка? Наверно, вместе с моим седлом в лагере Барреры. Поди спроси там.
Когда я остался один, мучительное сомнение овладело мной: не бывал ли Баррера в Мапорите? Я приставил Мауко днем и ночью следить за ним, но правду ли говорит мне кривой? И тут же я подумал: «Баррера прихорашивается, потому что ему известно о приезде Алисии. Возможно, что так, а может быть — и нет».
Но Алисия знает, как себя вести. Кроме того, Баррера боится меня. Нет, я должен прогнать эту мысль и отдаться радости близкого свидания! Если Алисия захотела вернуться ко мне — значит, она все еще любит меня и хочет, отбросив застенчивость и гордость, вернуть меня, сделать своим навсегда. Серьезным и наставительным тоном она упрекнет меня за мои поступки и, чтобы усугубить мою вину, придаст своему лицу хорошо знакомое мне, незабываемое выражение: крепко сожмет губы, и на щеках ее появятся ямочки. Готовая простить, она сначала скажет, что мне нет прощения, но потом сменит гнев на милость.
Я со своей стороны умело отдалю момент жаркого примирительного поцелуя. Я галантно помогу Алисии выйти с лодки на берег и постараюсь, чтобы она заметила перевязанную руку, а на ее вопрос: «Ты ранен? Ты ранен?» — отвечу: «Все это пустяки... Меня беспокоит твоя бледность».
Если они приедут верхом, я сделаю то же самое, подойдя к ее лошади.
Я предстану перед Алисией таким, каким она меня еще не видела: небрежно одетым, с растрепанными волосами, с обросшим бородою лицом, с ухватками крепкого, работящего мужчины. Хотя Мауко обычно кое-как обдирал мне лицо ножом для резки ремней, я решил не просить его об этом сегодня, чтобы выгодно отличаться от соперника.
Потом мне пришла в голову мысль покинуть Ато Гранде до приезда женщин и появиться вечером среди вакеро, ведя за своим жеребцом разъяренного быка, который с фырканьем будет меня преследовать; он свалит на землю мою лошадь, и Алисия, замирая от ужаса, увидит, как я буду дразнить его плащом и повалю на землю к удивлению пеонов.
Мулат вернулся от Барреры с ружьем и седлом:
— Сеньор Баррера очень огорчен. Он не знал, что эти вещи находились у него. Я слышал, что он посылает людей ловить разбежавшийся скот.
— Я тебе запрещаю иметь с ним дело. Если не хочешь ехать один, я поеду с тобой.
— А дон Фидель сказал вам, где они заночуют?
— В Матанегре.
— А мне он сказал, что в пойме Пауто. Я, пожалуй, поеду, а то меня застигнет ночь и лошади разбредутся.
— Отнеси это белье в мою комнату и принеси мне винчестер. Едем куда хочешь. Я отправляюсь с тобой.
Я пошел на кухню проститься с Субьетой. Сколько я ни окликал его, никто не отозвался.
Когда мы отъехали от Ато Гранде настолько, что видны были одни лишь верхушки пальм, мулат слез с лошади и зарядил ружье.
Лучше всегда быть настороже. Порох и пули еще никого не обманули.
— Чего ты опасаешься?
— Нас могут нагнать люди Барреры. Я нарочно сказал, что мы едем в Пауто, чтобы это услышали ребята, которые закрывали ворота в корраль. А теперь поедем туда, куда вы сказали.
Мы проехали еще лиги три. Я был поглощен мыслями об Алисии, когда мулат вывел меня из задумчивости:
— Извините меня. Я хочу посоветоваться с вами. Кларита приворожила меня.
— Ты влюбился в нее?
— Об этом-то я и хочу посоветоваться. Недели две тому назад она сказала мне: «Какой красивый негр! Вот кто мне нравится!»
— И что ты ответил на это?
— Мне стало стыдно...
— А потом?
— Об этом я тоже хочу спросить; она предложила мне запугать старого Субьету и уехать с ней отсюда.
— Зачем запугать? Ради чего?
— Чтобы он сказал, где у него зарыто золото.
— Да не может быть! Это ее научил Баррера.
— Совершенно верно, потому что Баррера мне тоже сказал: «Если этот мулат приоденется, каким красавцем он станет; все женщины будут за ним бегать. Я знаю одну девчонку, которая его любит».
— А ты что ответил?
— «Эта девчонка с вами спит». Так ему и сказал. Но его, проклятого, ничем не проймешь. Потом он принялся бранить Субьету, говоря, что тот ничего не платит мулатам, а если и дает что-нибудь, то тут же заставляет играть с собой в кости и обирает до нитки. И это правда.
Я задыхался от жары и велел мулату ехать к водопою.
— Здесь нигде нет воды. Хороший водопой — за теми барханами.
Мы вступили в полосу, где земля была так суха и тверда, что о нее сбивались копыта лошадей. Но нам необходимо было пересечь ее, потому что по обе стороны непроходимыми лабиринтами тянулись сурали — обиталище ягуаров и змей.
Водопой оказался лужей, взбаламученной животными. Вода была солоноватая на вкус, мутная и густая, как сироп, но лошади пили ее с жадностью. При виде этой лужи я почувствовал тошноту, но жажда заставила меня последовать примеру Корреа. Наклонившись с седла, он подал мне полный до краев рог.
— Вместо цедилки накройте его платком, — сказал мулат.
Я вынужден был несколько раз приложиться к рогу, стряхивая мелких животных, обильно прилипавших к влажной ткани.
— Слушай, белый, здесь проезжали чужие люди. Вот след подкованного мула, а в саваннах камней нет и подковы ни к чему.
Мулат был прав: немного отъехав от лужи, мы увидели вдалеке две движущиеся точки.
— Какие-то люди потеряли дорогу.
— Скорее похоже на скот.
— Бьюсь об заклад, что это люди.
Всадники, видно, заметили нас и направились в нашу сторону. Мы уже ясно различали человека, который, завернувшись в большую простыню, как это делают старые крестьянки, ехал впереди под красным зонтиком, подгоняя мула ударами стремян. Мы остановились под скудной тенью мориче и с любопытством и опаской стали поджидать всадников.
Корреа успел перевязать поклажу, когда незнакомцы подъехали к нам.
— Помогите правосудию, сбившемуся с пути! — воскликнули они, приветствуя нас.
— И ныне и присно и во веки веков, — простодушно ответил мулат.
— Покажите нам дорогу в Ато Гранде. Этот сеньор — судья из Орокуэ; я — его личный секретарь, а на данный случай проводник.
Услышав это, я спросил, не зовут ли чиновника Хосе-Исабель Ринкон Эрнандес. Такой вопрос я задал потому, что слышал об этом человеке, который из погонщика мулов стал музыкантом муниципального духового оркестра, а затем окружным судьей Касанаре, прославившись на этом посту своими злоупотреблениями.
— Да, — ответил человек с зонтом. — Я судья, а с вами говорил простой письмоводитель.
Чахоточное лицо сеньора судьи было такого же изжелта-зеленого цвета, как и его целлулоидные очки, и имело не менее отталкивающий вид, чем его не знавшие щетки зубы. Кривляясь, как обезьяна, он положил зонт на плечо и вытер себе затылок платком, проклиная обязанности судьи, заставляющие его переносить такие мучения, как путешествие на мулах через дикие земли, где неминуемо столкновение с людьми невежественными и низкого происхождения и где всегда налицо угроза нападения индейцев и хищных зверей.
— Отведите нас сейчас же, — произнес он высокопарно, натянув поводья, — в эту дьявольскую усадьбу, где некий Кова ежедневно совершает преступления, где подвергаются опасности жизнь и имущество моего влиятельного друга Барреры, где беглый по имени Франко пользуется моей снисходительностью и тем, что я ничего не требую от него, кроме примерного поведения. Вы обязаны предоставить себя в распоряжение правосудия и поменять своих лошадей на этих мулов.
— Вы ошибаетесь, сеньор, как в своих представлениях о людях, так и в выборе дороги. Ато Гранде совсем не в той стороне, куда вы едете, люди, которых вы назвали, совсем не таковы, как вы думаете, а лошади мои не выморочное имущество.
— Знайте, непочтительный юноша, — раздраженно ответил судья, — что только из усердия, заслуживающего похвалы, решились мы ехать без охраны в эту пампу. Субьета прислал ко мне нарочного, прося помощи против Барреры, а следом за ним прибыл человек от Барреры, требующего принять меры против преступлений Ковы. Мы едем разобрать, в чем там дело, и будем полезны и вам, ибо правосудие, как солнце, светит всем. Но если верно, что дневное светило греет нас задаром, то не менее верно и то, что нормы человеческого общежития обязывают всех нас единодушно поддерживать общественный порядок. Всякая помощь в этом деле законна и предусмотрена положениями гражданского права. Если не хотите быть нам проводниками, вручите немедленно сумму, равняющуюся оплате хорошего проводника.
— Вы налагаете на нас штраф?
— Немедленно и безапелляционно, — подтвердил секретарь. — Имейте в виду, что нам не платят жалованья.
— Ну, так слушайте, — злорадствуя в душе, ответил я. — До усадьбы Субьеты рукой подать, а мы направляемся в Коросаль. Пересеките эту страшную степь, спуститесь потом краем леса, переправьтесь через реку, обогните заводь и оттуда через какие-нибудь полчаса увидите дом.
— Слышишь? — проворчал судья. — Что я тебе говорил! А ты пек меня на солнце, вел без дороги по дикой степи. Ты не справился с обязанностями проводника. Налагаю на тебя штраф в пять песо!
Потребовав с нас взамен штрафа пачку табака и спички, он вместе со своим спутником уехал в направлении, противоположном Ато Гранде.
Корреа поведал мне некоторые подробности из жизни Франко в Арауке, переданные ему неким Эли Меса, поселенцем с реки Каракарате. Как-то раз Меса приехал в Мапориту и, пока они вместе с Корреа пололи огород, рассказал о событиях, свидетелем которых он был. Франко служил тогда лейтенантом в пограничном гарнизоне и жил вдалеке от казарм на берегу реки. Капитану приглянулась нинья Грисельда и, чтобы беспрепятственно ухаживать за ней, он часто назначал лейтенанта на дежурство. Франко, догадавшись о намерениях начальника, покинул ночью свой пост и вернулся домой. Никто не знает, что произошло за закрытой дверью. Капитан получил две ножевые раны в грудь и, ослабев от потери крови, умер в горячке на той же неделе, дав суду благоприятные для обвиняемого показания.
Ни мужа, ни жену не преследовали, хотя они исчезли в ночь трагедии, и только судья из Орокуэ посылал им по собственной инициативе повестки с вызовом в суд, служившие скорее платежными извещениями: в них с неприкрытой наглостью говорилось о деньгах, и самый приказ судьи ограничивался словами: «Пришлите взнос за истекший месяц».
По мере того как мы все дальше продвигались степью, набежал ветерок, постепенно усилившийся настолько, что начал раздувать гривы лошадей и срывать с нас шляпы. Вскоре бешено несущиеся тучи закрыли солнце, поглотив дневной свет, и землю потряс напоминавший канонаду подземный гул.
Корреа предупредил меня о приближении бури, и мы стремглав помчались по степи, подгоняя табун лошадей, который отпустили на свободу, предоставив ему самостоятельно защищаться от разбушевавшейся стихии. В поисках убежища мы направились к дальнему лесу и выехали на равнину, где ветер раскачивал пальмы с такой злобной силой, будто старался стереть их с лица земли; деревья стонали, гнулись и листьями сметали пыль с помертвевшей степи. Стада, сохраняя порядок, спешили собраться на подветренных склонах холмов под предводительством грозно мычащих самцов. Быки, с развевавшимися по ветру хвостами, образовали живую стену, заслоняя от ветра трусливых коров. Река повернула против течения, в воздухе, словно поднятые вихрем листья, носились стаи уток. Вдруг, проложив путь между небом и землей, молнии с оглушительным треском разорвали завесу грозовой тучи, и судорожные порывы бури обрубили ливнем эту завесу на землю.
Ураган был так яростен, что выбивал нас из седел. Наши кони остановились, повернувшись крупами к ветру. Мы быстро спешились и, накрывшись плащами, растянулись ничком на траве. Пространство, отделявшее нас от рощи, погрузилось во мрак, и мы различали лишь одну из пальм, с толстым стволом и широкой кроной, которая мгновенно вспыхнула от удара молнии и затрещала, разбрасывая искры. Прекрасен и страшен был вид героического дерева, которое размахивало пылающими листьями, словно огненными знаменами над расщепленным стволом, и умирало на своем посту, не желая ни покориться, ни уступить.
Когда смерч унесся дальше, мы заметили, что табун пропал, и поскакали на его поиски. Ветер дул нам в спину; туча, казавшаяся черной стеной, удалялась от нас; промокшие до костей, мы покрывали лигу за лигой, не встречая табуна, пока, наконец, не выехали на скалистый берег широко разлившейся Меты. С обрыва мы видели, как кипят возмущенные волны, как на гребнях их непрерывно змеятся отблески молний, как обрушиваются глыбы берега вместе с деревьями девственного леса, подымая высокие водяные столбы. Грохот падения сопровождался треском лиан, и целая роща, крутясь в водовороте, уносилась по течению, как фантастический плавучий остров.
Где-то далеко вспыхивали зарницы. Мы продолжали ехать в поисках лошадей залитыми водой лугами, где только-только начинали выпрямляться пальмы, и ночь застигла нас в степи. Хмурый, я ехал следом за Корреа, вода доходила до подпруг наших седел. Забравшись на холм, мы заметили, что в далеком лесу весело мерцают огоньки костров.
— Там наши товарищи расположились на бивуак, они там!
И я радостно начал окликать друзей.
— Замолчите, замолчите, ради бога! Это индейцы!
И мы повернули вспять снова в пустынную степь, где уже начинали рычать пантеры. Мы ехали всю ночь, не решаясь остановиться на отдых, без пристанища, без компаса, пока запоздалая заря не открыла перед нашими угасающими надеждами ворота своего золотого замка.
Едва рассвело, мы заметили вакеро, гнавших впереди себя мадрину.[30] Взошло солнце, и по залитой светом степи шагали волы, ощипывая стебли пырея.
Мы поздоровались с всадниками; Фиделя с ними не было. Корреа хорошо знал всех вакеро; он подробно рассказал им о настигшей нас буре, о пропаже табуна, о встрече с индейцами.
— Мано[31] Ухенио, в первый раз потерял я ночью дорогу в саванне, да еще с таким белым, который ни за что не умеет взяться. Он, чего доброго, сочтет меня никуда не годным вакеро.
— Такое со всяким может случиться, мано Антонио. Говорят, вакеро не хлебает горячего и не спрашивает дороги, но в грозу любой из нас заплутается.
— А вы ищете быков? Как дела?
— Паршиво. Мы было обрадовались дождю и выехали только к вечеру. Всю ночь не спали, но не нашли ни одного быка: стадо испугалось грозы и не хотело выходить из леса. Под утро вышло несколько быков, но нам не удалось заманить их, хотя мадрина вела себя молодцом и зазывала их своим мычаньем. Тогда мы решили гнаться за ними верхом и поймать, сколько поймается, но быки попались старые и мы попусту потеряли время. А у этого вот парня лошадь сломала себе шею в ночной скачке. Теперь он тащит седло на спине.
— Мано Тиста, — крикнул Корреа, — иди садись на моего жеребца, а я разомну ноги!
Не желая показать вакеро, что я умираю от усталости, я, подбодрив себя мыслями об Алисии, спросил:
— А сколько скота вы заарканили вчера, мано Исидоро?
— Голов пятьдесят. Но к вечеру завязалась драка. Мильян и Фидель чуть было не укокошили друг друга.
— Что же случилось?
— Приехал Мильян со своими вакеро и сказал, что ему нужны коррали на Матанегре, куда им приказано загнать разбежавшееся стадо Барреры. Франко поначалу не хотел связываться с Мильяном, но, когда он увидел собак, которых тот привел с собой, разозлился и обругал Мильяна. Тогда вакеро заявили, будто пойманные нами быки не наши, а дона Барреры, и хотели отнять их у нас силой. Тут мы схватились с ними врукопашную, и Франко пригрозил Мильяну ружьем.
— А где сейчас люди Барреры?
— Одни вернулись, другие еще шатаются по степи, вооруженные мачете. Нехорошее получается дело. А хуже всего то, что вы дали разбежаться табуну.
— Дело не в этом, — произнес Хабьян. — Главная беда в том, что, говорят, в Ато Гранде приехал судья. Ему, как видно, указали неправильную дорогу, и Мильян послал вакеро проводить его к Субьете. С судьей шутки плохи, не заплатишь денег — заберет. Мы хотим уходить.
— Ребята, я ручаюсь вам, что ничего не будет!
— А как вы можете ручаться, если вас-то они и ищут?
Фидель не пал духом, услышав о пропаже лошадей, и не сделал выговора мулату. Он порадовался тому, что моя раненая рука может держать поводья. По его мнению, табун уже возвратился в Мапориту на свое привычное пастбище и там мы найдем его.
Я заметил, с какой неохотой он рассказывал мне о стычке с Мильяном.
«Этот спор выеденного яйца не стоит. В степи хватит места для многих могил: надо только стараться, чтобы не нас хоронили, а мы хоронили». Франко сказал это с веселой улыбкой, но изменился в лице, когда узнал, что вакеро собираются оставить нас одних. «Конечно, они уйдут: у них у всех счеты с судом, все они воруют скот».
— А когда вы начнете ловлю быков? — спросил я, набрасываясь на жареное мясо и отрезая его прямо от шипящей на вертеле туши.
— Мы дожидаемся только мадрины. Было ошибкой перегонять ее на Гуанапало, зная, что там рыщут индейцы. Но в этих местах не меньше двух тысяч голов скота, и скот весь как на подбор. Лошади выдержат еще две скачки, а это равно тридцати пойманным быкам, потому что вакеро, который упустит своего быка, платит штраф.
— А где люди, которых послал Баррера?
— Вон там; они ночевали на тех холмах. Все они никудышные вакеро, кроме Мильяна; его аркан испытал на себе не один бык. Я им заявил, что, если их собаки будут распугивать мне быков, пусть готовятся передать дьяволу наш поклон, потому что мы отправим их прямо в ад.
Тем временем мадрину угнали к реке и оставили ее на заливном лугу под охраной подростков. На фоне пальмовой рощи виднелись разбросанные по степи группы быков. Мы продвигались цепью, готовые вихрем налететь на них по сигналу старших вакеро, но животные почуяли нас и бросились к лесу; только несколько старых быков остались на месте, вызывающе наклонив рогатые головы навстречу всадникам.
Мы, перескакивая через кустарники и постройки термитов, пустили лошадей во весь опор вдогонку быкам, убегавшим к лесу; но быки начали уже утомляться от погони, и петли арканов, со свистом рассекая воздух, все чаще затягивались на их рогах. Поймав быка, вакеро сворачивали налево, и, умело разматывая свободный конец аркана, ослабляли силу рывка, и в то же время не давали лошади запутаться в веревке и упасть.
Непокорный бык, почувствовав аркан, бросался в заросли кустарника или гнался за всадником, наклонив лунный серп своих острых, как кинжал, рогов. Нередко ему удавалось боднуть лошадь, и та, обезумев, отчаянно металась, стараясь сбросить наездника на вражеские рога. На помощь приходил байетон: он падал, расстилаясь по земле, и бык подхватывал его на рога, давая лошади время собраться с силами; или же спешившийся вакеро, повернув байетон красной подкладкой наружу, размахивал им, как тореро на арене, правда, без зрителей и рукоплесканий, пока ему не удавалось схватить быка за хвост и повалить на землю. Ловко связав быка, вакеро прорезал ему ножом ноздри, пропихивал туда веревку и привязывал оба ее конца к хвосту лошади; чем больше упиралось животное, тем сильнее тянула его веревка за носовой хрящ. Быка отведали к мадрине, и, когда он присоединялся к стаду, всадник нагибался с седла, отпуская один конец веревки, и вытаскивал его из кровоточащих, воспаленных ноздрей.
Я весело скакал на кауром жеребце, увлекшись погоней. Конь, видя, что его товарищи настигают стадо, пустился вслед за ними с такой резвостью, что земля, казалось, исчезала у него из-под копыт. Мой каурый погнался за пестрым быком, и надо было видеть, с каким задором я его подхлестывал! Несколько раз бросал я аркан неопытной рукой, но вдруг бык, перейдя в атаку, вонзил оба рога в живот моего скакуна. Раненый жеребец в отчаянном прыжке сбросил меня и помчался прочь, путаясь в своих внутренностях, пока разъяренный бык не догнал и не прикончил его.
Заметив грозящую мне опасность, Фидель и Антонио ринулись на помощь. Бык бросился в сторону. Корреа дал мне своего коня, и, когда я во весь опор поскакал следом за Франко, я увидел, что Мильян из чувства соперничества направляет свою лошадь на того же быка. Но, когда Мильян наклонился, чтобы схватить быка за хвост, тот вонзил свой рог в ухо вакеро, вырвал его из седла, подбросив в воздух, как соломенное чучело, и затем поволок по высокой траве, оставляя за собой широкий след. Не обращая внимания на наши крики, бык бежал, волоча тело. Вдруг он наступил трупу на ногу и оторвал ему голову. Далеко отбросив голову Мильяна, бык не подпускал нас к изуродованному телу, пока Фидель двумя выстрелами из винчестера не уложил его на месте.
Мы взывали о помощи, но никто не появлялся. С вестью о происшедшем я поскакал на поиски людей, но долгое время не встречал никого.
Наконец, я наткнулся на вакеро. Они вели привязанных к коням быков. Услышав мои крики, они обрезали веревки и поскакали мне навстречу.
Когда мы примчались к месту трагедии, останки Мильяна уносили на байетоне по направлению к лесу. Рубашка Франко была в крови, и он громко, взволнованно что-то говорил, обращаясь к молчавшим пеонам. Мертвеца положили на листья поваленной молнией пальмы и покрыли его же собственным плащом, в ожидании пока он застынет.
Мы отправились обратно в степь искать в помятой траве остатки головы Мильяна, но нигде ее не нашли.
Собаки облизывали рога мертвого быка.
Солнце было уже высоко, когда мы вернулись в лес. Корреа веткой отгонял от покойника мух. Франко отмывал в болотце запекшуюся кровь. Товарищи Мильяна уже обсуждали вопрос о том, как они будут плясать на его похоронах.
— Я был бы даже рад, если бы они еще вчера прикончили друг друга у нас на глазах, — ворчал один из них. — Но говорить, что Мильяна забодал бык, когда мы ясно слышали выстрелы, — это враки. Зачем же тогда было отрывать ему голову? Такое зверство вопиет к богу.
— Разве ты не знаешь, как произошло несчастье?
— Как же, знаю, сеньор. Убийца — бык, Мильян — покойник, виноваты мы, а вы ни при чем. Вот я и еду вперед, сказать, чтобы вырыли могилу и скроили саван, приготовили музыку и выпивку, — он того заслуживает.
С этими словами вакеро, бормоча угрозы, ускакал прочь.
Я не мог смотреть на труп. Я испытывал отвращение при одной мысли об этом растерзанном, обезглавленном, бескровном теле, где обитала враждебная мне душа, о лице, получившем от меня пощечину. Меня преследовало воспоминание о его воспаленных, злобных глазах, которые следили за мной повсюду, выискивая, есть ли у меня за поясом револьвер. Где упали эти глаза? Быть может, они глядят на меня, повиснув на кусте, глядят из-под разбитого лба, опустевшие, отвратительные, слезящиеся? Куда девалась эта упрямая голова, очаг вероломства, источник мести, логово злобы и ненависти? Мне казалось, я слышу, как она трещит под ударом изогнутого рога, когда лохматый бык, оторвав ее от шеи, отбросил в сторону, и я словно опять вижу, как взлетает в воздух шляпа с шейным ремешком. Что сталось с этой головой? Где валяется она сейчас? Или, может быть, не подпуская людей к трупу, бык втоптал ее копытами в землю?
Медленно прошла мимо меня похоронная процессия; один из вакеро, спешившись, вел под уздцы лошадь покойного, а за ним молча ехали всадники. Морщась от тошноты, я все же вгляделся в останки Мильяна. Обезглавленное тело, перекинутое через седло, раздвигало траву окоченевшими пальцами, точно стараясь схватить ее в последний раз. На голых пятках болтались, позвякивая, шпоры, которые никто не догадался снять, а по другую сторону лошади, меж раскинутых рук, сочилась сукровицей шея, откуда торчали, как оборванные корни, желтоватые нити нервов. Черепная коробка была оторвана, и только нижняя челюсть криво смеялась, точно издеваясь над нами, и этот смех, без лица, без души, без губ, которые смягчили бы его, без глаз, которые придали бы ему смысл, показался мне мучительной местью; и хотя прошло уже много дней, мертвец продолжает улыбаться мне, и я дрожу от ужаса.
Через некоторое время, когда вакеро остановились покурить и завязался громкий разговор, Франко сказал:
— Ловлю быков все равно мы вынуждены прекратить, пока все не придет в порядок. Сейчас лучше возвратиться и заняться поисками лошадей! Хорошо снаряженные вакеро поедут со мной, остальные пусть ведут мадрину следом за покойником. Мы догоним их к вечеру.
Только семеро пеонов повиновались ему. Прежде чем остальные покинули нас, я попросил одного из них поехать вперед, в Ато Гранде, и передать, что мы живы и здоровы: я боялся, что Алисия испугается, когда увидит погребальный кортеж, который в эту минуту въезжал в моричаль, как в колоннаду храма. Шествие замыкала мадрина.
Антонио показал мне саванны, где мы провели с ним прошлую ночь, но я не мог узнать их: они ничем не отличались от остальных, и все же я заметил следы бури по облетевшей листве, опаленным пальмам, полегшей траве. Образ Мильяна преследовал меня, и с тоской, которую я еще никогда не испытывал, я хотел бежать из свирепых льяносов, где все дышит жаждой убийства и мщения и смерть скачет на крупе коня за спиной человека. Полная кошмаров жизнь истрепала нервы, и мне хотелось вернуться в цивилизованный мир, в тихую заводь неги, грез и покоя.
Погруженный в свои мрачные мысли, я отстал от товарищей и не заметил, как нас догнали собаки. Вся свора, подняв морды, вдруг завыла и, бросившись вперед, окружила болотце, скрытое от нас высоким камышом. Всадники устремились туда, стреляя на скаку, и я увидел толпу индейцев, разбегавшихся по зарослям на четвереньках с такой быстротой, что только по движению тростника можно было заметить, куда они скрылись. Женщины гибли без крика, без стона, а мужчины, останавливаясь, чтобы натянуть лук, падали под пулями, и собаки разрывали их на части. Но вдруг туземцы, выскочив со всех сторон, с внезапной отвагой окружили всадников, намереваясь обрезать лошадям поджилки и победить нас врукопашную. Много индейцев было перебито в первом же столкновении; остальные бросились врассыпную, не уступая в скорости коням, и исчезли в непроходимой чаще.
— Сюда, Доллар, сюда, Мартель! — кричал я на разъяренных собак, защищая индейца, который своими отчаянными прыжками сбивал псов с толку. Я старался не отставать от него и описывал вслед за ним сложные петли: ловко убегая на четвереньках и крепко держа в руках связку рыбы, дикарь внезапно повернул назад. Наткнувшись на меня, он метнулся в сторону, и я, подозревая какую-то уловку, остановил лошадь. Встав на колени, он простер ко мне руки.
— Сеньор интендант, сеньор интендант! Это я, Пипа! Пощадите меня!
И, спасаясь от собак, он без разрешения вскочил на круп моего коня и ухватился за мою спину.
— Простите, простите! Я расскажу вам, как было дело с вашей лошадью!
Предположив, что бедняга напал на меня, вакеро примчались ко мне на помощь, и Корреа ударом приклада сбросил Пипу на землю; но не успел тот упасть, как снова взгромоздился позади меня и выкрикнул:
— Мы — друзья! Я слуга сеньоры, его супруги.
— Сколько раз мы гонялись за этим конокрадом, предводителем индейцев, грабителем усадеб. Теперь он у нас за все поплатится.
— Вы ошибаетесь, кабальеро! Не торопитесь, вы принимаете меня за кого-то другого. Индейцы подстерегли меня, связали, а сеньор интендант освободил. Он меня хорошо знает, я был слугой сеньоры.
Вакеро продолжали настаивать на том, что Пипа поджег усадьбу Атико, а он хныкал, притворяясь оскорбленным такой клеветой. Потом он крепко обхватил меня и, якобы стыдясь своих босых ступней, спрятал их под мои ноги; на самом деле он боялся собак. Перейдя от удивления к жалости, я повез Пипу в Ато Гранде, несмотря на протесты моих товарищей, которые угрожали оскопить его.
Едва пленник оправился от испуга, он начал свой лживый рассказ, который все время прерывал настойчивыми просьбами приказать вакеро ехать впереди.
— Я не за себя боюсь, — говорил он, — а за вас: они могут выстрелить и убить нас обоих!
Затем он продолжал вкрадчивым тоном:
— Разве мог я допустить, чтобы сеньор интендант прибыл в свой город неожиданно и ему не оказали достойного приема? Эта мысль не давала мне покоя, и я воспользовался вашей лошадью, чтобы передать известие о вашем приезде в Вильявисенсио, рассчитывая возвратиться настолько быстро, что даже оставил вам свою оседланную кобылу. Но, узнав, какие неприятности ждут вас в связи с тем, что вы похитили сеньору, я подумал так: если вас посадят, некому будет заступиться за меня перед крестным; если опишут ваше имущество, возьмут и вашу лошадь, а она стоит дороже моей; я и решил: уеду-ка я пока в Касанаре, возвращусь к концу лета и верну вам все — коня и седло. Но, когда я проезжал этими саваннами, меня поймали пеоны некоего Барреры, обвинили в попытке украсть скот, арестовали и хотели увезти в Атико, отняв у меня все, вплоть до шляпы; я остался пешим и попал в плен к индейцам. Но я забыл спросить вас о сеньоре. Как ее здоровье?
При других обстоятельствах меня позабавила бы живописная цепь его излияний, но в тот миг — уже вечерело — я думал лишь об одном, как обогнать процессию с мертвецом и помешать Алисии увидеть ее.
В сумерках навстречу нам медленно ехали степью двое всадников.
Когда мы поравнялись с ними, нельзя было разглядеть лиц, но Франко узнал этих людей.
— Куда повезли покойника?
— Ребята решили бросить его в реку, он протух. А потом они разъехались по домам, — они не хотят больше работать.
— Мы тоже не поедем с вами, — объявили остальные.
— Мне не нужны мошенники, и я предпочитаю остаться один. Кто хочет получить расчет — пусть следует за мной.
Вакеро с важным видом ответили:
— Нам дороже свобода.
— В каком направлении поехали ребята?
— Берегом Гуачирия.
— Ну, прощайте!
И вакеро ускакали во тьму.
Оставшись вчетвером, мы помчались по направлению к усадьбе Субьеты, строения которой, освещенные мерцающим светом костра, смутно вырисовывались вдали. Я заставил Пипу слезть с лошади, несмотря на его жалобные мольбы, и он гнался за нами в темноте, как зловещий призрак.
Меня пробрал жуткий озноб, когда мы подъехали к корралям. Мы увидели, что усадьба погружена в молчание, а во дворе горит большой костер. Я поискал взглядом палатки Барреры и не нашел их. Я вскачь домчался до ворот, но конь мой, встав на дыбы, отказывался въехать во двор. Навстречу мне выбежали Мауко и несколько женщин:
— Уходите, уходите скорее, ради бога! Вас арестуют!
— Что случилось? Где Алисия? Где Алисия?
— Старый Субьета спит вечным сном, а мы молимся за упокой его души.
— Что произошло? Говори скорей!
— Стряслась беда.
Только угрозами удалось заставить Мауко рассказать о совершенном накануне преступлении. Видя, что Субьета не встает, пеоны сорвали с петель кухонную дверь. Старик качался, подвешенный за кисти рук к крюку гамака; он был еще жив, но не мог шевельнуть языком: рот его был заткнут пучком пакли. Баррера даже не захотел взглянуть на него, а когда в Ато Гранде приехал судья, вербовщик дал чудовищные показания против нас. Он заявил под присягой, что мы за несколько дней до этого угрожали старику, требуя показать, где зарыты его сокровища, и что прошлой ночью, как только пеоны ушли в палатки пьянствовать, мы проникли в кухню через крышу и, совершив преступление, разбились на группы, чтобы искать зарытые деньги одновременно в банановой роще, в комнате и в корралях. Судья заставил всех пеонов подписать упомянутые показания и уехал тем же вечером под охраной Барреры и его людей, а покойника закопали в яме под манго,[32] возможно над кувшинами с золотом, не надев на него новых альпаргат, не связав ему челюсти платком, не прочитав молитвы, не проплясав «девяти ночей». И в довершение всего приходилось еще следить, чтобы свиньи не разрыли могилу, — они уже откопали руку мертвеца и сожрали ее с отвратительным хрюканьем.
Этот рассказ так ошеломил меня, что я в первую минуту не узнал в одной из женщин Себастьяну. А узнав, я дико закричал:
— Где Алисия? Где моя Алисия?
— Уехали! Уехали, а нас оставили!
— Где Алисия? Где Алисия? Говори толком!
— Ее увезла с собой нинья Грисельда!
Опершись локтями о створку ворот, я беззвучно зарыдал. Казалось, горе уходит вместе со слезами, и, как это было ни странно, первое время я не чувствовал его. Я скорбно смотрел на товарищей, не стыдясь своих слез. Все окружили меня, и я, словно во сне, слышал их утешения. Пипа завладел одним из моих костюмов, женщины жарили мясо, а Франко уговаривал меня прилечь. Но когда он сказал, что Алисия и Грисельда — негодяйки и что другие женщины заменят нам их, горе мое взорвалось как вулкан, и, обезумев, я вскочил на жеребца и ускакал в степь, желая во что бы то ни стало настичь и убить беглянок. И в головокружительной скачке мне чудилось, что Баррера, обезглавленный, как Мильян, привязан за ноги к хвосту моего коня, его раздирают на куски шипы кустарника, и, распавшись на мельчайшие частицы, он исчезает в степной пыли.
Ослепленный яростью, я не скоро заметил, что скачу следом за Франко и что мы подъезжаем к Мапорите.
Алисии там не было. Она, наверно, похотливо потягивалась в гамаке моего соперника, и я тщетно будил вселенную отчаянным криком.
Именно тогда Франко поджег свой дом.
Язычок пламени побежал от спички по пальмовым листьям, разливаясь звенящей волной и наполняя пространство фиолетовыми отблесками. В один миг банановые деревья, еще не охваченные огнем, опустили листья, и искры перебросили пламя на кухню и каней. Подобно змее мапанаре, в злобе вонзающей зубы в свой хвост, пламя закручивалось, наполняя дымом прозрачный ночной воздух, и вдруг начало обстреливать своими огненными ракетами степь; а ветер — адский союзник — разносил огонь на своих крыльях.
Наши лошади в испуге отступили к побагровевшей реке, и оттуда я видел, как рушилось жилище, давшее недолгий приют моим мечтам о богатстве и семейном счастье. Огонь колыхался, как колыбель, в комнате, совсем недавно служившей Алисии спальней.
В состоянии полной прострации я созерцал это зрелище разрушения, не замечая опасности; но, когда я увидел, что Франко, проклиная жизнь, удаляется от того, что было когда-то его домом, я с криком потащил его в огонь. Напуганный моим безумием, Фидель напомнил мне, что нам надо догнать беглянок и отомстить за подлую измену. И мы понеслись в бешеной скачке под безоблачным небом и тут заметили, что Ато Гранде тоже горит, а из леса доносятся жалобные вопли.
Всепожирающее пламя захватило оба берега реки, взбираясь по лианам, поднимаясь по стволам пальм и взрываясь с грохотом фейерверка. Временами пучки искр взлетали вверх, разнося пожар за линию огня, где клубились волны дыма, стремясь охватить всю землю и взметнуть до облаков свои сверкающие стяги. Разрушительная армия оставляла за собой на почерневшей земле тлеющие головни и обгорелые трупы животных. А по всему горизонту, как огромные свечи, пылали пальмы.
Треск кустарников, шипенье змей и вой зверей, топот бегущих в ужасе стад, горький запах паленого мяса были бальзамом для моей оскорбленной гордости, и я наслаждался тем, что все гибнет вместе с моими иллюзиями, что багровый океан гонит меня в сельву, отделяя от известного мне доселе мира, и засыпает пеплом мои следы.
Что осталось от моих страданий, идеалов, стремлений? Чего я добился в упорной борьбе с судьбой? Бог отступился от меня, и любовь бежала...
И я расхохотался среди пламени сатанинским смехом.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
О сельва, супруга безмолвия, мать одиночества и туманов! Какая злая судьба заточила меня в твою зеленую тюрьму? Шатер твоей листвы, как огромный свод, вечно над моей головой, между моим дыханьем и ясным небом, которое я вижу лишь тогда, когда вздрогнет листва твоих вершин, расходясь волнами в час тоскливых сумерек. Где взойдет любимая звезда, вечерами поднимающаяся из-за холмов? Почему не трепещет над твоим куполом окаймленный золотом пурпур твоих облаков — одеяние ангела Заката? Сколько раз вздыхала моя душа, когда я различал в твоих лабиринтах отблеск дневного светила, спускающегося, обагряя даль, к незабываемым равнинам и увенчанным снегами горным вершинам моей родины, откуда я смотрел на далекие цепи гор! Над каким селением мирно вознесет луна свой серебряный фонарь? Ты отняла у меня мечту о горизонте, и взору моему остался лишь клочок неба, откуда струится тусклый свет, не проникающий никогда сквозь густую листву в твои влажные недра!
Ты — храм скорби, где неведомые боги равнодушно ждут пришествия новых веков и перешептываются на языке шорохов, обещая долголетие могучим деревьям, современникам рая, деревьям, которые достигли зрелости раньше, чем появились первые племена людей. Твоя растительность образует на земле могучую семью, где неведома измена. Твои ветви не могут заключить друг друга в объятия, но плющи и лианы сплетают их, и болью отзывается в тебе даже паденье листа. Твои многозвучные голоса сливаются в единое эхо со стоном обрушивающихся стволов, и в каждую пустоту поспешно устремляются ростки новой жизни. Ты сурова, как космическая сила, и воплощаешь чудо творения. И все же дух мой не примиряется с давящей тяжестью твоего бессмертия; ему милее то, что недолговечно, и больше раскидистого дуба научился любить я томную орхидею, ибо она эфемерна, как человек, и вянет так же быстро, как его мечта.
Дай мне уйти, о сельва, из твоего болезнетворного сумрака, отравленного дыханьем существ, которые агонизируют в безнадежности твоего величия. Ты кажешься огромным кладбищем, где ты сама превращаешься в тлен и снова возрождаешься. Я хочу вернуться туда, где никого не тяготит тайна, где невозможно рабство, где взору нет преград и душа возносится ввысь в вольном блеске дневного света! Я хочу ощутить тепло прибрежных песков, дыхание беспредельной пампы! Дай мне возвратиться туда, откуда пришел я, сойти со стези слез и крови, на которую вступил в злополучный день, когда по следам женщины я ринулся через леса и пустыни на поиски Мести, безжалостного божества, улыбающегося лишь над могилами!
Если бы я мог забыть позорные дни, когда мы скитались в пустыне, как изгнанники, как шайка злодеев! Обвиняемые в чужом преступлении, мы бросили вызов несправедливости и подняли стяг мятежа. Кто осмелился бы остудить тогда адскую злобу в моей груди? Кто посмел бы усмирить нас? Наши кони в бешеной скачке проложили в те дня тысячи тропинок в степи, и каждую ночь мы разводили на новом месте робкий огонек бивуака.
Потом мы разбили в непроходимых моричалях некое подобие лагеря. Там были сложены вещи, которые Мауко и Тьяна спасли от пожара и отдали нам перед тем, как отправиться в Орокуэ на разведку. Дальнейшая их судьба осталась нам не известной. Фидель и мулат, я и Пипа взбирались по очереди на верхушку пальмы и смотрели во все стороны, отыскивая взором на горизонте приближающихся людей или дым расположенных треугольником костров — наш условный сигнал.
Никто не искал, никто не преследовал нас! Все забыли о нашем существовании!
Лихорадка и пережитые беды превратили меня в тень человека. По ночам голод будил нас, как вампир; приближалась пора дождей, и мы решили было покинуть пампу и поодиночке искать убежища в Венесуэле.
Однако я вспомнил, что дон Рафо должен на обратном пути заехать в Мапориту и что мы сможем вернуться вместе с ним в Боготу. Несколько дней поджидали мы его на лугах близ Таме. Но стоило Франко заявить, что он будет продолжать бродячую жизнь, — не из боязни обычного суда, а из страха быть привлеченным к военно-полевому суду за дезертирство, — как я отказался от мысли о возвращении домой и решил разделить с Фиделем изгнание и превратности судьбы; общее несчастье соединило нас, а в будущем в любой стране нас ожидала лишь гибель.
И мы решили направиться на Вичаду.
Пипа вывел нас в банановые леса Макукуаны, на берега бурливой Меты, ниже устья Гуанапало. В этих лесах обитало полудикое племя гуанибо, которое приняло нас при условии, что мы не будем запрещать индейцам носить гуайюко,[33] не будем трогать молодых индианок и прикажем винчестерам не делать грома.
Однажды вечером Пипа привел пятерых туземцев. Индейцы отказывались приблизиться, пока мы не взяли на привязь догов. Сидя на корточках, они высовывались из-за кустов и не спускали с нас взора, готовые исчезнуть при первом нашем движении. Пипа, опытный толмач, подвел к нам за руку каждого из них, а мы, по предварительному уговору, встретили их дружескими объятиями и торжественной фразой: «Кум, я тебя любить от всего сердца, собака не делать ничего».
Все индейцы были молоды и коренасты, под кожей шоколадного цвета у них перекатывались богатырские мускулы, но при виде оружия они дрожали всем телом. Луки и колчаны они оставили в лодке-курьяре, которая должна была понести нас по неведомым водам дикой реки к какому-то тайному пристанищу, куда гнал нас все дальше от родины неумолимый рок, хотя единственным нашим преступлением был дух мятежа, нашим единственным пороком — несчастье.
Настало время отпустить лошадей, наших верных друзей в борьбе с превратностями судьбы. Они возвращались в девственную пампу, в те края, где мы страдали и бесполезно боролись, поставив на карту свои надежды и молодость; мы расставались со всем тем, что они с радостью обретали вновь. Когда мой взмыленный конь встряхнулся, освободившись от седла, и ускакал с заливчатым ржаньем к далекому водопою, я почувствовал себя одиноким и беззащитным. Я обвел бескрайнюю степь печальным взором, испытывая такую же горечь, какую испытывает смертник, когда, уже примирившись с мыслью о гибели, он смотрит, как на фоне знакомых с детства пейзажей навсегда закатывается для него солнце.
Спускаясь в овраг, отделявший нас от реки, я обернулся к льяносам, затянутым легким туманом, и пальмы кивали мне на прощанье. Бескрайние степи нанесли мне тяжелую рану, но мне хотелось обнять их, В льяносах протекли решающие дни моей жизни, и они навсегда запечатлелись в моем сердце. Я знаю, что в момент агонии в моих остекленевших зрачках не останется ни одного, даже самого дорогого мне образа, но в вечном пространстве, куда воспарит на крыльях моя душа, я встречу нежные краски этих ласковых сумерек, заранее указавших мне опалово-розовыми мазками дорогу, по которой душа поднимается по небу к созвездиям.
Курьяра, как плавучий гроб, уносилась вниз по течению. Это был час, когда вечер начинает удлинять тени. Убегали назад смутные очертания параллельных берегов с темными лесами, полными неведомых опасностей. Река без волн, без пены была безмолвна, это казалось мрачным предзнаменованием; она производила впечатление темной дороги, бегущей вместе с нами в бездну небытия.
Мы плыли в молчании, и земля уже начала оплакивать пропавшее солнце, отблески которого угасали на прибрежном песке. Во мне находили отзвук самые слабые шорохи, и я настолько слился с окружающим, что мне казалось, будто это стонет моя душа, а моя тоска, как темное стекло, окрашивает в траур все окружающее. Мое безутешное горе разливалось по сумеречной панораме вместе с ночной мглой, которая медленно затягивала контуры молитвенно застывшего леса, и линию неподвижной воды, и силуэты гребцов...
Мы причалили к горловине ущелья, террасами спускавшегося к заводи, где, как в гавани, теснились курьяры. Увязая в грязи, мы шли по заросшей пыреем тропе, которая вывела нас на вырубленную в лесу поляну, где нас ожидала тростниковая хижина, казавшаяся в этот момент такой одинокой, что, опасаясь засады, мы побоялись войти в нее. Пипа о чем-то поговорил с туземцами, доставившими нас на эту стоянку, и перевел нам их объяснения: обитатели хижины убежали при виде собак. Гребцы попросили у меня позволения спать в лодках.
Когда они ушли, Фидель приказал Корреа лечь в гамак рядом с Пипой из боязни, как бы тот не предал нас ночью; он снял с собак ошейники и в темноте перевесил наши гамаки.
Прижав к себе карабин, я отдался сну.
Пипа то и дело уверял меня в своей вечной преданности и поведал целый ряд своих фантастических приключений. Он умел стрелять оперенными стрелами, на острие которых пылал комок смолы-перамана, и эти стрелы со свистом рассекали воздух, как кометы, сея смятение и пожары.
Не раз, спасаясь от врага, он нырял на дно заводей, как кайман, и тихонько высовывал голову из тростника, чтобы набрать в легкие воздуха; когда же собаки, разыскивая его, проплывали у него над головой, он ножом распарывал им брюхо и утаскивал их под воду, а вакеро не замечали ничего, кроме легкого шороха в камышах.
В льяносы он попал еще мальчишкой и несколько месяцев служил поваренком в процветавшем тогда имения Сан-Эмигдио. Целый день он работал вместе с вакеро, а вечером на его долю выпадала еще обязанность приносить дрова и воду, разводить огонь и поджаривать мясо. На заре взрослые будили его пинками, чтобы он разогрел им черный кофе, и, позавтракав, уезжали; им в голову не приходило помочь Пипе навьючить упрямого мула или объяснить толком, куда они поедут. И. вот, ведя под уздцы мула, нагруженного котлами и провиантом, мальчик бежал по еще темной степи, прислушиваясь к голосам всадников и стараясь не потерять их из вида.
В довершение всего кухарка заставляла Пипу помогать ей, и грязный безответный парнишка беспрекословно подчинялся ее приказам. Но однажды, когда Пипа вывалил жаркое на стол, покрытый вместо скатерти свежими листьями, и пеоны набросились на мясо, как голодные коршуны, он вместе со всеми протянул руку к еде, чтобы подцепить и себе кусок говядины на конец ножа. Любовник кухарки, злой старикашка, который по-глупому ревновал Пипу и не раз стегал его ремнем, раскричался и, не успев еще прожевать куска, потребовал, чтобы Пипа принес новый котел мяса. Поваренок замешкался. Старик схватил его за ухо и окунул лицом в горячий отвар. Разъяренный мальчишка ударом ножа распорол старику живот, и пища, курясь паром, вывалилась из брюха обжоры в кучу тушеного мяса.
Хозяин поместья прикрутил Пипе руки к шее и приказал двоим вакеро утопить его в тот же день в реке Ягуарапо. На его счастье, там ловили рыбу индейцы; они изрубили на куски палачей и возвратили осужденному свободу, но увели его с собой.
Пипа прожил в сельве полуголым бродягой больше двадцати лет, обучая военному искусству крупные индейские племена на Капанапаро и на Вичаде и работая каучеро на Инириде и Ваупесе, на Ориноко и Гуавьяре, среди индейцев пиапоко и гуаибо, банива и барес, куива, карихона и уитото. Наибольшим влиянием он пользовался среди гуаибо, которых он обучал военному мастерству. С ними он совершал налеты на поселки индейцев салива и скотоводческие усадьбы на реке Пауто. Нередко, уколовшись о ядовитый шип камбалы или обессилев от лихорадки, он попадался в руки белых; но изменчивая судьба улыбалась Пипе: он выдавал себя за вакеро из Венесуэлы, захваченного в плен индейцами. Угодив в тюрьму, он отличался там примерным поведением и вскоре опять возвращался в суровую сельву и возглавлял набеги индейцев.
«Я, — говорил мне Пипа, — буду в этих местах вашей путеводной звездой, если вы поручите экспедицию моим заботам; я знаю просеки, лощины, дороги, и на всех реках у меня есть друзья. Мы непременно разыщем каучеро, куда бы они ни заехали, хоть на край света; но только не позволяйте мулату Корреа спать со мной рядом и постоянно меня высмеивать. Это не по-христиански и портит настроение порядочному человеку. А то я его как-нибудь царапну — и кончен разговор!»
В эти дни мною овладела мизантропия, нагоняя мрачные мысли и парализуя мою решимость. В состоянии полного оцепенения и тоски я пил горький яд раздумья, обессиленный, сонный, как меняющая кожу змея.
Никто не произносил при мне имени Алисии, чтобы изгнать ее из моей памяти, но именно эта забота будила в моем сердце затаенный гнев: я понимал, что меня жалеют, как неудачника. Тогда с губ моих срывались ругательства и кровавая пелена застилала глаза.
Я мучительно спрашивал себя, терзают ли Фиделя навязчивые воспоминания, или нет? Он казался грустным в беседах со мной, а может быть, только притворялся грустным из сочувствия ко мне. Он нежданно-негаданно все потерял и, однако, стал как будто еще свободней и сильнее, словно несчастье было для него духовным кровопусканием.
А я? Чего ради я жаловался, как евнух? Что потерял я в Алисии такого, чего нельзя найти в других женщинах? Алисия была мимолетным эпизодом в моей безумной жизни, и все кончилось так, как должно было кончиться. Мне следовало только благодарить Барреру!
В самом деле, та, что была моей возлюбленной, имела недостатки: она была невежественна, капризна, вспыльчива. Душевному облику ее не хватало яркости: теперь, без очков влюбленности, она казалась мне обыкновенной женщиной, а ее прелести — выдумкой поклонников. У нее были редкие брови, короткая шея, черты лица ее были правильны, но в них не было ничего примечательного. Ей незнакома была наука поцелуя, и руки ее неспособны были изобрести ни малейшей ласки. Она никогда не выбирала особенных духов: запах ее юности сливался с запахом всех других женщин.
Чего же ради страдать из-за нее? Надо забыть, надо смеяться, надо начать жизнь снова. Этого требовала судьба, этого желали, хотя и не высказывали вслух, мои товарищи. Пипа, как бы невзначай, спел однажды под аккомпанемент марак замечательную песню, полную бодрящей иронии;
В воскресенье повстречались, В понедельник я влюбился, Объяснился с ней во вторник, В среду я на ней женился, А в четверг она уходит, Пятницу я всю горюю. Но, утешившись в субботу, Нахожу себе другую...Тем временем во мне происходила болезненная реакция: мною овладели злопамятство и разочарование, нежелание признаться в своей вине и жажда мести. Я насмехался над любовью и добродетелью, над прекрасными ночами и радостными днями. Но все же иногда зарницы прошлого освещали мрак моей души, истосковавшейся по мечтам, нежности и покою.
Обитатели хижины, где мы расположились, были людьми мирными, хитрыми и трусливыми; они походили друг на друга, как плоды одного и того же дерева. Они пришли из леса нагишом, неся дары — бананы и маниок — в корзинах из пальмовых листьев. Все это они высыпали на поляну, на видном месте. Двое из индейцев, приехавших на лодке, принесли копченую рыбу.
Цыкнув на собак, чтобы они не рычали, мы вышли навстречу туземцам, и после разговора при помощи испанских глаголов и односложных слов индейцы решились, наконец, занять угол шалаша с выходом в лес и в овраг.
Я с нескромным любопытством спросил индейцев, где они оставили женщин. Пипа поспешно объяснил мне неблагоразумие подобных вопросов, ибо ревнивые индейцы могут встревожиться; наученные горьким опытом, они запрещают женщинам показывать свою наготу белым пришельцам, распутным и невоздержанным. Он прибавил, что старые индианки не замедлят приблизиться к нам и будут следить за нашим поведением, пока не убедятся, что имеют дело со скромными и достойными уважения мужчинами.
Действительно, два дня спустя появились матроны в костюмах Евы, дряхлые, безобразные; отвислые груди, как лохмотья, болтались у них при ходьбе. На головах с растрепанными волосами они принесли несколько сосудов из тыквы с чичей;[34] липкая жидкость, как пот, стекала по их морщинистым щекам. С торжественным видом и церемонными жестами они предложили нам отведать напитка и недовольно заворчали, увидев, что один только Пипа смакует их липкое, вяжущее рот пойло.
Потом, когда пошел дождь, они уселись на корточках вокруг огня, неподвижные, как чучела; сонные мужчины, не произнося ни слова, лениво валялись в гамаках. Мы, сидя на другом конце хижины, тоже молчали и с тяжелым сердцем наблюдали, как по заводи, затянутой мглистым туманом, барабанит дождь.
— Надо не сидеть на месте, а принять какое-то решение, — произнес Франко, нарушив тишину. — На той неделе мы покинем это логово.
— Индианки уже приготовили нам провиант, — ответил Пипа. — Мы поднимемся на нашей курьяре вверх по реке и высадимся на противоположном берегу около Кавионы, немного выше лагун. Там начинается лесная тропа, и через неделю мы достигнем Вичады. Нам придется взять с собой изрядную поклажу, но никто из этих кумовьев не хочет быть носильщиком. Я все же постараюсь уговорить их. Необходимо кое-что закупить в Орокуэ.
— А на какие же деньги? — с беспокойством спросил я.
— Это мое дело. Я только прошу вас доверять мне и быть любезными с индейцами. Нам нужны соль, рыболовные крючки, лески, табак, порох, спички, инструменты и пологи от москитов. Все это для вас, — мне ничего не надо. Никто не знает, что ждет нас в сельве...
— Придется продать седла и уздечки?
— А кто их купит? Пожалуй, еще арестуют того, кто станет продавать их. Лучше просто бросить их здесь. Теперь нашей лошадью будет курьяра.
— А в каком месте спрятано у тебя золото для осуществления всех этих планов?
— В Красивой Топи! Там полно перьев редкостной цапли! Каждую неделю мы будем выменивать по горсти этих перьев на товары. Если хотите, я покажу вам туда дорогу, но это очень далеко.
— Неважно! Едем завтра же!
Будь благословенно вязкое болото, что привело нас в страну белоснежных птиц! Затопленный лес, где гнездились тысячи королевских цапель, казался плантацией распустившегося хлопчатника, и на фоне бирюзового неба, над вершинами мориче, где копошилось множество неоперившихся птенцов, непрестанно реяли крылья птиц, напоминая собой сверкающие на солнца весла. При нашем приближении пернатая флотилия спиралями взмыла в воздух и с пронзительным криком рассыпалась стаями; затем, сделав несколько кругов, птицы опустились на воду, медленно складывая крылья, словно белые шелковые паруса.
Задумчиво стоял в трясине аист-часовой, с длинным, как шпага, клювом, в красном кепи, высокий, стройный, с военной выправкой, а вокруг него суетился разноплеменный мир голенастых и перепончатолапых сородичей, от карминовой корокоры, которая затмила бы красотой египетского ибиса, до голубого чирка с золотым хохолком и нежно-розовой утки, окунувшейся крыльями в светлый багрянец степной зари. Над этой крылатой толчеей, как сонм ангелов, парили цапли, осыпая в болото лепестки своих крыльев, и на душе у меня было светло, как в детстве в день причастия, и мне казалось, что я нахожусь в освещенном храме, где поет торжественный хор.
Добраться до гнезд с перьями казалось невозможным. Сквозь прозрачную воду мы видели на дне заводи полчища кайманов; подплывая к прибрежным пальмам, они дожидались, не упадет ли с ветки, гнущейся под тяжестью суетливых цапель, птенец или яйцо. Повсюду кишели несметные стаи карибе с красным брюшком и свинцовой чешуей; эти рыбы пожирают друг друга и в одну секунду обгладывают до костей любое существо, попавшее в подвластные им воды; вот почему животные и люди не осмеливаются пускаться вплавь, особенно будучи раненными: кровь возбуждает прожорливость свирепой рыбешки. Мы видели предательскую камбалу с желатиновыми плавниками и ядовитым шипом, лежащую на дне, как щит; угря, парализующего электрическим разрядом всякого, кто прикоснется к нему; напоминающую лунный диск перламутрово-золотую паломету, которая погружается вглубь и мутит воду, спасаясь от зубов прожорливой тонины. Весь этот огромный аквариум свинцовым озером простирался до горизонта, где плавали драгоценные перья.
Мы разъехались на шатких плотах в разные стороны собирать плавучее сокровище. Индейцы пробирались поодиночке в чащу затопленного леса, отпугивая в полумраке шестами боа и кайманов, и собирали горстями белые перья, которые зачастую оплачиваются человеческой жизнью, прежде чем украсят в далеких городах неведомых женщин.
Этим вечером мне было грустно, и я ощутил, как смутную ласку, романтическое волнение. Почему я всегда одинок в искусстве и в любви? И я с болью в душе думал: «Если б мне было кому предложить сейчас этот букет пушистых перьев, кажущихся белыми колосьями! Если было бы кому обмахнуться крылом кодуа — этим упавшим с неба осколком радуги! Если бы мне было с кем созерцать гнездовье белоснежных цапель, эту весну птиц и красок!»
Я с горечью унижения заметил, что за пеленой грез пряталась Алисия, и постарался со всей беспощадностью отогнать мысль о ней.
Нам повезло: после утомительных блужданий по болотам и глубоким протокам мы нашли то место, где оставили курьяры; отпихиваясь шестами, мы поднялись вверх по извилистым рекам и к ночи причалили к уже знакомой нам заводи.
Ветер издали донес до нас детский плач, и когда мы подошли к хижине, от нее врассыпную бросились молодые индианки; они не обращали внимания на Пипу, кричавшего им вслед на языке их племени, что мы друзья. К балкам и столбам хижины было подвешено много гамаков; над угасавшим очагом кипел котел с настоем трав.
Как только огонь немного разгорелся, нас познакомили с теми индейцами, которых мы видели в первый раз; они медленно подходили к нам вместе с женами, которые в знак супружества клали правую руку на левое плечо мужа. Одна из женщин была без пары; она показывала на мужа, лежавшего в гамаке, и на свою набухшую грудь, желая пояснить, что она сегодня родила, Увидев ее, Пипа поспешил рассказать нам про обычаи, сопровождающие роды у этого племени: чувствуя схватки, роженица уходит в лес и возвращается к мужу омытой, чтобы вручить ему ребенка. Отец на время родов ложится в гамак и соблюдает пост, а жена приготовляет ему настой против тошноты и головной боли. Словно понимая то, что говорил Пипа, женщина подтверждала его слова, жестами, а ленивый супруг, с обернутой листьями головой, стонал в гамаке и просил чичи для облегчения своих страданий.
Убежавшие от нас индианки были девушками, и глава рода — престарелый касик — предложил каждому из нас выбрать себе по одной в честь нашего присоединения к их племени. Но было бы наивно думать, что они встретили бы наше ухаживание игривыми улыбками. Надо было выследить их, как газелей, и охотиться за ними в лесу, пока они не сдадутся: мужчина должен доказать свое превосходство силой, и наградой ему будут покорность и ласка.
Но мне было не до подобных увлечений.
Касик относился ко мне с холодностью, выражавшейся в презрительном молчании. Я всячески пытался угодить ему, рассчитывая выведать у него индейские обычаи, легенды, боевые песни. Учтивость моя оказалась бесполезной: у этих первобытных, бродячих племен не было ни богов, ни героев, ни родины, ни прошлого, ни будущего.
Но дело сложилось так. Я принес в мешке из Красивой Топи двух серых уток, маленьких, как голуби. Одна на следующий день оказалась мертвой, и я ощипал ее у очага, намереваясь отдать собакам. Увидев это, касик схватился за стрелы и замахнулся на меня маканой;[35] он вопил и причитал, пока испуганные женщины не собрали утиные перья и не рассеяли их в утреннем воздухе.
Товарищи окружили меня и вырвали из моих рук карабин, чтобы я не застрелил дерзкого старика, а тот, закрыв лицо руками, упал на землю и стал биться в судорогах, безутешно рыдая, целуя землю и брызгая пеной. Потом к ужасу женщин он впал в оцепенение, и Пипа насыпал ему в уши горячего пепла, чтобы смерть не могла шепнуть ему на ухо свою роковую тайну.
Пипа объяснил мне, что души этих дикарей обитают в различных животных и что душа касика облюбовала серую утку. Старик мог умереть от самовнушения при виде мертвой птицы, и тогда его племя отомстило бы мне за убийство. Я поспешил достать из мешка другую утку и пустил ее на свободу; при виде живой птицы индеец замер в экстазе, следя, как за чудом, за ее зигзагообразным полетом над широкой гладью реки.
Этого пустякового случая оказалось достаточно, чтобы индейцы уверовали в меня, как в сверхъестественное существо, владыку их судеб и душ. Ни один из туземцев не осмеливался взглянуть на меня, но я присутствовал в их мыслях, оказывая самому себе неведомое влияние на их радости и горести. Двое молодцов упали к моим ногам, умоляя меня взять их с собой в экспедицию. Я так и не мог запомнить их настоящие имена, но знаю, что в дословном переводе они значили «Лесная Пташка» и «Степной Холм». Мы обнялись в знак того, что я принимаю их предложение; туземцы достали из-под крыши весла и заново обмотали их сизалем, чтобы они могли выдержать напор лодки в водовороте или на порогах.
Старые индианки, со своей стороны, растирали юкку для приготовления касабе,[36] которым мы должны были питаться в лесах. Одни вываливали водянистую массу в себукан — широкий мешок, сплетенный из пальмовых листьев, и, скручивая просунутой палкой его нижний конец, отжимали крахмалистую жижу. Другие, сидя нагишом вокруг очага, раскаливали бударе — глиняную сковородку; они раскатывали на ней грязное тесто и разглаживали его пальцами, смоченными слюной, пока лепешка не становилась твердой. Третьи пряли у себя на коленях лубяные волокна мориче, плетя для меня новый гамак, достойный моего роста и звания, а касик жестами давал мне понять, что отпразднует пышными плясками свое вступление в мои вассалы, вступление, порожденное моей силой и могуществом.
Душа моя уже предвкушала горькую сладость ждавших меня приключений.
Купцы из Орокуэ надули индейцев, посланных нами за покупками. В обмен на кокосовые орехи, гамаки, смолу пендаре и перья цапель они получили разную мелочь, стоившую в тысячу раз дешевле. Хотя Пипа старательно объяснил им соотношение цен, индейцы оказались жертвами собственного невежества, и продувные торгаши лишний раз нажились на обмане. Несколько пакетов крупной соли, несколько красных и синих платков, полдюжины ножей были ничтожной платой за все, что сдали наши посланцы, и они еще вернулись довольными, что их, как это обычно бывает, не заставили мести лавку, полоть огород, носить воду, паковать кожи.
Рушилась надежда пополнить наши припасы; но мы утешали себя тем, что путешествие может оказаться не слишком сложным. Наконец, в ночь полнолуния была закончена подготовка большой курьяры, которой предстояло, плавно покачиваясь на волнах, доставить нас в Кавиону.
На пляски собралось свыше пятидесяти индейцев обоего пола и всех возрастов, размалеванных и разнузданных. Они столпились на открытой отмели вокруг тыквенных сосудов с кипящей чичей. Еще днем они собрали в гнилых стволах деревьев мохохое, толстых, мохнатых гусениц, и теперь обкусывали им головы, как курильщик обкусывает сигару, выпивали липкое содержимое и проводили затем пустой оболочкой по волосам для придания им блеска. У полногрудых девушек волосы, украшенные перьями гуакамайо, сверкали как лакированные, ниспадая на ожерелья из сердолика и коросо.[37]
Касик раскрасил себе лицо орлянкой и медом и вдыхал порошок йопо, запуская себе в ноздри понюшку за понюшкой. Словно в припадке белой горячки, он прыгал, ошалев, среди девушек, хватал их и гонялся за ними, как похотливый, но бессильный козел. Заплетающимся языком он принимался восхвалять меня за то, что я, как перевел мне Пипа, подобно ему, был врагом вакеро и поджигал их ранчо, а эти подвиги делали меня достойным резной маканы и нового лука.
Индейцы опьянели от крепкой чичи, и началась шумная оргия. Женщины и дети усиливали своими криками вакханалию. Потом мужчины начали медленно шагать по кругу под звуки фотуто[38] и дудок, через каждые три шага тряся левой ногой, как этого требуют правила туземного танца. Пляска эта казалась скорее прогулкой заключенных, скованных огромной цепью и принужденных идти по одному и тому же следу под плач дудки и монотонный рокот барабанов. Все затихло; слышались лишь музыка и горячее дыхание танцоров, унылых, как луна, немых, как река, предоставившая им свою отмель для празднества. Вдруг женщины, безмолвно стоявшие внутри круга, обняли своих возлюбленных за талию и зашагали с ними в ногу, откинувшись назад и застыв в этой позе, пока с внезапным облегчением из всех грудей, оглашая все вокруг, не вырвался пронзительный и зловещий крик: «Аааай! О-эй!»
Я лежал, опершись локтями на песок, красновато-желтый от света факелов, и наблюдал за необычайным празднеством. Мои товарищи, пьяные от чичи, танцевали вместе с индейцами, и я был рад, что они забыли свои горести, что жизнь улыбнулась им еще раз. Но вскоре я заметил, что они испускают те же крики, что и дикари, и что в этих криках звучит такое же скрытое горе, словно всех их пожирало пламя одной и той же скорби. В их жалобах звучало отчаяние побежденного племени, и оно сливалось с моим отчаянием, которое рвалось рыданием из моего сердца, хотя губы мои оставались крепко сжатыми: «Аааай! О-эй!»
Когда я в горестном унынии отправился спать, несколько индианок пошли следом за мной и присели на корточки у моего гамака. Сначала они робко перешептывались, но потом одна из них, осмелев, приподняла край полога, а подруги из-за ее плеча разглядывали меня и улыбались. Я закрыл глаза и прогнал соблазн: я желал всей душой освободиться от похоти и найти убежище в спокойном и укрепляющем воздержании.
Гуляки возвратились в шалаш под утро. Распростершись на полу, они спали тяжелым сном, полным пьяных кошмаров. Однако из моих товарищей ни один не вернулся, и я с улыбкой заметил отсутствие нескольких девушек. Но когда я спустился к реке осмотреть курьяру, я увидел голого Пипу, неподвижно лежавшего ничком на песке.
Я оттащил Пипу за руки в тень, с отвращением глядя на его наготу. Этот человек, хваставшийся своей татуировкой и шрамами, предпочитал, несмотря на мои выговоры и угрозы, носить гуайюко. Я оставил его проспаться, и он пролежал там до ночи. Загорелся новый день, а Пипа лежал пластом и не открывал глаз.
Тогда, сняв со стены ружье, я схватил касика за длинные волосы и швырнул его на песок, а Франко притворился, будто спускает собак. Старик обнял мои колени и с трудом объяснял: «Ничего, ничего! Выпить яхе, выпить яхе!..»
Мне были уже известны свойства этого растения, которое один из ученых нашей страны назвал телепатиной. Если выпить ее сок, можно увидеть во сне то, что происходит в других местах. Я вспомнил, что Пипа рассказывал мне, как он пользовался яхе, чтобы узнавать наверняка, в какие степи уехали вакеро и где изобилует дичь. Он предлагал Франко выпить этого сока, чтобы определить место, где находится похититель наших жен.
Ясновидца принесли на руках в хижину и посадили к столбу. Его неправильное безбородое лицо приняло лиловый оттенок. Пипа пускал слюну себе на живот и, не открывая глаз, старался схватить себя за ноги. Я поддерживал руками его голову. Индейцы, собравшись в кружок, смотрели на нас как зачарованные.
— Пипа, Пипа! Что ты видишь, а? Что ты видишь?
Пипа хрипло стонал, давился слюной и сосал свой язык, как леденец. Индейцы утверждали, что Пипа заговорит, лишь когда проснется.
Я с недоверчивым любопытством снова спросил его:
— Что ты видишь? Что ты видишь?
— Ре...ка... Лю...ди... двое...
— А еще? А еще?
— Ку...рья...ра...
— Ты знаешь этих людей?
— Уууу... Уууу... Уууу...
— Пипа, тебе нехорошо? Чего тебе? Чего тебе?
— Спать... Спать... Спа...
Видения спящего человека были причудливы: вереницы кайманов и черепах, болота, полные людей, цветы, испускающие крики. Он говорил, что деревья сельвы — это парализованные гиганты, по ночам они беседуют между собой, обмениваются знаками. Они убежали бы вместе с тучами, но земля держит их за корни, обрекая на вечную неподвижность. Они жалуются на руку, которая их ранит, на топор, который их валит; они навеки обречены пускать ростки, цвести, стонать, продолжать, не оплодотворяясь, свой бесчисленный, никем не понятый род. Пипа слышал их гневные голоса: деревья твердили, что они должны занять поля, степи и города, стереть с лица земли следы человека и оплести весь земной шар густою листвой, как в тысячелетия Бытия, когда бог парил еще в пространстве, как неясная туманность.
Вещая сельва, враждебная сельва! Когда исполнится твое предсказание?
Мы достигли берегов Вичады, истерзанные москитами. Смерть послала их следом за нами на время перехода, и они не отставали от нас ни днем, ни ночью, колыхаясь целым роем, то жалобно жужжа, то звеня, как натянутая струна. Было невозможно спастись от них, они высасывали нашу истощенную кровь через шляпы и одежду, заражая нас микробами лихорадки и кошмаров.
Дожди превратили бескрайние саванны в унылую топь, и мы пробирались по пояс в воде следом за проводниками, утирая с лица пот, с промокшими узлами за спиной, голодные, изможденные, ночуя на заросших кустарником возвышенностях, без огня, без постели, без крова.
Эти широты безжалостны и в летнюю засуху и в зимние дожди. Как-то раз в Мапорите, когда Алисия еще любила меня, я вышел в степь поймать для нее детеныша лани. Лето иссушило безводную степь, и скот, в поисках воды, бродил всюду под палящим зноем. В пересохших руслах потоков рыли копытами землю коровы, а рядом, уткнувшись мордой в жидкую грязь, издыхала лошадь. Стая коршунов хватала змей, лягушек, ящериц, которые, обезумев от жажды, судорожно извивались среди трупов качикамо и чигуире.[39] Бык, вожак стада, раздавал с покровительственным видом удары рогами и властно мычал, заставляя коров идти за ним в поисках луж все дальше, в иссохшую, искрящуюся на солнце степь.
Одна из недавно отелившихся коров сбила себе копыта, раскапывая отвердевшую землю, и возвратилась назад к своему теленку, чтобы дать ему растрескавшееся вымя. Она наклонилась облизать его и умерла. Я поднял теленка: он издох у меня на руках.
А потом, когда наступит пора дождей, враждебная земля вновь изменит свой облик: повсюду можно будет увидеть взгромоздившихся на стволы деревьев паки,[40] лисиц и зайцев, спасающихся от наводнения; и хотя коровы останутся пастись на затопленном лугу, вода будет доходить им до брюха, и кровожадные карибе отгрызут им соски.
Такой разлив и пересекали мы пешком, босые, как это делали когда-то легендарные конкистадоры. Когда на восьмой день мне показали леса на Вичаде, меня бросило в дрожь, и я ринулся вперед с оружием в руках, надеясь застать Алисию и Барреру в позе любовников, неожиданно налететь на них, как сокол на выводок птенцов... Задыхаясь от ярости, карабкался я по скалистому берегу...
Никого! Никого! Тишина, безлюдье...
У кого узнать, куда отправились каучеро? Что пользы продолжать подниматься вверх по реке, по ее сулящим опасности берегам? Не лучше ли отказаться от всего, лечь где-нибудь и предоставить лихорадке убить себя...
Этой ночью гнездившийся в моем сознании призрак самоубийства тянулся ко мне обеими руками, и я сидел в гамаке, упершись челюстью в ствол карабина. «Что станется с моим лицом? Вдруг со мной произойдет то же самое, что с Мильяном?» Одна эта мысль удерживала мою руку.
Темный демон медленно, но упорно овладевал моим сознанием. Я не был таким несколько недель тому назад. Теперь понятия добра и зла перемешались в моем мозгу, и мне пришла в голову мысль из жалости убить моих спутников. К чему бесполезные пытки, когда голодная смерть неизбежна, а пуля убивает наповал? Я хотел принести товарищам мгновенное освобождение и умереть сам. Засунув левую руку в карман, я принялся пересчитывать оставшиеся патроны, выбирая для себя самый острый. Кого убить первым? Франко лежал рядом со мной. Я протянул руку в дождливую тьму и ощупал его горячую голову.
— Чего тебе? — спросил Фидель. — Зачем ты взводишь курок?
— Лихорадка сводит меня с ума.
Нащупав мой пульс, он сказал:
— Бедняга! Бедняга!.. У тебя больше сорока градусов. Накройся моим плащом и пропотей.
— Эта ночь никогда не кончится!
— Скоро взойдет утренняя звезда. Знаешь, — прибавил Фидель, — мулат может свихнуться! Слышишь, как он стонет? Он бредит Себастьяной и льяносами. Говорит, что печень у него затвердела, как камень.
— Это ты виноват. Ты не хотел оставить его дома. Тебе хотелось, чтобы он умер в пустыне.
— Я думаю, что мулат рвется домой, потому что враждует с Пипой.
— Я помирю их навсегда.
— Корреа боится Пипы, который грозится околдовать его; мулат затосковал, когда услышал пение какой-то птицы.
Вспоминая о напитке Себастьяны, я ответил с недоверием:
— Невежество! Суеверие!
— Вчера он достал гитару, хотел сменить разбитый колок и заплакал, когда прикоснулся к струнам.
— Скажи, у тебя в мешке не осталось крошек касабе? Встань, посмотри.
— Не к чему! Все кончилось! Как мне больно, что ты голоден!
— А ягоды этого дерева ядовиты?
— Вероятно. Индейцы ушли ловить рыбу. Подождем до утра.
Едва сдерживая слезы, я пробормотал, отводя ружье:
— Хорошо, хорошо! До утра...
Собаки затеребили полог, давая понять, что надо покидать отмель. Река поднималась.
Когда мы взобрались на каменистый мыс, над лесом еще горели звезды. Собаки лаяли с края скалы.
— Пипа, позови этих псов; они воют так, словно увидели дьявола.
И я протяжно свистнул.
Франко объяснил мне, что Пипы нет, он ушел с туземцами.
Мы заметили внизу что-то вроде света фонаря, казалось, бороздившего воду. Огонь то загорался, то потухал, а на рассвете совсем исчез.
Лесная Пташка и Степной Холм возвратились усталые, с такой вестью: «Рекой подниматься лодка. Товарищ следить берегом. Ехать беглый».
Пипа принес новые сведения: это была легкая курьяра с плетеной крышей из пальмовых листьев. Заметив в темноте индейцев, в лодке погасили свет и свернули в сторону. Пипа посоветовал нам подстеречь курьяру и обстрелять ее.
Часам к одиннадцати утра, бесшумно гребя, незнакомцы направили лодку краем заводи, чтобы преодолеть быстрину и миновать водоворот; лодка пристала к берегу, и один из гребцов потащил ее за цепь. Мы взяли его на мушку, а Франко бросился ему навстречу, высоко занеся мачете. Человек, сидевший у руля, вскочил с криком:
— Лейтенант! Лейтенант! Это я — Эли Меса!
И, выпрыгнув на берег, он горячо обнял Фиделя. Потом, угостив нас варевом из грубо помолотого маниока, Меса спросил, подкладывая новую порцию:
— Почему вы так расспрашиваете меня о каучеро? Да, некий Баррера сманил партию людей и везет их в Бразилию, чтобы продать на Гуайниа. Меня он тоже завербовал два месяца назад, но я убил надсмотрщика и сбежал в том месте, где эта река впадает в Ориноко. Эти двое индейцев, сопровождающие меня, с реки Майпурес.
Ошеломленный, я тупо уставился на товарищей; голова кружилась сильнее, чем в самом ужасном приступе лихорадки. Мы молчали — не в силах справиться со своими мыслями; Меса беспокойно оглядывал нас, Франко прервал молчание:
— Скажи, Грисельда тоже в этой партии?
— Да, лейтенант.
— И девушка по имени Алисия? — спросил я сдавленным голосом.
— Тоже, тоже!..
Мы сели вокруг горевшего на песке костра, ища в дыму спасения от москитов. Было уже за полночь, когда Эли Меса закончил свой страшный рассказ. Я слушал, сидя на земле, уткнув голову в колени.
— Если бы вы видели проток Муко в день нашего отплытия, то подумали бы, что празднеству не будет конца. Баррера расточал ласки, улыбки, поздравления, довольный завербованной им партией каучеро. Гитары и мараки не знали устали. Фейерверка не удалось устроить — не было ракет, но зато мы стреляли из револьверов. Песни, выпивка, обильный обед. Потом, достав новые бутылки с водкой, Баррера произнес лживую речь, сдобренную посулами и лестью, и уговаривал нас сложить оружие в одну лодку — для того лишь, чтобы среди веселья не произошло несчастного случая. Мы все покорно повиновались.
Я был сильно пьян, но меня не покидала тревожная мысль о том, что в этих лесах нет никаких каучуковых разработок, и мне хотелось возвратиться на свое ранчо к покинутой мною молодой индианке. Однако даже Грисельда высмеивала мои страхи, и я прокричал вместе со всеми при отплытии: «Да здравствует деятель прогресса, сеньор Баррера! Ура нашему предпринимателю! Да здравствует экспедиция!»
Я уже рассказал вам, что произошло после нескольких часов путешествия, как только мы достигли Вичады. У надсмотрщиков Голубя и Оленя на берегу был лагерь с пятнадцатью вооруженными людьми, и, когда мы причалили, они учинили обыск, заявив, что мы якобы совершали налеты на венесуэльскую территорию. Баррера все это подстроил, а сам лицемерно говорил: «Дорогие друзья, милые соотечественники, не сопротивляйтесь. Дайте этим сеньорам обыскать лодки, пусть они убедятся, что мы — безобидные люди».
Люди Голубя и Оленя вошли в лодки и остались часовыми на корме и на носу. Зная, что мы безоружны, они под страхом смерти приказали нам не двигаться с места и застрелили пятерых ослушников.
Баррера сказал тогда, что уезжает вперед, в Сан-Фернандо дель-Атабапо — заявить протест против незаконных действий и требовать от полковника Фунеса возмещения убытков. Он уплыл с Грисельдой и Алисией на лучшей лодке, полной оружия и провианта, уплыл, оставаясь глухим к нашим мольбам и проклятиям.
Пользуясь нашим опьянением, Голубь переписал нас и связал по двое. С этого дня мы стали рабами и нас нигде не выпускали на берег. В сосудах из выдолбленной тыквы нам давали маниок. Руки у нас были связаны, и мы, стоя на коленях, ели его, как собаки, уткнувшись лицом в плошки. В лодке с женщинами под палящим солнцем ехали дети. Они то и дело смачивали себе головки, чтобы не умереть от солнечного удара. Плач ребят и мольбы матерей, просивших веток, чтобы прикрыть детей от нестерпимого зноя, раздирали мне душу. В тот день, когда мы вышли в русло Ориноко, плакал от голода грудной ребенок. Олень, заметив на его теле язвы от укусов москитов, заявил, что это оспа, и, схватив дитя за ноги, покрутил им в воздухе и бросил в воду. Кайман мгновенно подхватил ребенка, поплыл к берегу и сожрал его там. Обезумевшая мать бросилась в воду, где ее ожидала та же участь. Пока стража радовалась новой забаве, мне удалось освободиться от веревок; я схватил стоявшую рядом винтовку, воткнул штык в спину Оленя, пригвоздив его к борту лодки, и на глазах у всех бросился в реку.
Крокодилы были заняты женщиной. Ни одна из пуль не попала в меня. Бог вознаградил мое мщение, и вот я здесь.
Рукопожатие Эли Месы влило в меня новую силу. В биении его пульса я почувствовал порыв, с каким он вогнал острую сталь в гнусное тело надсмотрщика. Эти непокорные руки, покрытые золотистым пушком, как и юношеские щеки Эли, умели укрощать сельву, они побеждали реку веслом и шестом.
— Не хвалите меня, — говорил он. — Я должен был всех их убить!
— К чему было бы тогда мое путешествие? — возразил я.
— Вы правы. Не у меня украли жену, моя ярость вызвана чувством сострадания. Лейтенант знает, что я и здесь буду его солдатом, как в Арауке. Так идем же на поиски злодеев и освободим завербованных ими людей. Они должны быть на реке Гуайниа, в сирингале[41] Ягуанари. Они свернули, вероятно, с Ориноко на Касикьяре, и неизвестно к какому хозяину они теперь попали: там немало торговцев людьми. Голубь и Олень были компаньонами Барреры в этом деле.
— Значит, по-твоему, Алисия и Грисельда проданы в рабство?
— Точно не знаю, но могу вам поручиться, что ваши жены — ценный товар. Любой хозяин за каждую из них даст десять кинталов каучука. Так их оценивала стража.
Я вернулся отмелью к своему гамаку, мрачный от тоски и злорадства. Какое счастье, что беглянки отведают ужасы рабства! Хлыст надсмотрщика отомстит им за меня! Они пойдут болотистыми лесами растрепанные, изможденные, неся на голове наполненные каучуком баки, вязанки дров, коптильные котелки. Ядовитый язык надсмотрщика ранит их бранным словом и не даст им перевести дыхание даже для стона. По ночам они будут спать в темном бараке, в отвратительной близости с пеонами, защищаясь от их похотливых объятий, не зная, кто их насилует, а стража зловеще будет пересчитывать людей, указывая их номера в очереди: «Первый!.. Второй!.. Третий!..»
Внезапно от этих видений сердце мое чуть не разорвалось, я оцепенел, задыхаясь: Алисия несет в своем истерзанном чреве моего сына! Какую более бесчеловечную пытку можно изобрести для мужчины? У меня не было сил даже закричать; я стонал и до крови расцарапал себе голову.
Потом мысли мои бессознательно приняли другой, извращенный оборот. Баррера мог оставить Алисию для себя и для других... Этот негодяй был способен иметь любовницу и торговать ею. Какому искусному разврату, какому утонченному сладострастию мог он ее научить! Лучше, если бы он ее продал, лучше бы он продал ее! Десять кинталов — это слишком дорогая цена. Она отдастся всего за фунт каучука.
Быть может, она живет не рабыней в сирингалях, а королевой в деревянном доме предпринимателя, одевается в дорогие шелка и тонкое кружево, помыкая служанками, как Клеопатра, насмехаясь над бедностью, в которой мы жили, когда я не мог дать ей ничего, кроме чувственного наслаждения. Быть может, развалясь в плетеной качалке, в благоуханной тени, распустив волосы и расстегнув корсаж, она смотрит, как грузчики, потные и оборванные, бросают в трюм тюки с каучуком, а она, богатая бездельница, обвеваемая опахалами, томно опускает веки под пленительные звуки виктролы, довольная своей красотой вожделенной и нечистой женщины.
Но я был смертью, и я приближался к ней!
В индейском поселке Укунэ касик угостил нас лепешками из касабе и обсудил с Пипой нашу будущую дорогу: нам предстояло пересечь степь между Вичадой и рукавом Вуа, спуститься в долину Гуавьяре, подняться по Инириде до Папунагуа, перебраться через лесистый перешеек в поисках бурной Исаны и довериться ее волнам, чтобы они доставили нас на темноводную Гуайниа.
Этот маршрут, требующий нескольких месяцев, был все же короче, нежели путь завербованных Баррерой людей, едущих по Ориноко и Касикьяре. Мы просмолили лодку и пустились в путь по затопленным саваннам. Сидя в курьяре на корточках, в мучительно неудобных позах, рядом с собаками, мы, спасая провиант, поочередно вычерпывали раковиной дождевую воду.
Мулат Корреа продолжал трястись в лихорадке под байетоном, который в былые дни служил ему в пампе для защиты от злобных быков. Я заметил, что мулат старается дотянуться головой до своей груди, и спросил его, в чем дело. Он объяснил мне, что прислушивается к тому, как жучок грызет его сердце. Я сочувственно обнял Корреа.
— Приободрись! Приободрись! Я тебя не узнаю!
— И правда, белый. Прежний Корреа остался в льяносах.
Мулат жаловался, что это Пипа напустил на него порчу за то, что он не дает Пипе гитару. Я подозвал плута и встряхнул его за плечи:
— Если не перестанешь пугать этого беднягу своими выдумками, я привяжу тебя голым к муравейнику.
— За кого вы меня принимаете! Да, я напустил порчу, но не на него, а на беглецов, а этот мулат вбил себе в голову, что я околдовал его. Убедитесь сами!
Пипа вытащил из заплечного мешка пучок соломы, перевязанный проволокой, наподобие веника, развязал его и сказал:
— Я каждую ночь скручивал этот пучок и думал о Баррере, чтобы он чувствовал, как его давят и душат и чтобы он в конце концов распался бы на мелкие части. Эх, если бы я мог вонзить в него ногти! Теперь, как видите, все волшебство пропало: Баррера спасется по вине невежественного мулата.
И Пипа далеко отшвырнул от себя колдовской пучок. Временами мы, перебираясь через пороги, тащили лодку волоком или несли ее на плечах, точно пустой гроб для неведомого мертвеца, поджидающего нас в какой-то далекой стране.
— Эта курьяра похожа на гроб, — произнес Фидель.
А мулат пророческим тоном добавил:
— На наш гроб!
Безыменные реки изобиловали рыбой, но отсутствие соли лишало нас аппетита. К москитам присоединились вампиры. Каждую ночь они со скрежетом облепляли пологи гамаков; приходилось закутывать не только себя, но и собак. Невдалеке от костра рычали ягуары, и выстрелы наших ружей не раз будили сельву, попрежнему бескрайнюю и враждебную.
Однажды вечером, когда мы причалили к берегу, я заметил на отмели Гуавьяре след человека. На глинистой почве отчетливо отпечаталась чья-то маленькая нога, но вокруг не было заметно других следов. На мой крик прибежал Пипа, охотившийся с луком на рыб, и вскоре мои товарищи обступили след, стараясь угадать направление, по которому ушел незнакомец. Но Эли Меса категорически заявил:
— Это след индианки Мапирипаны!
И той же ночью, пока мы с Фиделем жарили на вертеле черепаху, Эли спорил с Пипой: «Не убеждай меня, что это Пойра прошел вчера берегом реки. У Пойры вывернутые ноги, он носит на голове жаровню с углями, которые не тухнут даже тогда, когда он опускается на дно заводей. Везде он оставляет за собой рассыпанный пепел. Давайте начертим на песке бабочку средним пальцем правой руки. Этот знак предохранит нас от смерти и от лесных духов, а я расскажу вам историю индианки Мапирипаны».
Все мы, кроме майпуренцев, выполнили совет Эли Месы.
Мапирипана — жрица безмолвия, хранительница родников и лагун. Она живет в сердце сельвы, поднимает туманы, прокладывает путь ключам и, собирая жемчужинки капель в бархате оврагов, порождает новые ручьи, несущие свои прозрачные сокровища большим рекам. Это она создала притоки Ориноко и Амазонки.
Индейцы этих мест страшатся Мапирипаны. Она разрешает им охотиться лишь в безмолвии, не нарушая тишины. Те, кто не исполняет ее повеления, возвращаются с пустыми руками; достаточно всмотреться в сырую глину, чтобы догадаться, что это прошла именно она, спугивая животных и оставляя след одной только ноги: пяткой вперед, точно она шла все время отступая назад. Мапирипана всегда держит в руке лиану, и она первая стала употреблять пальмовые веера. По ночам в чаще слышны ее крики, а в полнолуние она проплывает мимо берегов на щите черепахи, который тянут речные дельфины, поводя плавниками в такт ее песне.
Когда-то, давным-давно, в эти места попал миссионер; он напивался допьяна пальмовым соком и спал на песке с девочками индианками. Считая себя посланцем неба, обязанным искоренять суеверия, он решил подстеречь Мапирипану, когда она выйдет ночью из заводи Чупаве, связать ее веревкой, которой подпоясывал свою рясу, и сжечь живой, как колдунью. На повороте реки, быть может на той самой отмели, где вы теперь сидите, он увидел, как Мапирипана ворует яйца черепахи терекай, и заметил при свете полной луны, что она одета в легкую паутину и по виду напоминает молоденькую вдову. Похоть толкнула миссионера вслед за индианкой, но она ускользнула от него во мраке; монах упорно окликал ее; ему отвечало обманчивое эхо. Индианка заманила его в глушь, завела в пещеру и не выпускала его оттуда много лет.
В наказание за распутство Мапирипана сосала его губы, и несчастный, исходя кровью, закрывал глаза, чтобы не видеть ее лица, мохнатого, как у орангутанга. Через несколько месяцев она забеременела и родила отвратительных близнецов: вампира и сову. Миссионер, придя в отчаяние, что произвел на свет такие существа, бежал из пещеры, но собственные дети преследовали его, и ночью, когда он прятался, вампир пил его кровь, а сова освещала его, сверкая большими, как зеленые фонари, глазами.
На рассвете монах продолжал путь, подкрепляя свой отощавший желудок плодами и молодыми побегами пальм. От топи, известной под именем «Лагуна Мапирипаны», он пошел по твердой земле и достиг Гуавьяре. Не зная дороги, он решил подняться по реке на случайно подвернувшейся ему лодке. Но перебраться через порог Мапирипаны ему оказалось не под силу: индианка мутила воду, бросая в поток огромные камни. Миссионер спустился тогда в бассейн Ориноко, но ему преградили путь стремнины Майпуреса, созданные его дьявольским врагом, вместе с водопадами на Исане, Инириде и Ваупесе. Потеряв всякую надежду на спасение, он возвратился в пещеру и увидел, что индианка улыбается ему со своих качелей из цветущих лиан. Он склонился перед ней, умоляя защитить его от своих же детей, и лишился чувств, услышав ее жестокий ответ: «Кто может освободить человека от угрызений совести?»
С тех пор он предался молитве и покаянию и умер от старости и истощения. Индианка застала его простертым на скудном ложе из листьев и мха; он размахивал руками в бреду, точно ловя в воздухе собственную душу, а когда он скончался, из пещеры вылетела голубая бабочка с большими и сверкающими, как у ангела, крыльями. Эту бабочку видят все, кто умирает от лихорадки в этих местах.
Никогда еще мне не было так страшно, как в тот день, когда я заметил, что галлюцинирую. Вот уже больше недели, как я внутренне гордился ясностью мысли, тонкостью ощущений, сложностью переживаний: я настолько чувствовал себя хозяином жизни и судьбы, находил такие легкие решения всех проблем, что начал считать себя любимцем фортуны. В моей душе возникло понятие чуда. Мне было приятно давать волю фантазия, и я не спал ночами, стараясь определить, что такое сон и где он возникает: в атмосфере или в человеческих зрачках.
Мое безумие проявилось впервые на темной Инириде, когда мне почудилось, будто песчинки умоляют меня: «Не топчи нас, нам больно; сжалься над нами и брось нас в воздух, мы устали неподвижно лежать!»
Я лихорадочными движениями начал подбрасывать песок, поднимая столбы пыли, и Франко вынужден был схватить меня за рукав, чтобы я не бросился в воду, откуда мне слышался зов струй: «А нас тебе не жалко? Возьми нас на руки, дай нам позабыть наше движение; злой песок не останавливает нас, и мы боимся моря».
Бред прекратился, как только я прикоснулся к воде, но тогда меня начало терзать сознание, что я должен опасаться самого себя.
Иногда, чтобы отвлечься от этой мысли, я начинал грести, пока не падал в изнеможении. Я пытался прочесть во взорах моих товарищей, что думают они о моем здоровье. Я нередко замечал их тревожные взгляды, но они, желая подбодрить меня, говорили: «Не утомляйся, ты еще не знаешь, что такое лихорадка».
Я, конечно, понимал, что речь идет о чем-то более серьезном, и отчаянно старался внушить себе, что я совершенно нормален. Стремясь убедить себя в твердости рассудка, я пускался в беседы на интересующие меня темы, воскрешал в памяти старые стихи, радуясь живости своего ума, а затем внезапно начинал бредить. Приходя в себя, я спрашивал у Франко: «Скажи мне, бога ради, я не говорил чепухи?»
Но мало-помалу нервы мои стали успокаиваться. Однажды утром я проснулся веселым и стал насвистывать любовную песенку. Потом я растянулся у подножья каобы[42] и, уткнувшись лицом в траву, посмеялся над болезнью, приписывая свои прежние страхи неврастении. Вдруг я почувствовал, что умираю от каталепсии. Задыхаясь в агонии, я понял, что не грежу. Это была моя судьба, роковая, неотвратимая! Я хотел застонать, хотел шевельнуться, хотел закричать, но тело мое оцепенело, и только волосы поднимались на голове, как поднимаются сигнальные флажки над тонущим кораблем. Холод леденил ноги и медленно распространялся по всему телу, как влага, пропитывающая кусок сахару; нервы мои приобрели хрупкость стекла, сердце стучало в своей хрустальной оболочке, и глазные яблоки, затвердевая, вспыхивали молниями.
И тут я в диком ужасе понял, что мои крики не были слышны: они возникали и угасали в моем мозгу, не вырываясь наружу, словно это были всего лишь мысли о крике. Тем временем воля моя отчаянно боролась с неподвижностью тела. Появившаяся около меня тень занесла свою косу над моей головой. Я с ужасом ждал удара, но Смерть остановилась в нерешительности, а потом, слегка замахнувшись косой, ударила меня по голове. Черепная коробка треснула, словно тонкое стекло, и осколки ее зазвенели, как монеты в копилке.
Тогда каоба встряхнула ветвями, и в их шелесте я услышал проклятье: «Руби, руби его без пощады, чтобы он узнал, что такое удар топора по живому телу. Руби его, хотя он сейчас беззащитен, — он губил деревья и должен испытать ту же пытку, что и мы!»
Лес словно понимал мои мысли, и я обратился к нему: «Убей меня, если хочешь, — я еще жив!»
Гнилое болото мне отвечало: «А мои испарения? Разве они не делают своего дела?»
Листья зашуршали под чьими-то шагами. Франко, улыбаясь, подошел ко мне и указательным пальцем приподнял мне веко. «Я еще жив! Я еще жив! — кричало что-то внутри меня. — Приложи ухо к моей груди, и ты услышишь, как бьется мое сердце!»
Равнодушный к моей немой мольбе, Фидель подозвал товарищей и сказал им без слезинки в глазах: «Он умер, копайте могилу. Это лучший исход для него». И с отчаянием в душе я услышал удары кирки о слежавшийся песок.
Напрягая все свои силы, в последний раз я подумал: «Будь проклята моя роковая звезда, если ни при жизни, ни после смерти люди не могли догадаться, что у меня есть сердце!»
Я открыл глаза. Я воскрес. Франко тряс меня:
— Не спи на левом боку, опять будешь бредить.
Но я ведь не спал! Я не спал!
Майпуренцы, приплывшие с Эли Месой, казались немыми. Определить их возраст было столь же безнадежно, как сосчитать годы черепахи. Ни голод, ни усталость, ни непогода не могли изменить безразличного выражения их лиц. Подобно серым уткам-рыболовам, которые всегда живут особняком и не расстаются ни в полете, ни на отдыхе, эти индейцы, старообразные и унылые, держались вместе, тихо переговаривались между собой и отсаживались от нас во время привалов. Разведя костры, собрав рыболовные остроги, прикрепив крючки к лесам, они дружно, как близнецы, ели из чашки юкуту.
Я ни разу не видел, чтобы они общались с гуаибо или улыбнулись на шутки и гримасы Пипы. Они ничего не просили и ничего не давали. Рыжий Меса был нашим посредником, и индейцы односложно переговаривались с ним, требуя возврата их единственного имущества — курьяры. Они хотели вернуться на свою реку.
— Вы должны проводить нас до Исаны.
— Не можем.
— Тогда знайте, что курьяры вы не получите.
— Не можем.
Когда мы вышли в русло Инириды, старший из них настойчиво обратился ко мне с просьбой, в которой звучала угроза:
— Отпусти нас обратно на Ориноко. Не поднимайся по этим рекам, они прокляты. Дальше пойдут каучуковые леса и гарнизоны. Тяжелая работа, злые люди убивают индейцев.
Эти слова подтверждали сведения, полученные нами ранее от Пипы, который советовал нам не приближаться к ущельям Гуараку.
Вечером я попросил Франко подробнее опросить майпуренцев. Индейцы с большой неохотой рассказали, что на перешейке Папунагуа живет разноплеменный народец, состоящий из каучеро, бежавших с рек Путумайо и Ахаху, Апопорис и Макайя, Ваупес и Папури, Ти-Парана (река крови) и Туи-Парана (река пены). Эти люди имели в сельве лазутчиков, на случай появления вооруженных патрулей, посланных на их розыски. Несколько лет тому назад какие-то гвианцы поработили беглых сирингеро и основали на Исане «фабрику»; управляет ею корсиканец по прозвищу «Кайенец». Нам надо свернуть в сторону; если мы наткнемся на беглых, они сочтут нас врагами, а если выйдем к баракам Кайенца, нас заставят работать до конца жизни.
Последний луч солнца растворился в воде. Стемнело. Неотвязные мысли и бессонница одолевали меня. Сведения, полученные от майпуренцев, достоверные или ложные, привели меня в уныние. Мрак густел в лесу. Что ждало меня за этой темной стеной?
В полночь я услышал лай собак и перебранку. Мои спутники, споря, окружили лодку.
— Убить его, убить его! — говорил Меса.
Франко окликнул меня. Я подбежал с револьвером в руке.
— Эти негодяи собирались угнать лодку. Они хотели бросить нас в лесу на голодную смерть! Говорят, что это Пипа дал им такой совет!
— Клевета! Мыслимое ли это дело! Разве я способен давать такие подлые советы?
Майпуренцы попробовали робко возразить:
— Ты просил нас уложить в лодку твою постель и два ружья.
— Досадное недоразумение! Я предложил им бежать, чтобы выведать их намерения. Они отвечали, что не хотят. Оказывается — хотели. И как это я не донес на них! Так и расцарапал бы их ногтями!
Я прервал спор, решив высечь Пипу, и поручил это дело его сообщникам. Он извивался сильнее, чем бичи, которыми его хлестали, и со стоном вымаливал прощение именем Алисии. Когда на теле Пипы выступила кровь, я пригрозил бросить его на съедение карибе. Пипа притворился потерявшим сознание. Майпуренцы и гуаибо, оцепенев от ужаса, глядели на него. Я торжественно предупредил индейцев, что в дальнейшем застрелю каждого, кто без моего разрешения покинет свой гамак.
Переправа через бурные реки потребовала нескольких недель. Мы считали, что все водопады уже пройдены, но лесное эхо донесло до нас гул нового неистового водоворота. Вдали над скалами пена его вздымалась, как вымпел. Клокочущие струи дыбились с ревом и поднимали ветер, гневно трепавший кроны бамбука и приводивший в движение легкую радугу, невесомой дугой колебавшуюся в тумане водяных брызг.
По обеим сторонам бушующего потока высились обломки размытого рекой базальта. Направо, образуя тесную горловину, словно это была рука, протянутая утесом к пучине, свисал над водой ряд громадных камней, откуда низвергались искрящиеся каскады. Нам надо было преодолеть течение реки вдоль левого берега; скалы справа не позволяли тащить курьяру волоком. Мы привыкли к тому, что подобные маневры оканчивались нашей победой, и тащили лодку, пробираясь краем обрыва, но, попав на подводные рифы, лодка, лишенная балласта и рулевого, дала крен и завертелась в бешено бурлящем водовороте. Эли Меса, руководивший героическим переходом, взвел курок револьвера и приказал майпуренцам спуститься по камням, перескочить в лодку и сесть на носу и корме с веслами в руках. Отважные туземцы повиновались ему и, примостившись в скользком челноке, крутившемся среди пены, старались направить его в сторону главного течения, но вдруг трос лопнул, лодку втянуло назад в водоворот, и не успели мы крикнуть, как огромная воронка поглотила людей.
На поверхности реки остались лишь две шляпы, кружившиеся в водовороте, над которым радуга раскинула крылья, как бабочка индианки Мапирипаны.
Картина мгновенной гибели гребцов ослепила меня, как молния, своей красотой. Какое это было великолепное зрелище! Смерть выбрала новую форму расправы со своими жертвами, и стоило бы только поблагодарить ее, если бы она пожрала и нас, не пролив крови, не окрасив наши трупы отвратительной мертвенной бледностью. Как прекрасна была смерть этих людей — жизнь их угасла мгновенно, как искра в водяной пене, сквозь которую унеслись ввысь их души, породив в ней веселое кипенье.
Пока мы, стремясь оказать хотя бы запоздалую помощь, сбегали с утеса, чтобы бросить веревку утопающим, я невольно подумал, что их спасение снизило бы величественность катастрофы, и, не отводя глаз от подводных камней, я ощутил тайную боязнь, что распухшие тела утопленников всплывут и присоединятся к пляске их шляп в водовороте. Но бурлящие струи успели окончательно смыть следы недавней трагедии.
— Ты дурак, Франко! Зачем ты стараешься спасти тех, кого унесла внезапная смерть? Какая им польза, если они воскреснут? Оставим их здесь, можно только позавидовать такой смерти!
Франко вытаскивал на берег обломки челна. Он замахнулся на меня:
— Так, значит, друзья ничего для тебя не стоят? Вот чем ты платишь нам? Я никогда не считал тебя таким гадким и бесчеловечным!
Вспышка гнева Фиделя ошеломила меня. Я чувствовал себя оскорбленным и искал взглядом карабин. Франко старался перекричать грохот потока и размахивал руками перед моим лицом. Его резкий тон задел меня. Никогда не видел я гнева, выраженного в такой яркой и бурной форме. Фидель говорил о своей жизни, загубленной ради моего каприза, о моей неблагодарности, о моем своевольном характере и злопамятстве.
— Ты уже не раз обманывал меня в Мапорите, ты скрыл от меня свое положение, прикинувшись богатым человеком, тогда как твоя нищета выдавала тебя с головой; ты уверял, что женат, хотя смущение Алисии говорило о ваших подлинных отношениях. И ты еще ревновал Алисию, как девушку, после того как сам же соблазнил и развратил ее. Ты сам, похитив ее, научил обману, а теперь разражаешься воплями, когда она похищена другим. Ты гоняешься за ней в пустыне, а в городах изнывают в своей добродетели другие женщины, покорные и красивые! Ты втянул товарищей в эту авантюру, в это опасное путешествие и заранее радуешься их трагической гибели! И все — из-за твоей сумасбродной горячности и любви к эффекту, — продолжал Франко.
Последние слова Фиделя ударили меня, как обухом по голове. Как, это я-то сумасброд? Почему? Почему?
Я парировал удар и попал в цель.
— Дурак! В чем мое сумасбродство? То, что я делаю из-за Алисии, ты сделал сам из-за Грисельды! Думаешь, я не знаю? Ты убил из-за нее капитана!
И, чтобы еще сильнее обидеть Франко, я прибавил, пародируя известную поговорку: «Плохо, не когда имеешь любовницу, а когда женишься на ней».
Услышав мой язвительный смех, Фидель прислонился к скале. Одно мгновение казалось, что он вот-вот упадет. Мои слова пронзили его, как копье. И тогда я услышал страшное признание, которого никак не мог ожидать:
— Я не убивал капитана. Его заколола сама Грисельда. Это может подтвердить Эли Меса, тот самый, что идет с нами сейчас. Правда, тогда, вбежав в темную комнату, я, не целясь, несколько раз выстрелил. Но Грисельда отняла у меня револьвер, зажгла свечу и мужественно произнесла: «Он потушил свет, чтобы обесчестить меня; и я отплатила ему». Капитан плавал в луже собственной крови...
Если Грисельда и была виновата, она искупила вину своим мужеством. Я взял у нее кинжал, — продолжал Фидель, — отдал себя в руки правосудия и принял всю вину на себя. Но капитан не предал дела огласке. Он не обвинил никого.
Корреа и Меса подтвердят, как меня обирал судья из Орокуэ. Он хотел уличить меня в незаконном сожительстве, но его удерживала мысль, что мы можем оказаться женатыми. Грисельда — ловкая женщина, и она не упускала случая рассказывать о нашем браке. На этой лжи держалась вся наша жизнь. Клянусь, что все сказанное мною — правда!
Этот рассказ был настолько неожиданным, что поверг меня в неописуемое смятение, и у меня невольно закружилась голова. А между тем Фидель продолжал обнажать свое сердце и раскрывать свою душевную драму. Он говорил о семейных ссорах, об отвращении к совместной жизни с убийцей, о попытках добиться желанной развязки. Он ни на миг не терял надежды, что жена сама уйдет от него и тем самым избавит его от постыдной необходимости прогнать ее без всякой видимой причины. Но Грисельда, к несчастью, оставалась верной ему: она окружила его вниманием и заботой, привязав к себе нерасторжимыми узами ласковой жалости, которая победила глубокую неприязнь мужа. Для нее он, работая в поте лица, создал ранчо Мапорита. Он хотел обеспечить ей безбедную жизнь и вернуться в Антиокию, когда ему за давностью лет простят дезертирство. Но, когда он, Фидель, убедился в том, что Баррера ухаживает за Грисельдой, в нем вспыхнула ревность. Может быть, без моего пагубного примера он покорился бы судьбе и предоставил Грисельде свободу, но я заразил его своим бешенством, и теперь он следом за мною идет к катастрофе. Теперь уж поздно раздумывать! Поздно размышлять! Возвращение немыслимо! Он не простит беглянке, ни живой, ни мертвой, но он не хочет причинить ей вреда. Он не знает, что делать!
Я ничего больше не припоминаю из его слов: я слушал их машинально. Завеса прошлого упала с моих глаз. Забытые подробности предстали передо мной в ином свете, и я отдал себе отчет во многих не замеченных раньше обстоятельствах! Да! Грисельда имела основание уговаривать мужа покинуть Мапориту! И вот почему она так отчаянно закричала, когда я замахнулся ножом на Мильяна, пытавшегося отнять товары у дона Рафаэля! Блеск клинка напомнил ей ужасную сцену, когда она с зажженной свечой стояла над плавающим в крови соблазнителем. «Он потушил свет, чтобы обесчестить меня, и я отплатила ему». Я вспомнил ее мнение о людях и слова, которыми она постоянно сдерживала мои приставанья: «Если ты не хочешь взять меня с собой, не будь так нахален. За кого ты меня принимаешь? Тебе я прощаю, но другому... другому я показала, кто я такая!»
И Грисельда, вздрогнув, ударяла кулаком по моей груди, словно пронзая ее карающей сталью.
Эту жизнерадостную и вспыльчивую женщину Алисия сделала своей советчицей, своей наперсницей. В неопытной и замкнутой Алисии под опасным влиянием Грисельды развился новый характер. Думая, быть может, что я ее брошу, Алисия отдалась под покровительство хозяйки и подражала Грисельде даже в недостатках, не обращая внимания на мои упреки и давая мне понять, что она — не одна и я могу уйти от нее когда угодно.
Как-то раз Грисельда в мое отсутствие обучала Алисию стрельбе в цель. Я застал их с дымящимся револьвером, но женщины отнеслись к моему появлению так равнодушно, словно занимались шитьем.
— Это что еще такое, Алисия? Давно ли ты стала такой храброй?
Алисия, не отвечая, пожала плечами, а подруга ее промолвила с усмешкой:
— Мы, женщины, должны все уметь! Нельзя поручиться даже за мужа...
Эли Меса прервал мои мысли:
— Ваша дружба нерушима. Это — пустячная ссора. Руки лейтенанта не запятнаны кровью. Вы можете смело пожать их.
Схватив руки Фиделя, я сказал Эли:
— Дай мне и твои руки, они запятнаны во имя справедливости.
В эту ночь сбежали Пипа и оба гуаибо.
— Друзья мои, я согрешил бы против совести и чести, если бы не заявил вам сейчас, как уже говорил вчера, что вы свободны, что моя судьба не должна связывать вас и направлять по одному со мною следу. Думайте о вашей жизни прежде, чем о моей. Предоставьте меня моей судьбе. У вас есть еще время вернуться. Моя дорога ведет к смерти.
Если вы упорно не желаете покидать меня, то пеняйте на себя. Мы будем единодушны во имя общего дела, но каждый будет сам отвечать за свою судьбу. В противном случае я не соглашусь остаться с вами.
Вы говорите, что от места слияния этой реки с Гуавьяре всего полдня пути по воде до поселка Сан-Фернандо дель-Атабапо. Если вы не боитесь, что полковник Фунес задержит вас, как подозрительных, минуйте берегом пороги, свяжите плот из банановых стволов и спуститесь до Атабапо. Пищу — кокосовые орехи и пальмовые побеги — вы найдете в лесу.
Я со своей стороны прошу вас об одном: помочь мне переправиться на другой берег. Майпуренцы уверяли, что дельта Папунагуа расположена в нескольких километрах от этих порогов. Там живут индейцы пуйнаве. С ними я проберусь до Гуайниа. Вы знаете, к чему я стремлюсь, хоть это и может показаться бредом сумасшедшего.
С такими словами обратился я к товарищам утром, после того как мы провели ночь на скалистом берегу Инириды.
Рыжий Меса ответил за всех:
— Мы четверо будем одним человеком. Что сделано, то сделано. Смело вперед!
И он пошел по обрывистому берегу в поисках удобного места, где бы мы могли переправиться через реку с гамаками и оружием.
С этого дня мной овладело отчетливое предчувствие беды, и вся цепь последовавших за этим несчастий наметилась уже тогда. Но я неуклонно шел вперед по отмелям, временами бросая тревожный взгляд на противоположный берег: я был уверен, что мне уже не придется вернуться по своим следам. Мои глаза встречались тогда с глазами Фиделя, и мы молча улыбались.
— Очень хорошо, что Пипа сбежал, — произнес Корреа. — Разве можно было полагаться на этого бандита, на этого дьявола? Сколько раз он повторял нам, что лучше выйти на Гуайниа перешейком у Неукена. Он, видно, боялся леса. Но еще больше — полковника Фунеса.
— Ты прав, — ответил я ему. — Пипу вечно пугала мысль, что у порогов на нас набросятся беглые индейцы, прячущиеся в этих непроходимых дебрях.
— А сколько раз он врал, что видит над скалами дым, и не соглашался, когда ему говорили, что это — водяная пыль над водопадами.
— Но здесь, бесспорно, проходили люди, — заметил Меса. — Смотрите, на берегу — рыбьи кости, головни, кожура плодов.
— И еще более редкие предметы, — прибавил Франко, — консервные банки и пустые бутылки. Это были не индейцы, а недавно прибывшие гомеро.
При этих словах я подумал о Баррере, но Рыжий продолжал, словно угадав мою мысль:
— Я совершенно убежден, что те, кого мы ищем, — на Гуайниа. Здесь слишком мало следов — прошло не больше двадцати человек, — и следы все крупные. Это были венесуэльцы. Надо перебраться на другой берег и поискать других признаков их пути. Видите просвет в черной полосе лесов? Быть может, это устье Папунагуа.
Тем же вечером, улегшись ничком на плоту и гребя руками вместо весел, мы переплыли на противоположный берег по окровавленной заходящим солнцем глади реки.
Я с яростью накинулся на дозорного. И, несомненно, я убил бы его, если бы он попытался оказать хоть малейшее сопротивление. Когда этот человек, дрожа всем телом, спускался с дозорной вышки по зарубкам бревна, служившего ему лестницей, я толкнул его, и он упал на землю. Тогда я схватил его за волосы, беззащитного и ошеломленного падением, и заглянул ему в лицо. Это был худой высокий старик: он испуганно смотрел на меня, прикрывая руками голову в ожидании удара мачете. Губы его дрожали, и он умоляюще бормотал:
— Не убивайте меня, ради бога! Не убивайте меня!
Выслушав эту мольбу и поразившись сходством, которое накладывает на людей старость, я невольно вспомнил о старике отце и, стыдясь своего поступка, обнял пленника и поднял его с земли. Зачерпнув шляпой воду, я предложил ему напиться.
— Простите меня, — сказал я, — я забыл о вашем возрасте.
Между тем мои, товарищи, прятавшиеся в овраге, чтобы прийти мне на помощь в случае опасности, обыскали вышку, прежде чем я успел удержать их. Там никого не было. Они спустились оттуда с ружьем дозорного.
— Чье это ружье? — крикнул на старика Франко.
— Мое, сеньор, — ответил тот прерывающимся голосом.
— А что вы делали здесь с ружьем?
— Меня несколько дней назад оставили здесь, больного...
— Вы сторожите пороги? Станете отпираться — расстреляем.
Старик, обернувшись к Франко, упал на колени:
— Не убивайте меня ради бога! Пощадите!
— Куда ушли люди, которые были с вами здесь? — спросил я.
— Они ушли третьего дня на верховья Инириды.
— А что за трупы развешаны ими на прибрежных скалах?
— Трупы?
— Да, да! Мы заметили их сегодня утром: над ними кружили стервятники. Они висели на пальмах, голые, прикрепленные проволокой к стволам деревьев.
— В этих местах полковник Фунес ведет непрерывную войну с Кайенцем. С неделю назад дозорные увидели подымающуюся вверх по реке лодку. А так как у Кайенца есть свои гонцы, то он на следующий же день узнал об этом. Кайенец привел с Исаны двадцать пять человек и напал на лодку.
— Следы на песке оставили люди с этой лодки, — перебил старика Меса. — Дым от их костра видел Пипа.
— Скажите, что это были за люди?
— Агенты полковника. Они ехали из Сан-Фернандо грабить каучук и охотиться на индейцев. Все они погибли. Здесь уже такой обычай — вешать трупы для острастки.
— А где Кайенец?
— Он делает то, что собирались делать убитые.
Старик помолчал и прибавил:
— Где ваш отряд? Откуда вы пришли и почему вас никто не заметил?
— Часть пробирается лесом, остальные уже поднимаются по Папунагуа. Кайенец убил наших разведчиков, пока мы перебирались через пороги.
— Скажите своим людям, сеньор: если наткнутся на пустые бараки, пусть не едят там маниока. Этот маниок отравлен.
— А тот, что лежит здесь в корзинах?
— Тоже. Съедобный маниок мы прячем.
— Принесите его и попробуйте у нас на глазах. Когда старик поднялся на ноги, я увидел, что икры его покрыты язвами. Он заметил мой взгляд и униженно произнес:
— Откройте сами корзину. Я, наверно, вызываю у вас отвращение.
Мулат протянул ему чашку с маниоком, и старик начал жевать его, не скрывая слез.
Я сказал ласково, стараясь приободрить его:
— Не огорчайтесь, жизнь у всех тяжелая. Дайте нам поесть из ваших запасов. Вы — хороший человек! Вот увидите — мы будем друзьями!
Ночью молнии полыхали во тьме и сельва шумела глухими голосами. Пока ветер и дождь не загасили костра, я прислушивался к разговорам товарищей со стариком, но тяжелый сон, наконец, победил меня, и я потерял нить беседы. Старика звали Клементе Сильва, и, по его словам, он был родом из провинции Пасто. Шестнадцать лет бродил он в лесах, работая в качестве каучеро, и не скопил ни сентаво.
Когда я проснулся, старик словоохотливо объяснял заискивающим тоном:
— Я видел ваш передовой отряд. Трое переправились через реку вплавь. Я боялся, что Кайенец вернется, если узнает об этом, и промолчал. А теперь, когда я решил уйти...
— Послушайте, — прервал я его, приподнимаясь с гамака. — Скольких человек вы видели? Когда это было?
— Скажу — не совру: я видел троих пловцов два дня тому назад. Это было часов в семь утра. И еще я помню: одежду они привязали к голове. Каким-то чудом они не нарвались на Кайенца... В этом аду происходят такие вещи...
— Спокойной ночи. Я знаю, кто они... Хватит разговоров.
Я сказал это, чтобы помешать товарищам проговориться. Но я уже не мог заснуть и продолжал думать о Пипе и гуаибо. Я чувствовал, что нервничаю, опускаю руки перед окружавшими нас опасностями, но укрепился в решении не отступать назад, хотя бы мне и пришлось расстаться с этой беспокойной жизнью и погибнуть вместе со своими капризами и планами мести. Почему дон Клементе Сильва не уложил меня выстрелом, когда я бросился на него, надеясь быть убитым? Почему задержался Кайенец, несущий нам цепи и пытки? Пусть он повесит меня на дереве, пусть солнце сгноит мой труп и ветер качает его, как маятник!
— Где дон Клементе Сильва? — спросил я Рыжего Месу, когда рассвело.
— Умывается у канавки.
— Зачем вы оставили его одного? Он убежит...
— Нечего бояться: с ним Франко. Да и потом Сильва все утро жаловался на ногу.
— А ты что думаешь об этом старике?
— Он не знает, что мы его земляки. По-моему, надо во всем признаться ему и попросить помочь нам.
Когда я добрался до родника, то увидел, что Фидель промывает старику язвы. Это зрелище растрогало меня. Сильва, заслышав мои шаги, устыдился своего жалкого вида и поспешил опустить штанину до щиколотки. Смущенным голосом он ответил на мое приветствие.
— Откуда у вас эти струпья?
— Вы и не поверите, сеньор. Это укусы пиявок. Добывая каучук, мы живем в болотах; эти проклятые пиявки облепляют нас, и пока каучеро вытягивает кровь из дерева, пиявки сосут его собственную кровь. Сельва обороняется от своих палачей, и в конце концов побежденным оказывается человек.
— Значит, борьба идет не на жизнь, а на смерть?
— Да, сеньор! А ведь в сельве живут не одни пиявки. Не говоря уже о москитах и муравьях, там водятся двадцатичетырехножка и тамбоча, ядовитые, как скорпионы. Хуже того, сельва точно подменяет человека, она развивает в нем самые низменные инстинкты: жестокость разливается ядом в его душе, алчность палит сильнее лихорадки. Жажда золота поддерживает слабеющие силы, и запах каучука сводит с ума мечтой о миллионах. Пеон работает в поте лица, надеясь стать предпринимателем, выбраться в один прекрасный день в большой город, промотать там привезенный с собой каучук, насладиться любовью белых женщин и месяцами пьянствовать; его окрыляет сознание, что в лесах тысячи рабов отдают свою жизнь, доставляя ему все эти удовольствия, как он сам когда-то это делал ради своего бывшего хозяина. Но действительность подрубает крылья мечтам, а бери-бери — плохой друг. Многие погибают от горячки, обнимая истекающее соком дерево. Припав пересохшим ртом к его коре, чтобы не водой, а хотя бы жидким каучуком утолить лихорадочную жажду, они сгнивают там, как опавшие листья, обглоданные крысами и миллионами муравьев, единственными миллионами, которые достаются им после смерти.
Судьба других складывается удачней: за жестокость их выдвигают в надсмотрщики, и они поджидают каждый вечер рабочих, чтобы получить от них добытый каучук и занести в конторскую книгу его стоимость. Надсмотрщики всегда недовольны трудом каучеро, и злоба их измеряется числом ударов хлыста. Сдавшему десять литров сока они записывают пять и наживаются на этом, тайком сбывая свои запасы предпринимателям из другой области или обменивая припрятанный каучук на водку и товары заехавшему в сирингали торговцу. То же самое делают и многие пеоны. Сельва толкает их на гибель, и они тайно и безнаказанно грабят и убивают друг друга. Ведь до сих пор никто не слыхал, что рассказывают деревья сельвы о порожденных ею трагедиях.
— Зачем же вы терпите такие муки? — спросил я с негодованием.
— Несчастья хоть кого придавят, сеньор...
— Почему же вы не возвращаетесь на родину? Как нам освободить вас?
— Спасибо, сеньор.
— А пока надо вылечить ваши язвы. Дайте я посмотрю их.
Хотя старик стыдливо упирался, я засучил ему штаны, присел на корточки и осмотрел его ногу.
— Ты ослеп, Фидель? У него же в ранах черви?
— Да, надо нарвать листьев отобы и вывести их.
Старик, охая, причитал:
— Да как же это так? Какой стыд! Черви! Черви! Должно быть, я заснул как-нибудь среди дня, и меня облепили мухи.
Когда мы вели его в барак, он повторял:
— Черви! Человека заживо съели черви!
— Знайте, дон Клементе, — сказал я ему в тот же день, — что я по натуре своей — друг слабых и обездоленных. Даже если бы я знал, что завтра вы нас предадите, я сжалился бы сегодня над беспомощным стариком. Вы можете не верить моим словам, но вспомните: ведь мы могли бы вас прикончить уже за одно то, что вы — сообщник такого разбойника, как Кайенец. Вы спрашиваете, куда мы уведем вас, и просите позволения выстирать перед смертью свои лохмотья. Знайте же, что мы не собираемся ни убивать, ни уводить вас с собой. Наоборот, я прошу вас помочь нам: мы ваши земляки и пришли сюда одни.
Старик вскочил на ноги, словно желая убедиться, не сон ли все это. Он недоверчиво уставился на нас и, простирая к нам руки, воскликнул:
— Вы колумбийцы! Вы колумбийцы!
— Да, мы ваши земляки и друзья.
Дон Клементе отечески прижал нас к своей груди, а потом, дрожа от волнения, засыпал нас сбивчивыми вопросами о родине, о нашем путешествии, о наших именах.
— Сначала поклянитесь, что мы можем рассчитывать на вашу верность.
— Клянусь богом и его правосудием!
— Очень хорошо. Но что вы посоветуете? Как вы думаете, убьет нас Кайенец? Или нам придется убить его?
Старик не понял меня, и я поставил вопрос по-иному:
— Как по-вашему: Кайенец может сюда возвратиться?
— Не думаю. Он уехал на Каньо Гранде грабить каучук и ловить индейцев. Ему нет расчета возвращаться сейчас в свою факторию на Гуараку; там ждет его «мадонна», а он задолжал ей.
— Какая такая мадонна?
— Так прозвали турчанку Сораиду Айрам. Она путешествует по этим рекам, занимается меновой торговлей с сирингеро и держит в Манаос большой магазин.
— Слушайте. Вы должны вывести нас на Гуараку, чтобы мы успели переговорить с сеньорой Сораидой Айрам до возвращения Кайенца.
— Я хорошо знаю мадонну; мне приходилось служить у нее. Она вывезла меня на Рио-Негро с Путумайо. Со мной там плохо обращались, я бросился к ее ногам и упросил купить себя. Я был должен хозяину две тысячи солей,[43] но донья Сораида зачла эту сумму по взаиморасчетам с ним и увезла меня в Манаос и Икитос, не платя мне никакого жалованья, а потом продала меня за шесть конто[44] Мигелю Песилю, тоже турку: он и увел меня на каучуковые разработки Наранхаля и Ягуанари.
— Что? Что вы говорите? Вы знаете сирингали на Ягуанари?
Франко, Эли и мулат вскричали:
— Ягуанари?.. Ягуанари? Да ведь мы сами ищем туда дорогу!
— Да, сеньоры, Ягуанари. По словам мадонны, туда на разработки месяц назад прибыли двадцать колумбийцев и несколько женщин.
— Двадцать? Только двадцать? Их было семьдесят два человека!
Наступило скорбное молчание. Побледнев от ужаса, мы смотрели друг на друга и бессознательно повторяли: «Ягуанари! Ягуанари!»
— Как я вам уже сказал, — прибавил дон Клементе Сильва, когда мы поведали ему нашу одиссею, — вот все, что мне известно. Я знаю Барреру понаслышке, знаю, что он имеет дела с Песилем и Кайенцем. Они собираются выйти из компании с мадонной; донья Сораида требует уплаты долгов и отказывается предоставить им новую отсрочку. Я слышал, что Баррера обязался доставить из Колумбии двести каучеро, но привез оттуда в несколько раз меньше, потому что расплачивался по дороге за старые долги завербованными им каучеро. Кроме того, нас, колумбийцев, невысоко ценят в этих местах, говорят, что мы строптивы и сбегаем при первой возможности. Я прекрасно понимаю ваше желание увидаться с мадонной. И все же наберитесь терпения. Мое дежурство кончится лишь в субботу.
— А что, если ваш сменщик застанет нас здесь?
— Не беспокойтесь. Он спустится по Папунагуа, а мы уйдем новой просекой и оставим зажженный костер, чтобы он удостоверился в том, что я здесь был. С этой вышки видна вся река и легко заметить любое судно. Не возьму в толк, как это вы застали меня врасплох!
— Мы шли наугад этим берегом. Собаки заметили человеческие следы... Но не в этом дело... Значит, необходимо подождать несколько дней?
— Да, и подойти к баракам в тот час, когда там не будет Кабана. Этот надсмотрщик известен своей свирепостью. Он много времени проводит на просеках, проверяя работу. Я покажу вам факторию, вы пойдете туда одни и заявите, что жандармы отняли у вас свежий маниок, который вы везли на продажу. Там уже знают, что это жандармы Фунеса и что Кайенец зарезал их. Скажите еще, что у вас разбилась на порогах лодка и вам пришлось идти берегом и лесами, пока я не задержал вас. Объясните, что вы просили у меня помощи, и я вывел вас на тропу, ведущую к Гуараку, и прибавьте, что вы по моему совету явились к Кайенцу молить о защите. Такие речи польстят ему — они укрепят добрую славу предприятия, о котором ходит так много нехороших слухов. Помните — выдумка иногда полезней правды. А когда я вернусь с дежурства, я подтвержу, что вы пришли одни и не тронули меня.
— А если нас принудят работать? — заметил Корреа.
— Не бойся, мулат, — наставительно возразил я. — Мы так или иначе рискуем жизнью.
— Не знаю, что вам и посоветовать на сей счет. Кайенец осторожен и жесток, как ягуар. Но вы ведь ничего ему не должны и можете сказать, что пробирались в Бразилию... Правда, это не помешает ему заявить, что вы сбежали с соседних факторий...
— Объясните нам это, дон Клементе. Мы плохо знаем здешние порядки.
— Каждый владелец каучуковых разработок строит бараки, которые служат жилищами и кладовыми. Вы увидите их на Гуараку. Эти бараки, или склады, никогда не пустуют: там хранят каучук, товары и провиант и живут надсмотрщики со своими наложницами.
Рабочая сила по большей части состоит из туземцев и завербованных белых. По законам разработок гомеро могут менять хозяина не раньше, чем через два года. Пеону записывают в его личный счет выданную авансом разную мелочь, инструменты и провиант, а за сданный каучук уплачивают смехотворно низкую цену, установленную хозяином. Сирингеро никогда не знает ни того, сколько стоит полученное в счет аванса, ни того, что полагается ему за добытый каучук; интересы предпринимателя требуют, чтобы рабочие вечно оказывались у него в долгу. Этот новый вид рабства не только является пожизненным, но и передается по наследству.
Надсмотрщики со своей стороны изобретают всяческие формы грабежа: они воруют каучук у сирингеро, отнимают у них жен и дочерей, посылают на бедные каучуком участки, где невозможно выполнить дневное задание; вечером же рабочего ждут оскорбления и побои, а то и пуля в лоб. А потом скажут, что человек сбежал или умер от лихорадки, — и кончены счеты.
Но было бы несправедливо забывать о предательствах и подлогах. Не все пеоны чисты, как голуби: многие вербуются в надежде бежать с полученными деньгами, или свести счеты с врагом, или же переманить товарищей и продать их на чужую факторию.
Все это послужило поводом к соглашению между предпринимателями: они условились задерживать каждого, кто не представит пропуска с места работы или паспорта с пометкой, что он отпущен хозяином на свободу после уплаты всех долгов. Заградительные отряды на каждой реке следят за неукоснительным исполнением этого распоряжения.
Но это соглашение — неиссякаемый источник произвола. Что, если хозяин откажется выдать пропуск? Что, если агенты другого хозяина отнимут этот пропуск у каучеро? Подобные случаи нередки. Пленник переходит под власть того, кто его поймал, и новый хозяин заставляет его работать на своих участках, как беглого, пока о нем проверяются все данные. Идут год за годом, а рабству нет конца... Так поступил со мной и Кайенец.
Я работал на него шестнадцать лет! Но я обладаю сокровищем, которое стоит вселенной; никто не отнимет его у меня, и я унесу его на родину, если приведется опять стать свободным: мое сокровище — это ящичек с останками моего сына.
— Чтобы решиться рассказать вам мою историю, — сказал нам вечером Сильва, — надо потерять чувство стыда перед самим собой. У каждого в глубине души таится неведомый другим позор. Мой позор — это запятнанная честь семьи: дочь моя, Мария Гертруда, перестала быть мне дочерью.
Такая боль звучала в словах Клементе, что мы притворились, будто не поняли его. Франко обрезал ногти ножом. Эли Меса чертил палкой по земле, я курил, пуская кольца дыма. Один лишь мулат, казалось, был захвачен печальным повествованием старика.
— Да, друзья, — продолжал старик, — негодяй, обманувший дочь обещанием жениться, соблазнил ее в мое отсутствие. Младший мой сын Лусьянито ушел с уроков, прибежал ко мне в соседний поселок, где я занимал скромную должность, и рассказал мне, что любовники тайно встречаются по ночам, а мать обругала его, когда он сообщил ей об этом. Выслушав Лусьянито, я вышел из себя, обозвал его ябедником и запретил ему мешать браку Марии Гертруды, уже обменявшейся с женихом кольцами. Мальчик горько заплакал и заявил, что он покинет родину до того, как семейный позор заставит его краснеть перед товарищами по школе.
Я отправил Лусьянито домой с пеоном, которому дал письма к жене и к Марии Гертруде, полные родительских наставлений и советов. А Мария Гертруда тем временем бежала из дома.
Вообразите себе мое горе перед лицом такого позора! Я бросил домашний очаг, чтобы преследовать беглянку. Я обращался к властям, вымаливал помощь у друзей, поддержку у влиятельных лиц; все заставляли меня рассказывать пикантные подробности. Я глотал слезы, а они с сокрушенными лицами попрекали меня: «Во всем виноваты родители. Надо лучше воспитывать детей!»
Когда, измученный такою пыткою, я возвратился домой, меня ждала новая беда: на стене, около рабочего стола, на котором ветер перебирал листки растрепанной книги, висела грифельная доска Лусьянито; в ящике я увидел школьные награды и игрушки, шапку, вышитую ему сестрой, часы — мой подарок, медальон с портретом матери. На доске был нацарапан крест, а под ним я прочел слова: «Прощайте, прощайте навсегда!»
Сильнее паралича разбило горе мою бедную жену. Сидя на краю ее постели, я видел, как она обливает слезами подушку, и старался найти для нее слова утешения, которых сам никогда не знал. Временами жена впивалась мне в руку и кричала: «Верни мне детей! Верни мне детей!» Утешая ее, я прибегнул к обману, выдумал, будто Мария Гертруда вышла замуж, а Лусьянито я отдал в школьный интернат. Но смерть, радуясь горю, уже стояла у ее изголовья.
Никто, ни родня, ни друзья не навещали меня. Однажды я позвал через изгородь соседку присмотреть за больной, а сам пошел за доктором. Вернувшись домой, я увидел, что жена держит в руках грифельную доску Лусьянито и не сводит с нее глаз, думая, что это портрет мальчугана. Так она и умерла! Укладывая ее в гроб, я, рыдая, дал клятву: «Клянусь богом и его правосудием, что найду Лусьянито живого или мертвого и верну его матери!» Я поцеловал покойницу в лоб и положил ей на грудь жесткую доску, чтобы она унесла с собой в вечность крест, начертанный ее сыном.
— Дон Клементе, не воскрешайте этих воспоминаний, не растравляйте себе душу. Старайтесь опустить в своих рассказах ваши переживания. Лучше расскажите о своих скитаниях в сельве.
Старик пожал мне руку.
— Вы правы. Надо быть скупым в своем горе.
Я шел по следам Лусьянито до Путумайо. В Сибундое мне сказали, что вниз по реке вместе с несколькими мужчинами спустился бледный мальчик в коротких штанишках, на вид не старше двенадцати лет; из вещей у него был лишь узелок с бельем. Мальчик отказывался назвать свое имя и сообщить, откуда он, но спутники его похвалялись, что отправляются на поиски каучуковых участков Ларраньяги, этого недостойного сына Колумбии, компаньона Араны и других предпринимателей перуанцев, поработивших в бассейне Амазонки более тридцати тысяч индейцев.
В Мокоа меня охватили первые сомнения: путешественников видели, но никто не мог сказать мне, на какую тропу они свернули с перекрестка четырех дорог. Возможно, они пошли сухим путем к реке Гинео, чтобы выйти на Путумайо выше гавани Сан-Хосе и спуститься вниз по этой реке до устья Игарапараны; но вполне вероятно было и то, что они пошли просекой из Мокоа в порт Лимон на реке Какета, чтобы спуститься по ней до Амазонки и подняться вверх по Амазонке и Путумайо к каучуковым разработкам «Водопадов». Я решил избрать последний путь.
На мое счастье, в Мокоа мне предложил курьяру и свое покровительство колумбиец Кустодио Моралес, поселенец с реки Куиманья. Он предупредил меня об опасности пути через пороги Араракуары и расстался со мной в Пуэрто Писсарро, посоветовав идти лесом к гавани Флорида на реке Карапарана, где стоят бараки перуанцев.
Одинокий, больной, пустился я в путь. Добравшись до цели, я нанялся каучеро, и хозяин открыл мне счет. Мне уже говорили, что моего малыша в этих краях никто не видел, но я хотел сам убедиться в этом и вышел на добычу каучука.
Правда, в моей партии мальчика не было, но он мог попасться мне на каком-либо другом участке. Никто из каучеро никогда не слыхал его имени. Временами я утешал себя мыслью, что Лусьянито не заразился грубой распущенностью здешних нравов. Но как мимолетно было мое утешение! Он наверняка работал в отдаленных сирингалях, тупея от унижения и нищеты, жестокости и подлости.
Надсмотрщик начал жаловаться на мою работу. Однажды он хлестнул меня по лицу плетью и запер в бараке. Всю ночь просидел я с колодкой на ногах, а на следующий вечер меня перевели в «Очарование». Я добился того, чего хотел: я мог искать Лусьянито на других разработках...
Дон Клементе Сильва на минуту замолк. Он обхватил голову дрожащими руками, словно еще чувствуя на лице удар бича, и прибавил:
— Друзья, эта пауза равняется двум годам. Из «Очарования» я сбежал к «Водопадам».
В ночь моего появления на «Водопадах» праздновали карнавал. У перил террасы шумно голосила пьяная толпа. Индейцы, белые из Колумбии, Венесуэлы, Перу и Бразилии, антильские негры — вся эта разноплеменная толпа орала, требуя спиртного, женщин и подарков. Тогда в толпу из задней двери лавки начали выбрасывать ракеты, пуговицы, консервы, галеты, жевательный табак, альпаргаты, рубашки, сигары. Те, кто не успевал ничего подобрать, ради потехи, толкали товарищей на падающие предметы, и тут же начиналась возня, хохот и драка. По другую сторону террасы, у чадящих ламп, кучки людей, стосковавшихся по родине, слушали песни своей земли: бамбуко, хоропо, кумбья-кумбья. Но вот волосатый, желтушный надсмотрщик взобрался на помост и разрядил в воздух винчестер. Наступила тишина. Все лица повернулись к оратору. «Каучеро, — воскликнул он, — вы уже убедились в щедрости нового хозяина! Сеньор Арана организовал компанию, владеющую каучуковыми лесами «Водопадов» и «Очарования». Надо только работать, надо быть покорным, надо повиноваться! В магазине больше не осталось подарков. Те, кому не досталось одежды, пусть запасутся терпением. А те, кто требовал женщин, знайте, что со следующими катерами их приедет сорок, — слышите, целых сорок, — и их будут время от времени распределять между наиболее отличившимися рабочими. Кроме того, отсюда скоро отправится экспедиция на покорение племен андоке, и ей поручено будет захватывать женщин всюду, где они ни попадутся. Теперь слушайте внимательно: каждый индеец, имеющий жену или дочь, должен привести их в контору, а там разберутся и решат, что с ними делать».
Другие надсмотрщики тут же перевели речь на язык каждого племени, и праздник продолжался под крики и рукоплескания.
Я старался выбраться из толпы, боясь встретить там сына. Первый раз в жизни я не хотел его видеть. И все-таки я всматривался в каждого каучеро и спрашивал: «Сеньор, вы не знаете Лусьяно Сильву? Скажите, здесь нет никого из Пасто? Вы не знаете случайно, не живут ли здесь Ларраньяга или Хуанчито Вега?»
Люди вместо ответа смеялись мне в лицо; тогда я решил подняться на террасу дома. Сторожа прогнали меня оттуда. Кто-то крикнул мне, что водку раздают не здесь, а в бараках. И верно, туда двигалась вереница людей с кувшинами и кружками в руках. Они протягивали их надсмотрщику, распределявшему спирт. Один пьяный десятник решил позабавиться: он налил в кружку керосину и протянул ее индейцам. Никто не поддался на обман, и тогда он выплеснул на индейцев содержимое кружки. Не знаю, кто чиркнул спичкой, но только в одно мгновенье пламя, треща, охватило туземцев; расталкивая толпу, они с дикими воплями кинулись к ручью и, окутанные синеватым дымом, бросились в воду.
Владельцы «Водопадов» вышли на террасу с игральными картами в руках. «Что такое? Что случилось?» — спрашивали они. Еврей Барчилон крикнул: «Эй, ребята, не балуйте! Этак вы нам сожжете все пальмовые навесы!» Ларраньяга повторил приказ Хуанчито Веги: «Довольно развлекаться!» Почуяв смрад горелого человеческого мяса, хозяева плюнули и равнодушно удалились.
И подобно тому, как жеребец, брыкаясь и кусаясь, отделяет в загоне своих кобылиц от общего табуна, так надсмотрщики под несмолкаемый гул голосов оттеснили прикладами партии пеонов и загнали их в бараки.
Мне удалось прокричать во всю силу легких: «Лусьяно! Лусьянито! Отец твой — здесь!»
На следующий день моему долготерпению предстояло новое испытание. Было около двух часов дня, но хозяева еще спали. Утром, когда каучеро вышли на работу, ко мне подошел негр с Мартиники. Я заметил, что он точил о ножны страшное лезвие мачете.
— Эй, — сказал он, — почему ты остался здесь?
— Потому что я — румберо[45] и собираюсь идти с разведывательной партией.
— Ты скорей похож на беглого. Ты был в «Очаровании»?
— Хотя бы и так. Разве эти участки — не одного хозяина?
— Ты тот самый негодяй, что вырезал на деревьях надписи? Хорошо еще, что тебе это сошло с рук.
Я положил конец опасному разговору и, увидав, что счетовод открыл дверь, вошел в контору. Счетовод даже не взглянул на меня, когда я поклонился ему, но я все же подошел к прилавку.
— Синьор Лоайса, — произнес я робко, — я хочу знать, если можно, сколько записано за моим сыном?
— За твоим сыном? Ты хочешь выкупить его? Тебе сказали, что он продается?
— Мне бы узнать... Его зовут Лусьяно Сильва.
Счетовод раскрыл большую книгу и, взяв карандаш, принялся подсчитывать. Колени дрожали у меня от волнения: наконец-то я узнаю, где Лусьянито!
— Две тысячи двести солей, — объявил Лоайса. — Какую надбавку требуют с тебя к этой сумме?
— Надбавку? Какую надбавку?
— Самую обыкновенную. Мы ведь не торгуем рабочими. Наоборот, предприятие ищет людей.
— Не скажете ли вы мне, где он сейчас?
— Твой мальчишка? Ты забыл, с кем разговариваешь! Об этом спрашивают у десятников.
На мою беду в контору вошел негр.
— Сеньор Лоайса, — крикнул он, — не теряйте попусту слов с этим стариком! Это — беглый из «Очарования» и Флориды, лентяй и бездельник. Вместо того чтобы подсекать деревья, он на них вырезал ножом надписи. Подите в сирингали, и вы убедитесь сами. На всех просеках — одно и то же: «Здесь был Клементе Сильва в поисках своего любимого сына Лусьяно». Каков негодяй!
Я, словно уличенный в преступлении, опустил глаза.
— Видно, никогда вы не были отцами! — произнес я.
— Как вам нравится этот развратный старикашка! Ну и бабник же он был, если и сейчас еще хвастается способностями производителя!
И они громко захохотали, глумясь надо мной; но я выпрямился во весь рост и слабой рукой ударил счетовода по лицу. Негр пинком отшвырнул меня к порогу. Поднимаясь с пола, я заплакал, но это были слезы удовлетворенной гордости!
Из соседней комнаты послышался сердитый, заспанный голос. Оттуда вышел, застегивая пижаму, толстый, одутловатый человек, грудастый, как женщина, и желтый, как сама зависть. Не дав ему открыть рта, счетовод подбежал к нему и доложил о случившемся:
— Я страшно огорчен, сеньор Арана. Извините ради бога! Но этот человек пришел узнать, сколько он должен компании; не успел я ему прочесть сальдо, как он набросился на меня и хотел порвать книгу, обозвал вас разбойником, а меня пригрозил зарезать.
Негр подтвердил его слова кивком головы; я остолбенел от негодования. Арана продолжал молчать. Бросив укоризненный взгляд, повергший в оцепенение обоих лгунов, он спросил, положив мне руки на плечи:
— Сколько лет Лусьяно Сильве, вашему сыну?
— Пятнадцатый год.
— Вы согласны выкупить у меня оба счета? Сколько вы должны компании? Сколько вы заработали за свой труд?
— Я не знаю, сеньор.
— Дадите за оба счета пять тысяч солей?
— Дам, дам, только у меня с собой нет денег. Если бы вы купили мой домик в Пасто... Ларраньяга и Вега — мои земляки. Можете справиться у них обо мне, мы вместе учились.
— Не советую вам даже кланяться им. Они недолюбливают бедных друзей... Скажите, — прибавил он, — вы не можете расплатиться каучуком?
— Нет, сеньор.
— А не можете ли вы раздобыть его на Какета? Я дам вам людей — вы совершите нападение на бараки.
Скрывая свое отвращение к этим хищническим махинациям, я прибег уже не к хитрости, а к обману. Я притворился, что обдумываю предложение Араны. Соблазнитель же продолжал осаду:
— Я обращаюсь к вашему содействию, ибо вижу, что вы человек честный и умеете держать язык за зубами. Ваше лицо — ваш лучший адвокат. Иначе я поступил бы с вами, как с беглым, отказался бы продать вам сына и сгноил бы вас обоих в сирингалях. Помните, что вам заплатить нечем и что я сам даю вам средство стать свободными.
— Вы правы, сеньор. Но признательность обязывает меня к добросовестности. Я не хотел бы давать обещания, пока не уверен, сумею ли я их выполнить. Я предпочел бы сначала побывать на Какета в качестве румберо и не дам ответа, пока не разведаю местность и не проложу там просеку для нападения.
— Придумано неплохо. Пусть так и будет. Это — ваша забота, а я позабочусь о вашем сыне. Спросите себе винчестер, провиант, компас и возьмите индейца-носильщика.
— Спасибо, сеньор, но тогда мой счет увеличится.
— Я заплачу, — это мой карнавальный подарок.
Надсмотрщики при виде пропуска, полученного мною от хозяина, чуть не лопнули от злости. Я мог проходить всюду, где вздумается, и они обязаны были предоставлять мне все необходимое. Мои полномочия давали мне право набрать до тридцати человек из любой партии и на любой срок. Вместо того чтобы направиться на Какета, я решил свернуть к бассейну Путумайо. Смотритель дорог на канале Эре, по прозвищу Пантера, задержал меня и послал мой пропуск на проверку. Арана подтвердил мои полномочия, но с ограничениями: мне ни в коем случае, не разрешалось брать с собой Лусьяно Сильву.
Этот приказ разрушил все мои планы; ведь я искал сына, чтобы увести его с собой. Не раз, прислушиваясь к треску падавших под топорами пеонов каучуконосных деревьев, я думал, что мой мальчик находится в этой партии и подвергается опасности погибнуть под рухнувшим стволом. В ту пору добывали черный каучук и сирингу, которую бразильцы называют пьяным соком; чтобы добыть сирингу, на коре дерева делают насечки, млечный сок собирают в кисеты и сгущают на дыму; для добычи черного каучука надо срубить дерево, сделать насечки по всей его длине, собрать сок и слить его в продувные ямы, где он медленно сгущается. Вот почему ворам было так просто припрятывать каучук.
Как-то раз я застал одного пеона, который заваливал свой тайник землей и листьями. По сирингалям ходили ложные слухи, будто я послан хозяевами отбирать каучук. Эта молва сослужила мне плохую службу: я нажил себе немало врагов. Пеон, застигнутый на месте преступления, схватился за мачете, но я протянул ему мой винчестер:
— Я докажу тебе, что я не шпион. Я не выдам тебя. Но если мое молчание пойдет тебе на пользу, скажи мне, где Лусьяно Сильва?
— Кто?.. Сильвита? Сильвита?.. Он работает в Капалурко, на реке Напо, с партией Хуана Муньейро.
В тот же день я начал прокладывать просеку между реками Эре и Тамборьяко. На эту работу я затратил шесть месяцев. Вместо маниока мне приходилось питаться дикой юккой. В этом безлюдье и бездорожье я совершенно выбился из сил и решил отдохнуть на Тамборьяко. Там я встретил каучеро с участка, носившего название «Задумчивость». Надсмотрщик одной партии пеонов предложил мне отправиться вместе с ним вверх по реке, будто бы для того, чтобы выдать мне со склада провиант и лодку. В тот же день, как только мы остались одни, он спросил меня:
— Что говорят промышленники насчет Муньейро? Собираются его преследовать?
— А что он такое сделал?
— Пять месяцев тому назад он сбежал с пеонами и каучуком: тринадцать человек и девяносто кинталов каучука...
— Что? Что? Да как же это так?
— Они работали последнее время близ заводи Куйабено, вернулись на Капалурко, поспешно спустились по реке Напо, вышли на Амазонку и теперь уже, наверное, за границей. Муньейро предлагал мне сбежать из этой фактории, но я побоялся, потому что нередко мошенники соблазняют гомеро, обещая помочь им сбыть украденный каучук, поделиться выручкой и отпустить их на свободу, а сами уводят людей на другие реки и продают новым хозяевам. Этот Муньейро — продувной плут! Но ведь на реке Масан имеется таможенная застава...
Рассказ этот потряс меня. К чему мне было теперь влачить свое существование? Но тут же грустное утешение пришло мне на ум: если сын мой счастлив в чужой стране, я с радостью буду носить цепи рабства у себя на родине...
— Однако по другим слухам, — продолжал мои собеседник, — эта партия не сбежала. Люди думают, что вы увели ее с собой неизвестно куда.
— Да я сроду не видал этих рек!
— Вот это и смешно: вы же знаете, что одна партия выслеживает другую и обязана докладывать хозяину все — и хорошее и плохое. Я отправил в «Очарование» нарочного с запиской: «Муньейро пропал». Мне приказали проверить, не взяли ли вы его на Какета, и обязательно ради предосторожности задержать Лусьяно Сильву. Вас давно ждут назад, вас разыскивают люди, посланные специально с этой целью. Я советовал бы вам вернуться в «Очарование» и досконально выяснить все на месте. Скажите там, что у меня вышел провиант и люди мрут от горячки.
Две недели спустя, через восемь месяцев после того, как я вышел на разведку, я вернулся в «Очарование» и был арестован. Хоть я и доказал, что открыл несколько рек, берега которых богаты сирингой, и что я не повинен в бегстве Хуана Муньейро и его партии, меня приговорили к двадцати розгам в день, а раны и ссадины посыпали солью. После пятой порки я не мог подняться на ноги, тогда меня стащили на рогоже к муравейнику; я собрал остаток сил и побежал. Это немало распотешило моих палачей.
И вновь я стал Клементе Сильвой, дряхлым и жалким каучеро.
Время растоптало мои надежды.
Лусьяно минуло девятнадцать лет.
В эту пору случилось знаменательное для меня событие: на каучуковые разработки приехал французский ученый-натуралист; мы прозвали его «мосью». Сначала в бараках толковали, что он прислан крупным музеем и каким-то географическим обществом, затем прошли слухи, что его экспедицию оплатили хозяева каучуковых разработок.
Так оно, видимо, и было: Ларраньяга дал ему провиант и пеонов. Я слыл опытным румберо, меня сняли с работы на реке Кауинари и велели показывать французу дорогу.
Я шел сквозь чащу, прокладывая путь мачете; за мной шествовал с вереницей носильщиков мосью, изучая растения, насекомых, смолу деревьев. Вечерами, в торжественном безмолвии песчаных берегов, он наводил теодолит на небо, ловя в него звезды, а я, стоя около аппарата, освещал линзу электрическим фонарем. Мосью говорил мне на ломаном испанском языке:
— Завтра пойдешь в направлении вот этих звезд. Запомни хорошенько их положение и не забудь, что солнце восходит вон там.
А я с гордостью отвечал ему:
— Я еще со вчерашнего дня чутьем определил это направление.
Француз был человек добрый, хотя и замкнутый. Наш язык доставлял ему много затруднений, но со мной он был всегда дружелюбен и сердечен. Он удивлялся, как это я хожу по лесу босиком, и дал мне сапоги; он сочувствовал мне, видя, что язвы не дают мне покоя, что лихорадка треплет меня, делал мне какие-то впрыскивания и никогда не забывал оставить мне в своем стакане глоток вина и скрасить мои вечера сигарой.
Первое время он, казалось, не замечал рабского положения каучеро. Да и как он мог подумать, что сеньоры, холопскими улыбками и медовыми речами встретившие его в «Водопадах» и «Очаровании», бьют, преследуют и калечат людей? Но однажды, когда мы шли долиной Якурумы, где пролегает старая дорога, соединяющая покинутые в лесном безлюдье бараки, француз остановился осмотреть дерево. Я подошел, вынимая по привычке фотографический аппарат и дожидаясь распоряжений ученого. Кора гигантского сиринго, искалеченная с обеих сторон каучеро, была покрыта рубцами и наростами, затвердевшими, как язвы волчанки.
— Сеньор хочет сфотографировать это дерево?
— Да, меня интересуют эти иероглифы.
— Что это — угрозы, вырезанные каучеро?
— Очевидно; вот что-то вроде креста.
Я подошел и с тоской узнал свою прошлогоднюю надпись, искаженную наростами коры: «Здесь был Клементе Сильва». С другой стороны дерева я увидел слова:
«Лусьянито, прощай, прощай!..»
— Ах, мосью, — прошептал я, — это я вырезал.
И, прислонившись к дереву, я заплакал.
С тех пор я впервые обрел друга и покровителя. Ученый сжалился над моими несчастьями и предложил выкупить меня у хозяев, оплатив счета за меня и за сына, если он еще был рабом. Я рассказал ему об ужасной жизни каучеро, перечислил мучения, которые мы переносили, и, чтобы доказать ему правдивость моих слов, я подтвердил их вещественным доказательством.
— Сеньор, скажите, кто больше вытерпел: это дерево или моя спина?
Я поднял рубаху и показал ему рубцы на спине. Минуту спустя я и дерево позировали перед кодаком, запечатлевшим на пластинке наши раны, из которых, ради интересов одного хозяина, проливались два разных сока: каучук и кровь.
С этих пор объектив фотоаппарата заработал неустанно и в открытую: разоблачая грязные дела надсмотрщиков, он воспроизводил все фазы нечеловеческих страданий, которым подвергались пеоны. Я не переставал предупреждать натуралиста о грозившей ему опасности, если хозяева узнают о том, что он делает, но ученый бесстрашно продолжал фотографировать раны и увечья.
— Эти преступления позорят человеческий род, — твердил он, — и они должны стать известными всему миру, правительства должны положить им конец.
Он послал письма в Лондон, Париж и Лиму, подтверждая свои разоблачения фотографиями. Много воды утекло, а никаких перемен не наблюдалось. Тогда француз решил пожаловаться здешним хозяевам; он собрал документы и послал меня с письмами на «Водопады».
Там я застал одного Барчилона. Не успел он заглянуть в объемистый пакет, как тут же велел отвести меня в контору.
— Где ты достал кожаные сапоги? — завопил он, оглядев меня.
— Мосью дал мне их вместе с этой одеждой.
— А где же остался этот бродяга?
— Между реками Кампуйя и Лагарто-Коча, — солгал я. — Около месяца пути отсюда.
— Чего ради этот проходимец вредит нашему предприятию! Кто дал ему разрешение фотографировать людей? Какого черта он подбивает на бунт пеонов?
— Не знаю, сеньор. Он почти ни с кем не разговаривает, а если и заговорит с кем, то никто его не понимает...
— А зачем он предлагает нам продать тебя?
— Это его дело...
Разъяренный Барчилон вышел на порог и стал разглядывать на свет фотографии.
— Негодяй! Это твоя спина?
— Нет, сеньор! Нет, сеньор!
— Разденься до пояса сию же минуту!
И он рывком содрал с меня фланелевую блузу и рубашку. Меня прохватила такая дрожь, что Барчилон на мое счастье не мог сравнить мою спину со снимком. Он схватил ручку с письменного стола и бросил ее в меня; перо вонзилось мне в лопатку. По спине потекли красные струи.
— Убирайся вон, свинья, ты замараешь кровью пол!
Он отшвырнул меня к перилам террасы и схватился за свисток. С раболепным видом подбежал надсмотрщик по прозвищу Удав. Меня допрашивали о тысяче вещей, но я отвечал уклончиво. Уходя, хозяин приказал:
— А ну-ка, подтяни кандалами сапоги Сильве, а то ему в них слишком просторно.
Так со мной и поступили.
Как мне потом сказали, Удав отправился в путь с четырьмя людьми передать французу ответ.
Несчастный ученый так и сгинул в сельве.
Следующий год был богат надеждами для каучеро. Не знаю, каким образом в сирингалях и бараках стал тайно ходить по рукам экземпляр газеты «Фельпа»,[46] которую издавал в Икитос журналист Сальданья Рока. Его статьи клеймили преступления, совершавшиеся на Путумайо, и требовали справедливости к нам. Помню, листок этот был потрепан и зачитан до дыр; на разработках реки Альгодон мы склеили его жидким каучуком, и он путешествовал от просеки к просеке, спрятанный в бамбуковой рукоятке топора.
Несмотря на принятые нами меры предосторожности, гомеро из Эквадора по прозвищу Поп донес об этом надсмотрщику. Однажды утром стража застала на месте преступления в пальмовой роще неосмотрительного чтеца и его слушателей; они настолько увлеклись чтением, что даже не заметили, как увеличилась их аудитория... Тому, кто читал, зашили веки волокнами пальмы кумаре, а остальным залили уши расплавленным воском. Надсмотрщик решил вернуться в «Очарование» и показать там газету; лодки у него не было, и он приказал мне провести его лесом.
В «Очаровании» меня поджидала новая неожиданность: приехал инспектор и собирал показания в конторе компании.
Когда я назвал свое имя, он записал его и при всех спросил меня:
— Хотите остаться здесь на работе?
Несмотря на присущую мне робость, я решительно сказал:
— Нет, сеньор! Нет, сеньор!
Тогда инспектор заявил:
— Можете уходить, когда вам вздумается. Это мой приказ. Есть у вас особые приметы?
— Вот они, — отвечал я, обнажая спину.
Все, кто находился в комнате, побледнели. Инспектор посмотрел на шрамы через очки. Ни о чем больше не спрашивая, он повторил:
— Можете уходить хоть завтра!
И хозяева покорно подтвердили:
— Ваше слово — закон, сеньор инспектор!
Один из них с непринужденностью человека, произносящего заученную речь, обратился к чиновнику:
— Любопытные рубцы у него на спине, не правда ли? У ботаники немало разных загадок, особенно в наших краях! Не знаю, слышал ли сеньор инспектор о ядовитом дереве, которое каучеро прозвали Марикитой. Французский ученый по нашему ходатайству занялся его изучением. Это дерево, подобно распутной женщине, заманивает в душистую тень, но горе тому, кто поддастся искушению! Тело его покрывается красными пятнами, ужасными нарывами, после чего появляются лишаи; они гноятся, а затем зарубцовываются, стягивая кожу. Многие неопытные сирингеро пострадали, подобно этому бедному старику.
— Позвольте, сеньор, — перебил я его, но хозяин цинично продолжал:
— Трудно поверить, что такое ничтожное обстоятельство способно причинить нашему предприятию столько вреда. В нашем деле так много помех, оно требует большого патриотизма и настойчивости. Если бы правительство лишило нас своей поддержки, эти громадные леса остались бы без суверенной власти, а ведь они принадлежат нашей родине. Сеньор инспектор оказал нам неоценимую услугу. Он проверил, подвергаем ли мы пеонов насилиям и истязаниям, как об этом трубят наши завистливые и злобные соседи, которые находят тысячу способов помешать нашей стране прогнать перуанцев и возвратить свою территорию. В их распоряжении немало продажных писак. Теперь я возвращусь к тому, о чем мы говорили. Наше предприятие раскрывает свои объятия всякому, кто нуждается в работе и умеет работать. Здесь много пришельцев из различных мест, есть среди них и хорошие, и плохие, и строптивые, и ленивые люди. Разница характеров и нравов, недисциплинированность, распущенность — все находит в Мариките услужливого сообщника; многие пеоны, главным образом колумбийцы, получая ранения и ушибы в драке или заболев «древесной болезнью», пытаются свалить ответственность на предприятие, которое старается направить их на путь истинный, или оклеветать надсмотрщиков, приписывая им вину за каждый синяк, за каждый рубец, вплоть до укуса москита и ничтожной царапины.
И, обращаясь к толпе пеонов, он спросил:
— Ведь правда, что наша область изобилует Марикитой? Верно, что от нее образуются струпья и чирьи?
Все в один голос ответили;
— Да, да, сеньор!
— К счастью, — прибавил плут, — Перу поддержит нашу патриотическую инициативу: мы просили у власти военизировать каучуковые разработки и прислать офицеров и сержантов, чтобы они служили агентами предприятия и надсмотрщиками на лесосеках. Их службу в здешних местах мы оплатим щедрой рукой. Таким образом администрация получит солдат, рабочие — надежную охрану, а предприниматели — поддержку, защиту и мир.
Инспектор одобрительно качал головой.
Старик Бальбино Хакоме, уроженец Гарсона, — тот самый, у которого правая нога высохла от укуса тарантула, — пришел повидаться со мной вечером и, поставив костыли под навес, где висел мой гамак, шепнул мне на ухо:
— Земляк, когда попадете на христианскую землю, закажите на мой счет обедню.
— В благодарность за то, что вы поддерживаете все подлые дела предпринимателей?
— Нет. В память наших обманутых надежд.
— Знайте раз и навсегда, что вам нечего на меня рассчитывать, вы — гнуснейший из лизоблюдов, наушник Хуанчо Веги, вы превзошли его и в предательстве и в клевете на колумбийцев.
— И все-таки земляки многим мне обязаны, — отвечал он. — Вы уезжаете, и я могу поговорить с вами начистоту! Да, из хитрости я льстил врагам и притворялся палачом, чтобы на самом деле одним палачом было меньше. Я играл роль шпиона, чтобы не стал им кто-нибудь, действительно способный быть шпионом. Я приспосабливался к окружающему, чтобы чувствовать себя, как рыба в воде. Когда надо было предотвратить донос, я заранее узнавал все факты и представлял их в ином свете. Когда десятник травил рабочего, я притворно участвовал в травле — ее все равно нельзя было предотвратить, но находил случай отомстить десятнику. Как вы думаете, почему десятники так заискивают передо мной? Потому что я пользуюсь влиянием и доверием хозяев. «Слушай, — говорю я десятнику, — хозяевам кое-что о тебе известно...» И он бросается мне в ноги и начинает умолять меня... А я добиваюсь того, чего не смог бы добиться никто другой. «Не бей моих земляков, иначе тебе несдобровать!» — говорю я ему.
Вот как я вершу добро. Правда, я неразборчив в средствах, но зато я не ищу славы и приношу себя в жертву, не требуя благодарности. Живой отброс общества, под видом наемника чужеземцев, я делаю все, что могу, в интересах моей родины. Вы скоро уедете отсюда, тоже ненавидя и проклиная меня. Вернувшись в свою долину, такую же плодородную, как и моя, вы радостно вспомните, что я страдаю в дикой сельве во искупление грехов, совершенных мной во имя добра.
Признайтесь, земляк: разве перед экспедицией на Какота не я уговаривал вас бежать? Разве не я рассказал вам историю Хулио Санчеса, который бежал в челноке с беременной женой? Хулио поднялся по Путумайо, преследуемый катерами и заградительными отрядами, укрываясь в заводях, не имея при себе ни соли, ни спичек. Они плыли темными ночами и так долго, что, когда они добрались до Мокоа, его жена вошла в церковь, ведя за руку мальчика, рожденного ею в лодке!
Вы пренебрегли всеми возможностями бежать. Ах, если б они представились мне, если б не мое увечье! Все, кто бежал по моему совету, обещали зайти за мной и унести меня на плечах. И разве неверно, что все они сбегают, не предупредив меня, а когда их ловят, виновным оказываюсь я; они заявляют, что я был их соучастником, и мне приходится требовать для них тяжелого наказания, чтобы восстановить таким образом свой поколебленный авторитет. Кто уговорил француза взять в качестве румберо Клементе Сильву? Мог ли вам представиться лучший способ бежать? А вы вместо благодарности оскорбили меня! Вместо того чтобы помешать ученому впутаться в грязную историю, вы бросили его на произвол судьбы и передали его письма хозяину. А теперь вы хотите, чтобы я перечил господам после того, как инспектор испортил нам все дело!
— Погодите, земляк, растолкуйте мне все это!
— Нельзя, нас могут услышать из кухни. Если хотите — попозднее мы поедем на лодке, будто на рыбную ловлю.
Так мы и сделали.
В гавани «Очарование» стояло несколько судов. Мой спутник остановился поговорить с гребцом, дремавшим на палубе катера. Я уже начал испытывать нетерпение, когда услышал, наконец, что они прощаются. Матрос завел мотор; на катере загорелся яркий свет. Зажужжал вентилятор. По доске, служившей сходнями, на катер поднялись мужчины в крахмальном белье и дама — вся в драгоценностях и кружевах, они беззаботно смеялись, как обычно смеются богатые люди. Бальбино подошел ко мне.
— Посмотри, — шепнул он, — господа собираются к чаю. Эта красавица, что идет под руку с сеньором инспектором, мадонна Сораида Айрам.
Мы сели в лодку и, отплыв немного в сторону, бросили якорь в заводи, откуда виднелись отражавшиеся в воде огни судовых фонарей. Бальбино Хакоме принялся объяснять мне:
— Как рассказывал Хуанчито Вега, письма, которые ученый посылал за границу, вызвали там большой переполох; исчезновение француза, — а он исчез так, как исчезают люди в сельве, — показалось подозрительным. Но хоть Арана живет в Икитос, деньги его вездесущи. С полгода назад он начал посылать сюда враждебные нам газеты, чтобы на разработках ознакомились с ними и приняли надлежащие меры предосторожности.
Хозяева не показывали мне этих газет, пока не удостоверились, что на меня можно положиться. Потом меня назначили заведующим магазином. Однажды, когда хозяева были на «Водопадах», десятники потребовали у меня хины и пороху. Надсмотрщики, как всем известно, почти сплошь неграмотны; я сделал из этих газет пакеты и разослал их по баракам и лесосекам, надеясь, что они попадут в руки грамотным людям.
— Земляк, — вскричал я, — теперь мне все понятно! У нас ходила по рукам одна такая газета. Это из-за нее я оказался здесь и еще хожу по земле. Спасибо вам! Спасибо!
— Не радуйтесь, земляк. Наши дела плохи.
— Почему же? Почему?
— Все из-за этого проклятого инспектора! Ведь он ничего не сделал для нас! Смотрите: в день его приезда колодку для арестантов положили вместо сходней, а он даже внимания не обратил на дыры в ней и пятна крови. Мы вместе с ним побывали во дворе, где раньше стояло это орудие пытки, и он не заметил выбоин на земле, которые оставили арестанты, корчась в муках под палящим солнцем. Ему, смеха ради, на крыльцо подбросили плетку-шестихвостку, и он спросил, не из бычьих ли жил она сделана. Маседо, нимало не смутившись, ответил ему со смехом:
— Сеньор инспектор, вы человек проницательный. Ваша милость хочет знать, едим ли мы говядину? Конечно, едим, хоть скот здесь и очень дорог. Вон к тому столбу мы обычно привязываем скотинку.
— Однако, по моим наблюдениям, инспектор человек энергичный, — возразил я.
— Да, но наивный и ненаблюдательный. Он, как слепой бык, бросается на шум. А здесь никто не осмеливается рта раскрыть! Здесь все было заранее подготовлено, партии перетасованы: недовольных и ненадежных пеонов загнали бог весть куда, а индейцев, не понимающих по-испански, поставили на ближайшие просеки. Объезд чиновника свелся к опросу лишь нескольких партий. И это из сотни с лишним партий, работающих на реках и на других, еще неизвестных географам пространствах. Ведь чтобы опросить всех пеонов, пришлось бы затратить не меньше пяти месяцев. А инспектор пробыл здесь меньше недели — и вот уже уезжает.
В городе инспектор с самодовольным видом будет всем рассказывать, что посетил сельву, где, по утверждениям клеветников, совершаются неслыханные преступления; будет хвастаться тем, что он разъяснил гомеро их права, выслушал их жалобы, навел порядок на разработках и создал наилучшие условия для скорейшего возвращения пеонов домой. После таких заявлений никто больше не поверит известиям о пытках и эксплуатации, и мы, предоставленные своей собственной судьбе, будем подыхать в сельве, потому что доклад инспектора явится веским ответом на все жалобы, если найдутся еще такие чудаки, которые посмеют настаивать на расследовании официально опровергнутых разоблачений.
Не удивляйтесь, земляк, слыша от меня такие разговоры. Не только я так думаю. Я слышал эти разговоры среди хозяев. Они дрожали при мысли, что их увезут отсюда с веревкой на шее, а сейчас смеются над своими прежними страхами: будущее для них обеспечено. Когда инспектор ездил по участкам, мы, сидя в бараке скуки ради заключали пари, сколько пеонов осмелится подать ему жалобы. Таких не нашлось и трех человек, а у его милости для всех был один ответ: «Можете уходить, когда вам угодно!»
— Но ведь мы свободны, земляк! Нас освободили!
— Нет, приятель, нечего об этом и мечтать. Некоторые, правда, могли бы уйти, но им нечем расплатиться с хозяевами. «Уходите хоть завтра!» Хороши слова! А долг, а лодка, а дорога, а заградительные отряды? Уйти с одного места и попасть в рабство в другом — это невыгодное предприятие, и единственные проценты от него — побои да кровь.
— Я и забыл об этом!.. Пойду расскажу обо всем его милости.
— А как вы осмелитесь нарушить его беседу с мадонной?
— Я попрошу инспектора взять меня с собой!
— Не торопитесь, утро вечера мудренее. Я говорил с матросом; на катере этой ночью он выведет из строя мотор, а я нарочно затяну ремонт. Недаром я распоряжаюсь магазином. Видите, и мы, «лизоблюды», кое на что годимся.
— Простите, простите! Но что же мне делать?
— То, что велит бог: верить и надеяться. И то, что велю я: слушать дальше. — И, не обращая внимания на мое волнение, Бальбино продолжал: — Инспектор не арестовал ни одного надсмотрщика, хотя ему дали несколько имен: не тех, разумеется, кто калечит и убивает людей, а тех, кто ворует. У инспектора к тому же были связаны руки. До его приезда агенты хозяев распустили по баракам слух, что компания хочет вывести на чистую воду нерадивых работников и всех их повесить и что с этой целью их будет опрашивать некий иностранец — член компании, выдавая себя за судебного следователя. Этот подвох полностью удался. Инспектор встретил повсюду счастливых и довольных людей, ничего не слышавших об убийствах и издевательствах.
Преступление надо искать не в лесах, а в двух книгах: журнале и гроссбухе. Ознакомься с ними сеньор инспектор — ему больше бы пришлось читать дебет, чем кредит: счет многих пеонов подводится на глазок со слов надсмотрщиков. И все же он обнаружил бы вопиющие факты: пеоны сдают каучук по пяти сентаво за кило и платят двадцать песо за рубаху; индейцы работают шесть лет подряд и остаются должны за маниок, съеденный в первый месяц работы; дети наследуют огромные долги, оставшиеся от убитого отца, от замученной матери, от обесчещенных сестер, и этого долга им не покрыть за всю свою жизнь; когда они достигают совершеннолетия, суммы, затраченные на них в детстве, бывают равны полувеку рабства!
Бальбино перевел дух и протянул мне кисет. Я, хотя и был подавлен чудовищностью всего услышанного, все же попробовал вступиться за инспектора:
— Сеньор инспектор, вероятно, не имел официального распоряжения просматривать бухгалтерские книги.
— А что толку, если бы и имел. Их надежно припрятали.
— Да разве возможно, чтобы он не нашел доказательств истязаний, происходивших у всех на глазах? Или он притворяется, что ничего не видит?
— Да хоть бы и так. Избави нас бог от того, чтобы открылись преступления, — тогда хозяева осуществят свою заветную мечту: учредят суды и тюрьмы или, точнее говоря, навсегда узаконят ими же самими возглавляемое беззаконие.
Что нам проку, если откроется, что один убил другого, ограбил третьего, искалечил четвертого? Это, как говорит Хуанчито Вега, случается в Икитос и всюду, где живут люди, тем более здесь, где нет ни властей, ни полиции.
Вспомните, что перуанцы хотят военизировать каучуковые разработки, а в Колумбии происходят вещи, говорящие, так сказать, о закулисном сговоре, по выражению Ларраньяги. И разве колумбийские поселенцы не продают нашему предприятию свои участки именно потому, что они не уверены в завтрашнем дне? И разве не по той же причине Кальдерой, Иполито Перес и многие другие колумбийцы соглашаются на любую цену и считают, что они выгодно отделаются, если кое-что выручат и смогут унести отсюда ноги? Разве Арана, главный грабитель, не продолжает фактически оставаться нашим консулом в Икитос? Вспомните, что президент Колумбии вместо ответа на ежедневные просьбы поселенцев о защите отправил генерала Веласко вывести воинские части и заградительные отряды с Путумайо и Какета. Плохи наши дела, земляк; плохи. А на Путумайо и Какета еще хуже!..
Вот вам мой совет: держите язык за зубами! Есть поговорка: кто не говорит, тот не грешит, и большая ошибка — проболтаться о здешних тайнах. Попробуйте рассказать все это в Лиме или Боготе, и вас там сочтут за лгуна и клеветника. Если спросят о французе, говорите всем, что его послали с экспедицией в неизвестном направлении, а если захотят узнать, правда ли, что Удав показывал приятелям его часы, скажите, что это он хвастал спьяну, лег отоспаться, да больше и не проснулся. Если же вас попросят рассказать об Искорке, скажите, что это был надсмотрщик, неплохо знавший туземные языки: йераль, карихона, уитото и муйнане, — а чтобы скрасить разговор, вам придется изложить какой-нибудь интересный случай, — припомните, как этот голубок воровал у туземцев гуайюко, чтобы обвинить их в безнравственности, и заставлял их прятать каучук в расчете на то, что к приезду хозяина он откроет эти клады и создаст себе славу колдуна; расскажите о его ногтях, отточенных как бритва — ногтях, которыми он, сделав незаметную царапину, убивал самого крепкого индейца, и не потому, что ногти его были заколдованы или опасны от природы, а потому, что они были смазаны ядом кураре.
— Земляк, — вскричал я, — вы мне говорите о Лиме и Боготе, будто уверены, что я смогу отсюда выбраться.
— Точно так. Я знаю, кто вас купит и возьмет с собой: мадонна Сораида Айрам!
— Правда? Правда?
— Сущая правда, как то, что сейчас вечер. Сегодня поутру, когда инспектор вызвал вас на допрос, мадонна смотрела с балкона в бинокль, и когда вы заявили во весь голос, что не хотите больше работать здесь, ей понравилась такая дерзость. «Кто этот смелый старик?» — спросила она меня. А я ответил: «Именно тот, кто вам нужен: это румберо, по прозвищу Компас, грамотный, хорошо разбирающийся в счетоводстве, знаток всех сортов каучука; он превосходно изучил здешние места, набил руку на контрабанде; он хороший торговец и хороший гребец. Я вам его рекомендую, и вы, красавица моя, можете купить его по дешевке. Будь он с вами во время истории с Хуаном Муньейро, у вас не было бы никаких осложнений».
— История с Хуаном Муньейро? Какие осложнения?
— Да, была одна неприятность — дело прошлое. Мадонна купила каучук у беглых с Капалурко, и в Икитос его хотели конфисковать. Но ей все нипочем. На то она — красавица! Заградительным отрядам запретили пропускать ее вверх по рекам, но инспектор — как вы сами видите — все уладил, и совсем задаром. Хотя женщина сперва дает, а после просит, а мужчина сперва просит, а потом дает...
— Земляк, у мадонны должны быть сведения о Лусьянито! Пойду переговорю с ней; купит она меня или нет — все равно!
Три недели спустя я был в Икитос.
Катер мадонны вел на буксире баржу, грузоподъемностью в сто кинталов; я сидел на корме, у руля, изнывая от жары. Часто мы бросали якорь у поселков на берегу Амазонки, сбывая товары или выменивая их на местные продукты: гуттаперчу, каштаны, рыбу пираруку; земледелие еще не привилось на этих необъятных просторах. Донья Сораида сама занималась меновой торговлей с поселенцами; торговалась она всегда азартно. Каждый раз, отчалив от берега, она с радостью наблюдала, как я записываю в журнал выжатые ею по грошам барыши.
Я не замедлил убедиться, что характер у моей хозяйки был невыносимый, злобный, как у попа. Она отказывалась верить, что я — отец Лусьянито, презрительно отзывалась о Муньейро, и лишь ценой унижений мне удалось выведать от нее, что беглецы, подсунув ей сирингу, «краденую и низшего сорта», обманули заградительные отряды на Амазонке, поднялись по Какета до устья Апопорис и вышли на реку Тарайра, откуда к Ваупесу ведет тропа; она рассчитывала найти их на берегах Ваупеса и взыскать с них убытки, но стала жертвой клеветы, позорившей ее девичью честь: нашлись сплетники, объяснившие ее поездку любовной драмой.
— Не забывай, старик, свое рабское положение нищего слуги, — прикрикнула она как-то раз на меня. — Я не позволю тебе со мной фамильярничать и расспрашивать меня о таких вещах, которые ты посовестился бы упоминать даже в разговоре с приятелями. Хватит выспрашивать меня, возмужал ли Лусьянито, выросли у него усы или нет, здоров ли он, хорошо ли ведет себя. Какое мне дело до подобных вещей! Разве я гоняюсь за мужчинами и выискиваю смазливые лица? Или разве предпочитаю заключать сделки с одними красавцами? Продолжай нахальничать, и я продам тебя первому встречному вместе с твоим долгом!
— Не обращайтесь так со мною, мадонна, мы больше не в сирингалях. Я и без того натерпелся горя от неблагодарных детей! Вот уже восемь лет, как я ищу Лусьянито и плачу по нем, а он даже и не подумал разыскать меня! Одной этой мысли достаточно, чтобы покончить со всем моим горем: я способен в любую минуту бросить руль и утопиться. Я хочу только знать, известно ли Лусьянито, что я его ищу, видел ли он мои знаки на деревьях, вспоминал ли он о матери...
— Ты утопишься?! Утопишься?! Да как ты смеешь? А мои две тысячи солей! Мои две тысячи солей! Кто заплатит мне две тысячи солей?
— Значит, я не имею права даже умереть?
— Это было бы кражей!..
— А вы думаете, мой счет — правильный? По-вашему, я не заработал съеденных харчей за восемь лет непрестанного труда? Разве не говорят о моей нищете эти лохмотья, из которых глядит голое тело?
— Твой сын обокрал меня...
— Мой сын — не вор, даром что вырос среди разбойников! Не смешивайте его с другими! Он не продавал вам никакого каучука! Вы заключили сделку с Хуаном Муньейро, получили каучук и еще остались ему должны. Я просмотрел книги...
— А, ты еще и шпион! Здорово же меня надул в «Очаровании» этот старый мошенник Бальбино Хакоме! Но со мной шутки плохи! Когда пристанем к берегу, я велю тебя арестовать.
— Да, и пусть меня отведут к судье Валькарселю. У меня найдутся для него важные показания!
— Аллах! Ты хочешь впутать меня в новые неприятности...
— Не беспокойтесь. Я сам жертва доносов и не стану доносчиком.
— Я сумею уладить твое дело, если ты не навлечешь на меня гнев Араны...
— Я не скажу ему ни слова о Хуане Муньейро.
— Ты можешь восстановить против себя влиятельных людей. В Манаос я отпущу тебя на свободу! Ты пойдешь на Ваупес, обнимешь Лусьяно Сильву, своего любимого сына, который, конечно, тоже разыскивает тебя.
— Но я все-таки переговорю с нашим консулом. Колумбия нуждается в моих разоблачениях. Я не побоюсь даже смерти. Останется сын — он будет продолжать борьбу!
Через несколько часов мы причалили к берегу.
Ссора с мадонной подняла меня в глазах окружающих. Мои последние слова поставили меня в положение хозяина, которого побаивалась даже сама мадонна и на которого смотрел с почтением экипаж катера и баржи. Прежде моторист и рулевой заставляли меня стирать на них белье, а теперь они не знали, с какой стороны подступиться к сеньору Сильве. На берегу один из них угостил меня папиросами, а другой, сняв шляпу, протянул мне зажигалку:
— Вы, сеньор Сильва, отомстили за наши обиды.
Мулатка из Пиринтинса, камеристка мадонны, велела людям натянуть над палубой навес.
— Поторапливайтесь, у сеньоры мигрень. Она приняла два порошка аспирина. Надо поскорее повесить для нее гамак!
Пока матросы выполняли приказания, я обдумал свой план: пойти к колумбийскому консулу, потребовать, чтобы он передал мое дело в префектуру или в суд, разоблачить совершающиеся в сельве преступления, изложить все, что я знаю относительно экспедиции французского ученого, попросить репатриировать меня, освободить порабощенных каучеро, пересмотреть конторские книги и счета на «Водопадах» и в «Очаровании», возвратить свободу тысячам туземцев, заступиться за поселенцев, открыть свободную торговлю на реках и каналах. Но прежде всего добиться приказа о признании за мной законных родительских прав на несовершеннолетнего сына и о выдаче мне его, хотя бы силой, из любого барака или лесного участка.
Камеристка подошла ко мне:
— Сеньор Сильва, госпожа просит вас распорядиться о выгрузке с баржи товаров и уладить все дела на таможне, ведь вы — человек умелый и надежный. Бедная, как она плакала, вспомнив о Лу!
— Кто этот Лу?
— Лусьянито. Так она его называла, когда они вместе плыли по Ваупесу.
— Вместе?
— Да, сеньор, слившись вместе, как губы в поцелуе.
Он был очень великодушен и смел, доставал для нее много каучука. Кто все о нем знает — так это моя старшая сестра. Она сейчас на Рио-Негро, живет с надсмотрщиком в фактории турка Песиля и до меня служила камеристкой у мадонны.
Услышав эту новость, я задрожал от горькой обиды и, затаив негодование, отвернулся в сторону. Не запомню, как я добрался до города, как шел мимо матросов, грузчиков, таможенников, то и дело попадавшихся мне на пути. Кто-то остановил меня, требуя показать паспорт. Кто-то спросил, откуда я, и не осталось ли у меня в лодке овощей для продажи. Не помню, как бежал я по пристаням, предместьям и улицам. На одной из площадей я остановился у дома с гербом. Я постучался:
— Здесь живет колумбийский консул?
— Какой консул? — спросила меня какая-то женщина.
— Колумбийский.
— Ха-ха-ха!
Над балконом углового дома я увидел флагшток.
Я вошел,
— Простите, сеньор, это консульство Колумбийской республики?
— Нет.
И так бродил я по городу до самого вечера.
— Кабальеро, — спросил я у кого-то, — где живет французский консул?
Тот указал мне дорогу. Консульство было закрыто. На медной дощечке я прочел: «Открыто от 9 до 11 часов утра».
Когда прошло первое возбуждение, мной овладел такой страх, что я пожалел даже о моих диких сирингалях. Там все же были у меня знакомые и всегда находилось место для моего гамака, там сложились мои привычки; я знал с вечера свой урок на следующий день, и даже страдания приходили ко мне по расписанию. В городе я почувствовал, что потерял в лесах привычку к смеху, к свободе, к счастью. Я блуждал по улицам, натыкаясь на прохожих, тоскуя среди чужих. Мне казалось, что каждому хочется спросить меня, почему я бездельничаю, почему не копчу сирингу, почему дезертировал из барака. От громких разговоров у меня по спине пробегали мурашки, свет слепил привыкшие к полутьме глаза. Я не чувствовал свободы, потому что я сам не был свободен; у меня был хозяин-кредитор, за мной влачилась цепь долга, у меня не было занятия, крова, хлеба.
Я несколько раз пересек город, прежде чем понял, что он невелик. Наконец, я заметил, что прохожу мимо все тех же зданий. У одного из них стояли экипажи. Слышалась музыка, аплодисменты... Из подъехавшей коляски вышла мадонна в сопровождении толстого кабальеро с густыми закрученными, как канаты, усами.
Я решил вернуться на пристань и тут заметил в одной из харчевен моториста и рулевого.
— Мы ушли, сеньор Сильва, — на катере нечего делать. Все товары сданы. Завтра ровно в двенадцать на Рио-Негро отплывает пассажирский пароход. Мадонна заказала себе каюту. Мы трое пойдем на катере. Отплывем, как только вы пожелаете. А еще советуем вам отложить свои разоблачения до Манаос. Здесь вас и слушать не станут. Ну, чем вас порадовал консул?
— Ни одна душа не знает его адреса.
— Не скажете ли, — обратился моторист к присутствующим, — есть здесь колумбийское консульство?
— Не знаем.
— По-моему, оно помещается в доме компании Араны и Веги. Раньше консулом, насколько мне известно, был дон Хуанчо Вега.
Хозяйка харчевни, мывшая стаканы в тазу, сказала:
— Сосед мой — жестянщик — говорил мне, что его хозяина зовут Консулом. Можете справиться, не колумбийцы ли они,
Оскорбившись за честь Колумбии, я сердито промолвил:
— Вы и понятия не имеете, о ком я вас спрашиваю!
Все же на рассвете я решил разыскать жестянщика и прошелся несколько раз с видом наблюдателя по противоположной стороне улицы. Французское консульство еще было закрыто. Околоток просыпался рано. Скоро открылась дверь жестянщика. Человек в синем фартуке раздувал во дворе большими мехами жаровню с углем. Когда я подошел к нему, он запаивал змеевик перегонного куба. На полках была расставлена металлическая посуда.
— Сеньор, не знаете, есть ли в этом городе колумбийский консул?
— Да, консул здесь проживает; сейчас он выйдет.
И консул вышел без пиджака, держа в руках чашку шоколада. С виду он не походил на людоеда, и я радостно бросился к нему:
— Земляк! Земляк! Помогите мне вернуться на родину.
— Я не из Колумбии, и мне не платят жалованья. Ваша страна никого не репатриирует. Паспорт стоит пятьдесят солей.
— Я пришел с Путумайо, об этом говорят мои лохмотья, избитое тело, желтизна лица. Направьте меня к судье, я укажу преступников...
— Я не юрист и не знаю законов. Если вы не можете заплатить адвокату...
— Я могу многое рассказать об экспедиции французского ученого...
— Тогда обратитесь во французское консульство.
— У меня на этих реках отняли несовершеннолетнего сына...
— Это должны разобрать в Лиме. Как зовут вашего сына?
— Лусьяно Сильва, Лусьяно Сильва!
— Эге-ге! Советую вам помалкивать. Французский консул знает об этом деле. Эта фамилия ему вряд ли понравится. Некий Сильва, был на «Водопадах». И после исчезновения ученого носил его одежду. Вас сию же минуту арестуют. Знаком вам румберо по прозвищу Компас? А о чем вы собираетесь сообщить?
— Я дам показания на основе того, что мне рассказали другие.
— Сеньор Арана, конечно, в курсе всего этого. Он интересуется этим делом. Сообщите ему все и попросите работы от моего имени. Он человек хороший и поможет вам.
Опасаясь, как бы консул не заметил моего волнения, я даже не подал ему руки при прощанье. Выйдя на улицу, я с трудом разыскал пристань. Моторист и рулевой сидели с пеонами на борту катера.
— Едем, — обратился я к ним.
— Вот познакомьтесь с тремя товарищами, — они служат у сеньора Песиля, того толстяка, с которым мадонна вчера была в кино. Мы вместе с ними отправимся в Манаос на катере, а хозяева поедут пароходом.
Когда уже заводили мотор, один из пеонов Песиля сказал мне:
— От всей души сочувствую вашему горю.
— Очень благодарен вам за эти слова.
— У порогов Яварате стволом хакаранды...[47] задавлен...
— Я вас не понимаю!
— Года через три, не раньше, можно будет извлечь кости.
— Чьи кости? Чьи кости?
— Вашего бедного сына. Его задавило деревом.
Грохот мотора заглушил мой крик:
— Боже мой! Его убило деревом!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Я был каучеро, я и сейчас каучеро! Я живу среди затянутых илом топей, в одиночестве гор, вместе с больными лихорадкой товарищами. Я попрежнему подсекаю кору деревьев, кровь у которых белая, как у богов.
За тысячу лиг от родного очага я проклял память о прошлом, так тяжела она была для меня: память о родителях, состарившихся в бедности в ожидании помощи от пропавшего сына, и память о незамужних сестрах, юных красавицах, улыбкой встречающих разочарования, в надежде, что разгладятся морщины на лбу Судьбы и брат принесет им спасительное золото.
Часто, вонзая топор в живую плоть дерева, я ощущал желание отрубить свою собственную руку, ту, которая прикоснулась к деньгам и не схватила их, — злополучную руку, которая не способна ни создавать, ни грабить, ни спасти меня; ту руку, которая дрогнула, когда я хотел лишить себя жизни. И подумать только, какое множество людей в этих непроходимых лесах терпит подобные муки!
Кто нарушил равновесие между действительностью и порывами души? Зачем нам даны крылья, если кругом — пустота? Нашей мачехой была бедность, нашим тираном — фантазия. Мы устремлялись ввысь и спотыкались о землю, презренной заботой о теле убивали в себе дух. Посредственность заразила нас своей безысходной тоской. Мы оказались героями этих мелких дел.
Тем, кому открывалась возможность счастливой жизни, нечем было ее купить; искавший невесту встретил лишь презрение; мечтавший о жене нашел любовницу; стремившийся вверх упал побежденным к ногам равнодушных магнатов, бессердечных, как эти деревья, которые безразлично смотрят на нас, изнемогающих от лихорадки и голода в царстве пиявок и муравьев.
Я хотел свести счет со своими иллюзиями, но неведомая сила отшвырнула меня еще дальше от действительности. Я пронесся над своим счастьем, как стрела, не попавшая в цель, я был бессилен исправить роковой толчок тетивы и знал заранее, что судьба предначертала мне падение! И это люди назвали моим будущим!
Несбыточные мечты, упущенные победы! Зачем, о призраки памяти, вы хотите унизить меня? Взгляните, что сталось с мечтателем! Он калечит безропотное дерево, обогащая тех, кто не умеет мечтать, он переносит унижения и издевательства за нищенскую корку хлеба перед сном.
Раб, не жалуйся на усталость; узник, не хули своей тюрьмы: вы не ведаете, какая пытка — одиноко бродить в такой тюрьме, как сельва, с ее зелеными сводами, в тюрьме, стены которой образуют огромные реки. Вы не знаете, что за мука видеть, как солнце играет на противоположном берегу, до которого вам уже не добраться! Цепь, покрывающая язвами щиколотки, милосердней, чем пиявки здешних трясин; палач-тюремщик не так суров, как деревья, наши безмолвные сторожа!
На моем участке — триста сиринго; на то, чтобы их изувечить, у меня уходит девять дней. Я очистил их от лиан и к каждому стволу проложил дорогу. Пробираясь сквозь коварную толпу растений, срубая те, которым не дано плакать, я порой застаю их истязателей, ворующих друг у друга каучук. Мы деремся зубами и ножами, и млечный сок окрашивается красными брызгами. Но что за беда, если от нашей крови на деревьях становится больше сока! Надсмотрщик требует десять литров в день, а плеть — ростовщик, не знающий пощады.
И какое мне дело до того, что мой сосед, работающий на ближнем участке, умирает от лихорадки? Я вижу, как он вытянулся на ворохе листьев, как он отгоняет от себя мошкару, мешающую ему умереть. Завтра смрад прогонит меня с этого места, но я украду добытый им каучук, и на мою долю останется меньше работы. Так поступят и со мной, когда я умру. Я никогда не воровал для родного отца и украду сколько смогу ради моих палачей!
Я привязываю к сочащемуся стволу трубчатый стебель караны, и в чашку сбегают горькие слезы дерева, а туча москитов, защищая его, сосет мою кровь, и лесные испарения застилают мне глаза. Так дерево и я — плакальщики по самим себе, — мучаясь по-разному, будем биться друг с другом до полного изнеможения.
Но я не сочувствую тем, кто не борется. А в дрожи ветвей дерева не слышно борьбы, которая воодушевила бы меня. Почему вся сельва не загудит? Почему она не раздавит нас, как пресмыкающихся, мстя за нашу гнусную алчность? Здесь я испытываю не грусть, а отчаяние! Я хочу вступить с кем-нибудь в заговор! Я хочу вмешаться в битву стихий, погибнуть от катастрофы, увидеть действие космических сил! Ах, если бы сам Сатана стал во главе этого мятежа!..
Я был каучеро, я и сейчас каучеро! Я поднимал руку на деревья, я смогу поднять ее и на людей!
— Знайте, дон Клементе, — сказал я старику, когда мы направились на просеку Гуараку, — пережитые вами несчастья завоевали наши симпатии. Теперь ваше освобождение станет целью нашей жизни. Я уже чувствую, как во мне загорается дух самопожертвования; но меня прельщает не ореол мученика, а возможность помериться силами со сворой зверей в человеческом образе, победить их их же оружием, зло уничтожая злом, потому что мира и справедливости можно добиться, лишь одержав победу. Чего вы достигли, превратившись в жертву? Кротость открывает путь тирании, и покорность эксплуатируемых поощряет эксплуататоров! Присущие вам доброта и робость были бессознательными сообщниками ваших палачей.
Хотя до сих пор я знал одни только неудачи, — планы мои разрушает злая судьба, — я предчувствую, что на этот раз я смогу разделаться с моими врагами. Я не знаю, каковы будут грядущие события, какие испытания мне еще предстоят, но смерть в этих местах меньше всего страшит меня, если я умру недаром. Но к чему думать о смерти перед лицом препятствий, какими бы огромными они ни были, если смельчаку никогда не закрыта возможность преодолеть их? Вера в свою звезду должна укреплять нашу решимость. Спутники мои — люди отважные; если вы не хотите вступить в бой с превратностями судьбы, выберите любого из них и бегите на плоту по этой реке.
— А мое сокровище? Разве вы не знаете, что у Кайенца хранятся останки Лусьянито? Или вы думаете, что без этого залога мне позволили бы гулять на воле?
Я не сразу нашелся, что ему ответить.
— Кости сына — моя цепь. Я вынужден угождать всем, лишь бы мне разрешили просушить на солнце эти кости. Я уже говорил вам, что не смог собрать их целиком; в тот день, когда я откопал останки сына, в могиле осталось несколько пальцев, еще покрытых мясом. Я носил эти кости в котомке, а когда Кайенец поймал меня по возвращении с Ваупеса, на тропе, соединяющей Исану и Керари, он хотел отнять их у меня и выкинуть. Теперь они хранятся, чистые, белые, под постелью хозяина, в бидоне из-под керосина.
— Дон Клементе, а вы уверены, что эти останки...
— Да! Это — Лусьянито! Череп невозможно спутать: в верхней челюсти один зуб вырос поверх других. Во лбу — отверстие; должно быть, это я пробил череп киркой.
Наступило молчание. Решимость моих товарищей, видимо, начала покидать их: они сидели в глубокой задумчивости. Затем мулат подошел к дону Клементе и сказал:
— Лучше нам с вами возвратиться, товарищ. Мать осталась одна, и скот дичает. У меня в стаде — четыре коровы стельных по первому разу, им уже время телиться. Бросьте кости, от них добра не будет. Не стоит связываться с покойниками. В молитве так и сказано: «Здесь тебя погребаю и здесь тебя оставляю, пусть унесет меня дьявол, если я тебя откопаю». Попросите этих сеньоров вытребовать у хозяина кости и заройте их под крестом, и увидите тогда, что судьба ваша переменится. Решайтесь скорее, а то будет поздно.
— Как? Бежать отсюда, рискуя тем, что мы попадем в руки Фунеса? Или вы не знаете, куда вас занесло? Агенты полковника рыщут здесь повсюду.
— Теперь уже поздно колебаться! — гневно вскричал я. — Вперед, мулат! Время упущено!
Тогда Эли Меса подошел к хижине, намереваясь поджечь ее. Дон Клементе, следя за ним, не пытался его остановить.
— Не смейте! — приказал я. — Тогда ведь сгорят и корзины с отравленным маниоком. Охотники на индейцев могут сюда скоро вернуться, и пусть они все перемрут от яда!
Мне хотелось, чтобы товарищи шагали не так молчаливо: меня терзали тяжелые думы и охватывал панический страх при мысли о будущем. Каковы мои планы? К чему так высоко заноситься? Какое мне дело до чужого горя, если я запутался в собственных бедах? К чему давать обещания дону Клементе, когда меня связывают Баррера и Алисия? У меня из головы не выходили слова Франко: «Все это — твоя порывистость и театральность сумасброда!»
Мало-помалу я начал сомневаться, в здравом ли состоянии мой рассудок. Не сошел ли я с ума? Но нет. Лихорадка несколько недель как оставила меня. Так почему я ненормален? Мозг мой здоров, мысль работает отчетливо. Я не только понимаю, что надо скрыть от товарищей свои сомнения, но и отдаю себе отчет в мельчайших подробностях окружающего меня. Вот доказательство: я ясно вижу, что лес в этом месте невысок, дороги нет, и дон Клементе прокладывает путь, обрубая ветки, чтобы оставить путеводные вехи, как это принято делать среди охотников. Фидель несет на груди карабин, прикрепив к его стволу ремни закинутой за спину сумки с маниоком, которая кажется огромным горбом; мулат тащит свернутые гамаки, котел и пару весел; Эли Меса, согнувшись под тяжестью тюка, смакует сок зрелого ореха и помахивает в воздухе дымящей головешкой, которую он несет в правой руке и которая заменяет нам спички.
Я сумасшедший! Какая нелепость! Разве не мне пришел в голову самый разумный план: остаться заложником в фактории на Гуараку, а старого Сильву отправить в Манаос, тайно вручив ему жалобу на имя консула нашей страны с просьбой приехать немедленно в сельву, освободить меня и вырвать из плена соотечественников. Разве может умалишенный рассуждать так логично?
Кайенец должен принять столь выгодное предложение: вместо дряхлого старика он получит молодого каучеро, даже двух или трех; Франко и Эли, я уверен, не покинут меня. Чтобы задобрить его, я заговорю с ним по-французски: «Сеньор, — скажу я, — этот старик — мой родственник, ему нечем заплатить долг, отпустите его на свободу, а мы отработаем за него». И беглый каторжник из Кайенны, конечно, согласится без колебания.
Терпение и лукавство помогут мне без труда добиться доверия предпринимателя. Я употреблю против него не силу, а хитрость. Долго ли продлятся наши мучения? Месяца два-три. Возможно, Кайенец пошлет нас в сирингали на Ягуанари, ведь Баррера и Песиль — его компаньоны. А если это и не так, мы предложим Кайенцу переманить на его разработки колумбийцев с Ягуанари. В случае если он воспротивится нашим планам, мы сбежим по течению Исаны, и там, когда-нибудь, столкнувшись с моим врагом лицом к лицу, я убью его на глазах у Алисии и завербованных каучеро. Потом наш консул высадится на Ягуанари, направляясь на Гуараку с отрядом жандармов, он возвратит нам свободу, и мои товарищи воскликнут: «Бесстрашный Артуро Кова проник в эти дебри и отомстил за всех нас!»
Рассуждая таким образом, я почувствовал, что увязаю по щиколотку в опавших листьях, а деревья вокруг меня с каждой секундой становятся все выше и, подобно дерущимся на ножах людям, вытягиваются во весь рост, поднимая над головой зеленые руки. Еще несколько мгновений — и я ощутил, что череп мой словно налился свинцом, а ноги разъезжаются в разные стороны. Голова моя повернулась к левому плечу, и мне почудилось, как кто-то невидимый настойчиво зашептал мне на ухо: «Так и иди! Так и иди! Зачем идти, как все остальные?»
Товарищи шли рядом со мной, но теперь я не видел, не замечал их. Мне вдруг показалось, что мозг мой готов расплавиться. Мной овладел ужас при мысли, что я покинут всеми, и я с диким воплем пустился куда-то бежать, спасаясь от погнавшихся за мной собак... Что было дальше — не помню. Товарищи вытащили меня из густой сети лиан.
— Господи! Что с тобой? Ты не узнаешь нас? Это же мы!
— Что случилось? Зачем вы держите меня? Зачем вы меня связали?
— Дон Клементе, — произнес Франко, — вернемся назад: Артуро заболел.
— Нет, нет! Все прошло... Мне показалось, что я гонюсь за белкой серебристого цвета. Меня испугали ваши лица. Какие ужасные гримасы...
Побледневшие товарищи не сомневались в моей болезни; но я все же занял место вожака и повел их через лес. Минуту спустя дон Клементе усмехнулся:
— Это сельва околдовала вас, земляк!
— Как? Почему?
— Потому что вы ступаете неуверенно и каждую секунду оглядываетесь назад. Но вы не беспокойтесь и не пугайтесь. Ведь некоторые деревья — насмешники...
— Я не понимаю вас...
— Никто не знает причины тех таинственных явлений, которые сбивают нас с толку, когда мы блуждаем по сельве. Но я все же думаю, что нашел объяснение: каждое из этих деревьев стало бы кротким, дружелюбным и даже веселым в парке, при дороге, в степи, где никто не преследовал бы его и не вытягивал бы из него соки. Здесь же все они злы, враждебны к людям, гипнотизируют их. В этой тишине, в этом полумраке они по-своему борются с нами: что-то пугает, давит нас, заставляет корчиться. От давящей громады деревьев начинает кружиться голова, мы хотим бежать и сбиваемся с пути. Вот почему тысячи каучеро навсегда сгинули в сельве.
Я тоже не раз чувствовал ее злые чары, особенно на Ягуанари!
Впервые во всем своем ужасном великолепии предстала передо мной в эти дни бесчеловечная сельва. Уродливые деревья находятся в жестоком плену у чужеродных лиан, которые сочетают их насильственными узами с красавицами пальмами. Свисая, подобно слабо натянутой сетке, годами копят они на ее дне листья, ветви, плоды и вдруг, прорываясь, как гнилой мешок, роняют в траву слепых гадов, ржавых саламандр, мохнатых пауков.
Лиана матапало — ползучий спрут лесов — впивается в деревья своими щупальцами и присасывается к ним, скручивая их стволы, срастаясь с ними, вытягивая из них душу в мучительном метемпсихозе. Бачакеро[48] извергают мириады муравьев, опустошающих все на своем пути; как острым ножом, срезают эти муравьи растительный покров на склонах гор и широкими тропами, словно знаменосцы опустошения, возвращаются в свои туннели с вымпелами листьев и цветов. Термиты губят деревья: подобно скоротечному сифилису, разъедающему тело мучительными язвами, подтачивают они древесину; превращают в пыль кору, и дерево внезапно обрушивается на землю всей тяжестью своих еще живых ветвей.
А земля между тем вечно обновляется: у корней поверженного колосса пробивается новый росток, среди миазмов носится нежная пыльца; повсюду — тяжкое дыхание брожения, горячие вздохи полутьмы, дрема смерти, сумерки жизни.
Где же здесь поэзия уединенных рощ, где бабочки, подобные прозрачным цветкам, волшебные птицы, певучие ручьи? Жалкое воображение поэтов, которым ведомо лишь домашнее одиночество!
Ни влюбленных соловьев, ни версальских парков, ни сентиментальных панорам! Здесь монотонный хрип жаб, подобный хрипу больных водянкой, глушь нелюдимых холмов, гнилые заводи на лесных реках. Здесь плотоядные растения усыпают землю мертвыми пчелами; отвратительные цветы сокращаются в чувственной дрожи, а вкрадчивый запах их пьянит, как колдовское зелье; пух коварной лианы слепит животных; прингамоса обжигает кожу; плод куруху снаружи кажется радужным шаром, а внутри он подобен едкой золе; дикий виноград вызывает понос, а орехи — сама горечь.
Здесь по ночам раздаются неведомые голоса, блуждают призрачные огни, царит погребальная тишина. Это проходит смерть, создавая жизнь. Слышен стук плода; ударяясь о землю, он обещает отдать ей свое семя; падают листья, наполняя лес невнятными вздохами; они — удобрение для корней дерева-отца; лязгают челюсти, пожирающие из страха быть пожранными; раздается тревожный свист, крик агонии, чей-то свирепый рык. А когда заря вознесет над лесами свой трагический венец, начинается веселый праздник оставшихся в живых; жужжанье крикливой павы, хрюканье дикой свиньи, хохот потешной мартышки. И все это из-за короткого счастья прожить несколько лишних часов!
Сельва, девственная и кровожадно-жестокая, нагоняет на человека навязчивую мысль о неминуемой опасности. Ее растения — это одаренные чувствами существа, психики которых мы не знаем. Когда они разговаривают с нами в этих пустынных дебрях, их язык бывает понятен только нашему внутреннему чутью. Попадая под их власть, человеческие нервы превращаются в пучок нитей, тянущихся к грабежу, к предательству, к засаде. Органы чувств сбивают с толку разум: глаз осязает, спина видит, нос распознает дорогу, ноги вычисляют, а кровь громко кричит: «Бежим, бежим!»
Но цивилизованный человек — паладин разрушения. Какое-то своеобразное мужество заключено в эпопее этих пиратов, порабощающих пеонов, грабящих индейцев и сражающихся с сельвой. Потерпев неудачу в больших городах, где они оставались затерянными в толпе, они ринулись в пустыни, стремясь найти исход своей бесплодной жизни.
В горячечном бреду лихорадки они навсегда потеряли совесть. Сжившись с любой опасностью, они прошли сквозь жестокие испытания и непогоду, вооруженные лишь ружьями и мачете, стремясь к наслаждению и изобилию, вечно голодные, в истлевшей на теле одежде.
Но вот настает день, и на скалистом берегу реки они строят хижины, называя себя «владельцами предприятий». Оказавшись лицом к лицу с враждебной сельвой, они не знают, с кем бороться; а в промежутках своей отчаянной борьбы с лесом они травят, убивают и порабощают друг друга. Посмотрите, и вы сразу убедитесь, что порой следы их деятельности подобны опустошениям, причиненным лавиной. Колумбийские каучеро ежегодно губят миллионы деревьев. На территории Венесуэлы уже вывелась балата.[49] Так совершается преступление против грядущих поколений.
Один из таких «паладинов разрушения» бежал из Кайенны, известной на весь мир тюрьмы, окруженной вместо рва океаном. Он знал, что тюремщики прикармливают акул, подманивая их к стенам крепости, и все же, несмотря на это, бросился в море. Он появился на Папунагуа, захватил чужие фактории и, покорив беглых каучеро, монополизировал добычу каучука, поселившись со своими клевретами и рабами в хижинах на Гуараку, дальние огни которых, в ночь, когда мы вышли на Исану, замерцали перед нами сквозь чащу леса.
Кто бы сказал в тот миг, что судьбы наши так трагически столкнутся?..
В дни перехода я, к стыду своему, убедился в том, что физически я совсем ослабел: силы мои, подточенные лихорадкой, иссякли. Товарищи не знали, что такое усталость, и даже старый Клементе, несмотря на свои годы и болезни, оказывался выносливей, чем я. Они ежеминутно останавливались, поджидая меня, и, хотя я был освобожден от груза — котомки и карабина, — мне приходилось призывать на помощь всю свою гордость, чтобы не броситься на землю и не признаться в своем бессилии.
Я хмуро шагал босиком, обернув ноги тряпками. Мы переходили вброд топи и лагуны среди высокого леса, корневища которого не знают солнечного света. Фидель протягивал мне руку, помогая переходить по упавшим стволам деревьев; собаки тщетно лаяли, прося спустить их с поводка в этом раю для охотников. Но даже и это не могло поднять мой упавший дух.
Сознание превосходства товарищей сделало меня недоверчивым, раздражительным, упрямым. Нашим вожаком был, несомненно, старик Сильва, и я начал испытывать к нему тайную зависть. Я стал подозревать, что он нарочно избрал этот путь, рассчитывая заставить меня на опыте убедиться, насколько я бессилен против Кайенца. Дон Клементе не пропускал случая поведать мне о тяжелой жизни каучеро, о всех трудностях бегства — их постоянной мечты. Живя этой мечтой, они, однако, никогда ее не осуществляют. Им хорошо известно, что смерть сторожит все выходы из леса.
Рассказы Сильвы находили отголосок в сердцах моих товарищей, и они советовали мне вернуться. Я не слушал их и ограничивался ответом:
— Вы идете со мной, но я знаю, что иду один. Вы устали? Хорошо, я пойду впереди вас...
Тогда они, не говоря ни слова, уходили вперед и, дожидаясь меня, перешептывались, искоса поглядывая в мою сторону. Это наполняло мое сердце негодованием. Я злился на них. Они издевались, наверное, над моим зазнайством. А может быть, они избрали направление, ведущее в сторону от Гуараку?
— Слушайте, дон Клементе! — окликнул я как-то раз старика. — Если вы не выведете меня на Исану, я влеплю вам пулю в лоб!
Старик прекрасно понимал, что угрозы мои — не шутка. Он не удивился им. Он понял, что сельва завладела мною. Убить человека? Что в этом особенного? Почему не убить? Это самый естественный выход. Как же иначе защищаться? Как отделаться от врага? Разве убийство — не самый легкий способ разрешения жизненных конфликтов?
И через это — о сельва! — прошли все, кто попал в твою пучину!
Засев в кустарнике с карабинами в руках, мы наблюдали за огнями в бараках, опасаясь, как бы нас оттуда не заметили. Нам предстояло переночевать тут, не разводя костра. Где-то во тьме слышались всхлипыванья невидимой реки. Это была Исана.
— Дон Клементе, — сказал я, обнимая Сильву, — на свете нет румберо опытнее вас.
— Да, но я испытываю страх перед своей профессией: я скитался больше двух месяцев, заблудившись в сирингалях на Ягуанари.
— Мне хорошо известны все подробности. Когда вы сбежали на Ваупес...
— Нас было семеро каучеро.
— И они хотели убить вас.
— Они думали, что я намеренно сбил их с пути.
— И они оскорбляли вас...
— А затем умоляли на коленях спасти их.
— И держали вас связанными целую ночь...
— Они боялись, что я покину их.
— И разошлись в разные стороны в поисках пути...
— Да, но встретили одну смерть!
Несчастья всю жизнь преследовали старика Сильву. С того дня, как по дороге из Икитос в Манаос Сильва узнал о смерти сына, он жил надеждой, что ему удастся продолжить срок своего рабства. Ему хотелось еще несколько лет остаться каучеро, пока земля не позволит ему откопать останки сына. Сельва требовала его назад, как беглого, и призрак Лусьянито звал его вернуться.
Мадонна с радостью отпустила бы его на волю, но что выиграл бы он от свободы, раз нужда неминуемо заставила бы его опять завербоваться в партию нового хозяина и еще дальше удалила бы его от Ваупеса? В Манаос он обошел все агентства по найму пеонов и, отчаявшись, ушел из тех трущоб, где вербовали рабов; люди требовались лишь на Мадейру, Пурус и Укаяли. А он хотел добраться до злосчастной реки, на берегу которой таилась в бурьяне могила, отмеченная четырьмя камнями.
У турка Песиля не было участков на Ягуанари, но он согласился взять с собой Клементе на верховья Рио-Негро, а это было для старика очень важно. Сначала Песиль притворялся, что не хочет покупать Сильву; однако, вняв его мольбам, он перекупил старика у мадонны с условием вернуть его, если способности колумбийца не удовлетворят нового хозяина. Он взял Сильву на свою роскошную Померанцевую виллу и держал его первое время на легкой работе. Турок с презрительностью мусульманина молча следил за стариком, не допуская по отношению к нему ни грубостей, ни издевательства.
Но однажды женщины поссорились на кухне и разбудили сеньора Песиля, когда тот отдыхал. Клементе в это время разглядывал карту на стене коридора. За этим занятием и застал его хозяин. Крича во всю глотку, хозяин приказал старику обнажить провинившихся женщин и высечь их, но Сильва отказался исполнить это распоряжение. В этот же день вечером его отослали на реку Ягуанари в качестве сирингеро.
Одна из кухарок Песиля служила прежде горничной у мадонны и знала Лусьяно Сильву, когда тот был возлюбленным доньи Сораиды на Ваупесе. Она не была на его погребении, но знала, что могила находится у порогов Яварате. Эта женщина и сообщила Клементе все приметы, по которым можно было найти могилу.
Отказ колумбийца не спас кухарку от наказания: свирепый турок, держа по плети в каждой руке, засек ее до крови. Рыдая в кладовой, она написала записку своему любовнику, работавшему в сирингалях, и попросила Клементе передать ему это письмо и рассказать все подробности позорной экзекуции.
Любовника кухарки звали Мануэль Кардосо, он работал надсмотрщиком на реке Юрубахи. Узнав о беде, случившейся с его возлюбленной, он поклялся убить Песиля при первой же встрече, а пока, чтобы отомстить хозяину, он решил подговорить пеонов бежать, захватив с собою из барака весь каучук.
Старик Сильва притворно отказался идти с ними, опасаясь предательства. Однако на следующий день, коптя каучук, он обсудил с товарищами предложение надсмотрщика. Все пеоны говорили в один голос: «Кардосо знает, что ни один румберо не сумеет выбраться из этих лесов».
Вечером каучеро продолжали толковать о плане побега, соблазнительном, но неосуществимом, — толковали просто, чтобы потрепать языки:
— Ясно, что по Рио-Негро не убежишь: катеры хозяина резвее гончих собак.
— Но, если удастся подняться по Кабабури, оттуда легко спуститься к устью Матарука и выйти на реку Касикьяре.
— Согласен. Но ширина Рио-Негро — четыре километра. Придется оставить в стороне его левые притоки. Лучше проплыть на курьяре семьдесят с лишним дней вверх по течению Юрубахи, пока не встретится какая-нибудь речка, впадающая в Какета.
— А на Ваупес нет прямого пути?
— Придет же в голову такая чушь!
Барак стоял на скале, единственном надежном убежите среди топких дебрей; до ее вершины не доходила вода. Каждый месяц сюда причаливал катер из Померанцевой виллы, привозил провиант и забирал каучук. Рабочих было мало; болезнь бери-бери косила каучеро, к тому же многие из них погибали в трясине. Для подсечки деревьев они забирались на подмостки и, ослабев от лихорадки, падали в топь.
Некоторые гомеро, несмотря на свою малочисленность, месяцами не видели надсмотрщиков. Рабочие ютились в убогих шалашах и возвращались в барак с каучуком, уже прокопченным и сбитым в комья. Эти комья они спускали вниз по реке, вместо того чтобы везти в лодке. Привыкнув держаться берега, пеоны потеряли способность ориентироваться в лесу, и это обстоятельство увеличивало авторитет Клементе, который углублялся в чащу, находил там заросли сиринги и, возвратившись через несколько дней в барак, вел товарищей за каучуком, никогда не сбиваясь с пути.
Однажды на рассвете произошла непредвиденная катастрофа. Пеоны, отлеживавшиеся в бараке от поноса, услышали отчаянные крики и, выбежав наружу, столпились на краю скалы. Посреди реки, точно гигантские утки, плыли комья каучука; какой-то гомеро, стоя в крохотном челноке, подталкивал багром шары, застревавшие в заводях. Подгоняя свое черное стадо к бухте против барака, он дико закричал. Вопль его был страшнее клича, возвещающего о начале войны:
— Муравьи! Муравьи! Каучеро отрезаны в лесу!
Муравьи! Это означало, что людям следовало немедленно прекратить работу, бросить жилища, огнем проложить себе путь к отступлению, искать убежища где попало. Это было нашествие кровожадных муравьев тамбоча, рождающихся неизвестно где и с наступлением зимы переселяющихся перед смертью в другие места. Они опустошают огромные пространства, наступая с шумом, напоминающим гул пожара. Похожие на бескрылых ос с красной головой и тонким тельцем, они повергают в ужас своим количеством и своей прожорливостью. В каждую нору, в каждую щель, в каждое дупло, в листву, в гнезда и ульи просачивается густая смердящая волна, пожирая голубей, крыс, пресмыкающихся, обращая в бегство людей и животных.
Страшная весть посеяла панику. Пеоны в беспорядке с лихорадочной быстротой хватались за инструменты и скарб.
— Откуда двигается рой? — спросил Мануэль Кардосо.
— Видно, захватил оба берега. Тапиры и пекари плывут отсюда на тот берег, а пчелы летят оттуда.
— А кто из каучеро оказался отрезанным?
— Пятеро с Тихой Топи — у них не было лодки.
— Что поделаешь! Пусть спасаются сами! Им ничем не поможешь! Да и кто из вас рискнет пробраться в это болото?
— Я, — сказал старый Клементе Сильва.
Молодой бразилец Лауро Коутиньо присоединился к нему.
— И я. Там — мой брат.
Забрав как можно больше провизии, оружие и спички, Сильва и Коутиньо направились по тропе, которая вела от барака в чащу леса по направлению к рукаву Мариэ.
Они торопливо шли по занесенным грязью кустарникам, напрягая слух и вглядываясь вперед. Когда старик свернул с тропы в сторону Тихой Топи, Лауро Коутиньо хлопнул его по плечу:
— Сейчас самое время бежать!
Клементе уже думал об этом, но скрывал свою радость.
— Надо посоветоваться с товарищами...
— Ручаюсь, что они согласятся!
Коутиньо был прав. На следующий день они застали каучеро в хижине за игрой в кости на расстеленном платке. Каучеро пили пальмовое вино из выдолбленной тыквы.
— Муравьи! Какие еще там муравьи! Наплевать нам на муравьев! Бежим! Бежим! Такой румберо, как дон Клементе, способен вывести нас из преисподней!
И вот они идут сквозь сельву, окрыленные мечтой о свободе, полные радужных планов; идут, заискивая перед румберо, обещая ему дружбу и вечную признательность. Лауро Коутиньо срезал пальмовую ветвь и несет ее точно знамя. Соуза Машадо не расстается со своим комом каучука, весящим больше восемнадцати кило: он купит за него две ночи женских ласк, и женщина должна быть белой и светловолосой, пахнуть бренди и розами; итальянец Педжи говорит, что наймется в городе поваром в отеле, где вдоволь будет объедков и чаевых; Коутиньо-старший хочет жениться на богатой девушке; индеец Венансио думает заняться постройкой лодок; Педро Фахардо собирается купить дом для слепой матери; а дон Клементе Сильва живет мечтой найти могилу сына. Это шествие обреченных, путь которых лежит через нищету к смерти!
В каком же направлении они идут? К реке Кури-Курьяри. Оттуда они спустятся к Рио-Негро семьюдесятью лигами выше Померанцевой виллы, выйдут к Умаритубе и попросят там убежища. На случай если их арестуют, у них имеется неоспоримое доказательство: они бежали от муравьев. Пусть спросят надсмотрщика!
Мытарства начались на четвертый день похода: провиант кончился, а топям все не было конца. Каучеро остановились отдохнуть и, разорвав блузы, обернули тряпьем искусанные пиявками икры. Усталость заставила Соуза Машадо расщедриться: он разрезал свой ком каучука на куски и поделил его между товарищами. Фахардо отказался от своей доли — у него не было сил нести ее. Соуза подобрал этот кусок. Это был каучук — черное золото, его не следовало бросать.
Кто-то неосторожно спросил:
— Куда мы идем?
Товарищи хмуро ответили в один голос:
— Мы идем вперед!
А тем временем румберо потерял направление. Он шел вслепую, не останавливаясь, не говоря ни слова, чтобы не заразить страхом своих спутников. Три раза за час пути он выходил на одно и то же болото, но товарищи не замечали этого. Напрягая память, всем своим существом Сильва старался вспомнить географическую карту — сколько раз изучал он ее в Померанцевой вилле! Теперь он как бы снова читал ее в своем мозгу. Перед ним возникали извилистые линии, казавшиеся сетью жилок на бледно-зеленом пятне, покрытом незабываемыми названиями: Тейя, Мариэ, Кури-Курьяри. Но какая разница была между местностью и картой! Кто бы сказал, что на листке бумаги, размером не больше его ладоней, умещались эти бесконечные пространства, эти дикие леса, эти смертоносные болота! И он, опытный румберо, столько раз пересекавший на карте указательным пальцем реки, параллели, меридианы, как мог он подумать, что его ноги будут передвигаться по земле так же легко, как палец по карте?
Клементе Сильва стал мысленно молиться: «Боже, если бы выглянуло солнце!.. Нет! Полумрак был холоден, листва источала голубой пар. Вперед! Солнце не восходит для предающихся отчаянию!..»
Один из гомеро вдруг заявил, что он слышит свист. Все остановились. Это у них звенело в ушах. Соуза Машадо, шедший последним, стал прятаться среди товарищей: он божился, что деревья хотят схватить его.
Натянутые нервы как бы предчувствовали катастрофу. Малейшее слово могло вызвать панику, гнев, безумие. Все старались собрать последние силы:
— Вперед!
Соуза Машадо остановился и бросил каучук. Лауро Коутиньо, старавшийся казаться бодрым, отпустил шутку по его адресу. Все послушно поддались веселому настроению. Завязался разговор. Кто-то начал задавать вопросы дону Клементе.
— Молчать! — прорычал Педжи. — Помните, что с рулевыми и проводниками не разговаривают.
Но старый Сильва, внезапно остановившись, поднял руки, как человек, который сдается в плен, и, глядя в глаза товарищам, произнес рыдая:
— Мы заблудились!
И сейчас же бедняги, задирая головы кверху и завывая, как собаки, начали хором богохульствовать и молиться:
— Боже бесчеловечный! Спаси нас, боже! Мы заблудились!
«Мы заблудились!» Эти два слова, такие простые, такие обычные, вызывают, когда их произносят в лесу, ужас, не сравнимый даже с тем чувством, которое вызывает среди побежденных крик: «Спасайся кто может!» В мозгу тех, кто слышит эти слова, проносятся видения сельвы — пучины, разверстой, точно звериная пасть, поглощающая людей, загнанных в нее голодом и усталостью.
Ни клятвы, ни предупреждения, ни слезы румберо, обещавшего найти дорогу, не могли успокоить заблудившихся каучеро. Они рвали на себе волосы, заламывали руки, кусали губы, источавшие кровавую пену, которая делала их обвинения еще более ядовитыми.
— Это старик во всем виноват! Он нарочно свернул с правильного пути, чтобы удрать на Ваупес!
— Старый бандит плел нам сказки, а сам хотел продать нас черт знает кому!
— Да, да, злодей! Бог воспротивился твоим планам!
Испугавшись, что обезумевшие люди могут его убить, старый Сильва бросился бежать, но коварное дерево оплело ему ноги лианой и швырнуло на землю. Каучеро связали его. Педжи подстрекал товарищей разорвать его на куски. Тогда Клементе произнес:
— Вы хотите убить меня? Куда вы без меня пойдете? Я — ваша единственная надежда!
Эти слова произвели магический эффект. Разъяренные гомеро в замешательстве остановились.
— Да, да, не убивайте его, он спасет нас!
— Но не отпускайте его, он убежит!
Не развязывая румберо руки, они на коленях умоляли его спасти их. Рыдая, они целовали ему ноги.
— Не покидайте нас!
— Давайте вернемся в барак!
— Если вы нас оставите, мы погибнем с голода!
Одни горько жаловались на судьбу, другие тянули старика за веревку, умоляя указать обратный путь. Объяснения дона Клементе, казалось, вернули им разум. С румберо и охотниками нередко случается подобная беда, и неблагоразумно падать духом при первой неудаче, когда есть столько способов все разрешить. Чего они испугались? К чему думать о том, что они заблудились? Разве он, Сильва, не учил их столько раз не поддаваться колдовскому искушению дебрей? Он советовал им не глядеть на деревья, потому что они манят к себе, не слушать шорохов, потому что это — голоса сельвы, не произносить ни слова, потому что шелест листвы подражает человеку. Не послушавшись его наставлений, они вздумали шутить с лесом, и лес напустил на них свои чары, передающиеся, как зараза; он сам, хоть и шел впереди, начал ощущать присутствие злых духов: сельва зашевелилась, деревья заплясали перед глазами, лианы мешали прорубать тропу, ветви ускользали от ножа и чуть было не вырвали его из рук. Чья же тут вина?
А теперь, какого черта они кричат? Чего они добьются стрельбой? И кто, кроме ягуара, прибежит на их выстрелы? Или они хотят вызвать его? Вечером он будет тут как тут.
Слова Клементе ошеломили каучеро, и они умолкли. Они уже не могли расслышать друг друга на расстоянии двух ярдов: Каучеро так накричались, что охрипли и говорили сиплым шепотом, с глухим гортанным хрипом, подобным гусиному гоготанью.
Еще до того часа, когда кровавое солнце расцвечивает даль, пеонами овладело настойчивое желание развести костер; лесные вечера все облекают в траур. Они нарубили сучьев и, раскидав их по болоту, уселись вокруг старого Сильвы, в ожидании уже близкой пытки ночной темноты. Что за мука провести голодную ночь, когда мрачные мысли и непрерывная зевота одолевают тебя и ты знаешь, что с наступлением дня эта зевота еще более усилится! Какая тоска слышать во тьме чужие рыдания, когда слова утешения говорят об одной только смерти! Погибли! Погибли! Бессонница окружила каучеро кошмарными видениями. Они чувствовали тот ужас, который овладевает человеком от сознания его беззащитности, когда кажется, будто что-то подстерегает тебя в темноте. Кругом чудятся шорохи, ночные голоса, пугливые шаги, тишина, страшная, как провал в вечность.
Клементе стиснул голову руками, стараясь выжать из своего мозга спасительную мысль. Одно лишь небо могло указать им путь. Но как узнать, с какой стороны восходит солнце? Этого было бы достаточно, чтобы ориентироваться. Сквозь просвет в листве, подобный слуховому окну, забрезжил клочок голубого неба, затянутый сеткой сухих ветвей. Это напомнило ему карту. Увидеть солнце, увидеть солнце! В этом было их спасение. О, если б умели говорить деревья, макушки которых каждое утро видят солнце! Почему бессловесные растения не хотят подсказать человеку, как ему избежать смерти! И, думая о боге, он молился сельве, прося у нее прощения.
Забраться на один из этих гигантов было почти невозможно: стволы их нельзя было обхватить руками, ветки начинались высоко, и головокружение подстерегало смельчака на вершине дерева. Может, Лауро Коутиньо, который спит, обняв ноги Сильвы, нервно подергиваясь во сне, решится залезть на дерево. Сильва уже совсем собрался разбудить его, но удержался: странный шум царапал тьму, словно стая мышей где-то грызла тонкие доски; это товарищи скрипели зубами, разжевывая зерна тагуа.
Дон Клементе почувствовал такое сострадание к ним, что решил бросить им спасительную соломинку лжи.
— Что случилось? — шептали они, обращая к нему хмурые лица, и их руки ощупывали узлы связывавшей его веревки.
— Мы спасены!
Обезумев от радости, каучеро повторяли его слова:
«Спасены! Спасены!» Они бросились на землю и, вдавливаясь в грязь коленями, онемевшими от боли, хрипло забормотали слова благодарности. Достаточно было, чтобы кто-то лишь пообещал им спасение; забыв обо всем на свете, они исступленно кричали: «Мы спасены!» И благословляли спасителя.
Дона Клементе обнимали, умоляли простить, льстили ему. Некоторые хотели приписать совершившееся чудо себе:
— Это обедни, которые я заказывал!
— Нет, это мой образок!
А в это время Смерть из мрака, наверное, издевалась над ними.
Рассвело.
Нараставшее нетерпение исказило лица каучеро трагической гримасой. Исхудалые, дрожа от лихорадки, с красными от бессонницы глазами и бьющимся сердцем, ждали они восхода солнца. Фигуры этих безумцев, прижавшихся к деревьям, внушали страх. Они разучились улыбаться, и, когда им хотелось улыбнуться, рты их застывали в исступленном оскале. Вдруг заморосил дождь. Никто не произнес ни слова, но все переглянулись и поняли друг друга.
Решив возвратиться, они пошли по старым следам берегом заводи, но вскоре приметы ее пропали. Следы, оставленные каучеро в грязи, напоминали небольшие выбоины, залитые водой. И все же румберо, воспользовавшись наступившей тишиной, смог ориентироваться, но часам к девяти утра, вступив в заросли бамбука, они заметили странное явление — стаи кроликов и других зверьков, словно ручные, пугливо жались к их ногам, ища спасения. Через несколько мгновений лес наполнился глухим шумом, подобным гулу воды, прорвавшей плотину.
— Боже мой! Муравьи!
Тогда всеми овладела одна мысль: спастись. Они предпочли муравьям пиявок и укрылись в небольшой заводи, погрузившись в нее по шею.
Они видели, как прошла первая лавина. Подобно далеко разлетающемуся пеплу пожара шлепались в болото полчища тараканов и жуков, а берега его покрывались пауками и змеями, и люди баламутили тухлую воду, отпугивая насекомых и животных. Непрерывная дрожь сотрясала почву, листва бурлила, как кипящий котел. По земле двигался грохот нашествия; деревья одевались черным покровом, подвижной оболочкой, которая безжалостно поднималась все выше и выше, обрывая листья, опустошая гнезда, забираясь в дупла. Выгнанная из норы ласка, недостаточно юркая ящерица, новорожденный крысенок становились добычей этого алчного войска, и оно с писком обгладывало свою жертву до костей.
Сколько времени длились муки этих людей, погребенных в жидкой тине до подбородка и следивших расширенными от ужаса глазами за шествием нескончаемых полчищ врага? Это были часы отчаяния, когда люди глоток за глотком пили сочившуюся по каплям желчь пытки. Когда каучеро показалось, что прошел последний рой, они решили выбраться на твердую землю, но их мускулы онемели, и у них не хватало сил вылезти из топи, где они похоронили себя заживо.
Но им не было суждено умереть там. Они сделали последнее усилие. Индейцу Венансио удалось схватить рукой ветку, и он начал борьбу за жизнь. Вот он дотянулся до лиан. Потревоженные муравьи грызли ему руки. Мало-помалу он почувствовал, как расступается давивший его полужидкий панцырь. Под ногами его глухо захлюпала грязь. «Ну, еще раз, еще раз — и готово! Мужайся! Мужайся!»
Венансио выбрался на берег. В оставшейся после него впадине булькала вода.
Индеец растянулся на спине. Задыхаясь от усталости, он слышал отчаянные крики товарищей, моливших о помощи. «Дайте мне отдохнуть!» Через час, при помощи веток и веревок, ему удалось вытащить всех.
Это был последний день их общих страданий.
С какой стороны проходил след? Они чувствовали, как горят их головы, а тело цепенеет. И вдруг Педро Фахардо судорожно закашлялся и упал, обливаясь хлынувшей из горла кровью.
Никто не проявил жалости к умирающему товарищу. Коутиньо-старший советовал не терять времени. «Снять с пояса нож и оставить здесь! Кто его звал? Зачем он пошел больной? Он был для нас только обузой!» Затем Коутиньо заставил брата влезть на дерево и посмотреть, в каком направлении движется солнце.
Несчастный Лауро, чтобы облегчить подъем, обвязал себе ноги обрывком рубахи. Он тщетно старался уцепиться за ствол. Товарищи подсадили его как можно выше, и он с нечеловеческими усилиями повторял свою попытку вскарабкаться на дерево, но руки скользили по коре, он съезжал вниз и начинал все сызнова. Товарищи поддерживали его, подталкивали рогулинами, и от напряжения им казалось, что они становятся в три раза выше. Наконец, Лауро дотянулся до первой ветки. По его животу, рукам, груди, коленям сочилась кровь. «Видишь что-нибудь? Видишь?» — спрашивали его снизу. А он отрицательно качал головой.
Они снова забыли, что нужно хранить тишину, не тревожить сельвы. Безрассудная злоба наполнила их сердца; ими овладела ярость, как на тонущем корабле, где не признают ни родных, ни друзей, где зверски дерутся из-за места в шлюпке. Они простирали руки вверх и спрашивали Лауро: «Ничего не видишь? Лезь выше и смотри хорошенько!»
Лауро стоял на суку, охватив дерево, глядел куда-то и не отвечал им. На такой высоте он казался обезьяной, убегающей от охотника. «Полезай выше, трус!» И товарищи грозили ему, обезумев от ярости.
Вдруг Лауро начал спускаться. Внизу раздался злобный рев. Лауро кричал прерывающимся от страха голосом: «Опять муравьи! Опять мура...» Последний слог застрял у него в глотке; Коутиньо-старший выстрелил, и Лауро, убитый наповал, как мяч, скатился вниз.
Братоубийца закричал: «Боже мой, я убил брата, я убил брата!» Бросив ружье, он побежал прочь. И все побежали куда глаза глядят. Так каучеро расстались навсегда.
Клементе слышал их крики еще несколько ночей подряд, но боялся, что они убьют его; он тоже потерял жалость: сельва овладела им. Не раз он плакал от угрызений совести, но оправдывался перед самим собой, как только вспоминал о своей судьбе. И все же он отправился на поиски товарищей. Он нашел черепа и несколько костей.
Без огня, без оружия блуждал он два месяца в дебрях, потеряв человеческий облик, ничего не соображая; сельва превратила его в зверя, о нем забыла даже сама смерть. Он питался стеблями, корой, грибами, как травоядное животное; лишь одно отличало его от животного: он наблюдал за тем, что едят обезьяны, и подражал им.
И вот однажды утром его осенило откровение. Он остановился перед пальмой канангуче. Он знал, по рассказам очевидцев, что крона ее описывает траекторию дневного светила подобно подсолнечнику. Никогда Клементе не думал о таком чуде. Он замер точно в экстазе и вдруг заметил, что в самом деле верхние листья пальмы мерно поворачиваются так же медленно, как если бы голова человека в течение двенадцати часов совершала бы поворот от правого плеча к левому. Тайный голос природы зазвучал в его душе. Неужели правда, что эта пальма, как указательный палец, упиравшаяся в лазурь, показывала ему направление? Клементе не знал, верить ему или не верить, но он слышал этот голос. И он поверил. Ему нужно было верить!
Так по движению кроны дерева он установил свой дальнейший путь. В скором времени он вышел в долину реки Тикье. Неширокая речка казалась стоячей заводью, и он принялся бросать листья в воду, чтобы определить течение. За этим занятием застали его индейцы альбуркеке; они силком притащили его в барак.
— Что это за пугало поймали вы на охоте? — спрашивали их сирингеро.
— Беглого, который только и твердит: «Коутиньо!.. Педжи!.. Сауза Машадо!..»
Оттуда к концу года Клементе бежал в курьяре на Ваупес.
Теперь он сидит здесь, рядом со мной, дожидаясь зари, чтобы пойти в факторию на Гуараку. Возможно, он думает о Ягуанари, о Яварате, о погибших товарищах. «Не ходите на Ягуанари», — все время советует он мне. Но я, вспоминая Алисию и своего лютого врага, гневно восклицаю: «Пойду! Пойду! Пойду!»
Под утро завязался спор, и, к счастью, я не потерял выдержки в этом споре. Речь шла о том, в какой форме нам просить гостеприимства в бараках.
Несомненно, что неожиданное появление четырех незнакомцев вызовет там немалую тревогу. Один из нас должен рискнуть собой и выведать настроение предпринимателя, а остальные — выждать в вольной сельве, чтобы не подвергать себя опасности вечного рабства. В конце концов товарищи договорились поручить эту миссию мне, но решительно отказались пустить меня вооруженным.
Эта предосторожность ставила под сомнение мое благоразумие, оскорбляла меня, но все же я молча согласился. В самом деле, поступки мои подчас опережают разум: мозг еще не успевает отдать приказание, как я бросаюсь в бой. Лучше было лишить меня всякой возможности совершить необдуманный поступок; вооруженный человек всегда в двух шагах от трагедии.
Отдавая им снятый с пояса револьвер, я повторил свои наставления: «Ждите меня здесь; если случится что-нибудь серьезное, я сбегу этой же ночью, и мы встретимся, чтобы...»
И я направился один — было совсем уже светло — к жилищу надсмотрщика.
Пока я шел неуверенными шагами, решение мое облекалось в окончательную форму, и я вспомнил план Рыжего Месы: напасть на барак, овладеть сокровищем дона Клементе, захватить попавшийся под руку провиант, бежать вместе с румберо через леса к близким истокам реки Гуайниа и спуститься по ней, а не по ее притоку Исане.
Не лучше ли, в самом деле, захватить бараки с оружием в руках? К чему, как нищим, просить подаяния? Я нерешительно остановился и взглянул назад. Товарищи, высунув из-за листвы головы, ждали моего приказа.
При других обстоятельствах я свирепо прикрикнул бы на них: «Идиоты! Зачем вы спустили собак?»
Мартель и Доллар погнались за мной и в одно мгновение разнесли по баракам весть о моем появлении, приведя меня в отчаяние. Отступать было поздно!
Я пошел вперед. Я не верил своим глазам. Неужели эти жалкие хижины, подобные тем, которые строили индейцы, были пресловутыми бараками на Гуараку? Неужели эти хибарки, затерянные в зарослях молодого кустарника, были дворцами сатрапа, хозяина рабов и наложниц, владыки лесов и рек? Правда, каучеро строят только временные жилища и переходят с одного места на другое, как только истощится участок; правда и то, что Кайенец, установив много лет назад свою резиденцию у порогов Гуараку, перебрался затем вверх по Исане, не изменив даже названия своего предприятия, и обосновался на перешейке Папунагуа, чтобы распространить свою власть на Инириду и вытеснить оттуда Фунеса. Но все эти соображения не уменьшили того разочарования, которое я испытал при виде этой убогой фактории.
Одну из хижин, запущенную ее обитателями, оплели ползучие растения с мохнатыми листьями и желтыми тыквообразными плодами. На земляном полу валялись рыбьи кости, щиты броненосцев, ржавые жестянки, разъеденные мочой. В грязных гамаках, растянутых над кучей головешек, отгонявших своим дымом москитов, изнывали женщины: головы их были повязаны платками, от их свищей шел зловонный запах йодоформа. Они не заметили меня и продолжали неподвижно лежать. Мне казалось, что я попал в сказочный лес, погруженный в тяжелый сон, навеянный Отчаянием.
Тишину нарушили мои псы; в ближайшем канее запищала обезьяна; привязанная за пояс, она свисала с перекладины на ремне. Вышла хозяйка. Показались больные. Повсюду — голые дети, беременные женщины...
— Вы принесли продажный маниок?
— Да. Дома хозяин?
— Он в этом бараке. Скажите ему, чтобы обязательно купил. Мы голодаем.
— Маниок, маниок! Вам хорошо заплатят!
И при мысли о еде они судорожно глотали слюну. В хозяйском бараке стен не было: комнаты разделялись перегородками из пальмовых листьев. Дверей, в собственном смысле слова, тоже не было, но входы были загорожены бамбуковыми щитами. Я не знал, куда постучаться. С опаской заглянул я через пальмовую цыновку, служившую перегородкой. В гамаке с цветной бахромой курила женщина, вся в кружевах. Это была мадонна Сораида Айрам. Она заметила, что я смотрю на нее.
— Кабан! Кабан! Кто-то пришел!
Я не знал, что делать дальше, и подошел к ближайшей перегородке. Мадонна держала в руках маленький, словно игрушечный, револьвер. «Товарищи, наверное, следят за моими движениями», — подумал я. «Если я войду в барак без шляпы, это сигнал, что надсмотрщик дома». Не успел я об этом подумать, как какой-то мужчина вышел из соседней комнаты, заряжая карабин:
— Чего вам?
— Меня зовут Артуро Кова, сеньор. Я пришел сюда с мирными целями.
Мадонна, делая вид, что она сама смеется над своим испугом, спрятала револьвер за корсаж и, уставившись на меня, произнесла с забавным акцентом:
— О аллах! Отведите этого оборванца на кухню!
Мужчина напыщенно произнес, протягивая мне свою квадратную руку:
— Я — Ахиллес Вакарес, венесуэльский ветеран, которого знают и пули и люди!
Почтительно обнажив голову, я пробормотал:
— Здравия желаю, ваше превосходительство!
Вакарес улегся в гамаке на террасе, поставив в ногах карабин. Он приказал мне сесть на стоявшую рядом скамью. Я растерянно продолжал стоять и в следующих выражениях объяснил свою нерешительность:
— Возможно ли, сеньор генерал, чтобы я сел в присутствии начальника? Ваше звание не позволяет мне это сделать.
— Что правда, то правда!
Пьяница Вакарес, по прозвищу Кабан, был косым и гнусавым. Его усы, казалось не знавшие поцелуя и ласки, топорщились густым лесом надо ртом, внутри которого двигались плохо пригнанные челюсти. Смуглое лицо его было изуродовано шрамом, пересекавшим всю щеку. Из-под расстегнутой рубахи чернел густой лес косматых волос, распространяя вонючий запах пота. На ремне из сыромятной кожи висел целый арсенал оружия: нож, кинжал, патронташ, револьвер. На Вакаресе были грязные штаны цвета хаки и шпоры, репейки которых при ходьбе били его по пяткам.
— Как это вы отгадали мой чин?
— Такой заслуженный ветеран должен принадлежать к высшему рангу.
— Скажите, а в Колумбии известно мое имя?
— Кто не слышал имени «отважного Ахиллеса»?
— Что правда, то правда!
— Вы затмили героев Гомера!
— Да, я герой, но я — не гомеро!
В эту минуту настороженной группой, без оружия, на террасу вошли мои товарищи: Кабан вскочил с гамака. Я почтительно представил их:
— Сеньор генерал!.. Это мои товарищи.
Все трое, не приближаясь к Кабану, бормотали в замешательстве:
— Сеньор генерал!.. Сеньор генерал!..
Я понял, что пора произнести торжественную речь и тем успокоить Кабана. Я не придерживался наставлений дона Клементе, и тем не менее речь моя приобрела тон неопровержимой убедительности. Я сам восхищался своей находчивостью, смеясь в душе над напыщенностью моих слов.
— Мы, — сказал я, — поселенцы с Ваупеса, жили на участке, равно удаленном от Каламара и от слияния рек Итильи и Унильи, скупали маниок, сирингу и тагуа. В Манаос у нас превосходный клиент — фирма Росас, в кассе которой находится около тысячи фунтов моих сбережений, плоды многодневного тяжелого труда земледельца и комиссионера.
Тут я заметил, что мадонна прислушивается к моему рассказу; она перестала поскрипывать гамаком в соседней комнате. Это обстоятельство несколько обеспокоило меня, и я пустил свою фантазию по другому руслу;
— На беду, сеньор генерал, Ваупес преградил наш путь опасными водоворотами, и мы потеряли на порогах Яварате плоды трехлетнего труда. — И я с ударением повторил: — На порогах Яварате, у дерева хакаранды.
В проходе, заслоняя его своей фигурой, показалась мадонна. Это была полная, рослая женщина с пышной грудью и такими же бедрами. У нее были светлые глаза, молочного цвета кожа и вульгарное лицо. В белом кружевном платье она казалась пенистым каскадом. Длинное ожерелье из голубых камней висело у нее на груди, как ветка жимолости над пропастью. Руки ее, обнаженные до плеч, были пухлы и атласны, как подушки, вытканные для ложа наслаждения, пальцы были унизаны перстнями, а на запястье левой руки, возле браслета, были вытатуированы два сердца, пронзенные кинжалом.
Глядя на нее, я мысленно простил бедному Лусьяно Сильве его неопытность и отгадал развязку его романа.
— Кто из вас знает Ваупес? — спросила она, распространяя в воздухе пряный запах духов, которыми был пропитан ее веер.
— Все четверо, сеньора.
— А кто клиент фирмы Росас? Комиссионер?
— Ваш пламенный поклонник.
— Почем вам велели платить за каучук?
— За первый сорт — конто за кинтал. В среднем — около трехсот песо.
— Я тебе говорила, Кабан, что дороже платить не могу?
— Слушайте, я запрещаю вам так называть меня! Называйте меня по имени: генерал Вакарес! Учитесь у сеньора Ковы уважать начальство.
— Мне нет дела до имен и титулов. Возвратите мне денежки или заплатите каучуком из расчета, трехсот песо за кинтал за вычетом фрахта, потому что я не намерена разъезжать бесплатно. На остальное мне наплевать!
— Не грубите, мадонна!
— Сами не будьте мошенником, не будьте подлецом, черт вас побери!.. Знайте, что к дамам подходят в белых перчатках. Учитесь у этого кабальеро, который сказал мне: «Ваш пламенный поклонник!»
— Успокойтесь, сеньора, успокойтесь, генерал!
Генерал, вне себя от негодования, величественным жестом приказал мне:
— Пойдем куда-нибудь, где нам не будут мешать.
Я распрощался с мадонной низким поклоном.
— ... Как я вам уже изволил говорить, фирма Росас дала мне предписание в дальнейшем, избегая Ваупес, спуститься по Каньо Гранде к Инириде, до Сан-Фернандо дель-Атабапо, где мы могли бы сдать закупленные продукты губернатору, потому что я агент губернатора и имею поручение доставить ему продукты по Ориноко на остров Троицы.
— Чудаки! Разве вы не знаете, что Пулидо убит?
— Мы живем в пустыне, за тридевять земель...
— Так вот, слушайте: Пулидо зарезали, чтобы ограбить и лишить его власти.
— Полковник Фунес?
— Какой еще там полковник! Он давно разжалован! Плюньте на него и не смейте больше произносить это имя.
И, подавая мне пример, он смачно плюнул и растер плевок пяткой.
— Я был осторожен, сеньор генерал, и известил фирму Росас, что ни в коем случае не отвечаю за происшествия, могущие произойти на новом маршруте. Только по принятии этого условия мы отплыли с Ваупеса два месяца назад с грузом маниока, тагуа и каучука. Но Инирида еще жаднее, чем Ваупес, и мы потеряли все в устье Папунагуа. Мы совсем обнищали и пробрались сюда лесами просить помощи...
— И чего же вы хотите?
— Получить лодку, послать нарочного в Манаос — передать известие о катастрофе и привезти деньги из кассы нашего клиента или мои собственные — и просить убежища для четырех потерпевших крушение, пока наш нарочный не вернется.
— У нас нет лодок... Маниок весь вышел...
— Дайте мне опытного гребца, и с ним поедет мулат Корреа. Мы заплатим любую цену. Для генералов нет ничего невозможного!
— Что правда, то правда!
Мадонна слушала этот разговор. Она отозвала меня в сторону:
— Кабальеро, я могла бы продать вам гребца...
— Не прерывайте нас! Дайте нам переговорить!
— Разве беглый Сильва — не мой раб? Разве это не тот беглый, что работал у меня на Ягуанари? Разве вам неизвестно, что Песиль не заплатил мне за него?
— Если сеньоре угодно... Если генерал разрешит...
— Какой еще генерал? Здесь хозяин не он, а Кайенец. А этот голодранец просто кривляется, воображая себя администратором!
— Вы мне не дерзите! Я докажу, что хозяин здесь — я вы получите лодку, молодой человек!
— Спасибо! Спасибо! А что касается гребца, то если сеньора продаст мне беглого и примет в уплату чек на Манаос...
— А что останется мне в залог?
— Мы сами.
— Нет, нет! Только не это! О аллах!
— Ваше недоверие меня не удивляет. В самом деле, наша внешность не говорит о нашей платежеспособности: мы босы, грязны, голодны. Я хочу одного: получить средства и передать их в ваше распоряжение. Найдите людей, которые могут выполнить наше поручение. Пусть они немедленно отправятся с нашими письмами и позаботятся о доставке сюда денег и товаров, которые нужны и нам и вам; лекарств, продуктов и особенно напитков, потому что надо же чем-то скрашивать жизнь в этой глуши!
— Что правда, то правда!
Мадонна, задумавшись, ушла к себе. Я обратился к Кабану:
— Поклянитесь мне, генерал, что мы можем рассчитывать на вашу поддержку!
— Я безбожник и не стаду клясться на кресте! Моя религия — шпага!
И, поднеся правую руку к портупее, как бы в подтверждение своей клятвы, он торжественно провозгласил:
— Бог и Федерация!
К вечеру мадонна появилась опять. Закутанная в белоснежную вуаль, предохранявшую ее от москитов, она оказала мне особую честь, прогуливаясь мимо отведенной нам хижины.
Мы сидели вокруг пустого очага и лениво зевали, дожидаясь рыбаков, ушедших на реку добывать ужин. Франко высыпал из сумки маниок, и мы ели его прямо руками. При виде мадонны я отвернулся и сдвинул шляпу на лоб, стыдясь своей нищеты.
— Она смотрит на меня?
— Да, но старается скрыть это.
— Ушла?
— Ласкает собак.
— Перестань глядеть на нее, она подходит к нам!
— Идет! Идет!
Я поднял голову и увидел, что белая фигура мадонны приближается к нам, вырисовываясь в полусумраке. Она прошла мимо меня, помахала рукой и с улыбкой бросила упрек:
— Карамба! И смотреть не желает! Что значит иметь текущий счет у фирмы Росас!
Я молча следил за ее возвращением в барак. Франко дернул меня за рукав:
— Слышал? Она уже заинтересована деньгами! Надо скорее завоевать ее!
— Да, теперь посмотрим, назовет ли она меня еще раз «оборванцем». Попалась! Попалась! Презренье женщины нельзя прощать. «Оборванец»! Сегодня ночью мы выстираем одежду и высушим у костра. А завтра...
Турчанка вынесла во двор шезлонг и развалилась в нем. Она, видимо, вышла подышать ароматами леса и приняла столь вызывающую позу с единственной целью — пленить меня; ее глаза, обращенные ввысь, хотели заставить меня залюбоваться ими; мысли ее, притворно блуждавшие во мраке ночи, составляли заговор против моего спокойствия. И снова, как это столько раз случалось со мной в городах, грубая, расчетливая самка искушала меня ради денег!
Украдкой разглядывая ее, я начал чувствовать тот боевой задор, который обычно предшествует поединку. И что это была за необыкновенная женщина — алчная, смелая! Безлюдными реками, через опасные стремнины направляла она свой челнок на поиски каучеро, выменивала у них на всякое барахло краденый каучук, рискуя стать жертвой насилия, предательства гребцов, вооруженного нападения грабителей; она копила вожделенное богатство по сентаво, превращая свое тело в предмет торговли, когда от этого зависел успех сделки. Чтобы очаровать жителей лесов, она пышно наряжалась и причаливала к баракам вымытая, надушенная, доверяя защиту богатства своим женским чарам.
Сколько ночей, подобных этой ночи в неведомой глуши, она раскладывала походную кровать на неостывшем еще от зноя песке! Разочаровавшись в своих предприятиях, оказавшись без всякой помощи и защиты, сколько раз она готова была разрыдаться! Ночью после жаркого дня, во время которого солнце нещадно обжигало кожу и слепило глаза двойным блеском, отражаясь от речной волны, ее преследовали подозрения, и ей казалось, что гребцы ропщут и замышляют что-то недоброе. За пыткой москитов следовала пытка вампиров, скудный ужин, вой бури, неистовый блеск грозы. И как искусно умела она притворяться доверчивой перед гребцами, собиравшимися украсть лодку, командовать ими, сносить их брань и грубости, а на заре снова плыть к порогам, преграждающим путь к лагуне, где гомеро обещал сдать кило каучука, или к хижинам должников, всегда уклоняющихся от платежа и прячущихся при виде причалившей барки.
Вот так, продолжая свои бесконечные странствования под монотонный плеск весел, мадонна измерила огромное расстояние между нищетой и несметными сокровищами. Сидя под зонтиком на носу лодки, на тюках каучука, она мысленно подводила итоги, подсчитывала долги и прибыли, с горечью сознавая, что годы проходят, не оставляя в ее руках ничего ценного, как те реки, которые, слившись друг с другом, оставляют на песке лишь пену. Она сетовала на судьбу, и горечь ее обид усугублялась мыслью о женщинах, рожденных среди изобилия, роскоши и безделия, о женщинах, которые, играя своей добродетелью ради развлечения и даже теряя ее, попрежнему слывут за честных, потому что деньги — высшая добродетель — заменяют им все. А она, впрягшись в ярмо бедности, вынуждена бороться не на жизнь, а на смерть, лишь бы купить спокойную старость и вернуться на родину, отказавшую ей во всех радостях, кроме радости любить ее и вспоминать о ней. Быть может она содержит мать, воспитывает братьев, выплачивает семейные долги? Необходимость заставляет ее холить лицо, украшать тело, складывать губы в улыбку, чтобы товары стали деньгами, доходы — прибылью, предложения — сделками.
Так думал я романтически, забыв недавнюю досаду. Я видел, что мадонна пускает в ход все средства, чтобы покорить меня. Чего ей от меня было нужно: моих денег или моей молодости? Она была вольна выбирать. В этот миг я чувствовал, что она близка мне своей обездоленностью. Ее душа, зачерствевшая в сделках, должна была все же платить свою дань тоске и мечтам, несмотря на низменность ее стремлений. Быть может, она, как и я, вместо человеческой любви знала лишь чувственную страсть, оставляющую после себя не слезы восторга, а скуку пресыщения. Любила ли она когда-нибудь? Она, казалось, даже не вспомнила о Лусьянито, когда я, упомянув о Яварате, открыто намекнул на место его погребения. Быть может, ее терзали другие горести, но, очевидно, было одно: ее могучая натура не была чужда духовным запросам, в ее больших глазах появлялась иногда сентиментальная грусть, вызванная, казалось, унылостью рек, оставленных ею позади себя, воспоминаниями о местах, которые она никогда уже больше не увидит.
И вдруг над хижинами медленно разлилась мелодия, чем-то напоминавшая церковный напев, легкая, как дым кадильниц. Мне чудилось, что флейта говорит где-то со звездами, и что сама ночь стала от этого еще темнее, и что в сердце лесов, в неведомой дали, приглушенный шелестом листвы, тихо поет хор монахинь. Это мадонна Сораида Айрам играла на аккордеоне, держа его на коленях.
Эта музыка, полная пленительной тайны и неги, будила воспоминания и тоску. Каждый из слушавших ее начинал чувствовать в своем сердце знакомые голоса. Несколько женщин с детьми вышли из хижин и сели на землю вокруг мадонны. Тишина, таинство, меланхолия! Улетая ввысь вместе с аккордом, дух, казалось, отрешался от плоти, уносился в звездную ночь, и тело оставалось неподвижным, как окрестная сельва.
Моя душа поэта, привыкшая понимать язык звуков, угадала, что говорила эта музыка людям. Она сулила каучеро освобождение, которое свершится, когда чья-нибудь рука — о, если бы это была моя рука! — набросает картину их бедствий и привлечет внимание потрясенных народов к тому, что творится в страшной сельве; она была утешением для порабощенных женщин, напоминая им, что дети их увидят зарю свободы, которой они никогда не видели; для каждого из нас она была целительным бальзамом, помогавшим облегчить горе вздохами и мечтами.
За несколько минут я пережил все прошедшие годы; я точно стал зрителем своей собственной жизни. Сколько было разных предзнаменований, говоривших о моем будущем! Драки в детстве, дикое и своевольное отрочество, юность без ласки и любви! И кто же волновал меня в этот момент, смягчая душу, заставляя в порыве прощения протянуть руки моим врагам? Это чудо было вызвано бесхитростной мелодией. Несомненно, Сораида Айрам была необыкновенной женщиной! Мне хотелось полюбить ее, как это случалось со мной всегда, когда я любил в результате самовнушения. Я благословлял ее, я идеализировал ее. И, вспомнив о своей горькой судьбе, я заплакал о том, что я так беден, так плохо одет, что меня преследует трагический рок!
Франко, зашедший утром разбудить меня, нашел мой гамак пустым. Он побежал на речку, где я купался, и принес мне волнующее известие:
— Одевайся скорее, мадонна хочет предложить тебе сделку!
— У меня еще не высохла одежда.
— Все равно! Надо пользоваться случаем. Она пришла утром с купанья и сделала нам королевский подарок: галеты, кофе, две банки тунца. Она хочет поговорить с тобой, пока никого нет. Кабан с раннего утра ушел наблюдать за сирингеро и возвратится только к вечеру.
— О чем она хочет со мной говорить?
— Чтобы ты оказал ей предпочтение в торговле. Если тебе пришлют денег, она советует забрать у Кайенца все, что лежит в этих складах; тогда она потребует с него эти деньги в уплату долга. Идем скорее!
Мадонна оживленно разговаривала во дворе с мулатом и Рыжим. Она показывала им свои кружева и перстни на пальцах, желая привести их в изумление. «Это — ходячая витрина, — объяснил Франко. — Она предлагает нам купить ткани, кольца, драгоценности вроде тех, какие она носит сама, или даже лучшего качества. По ее словам, она приехала одна в курьяре с тремя индейцами, а свой катер оставила в поселке Сан-Фелипе, на Рио-Негро, так как верхняя Исана непроходима. Но где же у нее товары, что она нам предлагает? Могу поклясться — она спрятала лодку в какой-нибудь заводи, и там ее ждут верные люди».
Я решил неожиданно появиться перед этой женщиной в ее спальне, в жаркий час сьесты;[50] я мысленно повторял приготовленную речь, и волнение еще более усиливало мою бледность. Я застал мадонну курящей сигарету из янтарного мундштука; она томно разлеглась в гамаке, располагавшем ко сну; подол ее юбки мерно колыхался, задевая о пол в такт покачиванию гамака. При моем появлении она выпрямила стан, притворно сердясь на мою бесцеремонность, застегнула блузу и молча уставилась на меня.
Тогда с театральностью, в которой было немало искренности, я промолвил, опустив глаза:
— Не обращайте внимания, сеньора, на мои босые ноги, на заплаты, на мое лицо: моя внешность — трагическая маска души, но через мое сердце все дороги ведут к любви!
Достаточно было одного взгляда мадонны — и я осознал свою ошибку. Она не понимала искренности моей сдачи в плен, которая давала ей возможность направить душу человека, изголодавшегося по ласке, на твердый путь; она не сумела прикрыться очарованием души, заставить меня забыть в женщине самку.
Раздосадованный своим смешным положением, я решил отомстить за ее тупость, сел рядом с ней и, положив ей руку на плечо, резким движением притянул ее к себе. Мои упрямые пальцы впились в ее тело. Поправляя гребни, она повторяла, прерывисто дыша:
— Какие смельчаки эти колумбийцы!
— Да, но только в делах стоящих!
— Легче! Легче! Не мешайте мне отдыхать!
— Ты бесчувственна, как твои волосы!
— О аллах!
— Я поцеловал тебя в голову, а ты даже не почувствовала поцелуя...
— Как так?
— Я как будто целовал твой разум!
— Да, да!
Мгновенье она оставалась неподвижной. Не глядя на меня и не протестуя, она испытывала не стыд, а беспокойство. Потом она внезапно вскочила:
— Не хватайте меня, кабальеро! За кого вы меня принимаете?
— Сердце мое никогда не ошибается! При этих словах я впился поцелуем в ее щеку, один только раз, потому что на губах у меня остался привкус вазелина и рисовой пудры. Мадонна, прижимая меня к своей груди, плаксиво простонала:
— Ангел мой, купи мои товары! Купи мои товары!
Все дальнейшее зависело от меня.
С десяток голых ребятишек с мисками в руках окружили меня и жалобно клянчили маниок. Матери голодной стаей поджидали детей у барака, ободряя взглядами и как бы поддерживая их скорбную мольбу.
Тогда мадонна Сораида Айрам, желая проявить щедрость и заслужить мою похвалу, своей жадной белой рукой, еще хранившей дрожь недавних ласк, открыла, по праву хозяйки дома, кладовую и разрешила маленьким попрошайкам до отвала наесться маниока. Дети набросились на корзину с маниоком, как огонь на солому, но какая-то завистливая старуха разогнала их, крикнув: «Уууу! Брысь! Старик идет!» Испуганная орава детишек рассеялась с такой быстротой, что некоторые из них попадали, роняя драгоценную пищу; другие, более ловкие, подбирали с земли пригоршни маниока и набивали ими рот вместе с мусором и землей.
«Букой», разогнавшим ребят, был румберо Клементе Сильва. Он ходил на рыбную ловлю и теперь возвращался с пустыми сетями. Дети испытывали перед ним ужас: их пугали «стариком» с колыбели, говоря, что, когда они вырастут, он уведет их в гущу лесов, в болотистые сирингали, где их поглотит сельва.
Нелюдимость и робость индейских ребят развиваются в них под влиянием нелепых суеверий. Хозяин для них — сверхъестественное существо, друг магуаре (дьявола): леса помогают ему, а реки хранят тайну его жестокостей. Они знали, что на острове «Чистилище» по воле надсмотрщика погибают непокорные каучеро, индианки-воровки и непослушные дети: их привязывают нагими к деревьям и отдают на съедение москитам и вампирам. Одна мысль о наказании наполняет детей ужасом; не достигнув и пятилетнего возраста, они выходят в сирингали с партией работниц, уже страшась хозяина, заставляющего их подсекать стволы деревьев в жестокой, ненавистной сельве. В такой партии всегда имеется мужчина; он валит топором деревья, и надо видеть тогда, как малыши истязают растение, ковыряя его ветви и корни гвоздями и иглами, пока не извлекут из него последнюю каплю сока!
— Что вы скажете, дон Клементе, об этих детях?
— Глядя на меня, они боятся своего будущего!
— Но ведь вы приносите счастье! Сравните наши страхи два дня назад с тем спокойствием, какое мы испытываем сейчас!
Вспомнив о предстоящей разлуке, мы в душе раскаялись, что заговорили об этом, и замолчали, стараясь не встречаться глазами.
— Разговаривали вы сегодня с товарищами?
— Мы всю ночь были на рыбной ловле. Теперь они отсыпаются.
— Пойдемте к ним.
Когда мы проходили мимо стоявшего близ реки барака, я увидел группу девочек лет восьми — тринадцати, сидевших на земле унылым кружком.
Все они были одеты в замызганные платья из цельного полотнища, державшиеся на шнурке, перекинутом через плечо, так что у них оставались обнаженными руки и грудь. Одна из девочек выбирала вшей у подруги, которая заснула у нее на коленях; другие мастерили папиросы из коры табари, тонкой, как бумага; эта кусала сочный каймито, а та, с растрепанными волосами и глупым видом, успокаивала сучившего ножками голодного ребенка: она совала ему в рот мизинец вместо пустой груди. Никогда я не видел картины более безотрадной.
— Дон Клементе, чем занимаются эти маленькие индианки в отсутствие родителей?
— Это — наложницы наших хозяев. Их выменяли у родителей на соль, ткани, посуду или увели в рабство в уплату долга. Они почти не знали невинного детства, и у них не было другой игрушки, кроме тяжелого кувшина для веды или братишки за спиной. Каким трагическим и нечистым было для них превращение из ребенка в женщину! Не достигнув десяти лет, они прикованы к постели, как к ложу пыток, и, искалеченные хозяевами-насильниками, растут болезненными, молчаливыми, пока не почувствуют с ужасом, что стали матерями, не понимая, что такое материнство.
Содрогаясь от негодования, мы пошли дальше; и тут я заметил навес из листьев пальмы мирити на двух подпорках, под которым в рваном гамаке лежал с видом мечтателя молодой еще мужчина с восковым лицом. У него, по всей видимости, были повреждены глаза: они были закрыты двумя привязанными ко лбу тряпицами.
— Как зовут этого человека? Он завязал себе глаза словно ему неприятно меня видеть?
— Это наш земляк, отшельник Эстебан Рамирес. Он почти совсем потерял зрение.
Тогда, подойдя к гамаку и сняв повязку с его глаз, я тихо и взволнованно произнес:
— Здравствуй, Рамиро Эстебанес! Я узнал тебя!
Необычная дружба связывала меня с Рамиро Эстебанесом. Мне хотелось быть его младшим братом. Никто не внушал мне такого доверия, как он, — доверия, которое, держась выше сферы обыденного, полновластно царствует в сердце и в разуме.
Мы часто встречались, но никогда не переходили с ним на «ты». Рамиро был великодушен, я порывист. Он был оптимистом, я — меланхоликом. Он был платонически добродетелен, я — полон легкомыслия и чувственности. Но эта противоположность характеров сближала нас, и, не изменяя своим наклонностям, мы взаимно дополняли друг друга: я привносил в нашу дружбу фантазию, он — философию. Привычки разделяли нас, но мы влияли друг на друга в силу самой противоположности. Он старался держаться стойко против соблазнов, но, хотя и порицал мои похождения, им владело любопытство, нечто вроде греховного соучастия в поступках, на какие он сам был неспособен по своему темпераменту. В душе Рамиро как бы признавал привлекательность земных искушений. Мне казалось, что, несмотря на свои разглагольствования, он был бы рад променять свою воздержанность на мое сумасбродство. Я настолько привык сравнивать наши точки зрения, что меня всегда заботила мысль: что подумает обо мне мой рассудительный друг.
Рамиро любил в жизни все благородное, все достойное и похвальное: семью, родину, веру, труд. Он содержал родителей и жил, во всем себя ограничивая; себе он оставлял одни лишь духовные наслаждения и в бедности сумел достигнуть высшей роскоши — быть великодушным. Он путешествовал, учился, сравнивал культуры разных народов, изучал людей, и от всего этого у него осталась сардоническая улыбка, появлявшаяся, когда он приправлял свои суждения перцем анализа, а свои шутки — кокетством парадокса.
В прошлом, когда я узнал, что он ухаживает за известной красавицей, я хотел спросить его: возможно ли, чтобы такой бедный юноша, как он, собирался поделить с другим хлеб, который он с таким трудом добывал для родителей. Я еще не успел развить ему свою мысль, как он справедливо возразил мне: «Разве я не имею права на мечту?»
Именно эта безумная мечта и привела его к катастрофе. Он стал меланхоличным, молчаливым и в конце концов перестал быть со мной откровенным. Однажды я сказал, желая испытать его: «Мне хотелось, чтобы судьба сохранила мое сердце для женщины, родственники которой ни в чем не могли бы считать себя выше моих родных». И Рамиро ответил: «Я тоже об этом думал. Но что поделаешь, я уже был влюблен!»
Вскоре после его любовной неудачи мы перестали видеться. Я знал лишь, что он куда-то эмигрировал и что судьба улыбнулась ему, судя по зажиточной жизни, которую вела его семья. А теперь я встретил его в фактории на Гуараку голодного, никому не нужного, под вымышленным именем, почти слепого.
Унылое настроение Рамиро огорчило меня, но из сострадания я не осмелился расспрашивать его о жизни. Я тщетно ждал, что он сам начнет мне говорить о себе. Но прежний Рамиро переменился: ни рукопожатия, ни сердечного слова, ни радостной улыбки при встрече, при воспоминании о проведенных вместе годах юности, воскресших перед ним в моем лице. Напротив, Рамиро, как бы в отместку, хранил ледяное молчание. Тогда, чтобы уязвить его, я сухо произнес:
— Она вышла замуж! Знаешь, она ведь вышла замуж! Эти слова вернули мне друга; но это был уже не прежний Рамиро Эстебанес; вместо кроткого философа я встретил желчного мизантропа, познавшего жизнь, но видевшего ее с одной только стороны. Он спросил, хватая меня за руку:
— И кем она стала — настоящей супругой или наложницей своего мужа?
— Кто это может сказать?
— Ясно, что она обладает всеми добродетелями идеальной супруги, но для этого нужен муж, который бы не развращал и не унижал ее. А я слышал, что ее муж — один из тех завсегдатаев публичных домов, которые дезертируют оттуда и женятся из тщеславия или из-за денег, ради светских связей и успеха в обществе, а потом развращают и бросают жену или же заставляют ее стать на брачном ложе публичной женщиной, потому что их семейная жизнь немыслима без утонченного разврата.
— А кому до этого дело? Главное — носить громкое имя, высоко котируемое в большом свете...
— Слава богу, значит в мире еще существует простодушие!
Эта фраза, как иглой, уколола меня. Я поджидал удобного случая, мне хотелось доказать Эстебанесу, что и я способен на язвительность, но случая не представилось, и он продолжал:
— Что касается имен, то мне припомнился анекдот об одном министре, у которого я был письмоводителем. Это был необычайно популярный министр! В его кабинете всегда было полно народа! Однако скоро я заметил странное явление: просители выходили оттуда с пустыми руками, но преисполненные гордости. Однажды в министерство пришли два разодетых в пух и прах кабальеро — завсегдатаи игорных домов и светских салонов. Министр, протягивая им руку, спросил их имена.
— Саррага, — представился один.
— Комбита, — отрекомендовался другой.
— Ах, вот как! Вот как! Как я рад, какая честь для меня! Значит, вы потомки рода Саррага и рода Комбита! Когда они ушли, я спросил начальника:
— Кто предки этих молодчиков, если их происхождение вызвало в вас такое бурное восхищение?
— Восхищение? Я впервые о них слышу. Но я рассудил вполне логично: если одного зовут Комбита, а другого — Саррага, их родители должны носить те же фамилии. Вот и все.
Рамиро не замечал, что его остроумие восхищало меня, я же притворился равнодушным к его словам. Я хотел держаться с ним как с учеником, а не как с учителем, хотел показать ему, что труды и разочарования научили меня больше, чем наставники-философы, что суровость моего характера полезнее в борьбе, чем немощное благоразумие, утопическая кротость и вялая доброта. Таково было решение столь важной для нас проблемы: побежденным из нас двоих оказался он. Познав всю горечь страсти, претерпев крушение своих идеалов, он, казалось мне, должен был начать бороться, мстить, добиваться своего, обрести свободу, стать настоящим мужчиной, поднять мятеж против судьбы. Видя Рамиро бессильным, вялым, обездоленным, я захотел горделиво поведать ему свои приключения и поразить его своей отвагой...
— А ты и не спросишь, каким ветром занесло меня в сельву?
— Избыток энергии, поиски Эльдорадо, кровь предков-конкистадоров...
— Я похитил женщину, а ее похитили у меня! Я пришел убить того, кто это сделал!
— Тебе не к лицу красный плюмаж Люцифера.
— Ты не веришь в мою решимость?
— А стоит ли мучиться из-за этой женщины? Если она такова, как мадонна Сораида Айрам...
— Ты что-нибудь уже слышал?
— Мне показалось, что ты входил в ее хижину...
— Значит, ты еще не совсем потерял зрение?
— Пока еще нет. Беда случилась из-за моей небрежности, когда я коптил ком каучука. Я развел огонь и заслонил его дымовой воронкой, но вдруг непокорная ветка обдала мне лицо снопом искр.
— Какой ужас! Словно кто-то захотел отомстить твоим глазам!
— Да, в наказание за то, что они видели!
Эти слова были для меня откровением: значит, Рамиро — тот самый человек, который, по словам Клементе Сильвы, был свидетелем кровавых событий в Сан-Фернандо дель-Атабапо, так это он не боялся рассказать, как Фунес закапывал людей живьем. Рамиро видел невероятные картины грабежа и убийств, и я горел желанием узнать все подробности этой трагедии.
Значит, и с этой стороны Рамиро Эстебанес был для меня интереснейшим человеком. Он понемногу возвращался к своей прежней братской откровенности со мной; моя досада на него прошла, и мы поведали друг другу наши невзгоды. Но в тот день мы ни словом не обмолвились о зверствах полковника Фунеса, — и Рамиро поверял мне свои горести, словно обретя во мне покровителя.
Больнее всего было слышать, каким неслыханным унижениям подвергал его надсмотрщик, по прозвищу Аргентинец. Этот ненавистный, льстивый и коварный интриган, выдававший себя за выходца из Аргентины, обрек сирингеро на голодную смерть; он ввел в практику оплату каучука маниоком из расчета одной пригоршни маниока за литр каучука. Он прибыл на Гуараку с партией беглых с реки Вентуарио. Предложив Кайенцу купить своих спутников, он превратился в их угнетателя. Желая показать физическую выносливость каучеро и получить наивысшую цену, он побоями принуждал их к изнурительной работе. Он властвовал и среди женщин, он отдавал их обессиленные тела на поругание своим приспешникам. Гнусностью своего поведения он завоевал расположение Кайенца, затмив самого Кабана. Вакарес ненавидел Аргентинца и был с ним на ножах.
Когда Рамиро Эстебанес заканчивал свой рассказ об этих преступлениях, в бараки унылой вереницей начали возвращаться каучеро: они несли сосуды с жидким каучуком и зеленые ветви дерева массарандубы, которые дают при копчении густой дым. Пока одни привязывали гамаки, чтобы повалиться в них и переждать приступ лихорадки или со стоном корчиться от раздувавшей их тело бери-бери, другие разводили огонь, а женщины, даже не успев снять с себя ношу, кормили грудью голодных детей.
С рабочими пришли Кабан и человек в непромокаемом плаще, вертевший в руках хлыст из балаты. Он приказал опорожнить большой сосуд и принялся измерять кружкой жидкий каучук, принесенный гомеро. Осыпая их ругательствами и угрозами, он всячески стремился урезать количество маниока на ужин.
— Смотри, — вскричал, дрожа всем телом, Рамиро, — вон тот человек в плаще и есть Аргентинец!
— Как? Тот тип, который смотрит на меня исподлобья, это и есть твой хваленый Аргентинец? Да ведь это Пройдоха Лесмес, личность хорошо известная в Боготе.
Заметив, что я обратил на него внимание, надсмотрщик начал еще больше придираться к каучеро. Он расхаживал с важным видом, желая пустить мне пыль в глаза и показать, как трудно будет мне удовлетворить моего будущего хозяина. Притворяясь занятым и озабоченным, он направился в мою сторону, что-то записывая на ходу в блокнот и явно намереваясь придраться ко мне.
— Ваше имя, приятель? Из какой вы партии?
Задетый нахальством самозванца, я, желая посрамить его, обернулся к каучеро и громко ответил:
— Я из партии «пижонов». Завистники, знавшие меня в Боготе, прозвали меня Пройдохой Лесмесом; впрочем, я уже давно перестал обирать их, хотя наше общество как нельзя лучше приспособлено для грабежа. Я предпочитал то и дело закладывать обручальное кольцо, рискуя, что об этом узнает моя нареченная. Общественное положение обязывало меня к расточительности. Я посвятил мои школьные годы писанию анонимных писем своим кузинам о претендентах на их руку, которые не были достаточно богаты или знатны. Я забавлял кучки ротозеев на перекрестках, цинично указывая пальцем на проходивших девушек; я возводил на них тысячи клеветнических обвинений, поддерживая тем самым свою репутацию опытного развратника. Члены общества взаимного кредита единогласно избрали меня кассиром. Сто тысяч долларов не уместились в моем саквояже: мне дали только пятнадцать процентов. Я вступил в должность, предварительно дав расписку в получении уже не существующего капитала. Сначала меня, как человека неопытного, мучила совесть, но члены общества успокоили меня. Мне рассказали о многих «рвачах», которые безнаказанно грабили кассы, банки, фонды, не подрывая своей репутации. Один подделывал чеки, другой фальсифицировал счета и вклады, третий присваивал себе деньги, позволявшие ему прослыть богатым женихом, в чем и преуспевал, потому что несправедливо и нечеловечно заставлять себя перетаскивать денежные сумки и пачки банковых билетов, когда нуждаешься в самом необходимом, ежедневно испытывать муки Тантала и быть голодным ослом, несущим на спине вязанку сена. Я приехал сюда и останусь здесь, пока не забудут о моей растрате; вскоре я возвращусь в Боготу одетым по последней моде: в меховом пальто и в шикарных ботинках; скажу, что ездил в Нью-Йорк, нанесу визиты знакомым, друзьям и получу новую доходную должность. Вот сведения о моей партии!
Я замолчал и оглянулся на Рамиро, довольный тем, что подвернулся случай показать мою язвительность. Пройдоха Лесмес, не меняясь в лице, отпарировал:
— Тетки и сестры за все расплатятся.
— Чем они заплатят? Вы — разорившиеся наследники богатой семьи. После того как вы поделите наследство, мы станем равны.
— Артуро Кова вздумал со мной равняться? Каким же образом?
— А вот таким!
Вырвав у него хлыст, я ударил его по лицу.
Пройдоха бросился бежать, путаясь в плаще. Он кричал, требуя ружье.
Но тем дело и кончилось.
Прибежали Кабан, мадонна и мои товарищи. Они пытались удержать меня. Один рослый каучеро, хвастливо подбоченясь, заявил:
— Со мной так не поступили бы. Если бы вы ударили меня по лицу, один из нас остался бы мертвым на земле.
Несколько человек из обступившего нас кружка возразили ему:
— Не рисуйся, вспомни об Искорке, который на Путумайо бил тебя плетью.
— Да, но если он попадется мне еще хоть раз, я отрублю ему руки!
— Франко, что сказал тебе Рамиро Эстебанес о разговорах в бараках?
— Рамиро восхищается твоей смелостью и порицает твое неблагоразумие. Гомеро рады, что ты так унизил Пройдоху Лесмеса, но все они чем-то обеспокоены, чуют недоброе. Я сам начинаю чего-то бояться. С помощью Рыжего Месы я пытался выполнить твои приказы относительно восстания; но никто из пеонов не хочет бунтовать, потому что никто не доверяет ни тебе, ни твоим планам. Они думают, что ты хочешь встать во главе мятежников, поработить их или продать в другом месте. Мы рискуем нарваться на доносчика. Лесмес отправился сегодня утром на разведку и хочет взять с собой в качестве румберо Клементе Сильву. Хорошо еще, что Кабан не согласился отпустить старика.
— Что ты говоришь? Необходимо, чтобы лодка не позднее этой ночи отплыла в Манаос.
— Как жалко, что она мала. Если бы мы уместились все...
— Неужели ты не понимаешь, как ты не прав? Мы должны остаться здесь. Наше присутствие на Гуараку — гарантия наших посланцев. Кто позаботится об их судьбе, если их схватят по пути. Надо дать им время спуститься по Исане. Потом мы приложим все усилия, чтобы бежать, а колумбийский консул тем временем выедет из Манаос, и мы встретимся с ним на Рио-Негро. Ждать придется не больше двух месяцев; мадонна дает свой катер, и наши посланцы пересядут на него в Сан-Фелипе.
— Слушай, старик Сильва говорит, что он не оставит тебя одного, он не может воспользоваться милостями этой женщины, рабом которой он был после того, как она жила с Лусьянито.
— Мы это уладили еще вчера. Дон Клементе поедет с мулатом и двумя гребцами. Пропуска уже подписаны мною. Провиант готов. Мне остается только написать письма.
Встревоженный словами Фиделя, я побежал искать Сильву. Я таким умоляющим тоном стал просить его, что довел старика до слез.
— Забота о моей судьбе не должна вас задерживать. Ради бога, уезжайте, захватив останки вашего сына! Подумайте только, если вы не поедете, все откроется, и мы никогда не выберемся отсюда! Приберегите ваши слезы, чтобы смягчить душу консула и убедить его поскорее приехать сюда и вернуть нам свободу! Возвращайтесь сюда с ним; не останавливайтесь ни днем, ни ночью! Будьте уверены, что мы скоро встретимся. Мы тогда будем в Гуайниа. Ищите нас на Ягуанари в бараке Мануэля Кардосо. Если вам скажут, что мы ушли в лес, идите по нашим следам. Вы вскоре наткнетесь на нас. Вы видите: я молю вас так же, как Коутиньо и Соуза Машадо молили вас, заблудившись в сельве: «Сжальтесь над нами! Если вы нас покинете, мы погибнем от голода».
Потом я прижал к своей груди мулата Корреа:
— Поезжай, но помни, что мы заслуживаем свободы. Не оставляйте нас в этих лесах. Мы тоже хотим возвратиться в родные места, у нас тоже остались любимые матери. Помни, что, если мы умрем в сельве, даже Лусьяно Сильва будет счастливее нас: наши останки никто не отвезет на родину.
Пьяный Кабан и похотливая мадонна ждали меня полдничать, но я заперся в конторе и вместе с Рамиро Эстебанесом написал жалобу консулу, — ее должен был отвезти Клементе Сильва, — обвинительный акт в стиле кипящем и бурном, как водопад.
Вечером Кабан пришел в контору и бесцеремонно прервал нашу работу:
— Пусть ваши посланцы потребуют кашасы,[51] табаку и патронов для винчестеров!
Рыжий Меса, войдя с факелом в контору, заявил:
— Курьяра готова, но никто не дает ни кинтала каучука на дорожные расходы.
Мадонна с навязчивой бесцеремонностью то и дело входила, в слабо освещенную комнату. Она приносила мне кофе и сама его подслащивала, вместо салфетки она употребляла край своего передника. В присутствии Рамиро мадонна прижималась щекой к моему плечу. Она следила при свете масляной лампы за бегущим по страницам пером, любуясь, с какой ловкостью я наношу на бумагу непонятные для нее значки — такие непохожие на арабские буквы.
— Трудно научиться писать на твоем языке, ангел мой? Что ты пишешь?
— Пишу фирме Росас, какой у тебя великолепный каучук.
Возмущенный Рамиро вышел из конторы.
— Не пиши этого, любовь моя, а то они потребуют его в уплату долга.
— Разве ты должна им?
— Это не мой долг, но... я бы хотела, чтобы ты помог мне...
— Ты поручилась за кого-нибудь?
— Да.
— Но должник сдавал тебе каучук?
— Он давал его лично мне, а не в счет долга.
— И его придавило деревом! Правда ведь — деревом познания добра и зла?
— Ай! Ты знаешь? Ты знаешь?
— Вспомни, что я жил на Ваупесе!
Мадонна растерянно попятилась, но я схватил ее за руки и заставил все рассказать.
— Успокойся и не отчаивайся! Разве ты виновата, что мальчишка застрелился? Не отрицай, что он лишил себя жизни!
— Да, застрелился. Но не рассказывай этого своим друзьям! У него было столько долгов! Он хотел, чтобы я осталась жить с ним в сирингалях. Невозможная вещь! Или чтобы мы обвенчались в Манаос. Нелепость! А при последнем переезде, когда мы заночевали близ порогов, я потребовала, чтобы он оставил меня и уехал. Он расплакался. Ему было известно, что я всегда ношу за корсажем револьвер. И тут он, обнимая меня, наклонился над гамаком, будто вдыхая запах моих духов. Вдруг — выстрел. Мне всю грудь залило кровью.
Мадонна, взволнованная своим рассказом, выбежала из конторы, прижимая руки к груди, как бы стараясь стереть с себя пятно крови. И я остался один.
В соседнем бараке послышались крики, проклятья, рыдания. Клементе Сильва и мои товарищи, в бешенстве ворвавшись в контору, окружили меня:
— Их утопили, негодяи, подлецы! Их утопили!
— Что? Не может быть!
— Останки сына, моего несчастного сына, они бросили их в реку, потому что мадонна, эта распутная сука, боялась их! Убить, убить этих зверей! Всех — убить!
Несколько минут спустя я увидел на отчалившей лодке гневную фигуру старика. Я вошел в воду, желая в последний раз обнять его и выслушать его последнюю просьбу: «Убей их всех, когда я возвращусь, но пощади бедную Алисию! Сделай это для меня, пощади, как если бы это была Мария Гертрудис!»
Курьяра уплыла, и мы, не видя ее, лишь догадывались о том, как отъезжавшие товарищи простирали к нам руки, уносясь по течению реки в зловещую тьму. Заливаясь слезами, повторяли мы слова Лусьянито: «Прощай! Прощай!»
Над нами было беспредельное небо, звездная тропическая ночь.
Но даже звезды внушали нам страх.
Вот уже полтора месяца, как я по совету Рамиро Эстебанеса разгоняю тоску тем, что записываю свою одиссею в кассовую книгу, которая лежит на столе Кайенца запыленным и ненужным украшением. Невероятные перипетии, мальчишеские выходки, страшные эпизоды — вот скудная ткань моего повествования, и я веду его, с тяжелым чувством замечая, что не сделал в жизни ничего существенного, что все в ней оказывается незначительным и преходящим. Ошибочно думать, что моим карандашом, который так быстро бежит по бумаге, как бы догоняя слова и пригвождая их к строчкам, движет жажда славы. Моя единственная цель — расшевелить Рамиро Эстебанеса событиями, пережитыми мною, поведать ему историю моих страстей и недостатков, научить Рамиро ценить во мне то, чем его обделила судьба. Я хочу заставить его активно действовать, потому что для малодушного человека самая полезная школа — это противопоставить себя человеку решительному.
Мы все рассказали друг другу, и нам не о чем больше говорить. Рамиро был торговцем в Сьюдад Боливаре, горняком на каком-то притоке Карони, лекарем в Сан-Фернандо дель-Атабапо. Но его жизнь была лишена рельефности и блеска: ни одного запоминающегося эпизода, ни одного поступка, ни одного факта, возвышающегося над уровнем обыденности. Я же могу показать ему свои следы на жизненном пути; они, быть может, не глубоки, но они не смешиваются со следами других людей. И, показав ему эти следы, я хочу описать их с гордостью или с горечью, смотря по тому, какую реакцию они во мне вызывают сейчас, когда я их воскрешаю в своей памяти, сидя в одном из бараков на Гуараку.
Если бы Кабан мог разобрать, хотя бы по складам, то, что я о нем пишу, он отомстил бы, пустив меня нагишом на остров «Чистилище», где вампиры и москиты быстро прикончили бы автора и его сатиру. Но «генерал» еще невежественней, чем мадонна. Он с трудом научился выводить на бумаге свое имя, не различая составляющих его букв, уверенный в том, что эти каракули — эмблема его воинских чинов.
Иногда я слышу шлепанье его туфель: Кабан заходит в контору поболтать со мной.
— По моим подсчетам, лодка прошла уже пороги Юрупари.
— А их не могли задержать?.. Пройдоха Лесмес...
— Не беспокойтесь! Он в Инириде и вернется сюда не раньше той недели.
— Он выполняет ваш приказ, сеньор генерал?
— Я приказал ему устроить облаву на индейцев, живущих на канале Нендаре, чтобы увеличить число рабочих. А что это вы все пишете, сеньор Кова?
— Практикуюсь в письме, сеньор генерал. Вместо того чтобы скучать и давить комаров...
— Хорошее дело. Я давно не писал и забыл то, что знал. На мое счастье, брат у меня — дока по письменной части. Говорят, что он слаб в правописании, но, когда я виделся с ним, он при мне навалял больше полстраницы без словаря.
— Ваш брат тоже был в Сан-Фернандо дель-Атабапо?
— Нет, нет! Никогда не был!
— А мой земляк Рамиро Эстебанес — ваш друг?
— Сколько раз я вам повторял, что да. Мы вместе бежали от индейца Фунеса; вы, конечно, знаете, что Томас Фунес — индеец. Если он поймает нас, то нам обоим не сносить головы. Я был знаком с Кайенцем, и мы решили отправиться сюда. Мы поднялись по реке Гуайниа и волоком, между каналами Мика и Раядо, перебрались в Инириду. А теперь вот, как видите, обосновались на Иоане.
— Генерал, мой земляк так вам благодарен...
— Он подтвердит вам, что я бежал оттуда не из страха: я просто не хотел марать себе руки кровью Фунеса. Вы знаете, на совести этого бандита больше шестисот убийств... Одних только христиан, потому что индейцы в счет не идут... Попросите земляка рассказать о зверствах Томаса.
— Он мне уже рассказывал о них. Я записал все это.
У поселка Сан-Фернандо, едва насчитывающего шестьдесят домов, неся ему свои богатства, сливаются три большие реки. Слева течет Атабапо с красноватой водой и белым песчаным дном, в середине — тихий Гуавьяре, справа — могучий Ориноко. А вокруг — сельва, сельва!
Все эти реки были свидетелями смерти гомеро, убитых по приказанию Фунеса восьмого мая тысяча девятьсот тринадцатого года.
Ужасная сиринга — черное божество — вызвала эту жестокую резню. Это из-за нее начались распри между владельцами каучуковых разработок. Даже губернатор торговал каучуком.
Не думайте, что, произнося имя «Фунес», я называю одного человека. Фунес — это система, нравственное уродство, жажда золота, отвратительная зависть. Таких фунесов много, хотя это роковое имя носит один только человек.
Погоня за сказочными богатствами, добываемыми ценой жизни индейцев и уничтожением деревьев, приобретение правдами и неправдами дешевого товара для перепродажи его пеонам с неслыханной прибылью; конкуренция с губернатором, который держал лавку, не платил никаких пошлин и, облеченный властью, загребал золото обеими руками; губительное, как алкоголь, дыханье сельвы — все это развратило души и сознание многих дельцов из Сан-Фернандо и побудило их вложить оружие в руки наемных убийц и помочь им совершить то, к чему они все стремились.
И не думайте, что губернатор, припадая жадным ртом к источнику налогов, совершал особые преступления, орудуя и в своем кабинете и в своей лавке. На такую деятельность двоякого рода его вынуждали обстоятельства. Территория Амасонас — это феодальное владение, и средства на расходы по управлению этим краем и свое собственное жалованье добывает пользующийся им фаворит. Губернатор — это предприниматель, оплачивающий своих подчиненных; они занимают должности, установленные конституцией, но состоят на личной службе у губернатора. Одного из них называют судьей, другого — начальником полиции, третьего — налоговым инспектором. Губернатор отдает приказания, устанавливает оклады, сменяет и назначает людей по своей воле. Времена преторов, вершивших суд на площадях, возрождаются в Сан-Фернандо, всевластный чиновник законодательствует, правит и вершит суд при помощи своих наемных приспешников.
В Сан-Фернандо нередки такие сцены: люди, прибывшие из отдаленных мест, останавливаются у постоялого двора и упрашивают хозяина: «Сеньор судья, сделайте милость, когда кончите вешать каучук, откройте, пожалуйста, помещение суда, нам надо подать прошение». А судья отвечает им: «Сегодня я не принимаю. На этой неделе суда не будет — губернатор велел мне принимать каучук и продавать маниок пеонам с Берипамони».
И все это считается законным и нормальным явлением. Каждый имеет право интересоваться доходами хозяина. Эти доходы — термометр получаемого людьми жалованья. Пустой карман хозяина — скудная оплата его приспешникам.
Губернатор Роберто Пулидо, конкурент своих подначальных в торговых делах, не обременял их излишними поборами, но они все же устроили против него заговор. Злой рок толкнул его руку подписать декрет, в силу которого пошлину на вывоз каучука из Сан-Фернандо полагалось оплачивать серебром или золотом, а не чеками на банковские филиалы в Сьюдад Боливаре. У кого имелись наличные деньги? У скопидомов. Но они копили их для того, чтобы давать в долг, они скупали за бесценок каучук у тех, кому нечем было заплатить экспортные пошлины. И хотя сами заговорщики поначалу занимались такой же спекуляцией, декрет Пулидо был использован ими как предлог для бунта. Они распустили слухи, будто губернатор, узнав об отсутствии у своих конкурентов наличных денег, вынудил их продавать каучук по смехотворно низкой цене своим агентам. И вот Пулидо убили, имущество его разграбили, а труп стащили в яму. За одну только ночь исчезло семьдесят человек.
— Я еще за несколько дней до кровавых событий, — рассказывал мне Рамиро Эстебанес, — заметил их подготовку. Кругом уже поговаривали втихомолку, что кто-то внушил Фунесу мысль стать хозяином территории Амасонас и даже, если ему вздумается, сделаться президентом республики. Эти пророчества сбылись: никогда еще ни в одной стране не видали тирана, обладающего такой властью над жизнью и имуществом людей. Фунес свирепствовал в огромной каучуковой зоне, оба выхода из которой были закрыты: по Ориноко — порогами Атуреса и Майпуреса, а через Гуайниа — таможней в Аманадоне.
Однажды я пришел к полковнику Фунесу и застал его в ту минуту, когда он запирал ворота. Он быстро захлопнул их, но мне удалось заметить во дворе каучеро; сидя на ступеньках крыльца и кухонных скамьях, они чистили оружие. Этих людей, как выяснилось потом, пригнали в поселок из бараков на реке Пасимони, и они прибыли среди ночи вместе с гомеро, работавшими у других хозяев, и те спрятали их у себя.
Фунес встревожился, заметив, что я увидел этих людей, и прошептал мне на ухо с кровожадной любезностью:
— Я запираю их, потому что они пьяны! Это — наши! Чем могу служить?
— Я должен Эспиносе тысячу боливаров, и он замучил меня процентами. Не могли бы вы мне одолжить...
— Я рожден для друзей! Эспиноса никогда больше не заикнется о процентах. Вы будете иметь возможность расплатиться с ним своими руками. Подождем приезда губернатора...
Пулидо приехал вечером по реке Касикьяре на моторном катере «Ясана». Ссылаясь на лихорадку, он, сопровождаемый чиновниками, ушел домой. Тем временем его враги, чтобы помешать бегству намеченных жертв, очистили берег от лодок, отвернули у катера руль и спрятали его в лавке, выходившей задним крыльцом на берег Атабапо.
Наступила ночь, ужасная, грозовая ночь. Из дома Фунеса вышло несколько отрядов людей, вооруженных винчестерами и закутанных с головой в плащи. Они шли, озверевшие от выпитого рома, заполнив три пустынные улички поселка, поминая имена обреченных на смерть. Некоторые мысленно включали в черный список тех, кто были им неприятны или ненавистны: кредиторов, соперников, хозяев. Пеоны шли, прижимаясь к стенам и спотыкаясь о спавших свиней. «Проклятый боров, я из-за него чуть не упал!»
— Тсс! Тише! Тише!
В таверне Капеччи, примостившись у стойки, безоружные люди играли в карты. Пять человек во главе с Фунесом подстерегали их в темноте, дожидаясь, когда заговорщики откроют огонь из-за соседнего угла. В спальне обреченного на смерть губернатора горела лампа, освещая тусклым светом бледные полосы дождя. Отряд Лопеса подкрался к открытому окну. Пулидо, приняв лекарство от малярии, лежал в гамаке, закутанный в одеяла. Внезапно он приподнялся и, устремив глаза во тьму, крикнул: «Кто там?» Ему ответили двадцать винтовок, наполнив комнату дымом и кровью.
То был страшный сигнал к началу гекатомбы. В лавках, на улицах, в домах трещали выстрелы. Паника, вспышки огня, стоны, мечущиеся во мраке ночи люди... Резня приняла такие размеры, что убийцы принялись убивать друг друга. К реке сквозь кромешную тьму спускалась вереница людей; они волокли трупы за руки, за ноги, за одежду, спотыкаясь под их тяжестью, как муравьи, перетаскивающие непосильный груз. Куда скрыться, куда бежать? Обезумевшие от страха женщины и дети искали спасения, но пули бандитов настигали их.
«Да здравствует полковник Фунес! Долой налоги! Да здравствует свободная торговля!»
Как стрела, как вихрь прорезал тьму голос: «К дому полковника! К дому полковника!» А тем временем, в порту, погруженном во мрак, тарахтел мотор «Ясаны». «Прочь из поселка! На катер! К дому полковника!»
Стрельба прекратилась, В прихожей своей лавки Фунес, ехидно улыбаясь, встречал доверчивых людей, отбирая тех, кому предстояло быть убитым во дворе. «Вы — на катер! Вы — со мной!» В несколько минут двор заполнился перепуганными насмерть людьми. За калиткой, выходившей на реку, встал Гонсалес с мачете. «На катер, ребята!» И тот, кто показывался из калитки, падал обезглавленным в одну из тех ям, откуда прежде брали землю для постройки дома.
Ни крика, ни стона!
Ночь, треск мотора, рев бури!
Заглянув с террасы в окно, где мерцала лампа, я увидел забившихся в темный угол людей; они не решались войти в ужасную дверь. В предчувствии кровавой расправы они дрожали, как быки, почуявшие запах крови.
«На катер, ребята!» — повторял глухой голос из-за роковой двери. Никто не выходил. Тогда голос стал выкликать их по именам.
Люди в доме пытались робко сопротивляться. «Выходи! Это тебя позвали!» — «Куда вы меня торопите?» И они сами толкали друг друга навстречу смерти.
В комнате, где был я, начали складывать вещи убитых: каучук, товары, чемоданы, маниок, пожитки мертвецов — вещественную причину их гибели. Одних убили, чтобы ограбить; других — потому, что они были пеонами конкурента и было выгодно лишить его рабочей силы; на этих пал роковой жребий потому, что они сильно задолжали предпринимателю-сопернику и смерть их означала его разорение, а иные хрипели в агонии оттого, что принадлежали к губернаторской клике, были чиновниками, друзьями или родственниками губернатора. Остальным приговор подписали зависть, ссора, вражда.
— Почему вы без карабина? — спросил меня Фунес. — Вы не хотите нам помочь. Я ведь расквитался с вашим долгом! Читайте расписку — она на этом мачете!
И он показал мне кровавое, липкое лезвие.
— Смотрите, как бы народ, — продолжал полковник, — не счел вас врагом своих прав и свобод; Надо иметь при себе оправдательный документ: голову, руку, что сумеете... Берите оружие и отправляйтесь подчищать остатки. Бог даст, наткнетесь на Делепьяни или Бальдомеро!..
И, взяв за рукав, он любезно выпроводил меня на улицу.
В стороне гавани, против острова Маракоа, двигались огоньки фонарей, спускаясь вдоль берега и освещая воду и прибрежный песок. Это женщины, всхлипывая и утирая слезы, разыскивали трупы родных.
— Ай! Здесь его прикончили! Бросили в реку, но к утру он должен всплыть!..
Тем временем во дворах, при свете факелов, люди в масках старались спрятать в мусорных ямах тела своих жертв, а вместе с ними свою ответственность за убийство.
— Выбросьте в реку! Не оставляйте трупы у меня во дворе, от них у меня все провоняет! — кричала какая-то старушонка и, видя, что ее не слушаются, сыпала горячую золу в братские могилы.
По перекресткам бродили шайки головорезов; они со злобой вглядывались друг в друга, пригибались к земле, изменяли походку, стараясь, чтобы их не узнали. Некоторые бандиты ощупывали левый рукав шедшего рядом человека — у «своих» он был засучен до локтя; но никто не знал точно, кто идет рядом и кого он преследует; бандиты шли, ни о чем не спрашивая и не признавая друг друга. Дождь прекратился, истерзанные трупы исчезли, но равнодушная заря все еще мешкала положить конец кошмарной ночи. Когда убийцы уже расходились по домам, один из них обернулся к соседу и осветил его огнем сигары.
— Вакарес?
— Он самый.
И, услышав гнусавый голос Кабана, бандит сильным ударом мачете рассек его скуластое лицо.
Теперь Кабан уверяет меня, что это сам Фунес исполосовал ему щеку, намереваясь убить его. Но в Сан-Фернандо Вакарес не осмеливался назвать имя обидчика; он боялся мести полковника и поэтому распространял легенду, будто бы получил рану в бою, отчаянно сражаясь в темноте с десятью противниками.
И, если бы ты видел, как низко пали жители Сан-Фернандо, они рассыпались в похвалах деспоту и его пособникам, чтобы спасти свою жалкую шкуру! Восторженные похвалы, приветствия, заискивающая лесть! Доносы, как растения-паразиты, оплетали живых и мертвых, клевета и слухи распространялись, как чума. Пережившие катастрофу не имели права жаловаться и даже вспоминать о ней: иначе они могли умолкнуть навсегда. Каждый превратился в шпиона, за каждой щелью и замочной скважиной, скрывались глаза и уши. Никто не мог покинуть поселка, справиться о пропавшем родственнике, узнать адрес земляка; на того, кто осмеливался это сделать, доносили, как на предателя, а затем заживо закапывали по грудь в раскаленный песок, заставив сначала вырыть для себя яму: солнце обугливало его кожу, а коршуны выклевывали ему глаза.
Но зверствовали не только в поселке; по лесам, рекам и просекам разлилась, нарастая, волна террора, грабежей, истребления. Каждый убивал кого ему вздумается, пока не убивали его самого; каждый прикрывал свои преступления, ссылаясь на приказы тирана, а тот все одобрял, а затем отделывался от своих сообщников, отдавая их на растерзание друг другу.
Слух о том, что Пулидо наживался на покупке каучука, — наглая ложь. Гомеро хорошо знают, что растительное золото никого не обогащает. Лесные самодержцы имеют на своем счету лишь долги пеонов, которые никогда не выплачиваются или выплачиваются за счет чужой жизни, — долги вымирающих индейцев, долги ворующих грузы плотовщиков. Рабство в этих краях стало пожизненным и для рабов и для хозяев: как те, так и другие обречены здесь на смерть. Неумолимый рок преследует всех, кто разрабатывает зеленые недра. Сельва уничтожает их, сельва приковывает к себе, сельва влечет и пожирает их. Те, кому удается спастись, продолжают оставаться душевно и телесно околдованными ею даже в городах. Унылые, одряхлевшие, разочарованные, они охвачены одним желанием во что бы то ни стало возвратиться в сельву, хотя им заранее известно, что там их ждет гибель. А те, кто не повинуется зову сельвы, неминуемо впадают в нищету, становятся жертвами неведомых недугов, их сражает малярия, они превращаются в «больничное мясо», подставляют себя под скальпель, который кромсает их тело, словно в расплату за святотатство, совершенное ими над людьми и деревьями.
А какова дальнейшая судьба каучеро в Сан-Фернандо? Страшно даже подумать о ней! Они застыли от ужаса, когда кончился первый акт трагедии; но тиран, которого они поставили над собой, уже обрел силу, получил имя. Ему дали отведать крови, и он жаждет крови. Подавай ему губернаторство! Он убивал как предприниматель, как гомеро, стремясь убрать конкурентов, но у него еще остались соперники в сирингалях и бараках; он решил истребить их всех и теперь продолжает убивать своих же сообщников.
Логика торжествует!
Да здравствует логика!
Физические страдания и душевные невзгоды заключили союз против меня в дремотной истоме этих порочных дней. Причина моей подавленности, моего разочарования — в истощении физических сил, выпитых поцелуями Сораиды. Как иссякает масло в светильнике, поглощенное огнем, так эта ненасытная волчица окислила своим ядовитым дыханием металл моей мужской силы.
Я ненавижу и презираю ее за то, что она продажна, за то, что действует на меня возбуждающе, за деспотизм ее тела, за ее грудь, познавшую ужас трагедии. Сейчас, как никогда, я мечтаю об идеальной, чистой женщине, чьи объятия принесли бы умиротворение моей мятущейся душе, свежесть моему пылкому чувству, забвение страстям и порокам. Теперь, как никогда, я тоскую по тому, что я не умел ценить в стольких чистых душой девушках, которые украдкой смотрели на меня, лелея мысль в тайниках своего целомудрия принести мне счастье!
Та же Алисия со всей своей неопытностью никогда не теряла благородства и умела держаться с достоинством даже в минуты крайней близости. Гнев, злопамятство, досада при воспоминании об Алисии не могут умалить блеска ее скромности, той скромности, которую мне против воли приходится признать за ней, хотя теперь я отрекаюсь от этой женщины за ее коварство и низость. Какая разница между Алисией и турчанкой? Алисия превосходит Сораиду во всем — она молода и привлекательна; мадонна — тучная, отвратительная чертовка — совсем старуха. Я заметил это, как только увидел ее. Сораиде за сорок и хотя, благодаря чудесам косметики, у нее не заметно ни одного седого волоса, я легко догадываюсь об ее возрасте.
О, как утомительно присутствие опротивевшего человека! О, как отвратительны непрошенные поцелуи! Но во имя успеха наших планов я должен скрывать отвращение к мадонне и не знать ни минуты отдыха: никто из моих товарищей не может заменить меня в исполнении гнусной обязанности поддерживать ее расположение к нам. Она пренебрегает моими товарищами; ведь она знает, что в кассе фирмы Росас деньги лежат только у меня. Чтобы избавиться от мадонны, я прибегал и к брезгливым гримасам, и к резкой фразе, и к оскорбительному равнодушию. Наконец, я грубо порвал с ней, а теперь не знаю, как вновь завоевать ее.
В одну из этих ночей сирингеро забрались в тамбо,[52] где жили индианки, чтобы по установившемуся обычаю получить награду за неделю работы. Провонявшие дымом и тиной, едва кончив коптить каучук, они с похотливыми ужимками подходили к часовому и становились в очередь. Более сдержанные уступали нетерпеливым свое право за табак, каучук или порошки хины. Вчера две индианки плакали навзрыд на лестнице, ведущей в тамбо, потому что все мужчины предпочитали их, а они больше не могли выдержать. Кабан с бранью пригрозил им хлыстом. Одна из девушек в отчаянии бросилась вниз и сломала себе руку. Мы прибежали с факелами, подобрали индианку, и я положил ее в мой гамак.
— Подлецы! Хватит издеваться над несчастными женщинами! Ту, у которой нет мужчины, готового за нее заступиться, защищу я!
Молчание! Несколько индианок подошло ко мне. В бараке послышался смех; находившиеся там каучеро, разжигая свою похоть, непристойно шутили по моему адресу; они поглядывали на меня, продолжая свою работу, освещенные колеблющимся пламенем очага, в дыму которого они поворачивали, словно вертел, палку с комом каучука, поливая его из черпака млечным соком.
— Слушай, если это так расстраивает тебя, давай поменяемся: дай нам на пробу мадонну, — обратился ко мне один из них.
Сораиду привело в ярость, что я не наказал нахала.
— Ты слышишь это и стоишь сложив руки! Никто не уважает меня! Он говорит, что у меня нет заступника-мужчины! Аллах!
— Все мужчины — твои!
— Тогда исполни свой долг!
— Я ничего тебе не должен!
Утром, когда я по совету друзей пошел извиниться перед мадонной и признать, что я действительно ее должник, я застал ее взбешенной и всю в слезах, но нарядно одетой.
— Бессовестный, он еще смеет говорить, что не выполнит своих обещаний!
Я сжал ее щеки, выбирая место, куда бы поцеловать, но внезапно попятился и, побледнев от волнения, ринулся к двери:
— Франко, Франко, скорее сюда, ради бога! На мадонне — серьги твоей жены! Изумруды ниньи Грисельды!
Трудно описать выражение лица Франко, когда он услышал мой крик. Он сидел на койке с Рамиро Эстебанесом и учился у Рыжего Месы плести корзины из пальмовых листьев. Фидель, едва я произнес имя его жены, инстинктивно сжал кулаки и оглянулся, точно готовясь защитить ее. Потом, вспомнив о своей оскорбленной чести, он покраснел от стыда и опустил голову.
— Какое мне дело до этой женщины? — сердито произнес он.
И, продолжая плести корзинку, Фидель притворялся спокойным, но вдруг он крикнул, и его крик, как ножом, прорезал тишину.
— Я хочу увидеть серьги, я хочу убедиться! Где эта воровка турчанка?
— Молчи, ты погубишь нас, — умоляли мы его: Сораида подходила к нам с незажженной сигарой в зубах.
Франко протянул ей спичку, и, когда мадонна наклонялась к огню, я заметил, что он изо всех сил сдерживает себя, чтобы не схватить ее за уши. «Это они, это они!» — повторил он, обращаясь к нам, и затем, не проронив больше ни слова, бросился в свой гамак. С этой минуты душевный мир окончательно покинул меня. Убить Барреру — это моя программа, мой долг!
Я ощущаю на спине холодное дыхание приближающейся бури, но как не вовремя наступает такой желанный, такой давно обдуманный час! То, что я просил у будущего, стало настоящим. Пока я жаждал мщения, завершающая схватка казалась мне пустяковым делом; но теперь, когда развязка близка, а я лишен здоровья и сил, чтобы, гордо подняв голову, броситься в бой, задача кажется мне непосильной.
Но никто не увидит меня убегающим от опасности. Я встречу ее лицом к лицу, не рассуждая, оставаясь глухим к тайному голосу, который поднимается из глубины моего сознания: «Он умрет, он умрет!»
Моя решимость поддерживает единодушие товарищей разрубить узел. «Что мне делать, если Баррера появится здесь?» — «Убить его! Убить его!»
И даже ты, Рамиро Эстебанес, поддерживаешь роковой совет, тогда как я, быть может, из трусости, ждал от тебя благоразумного, примирительного решения. Я буду неумолим, если вы хотите этого. Трагедия произойдет благодаря вам!
Пусть!
Нинья Грисельда, нинья Грисельда!
Франко и Меса видели ее прошлой ночью на сходнях баржи, ставшей на якорь в ближней заводи для погрузки краденого каучука. Грисельда светила контрабандистам, и если она не заметила моих товарищей, то во всяком случае знает, что мы ее ищем; Мартель и Доллар бросились лизать ей руки, и она увезла их с собою на барже.
О том, что индейцы в темноте переносят каучук со склада к потайной гавани, первым узнал Рамиро Эстебанес. Об этом сообщила ему спасенная мной молодая индианка, которой Рамиро перевязывал ночью сломанную руку. Девушка указала нам место, откуда мы смогли бы увидеть вереницу людей с тюками на плечах, пробиравшихся через заросли тростника. Десять, пятнадцать, двадцать индейцев, понимающих только наречие йераль, тихо проходили с ношей, словно они ступали по ковру. И каково же было наше удивление, когда мы увидели, что шествие замыкала мадонна Сораида Айрам!
«Схватить ее! Задержать! Не дать ей уехать!» Так шептались мы, следя за тем, как она исчезает во тьме. Не имея времени достать ружья, спрятанные со дня нашего прихода, мы бросились к бараку мадонны.
Огонек лампы, зажженной, чтобы отвлекать летучих мышей, трепетал, как живое сердце. Все оставалось на своем месте. Гамак был полон одеял и подушек, сложенных под пологом в виде спящей фигуры. На полу валялись туфли из ягуаровой шкуры, дымящийся окурок сигареты... При виде всего этого мы облегченно вздохнули. Мадонна не собиралась бежать этой ночью. Но надо было следить за ней.
На следующую ночь мы приступили к осуществлению своих планов. Франко и Эли, с повязками на бедрах и тюками на плечах, заняли место в веренице носильщиков, чтобы узнать дорогу к неведомой гавани. Рамиро тем временем спаивал Кабана в его бараке, а я провел ночь с Сораидой. Но случилось непредвиденное обстоятельство, пагубное или благоприятное для нас: собаки, оставшись одни, побежали по следу моих товарищей и нашли свою прежнюю хозяйку, а она, никому не сказав ни слова, заманила их к себе.
— Если бы не собаки, — объяснял мне Франко на следующее утро, — я не узнал бы ее. Бледная, точно призрак, изможденная! Мы сделали большую ошибку, когда, увидев огни на судне, отстали от индейцев. Оставшись одни в темноте, мы наблюдали за носильщиками на близком расстоянии. Если бы они заметили наше присутствие, нас убили бы. Бедная Грисельда, поднимая фонарь, тревожно смотрела во все стороны; но вскоре баржа отчалила и уплыла.
— Какая неудача! Ведь Грисельда может больше не возвратиться.
Рыжий объявил:
— Мы откопаем ружья и, сделав вид, что идем на добычу каучука, будем патрулировать лагуну. Найти баржу будет нетрудно. Если собаки с Грисельдой, — достаточно будет свистнуть их.
Вот уже пять дней, как нет Грисельды, и я схожу с ума от неизвестности!
Мадонна стала подозрительной. Скрытность Сораиды выводит меня из себя. Временами мне хочется запугать ее угрозами, заговорить о Баррере и завербованных им каучеро, заставить признаться во всем. Иногда, потеряв надежду, я пытаюсь покориться прихотям судьбы, фатальному ходу событий, отвернуться от них, чтобы не бледнеть при виде их.
На кого надеяться? На старика Сильву? Бог знает, не погибла ли его курьяра! А что, если румберо и мулат добрались до Манаос, а наш консул, прочитав мое письмо, ответит им, что его полномочия не достигают этих широт или что он представляет Колумбию только в определенных районах страны? Может быть, выслушав повествование дона Клементе, он разложит на столе дорогую, роскошно изданную, но неточную карту, полную ошибок, составленную картографическим бюро в Боготе, и ответит ему после обстоятельных поисков: «Здесь не нанесены реки с подобными названиями. Вероятно, они протекают на территории Венесуэлы. Обратитесь, пожалуйста, в Сьюдад Боливар».
И с недовольным видом консул укроется за собственным невежеством; ведь нашей бедной родины не знают не только ее простые жители, но даже отечественные географы.
С мадонной между тем надо жить настороже. Я продолжаю ненавидеть эту алчную тварь, наделенную, словно рак, двумя щупальцами: бесстыдством в любви и хитростью в денежных делах. Но сейчас меня больше всего возмущает ее притворство, едва ли уступающее моей проницательности. Оно уже дало себя знать несколько дней тому назад. Неужели, как это думает Рамиро, она получила известия не в мою пользу? От кого? — от Барреры, от Лесмеса, от Кайенца?
— Сораида, тот, кто сказал бы, что ты изменилась ко мне, был бы прав.
— Аллах! Раз ты предпочитаешь индианок...
— Ты сама прекрасно знаешь, что это ложь. Итак, твоя перемена вызвана охватившим меня порывом жалости... А ты еще упрекала меня за то, что я не возвращаю тебе долг. Я назову тебе того, кто может подтвердить мою честность. С этим человеком я имел дело в прежнее время. Теперь он живет в этой глуши и может заверить тебя в моей порядочности! Когда возвратится лодка, отправленная в Манаос, я поеду искать его на Ягуанари, потому что должен ему несколько конто. Его зовут Бар-ре-ра!
Мадонна привскочила на постели и разинула от изумления рот:
— Нарсисо Баррера — твой земляк?
— Да, тот самый, что имеет дела с Песилем. Он, еще не зная меня, оказал мне большую честь: переслал деньги на верхний Ваупес для вербовки индейцев и пеонов. Потом я получил распоряжение от него прекратить вербовку, потому что он сам собирался законтрактовать людей на Касанаре. Это на редкость предприимчивый, смелый человек. Он предлагал в последнюю минуту уступить мне по низкой цене лишних сирингеро. И это — несмотря на то, что я ему был должен. Я поеду повидаться с ним, возвращу ему деньги и заключу выгодную сделку, — теперь на Ваупесе за гомеро дают хорошие деньги. Если бы я мог, я торговал бы не каучуком, а каучеро!
При этих словах мадонна, упираясь руками в мои колени, воскликнула:
— Пеоны Барреры ничего не стоят! Голодные, зачумленные люди! На Гуайниа они высаживались всюду, где видели ранчо поселенцев, грабили то, что попадало им под руку, пожирали, что могли: кур, свиней, сырую муку, корки от бананов. Они кашляют, как дьяволы, и жрут все, как саранча! Приходилось стрелять по ним, чтобы заставить их отчалить. Песиль выехал по реке им навстречу до границы своих владений в Сан-Марселино. Среди них было несколько колумбиек, и Баррера продал мне одну по сходной цене.
— Как ее зовут?
— Не знаю!.. А тебе интересно это знать?
— Да... Нет... Будь она здесь, я поговорил бы с ней, во-первых, чтобы получить от нее сведения об этих каучеро, а во-вторых, чтобы приказать ей быть осторожней и осмотрительней.
— В чем осмотрительней? Почему?
— Я не могу быть доверчивым с той, кто мне не доверяет.
— Скажи! Скажи! Разве у меня были секреты от тебя?
Тогда я поставил вопрос ребром:
— Сораида, я хотел бы отблагодарить женщину, подарившую мне свои ласки. И я ни в коем случае не допущу, чтобы ты рисковала собой, неосторожно доверившись мне. Сораида, здесь все знают, что ты по ночам переправляешь каучук из складов Кайенца на свою баржу...
— Ложь! Все это подлая ложь твоих товарищей! Они меня ненавидят!
— И что женщина по имени Грисельда написала моим товарищам письмо...
— Ложь! Ложь!
— И что Кайенца предупредили о том, что здесь происходит...
— Твои товарищи? Так вот чем они занимаются! И ты позволил им это?
— И что несколько гомеро нашли место, где спрятана твоя пиратская баржа...
— Аллах! Что мне делать? Меня теперь ограбят.
Она с плачем схватила меня за руку, но я оттолкнул ее и ушел, повторяя с язвительным смехом:
— Ложь! Ложь!
Я побывал в хижине Кабана. Вакарес валялся в гамаке, куда его уложил приступ белой горячки. Вокруг него, свидетельствуя о щедрых дарах турчанки, были разбросаны пустые плетеные бутылки, распространявшие запах дегтя, свойственный недавно просмоленным лодкам. Рамиро Эстебанес, обязанный своим отдыхом снисходительности надсмотрщика, не мог не заподозрить внезапно возникшей близости этой парочки. Услышав, как они, запершись на складе, обменивались медовыми речами: «Моя сеньора!» — «Мой генерал!» — Эстебанес пришел за мной по приказу Кабана и предупредил меня, что он и мадонна подозрительно относятся к исчезновению моих товарищей. Кабан, тяжело дыша, казалось, дремал. Он давился слюной и отвергал все лекарства, кроме кашасы.
— Не давай ему пить, — сказал я Рамиро, — а то он лопнет!
Пьяница, бессмысленно уставившись на меня осоловевшими глазами, выговаривал мне:
— Управы на вас нет! Довольно безобразий! Довольно безобразий!
— Генерал, я почтительнейше прошу разрешения объяснить вашему превосходительству...
— Вы арестованы! Приведите мне ваших товарищей, и сами ступайте под арест.
В эту минуту Сораида призналась Эстебанесу, что Пройдоха Лесмес может в любую, минуту вернуться с Кайенцем и что над нами тяготеют серьезные подозрения.
— Какие? — ответил я с притворным спокойствием. — Пройдоха Лесмес клевещет на меня за мою преданность генералу Вакаресу! Пусть тогда на мою голову падут все беды, потому что я никогда не перестану признавать заслуги генерала и буду утверждать, что шпага всегда ставит своего обладателя выше всех остальных людей. Здесь и где угодно.
— Что правда, то правда! — пробормотал Кабан, приподнимаясь в гамаке.
— Если мои друзья, — продолжал я, — передали мои слова пеонам и те сделали неверный вывод, будто я в заговоре против Кайенца, то виноват не тот, кто дельно говорит, а тот, кто плохо понимает. Если же меня укоряют в том, что я отправил товарищей работать вместе с каучеро, стыдясь за их безделье и стараясь в какой-то мере отплатить за щедрую поддержку приютившего меня хозяина и возместить трудом моих товарищей отдых, предоставленный генералом Рамиро Эстебанесу, пусть я буду наказан за то, что предварительно забыл попросить разрешения у начальства, если только нужно спрашивать разрешения на проявление деликатности...
— Что правда, то правда! — опять промычал Кабан.
— Если ты, Сораида, повторяешь, будто я никогда не был в Манаос, и заключила об этом из моих сбивчивых ответов на твои вопросы насчет зданий, площадей, банков и улиц, то ты сама запуталась в своем недоверии ко мне. Я никогда не говорил тебе, что знаю этот город. Быть клиентом фирмы Росас можно и не переступая порога ее складов, — мне по крайней мере этого не потребовалось. Честью быть агентом этой богатейшей фирмы я обязан консулу нашей страны. Консулу, слышишь, консулу! Сейчас он поднимается по Рио-Негро и едет приостановить своею властью злоупотребления, он сам говорит об этом в своем последнем письме.
Мадонна и Кабан разом воскликнули:
— Консул! Консул!
— Да, мой друг, консул. Узнав, что я отправляюсь в Сан-Фернандо дель-Атабапо, он поручил мне тайно собрать сведения о преступлениях и убийствах, совершенных Фунесом на колумбийской территории.
Когда я вышел из барака с притворной гордостью влиятельного человека, Кабан и мадонна не переставали бормотать:
— Консул! И они — друзья!
— Скажите, пожалуйста, — спрашивал меня Кабан, — не могут ли выйти у меня неприятности из-за этого индейца Фунеса?
— Но разве вы, генерал, принимали активное участие в событиях роковой ночи?
— Против воли! Против воли!
Мадонна прервала нас:
— Не может ли сеньор консул помочь мне собрать долги? Ты сам видишь, Кайенец не признает долга и уехал из фактории, чтобы не платить ничего. Запиши у себя в книге...
— Но разве каучук, который ты забрала со склада...
— Это сернамби низшего сорта. Снаружи ком такого каучука гладкий и твердый, а внутри — один песок, тряпки и мусор. Вся партия этого каучука пропала. Он не выдержал испытания: когда его бросали в воду, он шел ко дну. Если бы консул выслушал мои жалобы...
— Надо ехать на место его стоянки.
— А если он еще не приехал...
— Он едет, он едет, он уже на Ягуанари. Женщина, по имени Грисельда, сообщает в своих письмах много разных вещей. Надо допросить ее.
— Я боюсь ее. Она злая. Кто-то из них, она или другая, поранил лицо бедному Баррере.
— Бедному Баррере?
— Поэтому-то я и не подпускаю ее к себе.
— Надо немедленно допросить ее.
— А ты не побоишься?
— Нет!
И нинья Грисельда пришла.
Никогда в жизни я больше не испытаю таких томительных минут ожидания, какие я пережил в тот вечер, когда мадонна Сораида Айрам с наступлением сумерек повесила фонарь в дверях своей комнаты, выходившей на реку. Это был условный знак. По дрожащим струям Исаны бежали отблески света, вызывая сюда баржу, на которой гребцы уже готовились к отплытию.
Я не могу с уверенностью сказать, в какой момент я убедил мадонну бежать вместе со мной. Мозг мой пылал сильней, чем фонарь на притолоке, пылал, как маяк, зовущий корабль войти в гавань. Одна фраза, только одна фраза неистово стучала у меня в мозгу, вызывая перед глазами отчетливые образы: «Кто-то из них, она или другая, поранил лицо бедному Баррере». Кто же, кто же эта другая? И за что она его ранила? Из ревности, из мести или готовясь бежать? Была ли это Алисия? Которая из двух опередила меня и слабой рукой оставила на лице негодяя смертельный рубец, который предстояло углубить моей руке, гневной руке мужчины? Я изнывал от нетерпения, и перед моими глазами плясала усмешка окровавленного лица, но то была не усмешка, не лицо, а челюсть Мильяна, оторванная рогом и нагло смеявшаяся загадочным и страдальческим смехом, похожим на смех Барреры, на смех Барреры!
Я пил, пил, пил — и не пьянел. Мои нервы сопротивлялись наркотическому действию алкоголя. Я вырывал рюмку у Кабана и, осушая ее, видел, как свет фонаря окрашивал ее стекло свинцовым блеском кинжала. С нетерпением дожидаясь лодки, я несколько раз ходил от барака к реке и следил за поздней звездой; я высчитывал время ее прохождения через зенит, чтобы знать, когда наступит час полуночи. Пьяный Кабан повсюду следовал за мной и докучал мне сплетнями и вопросами:
— Я выдал мадонне каучук со складов: мне было известно, что вы за нее поручились.
— Очень хорошо! Очень хорошо!
— Она подговорила Пройдоху Лесмеса поставить заградительный отряд на порогах Санта-Барбары и задержать Сильву, но его курьяра миновала пороги!
— Неужели это правда?
— Если Кайенец обнаружит убыль каучука на складе, он обвинит Сораиду в воровстве...
— Очень хорошо! Очень хорошо!
— Вы не заметили, что мадонна подготовляет бегство? Я поставлю заградительные отряды, чтобы они задержали ее, если только консул не думает подняться до Гуараку и вы не гарантируете, что он не намерен...
— Не беспокойтесь, он едет лишь для сбора сведений против тирана Фунеса.
— Почему Лесмес известил Кайенца, будто он имеет доказательства, что вы не гомеро, а бандиты?
— Клевета, клевета! Мы друзья консула — и этого вполне достаточно!..
— Сораида, Сораида, — говорил я, оставив пьяницу одного, — покинем эту тюрьму, когда возвратятся мои товарищи.
Мадонна продолжала выпытывать у меня:
— Ведь правда, что ты не посылал их к Кайенцу с доносом? Ты любишь меня, ты любишь меня?
— Да, да!
И, хватая ее за руки, я нервно стискивал их до боли и смотрел на нее безумными глазами: фигура женщины исчезала, и я видел лишь окровавленный платок на пышной груди — то был горячий пурпур, брызнувший из виска Лусьяно Сильвы.
Стояла глубокая ночь; бараки были пусты. Рамиро Эстебанес, дежуривший на берегу, пришел сказать мне, что по реке плывут срубленные ветви. Это, очевидно, был сигнал с баржи, причалившей выше по течению в незнакомой заводи.
При этой вести со мной произошло странное явление: подошвы мои похолодели, пульс стал редким, и на меня нашло непонятное успокоение! Какая-то вялость сковала все мое тело, несмотря на то; что я весь горел, как в лихорадке. Стоит ли так волноваться из-за того, что в бараки придет какая-то авантюристка? У меня нет никакого желания видеть ее, я не хочу ничего знать о ней! Если она нуждается в покровительстве, пусть сама ищет меня! И я произнес с ироническим пренебрежением:
— Не зови меня в гавань, Сораида, я не пойду туда. Если ты продолжаешь настаивать, чтобы я допросил твою служанку, то я сделаю это лишь с глазу на глаз, в этом бараке!
Несколько минут спустя, заметив приближение двух женщин, я хотел подойти к фонарю и завесить его. Я попытался сделать несколько шагов, но правая нога отказывалась служить мне; легкие мурашки, какие бывают, когда отсидишь ногу, пробежали по ней. Я неуклюже ступал, точно по вате, не чувствуя пола. Грисельда бросилась обнимать меня. Но, глядя на мадонну, я отстранил Грисельду и сухо сказал ей:
— Здравствуйте!
Я продолжаю свои записи на Рио-Негро, реке с выразительным названием, которую аборигены называют Гуайниа. Вот уже три недели, как мы сбежали из фактории. На гребне бурых волн, приближающих нас к Ягуанари, среди берегов, не раз видевших, как спускались по реке мои порабощенные соотечественники, на водоворотах, которые преодолел челнок Клементе Сильвы, я записываю предшествовавшие бегству события и сетую на судьбу, по воле которой я оставил за собой такой кровавый след.
С нами плывет Грисельда, дерзкая на язык и смелая духом женщина. Лицо ее, подурневшее от горя, научилось улыбаться сквозь слезы. Ласковое чувство и отвагу одновременно будит во мне эта несчастная женщина, не дрогнувшая перед опасностью и сумевшая сломить мой бессмысленный гнев в ту ночь, когда мы стояли одни в хижине мадонны.
— Здравствуйте, — повторил я тогда и повернулся, чтобы уйти.
— Подожди, незнакомец, меня привели для разговора с тобой.
— Со мной? О чем? Вы пришли рассказать мне, как вы жили?
— Я жила не хуже, чем ты. Я устала, но не жалуюсь.
— Как идут дела? Как работают пеоны? Почем продаете свежий маниок?
— У меня нет для тебя маниока, и я не отпускаю в долг. Но если он тебе так нужен, приходи, может быть, сторгуемся.
Я был растроган, когда увидел, что она закрыла лицо платком, но спросил:
— Тебя научил плакать Баррера?
— Плакать? Почему плакать? Просто с того дня, когда мне дали пощечину, я привыкла утираться.
Упрекнув меня этими словами за дикую сцену, происшедшую в Мапорите, она попыталась рассмеяться, но вдруг судорожно зарыдала и упала к моим ногам:
— Перестань издеваться, ты сам видишь, как мы несчастны!
Я машинально наклонился поднять Грисельду, но в душе я радовался ее унижению. Эта сцена словно утолила мою боль, но гордость моя застыла в своем величии, как сфинкс, и я промолчал. Спросить об Алисии, узнать, где она, показать, что я интересуюсь ею? Никогда! Но, помнится мне, я что-то бессвязно пробормотал; Грисельда, улыбнувшись сквозь слезы, ответила:
— О которой из них ты говоришь — о твоей Кларите?
— Да!
— Тогда прими мое глубокое соболезнование: она досталась дону Фунесу. Баррера расплатился ею за пропуск через Ориноко и Касикьяре. Узнав о своей судьбе, бедняжка плакала, и мы тоже плакали, но ее посадили в лодку и увезли в Сан-Фернандо дель-Атабапо с письмом и подарками Фунесу.
— А другая, другая, которая ранила Барреру?
— Ах, ветреник! Зачем ты спрашиваешь о ней? Признайся сначала, что ты жил с Кларитой в Ато-Гранде! Мы ведь все знали об этом!
— Ничего подобного! Но скажи, значит, этот мерзавец...
— ...собственной персоной приезжал рассказывать нам об этом и каждую ночь присылал Мауко расстраивать Алисию: поговаривали, будто ты спишь с этой женщиной и собираешься увезти ее в Венесуэлу и еще бог весть что. Признайся, Алисии было от чего прийти в отчаяние? Поэтому-то она и уехала! Поэтому я и взяла ее с собой, мне тоже приходилось идти куда глаза глядят. Фидель хотел развязаться со мной! Он плохо со мной обращался...
— Я еще раз предупреждаю, что меня не интересуют эти сказки. Каждый человек заслужил свою судьбу. Я не допущу, чтобы ты впутывала в эту интригу Барреру, выставляя себя невиновной. А переезды в лодке? А ночные свидания?
— В этом не было ничего дурного! Ты вправе осуждать меня, потому что я заигрывала с тобой. Это — мой грех, но тем тяжелей наказание. Мне нужна была помощь. Алисия хотела возвратиться в Боготу с доном Рафаэлем, и я поддалась искушению. Но только и всего! Никогда, никогда я не изменяла Фиделю!
— О, если б заговорил призрак капитана!..
— Не напоминай мне о нем! Он дорого поплатился за свою наглость! Если хочешь знать подробности, спроси у Фиделя, но не напоминай мне о капитане. Я так много выстрадала! Подумай только, чего мне стоило убить его, когда он посягнул на мою честь! Видеть, как Фидель бросается на него, чтобы спасти меня, защитить меня! А потом — какая пытка чувствовать, что муж грустит, разлюбил, раскаивается, оставляет меня одну в Мапорите по целым дням и неделям, чтобы не встречаться со мной, не подавать мне руки, слышать, как он повторяет, что хотел бы уехать далеко, в другие страны, где никто не знает нашего прошлого, где не надо быть пеоном и рисковать жизнью, гоняясь в степи за быками. В это время появился Баррера. Фидель не возражал против моих встреч с ним; словно желая от меня избавиться, он то обещал поехать вместе со мной, то грозил остаться в Мапорите. И так он вел себя до той минуты, когда Баррера принудил меня к отъезду, потребовав плату за свои подарки; мне нечем было заплатить, а он угрожал мне, что все откроет мужу! Вот из-за чего происходили свидания!
— И ты хотела расплатиться с ним Алисией?
— Подумай, что ты говоришь! Как ты можешь бросать мне такое грязное обвинение? Я отдала Баррере все, что у меня было: драгоценности, серьги и даже хотела продать швейную машину. После этого Баррера начал говорить мне, что ты богат, что я должна попросить у тебя денег взаймы. Алисия слышала, как я плачу по ночам, и она предложила мне переговорить с Баррерой и попросить его уменьшить сумму платежа. Однажды ты ударил меня и хотел убить нас с Алисией. Потом ты уехал к Кларите, а Баррера заявился и посоветовал, не дожидаясь Франко, бежать, потому что, когда он вернется, ты наговоришь ему всяких гадостей и он изобьет меня до полусмерти! И мы убежали: Алисия — от тебя, а я — от Фиделя. Мы отправились одни куда глаза глядят — зарабатывать свой хлеб на Вичаде! Любовь — как ветер, куда захочет, туда и дует. Зря я тебе это сказала. Ты мне нравился, а Алисия хотела возвратиться в Боготу... Но сам видишь, какой это был безжалостный, какой ужасный ветер: он налетел на нас и разогнал, как пыль, в разные стороны, далеко от родины и любви.
Несчастная женщина расплакалась, и неизмеримая нежность наполнила мою грудь:
— Грисельда, Грисельда! Где Алисия?
— После стычки с Баррерой меня отделили от нее и продали турчанке. Она, должно быть, сейчас на Ягуанари. К счастью, я научила ее, как вести себя. Я не оставляла ее в течение всего пути; если мы сходили с плота, то сходили вместе; если спали на берегу, то спали, прижавшись друг к другу, под одним одеялом. Баррера вел себя грубо, но не осмеливался приставать к ней. Однажды в лодке он откупорил бутылку и хотел напоить нас. Мы ничего не принимали от него, и он приказал гребцам вышвырнуть меня за борт, а сам хотел изнасиловать Алисию, но она разбила бутылку и одним ударом оставила на лице этой гадины восемь порезов.
Пока Грисельда рассказывала это, я обломал свои ногти о стол; мне казалось, что пальцы мои — кинжалы. Именно тогда я заметил, что правая рука у меня потеряла чувствительность. Восемь порезов! Восемь порезов! Пылающим взором я искал негодяя Барреру в комнате, чтобы расправиться с ним, чтобы искусать его, чтобы загрызть его...
Грисельда умоляла меня:
— Успокойся, успокойся! Едем за ней на Ягуанари!
Она — честная женщина! Я могу поклясться, что ее не продали; теперь она уже не годится для работы: она беременна!
При этих словах я потерял представление о том, что делаю. Как далекое эхо, достигал моих ушей голос мадонны:
— Едем, едем! Фидель и Рыжий встретились мне сегодня утром, они на барже! Мы помирились!
Судя по всему, я тревожно застонал; в дверях появились Рамиро и мадонна.
— Что случилось? Что случилось?
Грисельда, видя, что я не двигаюсь с места, твердила:
— Едем, едем! Гребцы говорят, что нас может застать Кайенец!
Сораида, грубо покрикивая на свою рабыню, принялась хлопотливо собирать вещи. Рамиро растерянно подошел ко мне и пощупал пульс. Женщины возились, связывая узлы, и вскоре мадонна спросила меня, выглядывая из-под широких полей шляпы:
— Ты возьмешь что-нибудь с собой?
С трудом указывая на развернутую на столе книгу, где я записал эту бессвязную, дикую повесть, — книгу, над листками которой дрожала моя рука, — я едва сумел пробормотать:
— Это! Это!
И Грисельда унесла книгу.
— Скажи, ты подвел счета, о которых я тебя просила? Не упустил ничего? Я покажу их сеньору консулу! Ты видишь — Баррера остался мне должен. Он обманул меня, подсунул поддельные драгоценности. Отдай мне на сохранение деньги, если они у тебя остались! Подпиши мне вексель! Что тебе сказала эта женщина? Едем, мне страшно!
Рамиро крикнул, указывая на дверь:
— Кабан проснулся, он на террасе!
Я не в состоянии описать то, что испытал в эти мгновения: то мне казалось, что я уже умер, то, что я еще жив. Теперь для меня ясно, что только в области сердца и в левом боку теплилась жизнь, остальное же тело не принадлежало мне; ноги, руки, пальцы — все онемело, все было посторонним, странным, ненужным; все это одновременно отсутствовало и присутствовало, причиняя мне невыразимое неудобство, какое может чувствовать разве только дерево, на живом стволе которого еще держится сухая ветвь. Но мозг четко выполнял свои функции. Я думал. Что это — галлюцинация? Нет! Симптомы нового каталептического сна? Тоже нет. Я говорил, говорил, я слышал свой голос, и меня слышали; но мне казалось, что меня закопали в землю и по моей ноге, опухшей и бесформенной, поднимается, как по корням пальмы, горячий, мгновенно застывающий сок. Я хотел двинуться, но земля не выпускала меня. Я испустил крик ужаса. Я покачнулся. Я упал.
Рамиро, наклонившись надо мной, воскликнул:
— Дай, я пущу тебе кровь!
— Удар! Удар! — повторял я в отчаянии.
— Нет! Первый приступ бери-бери!
Я проплакал все утро в обществе Рамиро, который молча сидел рядом со мной в гамаке. Свежее дыхание зари восстанавливало мои силы, и жар покинул меня, выйдя через ранку, проделанную в руке ланцетом. Я попробовал пойти, но парализованная нога волочилась за мной, нарушая равновесие тела; будучи в действительности тяжелой, мне она казалась легче пера.
Теперь я понимал, почему некоторые гомеро при первых симптомах бери-бери, обезумев, вырываются из рук товарищей, отрубают топором нечувствительную ступню и бегут, истекая кровью, в барак, где и умирают от гангрены.
— Я никому не позволю уехать отсюда, — повторял Кабан в соседнем бараке, споря с мадонной. — Я пьян, но я во всем отдаю себе отчет. Я вам еще покажу!
— Слышишь? Рискованно думать о побеге, — сказал мне Рамиро. — Я по крайней мере не решусь на него.
— Как, ты думаешь остаться здесь, где твоя робость кует тебе цепи?
— Робость и рассудительность — как раз то, чего тебе не хватает. Можешь прибавить еще другие причины: неудачи, разочарования.
— Но разве тебя не воодушевляет мысль о свободе?
— Этой мысли недостаточно, чтобы сделать меня счастливым. Вернуться в город пришибленным судьбою, нищим, больным? Тот, кто покинул родные пенаты в поисках богатства, не должен возвращаться к ним и просить милостыню. Здесь по крайней мере никто не знает о моих злоключениях, и нищета принимает вид добровольного отречения. Уходи один. Жизнь замесила нас из разного теста. Нам не по дороге. Если ты когда-нибудь увидишь моих родителей, не говори им, где я. Пусть забвение падет на того, кто сам их никогда не забудет!
Я заплакал, услышав эти слова; Рамиро прощался с своей мечтой и молодостью. И все ради любви к той Марине, чье нежное имя судьба написала между двух слов:
«Всегда и никогда!»
— О чем они спорят? — спросил я Рамиро, когда он вернулся на следующее утро.
— Из-за каучука на складе. Кабан утверждает, что недостает полутораста арроб.[53] Он говорит, будто их украли и погрузили без его разрешения. Мадонна обещает, что ты возьмешь ответственность на себя.
— Что же делать, Рамиро?
— Это ужасное осложнение.
— Посоветуем мадонне вернуть на склады каучук и бежим. Или нет, похитим Кабана! Позови с баржи Фиделя и Месу. Прикажи им принести ружья.
— Баржа причалена на том берегу. Оттуда переезжают сюда на курьяре.
— Что же делать, Рамиро?
— Подождем, пока Кабан не заснет после обеда.
— Но ты поедешь со мной, не правда ли? Раздели мою судьбу! Плывем в Бразилию! Будем работать пеонами там, где нас не знают и не будут преследовать! Плывем с Алисией и товарищами! Она — прекрасная женщина, и я потерял ее! Но я спасу Алисию! Не упрекай меня за это намерение, за это желание, за это решение! Не осуждай того, что она моя любовница; теперь Алисия только мать; она ждет свершения чуда. Сколько людей в мире покоряются судьбе и живут не с теми женщинами, о которых мечтали, — материнство освящает все! Вспомни, что Алисия ни в чем не виновата, это я в порыве отчаяния очернил ее! Едем, и ты увидишь наше примирение над трупом соперника! Едем искать ее на Ягуанари! Никто не покупает ее, потому что она беременна. Мой сын охраняет ее в материнском чреве!
Внезапно Рамиро с исказившимся от ужаса лицом бросился бежать, крича во все горло:
— Кайенец! Кайенец!
Я еще до сих пор дрожу при воспоминании об этом коренастом рыжем человеке с багровой лысиной и висячими усами. Схватив за горло «генерала» Вакареса, он швырнул его в пыль и приказал повесить за ноги и развести под ним костер.
— Чегт побеги! Чегт побеги! — рычал он, картавя. — Газве я не пгиказал поставить заставы на погогах? Кто отпгавил в Бгазилию лодку?
Палачи приступили к пытке, а Кайенец, сорвав с мадонны широкополую шляпу, крикнул:
— Кокотка! Долой шляпу! Что ты здесь делаешь? Я же доказал тебе, что ничего не должен! Где у тебя укгаденный каучук?
Мадонна указывала на меня. Наглый корсиканец подошел ко мне.
— Бандит! Пгодолжаешь бунтовать гомего? Встать! Куда ты девал своих товагищей?
Я хотел подняться, но опухшая нога помешала мне это сделать. Кайенец стал топтать меня и хлестать плеткой, обзывая вором, сообщником индейца Фунеса. Он бил меня, пока я не потерял сознания.
Когда я пришел в себя, я узнал, что Кайенец отправился на склад. За это время пеоны наводнили двор, куда пригнали пленных индейцев; руки их были туго затянуты веревками, под которыми копошились черви. Между пеонами слонялся Пройдоха Лесмес; он торопил надсмотрщиков, отбиравших туземцев, чтобы распределить их по партиям. Глухой шум стоял во дворе. Вдруг я увидел, как из толпы вытащили Пипу; у него были связаны руки. Пипу привели по распоряжению Лесмеса, чтобы он опознал меня. Негодяй приблизился ко мне и, прикасаясь грязной ногой к моей груди, завопил:
— Это шпион из Сан-Фернандо!
— А ты, ублюдок, — ответил ему рослый каучеро, шедший за ним по пятам, — ты Искорка с «Водопадов», ты царапинами убивал десятки индейцев и не раз бил меня плетью. Покажи-ка мне твои когти!
Схватив Пипу за веревку, он поволок его по земле, а потом одним яростным ударом мачете отрубил ему связанные кисти рук и подбросил в воздух побелевший, окровавленный обрубок. Гомеро одобрительно загоготали. Пипа, совершенно очумевший от боли, ползал по земле, словно разыскивая свои руки. Он тряс над головой култышками, из которых била кровь, как из водометов страшного по своей фантастике сада. Кровавые брызги обагряли молодую поросль.
Стоило Кайенцу вновь появиться, и фактория точно вымерла.
— Колумбиец! Говоги, где багжа! Вегни мне укгаденный каучук! Выдай мне своих товагищей!
Когда меня положили в лодку, и мы, переплыв реку, добрались до баржи, я увидел в последний раз Рамиро Эстебанеса и мадонну Сораиду Айрам на утесе в бухте — плачущих, дрожащих, охваченных ужасом.
Грисельда, заметив меня в лодке, догадалась о том, что произошло, и вышла встретить нас на палубу баржи. Кайенца, казалось, охватило внезапное подозрение: выбивая трубку о подошву сапога, он приказал гребцам остановить курьяру близ баржи. Собаки яростно защищали сходни.
— Эй, Грисельда, — крикнул я, — привяжи этих псов, сеньор хозяин приехал осмотреть баржу.
— Объясни хозяину, что здесь одни только товары. Весь каучук припрятан в заводи. Если он прикажет, я покажу место.
Кайенец одним прыжком перескочил на нос баржи, и, как только туда перебрался и я, он приказал отчаливать.
— Сколько здесь людей? Где остальные?
— Хозяин, я здесь одна с тремя индейцами: двое сидят на веслах, один стоит у руля.
Тиран прокричал гребцам своего челнока:
— Эй, вы там! Вегнитесь в багаки и пгивезите носильщиков!
Между тем баржа продолжала спускаться вниз по течению. Грисельда что-то говорила Кайенцу, путаясь в объяснениях и не давая ему взглянуть на тюки с товарами. Там были спрятаны мои товарищи, кое-как прикрытые мешками; ноги их торчали наружу. По моему лицу струился холодный пот. Кайенец увидел Эли и Франко и, нагнувшись над ними, выхватил револьвер.
— Сеньор, — пробормотал я, — это двое гомеро, у них лихорадка...
Тиран наклонился, чтобы сорвать с них мешок, но Фидель обеими руками вцепился в револьвер, а Рыжий обхватил Кайенца за пояс. Я, собрав все свои силы, бросился им на помощь, но бывший каторжник, юркий как рыба, выскользнул из наших рук и кинулся в реку. Грисельда успела ударить его веслом по голове. Кайенец нырнул. Собаки поплыли на пузыри, показавшиеся на поверхности воды. С борта на Кайенца навели ружья. «Вот он, вот он, держится за руль!» Грянули несколько выстрелов. Кайенец поплыл по течению, притворившись мертвым; он быстро удалялся, и собаки не могли догнать его. «Вон он, вон он, не давайте ему набрать воздуха!» Мы яростно гребли; голова Кайенца, нырявшего, как утка, то исчезала, то появлялась там, где никто не ожидал ее видеть. Мартель и Доллар, громко лая, продолжали плыть по багровому следу. Вдруг мы увидели отвратительную картину: одна из собак буксировала труп Кайенца к берегу за конец кишки, разматывавшейся, как длинная, бесконечная лента.
Так умер этот чужестранец, этот захватчик, уничтожавший на границе моей родины леса, убивавший индейцев, порабощавший моих соотечественников!
В воскресенье мы достигли бразильского поселка Сан-Жуаким в устье Ваупеса, но нам не позволили причалить. Нас считают зачумленными, нас боятся, потому что мы голодны и можем разграбить съестные припасы. Мешая испанский язык с португальским, алькальд приказал нам покинуть гавань, а люди, столпившиеся на песчаном берегу — старики, женщины, дети, — грозили нам ружьями, палками, метлами: «Колумбийцев — вон! Колумбийцев — вон!» И они на все лады проклинали Барреру, завезшего на Рио-Негро губительную заразу.
В Сан-Габриель — этот поселок стоит на горном плато, откуда низвергается могучая река, — мы вынуждены были сойти на берег, так как плыть через пороги было опасно. Глава местной католической миссии, монсеньер Масса, благожелательно принял нас и предложил нам горючее, чтобы мы могли добраться до Умаритубы. Он сообщил мне весть, преисполнившую нас ликованием: дон Клементе давно уже проехал через этот пункт, и колумбийский консул прибудет к концу недели на пароходе «Инка», курсирующем между Манаос и Санта-Исабель.
Умаритуба! Умаритуба! Жуан Кастаньейра Фонтиш не только снабдил нас одеждой, пологами от москитов и провиантом, но и готовит нам курьяру для поездки на Ягуанари. Во вторник мы вновь поплывем по Рио-Негро, окрыленные надеждой, дрожа от нетерпения. После бери-бери нога моя отнялась и стала нечувствительной, словно она сделана из каучука. Но бодрость могучим пламенем снова засверкала в моих глазах. Если бы только знать, что сулит мне будущее!
Сегодня же вниз по реке! Там — величественная гора, подножье ее омывает Кури-Курьяри — река, которую искали Клементе Сильва и его товарищи, когда заблудились в сельве!
Санта-Исабель! В пароходном агентстве я оставил письмо консулу. В нем я взываю к его гуманным чувствам и прошу помочь моим соотечественникам — жертвам грабежа и рабства, которые стонут в сельве, вдали от семьи и родины, смешивая с каучуковым соком свою кровь. В этом письме я прощаюсь с тем, к чему я стремился, с тем, чем я мог бы стать в другой среде. Я предчувствую, что тропа моя близится к концу, и, как глухой шум ветвей в бурю, слышу угрозу пучины.
Бодрей! Бодрей! Сегодня прибудем на Ягуанари! Мы торопимся изо всех сил: нам стало известно, что мой соперник выезжает в Барселуш. Он может увезти с собой Алисию!
Река разделяется здесь на множество рукавов, омывая острова, на которые еще не ступала нога человека. На полуострове с правого берега виден шалаш зачумленных, содержащихся в карантине. Дальше — устье Юрубахи.
— Рыжий, тебя могут узнать надсмотрщики. Возьми револьвер. Спрячь его под рубашку. Мы подплываем!
Я пишу эти строки в бараке Мануэля Кардозо, куда придет за нами Клементе Сильва. Я освободил родину от недостойного сына! Вербовщика больше не существует! Я убил его! Я убил его!
Передо мной до сих пор встает картина, как я выскакиваю из лодки на вытоптанную площадку перед бараком на Ягуанари. Зачумленные, окруженные кольцом «лечебных» костров, кашляют от дыма и на настойчивые расспросы о моем враге отвечают молчанием. В эту минуту я забыл об Алисии. Грисельда кинулась ей на шею, а я замер, не проронив ни слова: у меня было одно только желание — взглянуть на ее живот!
Не помню, от кого я узнал, что Баррера купается, и я заковылял через заросли тростника к Юрубахи. Он стоял голый на подмостках около берега и снимал перед зеркалом повязки с порезов на лице. Увидев меня, он бросился к своему белью, чтобы схватить оружие. Я преградил ему путь, и между нами началась ужасная, немая, титаническая борьба.
Этот человек был силен, и, хоть у меня было преимущество в росте, он повалил меня. Сцепившись, мы судорожно катались тугим клубком, дыша одним дыханием; и Баррера оказывался то наверху, то внизу. Мы сплелись телами, как змеи, наши ноги скользили по песку, мы возвращались к куче одежды и опять скатывались к воде, пока я, уже теряя силы, не добрался зубами до его ран и не залил ему лицо кровью. Сделав нечеловеческое усилие, я погрузил Барреру в воду, чтобы он задохся там, как щенок.
Изнемогший, обессиленный, я стал свидетелем самого ужасного, самого страшного, самого отвратительного зрелища: в дрожащем блеске плавников мириады карибе облепили раненого Барреру, и, хотя он отчаянно отбивался, они обглодали его с быстротой стаи голодных кур, общипывающих кукурузный початок. Вода булькала в адском кипении, кровавая, мутная, зловещая, и, подобно тому как на рентгеновском снимке белеет человеческий скелет, так на темной поверхности дна заблестел гладкий костяк, уже наполовину затянутый тяжестью черепа. Дрожа в прибрежном камыше, он словно молил о пощаде...
Таким он был, когда я побежал за Алисией и, принеся ее на руках, показав, ей этот скелет... Таким он и остался там навсегда.
Мы положили Алисию в курьяру, смертельно бледную, бездыханную, с признаками выкидыша.
Позавчера, во мраке ночи, среди нищеты и полного бесправия, родился семимесячный мальчик. Его первая жалоба, его первый крик, его первый плач был обращен к бесчеловечной сельве. Он будет жить! Я увезу его в челноке по этим рекам к себе на родину, далеко от горя и рабства, как каучеро с Путумайо, как Хулио Санчес...
Вчера произошло то, что мы предвидели: катер с Померанцевой виллы обстрелял нашу баржу ружейным огнем, нас хотели задержать. Но мы ответили силой на силу. Завтра враги возвратятся. Скорей бы уж приехал консул!
Франко и Эли сторожат на утесе, чтобы не причалили плоты зачумленных. Я слышу отсюда кашель этой флотилий нищих: они просят у меня помощи, просят места на барже. Невозможно! В других обстоятельствах я пожертвовал бы собой для спасения земляков. Теперь — нет! Это повредит здоровью Алисии! Они заразят моего сына!
Невозможно убедить этих отчаявшихся людей, они называют меня своим избавителем. Я вынужден был объяснять им, рискуя заразиться, что не могу взять их с собой, но они не отстают от меня. Я говорю им, что у нас нет провианта, что, если они не оставят нас в покое, нам придется уйти в лес. Почему им не занять барак на Ягуанари, пока не прибудет пароход «Инка»? Он придет не сегодня-завтра.
Да, лучше оставить эту хижину и в ожидании старика Сильвы укрыться в лесу. Мы соорудим себе убежище неподалеку отсюда, где старый Сильва легко найдет нас и где мы сможем достать для ребенка кокосовое молоко.
Пусть приготовят носилки для молодой матери! Их понесут на плечах Франко и Эли. Грисельда заберет скудный провиант, Я пойду впереди всех, неся своего первенца под плащом. Мартель и Доллар будут замыкать шествие.
Дон Клементе! Мы решили не дожидаться вас в бараке Мануэля Кардозо: зачумленные высаживаются на берег. Я оставляю книгу раскрытой, чтобы по ней вы определили наш путь, вам поможет чертеж на этой странице. Сохраните мою рукопись и передайте ее в руки консула. Это — наша история, трагическая история всех каучеро! Каждая пустая страница — незаписанный рассказ!
Клементе Сильва! Мы расположимся в получасе ходьбы от этого барака, на старой тропе, ведущей к протоку Марьэ. В случае опасности мы уйдем, оставив на своем пути сигнальные костры. Торопитесь! Провианта у нас — только на неделю! Вспомните Коутиньо и Соуза Машадо!
Итак, мы уходим!
Заклинаю вас богом!
ЭПИЛОГ
Последняя телеграмма колумбийского консула, адресованная министру по поводу Артуро Ковы и его товарищей, гласит:
«Пять месяцев их тщетно разыскивает Клементе Сильва. Никаких следов. Их поглотила сельва».
1.
Касанаре — степь в восточной Колумбии.
(обратно)2.
Нинья — обычное в Колумбии обращение к молодой женщине.
(обратно)3.
Трапиче — небольшая примитивная сахароварня.
(обратно)4.
Алькальд — глава муниципалитета; в сельских местностях — староста.
(обратно)5.
Интендант — чиновник, возглавляющий интендантство (административная единица в степной, малозаселенной части Колумбии).
(обратно)6.
Пипа — большая безобразная жаба.
(обратно)7.
Льяносы — степная полоса между Кордильерами и Ориноко, лежащая на территории Колумбии и Венесуэлы; общее наименование южноамериканских степей, называемых также саваннами и пампой.
(обратно)8.
Вакеро — пастух.
(обратно)9.
Мата — роща. Каньо — рукав реки. Сураль — проток.
(обратно)10.
Сейба — хлопчатное дерево. Копэй — южноамериканское растение.
(обратно)11.
Мачете — большой нож, тесак.
(обратно)12.
Моричаль — роща мориче, маврикиевых пальм.
(обратно)13.
Лига — мера длины, равная 5,5 км.
(обратно)14.
Корраль — загон для скота.
(обратно)15.
Байетон — род плаща или бурки из шерстяной ткани с большим ворсом.
(обратно)16.
Песо — колумбийская денежная единица.
(обратно)17.
Моррокота — золотая монета, равная по стоимости двадцати долларам.
(обратно)18.
Хоропо — местный танец.
(обратно)19.
Карибе — мелкая хищная рыбешка.
(обратно)20.
Багре — большая рыба без чешуи, около метра в длину.
(обратно)21.
Саман — тропическое хвойное дерево.
(обратно)22.
Сентаво — мелкая монета, сотая часть песо.
(обратно)23.
Мерей — тропический грушевидный плод.
(обратно)24.
Франко — по-испански откровенный.
(обратно)25.
Борраха — огуречная трава.
(обратно)26.
Каней — большая хижина без стен, с крышей из пальмовых листьев.
(обратно)27.
Корридо — песня, частушка.
(обратно)28.
Марака — выдолбленная тыква, наполненная камешками.
(обратно)29.
Гуарапо — спиртной напиток из сока сахарного тростника.
(обратно)30.
Мадрина — стадо прирученных волов, которым пользуются для укрощения диких быков.
(обратно)31.
Мано (сокращенное «эрмано» — брат) — обращение к мужчине.
(обратно)32.
Манго — тропическое фруктовое дерево.
(обратно)33.
Гуайюко — набедренная повязка.
(обратно)34.
Чича — алкогольный напиток из юкки.
(обратно)35.
Макана — палица.
(обратно)36.
Касабе — мука из клубней маниока или юкки; хлеб из этой муки.
(обратно)37.
Коросо — растительная «слоновая кость» — косточка плода одного из видов пальм.
(обратно)38.
Фотуто — деревянная флейта.
(обратно)39.
Качикамо — вид броненосца. Чигуире — вид крупного грызуна.
(обратно)40.
Паки — грызун.
(обратно)41.
Сирингаль — плантация каучуковых деревьев.
(обратно)42.
Каоба — красное дерево.
(обратно)43.
Соль — перуанская денежная единица.
(обратно)44.
Конто — крупная бразильская монета.
(обратно)45.
Румберо — проводник.
(обратно)46.
Фельпа — нагоняй, взбучка (исп.).
(обратно)47.
Хакаранда — палисандровое дерево.
(обратно)48.
Бачакеро — жилище бачаке, крупных муравьев.
(обратно)49.
Балата — один из видов каучуконосных деревьев.
(обратно)50.
Сьеста — послеобеденный отдых.
(обратно)51.
Кашаса — бразильская водка.
(обратно)52.
Тамбо — индейская хижина, построенная на высоких сваях.
(обратно)53.
Арроба — равна 11,5 кг.
(обратно)
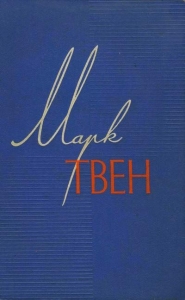

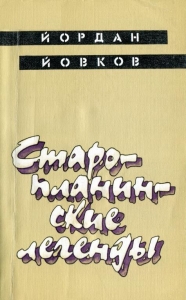
Комментарии к книге «Пучина», Хосе Эустасио Ривера
Всего 0 комментариев