Виктор Гюго Клод Гё
Семь-восемь лет тому назад в Париже жил человек по имени Клод Гё, бедный рабочий. При нем находилась женщина, его любовница, и ребенок от этой женщины. Я называю вещи их именами, предоставляя читателю делать нравоучительные выводы, по мере того как события сеют их на своем пути. Рабочий был человек способный, ловкий, смышленый, сильно обойденный воспитанием, но зато прекрасно одаренный от природы: он не умел читать, но умел думать.
Однажды зимой он оказался без работы. Не стало ни огня, ни хлеба в его мансарде. Мужчина, женщина и ребенок мерзли» и голодали. Мужчина совершил кражу. Не знаю, ни что он украл, ни у кого. Мне только известно, что последствием этой кражи были три дня хлеба и тепла для женщины и ребенка и пять лет тюрьмы для мужчины.
Отбывать наказание его отправили в центральный исправительный дом в Клерво. Клерво – бывшее аббатство, превращенное в тюрьму, это – келья, превращенная в арестантскую камеру, алтарь, превращенный в позорный столб. Когда у нас говорят о прогрессе, то вот как некоторые люди понимают и осуществляют его. Вот что они подразумевают под этим словом.
Продолжаем наш рассказ.
Когда Клода доставили туда, ему отвели камеру, где он должен был оставаться ночью, и мастерскую, где он должен был пребывать днем. Но порицаю я не мастерскую.
У Клода Гё, некогда честного рабочего, отныне вора, было строгое благообразное лицо: преждевременно изборожденный морщинами высокий лоб, черные волосы, в которых поблескивали серебряные нити, ласковые и выразительные глаза, глубоко сидящие под красиво изогнутыми бровями, тонкие ноздри, выдающийся вперед подбородок, презрительная складка губ. Красивый был человек. Сейчас вы узнаете, как с ним расправилось общество.
Речь его отличалась неторопливостью, движения – спокойствием, во всей фигуре чувствовалось что-то властное, заставлявшее ему покоряться, при этом – вдумчивый взгляд, скорее сосредоточенный, чем страдальческий. А между тем он много выстрадал.
В исправительном доме, куда заключили Клода, был смотритель мастерских, своего рода чиновник, какие обычно водятся в тюрьмах, совмещающий обязанности и тюремщика и торгаша, одновременно и заказчик для рабочего и угроза для арестанта, дающий в руки инструмент, а на ноги надевающий кандалы. Смотритель тюрьмы в Клерво представлял собой разновидность этой породы: он был человек крутой, деспотический, самодур, упивающийся своей властью, впрочем, временами славный малый, великодушный, даже весельчак, умеющий мило пошутить; скорее жестокий, чем непреклонный, не вступающий в рассуждения ни с кем, даже с самим собой; хороший отец, несомненно, и хороший муж, что есть обязанность, а не добродетель, – словом, не злой, а скорее дрянной. Он был из тех людей, что совершенно лишены отзывчивости и гибкости, что состоят из безжизненных частиц, не откликаются ни на какие мысли, ни на какие чувства, подвержены холодному гневу, влиянию мрачной ненависти, припадкам ярости без волнения, вспыхивают, не разгораясь, – способность нагрева у них ничтожна, и подчас кажется, что они сделаны из дерева: с одного конца горят, с другого остаются холодными. Главной, основной чертой характера этого человека была настойчивость. Он гордился своей настойчивостью и сравнивал себя с Наполеоном. Но это лишь обман зрения. Немало людей впадают в заблуждение, принимая на известном расстоянии настойчивость за сильную волю и простую свечку за звезду. Проявив ради какой-нибудь нелепой цели то, что он называл своей волей, этот человек с гордо поднятой головой шел напролом через все препятствия, пока не достигал этой нелепой цели. Упрямство без ума – это глупость, соединенная с тупостью и служащая ее дополнением. Это заводит далеко. Вообще, когда на нашу голову обрушивается катастрофа личного или общественного порядка и мы, по усеивающим землю обломкам, пытаемся исследовать причину, ее породившую, то неизменно приходим к убеждению, что она подготовлялась посредственным и упрямым человеком, самоуверенным и самовлюбленным. Немало на свете таких ничтожных и зловредных упрямцев, мнящих себя провидением.
Итак, вот что представлял собой смотритель мастерских центральной тюрьмы в Клерво. Вот из чего состояло огниво, которым общество изо дня в день ударяло по арестантам, чтобы высечь из них искры.
Искры, высекаемые подобным огнивом из подобных кремней, зачастую вызывают пожары.
Мы уже говорили, что как только Клод Гё был водворен в Клерво, его занумеровали и поставили на работу. Приглядевшись к нему, смотритель мастерских признал его дельным работником и неплохо с ним обращался. Однажды, будучи в хорошем расположении духа и заметив, что Клод очень грустит, – ибо этот человек постоянно думал о женщине, которую называл своей женой, – он, от нечего делать, в виде шутки, рассказал ему, что эта несчастная сделалась проституткой. Клод бесстрастным тоном спросил, что сталось с ребенком. Но это было неизвестно.
Спустя несколько месяцев Клод свыкся с тюремной обстановкой и, казалось, больше ни о чем не думал. Свойственная его натуре суровая ясность духа одержала верх.
Приблизительно к этому же времени Клод мало-помалу приобрел какое-то необычайное влияние на своих товарищей. Словно по некоему молчаливому уговору и по непонятной для всех, даже и для него самого, причине все эти люди обращались к нему за советами, слушались его, восхищались им, подражали ему, что есть наивысшая степень восхищения. И это была немалая слава – удостоиться покорности всех этих непокорных существ. Власть эта далась ему как бы сама собой. Причина ее коренилась в самом взгляде Клода. Человеческий взгляд – окошко, через которое видны мысли, толпящиеся в голове.
Поместите человека, которому свойственно мыслить, среди людей, которым это не свойственно, и через некоторый промежуток времени, в силу непреодолимого закона притяжения, все темные умы будут робко тянуться к этому сверкающему уму. Одни люди подобны железу, другие – магниту. Клод был магнитом.
Не прошло и трех месяцев, как Клод сделался душой, олицетворением закона и порядка в мастерских. Все стрелки вертелись по его циферблату. Временами он, наверно, сам спрашивал себя, король ли он или арестант? То был словно плененный папа в кругу своих кардиналов.
И в силу естественного противодействия, которое сказывается на всех ступенях человеческого общества, любимый арестантами, он был ненавистен тюремщикам. Так всегда и бывает. Популярность обычно сопровождается немилостью. Любовь рабов влечет за собой ненависть хозяев.
Клод Гё много ел. Это было особенностью его организма. Его желудок был устроен так, что дневной порции на двух человек ему одному едва хватало на день. Герцог Котадилья обладал примерно таким же аппетитом и сам над собою посмеивался. Но то, что он является поводом для забавы у герцога, испанского гранда, владельца 500 000 овец, для рабочего – бремя, для арестанта – бедствие.
Клод Гё на свободе, у себя в мансарде, работая с утра до ночи, зарабатывал свои четыре фунта хлеба и съедал их. Клод Гё в тюрьме, работая с утра до ночи, неизменно получал за свой труд полтора фунта хлеба и четыре унции мяса. Тюремный паек – вещь неумолимая. И Клод в тюрьме Клерво был постоянно голоден.
Он был голоден, вот и все. Он об этом не говорил. И это также было в его характере.
Однажды Клод, едва проглотив свою скудную порцию, снова принялся за работу, в надежде заглушить этим голод. Остальные заключенные продолжали есть, оживленно разговаривая между собою. В это время к нему подошел болезненного вида молодой арестант, белокурый и бледный. Он держал в руке свою обеденную порцию, к которой еще не прикоснулся, и нож. Он стоял возле Клода, и видно было, что он хочет ему что-то сказать, но не решается. Молодой арестант, его мясо и хлеб раздражали Клода.
– Чего тебе надобно? – резко спросил Клод.
– Чтобы ты оказал мне услугу, – робко ответил молодой арестант.
– Что такое? – переспросил Клод.
– Чтобы ты помог мне это съесть. Мне этого слишком много.
В гордых глазах Клода блеснула слеза. Он взял нож, разрезал порцию на две равные части, одну половину взял себе и принялся есть.
– Спасибо, – промолвил молодой арестант. – Хочешь, мы каждый день будем с тобой так делиться?
– Как тебя зовут? – спросил Клод Гё.
– Альбен.
– За что ты сюда попал?
– За кражу.
– Я тоже, – сказал Клод.
Действительно, с тех пор они каждый день делили порцию Альбена пополам. Клоду было тридцать шесть лет, но временами ему можно было дать пятьдесят, до того невеселы были мысли, одолевавшие его. Альбену было двадцать пять, но на вид ему можно было дать не больше семнадцати, столько невинности было во взгляде этого вора. Между этими двумя арестантами завязалась тесная дружба, напоминавшая скорее любовь отца к сыну, нежели брата к брату. Альбен был еще почти ребенком, Клод был уже почти стариком.
Они работали в одной и той же мастерской, спали под одной и той же кровлей, гуляли на одном и том же тюремном дворе, ели один и тот же хлеб. Каждый из обоих друзей составлял целый мир для другого. И они, по-видимому, были счастливы.
Мы уже упоминали о смотрителе мастерских. Этот человек, ненавидимый заключенными, зачастую вынужден был прибегать к авторитету Клода, которого они любили. Не раз, когда требовалось пресечь уже готовый разгореться бунт или скандал, неузаконенный авторитет Клода поддерживал официальный авторитет смотрителя. И действительно, когда нужно было сдержать арестантов, десять слов Клода заменяли десяток жандармов. Клоду не раз приходилось оказывать подобного рода услугу смотрителю, за что тот всей душой его и возненавидел. Его снедала зависть к этому вору. Он затаил в душе смертельную ненависть к Клоду, ненависть властелина по праву к властелину на деле, власти преходящей к власти духовной.
И это самый опасный вид ненависти.
Но Клод сильно привязался к Альбену и не думал о смотрителе.
Однажды утром, когда тюремные сторожа разводили арестантов попарно из камер по мастерским, один из надзирателей подозвал Альбена, шедшего рядом с Клодом, сказав, что его требует к себе смотритель.
– Чего ему от тебя нужно? – спросил Клод.
– Не знаю, – ответил Альбен. Надзиратель увел Альбена.
Прошло утро, Альбен не возвращался в мастерскую. Когда пришло время обеда, Клод решил, что Альбен где-нибудь на тюремном дворе. Но Альбена там не было. Когда заключенные разошлись по мастерским, Альбена не оказалось и в мастерской. Так прошел день. Вечером, когда заключенных развели, Клод искал глазами Альбена, но не нашел его. Видно было, что он очень страдает в эту минуту, так как он обратился к тюремному надзирателю, чего никогда раньше не бывало.
– Альбен заболел, что ли?
– Нет, – ответил надзиратель:
– Почему же он не появлялся целый день?
– А-а! – небрежно произнес надзиратель, – его перевели в другое отделение.
Присутствовавшие при этом разговоре рассказывали впоследствии, что рука Клода, державшая свечу, слегка задрожала, когда он услышал ответ тюремщика; но он спокойно спросил:
– Это кто так распорядился? Надзиратель ответил:
– Господин Н.
Смотрителя мастерских, начальника, обычно называли «г-н Н.».
Следующий день прошел так же, как и предыдущий, без Альбена.
Вечером, по окончании работ, смотритель г-н Н. совершал свой обычный обход мастерских. Завидев его еще издали, Клод снял с головы свой грубый шерстяной колпак, застегнул на все пуговицы серую куртку, печальную ливрею Клерво, – ибо в тюрьмах известно, что прилично застегнутой курткой можно снискать благоволение начальства, – и, стоя у станка с колпаком в руке, ожидал приближения смотрителя. Смотритель подошел.
– Господин начальник, – обратился к нему Клод. Смотритель остановился, наполовину обернувшись.
– Господин начальник, – продолжал Клод, – это правда, что Альбена перевели в другое отделение?
– Да, – ответил смотритель.
– Господин начальник, – не унимался Клод, – мне нужен Альбен, чтобы жить.
И тут же прибавил:
– Вам известно, что мне не хватает тюремного пайка и что Альбен отдавал мне половину своего хлеба?
– Это его дело, – сказал смотритель.
– Господин начальник, нельзя ли перевести Альбена обратно в мое отделение?
– Никак нельзя. Есть постановление.
– Чье?
– Мое.
– Господин начальник, для меня это – дело жизни и смерти, и все зависит от вас.
– Я никогда не меняю своих решений.
– Господин начальник, разве я чем-нибудь провинился перед вами?
– Нет.
– Почему же, – спросил Клод, – вы разлучаете меня с Альбеном?
– Потому, – ответил смотритель.
Дав это объяснение, смотритель прошел мимо.
Клод опустил голову и умолк. Бедный лев в клетке, которого разлучили с его собачкой!
Мы вынуждены признать, что горе, причиненное Клоду этой разлукой, ничуть не уменьшило прожорливости нашего арестанта, в некотором роде болезненной. Впрочем, с виду все в нем оставалось как будто по-прежнему. Он не говорил об Альбене ни с кем из товарищей. Он одиноко расхаживал по двору в часы прогулок и мучился голодом. Только и всего.
Однако те, кто его хорошо знал, замечали, что лицо его с каждым днем мрачнеет и приобретает выражение, не предвещающее ничего доброго. Вместе с тем он был еще более кроток, чем обычно.
Несколько заключенных предложили делиться с ним своим пайком, но он с улыбкой отказался от этого.
С тех пор как он услышал ответ смотрителя, он каждый вечер стал проделывать нелепость, казавшуюся весьма удивительной со стороны такого степенного человека. В ту минуту, когда смотритель совершая в определенный час обычный ежедневный обход мастерской, проходил мимо его станка, Клод поднимал голову и пристально на него глядел, затем голосом, в котором слышна была одновременно и мольба и угроза, произносил следующие три слова: «Как с Альбеном?» Смотритель делал вид, что не слышит, или же пожимал плечами и проходил мимо.
Однако напрасно пожимал он плечами, так как всем свидетелям этих непонятных выходок было ясно, что Клод что-то задумал. Вся тюрьма с тревогой ожидала исхода этой схватки между упрямством и решимостью.
Впоследствии выяснилось, что Клод как-то раз сказал смотрителю:
– Послушайте, господин начальник, верните мне моего товарища. Поверьте, мне вы хорошо сделаете. Запомните, что я вам это говорю.
Однажды в воскресенье, когда он находился во дворе и в продолжение нескольких часов все в одной и той же позе, обхватив обеими руками голову и опершись локтями о колени, неподвижно сидел на камне, к нему подошел заключенный Файет и со смехом крикнул:
– Какого черта ты тут торчишь, Клод?
Клод медленно поднял к нему строгое лицо и ответил:
– Я сужу одного человека.
Наконец вечером 25 октября 1831 года, когда смотритель обходил мастерские, Клод с треском раздавил стеклышко от часов, найденное им утром в коридоре. Смотритель спросил, что это за шум.
– Да ничего, – ответил Клод, – это я. Господин начальник, верните мне моего товарища.
– Никак нельзя, – ответил смотритель.
– А между тем – надо, – тихим и решительным голосом произнес Клод и, глядя в упор на смотрителя, добавил: – Подумайте. Сегодня у нас двадцать пятое октября. Даю вам сроку до четвертого ноября.
Один из надзирателей заметил смотрителю, что Клод ему угрожает и что его бы следовало посадить за это в карцер.
– Не нужно карцера, – с презрительной усмешкой возразил надзиратель, – с этим народом полагается быть добрым.
На следующий день, когда Клод одиноко и задумчиво прохаживался по двору, в то время как остальные заключенные дурачились на залитой солнцем лужайке на другом конце двора, к нему подошел заключенный Перно.
– О чем ты задумался, Клод? У тебя невеселый вид.
– Я боюсь, – ответил Клод, – как бы с нашим добрым господином Н. скоро не случилось какого-нибудь несчастия.
От 25 октября до 4 ноября целых девять дней. Ни одного из них не пропустил Клод, чтобы со всей серьезностью не напомнить смотрителю о своем состоянии, все ухудшавшемся с тех пор, как исчез Альбен. Смотритель, которому это надоело, посадил его на сутки в. карцер, потому что его просьба чересчур смахивала на требование. Вот все, чего добился Клод.
Наступило 4 ноября. В это утро Клод проснулся с просветленным лицом, какого у него не замечали С той поры, как пресловутое решение г-на Н. разлучило его с другом. Проснувшись, он стал рыться в некрашенном деревянном сундучке, стоявшем в догах его постели; там были сложены его пожитки. Он вынул оттуда пару женских закройных ножниц. Эти ножницы и растрепанный томик «Эмиля» были единственными вещами, оставшимися у него от женщины, которую он любил, от матери его ребенка, от его былой счастливой семейной жизни. Две совершенно ненужных Клоду вещи – ножницы, которые могли служить только женщине, а книга – только грамотному. Клод не умел ни шить, ни читать.
Проходя по выбеленной мелом оскверненной галерее старинного монастыря, которая зимой служила местом прогулок, он натолкнулся на арестанта Феррари, внимательно разглядывавшего толстые оконные решетки. У Клода в руках были маленькие ножницы. Показав их Феррари, он сказал:
– Сегодня вечером я этими ножницами перережу решетки. Феррари недоверчиво рассмеялся, а за ним рассмеялся и Клод.
В это утро он работал усерднее, чем когда-либо. Никогда он не работал так быстро и так хорошо. Казалось, что ему очень важно окончить до полудня соломенную шляпу, за которую ему накануне уплатил вперед некий почтенный буржуа из Труа, г-н Брессье.
Незадолго до полудня он под каким-то предлогом отправился в столярную мастерскую, находившуюся в нижнем этаже, под мастерской, где работал он сам. Клода там любили, как, впрочем, и повсюду, но он редко туда заходил. Сразу же раздались восклицания:
– Смотрите, Клод!
Его обступили. Все обрадовались ему. Клод быстрым взглядом окинул всю мастерскую. Никого из надзирателей там не было.
– Кто мне даст топор? – сказал он.
– Для чего? – спросили его.
Он ответил:
– Чтобы сегодня вечером убить смотрителя мастерских. Ему показали несколько топоров на выбор. Он взял самый маленький, очень острый, запрятал его в штаны и вышел. В мастерской было двадцать семь арестантов. Он не просил их сохранить тайну. Но все ее сохранили.
Они даже и между собой не говорили об этом.
Каждый со своей стороны ждал, что произойдет. Дело было страшное, ясное и правое. Не предвиделось никаких препятствий. Никто не мог ни отсоветовать Клоду, ни донести на него.
Час спустя, встретив шестнадцатилетнего арестантика, бесцельно слонявшегося по галерее, он посоветовал ему научиться грамоте. Тут к Клоду подошел заключенный Файет и спросил, что он такое запрятал себе в штаны. Клод ответил:
– Это топор, чтобы сегодня вечером убить господина Н. И тут же спросил:
– А разве заметно?
– Немножко, – ответил Файет.
Остальная часть дня прошла, как обычно. В семь часов вечера заключенных развели и заперли – каждую партию в полагавшуюся ей мастерскую; надзиратели ушли, как это обычно водилось, с тем чтобы снова вернуться после обхода смотрителя.
Таким образом Клод Гё был заперт в мастерской вместе со своими товарищами по работе.
Тогда в этой мастерской разыгралась необычайная сцена, не чуждая ни величия, ни ужаса, единственная в своем роде, такая, о которой не прочтешь ни в какой книге.
В мастерской, как позднее было установлено судебным следствием, находилось восемьдесят два вора, считая и Клода.
Когда надзиратели удалились, Клод взобрался на лавку и объявил всем присутствующим, что хочет им что-то сказать. Наступила тишина.
Клод, повысив голос, заговорил:
– Все вы знаете, что Альбен был мне братом. Мне не хватало здешней еды. Даже если бы я тратил все гроши, что я здесь зарабатываю, и то мне было бы мало. Альбен делил со мной свой паек. Я полюбил его сперва за то, что он меня кормил, потом за то, что он любил меня. Господин Н. нас разлучил. Ему совершенно не мешало, что мы были вместе. Но он злой человек, которому доставляет удовольствие мучить людей. Я его просил, чтобы он вернул Альбена. Вы сами видели, он не захотел. Я сказал, что буду ждать возвращения Альбена до четвертого ноября. Он посадил меня в карцер за эти слова. А я за это время его судил и приговорил к смертной казни. Сегодня у нас четвертое ноября. Через час он явится на обход. Предупреждаю вас, что я его убью. Что вы на это скажете?
Все молчали.
Клод опять заговорил. Говорил он, рассказывают, с чрезвычайным красноречием, кстати сказать, ему присущим. Он отлично сознает, заявил он, что совершит преступление, но не считает себя неправым. Взывая к совести восьмидесяти одного вора, его слушавших, он продолжал:
что он доведен до последней крайности;
что необходимость самому восстановить справедливость – это тупик, куда человек иногда попадает помимо своей воли;
что, конечно, он не может лишить смотрителя жизни, не заплатив за нее своей собственной; но он находит правильным отдать свою жизнь за справедливое дело;
что он много об этом, и только об одном этом, думал в продолжение целых двух месяцев;
что, как он сам уверен, им руководит не чувство злобы, но если бы это было так, то он умоляет, чтобы ему об этом сказали;
что о своих побуждениях он чистосердечно рассказал справедливым людям, слушающим его;
что он собирается убить господина Н., но если у кого-нибудь есть замечания на этот счет, он готов их выслушать.
Поднял голос только один человек, сказавший, что, прежде чем убить смотрителя, пусть Клод попытается в последний раз поговорить с ним и смягчить его.
– Правильно, – сказал Клод, – я это сделаю.
На больших часах пробило восемь ударов. Смотритель должен был прийти в девять часов.
Когда этот своеобразный кассационный суд как бы утвердил вынесенный приговор, Клод снова обрел свое душевное спокойствие. Он выложил на стол все, что у него было из белья и одежды, жалкое имущество арестанта, и, вызывая одного за другим тех, кого больше всего любил после Альбена, все им роздал. Себе он оставил только маленькие ножницы.
Затем он со всеми расцеловался; некоторые плакали, Клод улыбался им.
В этот последний час были минуты, когда он говорил так спокойно и даже весело, что многие из его товарищей, как они потом заявляли, надеялись, что он откажется от своего решения. Он даже шутки ради погасил, дунув носом, одну из немногих свечей, скудно освещавших мастерскую, ибо с детства усвоил дурные привычки, чаще, чем следует, нарушавшие его природную степенность. Порой в нем все же чувствовался парижский уличный мальчишка, черты которого проступали, несмотря ни на что.
Он заметил молоденького арестанта, который не сводя глаз смотрел на него, страшно бледный, и дрожал, по-видимому, в ожидании того, что ему предстояло увидеть.
– Полно, парень, крепись, – ласково подбодрил его Клод. – Вмиг будет сделано.
Раздав все свои пожитки, со всеми попрощавшись, пожав всем руки, он пресек тревожные разговоры, возникавшие то Тут, то там в темных углах мастерской, и велел снова приняться за работу. Все молча повиновались.
Мастерская, где это происходило, представляла собой продолговатое помещение, удлиненный параллелограмм с окнами по обеим широким сторонам и двумя дверьми, одна против другой, в противоположных его концах. Станки были расставлены по обеим сторонам помещения, возле окон, а под прямым углом к стене стояли скамьи; свободное пространство между двумя рядами станков образовывало нечто вроде длинной дорожки, тянущейся через всю мастерскую и ведущей от одной двери к другой. По этой-то дорожке, довольно узкой, и должен был пройти смотритель, совершая вечерний обход. Он входил в дверь с южной стороны и выходил в северную, бросив беглый взгляд на работавших справа и слева арестантов. Обыкновенно он пробегал это расстояние довольно быстро, не останавливаясь.
Клод снова вернулся на свое место и принялся за работу, подобно тому как Жак Клеман вернулся бы к молитве.
Все ждали. Близился срок. Вдруг раздался звонок колокола. Клод сказал:
– Без четверти девять.
Он встал, тяжело ступая прошел до первого станка слева, у самой двери, и облокотился на угол этого станка. Лицо его выражало полное спокойствие и благодушие.
Пробило девять часов. Дверь отворилась. Вошел смотритель.
В мастерской воцарилась мертвая тишина.
Смотритель, по обыкновению, был один.
Он вошел, как всегда, – веселый, самодовольный и непреклонный, не обратив внимания на Клода, который стоял налево от двери, опустив руку в карман штанов; он торопливым шагом прошел мимо первых станков, покачивая головой и что-то бормоча себе под нос, равнодушно поглядывая то в одну, то в другую сторону и совершенно не замечая, что в глазах у всех окружающих застыло отражение какой-то страшной мысли.
Вдруг он резко обернулся, с изумлением услышав позади себя шаги.
Это был Клод, уже несколько мгновений молча следовавший за ним.
– Ты что здесь делаешь? – спросил смотритель. – Почему ты не на своем месте?
Ведь человек здесь – не человек, он собака, ему говорят «ты». Клод Гё почтительно ответил:
– Мне бы нужно с вами поговорить, господин начальник.
– О чем?
– Об Альбене.
– Опять! – сказал смотритель.
– По-прежнему! – подтвердил Клод.
– Ах, вот что! – отозвался смотритель, не останавливаясь. – Так, значит, одних суток карцера тебе мало?
Клод отвечал, идя за ним следом:
– Господин начальник, верните мне моего товарища.
– Никак нельзя.
– Господин начальник, – продолжал Клод голосом, который разжалобил бы самого дьявола, – умоляю вас, переведите Альбена в мое отделение, вы увидите, как я буду работать. Ведь вы на свободе, вам-то это все равно; вы себе не представляете, что такое друг; а у меня ведь только и есть, что четыре тюремных стены. Вы можете ходить, куда вам угодно, а у меня, кроме Альбена, никого нет. Верните мне его. Альбен меня кормил, вы это знаете. Вам стоит только сказать «да». Чем это вам помещает, если в каком-то помещении будет человек по имени Клод Гё, а другой – по имени Альбен? Только и всего. Господин начальник, добрый господин начальник, молю вас, во имя господа бога!
Клод наверно никогда до сих пор столько не говорил тюремщику. Утомленный таким усилием, он выжидательно замолк. Смотритель нетерпеливо ответил:
– Нельзя. Сказано – и все. Смотри, чтоб я больше об этом не слышал. Ты мне надоел.
И так как он торопился, то зашагал быстрее. За ним и Клод. Переговариваясь на ходу, они оба очутились у выходной двери; восемьдесят воров, затаив дыхание, не сводили с них глаз и слушали.
Клод осторожно коснулся руки смотрителя.
– Пусть я хоть узнаю, за что я приговорен к смерти. Скажите, почему вы разлучили меня с Альбеном?
– Я уже тебе говорил, – ответил смотритель. – Потому.
И, повернувшись спиной к Клоду, он протянул было руку, чтобы открыть дверь.
Услышав ответ смотрителя, Клод чуть подался назад. Восемьдесят человек, окаменевших на месте, видели, как он вынул из кармана штанов правую руку, в которой был топор. Рука эта поднялась, и раньше чем смотритель успел крикнуть, три удара топором, – страшно сказать, все три пришедшиеся по одному и тому же месту, – раскроили ему череп. В тот миг, когда он падал, четвертый удар пересек ему лицо. А так как ярость, вырвавшаяся на волю, не сразу утихнет, Клод Гё пятым, уже совершенно ненужным ударом разрубил ему правое бедро. Смотритель был мертв.
Тогда Клод швырнул топор и вскричал; – Теперь очередь за вторым! – Второй – это был он сам. Все видели, как он достал из куртки ножницы своей «жены» и, раньше чем кому-нибудь пришло в голову его удержать, вонзил их себе в грудь. Но лезвие было короткое, а грудь глубокая. Он долго терзал ее, все вновь и вновь вонзая лезвие и восклицая: – Проклятое сердце, что же, я так тебя и не найду? – пока, наконец, обливаясь кровью, не упал без сознания на труп.
Кто из них был жертва?
Когда Клод пришел в себя, он лежал на постели весь в повязках и бинтах, и о нем заботились. У его изголовья дежурили сердобольные сестры милосердия и, кроме того, еще судебный следователь, который вел следствие, весьма участливо его спросивший: – Как вы себя чувствуете?
Он потерял много крови, однако ножницы, которыми он с трогательным суеверием надеялся лишить себя жизни, не выполнили своего назначения. Ни один из ударов, которыми он поразил себя, не оказался смертельным. Смертельными для него были только те раны, которые он нанес смотрителю.
Начался допрос. Его спросили, он ли убил смотрителя мастерских при тюрьме Клерво. Он ответил: Да. Его спросили, почему. Он ответил: Потому.
Но спустя несколько времени его раны воспалились, и у него обнаружилась злокачественная лихорадка, которая чуть не свела его в могилу.
Ноябрь, декабрь, январь и февраль прошли в заботах о нем и приготовлениях; вокруг Клода хлопотали доктора и судьи; одни лечили его раны, другие воздвигали ему эшафот.
Но ближе к делу. 16 марта 1832 года он, в полном здравии, предстал перед судом присяжных города Труа. Все, кого только мог вместить зал, собрались здесь.
У Клода был вполне приличный вид на суде. Чисто выбритый, с обнаженной головой, он как узник из Клерво сидел в мрачном арестантском одеянии, сшитом из кусков материи двух оттенков серого цвета.
Королевский прокурор согнал в зал всю пехоту департамента, дабы, как он выразился, «сдерживать во время судебного заседания всю толпу злодеев, которые должны выступить по этому делу как свидетели».
По открытии судебного заседания представилось весьма странное затруднение: ни один из свидетелей происшествия 4 ноября не пожелал показывать против Клода. Председатель суда грозил применить к ним особые меры. Но все было тщетно. Тогда Клод велел им давать показания. У всех сразу развязались языки. Они рассказали о том, что видели.
Клод с большим вниманием слушал их. Когда кто-нибудь из свидетелей по забывчивости или же из любви к Клоду умалчивал о подробностях, отягощавших вину обвиняемого, Клод тут же их восстанавливал.
Из ряда свидетельских показаний перед судом развернулась подробная картина событий, уже описанных нами.
Был момент, когда женщины, присутствовавшие на суде, плакали. Пристав вызвал заключенного Альбена. Пришла его очередь давать показания. Он вошел, еле держась на ногах: рыдания душили его. Стража оказалась бессильна помешать ему броситься в объятия Клода.
Клод обхватил его и, с улыбкой обратившись к королевскому прокурору, сказал:
– Вот злодей, который делится с голодными своим хлебом. – И поцеловал Альбену руку.
Допросив всех свидетелей, королевский прокурор поднялся с места и начал в следующих выражениях:
– Господа присяжные, если общественное возмездие не постигнет столь великих преступников, то самые основы общества будут в корне поколеблены…
После этой замечательной речи выступил защитник Клода. Защита и обвинение, каждая в свою очередь, проделали все, что им полагается на этом своеобразном ристалище, именуемом судебным процессом.
Клод, однако, решил, что не все было сказано. Он тоже поднялся. Он говорил так, что вверг в полное изумление одного весьма умного человека, присутствовавшего на процессе.
Этот бедный рабочий, казалось, больше напоминал оратора, чем убийцу. Он говорил стоя, голосом проникновенным и уверенным, с открытым, ясным и решительным взглядом, сопровождая свои слова все время одним и тем же, но полным достоинства жестом. Он рассказал все, как было, просто, обстоятельно, не преувеличивая и не преуменьшая, полностью признал свою вину, бестрепетно взглянув на статью 296 и подставив под нее свою голову. Красноречие его поднималось порой до подлинных вершин, вызывая волнение среди публики, и некоторые из его слов передавались из уст в уста.
Когда по залу проносился шепот, Клод переводил дыхание, бросая горделивый взгляд на присутствующих.
В остальные моменты этот человек, не умевший читать, был мягок, вежлив, безупречен в своих выражениях, – не хуже образованного; порою же как-то особенно скромен, сдержан, сосредоточен и все более и более углублялся в страстные прения сторон, сохраняя все ту же незлобивость по отношению к судьям.
Один только раз он не смог побороть приступа гнева. Королевский прокурор в своей речи, вступление к которой мы здесь привели, установил, что Клод убил смотрителя, не оскорбившего его действием и не применившего насилия, иначе говоря, не будучи на это вызванным.
– Как! – вскричал Клод. – Разве он не вызвал меня на это? Да, правильно, теперь-то я вас понял. Если пьяный ударил меня кулаком, я его убиваю, – я был вызван; вы находите, что я заслуживаю снисхождения, и посылаете меня на каторгу. Но вот человек, который не пьян и находится в полном уме и здравой памяти, целых четыре года терзает меня, четыре года унижает меня, каждый день, каждый час, каждую минуту колет меня булавками, и всякий раз там, где не ожидаешь, и так целых четыре года. У меня была жена, ради которой я совершил кражу, и он меня изводит моей женой; у меня был ребенок, ради которого я совершил кражу, и он изводит меня моим ребенком; мне не хватает хлеба, друг мне его дает, он отнимает у меня и друга и хлеб. Я прошу, чтобы он вернул мне друга, он меня сажает в карцер. Я ему, полицейской собаке, говорю «вы», он мне говорит «ты». Я ему говорю, что я страдаю, он отвечает, что я ему надоел. Что же, по-вашему, я должен был сделать? Я его убил. Ладно, пусть я чудовище, я убил этого человека без всякого повода с его стороны, вы мне отрубите голову. Что ж, пусть будет по-вашему.
Речь вдохновенная, на мой взгляд, неожиданно показавшая, что над системой понятий о вызове физического свойства, на которых основана плохо соразмеренная шкала смягчающих обстоятельств, возникает еще понятие вызова морального свойства, позабытое законом.
После прений председатель произнес заключительную речь, беспристрастную и блистательную. Сводилась она к следующему: дурная жизнь, сущее исчадие ада; сперва Клод Гё вступил в незаконное сожительство с публичной женщиной, потом совершил кражу, потом убил. И все это было верно.
Перед тем как присяжные удалились на совещание, председательствующий спросил обвиняемого, не имеет ли он каких-либо замечаний по поводу поставленных вопросов.
– Почти что и нет, – ответил Клод. – Или вот что. Я вор, я убийца; я украл, я убил. Но почему я украл? Почему я убил? Поставьте себе эти два вопроса рядом с другими, господа присяжные.
После пятнадцатиминутного совещания решением двенадцати жителей Шампани, именовавшихся господа присяжные, Клод Гё был приговорен к смертной казни.
Несомненно, некоторые из присяжных еще с самого начала обратили внимание на то, что обвиняемого зовут Гё, и это сразу же произвело на них дурное впечатление.
Когда Клоду прочитали приговор, он ограничился тем, что сказал:
– Пусть так. Но почему этот человек украл? Почему этот человек убил? Вот на эти-то два вопроса они и не ответили.
Вернувшись в тюрьму, он поужинал почти весело и сказал:
– Тридцать шесть лет насмарку!
Он не хотел подавать кассацию. Сестра милосердия, которая за ним ухаживала, со слезами на глазах пришла его умолять, чтобы он это сделал. Из чувства признательности к ней он подал прошение о помиловании. По-видимому, он откладывал это до последней минуты, ибо трехдневный срок, полагающийся по закону, истек за несколько минут до того, как он расписался на своем прошении.
Девушка в порыве благодарности дала ему пять франков. Он взял деньги и поблагодарил ее.
Пока его просьба о помиловании разбиралась в кассационном суде, арестанты в тюрьме Труа предлагали устроить ему побег, готовые все, как один, принять в этом участие. Он отказался.
Заключенные через отдушину бросали ему в камеру то гвоздь, то кусок проволоки, то ручку от ведра. Каждого из этих предметов в руках такого умелого человека, как Клод, было достаточно, чтобы перепилить решетку. Клод отдал тюремному сторожу гвоздь, проволоку и ручку от ведра.
8 июня 1832 года, ровно через семь месяцев и четыре дня после убийства, настал час расплаты, pede claudo, как мы видим. В этот день, в семь часов утра, в камеру к Клоду вошел секретарь суда и объявил, что ему остался один час жизни.
Его кассационная жалоба была отклонена.
– Вот как, – равнодушно заметил Клод, – я крепко спал эту ночь, а не знал, что следующую буду спать еще крепче.
Говорят, что слова людей, сильных духом, в предсмертный час приобретают особое величие.
Явился священник, а за ним – палач. Клод был полон смирения со священником, кроток с палачом. Он беспрекословно отдавал им свою душу и свое тело.
Он сохранил полное присутствие духа. Когда ему брили голову, кто-то в углу камеры заговорил о холере, угрожавшей городу Труа.
– Что до меня, – с улыбкой произнес Клод, – мне уж холера не страшна.
Он с огромным вниманием слушал священника, виня себя во многом и искренно сожалея, что не получил религиозного воспитания.
По его просьбе ему вернули ножницы, которыми он себя поранил. В них недоставало одного конца, который он обломал о свою грудь. Он попросил тюремщика передать от его имени эти ножницы Альбену. Он сказал также, что желал бы к своему дару прибавить еще порцию хлеба, которая ему полагалась на этот день.
Тех, кто ему связывал руки, он попросил вложить в его правую ладонь монету в пять франков, подаренную ему сестрой милосердия, – единственную его собственность в этот последний час.
В три четверти восьмого он вышел из тюрьмы в сопровождении печального кортежа, который сопутствует приговоренному к смерти. Он шел пешком, бледный, устремив глаза на распятие, которое держал священник, но шаг его был тверд.
Казнь умышленно назначили в базарный день, чтобы на пути приговоренного было как можно больше глаз, ибо во Франции существуют полудикие селенья, где общество, убивая человека, еще похваляется этим.
Торжественной поступью, не сводя глаз с распятия, взошел он на эшафот. Он захотел обнять священника, а потом – палача, благодаря одного, прощая другому. Палач, как рассказывают, слегка его отстранил. Когда подручный палача привязывал его к гнусной машине, он знаком попросил священника взять зажатую в его правой руке монету, прибавив:
– В пользу бедных.
Но как раз в эту минуту било восемь часов; звук этот заглушил его голос, и исповедник сказал, что не расслышал. Дождавшись промежутка между двумя ударами, Клод тихо повторил:
– В пользу бедных.
Не успел пробить восьмой удар, как эта благородная и умная голова скатилась с плеч.
Замечательны плоды этих публичных казней! В тот же самый день, когда орудие убийства, с которого еще не была смыта кровь, стояло на площади, люди на рынке взбунтовались из-за каких-то пошлин и чуть не убили чиновника городского самоуправления. И кроткий же народ воспитывают подобные законы!
Мы сочли своим долгом подробно рассказать историю Клода Гё, потому что каждый из разделов этой истории мог бы послужить названием главы в книге, которая бы разрешила великую проблему народа в XIX веке.
В этой знаменательной жизни можно проследить два основных периода: до падения и после падения, и в связи с этими двумя периодами встают два вопроса: вопрос о воспитании в вопрос о наказуемости, а между этими двумя вопросами вмещается вопрос об обществе в его целом.
Этот человек, несомненно, родился с хорошими задатками, был приспособлен к жизни, одарен. Чего же ему не хватало? Подумайте.
В этом-то и заключается великая проблема соотношений, разрешение которой, до сих пор не найденное, должно привести ко всеобщему равновесию: пусть общество всегда делает для личности столько же, сколько для нее сделала природа.
Возьмите Клода Гё. Бесспорно – здоровый мозг, здоровое сердце. Но судьба бросает его в столь неблагоустроенное общество, что оп становится вором. Общество бросает его в столь неблагоустроенную тюрьму, что он становится убийцей.
Кто истинный виновник этого?
Он?
Или же мы?
Вопросы суровые, мучительные, требующие от всех нас напряженного размышления, неотвязно одолевающие всех нас без исключения; рано или поздно они станут нам поперек пути, неминуемо заставят встретиться с ними лицом к лицу и выяснить, К чему они нас приводят.
Пишущий эти строки сейчас попытается, по мере сил своих, объяснить, как он их понимает.
Когда сталкиваешься с подобного рода явлениями, когда думаешь, как неотвязно они нас осаждают, то задаешь себе вопрос: о чем же думают наши правители, если они не думают об этом?
Палата депутатов из года в год поглощена серьезными делами. Разумеется, крайне важное дело – сократить синекуры, оздоровить бюджет; крайне важное дело – издавать законы, в силу которых я, наряженный в солдатскую форму, ревностно должен нести караул у двери графа Лобау, которого я не знаю и знать не желаю, или же в силу которых я вынужден гарцевать по манежу Мариньи, к великому удовольствию моего бакалейщика, который поставлен надо мной в начальники[1].
Важное дело, господа министры и депутаты, без устали переливать из пустого в порожнее и без конца перебирать в бесплодных спорах все дела и мысли этой страны; существенно, например, посадить на скамью подсудимых, шумливо и без толку допрашивая и пытая его, искусство XIX века, этого обвиняемого, отягощенного страшными преступлениями, который не удостаивает вас ответом – и правильно поступает; полезно, господа правители и законодатели, проводить время в привычных разглагольствованиях, заставляющих школьных учителей предместья недоуменно пожимать плечами; небесполезно заявлять, что современная драма породила кровосмешение, супружескую измену, отцеубийство, детоубийство и отравление, доказывая этим свое незнакомство с Федрой, Иокастой, Эдипом, Медеей и Родогюной; необходимо, чтобы политические ораторы этой страны три дня подряд пререкались неизвестно с кем по поводу ассигнований на представления трагедий Корнеля или Расина и, пользуясь этим литературным предлогом, наперебой швырялись грубейшими ошибками во французском языке, доводя друг друга чуть ли не до бесчувствия.
Все это весьма важно; однако мы думаем, что существуют вещи еще более важные.
Что бы сказала Палата депутатов, если бы в самый разгар этих пустых пререканий, в итоге которых или министерство хватает за шиворот оппозицию, или оппозиция – министерство, со скамьи депутатов или с трибуны для публики – не все ли равно? – вдруг кто-нибудь поднялся бы и произнес суровые слова:
– Замолчите вы, говорящие здесь, кто бы вы ни были, замолчите! Вы воображаете, будто затрагиваете сущность вопроса, – вы его не затрагиваете! Сущность его – вот в чем: правосудие около года тому назад в Памье небольшим ножом искромсало человека; в Дижоне оно совсем недавно обезглавило женщину; в Париже, за заставой Сен-Жак, оно производит небывалые казни.
Вот в чем существо дела. Займитесь этим.
А уж потом вы будете спорить, быть ли пуговицам на мундирах национальной гвардии желтого или белого цвета и следует ли предпочесть слово уверенность слову убежденность.
Депутаты центра, депутаты крайних скамей! Народ страдает. Это бесспорно.
Народ терпит голод, народ терпит холод. Нужда толкает его на преступления или порок, в зависимости от пола. Сжальтесь над народом, у которого каторга отнимает сыновей, а публичные дома – дочерей. Слишком велико у нас число каторжников, слишком велико число проституток.
Что доказывают эти две язвы?
Что в крови социального тела гнездится некая болезнь.
Вот вы все собрались на консилиум у постели больного: займитесь болезнью.
Вы ее плохо лечите, эту болезнь. Изучите ее получше. Законы, издаваемые вами, если только вы их издаете, – это лишь паллиативы и уловки. Одна половина ваших законов – рутина, другая – эксперимент.
Клеймо преступника, поражавшее гангреной самую рану, было бессмысленным наказанием, на всю жизнь связывавшим преступника с преступлением, превращавшим их в двух друзей, вечных спутников, двух неразлучных товарищей.
Каторга – это нелепый вытяжной пластырь, возвращающий в организм всю дурную кровь, которую он высасывает, причем возвращает он ее еще более испорченной. Смертная казнь – варварская ампутация.
Итак, клеймо, каторга, смертная казнь – это три вещи, неразрывно связанные между собой. Вы отменили клеймо, будьте последовательны, отмените и остальное.
Каленое железо, ядро каторжника, нож гильотины – это три части силлогизма. Вы отменили каленое железо, – ядро каторжника и нож гильотины утратили свой смысл. Фариначчи был жесток, но отнюдь но глуп.
Разберите по частям эту шаткую, обветшалую шкалу преступлений и наказаний и переделайте ее. Переделайте вашу карательную систему, переделайте ваши своды законов, переделайте ваши тюрьмы, переделайте ваших судей. Приспособьте законы к правам нашего времени.
Господа! Во Франции отрубают за год слишком много голов. Раз вы взялись вводить экономию, начните с этого.
Раз вы увлекаетесь реформами, упраздните палачей. На жалованье, выплачиваемое восьмидесяти палачам, вы сможете содержать шестьсот школьных учителей.
Подумайте о пароде. Дайте школы детям, мужчинам работу.
Известно ли вам, что людей, умеющих читать, всего меньше во Франции по сравнению с другими странами Европы? Возможно ли это? Швейцария умеет читать, Бельгия умеет читать, Дания умеет читать, Греция умеет читать. Ирландия умеет читать, а Франция не умеет читать. Это же позор!
Посетите каторгу. Соберите вокруг себя всех каторжников. Осмотрите одного за другим этих отвергнутых человеческим законом. Измерьте все эти профили, ощупайте эти черепа. Каждый из этих падших людей имеет своим прототипом какое-нибудь животное; создается впечатление, что каждый стоит на грани между тем или иным видом животных и человеком. Вот рысь, вот кошка, вот обезьяна, вот гиена, вот ястреб. Выходит, таким образом, что главная вина за все эти неразвитые головы падает, прежде всего, конечно, на природу, а затем – на воспитание.
Природа плохо вылепила, воспитание плохо отшлифовало. Обратите же свои заботы на эту сторону. Дайте народу надлежащее воспитание. Приложите усилия, чтобы наилучшим образом развить эти несчастные головы, дабы разум, в них заключенный, мог расти.
Удачное или неудачное развитие черепа у народов зависит от их законодательных учреждений.
У римлян и греков были высокие лбы. Расширьте, как можно больше, лицевой угол у народа.
Когда во Франции научатся читать, не оставляйте без руководства эти умы, которые вы сумели пробудить.
Голова простолюдина – вот в чем вопрос. В этой голове таится множество плодотворных зародышей. Воспользуйтесь ею так, чтобы всходило и зрело все, что в ней есть светлого и созданного для добродетели.
Такой-то совершил убийство на большой дороге, но если бы лучше им руководить, он сделался бы наиполезнейшим гражданином своего города.
Эту голову простолюдина обрабатывайте, вспахивайте ее, орошайте, оплодотворяйте, просвещайте, наставляйте, направляйте на истинный путь – и вам не придется ее отрубать.
Примечания
1
Мы, конечно, не намерены нападать на городскую стражу, установление весьма полезное, охраняющее улицы, вход в дома, семейный очаг. Мы лишь протестуем против ее внешней пышности, побрякушек, мишуры и военной шумихи – этих смешных нелепостей, годных лишь на то, чтобы преобразить буржуа в пародию да солдата. (Примеч. автора.)
(обратно)
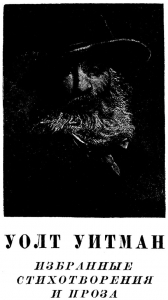

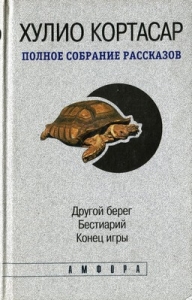

Комментарии к книге «Клод Гё», Виктор Гюго
Всего 0 комментариев